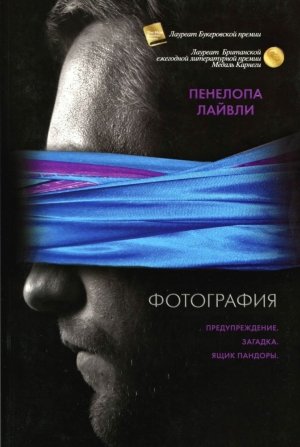
Глин
Кэт.
Кэт вдруг выходит из шкафа на лестничной площадке — и как она туда попала? Шкаф у лестницы доверху забит бумагами, что называется второстепенной нужности: отчетами с конференций, студенческими рефератами и гранками, — включая, как он надеется, срочно понадобившийся материал для статьи, над которой он работает. Они копятся тут с тех пор, как Глин был аспирантом, попросту нагромождаясь друг на друга, беспорядочно и бессистемно. В стопку потертых папок, из которых торчат какие-то листки, втиснуты жесткие обложки с надписями «Прошлое» и «Настоящее». Он принимается в них рыться — работы давно забытых студентов слетают к его ногам и укоризненно смотрят с пола. «Сьюзен Кокрейн всегда относилась к моим семинарам поверхностно…» Между папками во втором ряду втиснуты коробки фотографий с ярлычками: «Аэрофотосъемка», «Бишопс Манби 1976», «Лидс 1985». Попытка достать что-либо оттуда означала бы обрушить все нагромождение — как в той игре, когда из выстроенной из коробок башенки надо доставать по «кирпичику»: одно неверное движение — и вся конструкция рассыплется. Но за вторым рядом папок ему чудится тайник — и вот там-то вполне могут оказаться искомые гранки.
На самой верхней полке он обнаруживает корешок своей докторской диссертации с тиснеными золотыми буквами — ткань переплета, когда-то зеленая, теперь побурела и засалилась, — на ней пристроилась подшивка «Йоркширского археологического журнала» за 1980 год. Если подумать, шкаф за лестницей отлично отражает его ремесло — ландшафт, где все взаимосвязано, и разрушать его надо очень аккуратно и со знанием дела. Но думать некогда, и он снова принимается за поиски, которые к тому времени уже начали его раздражать.
Он тянет к себе одну папку, чтобы лучше рассмотреть, что за ней, — и, конечно, все обрушивается на пол. Раздраженный, он опускается на четвереньки, чтобы хоть как-то разгрести получившийся бардак, и вдруг видит Кэт.
Коричневая папочка размером чуть больше листа писчей бумаги — на обложке затейливым почерком жены выведено: «Не забыть».
Она улыбается ему — он видит ее короткую темную челку, глаза, улыбку.
Но что она здесь делает — посреди кипы бумаг, не имеющих к ней ни малейшего отношения? Он поднимает папочку и пристально ее рассматривает. И не может понять, как она сюда попала. Ведь все вещи Кэт были разобраны и рассортированы. Еще тогда. Когда она… Словом, тогда.
Хотя постойте-ка. Под этой папкой оказываются еще две, подписанные ее почерком «Рецепты». С каких пор Кэт стала всерьез интересоваться готовкой? Он открывает папку, бегло просматривает содержимое. И правда, вырезки из газет и журналов конца семидесятых, которые, надо сказать, быстро иссякли, что весьма символично. Он открывает вторую папку — в ней оказываются счета, причем по большей части извещения о невыплате, помеченные красными флажками, что тоже символично; а также неполный набор банковских извещений, из которых явствовало о громадном превышении кредита.
По-видимому, эти папки затолкали в его шкаф по ошибке — тогда, когда занимались разбором ее вещей. Тогда все спешили, и в то же время хотели отвлечься. Разобрать вещи Кэт и решить, что с ними делать, взялась Элейн. А сюда заглянуть не догадалась. И они все это время лежали в шкафу и гнили.
Нет, не совсем сгнили, конечно, лишь слегка побурели на уголках, медленно, но верно старея вместе с прочим содержимым, как со временем ветшают артефакты и здания, чтобы потом дать пищу для размышлений тем, чье ремесло — разгадывать загадки давно исчезнувших ландшафтов.
Маленькая папка, найденная первой, коричневого цвета, так что следы времени на ней не так очевидны. Он сбрасывает прочие папки на пол и присаживается на верхнюю ступеньку с находкой в руках.
И открывает ее.
Негусто. Разные документы и запечатанный конверт с чем-то жестким внутри. Его он откладывает в сторону и принимается разбирать остальное.
Бумага от ювелира — оценка колье из двух ниток жемчуга и пары жемчужных серег-капелек. Кажется, он их припоминает — прежде они принадлежали ее матери. Кэт часто носила эти сережки.
Медицинская карта. Свидетельство о рождении. Ага, так вот где оно лежало все это время, а сколько было возни, и сколько раз приходилось ездить в Сомерсет-хаус.[1] Заметим, что свидетельства о браке тут нет. После его пропажи тоже возникли кое-какие проблемы. Правда, теперь это уже неважно.
Ее табель успеваемости. Семь предметов; по всем, кроме одного, высшие баллы. Глина это слегка удивило. Надо же, кто бы мог подумать!
Надпись на обложке она, наверное, сделала для себя. Осознавая, что это — самые важные документы, и зная свой характер, понимала, что их-то затеряет в первую очередь. Внезапно на него накатывает волна нежности, и это ему не нравится. Потому что воспоминания отвлекают от главной цели — он ведь полез сюда за срочно понадобившимися гранками. Нежность сменяется раздражением: ну вот, Кэт снова мешает его работе — а она-то знала, что этого ни в коем случае делать нельзя.
Также в папке обнаруживается государственный сберегательный сертификат на пять фунтов, выданный в середине пятидесятых. Господи, ей же тогда лет восемь было. Корешки каких-то чеков, сберкнижка почтового управления с остатком на счете четырнадцать фунтов пятьдесят восемь шиллингов, пачка писем. Он их просмотрел. Письма оказались от матери, которая умерла, когда Кэт исполнилось шестнадцать. Глин читать не стал и сунул обратно.
Остается полупрозрачная папка, в которой студийные фотопортреты Кэт. Вот она смотрит на него с глянцевых черно-белых снимков, каких сейчас уже не делают. Молодая Кэт. Освещенная студийными прожекторами, с голыми плечами, голова повернута туда, сюда; смотрит на камеру или застенчиво опускает глаза; дерзко улыбается или задумчиво глядит в сторону. Должно быть, снимки сделаны тогда, когда она собиралась стать актрисой — задолго до их знакомства. Совсем молодая Кэт.
Глин долго рассматривает фотографии.
Кэт.
После чего водворяет обратно. Остается коричневый конверт. Только тут он замечает: на клапане что-то написано. Ее почерком. Едва различимая надпись карандашом:
«Не открывать. Уничтожить».
Он вскрывает конверт. В нем оказываются фотография и листок бумаги. Сначала он смотрит на снимок. Группа из пяти человек, стоят на траве. Двое, мужчина и женщина, спиной к фотографу. Из оставшихся он сразу же узнает Элейн, она стоит как раз впереди тех двоих, чьих лиц не видно. Рядом с ней еще одна женщина и мужчина; этих он не знает. Та, которая не смотрит в объектив, — это Кэт: ее фигуру и характерную позу он узнал бы везде. Вот того, кто рядом с ней, он поначалу опознать не может. Что-то определенно знакомое: довольно длинные темные волосы, высокий рост, почти на голову выше Кэт. Слегка сутулится.
Глин подносит фото к глазам, чтобы лучше рассмотреть. И видит. Руки. Кэт и неизвестный крепко держатся за руки, их пальцы сплетены — они отвели руки назад, дабы остальные не заметили этого, очень личного, жеста.
Кроме фотографа, да и тот, быть может, не заметил откровения, запечатленного на фотопленке.
Теперь Глин узнает и мужчину. Это Ник.
Он берет в руки сложенный листок бумаги, прилагавшийся к фотографии. Такое ощущение, словно у него случился приступ какой-нибудь болезни, которая лишила его сил, но узнать, что в записке, надо.
Коротенькая записка от руки: «Не смог удержаться, чтобы не прислать тебе это. Негатив уничтожен, мне сказали. Целую».
Подписи нет. А она и не нужна. Ни Кэт, ни теперь ему, Глину. Хотя подтверждение все-таки необходимо. Надо достать образец почерка Ника. Подпись. Какое-нибудь письмо, написанное тогда, когда он, Глин, выступил консультантом или кем-то вроде этого — словом, помогал Нику издавать серию книг по ландшафтной истории, о которых тот восторженно и совершенно по-дилетантски вещал всем и каждому. Было у него такое свойство.
Теперь болезнь добралась до его глотки. Держит за горло, сушит нутро, дает по яйцам. Он чувствует… нет, не так, в нем все бурлит, кружится голова, мерзко щемит в животе. Смесь кипящего гнева, ревности и унижения, с примесью бешеной энергии и жажды деятельности. Где? Когда? Кто? Кто сделал фото? Кто, как явствует из записки, передал фотографию Нику и уничтожил негатив?
Внизу, в его кабинете, звонит телефон. Но Глин сейчас в таком напряженном состоянии, столь поглощен расследованием, что немедленно вскакивает на ноги, бежит вниз по лестнице, хватает трубку и отрезает.
— Я сейчас занят. Извините.
У меня нет для вас времени потому, что я только что узнал: у женщины, которая была моей женой, случился роман с мужем ее сестры, когда — сам еще пока не знаю. Выходит, я болван и рогоносец. И прошлого, которое я помнил, больше нет. И вы, конечно, примете во внимание тот факт, что в обозримом будущем все мое время будет занято только этим.
Телефон перестает звонить. Ах да, работает автоответчик.
Глин снова поднимается по лестнице. Садится на верхнюю ступеньку, держа в одной руке фотографию, а в другой — записку, и поочередно рассматривает. Теперь Кэт повсюду на площадке, на ступеньках, ею заполнен весь большой шкаф; множество разных Кэт, разных лет и из разных мест, — и, кажется, все они говорят одновременно. Вот она сворачивается калачиком в постели, рядом с ним, болтает о каком-то фильме, который посмотрела накануне. Вот заглядывает в дверь его кабинета, лучезарно улыбается и предлагает кофе. Вот сбегает впереди него по склону холма в Камберленде — маленькая фигурка в ярко-красной куртке.
В его голове роятся вопросы. Когда, где, кто? И — кто еще? Кто еще об этом знал? Знала ли Элейн? А может, она сама потворствовала этому? А может, об этом знали все? И только он один, как дурак, был не в курсе? Может, все это время он не замечал ни снисходительных взглядов, ни шушуканья за спиной?
И для кого она нацарапала карандашом на конверте «Не открывать. Уничтожить»?
Для себя?
Для меня?
Неужели все — часть хитроумного плана? До этого самого момента? Она собиралась появиться из шкафа с бумагами и повергнуть его в такое возбуждение?
Да нет, дело не в этом. Потому что Кэт была не из таких. Кэт никогда ничего не планировала. Кэт никогда не загадывала дальше чем на завтра. Кэт хваталась за каждый новый день, а когда день кончался, безжалостно выбрасывала его из памяти.
Скорее всего, она попросту наткнулась на эту папку, в которую когда-то засунула всякие бумаги. Начала рассматривать содержимое — может, что-нибудь искала — и нашла конверт. Достала оттуда фотографию и записку, сказала «Н-да», нацарапала на конверте предупреждение и сунула все обратно.
Но почему она просто не уничтожила фотографию?
Потому что могла захотеть взглянуть на нее еще раз. Потому что она что-то значила для нее. Кое-что? Много? Все?
Эта папка стала своего рода сейфом, где она хранила важные вещи — из рациональных соображений, ради удобства или… из сентиментальности.
Но отчего не разделить? Не завести отдельные папки: в одной документы, в другой — личные письма и фотографии.
Да оттого, что Кэт никогда не умела продумывать, планировать, просчитывать. Она просто положила все это в одну папку — все эти бумаги ей были нужны, — или она хотела их сохранить. А надпись на клапане — наверное, когда она рылась в папке, зазвонил телефон. Она быстренько спрятала все обратно, но вдруг ей пришла в голову мысль. Тогда Кэт вытащила конверт, нацарапала на нем пару слов, сунула папку в ящик стола, в шкаф — словом, туда, где держала ее все это время, и забыла. Сняла трубку и прокричала: «О, привет! Как я рада тебя слышать, здорово, что звонишь, я как раз собиралась… Слушай, что ты сегодня делаешь? А то мне вдруг так захотелось съездить в…» — и снова куда-то бежала, где-то пропадала, и так — тысячу раз.
Но ведь когда она писала эти слова, когда думала о том, что написать, может быть, подсознательно она имела в виду кого-то еще, кто, роясь в ее вещах, найдет конверт и вскроет его.
Меня.
И предупредила: не открывай.
Что же она, думает, я повинуюсь? Или же наоборот, ухмыльнувшись уголком рта, слегка поведя плечиком или выкатив глаза, станет ждать, что непременно открою?
Сам виноват, думает она. Говорила же — не открывай!
И все — в несколько секунд. Пока звонит телефон. Пока берет карандаш.
К этому времени Глин просидел на лестнице так долго, что у него заболела спина. Он встает и возвращается к шкафу. Подобрав с пола папки, он складывает их в стопочку на подоконнике. Папку Кэт вместе с конвертом кладет тут же поодаль. И принимается рыться в освободившемся пространстве шкафа, забитом различными бумагами, среди которых и в самом деле оказываются какие-то гранки.
Потрясение и гнев уступили место всепоглощающей целеустремленности. Он знает, что собирается делать, но всему свое время. Он все еще прокручивает в голове увиденное и строит гипотезы, но в то же время не отходит от намеченного на этот день — день, который пошел кувырком, — плана. Надо найти чертовы гранки.
И вновь Глин принимается рыться в наносах последних тридцати пяти лет.
Бумаги, кипы бумаг. Целые леса полегли ради него. Дуб, ясень, терновник падали, подрубленные, на землю, дабы он мог продолжать свою научную карьеру. Нет, берите выше — скандинавская сосна. Возбужденный мозг запросто может думать о более возвышенных вещах. Мысли текут параллельно одна другой, одни отгоняют другие. Он снова вспоминает о фотографии: когда? кто? Натыкается на коробку со слайдами, вспоминает о лекции, которую должен прочесть, вытаскивает слайды из коробки. Где была сделана фотография? Где они стояли вдвоем? Он водворяет папки на место и приступает к следующей полке. Вырезки из газет; наполненные доверху коробки — еще один загубленный лес. Ему даже чудятся топоры — нет, не топоры, наверное, сейчас это делается бензопилой. На заднем плане фотографии — тоже какие-то деревья. Какие? Может, это улика, позже надо будет проверить.
Он достает одну из коробок, открывает. Заметки — целая кипа написанных от руки в библиотеке заметок с тех времен, когда копировальной техники еще не было. Работа. Его собственный кропотливый труд. Бог знает, сколько сотен тысяч часов работы собрано в этом шкафу — работы его и других. Его же ремесло, в свою очередь, отображение труда несметного числа давно умерших людей. «Ландшафтный историк занимается поиском вещественных доказательств ежедневного труда поколений безымянных людей. Безликие люди делали свое дело час за часом, год за годом мучились от жары, замерзали, голодали; у них болели руки и ноги. Они копали, орудовали граблями, таскали тяжести. Перевозили грузы. Обрубали ветви с поваленных деревьев, обстругивали доски. Нагружали, складывали в стога и скирды, сооружали строения. Пасли скот, ухаживали за скотом, резали скот. Рубили деревья, тесали камень. Превращали дерево и камень в дома, сараи, церкви и соборы. Возводили сооружения из стекла и бетона. И все это делали суетливые люди, гонимые безжалостным инстинктом. Это он заставлял их добывать пищу, он помогал дожить до завтра. Дожить, чтобы увидеть солнце и дождь, почувствовать ветер, плотно пообедать, урвать несколько часов на сон и, проснувшись, встретить новый день».
Когда я это написал? — удивляется он. Неплохо, а? Кажется, он припоминает, как говорил это на камеру, когда в первый раз снимался в документальном сериале. Незабываемое чувство. Да, было времечко. Вокруг сновали добродушные и внимательные участники съемочной группы: хорошенькие, модно одетые девушки с планшет-блокнотами, режиссер, операторы, ассистенты и постановщики звука, — и посреди этой кутерьмы он сам. Он рассказывал что-то, стоя на склоне холма или посреди собора, и понимал, что получает истинное удовольствие. После выхода сериала Глина стали узнавать на улице: он до сих пор вспоминает, как оборачивались на него на железнодорожном вокзале или украдкой рассматривали его на улицах. Ехидные взгляды коллег — впрочем, на них он плевать хотел. По-видимому, они просто завидовали. О, то были совершенно сумасшедшие, но такие счастливые дни.
Но все-таки работа. Работы было очень много. Разве я не мок под дождем и не мерз, думает Глин, и покопать мне пришлось изрядно — правда, землю я не обрабатывал и голодать не голодал. Но в моей жизни не было ни дня, когда я не работал.
И тут, точно по заказу, появляется Кэт.
Явственнее всего — ее голос. Слова. Почему он запомнил именно их? Именно это предложение. Он помнит слова Кэт почти так же отчетливо, как ее саму, из плоти и крови.
— Так ты со мной не поедешь? — Восходящий тон, ударение на «…со мной».
А теперь он не только слышит, но и видит. Она сидит напротив него за кухонным столом, в Илинге, с письмом в руке. Вроде лето, на ней белая блузка, и от этого лицо кажется еще более загорелым. И золотая цепочка, а влажные после душа волосы липнут к шее.
— Значит, ты не хочешь поехать со мной в Девоншир — провести выходные у Бэрронов? Мы бы славно погуляли. — И она дразняще смотрит на него — нет, не умоляюще, она никогда не умоляла, но лукаво: мол, не хочешь — как хочешь. — В Девоне полно всяких ландшафтов.
И он объясняет — наверняка во второй или в третий раз, — что у него конференция.
— Ну и ладно, — говорит она. — Жалко, конечно. Тост будешь?
Кэт не работала. Над ней никогда не висел груз ответственности; ей не надо было быть там-то и там-то точно в назначенное время или делать то, чего ей не особенно хотелось. Та Кэт, которую он запомнил, то спешит по улице, лучезарно улыбаясь, — наверное, едет куда-нибудь налегке, а вокруг нее хлопотливый день: почтальон разносит почту, водитель фургона выгружает у ближайшего магазинчика коробки с товаром, дорожный инспектор наблюдает за машинами, орудуют гидробурами рабочие, агенты по продаже недвижимости сидят за столами в ожидании клиентов, скучает таксист, пережидая запрещающий сигнал светофора. Заняты все, кроме Кэт — она едет туда, куда хочет, не обремененная обязательствами.
Даже когда Кэт работала, по ней это было не заметно. Когда у нее была работа — точнее, в те редкие промежутки времени, в которые она чем-то занималась, за деньги или еще как-нибудь, — это был ее собственный выбор. Ей вдруг казалось, что помогать в какой-нибудь художественной галерее, или на ярмарке ремесел, или в организации музыкального фестиваля, а может, подбирать иллюстрации для какого-нибудь издательства необыкновенно интересно и увлекательно. А когда это занятие переставало казаться увлекательным и интересным, Кэт уходила. Просто-напросто брала и исчезала — может быть, с извиняющейся полуулыбкой, а может, и просто так.
Глин знал об этом потому, что часто отвечал на звонки, раздававшиеся после таких вот «уходов», причем тон звонивших варьировался от недоуменного до откровенно возмущенного.
Как же ей удавалось так жить? Ну, думает Глин, прекрасно удавалось, потому что она была замужем за мной. Это я оплачивал счета. Я кормил ее, давал ей кров и одевал — между прочим, неплохо. А до этого? Ведь к моменту нашего знакомства Кэт уже являлась зрелой женщиной. Ей сравнялось тридцать шесть, причем двадцать она жила самостоятельно — правда, надо учесть, что после смерти матери дела в семье пошли из рук вон плохо. Конечно, дочери кое-что унаследовали, но явно недостаточно, чтобы на это жить. Если, конечно, не питаться водой и хлебом. Разве только кто-нибудь одолжит денег или еще что. Полагаю, так и было. И Элейн, будучи Элейн, занялась своим образованием, получила профессию и последующие сорок лет упорно работала — и в настоящее время, надо признать, весьма преуспела, а Кэт не стала, потому что это Кэт.
Глин все еще копается в шкафу, но попадись ему искомые гранки, в его нынешнем состоянии он рискует попросту их не заметить, настолько случившееся занимает его мысли. Он находит, что неоднократно думал на эту тему, но то, что он только что узнал, полностью искажает все. Болезнь, овладевшая им теперь, лихорадка, перевернула все его прежние представления. Кэт осталась той же — и в то же время стала совсем другим человеком Он смотрит на нее по-другому — и хочет узнать о той, другой Кэт.
Она не занималась ни физическим, ни каким-либо умственным трудом, делала все по-своему. В этом смысле она очень соответствовала духу того времени. Во всех же остальных — нет. Ей не было дела до успеха или статуса — ни в отношении себя самой, ни что касалось других. Над чужими претензиями она попросту смеялась. Дух гедонизма, царивший тогда, очень ей подходил, но общественные проблемы совершенно не занимали ее. Не припомню случая, чтобы Кэт распространялась о том, что творится в мире, или о том, как она будет голосовать. Идеи феминизма прошли мимо нее. Права женщин ее не интересовали — у нее и так были все права. Ей никогда не приходилось встречать отказ только потому, что она — женщина. Напротив, то, что она — женщина, позволяло ей с легкостью идти по жизни своим путем, руководствуясь настроением или мимолетной прихотью.
Но не всякая так сможет, думает Глин. Господи, куда там! Почему же Кэт могла?
А вот почему.
В этот момент думы уступили место воспоминаниям. Он уже не думает о Кэт — он видит ее, ощущает. Видит ее грудь. Маленькие, аккуратные груди и соски дивного шоколадно-коричневого цвета. Он не может оторвать от них взгляд, и в тот же момент они как будто снова предстают перед ним. Волосы там — густые и шелковистые, такого же цвета, как на голове. Ноги. Узкие ступни. И ее лицо. Конечно, лицо.
Кэт могла, потому что была удивительно привлекательной женщиной. Нет, не классической красавицей, но забыть такое лицо невозможно. Маленькое личико с тонкими чертами — нос изящной формы, зеленые глаза, казалось отражавшие свет, ротик, который мило изгибался, когда она улыбалась. Когда она входила в комнату, все взгляды устремлялись к ней. Мужские, женские. Даже детские. Кэт очень любила детей. И они ее тоже. Может быть, если бы…
Господи, нет. Кэт — мать? С ее-то способностью задерживать внимание на чем-то одном — не больше, чем у мотылька. Не то чтобы это обсуждалось. И потом, я и сам никогда не хотел детей.
Теперь он добрался до верхней полки. Еще какие-то папки и коробки. «Проезжие дороги графства Оксфордшир — 1984». Он открывает коробку: карты, фотографии — и снова Кэт. Нет, не та Кэт, что в неведомом месте держит кого-то за руку, переворачивая прошлое вверх дном, — другая, Кэт из того времени, которая спрашивает:
— А что мы здесь делаем?
Она только что забралась на ворота и сидит, щурясь на солнце. На ней джинсы и футболка на голое тело. Сквозь тонкую ткань Глин видит соски; это отвлекает его от насущных дел, а именно от рассматривания карты, составленной Картографическим управлением. Был бы здесь стог сена — он бы отвел ее туда и задал жару. Но где сейчас сыщешь стог сена? Он даже толком не знает эту женщину. Но скоро узнает поближе, если все получится.
Они только что прошли по тропинке между полями; теперь травяной ковер превратился в изрезанную колеями грязь и лужи. Глину интересно вычислить ширину дороги. Этим он и занимается, решительно игнорируя соски Кэт. Всему свое время.
— Мы здесь, — поясняет он, — потому что мне кажется, что когда-то на месте этой тропинки была древняя проезжая дорога. И мне нужно это проверить. Я точно помню, что говорил, когда мы уезжали.
— Ну, значит, говорил. Все время забываю, что ты работаешь. — И смеется. Своим особым — такого не было больше ни у кого — смехом. — Я-то думала это просто загородная прогулка. Но раз уж так получилось, давай я побуду здесь, пока ты закончишь? Позагораю на лугу, за оградой.
И тут же слезает с ворот, бежит по полю и растягивается на спине в густой траве, без майки, подставив небу и солнцу обнаженную грудь.
Он сует коробку на полку и тут замечает на ней еще стопку бумаг. Ага, вот они — гранки. И — последней в стопке — долгожданная добыча: «Основные модели распространения населения в Северной Англии», «Новости науки», 1961 год.
Начни он с верхней полки, злополучная папка не попалась бы ему на глаза. Может быть, он нашел бы ее позже. И день бы прошел так, как он планировал: он бы сидел за письменным столом и занимался насущными делами.
Глин сгребает нужные бумаги, закрывает шкаф и спускается по лестнице в свой кабинет. На одну сторону стола он кладет гранки. К черту всю эту историю — работать он сегодня все равно будет.
Он достает фотографию.
Надо взглянуть еще раз. Наверняка в первый раз чего-нибудь не заметил. На Кэт широкая юбка и какая-то черная маечка, открывающая шею и спину. Я припоминаю эту маечку. И сережки с висюльками. Их я тоже помню.
На Нике темные брюки и клетчатая рубашка с короткими рукавами. Их я не помню, но не узнать этих чересчур длинных волос, свисающих на лоб, невозможно. Именно они скрывают его лицо на фото — он повернулся в профиль и смотрит… не на Кэт, на кого-то еще. Кажется, на Элейн.
Элейн смотрит прямо в объектив. Должно быть, что-то говорит — губы ее слегка приоткрыты. Может, она разговаривает с ними. На ней брюки и какой-то полуспортивный пуловер, сумка на плече, а на голове — джинсовая шляпа.
Оставшихся двоих я по-прежнему не узнаю. Высокий худой мужчина. Маленькая женщина с темными курчавыми волосами. Тоже одеты легко и удобно, что означает лишь одно: дело происходит летом и в абсолютно неформальной обстановке.
Словом, их там было несколько. Да, еще фотограф, конечно. Он — или она?
А я где? Нет, определенно не с ними. Меня нет, я где-то еще — скорее всего, уехал по делам.
Где же все происходит? Пейзаж мне ни о чем не говорит. Купы деревьев на заднем плане. Трава, на которой они стоят. И небо — голубое, ну, случайное облачко.
Загородная прогулка. Пикник на природе. «Слушай, давай сходим… Бросай все, а? День такой чудесный. Элейн тоже идет, ну, и Ник, конечно…»
Когда? Судя по моложавому лицу Элейн, это восьмидесятые. Примерно так.
Но надо точно установить — когда. Нет, не просто «надо», а совершенно необходимо. Мне необходимо выяснить это чрезвычайно важное обстоятельство, чтобы вспомнить, как тогда обстояли дела, ведь они явно обстояли не так, как я оценивал их в то время или вспоминал о них впоследствии.
Когда была сделана фотография?
И кем? Кто забрал из фотолаборатории пакет с фотографиями, лениво рассмотрел снимки, пристальнее вгляделся в этот, кое-что быстро прикинул, отрезал негатив от остальной пленки и отдал фотографию ему.
Молчаливый сговор. Но… кто еще?
Конечно, Элейн сможет прояснить ситуацию. Она тоже могла быть участницей сговора, а могла и не быть — и это тоже мне нужно узнать, — но она должна знать всех участников той веселой загородной поездки.
И теперь комнату заполняет Элейн. Он видит и слышит ее, в различных воплощениях. Он знает Элейн очень давно и в разных ипостасях. Но самое главное, она сестра Кэт, и теперь он ее рассматривает именно в этом ключе.
Вообще-то, они, конечно, были не так уж близки. Элейн намного старше и совсем другая: и внешне, и как человек — словом, совсем. Но между ними всегда что-то было — странная смесь натянутости и осознания важности друг для друга, как часто бывает между родными братьями или сестрами. Элейн, то и дело отпускающая язвительные замечания насчет того, что Кэт — это Кэт — за все это время она так и не смогла с этим смириться, — в то же самое время готовая первой прийти на помощь, и Кэт, которая могла сорваться с места и отправиться повидать Элейн и позвонить ей поздно ночью.
Впрочем, это не мое дело, думает Глин. Сами разобрались. Но теперь вдруг выясняется, что это и его дело тоже. Где Элейн была, когда все происходило? Знает ли она об этом? Знала ли тогда?
Он напряженно думает об Элейн — Элейн того времени, успешном ландшафтном архитекторе, хозяйке процветающей фирмы, супруге Ника. Его собственной приятельнице — они, в конце концов, знали друг друга очень давно. Но Элейн остается непостижимой: она говорит и выглядит так же, как обычно. Словом, крепкий орешек эта Элейн.
Однажды она побывала в этой комнате. Тогда. Когда. После. «Ты останешься жить здесь, в доме?» — спрашивает она.
Когда он отвечает, она никак не комментирует ответ. Лишь предлагает помочь разобрать вещи Кэт. И разбирает, как выяснилось, не так тщательно, как хотелось бы.
Только переезда ему не хватало — после всего, что случилось. Разумеется, многое будет… напоминать. Но переезд вряд ли поможет. Просто придется научиться с этим жить.
Он отметает Элейн. Ей нечего ему предложить — во всяком случае, в том виде, в каком требуется. Он подтягивает к себе свои записи, включает компьютер… уже перевалило за полдень — и так добрая половина дня потрачена впустую.
Фотография тлеет в конверте… и в его голове.
Объективный и беспристрастный анализ — метод, которым пользовался в работе Глин. Анализ вещественных доказательств, тщательное рассмотрение доступных фактов. С его помощью он написал несколько книг, множество статей, несметное количество лекций, заметок и рецензий. Разумеется, у Глина была собственная точка зрения, и все прекрасно знали, как яростно в случае чего он готов ее отстаивать. Но отстраненность и взвешенный подход всегда стояли для него на первом месте.
При беспристрастном взгляде на самого Глина в тот момент можно увидеть мужчину лет шестидесяти, устремившего взор на экран монитора. Квадратное морщинистое лицо человека, который часто бывает на свежем воздухе, — красное, обветренное лицо фермера. Большие карие глаза, мохнатые брови. Уголки рта опущены, что, должно быть, говорит о максимальной сосредоточенности. Яростно лупит пальцами по клавиатуре, делая множество ошибок: он до сих пор печатает двумя руками. Время от времени он берет из лежащей рядом стопки какую-нибудь бумагу, бросает на нее почти сердитый взгляд и продолжает стучать по клавишам.
Сразу видно, что это рабочий кабинет, мастерская. По стенам — книжные шкафы, сверху донизу забитыми книгами: книги стоят и лежат на полках. На столах и стульях — кипы бумаг. Картотечные шкафы. Из скромных украшений лишь пара фарфоровых собачек из Стаффордшира, майоликовый кувшин на подоконнике и потертый персидский ковер. В рамке на стене — карта одной местности в Йоркшире, выпущенная Картографическим управлением Великобритании в XIX веке. Несколько аэрографий зеленых ландшафтов. Цветной снимок самого Глина — тогда ему было лет на двадцать поменьше: симпатичный мужчина стоит на овеваемом ветрами склоне холма, — у его ног нацарапано: «От всех нас: команда "Земля вчера и сегодня", 1980 год».
Если податься назад, то можно увидеть, что комната находится в доме, который стоит на обсаженной по обеим сторонам деревьями улице, среди таких же особнячков с маленькими садиками: их построили в тридцатые — довоенное расширение города в Южной Англии; если отойти еще дальше, этот город простирается до самого большого бесстрастного ока — до неба. Вот он вырастает из камня, кирпича, дерева, стекла и металла. Вот собор, безмятежно устремившийся ввысь среди суеты центральной площади. Вот колеи дорог, вот в стройном порядке ряды домиков с трубами, зеленый «пояс» — парковая зона, белые утесы офисных зданий и на окраине — аккуратная геометрия корпусов университета, в котором и работает Глин.
Безлюдно; редко когда проедет автомобиль. Теперь дом Глина, кажется, затерялся — его поглотил город: крошечная коробочка в ряду таких же коробок. И сам город, сложное нагромождение форм, постепенно растекается по краям, становясь все более и более нечетким, постепенно поглощаясь пространством. Или скорее пространствами: квадратными, треугольными, прямоугольными или в форме искаженных геометрических фигур, иногда окаймленных темными гребнями. Темные, губчатые массы, длинные бледные линии, прорезающие пространство и убегающие вдаль. То там, то сям — миниатюрная имитация городской плотности, небольшое скопление энергии в месте пересечения линий. А затем пространство постепенно отступает — утекает, сочится, бурлит и снова конденсируется в город: загадочный синтез «сейчас» и «тогда», когда все происходит одновременно.
Это можно увидеть — если знать, куда смотреть. Если ты — Глин Питерс, который только что поднялся из-за компьютера и выдвигает длинные неглубокие ящики картотечного шкафа. И находит, что искал: карту и большую аэрографию. Кладет их на крышку шкафа, внимательно изучает аэрографию, видя на ней не пространство, не форму, а сосредоточение времени. Он видит, как целые столетия соседствуют друг с другом, накладываются одно на другое, разделяют друг друга и отталкивают одно другое. Он видит труд средневековых крестьян, оставивший след под четкими линиями — границами огораживания общинных земель, проведенного в восемнадцатом столетии; видит, как врезается в проложенную еще римлянами дорогу автострада; видит зеленый холмик на месте норманнского замка, пробивающийся сквозь суету оживленного городского центра.
Он видит себя — и тоже отмечает границы личных территориальных притязаний. Был там-то, делал то-то. Вот Бишопс Манби, где он провел лето 1976 года — руководил раскопками средневековой деревни. Он, как сейчас, помнит это поле, покрытое весьма красноречивыми бугорками, выпуклостями и откосами — свидетельствами того, что здесь когда-то стояли низенькие домики, целая деревенская улица, и простирался целый ряд искусственных прудов, где разводили рыбу. Солнце, дождь, любопытные коровы и овцы, походная кухня в палатке. Вечера в местном пабе, веселые студенты, работающие на раскопках. Он встречается с девушкой из Дарема, молодой преподавательницей, Ханной как-ее-там, к вящему удовольствию обоих: поношенные джинсовые шорты и длинные загорелые ноги; пробираясь с лопаткой вдоль стены, она то и дело одаривала его заговорщицкой улыбкой.
Вот он снова здесь спустя десять лет, посреди индустриального города, пытается сличать нынешнее расположение улиц со старинными картами. Работа для одного — вокруг кипит жизнь, люди изумленно оглядываются на рыскавшего по городу человека с планшет-блокнотом и рюкзаком. Время самозабвенного труда — вот-вот выйдет в свет его монография, в голове роятся проекты. И сюда врывается голос Кэт, и гладкая поверхность, на которую он смотрит, идет рябью и сменяется картинкой комнаты в захудалом отеле, в котором он жил, голос Кэт в телефонной трубке: «Я еду во Францию с друзьями, раз уж этим летом ты, похоже, не появишься». Пауза. «Ты меня любишь?» — спрашивает она. Он пишет заметки в номере, и вдруг — сквозь две сотни километров — Кэт. Он все еще слышит отзвук ее голоса. Но слышит только ее, а себя — нет. Что он ей тогда сказал? Бог знает.
Увлеченный этой мыслью, он поднимает глаза от аэрографии и принимается смотреть в окно. Странно. Все слова, что вихрем проносятся в голове, сказаны другими, но никогда — тобой самим. Они говорят — ты не отвечаешь. Нет диалога — нет существенно важного доказательства. А ведь я никогда не лез, что называется, за словом в карман.
Интересно. Кажется, память действует на уровне восприятия: запоминается то, что слышишь, что видишь. Мы — центр действия, но каким-то образом стираем себя с целостной картины. Глин вспоминает еще что-то и обнаруживает, что снова не слышит собственного голоса. Лишь изредка: вот он читает лекцию или рассказывает что-то перед камерой, но это, должно быть, оттого, что предварительно записал текст на бумажке… и оттого запомнил. Но во время всяческих сцен с другими он молчит, — а ведь сам не из молчаливых.
Ему приходит в голову, что здесь напрашивается аналогия с молчанием умерших. Мириады давно покинувших этот мир людей, изучением жизни которых он занимается, чьи труды пытается воссоздать по тому, что осталось после них: кирпич и камень, вмешательство в ландшафт и целый бумажный вихрь в тысячах архивов. Огромная безмолвная толпа, которая сотворила все это, но никто из ее составлявших уже не сможет рассказать, как все было; их голоса можно услышать лишь при посредстве: процеженные, разбавленные, искаженные. Ну да, пронзительный параграф в научной статье. Надо будет отметить. Не сказать, что идея неопровержима — есть же дневники, письма, — но ею стоит заняться.
Он по-прежнему не сводит глаз с прямоугольника своего давно заброшенного сада — голубь пикирует над заросшей лужайкой, белка плавным и ловким движением спускается по стволу вишни. Теперь он редко гуляет по саду. Да и в доме лишь спит да работает. Если ему требуется компания — идет в паб с кем-нибудь из коллег или студентов. Для более близких отношений есть Майра, которая работает в канцелярии университета. Они не афишируют своих отношений; Майра давно поняла: о чем-то постоянном речи не идет, и эта связь — только их дело, а остальным знать об этом не стоит. Майра отменно готовит жаркое по воскресеньям, кровать у нее мягкая — в перине утонуть можно; в шкафчике ванной комнаты Глин держит бритвенные принадлежности и зубную щетку.
Теперь Глин бездумно наблюдает за белкой. Та прыгает по траве, время от времени замирая в абсолютной неподвижности, изогнув хвост. После чего шмыгает в кусты — и была такова.
Глин сердито возвращается к реальности: он не из тех, кто засматривается на белок во время работы. Наверное, эта апатия — от переживаний, решает он. Так не пойдет.
Он заставляет себя снова сесть за компьютер. Аэрография остается лежать на крышке картотечного шкафа; она сделала свое дело, более того, заставила его погрузиться в воспоминания, чего ему вовсе не хотелось бы. И он снова яростно стучит по клавиатуре; на экране копятся черные строчки. Пока наконец он не восстанавливает репутацию — основная часть статьи готова. Подчистить и пригладить можно и завтра. А теперь надо снова вернуться к тому, что случилось. Ему нужно разработать стратегию, продумать собственную реакцию, решить, что делать дальше.
Настал вечер — долгий, светлый, какие бывают в начале лета. Глин отправляется на кухню и открывает заднюю дверь. Он и так просидел взаперти целый день — может, свежий воздух немного поднимет настроение. Взяв старое плетеное кресло, он выносит его на небольшую, выстланную досками террасу. Нарезает в тарелку хлеба и сыру, кладет немного пикулей и яблоко. Открывает бутылку красного вина.
И устраивается под мягким светом чудесного вечернего солнца. Вокруг шумит многолюдный пригород: гудит газонокосилка, играют дети. Но Глин ничего этого не слышит: он зациклен на чем-то другом.
На том, где была сделана фотография. Сам снимок ему уже не нужен — он навеки отпечатался в его памяти, как и записка.
Хорошо, давайте будем объективными. Что здесь можно увидеть? Двое держатся за руки, причем, кажется, украдкой. Если люди держатся за руки, они уж точно больше чем просто знакомые, но вовсе не обязательно любовники. А вот записка очень интимная — «моя любовь». Тоже конспирация. Да и намек на то, что фотограф, кем бы он ни был, решил распорядиться фотографией и негативом именно так, явно говорит, что происходившее следовало держать в секрете. Иными словами, у них была связь.
С каких пор? И как долго? Вызывает ли это дальнейшие вопросы? Являлось ли это обычным делом? Может, Кэт попросту меняла любовников как перчатки? И об этом знали все, кроме меня?
Доказательства, думает он. Мне нужны доказательства. Что ж, я могу их найти. Но всему свое время. Что мне точно известно?
И он принимается размышлять о своем браке.
На отстраненно-повествовательный манер. Примерно так: в воскресенье двадцать пятого августа тысяча девятьсот восемьдесят четвертого года Кэтрин Тарджетт и Глин Питерс сочетались браком в загсе Уэлборна. Они поселились в Илинге, в доме номер 14 по Мэрлсдон-вей. В тысяча девятьсот восемьдесят шестом году семья переехала в Мелчестер, в дом 29 по Сент-Мери-роуд, по причине того, что Глин Питерс получил профессорский пост в университете города Мелчестера. По этому адресу они и проживали все время, пока состояли в браке.
Наверное, с такой преамбулой: Глин Питерс познакомился с Кэтрин Тарджетт в доме ее сестры Элейн, с которой был знаком несколько лет. Некоторое время они встречались.
Таковы факты. А Глин, разумеется, привык опираться на факты. Но на эти он взирает с откровенным презрением. Они мало что говорят ему. Лишь то, о чем он знает и так, а как раз это сейчас и не важно.
Важен подтекст, альтернативная история, то, что таится между строк. Фрагменты тех лет — его и ее. Его история многогранна. Есть жизнь с Кэт, есть жизнь без нее. Дни, когда они были вместе — напротив друг друга за столом, рядышком в постели: обычная семейная пара, — и то время, когда он оставался один, как привык. Ходил, разговаривал, жил жизнью, о которой она, как ему сейчас подумалось, практически ничего не знала. Закрытой жизнью ученого.
А история Кэт? Ведь она тоже вела двойную жизнь. И теперь выяснилось, что он не знал ни об одном ее аспекте. И доказательства теперь недоступны — они стерлись, затерялись.
В то время как с его собственной произошли необратимые изменения. Все, что он знал до этого, теперь не имеет смысла — с тех пор, как он увидел фотографию и прочел записку.
Когда все произошло между ними?
Глин принимается размышлять об этих временах.
Все по порядку. Сразу после свадьбы, перед тем как он получил должность, они жили в Лондоне. Дом в Илинге. Ежедневное путешествие на метро до Лондона все время занятий; преподавание, ну, иногда удавалось выкраивать несколько часов в библиотеке. И на каникулах его часто не было дома — раскопки, конференции, больше времени в библиотеке. А чем в это время занималась Кэт? Он припоминает краткий период, когда она помогала в какой-то галерее и дни подряд пропадала там, мимолетное увлечение ювелирным делом — ученицей в чьей-то студии. А все остальное время? Долгие дни, недели, годы? Он вспоминает, как бывало, когда он возвращался из колледжа, после вечерней отлучки или из какой-нибудь поездки. Кэт ждала его с бокалом в руке у плиты, на которой дымился ароматный ужин? Нет, но Кэт всегда была не из таких. Если она и была дома, то чаще всего не одна — у нее всегда была куча приятелей и приятельниц, которые теперь сливаются в одно большое людское море. А если ее дома не оказывалось, он не имел понятия, где она могла быть. Иногда на кухонном столе лежала записка: «Скоро буду. Целую. Кэт». Переезд в Мелчестер, в этот дом. Где у него сразу же прибавилось работы. Теперь Кэт еще чаще ускользает от его взгляда. У нее обнаруживается талант к украшению интерьера: она то наносит узор по трафарету, то рисует пунктиром, то красит валиком. Стены этого дома украшала Кэт. Глин видит ее стоящей на стремянке, в джинсах и мешковатой рубахе, волосы убраны под хлопчатобумажную косынку. «Смотри! — восклицает она. — Как тебе такое дизайнерское решение?»
Она заполняет собой дом. Входит в парадную дверь: «А вот и я! Ты дома — здорово!»; лежит в ванной, ароматная, в пузырьках пены, что-то напевает себе под нос, — и он едва не сбивается с мыслей, охваченный желанием; уютно устроилась рядом с ним в кровати, спит — что-то бормочет в знак протеста, когда он будит ее, увлекая в объятия. Годами он жил среди этих призраков — укрощал их, держал под контролем, — но теперь все изменилось: он сам призвал их в гневе и замешательстве. Она снова здесь, как была всегда, — теперь недостижимая.
Он видит ее на каком-то университетском мероприятии, среди жен своих коллег, совершенно не в том обществе, в каком она привыкла вращаться. Подмечает то, как смотрят на нее присутствующие, и с умиротворенным удовольствием смотрит, как она вышагивает по залу: она такая, какая есть, сама по себе, — но теперь она еще и его: его жена, вызывающая всеобщее восхищение. Кэт заставила померкнуть всех остальных женщин.
Совершенно этого не заметив. После мероприятия она говорит: «Прости, я, наверное, тебя опозорила. Все в вечерних платьях, одна я в джинсовой юбке. Наверное, ты вправе подать на развод».
Он долго вспоминает эти годы. И везде — везде встречает пустоты. Дыры, через которые просачиваются, утекают воспоминания о Кэт. Тот год, когда он на месяц уезжал в США. Чем все это время занималась Кэт? Он понятия не имел. Сидела дома и совершенствовалась в ведении домашнего хозяйства? Маловероятно. А если нет, то с кем она проводила время?
И постепенно в душу его проникает подозрение. Кто еще мог с ней быть?
Когда он познакомился с Кэт, возле нее вертелись два каких-то типа — прощупывали почву, и от них надо было избавляться. Он не помнит, чтобы ревновал — просто деловито и расчетливо позаботился, чтобы они отвалили. Увидев ее в первый раз, он понял, что должен заполучить эту женщину — не на пару недель или месяцев, а насовсем. На этот раз он твердо решил жениться. Абсолютная уверенность в этом удивила его самого — он не ожидал, что потребность окажется столь сильной. Так что с теми двоими надо было что-то решать. Лучше всего было объявить ее своей — быстро и бесповоротно. И ему это удалось.
Тот короткий период теперь видится ему расплывчатым пятном — что они говорили, что делали. Он разговаривает с ней по телефону, час за часом, говорит, но теперь он не слышит ни одного своего слова — только ее. Она смеется своим необычным смехом. «Глин, честно…» — говорит она. «А… это ты…» — говорит она. Запыхавшись, настойчиво. «Я слушаю, — говорит она. — Слушаю во все уши». Вот они в его машине, он то и дело возит ее туда-сюда, потому что не хочет упускать из виду; он видит ее краешком глаза, ее профиль, пряди темных волос на белой коже. Он берет ее с собой — пытаясь совместить осаду Кэт с работой. Кэт карабкается по холму, на котором стоит крепость железного века, ездит по промышленным районам, посещает лекции. «Куда-куда мы едем?» — недоверчиво, с насмешкой. Но это когда сговорчивая. Иногда она исчезала; телефон не отвечал — ей очень жаль, просто так получилось. Но такие исчезновения лишь придают Глину решимости. «Я делаю то, чего не делала ни разу в жизни, — говорит Кэт. — Не знаю, что это со мной». Но она знала, должна была знать: Глин победил ее. Его вела какая-то неиссякаемая сила — ее это удивляло, да и его самого тоже. Кто бы мог подумать, что он потеряет голову из-за женщины?
Элейн стоит у каминной полки. Они одни. Кэт вышла из комнаты. Ник бог знает где.
— Значит, ты и моя сестра? — вопрошает она.
Он разводит руками, успокаивая, унимая ее. Ему сказать нечего.
Больше они к этому не возвращались. Кэт объявляет, что выходит замуж. Элейн тут же начинает строить планы — прием будет в нашем доме, все хлопоты беру на себя — хотите банкет или а-ля фуршет? И тут же весело принимается за дело: возится со списками гостей, договаривается насчет продуктов и машин.
— Ну куда нам столько всего, — протестует Кэт. — Соберемся в нашем пабе у реки, самые близкие.
— Ты выходишь замуж один раз — и на всю жизнь, — парирует Элейн. — Во всяком случае, очень на это надеюсь.
Когда они выходят из загса, Элейн уже стоит на тротуаре с фотоаппаратом наготове.
— Стойте, где стоите! — кричит она. — Вот так. Улыбочку, пожалуйста. Кэт, поправь юбку — перекрутилась.
К этому моменту Глин управился с хлебом, сыром, пикулями и яблоком, запив все двумя бокалами красного, и даже не заметил. В саду начинало смеркаться; стихал и шум пригорода — газонокосилки спрятали в сарай, детей позвали в дом. Глин никогда не стремился познакомиться с соседями: человек, изучавший жизнь общества, не стремился с ним слиться. Так что ему не было дела до того, что происходило или не происходило в соседнем доме, — как бы то ни было, он снова принялся обдумывать и пережевывать случившееся.
Он уже рассмотрел прожитые с Кэт годы — толку от этого оказалось мало. Теперь пора браться за Элейн.
Он покажет Элейн фотографию. И записку тоже.
Она не должна ничего знать. Ей не нужно этого знать. Но он знает, и мысль о том, что он — единственный, кому обо всем известно, невыносима.
Мне нужен еще кто-нибудь, с кем я мог бы разделить гнев, свое горе, запоздалую ревность, да и вообще все, что я испытываю. Так что я ей покажу.
Больше всего мне хочется узнать одно: знала ли она тогда? Или, может быть, узнала впоследствии?
Он не видел Элейн целую вечность. Два года, а то и больше. Лучшего повода позвонить и не придумаешь. Предложить встретиться, пригласить на обед, угостить стаканчиком вина. Состояние его было таково, что он едва не сел в машину и не помчался к ней домой — в конце концов, какая-то сотня километров. Нет, так не пойдет. Там наверняка будет Ник.
Надо потерпеть. Позвонить. И все устроить.
Элейн
Кэт.
Кэт всегда появляется прямо у здания уэлборнского муниципалитета, прямо напротив Хай-стрит, когда Элейн ждет на светофоре. Кэт спускается по ступенькам — снова, снова и снова, положив ладонь на руку Глина. Кэт — замужняя женщина, кто бы мог подумать! И сегодня Элейн видит ее так же отчетливо, как тогда, в объектив фотокамеры, подавшись вперед, чтобы иметь возможность запечатлеть новобрачных: расторопная старшая сестра, которая заправляла церемонией. Кэт смеется. Молодую пару осыпали конфетти — кружочки конфетти в ее волосах; она, смеясь, спускается по ступенькам — отныне и навсегда.
Во всяком случае, всегда, когда я тут оказываюсь, думает Элейн. Загорается «красный», машина трогается, Кэт исчезает. Теперь Кэт покорная, послушная, а ведь она никогда не была такой. Она появляется и исчезает, иногда непрошеной гостьей, но все равно ее появления можно держать под контролем.
В любом случае, Элейн сейчас думает о другом. Она едет на автопилоте, направляясь домой, мыслями же пребывает там, откуда только что уехала, — там надо придумать дизайн сада.
Элейн приходит в голову насадить аллею из ракитника. Она тут же отметает эту идею, и вместо этого перед ее внутренним взором предстают глицинии на кованых железных обручах, с бордюром из декоративного лука. Она придумывает водоемы и тенистые аллеи, а также отгороженный «кухонный сад». Жена хочет огород.[2] Что ж, будет ей огород. Муж же, судя по тому, как он выглядит и разговаривает, охотнее пошел бы в гольф-клуб, но он очень богат и совсем недавно отвалил кучу денег за особняк в Суррее — хочешь, не хочешь, а надо принарядить свои владения.
Жена тоже хочет «принарядить» участок. Она смотрела по телевизору программы по обустройству сада и знает, что сейчас в моде. Вернее, думает, что знает.
Но она не станет ничего украшать, а иначе будет не Элейн. Она внушит жене: что хорошо для коттеджа на два хозяина где-нибудь в Бирмингеме, совсем не пойдет для построенного в 1910-х особнячка суррейского биржевого маклера в духе Лютиенса, с двумя акрами прилегающей территории. Где все пришло в запустение, но она нашла там нечто очень интересное. Элейн обнаружила останки «водяного сада», какие любила Гертруда Джекилл,[3] с декоративным водоемом и фонтаном. Она его восстановит.
Так что никаких декоративных клумб.
— Не будь такой предвзятой, — говорит Кэт. — Не будь такой букой. Будь добрее.
Она вернулась окончательно, вытеснив из ее головы сад в Суррее. Лишь лицо и голос, как у Чеширского кота. Делает то, говорит точь-в-точь те же самые слова, снова и снова, встряхивая головой, вертя сережку в ухе. Элейн отсылает ее прочь.
Никаких декоративных клумб — это решено, и водоем она восстановит — ручей в стиле Гертруды Джекилл. Никаких выкопанных экскаватором ям, покрытых сверхпрочным полистиролом, — бассейнов в современном понимании этого слова. Жена наверняка ни разу не слышала имени Гертруды Джекилл, но Элейн огорошит ее научными терминами, поскольку они с мужем платят кругленькую сумму за ее имя и идеи, и она не какая-нибудь вертихвостка-телеведущая, а ландшафтный архитектор с безупречной репутацией и огромным опытом. На ее счету — отлично написанные труды и публикации в глянцевых журналах по садоводству. Они поймут, что потерпели поражение, и начнут сомневаться в том, чего им хотелось прежде. Через несколько лет они будут с гордостью демонстрировать всем «водяной сад», тенистые аллеи и увитую глициниями беседку и рассказывать про Элейн партнерам по бизнесу — тем, конечно, будет невдомек, кто она такая, но отличную работу они непременно оценят.
Обычно Элейн не очень любит общаться с частными клиентами. Она предпочитает безликих функционеров крупных корпораций. Особенно она гордится работой, проделанной в Эпплтон-холле, который приобрел некий крупный банк для проведения конференций и тренингов для персонала. Это тебе не какие-нибудь муж и жена, ничего в ландшафтном дизайне не смыслят, но мнят себя специалистами — дышат тебе в затылок и переругиваются друг с другом. Краткие и ясные инструкции, смета — и работай. Она гордится садом при Эпплтон-холле — цветником с фигурно выстриженной «живой изгородью», бордюром в голубых и серебристых тонах, дорожками среди декоративной газонной травы, в конце которых обрамленные в прямоугольники ограды кусочки окружающего пейзажа.
Элейн не занимается садиками при коттеджах на два хозяина — те, кто живет в таких, попросту не может себе позволить ее услуги. И потом, этим занимается бесчисленное множество мелких фирм и фирмочек. За свою карьеру Элейн имела возможность наблюдать, как из редкого ремесла, коим пользовались лишь состоятельные люди, ландшафтный дизайн превратился чуть ли не в кустарный промысел, доступный любому, кто готов потратить лишние гроши на украшение территории перед домом. Сейчас это модно. В свое время устройством сада интересовались разве что любители, которые выращивали у себя на заднем дворе душистый горошек, да группка узких специалистов, ведавших высадкой парков и рощ. А теперь любые рачительные хозяева домика с садиком могут отличить куст сирени калифорнийской от куста калины.
Наблюдать за этим Элейн было забавно. Ее профессия стала весьма востребованной, хотя раньше это был удел ретроградов — или избранных, как посмотреть. Для бизнеса это неплохо, хотя она прекрасно знает о растущей конкуренции. Но теперь, в шестьдесят лет, она решила сбавить обороты: стала придирчивее относиться к заказам и научилась говорить «нет», если работа казалась слишком проблематичной или скучной.
Когда-то она хваталась за любое предложение — в самом начале карьеры, после нескольких лет обучения азам садоводства и работы за смешное жалованье в знаменитых садах и парках, — только чтобы узнать, как это делается. В те времена она не отказывалась от любых заказов: оформления внешнего дворика отеля, озеленения строящегося жилого массива. Приходилось — в бытность самой молодой ученицей и «девочкой на побегушках» в одной преуспевающей фирмочке, расположенной в зеленом районе отдаленной части Лондона.
Эти годы теперь украшают ее резюме, которое она предлагает потенциальным клиентам. С тех пор количество и качество заказов, конечно, выросло, а само резюме разбухло во внушительную брошюру. Информация в ней постоянно обновляется. Самое первое резюме выглядело куда как скромнее, особенно в сравнении с нынешним чудом полиграфии. Тогда ей помогал Ник, девушка-иллюстратор, его знакомая, украсила текст милыми цветочными мотивами, а напечатали в типографии издательства, которое он тогда пробовал создать. Это было в первые, безумные годы их брака, годы работы — ее и его.
Элейн почти добралась до дома. На перекрестке с дорогой, ведущей к их старому дому, где семейная жизнь протекала бок о бок с рабочей — крошечной типографией и зачатками фирмочки, занимавшейся ландшафтным дизайном. Все вокруг кипело, везде царила суматоха — дом уставлен шкафами, стопками книг, кто-нибудь непременно что-нибудь делал за письменным столом. Кухня, где Полли восседала на детском стульчике или ползала по полу, пока сотрудники типографии выписывали счета-фактуры или разговаривали по телефону.
Старый дом все еще рассылает сигналы — неумолчную морзянку, слышную всякий раз, когда она проезжала мимо. О самом доме она не думает, тем не менее обрывки воспоминаний о той жизни перемежаются с размышлениями об обустройстве сада в Суррее. Болотные растения? Какие розы посадить вдоль длинного вала? Стоит ли рассадить гортензии по периметру стен? Попутно ей приходит в голову, что завтра надо бы съездить в супермаркет и закупить продукты. Теперь в водоворот мыслей вливается еще и Ник — может, потому, что она как раз проезжает мимо паба: когда-то давно они частенько ходили туда по воскресеньям. Там он и есть — сидит за столом на привинченной к полу скамье летним утром; на нем темно-зеленая рубашка с коротким рукавом, волосы развеваются по ветру, в руке — пинтовая кружка, разглагольствует о новом проекте.
— Дороги, — говорит он. — Заброшенные дороги. Доисторические, римской эпохи, маршруты гуртовщиков. Серия путеводителей. Про каналы и железные дороги кто только не писал! «Исчезнувшие дороги Британии» — звучит?
Оливер тоже тут. Компаньон — близкий друг, коллега, партнер. В этот конкретный отрезок времени молчит. Сидит за столом с такой же пинтовой кружкой и насмешливо смотрит. Что неудивительно.
Когда Ник в таком состоянии, сдержать его невозможно. Осторожный и прагматичный Оливер занят практической стороной дела — по сути, именно он стоит во главе производственного процесса, тогда как Ник — больше редактор. Старый, добрый, проверенный Оливер. Славный Оливер, иногда думала Элейн, когда Ник вел себя особенно необузданно или несговорчиво или когда носился с очередным нежизнеспособным планом. Потому что Оливер всегда был готов утешить и подбодрить и уверить, что все скоро закончится, как всегда, а если нет — что-нибудь придумаем. Иногда ей даже приходило в голову, что лучше бы ей было выйти за Оливера, и порой, советуясь с ним, она испытывала неясный трепет. Но Оливер ни за что в жизни не предал бы друга — ни мыслью, ни словом, ни делом. И, в конце концов, Элейн же любила Ника — разве нет?
— Милая, ты меня не слушаешь, — говорит тот, все еще сжимая в руке кружку, глядя прямо на нее. — Ты думаешь о каком-нибудь чертовом саде. А я хочу, чтобы ты думала о дорогах.
Она проехала паб, и тогдашний Ник сменился сегодняшним — может, он дома, а может, и нет; в любом случае, с раздражением думает она, ему вряд ли пришло в голову проверить содержимое холодильника и съездить в супермаркет. Ничего подобного. Он провел день, болтаясь туда-сюда: читал газеты, ковырялся в Сети, может, черкнул пару строчек какой-нибудь рецензии или статейки в журнал о путешествиях, которыми он подрабатывает, если у него есть заказ, но, вероятнее всего, это не так. В то время как Элейн только что проехала двести километров и провела четыре часа, разводя политес перед парочкой идиотов.
Она въезжает в деревню. Сворачивает на боковую дорогу. В старом доме были соседи. Новый же — точнее, тот, где они живут последние десять лет, — важно стоит в стороне, в низине с ручьем и леском. Они с Ником облизывались, глядя на этот дом, много лет — небольшой коттедж эпохи короля Георга. Элейн страшно хотела заполучить именно этот дом. Пока наконец его не выставили на продажу. Ей продолжали поступать заказы, в голове роились планы, так что она созрела для того, чтобы рискнуть.
Сейчас, десять лет спустя, сад очень вырос. Вожделенные земли стали излюбленным творением Элейн. Он все еще молод, сад, — деревья гинкго должны подрасти, липы для задуманной ею аллеи с переплетенными ветвями еще совсем молодые деревца; надо будет заполнить пустоты и исправить ошибки. И она не притворяется, что ее сад нечто по-королевски роскошное вроде Аспена, Тинтингела или Бэрринггон-корта. Но он — порождение ее таланта, ее стиля, ее визитная карточка.
Уже шесть — она сворачивает на окружную дорогу, ведущую к дому, и видит, что все уже разошлись. Около дома припаркован лишь «гольф» Ника. Днем тут довольно много машин. Соня, ее помощница, ездит на работу из дома — она живет в двадцати километрах отсюда. Три дня в неделю приезжает Лиз и занимается бумажной работой, на которую не хватает времени у Сони. На красном пикапе ездит Джим — он выполняет всю тяжелую работу в саду. Сменяют один другого студенты-садоводы — приезжают поучиться под руководством признанного мастера, как делала в свое время сама Элейн. Вот и сейчас у нее работает Пэм, маленькая пампушка родом откуда-то из Северной Англии, выносливая, как вол, веселая и общительная, что весьма кстати приходится в субботу вечером, когда сад открыт для посетителей. Тогда приходится бросать все силы на то, чтобы следить за гостями, торговать в магазинчике, где продавались саженцы и сопутствующие товары: садовый инвентарь, семена, удобрения, сувениры и книги, в том числе, разумеется, и все сочинения Элейн. В такие дни небольшой участок земли перед подъездной дорожкой превращается в парковку. Иногда посетителей принимает сама Элейн, благосклонно принимая комплименты и отвечая на вопросы. Сначала она черпала в них вдохновение, они льстили ее самолюбию. Теперь же она стала уставать от бесчисленных расспросов: а это однолетник или нет, а как обрезать розовый куст? Она все чаще удаляется в дом, поручая посетителей своим ученикам, которые с удовольствием возятся с ними.
Когда три года назад она впервые открыла свой сад для публики, она предполагала, что Ник станет ей помогать. В конце концов, кто, как не Ник, общительный и восторженный. Разумеется, его энтузиазм можно направить на принятие гостей, на работу в магазинчике и, в самом крайнем случае, на помощь в парковке. И в самом деле, вначале Ник был сама покладистость. Болтался по террасам, обезоруживая мальчишеским шармом престарелых леди, водил экскурсии к цветнику у ручья показать примулы, сидел на кассе магазинчика, правда, неверно отсчитывал сдачу, но ему прощалось — было видно, что он всего лишь новичок и может ошибаться. Когда он отправил чей-то «БМВ» в заболоченную канаву, где автомобиль немедленно застрял, парковкой пришлось целиком и полностью заниматься Джиму. И спустя какое-то время Ник стал все меньше и меньше помогать по субботам, а вскоре и совсем перестал. Элейн заявила молчаливый протест: «Милая, меня постоянно спрашивают, как называется то, как называется это, а я ведь понятия не имею. Девочки справляются с этим куда лучше. В конце концов, мы же знаем — я не умею зарабатывать деньги».
О да, она это знала. Невозможно удержать даже маленькое издательство на плаву, не обладая деловой смекалкой. Нужно просчитать, что будет продаваться, а что — нет, уметь соразмерить риски и затраты с прибылью. Требуется ловко управляться с расчетами, а это всегда наводило на Ника тоску. Чаще всего он попросту закрывал на это глаза. Когда издательский дом «Хэммонд и Уотсон», несмотря на все усилия Оливера, наконец развалился, на складе остались залежи нераспроданных книг, они задолжали авторам и поставщикам, и то, что когда-то было небольшим издательством, славившимся книгами по топографии и путеводителями, превратилось в одно сплошное долговое обязательство.
На то, чтобы как-то прийти в себя, понадобился целый год. Ник был сдержан, но держался бодро. Что ж, бывали и хорошие времена. К тому же теперь у него масса полезных знакомств, и он много чего может сделать: писать для изданий о туризме, например о том, куда лучше поехать на выходные, путеводители, опять же, составлять… и тому подобное.
— Послушай, Оливер, а что, если мы…
— Нет, — ответил Оливер. — На сей раз без меня. Ничего личного. Просто рисковать деньгами, как в прошлый раз, я не хочу.
Элейн Оливер сказал:
— Мне очень жаль. Я должен был справиться. У меня такое чувство, будто я вас подвел.
С каких это пор, подумала она, кто-то мог справиться с Ником? Я сама должна была это пресечь. С этих пор все пойдет по-другому. Она почувствовала себя старше, жестче — и в то же самое время ощутила странный подъем
Она забирает с заднего сиденья свои бумаги и планшет-блокнот. И заходит в дом.
В открытые окна проникает летний вечер. Откуда-то сочится мелодия. Ник в оранжерее, с бокалом вина в руке, слушает легкую музыку. После трудного дня, значит.
Элейн входит в кабинет. Соня оставила на ее столе пачку писем — на подпись. На подносе еще письма и факсы — эти надо прочесть. Она собирает свои сегодняшние записки и сует в соответствующую папку.
На кухне она обнаруживает нацарапанные на доске записки от Пэм и Джима. Пэм закончила приводить в порядок бордюр, но ей требуются дополнительные указания по поводу живой изгороди и обрезки фуксий.
Джим сообщил, что газонокосилка опять засорилась, он вызвал механика и надеется, что успеет привести газон в порядок к субботе.
Элейн проходит в оранжерею — мозаичные окна притягивают взгляд. За окнами виден роскошный сад, освещенный лучами закатного солнца. Но Элейн лишь на секунду отвлекается на зрелище — голова ее гудит после сегодняшнего, и она может сосредоточиться только на Нике, который занимается ровно тем, чем она и предполагала. Он не услышал, как она приехала, но замечает ее, когда она входит:
— Привет! Ты вернулась? Я не заметил.
— Еще бы. Сделай-ка музыку потише. — И она принимается просматривать почту.
Ник повинуется. Встает, чтобы долить себе в бокал, и тут ему приходит в голову мысль:
— Налить?
Она кивает.
— У нас кончается белое австралийское, ну, вкусное, ты покупала. Надо бы еще взять.
— Спасибо, что напомнил, — говорит Элейн.
Ее ледяной тон не ускользает от Ника. Он осторожно смотрит на нее:
— Дочь звонила. Сказала, перезвонит.
— Угу.
Теперь Ник радостно хлопочет вокруг нее:
— Да не возись ты с этими несчастными бумажками. Расслабься. Такой чудный вечер. Вот что: давай я сделаю нам омлет и салатик, чтобы ты на готовку не отвлекалась.
— Да, почему нет, — говорит Элейн. И возвращается к письмам.
Ник тут же перестает хлопотать. Он украдкой смотрит на нее.
— Клиенты докучливые попались? — спрашивает он с профессиональным сочувствием.
— Многие клиенты, как ты выражаешься, докучливые. Если бы меня это беспокоило, очень скоро я ушла бы из бизнеса.
Ник меняет тактику. Не в последнюю очередь из соображений самосохранения.
— Сегодня ко мне прицепилась одна барышня — проверкой фактов, видите ли, занимается. Как давай придираться: могу ли я подтвердить то-то или дать ссылку на се-то? Помнишь статью, которую я написал для журнала о путешествиях, издаваемого «Нью-Йорк таймс»?
— И ты подтвердил?
— Ну, по большей части да, — говорит Ник. — Но сколько возни! Привязалась: «А теперь рассмотрим параграф два на гранке три…»
— Действительно, неприятно. — Тон Элейн по-прежнему спокойный и непроницаемый.
Она берет из пачки очередное письмо.
Стратегия Ника не помогла ему добиться желаемого, а именно переключения разговора на собственные насущные проблемы.
— И конечно же мне нужно было в библиотеку — найти что-нибудь об Изамбарде Брюнеле, инженере. Я всерьез намерен написать о нем книгу.
Элейн догадывается, что, скорее всего, журнал о путешествиях издательства «Нью-Йорк таймс» больше не станет заказывать Нику статей. Его отношения с редакциями долго не длятся: понятие «крайний срок сдачи статьи» он считает унизительным, а консультации с редактором — скучными. Да и носиться с книгой он не станет — маловероятно, что кто-то из издателей прельстится, ведь про Изамбарда Брюнеля уже столько написано, причем куда лучше, чем это мог бы сделать Ник.
За годы брака ей иногда приходило в голову, что Ника, наверное, стоит пожалеть. Но Ник не вызывал жалости, потому что явно не видел в этом никакой проблемы. Когда в его услугах в очередной раз переставали нуждаться, он беззаботно махал рукой: «Да ладно, все равно скука смертная, к тому же мне пришла в голову неплохая идея». Кажется, его энтузиазм стал профессией сам по себе.
«Настольные издательские средства — вот чем надо заниматься сегодня…У меня блестящая мысль: надо организовать дорогие экскурсионные туры по рекам и каналам для богатых американцев… Надо бы открыть справочный центр для туристов». Периодически эти планы выливаются в нечто большее, чем просто задумки, и Ник пытается искать потенциальных инвесторов. Но те оказываются до обидного несговорчивыми — начинают требовать какую-то штуку под названием «бизнес-план», и Ник тут же спасается бегством. Грандиозные замыслы блекнут и меркнут, и он принимается писать письма редакциям, выпрашивая заказ на книжную рецензию. Он постоянно погружен в свои размышления. Его эскапады непредсказуемы; вечно у него какие-нибудь неотложные нужды или срочные заказы. Но при этом он всегда в ладах с собой и миром. Так что жалеть его вовсе незачем.
Элейн замужем за Ником уже тридцать два года. Когда она смотрит на Полли, ее сильная, уверенная в себе дочь кажется воплощением всех этих лет. Теперь она не может и представить себе мир без Полли, не может вспомнить, как жила без Ника. Но сейчас именно Полли кажется самым постоянным и основным результатом. Полли неотвратима; сегодняшняя Полли — профессионал, оптимистка, востребованный сотрудник. Полли веб-дизайнер; ультрасовременная профессия, говорит она, но Элейн кажется, что такой она была всегда: живой, хлопотливой, стройной, подтянутой — взрослая женщина, поглотившая все свои прежние воплощения. Элейн приходится присматриваться, чтобы увидеть в ней малышку, девочку, девушку, женщину. Совсем другое дело Ник. Он словно бы и не изменился — так и остался слегка потрепанной временем версией себя самого в юности, иногда Ник кажется Элейн весьма странным.
Порой она задумывается: а почему она выбрала именно Ника? Почему его, а не кого-то другого? Ну, во-первых, потому, что мы выбираем себе в пару того, который оказывается рядом, когда время пришло. Молодые, они как звери во время весеннего гона. Когда тебе чуть за двадцать и гормоны бушуют, можно встречаться с кем угодно. То есть с тем, кто опять же оказывается рядом, но остаться с ним или с ней навсегда ты вряд ли готов. Хотя есть еще и любовь, но любовь — великий приспособленец. Ею всегда можно объяснить собственные потребности.
Ник появился, когда Элейн было двадцать шесть. Душа компании, всегда живой, веселый, добродушный, всегда готовый к приключениям, светившийся здоровьем и благополучием. У животных выбор партнера основан на внешних, физических данных, которые говорят о хороших генах. Ник же излучал качественные гены, если говорить чисто о внешнем облике. И Полли унаследовала его рост, форму лица и отличные белые зубы. Но, слава богу, не недостатки — отсутствие прилежания, усидчивости, лень, способность уходить от ответа. Полли сосредоточенна, сфокусирована, как говорят в ее профессии.
Вопрос сближения определенных людей в определенное время. Пересечения траекторий, так сказать. Пути Элейн и Ника пересеклись в шестидесятых — в те легендарные времена, когда быть молодым означало счастье. Теперь Элейн кажется, что Ник был намного младше нее. Даже в то время она чувствовала себя на задворках прогрессивного молодежного движения: читала о нем в газетах, наблюдала за компаниями сверстников, которые умели улавливать дух времени. И с Ником она познакомилась как раз в такой компании — на вечеринке; сама она скорее наблюдала за происходившим, чем участвовала. Но он ее заметил, стал искать ее общества — приятный, общительный, симпатичный парень на два года моложе ее, да ну ничего страшного. «Может, ему нужна мамочка», — пошутил кто-то из друзей — обидно, надо заметить. Пошутил. Элейн осторожничала: долгие месяцы их отношения были нерегулярными и неопределенными. Но затем они постепенно превратились в привычку, появилось невысказанное убеждение, что это, должно быть, насовсем. Как-то, за обедом в пабе, он сказал: «Слушай, честно говоря, нам надо пожениться… согласна?» Так она стала жить с Ником.
Иногда Элейн чувствует, что он так и не повзрослел. То, что так подкупает в двадцатипятилетнем, в сорокалетнем выглядит уже не так, а уж если ему пятьдесят восемь, и вовсе раздражает. Если раньше она заблуждалась по поводу каких-то вещей, то с течением времени стала раздражаться, но раздражаться умеренно и тихо — скорее терпеть и принимать. Могло быть и хуже, думала она, он мог оказаться пьяницей, мошенником или бабником. А так просто бездельник и не такой рассудительный, как хотелось бы.
Он теперь на обочине ее жизни, вдалеке от самого важного. Она спит с ним в одной постели, они часто едят вместе, но от прогрессивной, поступательной деятельности далек. Телефонные звонки, факсы, консультации с Соней и Джимом, практические советы студентам, проходящим стажировку в ее владениях, ее время и энергия — все это проходит мимо него. Он имеет лишь смутное представление о ее консультациях с клиентами и о том, что готовится к изданию ее очередная книга. «Куда-куда ты едешь? В Уорвик? Там рядом канал, ты непременно должна на него посмотреть. Самый длинный в стране каскад шлюзов — подумать только!» Книгами он не интересуется принципиально — после того, как несколько лет назад неосмотрительно этим заинтересовался. «Знаешь, мы можем делать это сами. То есть я могу. Настольные издательские средства, знаешь ли. И без всяких посредников. Просто… Хорошо, хорошо, мне это просто пришло в голову… забудь».
О нет, подумала она. Ни в коем случае. Проходили. Больше не хочу. К тому же книги — это моя компетенция.
Солнце садится. Сад озаряется закатным сиянием. Элейн улучает момент и пристально, оценивающе рассматривает сад. На следующий год неплохо будет посадить вдоль тисовой изгороди поздние тюльпаны — немного оживить темный угол. Она возвращается к письмам. Дело почти сделано — одна стопка для Сони, вторая — те, на которые она должна написать ответ лично. Приглашение выступить на литературном фестивале: дать согласие — книги будут лучше продаваться, и потом лишнее появление на публике не повредит. Приглашение почетным гостем на вручение премий лучшим студентам-садоводам сельскохозяйственного колледжа — тоже ответ положительный по тем же причинам. Какая-то семейная пара из Шропшира приглашает ее посетить свой сад («…мы понимаем, это не совсем то, чем вы занимаетесь, но нам бы так хотелось пригласить вас в гости…»), помимо прочего, письмо содержало четыре страницы нудных теоретических выкладок касательно садоводства — они хоть знают, сколько стоит ее консультация, да и вообще это неприлично. Позвонить Соне, пусть занимается. Факсы от клиентов, факсы от поставщиков, неизбежная стопка рекламных буклетов и проспектов, которые хоть и в последнюю очередь, но просмотреть надо — вдруг что-нибудь стоящее.
Ник долил вина в бокалы и собирается плюхнуться обратно.
— Что там омлет?
— Омлет? — удивляется Ник. — Ах да. Омлет и салатик. Точно. Пойду сделаю.
— Хорошо, — говорит Элейн. Выбирает из пачки рекламу нового удобрения, просматривает и выбрасывает в мусорную корзину.
Ник все еще стоит возле нее.
— Что?
— Да ничего. Просто… ты в какой-то момент стала странно похожа на Кэт. Ладно, пошел заниматься ужином.
Он уходит.
Замечание мужа ее весьма раздражает — она не может… или скорее не хочет понять — почему? Она совсем не похожа на Кэт — и никогда не была похожа, оттого-то Ник и счел это «странным». Они оба знают, что она и Кэт были не похожи, ни за что не скажешь, что это — родные сестры. Тем не менее Элейн знает, что имел в виду Ник. Она сама видела это в зеркале. Какая-то генетическая причуда. Что-то в линии губ. Неуловимое выражение лица. Тогда как обычно казалось, что общих генов у них с Кэт нет совсем.
Странно, что Кэт осталась жить именно так — в линии чьих-то губ. Что бы об этом сказала она сама? Что-нибудь банальное, может быть, попыталась бы пошутить.
И ухмыльнулась бы кривой ухмылкой. Надо же, думает Элейн, остаться на Земле вот так — в линии губ, в уголках моего рта. И в моей памяти. И — уверена — в памяти Ника; конечно, в памяти Полли и многих, многих других. Много разных Кэт. Личных, персональных Кэт. Она теперь рассыпалась на фрагменты. Люди не умирают — они остаются жить в чужой памяти.
Теперь ей видится странное сходство между тем, как Кэт присутствует в ее сознании теперь, и ее детством, в котором Кэт была неотъемлемой, но не особенно важной частью домашней обстановки. Тогда из-за одной лишь разницы в возрасте она всячески отделялась от сестры. Двенадцатилетний ребенок не играет с шестилетним — да и не со всяким сверстником тоже. Шестнадцатилетнего подростка десятилетки не волнуют. Элейн вспоминает закрытую дверь своей комнаты, натянутую атмосферу семейных праздников. Время, состоявшее из долгих лет, когда Кэт являлась лишь скучным и надоедливым «хвостиком», временами — поводом для ревности, локальным природным явлением, на которое не следует обращать внимания. Она получала куда больше родительского внимания: «Не забывай — ей всего пять… семь… девять…» Ее существование означало, что в семье долгое время будет не все гладко — кому-то постоянно будут требоваться забота, помощь, силы других.
А потом все внезапно кончилось. Кэт выросла. В один прекрасный день из утомительного довеска она превратилась во взрослого человека. Оперилась, отрастила крылья — или, скорее, полностью изменилась. Стала девушкой. Из куколки появилась бабочка — фея, эльф, худенький, но исключительно привлекательный, сорванец. Стала стройной, живой, длинноногой, с точеным телом и остреньким личиком: тонкий, изящный носик, серо-зеленые глаза, высокие изогнутые брови и шапка темно-русых волос — сочетание, притягивавшее взгляд; не случайно, когда она входила в комнату, все тут же оборачивались и смотрели, смотрели — с удивленным интересом, вниманием, удовольствием. А она и понятия не имела. Точно так же, как не имеет понятия о своей красоте букет цветов, картина на стене, драгоценный камень — словом, то, что привлекает, что на секунду поднимает настроение.
«Вы совсем не похожи, — все чаще стала слышать она. — И не скажешь, что сестры». Лучше бы про себя подумали и промолчали.
Ник возится на кухне. Элейн слышит, как гремят кастрюли и тарелки в его неловких руках. Она все еще в оранжерее — перебирает последние письма, наименее достойные внимания, мыслями же блуждает где-то еще — в другом времени, в другом месте, — и все из-за реплики Ника. Конечно, он этого не хотел. Просто такой была его манера выражаться. Это же Ник — каждое его слово может считаться отягчающим обстоятельством само по себе.
Она слышит голос матери. Что не совсем обычно: сейчас она почти не думает о матери, долгие годы почти не вспоминала о ней.
— Наш гадкий утенок превратился в прекрасного лебедя, — говорит мать. — Посмотри на нее!
И Элейн, которая приехала домой на каникулы (она училась в колледже), смотрит и видит: да, так и есть.
— Говорят, ей стоит подумать о том, чтобы пойти учиться на актрису, — продолжает мать.
Элейн мгновенно раздражается. «Как всегда! — думает она. — Типично для мамы. Банальная мысль».
— Почему? — отрезает она.
Мать снова начинает бормотать глупости. Она стала побаиваться Элейн, но так и не научилась вести себя осторожнее.
— Ну, она такая хорошенькая, — наверное, поэтому.
— А Кэт умеет играть?
Мать вспоминает о второстепенной роли в школьной рождественской постановке — и вообще, раз есть театральные школы, значит, играть можно научиться?
И вскоре Кэт пошла в театральную школу — может, из-за матери, а может, из-за остальных с их глупыми советами, — а толку? Но к тому времени матери уже не было в живых.
Проблема мамы была в том, думает Элейн, что она принимала все за чистую монету. То есть буквально. Если уж совсем честно, у нее были упрощенческие взгляды на жизнь. Впрочем, она не виновата. Строгое воспитание, жизнь, посвященная дому и семье. И папа, которого все устраивало, — разве нет? Что-то не припомню, чтобы в семье что-то обсуждали, кроме, разве, в какой цвет покрасить стены на кухне или куда поехать летом. Им этого хватало, они и не стремились к большему. Мама ухаживала за Кэт и мной, готовила пищу и следила за тем, чтобы дом походил на картинку из журнала для домохозяек; папа ходил на работу, приносил зарплату и зарабатывал пенсию. И все были довольны.
Нет, я вовсе не отношусь к ним свысока — просто стараюсь быть объективной. Я вижу их такими, какие они есть, и это не означает, что я их не любила. И да, я знаю, что так живет большинство — что с того? Я всего лишь смотрю на них беспристрастно. Мама была хорошей, просто немного ограниченной.
И она умерла. В сорок три. Никто даже не предполагал. Хотя это-то как раз естественно.
Помню, как Кэт первый раз позвонила мне: «С мамой что-то ужасное». Так я обо всем узнала. После этого прошло всего несколько месяцев — четыре, шесть? Я приезжала домой так часто, как могла, но я тогда была страшно занята на своей первой работе, даже на выходных, и потом, дома была Кэт.
Я знаю, ей было всего шестнадцать. Но она всегда была ближе к матери, чем я. Она волновалась, ведь в том году ей предстояло заканчивать школу, — волновалась задолго до того, как заболела мать. Конечно, позднее она могла пойти в колледж после шести классов, ну, или еще куда-нибудь в том же духе. Тем не менее не пошла.
Это я занималась похоронами — так? Теперь-то я смутно помню, но иногда какие-то обрывки нет-нет да и всплывут в памяти. Как папа сидел с «пустым» лицом и ничего не делал — он явно пустил все на самотек. Как я сказала: «Ладно, не беспокойтесь, я этим займусь». Как звонила в церковь и в похоронное бюро — хлопотать насчет похорон. В двадцать два года и не знаешь толком, как разговаривать с подобными людьми, но в итоге все получилось. Помню даже чувство некоторого удовлетворения — мне подумалось: раз я с этим справилась, то с остальным и подавно.
Сама Кэт все это время была точно чумная. Почти не разговаривала. И подурнела. Точно ее задули, как свечу. И стала обычным подростком, угловатым, с мартышечьим личиком. Около года она такой оставалась, а потом постепенно наружность вернулась к ней, люди вновь стали заглядываться, теперь и мальчишки тоже, конечно. Естественно, она очень быстро отбилась от рук. Папа жил как робот — день за днем просто делал то, что надо было делать. А потом он сошелся с соседкой, Дженни Питерсон, или скорее она с ним, и они поженились.
Кэт говорит: «Я не могу жить с папой. Дженни меня не любит». Она говорит это снова и снова, каждый год. Говорит совершенно отчетливо — ее голос звучит спокойно и как будто издалека. И больше ничего. Как бы Элейн ни прислушивалась, она слышит только это.
А что ей ответила я?
Послушайте, не могла же я пустить ее пожить к себе? Я и так снимала в Чизвике комнату на двоих и экономила каждый пенни на первый взнос по ипотечному кредиту. К тому моменту ей исполнилось девятнадцать. Мы были точно с разных планет, и уже не в силу разницы в возрасте, — разные вкусы, склонности, все. Мы бы друг друга просто не вынесли. И не то чтобы у нее не было друзей. У Кэт всегда были друзья — толпы друзей.
Я постоянно общалась с ней — разве нет? И это оказалось непросто — при ее-то жизни перекати-поля. Никогда нельзя было с точностью сказать, где она будет и что станет делать на следующей неделе. Наступил период учебы в театральной школе. Впрочем, надолго ее не хватило. Какое-то время она взахлеб говорила об этом, а вскоре выяснялось, что учебу она забросила. «А, учеба О, мне там не понравилось. Знакомые пригласили меня пожить в Брайтоне».
Это было в шестидесятых. Кэт подходила шестидесятым — шестидесятые подходили ей. Делаешь, что хочешь, а остальное пусть горит синим пламенем. Климат самый благоприятный — для нее было самое лучшее время, чтобы быть молодой. А вот для меня — нет. Трудолюбие и достижения тогда никого не интересовали. Как, собственно, и ландшафтная архитектура. В те времена заниматься этим означало обслуживать старичков владельцев приусадебных участков или дам средних лет из какого-нибудь Глостершира. Кэт порхала туда-сюда — если честно, я понятия не имела, чем она занималась добрую половину того времени; я же, напротив, всегда знала, кем хочу стать и что делать.
Конечно, я за нее беспокоилась. Естественно. Но ведь к тому времени она стала совершеннолетней, взрослой. И не мне было ей указывать, что делать, а чего не следовало бы. Пусть больше никого не оставалось — папа очень скоро самоустранился от воспитания младшей дочери. И стоило мне начать говорить что-нибудь в назидательном тоне, она тут же ловко увиливала от разговора.
«Как ты предвзята! — говорит Кэт. — Неужели я проделала весь этот путь до тебя, только чтобы услышать, что мне надо подстричься? Будь добрее. Слушай, я учусь водить машину — представляешь?»
Деньги, унаследованные от матери, Элейн потратила на первый взнос на квартиру. И посоветовала Кэт сделать то же самое, но она совету конечно же не вняла. Еще бы! Она жила то там, то сям — куда занесет. Комната в доме знакомых, квартира с кем-нибудь на пару, койка у друзей. Один бог знает, что сталось с ее деньгами. Полагаю, она просто брала понемногу, пока они не кончились совсем. Не то чтобы она была расточительной. По меньшей мере, не в общепринятом смысле этого слова.
Кэт на пороге. Точнее, на пороге — огромный букет, целая охапка лилий, сквозь которую выглядывает довольное, сияющее лицо Кэт: «Сюрприз! Когда я проснулась, то поняла, что непременно должна вас увидеть!» А Элейн может думать лишь о том, что все это великолепие стоило по меньшей мере двадцать фунтов… и через каких-то несколько дней вся красота завянет.
Конечно, я этого не сказала. Во всяком случае, именно в такой форме. Намекнула, может быть: она часто сидела без денег — и без работы. Определенно, я пробормотала что-то в знак протеста.
Когда Кэт вот так упрямится, меня не покидает странное чувство чьего-то безмолвного присутствия, некоего «адвоката дьявола». Элейн точно знает, как обстояло дело, что случилось, кто и что сделал, но теперь все чаще оказывается, что она не видит связной цепи событий — воспоминания путаются, искажаются. Как будто бы факты внезапно вышли из-под контроля.
Из кухни зовет Ник. Через пару минут омлет будет готов.
Элейн встает, относит бумаги в кабинет, заглядывает в туалетную комнату на первом этаже. Там она бросает взгляд в зеркало, выискивая в своем лице черты Кэт — и не находит. Губы вновь стали ее собственными. Вдобавок то, что она видит в зеркале, ей определенно нравится — лицо, ставшее с возрастом куда более привлекательным, чем в юности. То, что никогда не было хорошеньким, стало красивым. Изящный нос и подбородок, выступающие скулы, широко расставленные глаза. Густые темно-русые волосы, едва тронутые сединой. Красиво старею, думает Элейн, вот что бывает, когда любимое занятие приносит плоды… не говоря уже о том, что работать доводится на свежем воздухе и заниматься умеренным физическим трудом. Воодушевленная, она отправляется на кухню, где ее ждет Ник.
Омлет получился жестким, а салат — безвкусным. Ник так и не научился готовить. Тем не менее он подает на стол с таким видом, будто ее ожидал королевский пир:
— Угощайся! И я открыл бутылочку красного. Давай наслаждаться жизнью!
Они принялись за еду. Ник разглагольствует об Изамбарде Кингдоме Брюнеле, и о трудностях, возникших при строительстве парохода «Великобритания», при этом вспоминает, что хотел напомнить ей, что завтра его машина отправляется в сервис — надо поменять выхлопную трубу, — можно он возьмет ее автомобиль? И тут же перескакивает на размышления о новой серии туристических справочников по геологическим эпохам на территории страны:
— Лейас от Йоркшира до Дорсетшира, кембрий в Уэльсе… конечно, мне понадобится команда исследователей.
Элейн слышит его, но внимание ее приковано к собственным заботам. Обдумыванию сегодняшнего заказа, планам будущей работы и прочим, более мелким, нуждам. Королевские лилии на фоне ограды из тесаного, уложенного без раствора камня сменяются мысленным проговариванием будущего неприятного разговора с чересчур расчетливым поставщиком комплексных удобрений; зрелище рябины китайской в саду — воспоминаниями о том, как они с Полли бродили по Коббу на курорте Лайм Реджис; она всегда вспоминает об этом, когда смотрит на расписанное цветами блюдо, красующееся теперь на комоде, — блюдо она привезла оттуда. Полли восемь с половиной, на ней розовые шортики и футболка. «Можно мне шоколадку?» — клянчит она. Элейн же раздумывает, стоит ли тратиться на фарфоровое блюдо Викторианской эпохи, которое она присмотрела? «Можно?» А Ник где? Почему не занимается ни фарфором, ни шоколадкой? Но Ника нет, и на этом воспоминания обрываются. Должно быть, вскоре она вернулась в антикварную лавку и купила блюдо, но самого момента покупки не помнит, как не помнит и того, получила ли Полли вожделенную шоколадку. Наверное — это же Полли.
Теперь она видит новое воплощение Полли — та точно уменьшилась: ей годика четыре или около того. Она танцует. Пляшет с Кэт в гостиной еще их прежнего дома. Играет музыка — магнитофон, радиоприемник? Элейн даже слышит слова песни: «Начинаем мы хоровод, мы хоровод, водить хоровод». Мелодичный, подкупающий своей безыскусностью мотив. На их лицах — восторг, улыбки и полная отрешенность. Полли смотрит снизу вверх на Кэт, и они снова принимаются кружиться. Так бы они и танцевали до скончания веков.
Определенно глицинии для того особняка в Суррее — но вот стоит ли сажать лук? Завтра она должна поработать над новой книгой, которую ей предложили написать, позаниматься с Пэм, встретиться со своими бухгалтерами. Ник все еще разглагольствует, и ее размышления прерываются — она принимается пристально рассматривать его левое ухо, воскрешая в памяти их первую брачную ночь, а точнее, утро после первой брачной ночи: она проснулась и обнаружила, что с удивлением созерцает розовую завитушку, лежащую на подушке рядом с ней. Раньше ей ни разу не доводилось разглядывать чужое ухо так близко и так пристально; так вот, значит, что такое брак, подумалось ей тогда.
Теперь же она почему-то принимается раздумывать, смогла бы она отличить ухо Ника от уха кого-нибудь другого. Узнает ли она его, если увидит отдельно от всего остального? Скажем, если его пришлют в конверте, как, говорят, делают похитители людей.
— Конечно, путеводителей сейчас масса — вроде «прогулки по…», — говорит Ник, — но тематические — это будет нечто новое. Потом можно будет продолжить — исторические, ботанические, да мало ли еще какие… — Он замолкает. — Почему ты так на меня смотришь?
Элейн отгоняет прочь мысли, вызванные созерцанием его уха, и вопросы, возникшие с ними, тоже.
— И кто же будет совершать эти «прогулки» — ты сам?
— Да времени нет. Наверное, нужна целая команда. Может, девушки, которые работают в саду…
— Нет.
— Конечно, надо будет подумать о деньгах на мелкие расходы…
— «Девушки, которые работают в саду», как ты выражаешься, — это студентки, изучающие садоводство, а не просто наемные работницы. — Элейн встает. — Кофе хочешь?
— Да, если сваришь. Завтра планирую устроить небольшую рекогносцировку на местности. Тут поблизости. Только чтобы идеи появились. Так что не против, если я возьму твою машину?
— Против. Мне надо будет съездить в супермаркет. Если, конечно, этим не озаботишься ты.
Ник больше не настаивает, как собирался до этого. Он лишь меняет тактику:
— Не беспокойся. Съезжу, когда мою починят. На самом деле надо бы подумать о том, чтобы сменить мне машину. Эта уж слишком часто ломается.
— И на что же мы ее заменим?
— Да вот, я подумал, неплохо было бы прикупить новую модель «рено», знаешь, как в рекламе. Красную. Всегда хотел красную машину.
— Я не спрашиваю: на какую машину? Я спрашиваю: на какие деньги?
А вот это уже чересчур. В семье существовал негласный договор: не упоминать, что счета в этой семье оплачивает Элейн. По крайней мере, сам Ник предпочитает об этом умалчивать.
Он корчит гримасу. Пожимает плечами. Она зовет это «взгляд побитого щенка». Лет двадцать назад это ее обезоруживало, но теперь этот взгляд потерял над ней былую власть.
Элейн принимается варить кофе. В кухне воцаряется тишина: видно, что хозяйка здесь не только готовит еду, но и работает. Повсюду имеются доказательства этого: на висящей на стене доске — записки от сотрудников фирмы, рекламные плакаты книг самой Элейн, на подоконнике — поддерживающая рамка, горшки с тем-то и сем-то, медный кувшин, наполненный цветами ириса сибирского. Так что Элейн не чувствует этой тишины — все кругом говорит о работе. Запись на доске напоминает ей, что скорее надо сменить газонокосилку, чем злополучную машину Ника; ирисы вызывают в памяти мысль о том, что заказанные луковицы запаздывают. Но все эти мысли протекают на фоне тяжких раздумий о том, что случилось, чего не случилось, да и о жизни в целом. Она чувствует раздражение, напряжение и усталость и даже легкое негодование. Молча ставит кружку кофе перед Ником, в то же самое время говоря про себя: тебе хорошо, ты спокоен. Ты во мне уверен.
И всегда прежде всего был уверен во мне. Но ты ошибался. Я не такая, какой, может быть, казалась. Иногда я была совсем, совсем далеко от тебя. Особенно однажды. Имей в виду. Зазвонил телефон.
— Я подойду, — твердо сказала Элейн.
Это Полли.
— Наконец-то! Еле дозвонилась… — И Полли пускается с места в карьер.
Элейн представляет ее — как она, закинув ноги на диван, сидит в своей маленькой квартирке в Хайбери (ипотека стоит немерено, но там так классно, и от метро две минуты). У Полли выдался трудный день на работе, она выжата как лимон — никто и подумать не мог, что новые клиенты окажутся такими въедливыми, — она как раз собиралась сходить куда-нибудь с друзьями расслабиться. До выходных она позвонит снова, может, заскочит на обед в воскресенье, а сейчас просто звонит узнать, как дела — «бешеная неделя была, берегите себя, пока».
Голос Полли наполняет кухню, точно послание с другой планеты, — в определенном смысле так оно и есть. Элейн достаточно осведомлена о жизни дочери: она много работает и умеет отдыхать, она целеустремленна и вкладывает всю себя в любое дело, за которое берется. Полли — веб-дизайнер тридцати лет. К тридцати четырем она собирается открыть собственное дело и подумывать о ребенке. Правда, у предполагаемого ребенка пока нет отца, но всему свое время. Элейн ловит себя на мысли, что ей нравится стратегический подход дочери к жизни. Годы расписаны по месяцам, цели и их достижение; новый ковровый настил для квартиры, когда повысят зарплату, новая работа — к следующей весне, порвать с Дэном к Рождеству, если отношения зайдут в тупик. Именно подобный подход предполагают потенциальные работодатели, когда задают на собеседовании вопрос: чем вы предполагаете заниматься через пять лет? Или, может быть, подобные вопросы и сформировали мировоззрение ее, Полли, поколения? Сама Элейн в тридцать лет боялась даже предположить, чем будет заниматься через пять лет… или, скорее, чувствовала, что думать об этом — значит искушать судьбу. Разумеется, она не смогла бы дать уверенного ответа, признаться хотя бы в каких-то устремлениях — ее бы подняли на смех. Она не может не восхищаться этой смесью прагматизма и положительных намерений; подобная атмосфера подошла бы и ей. Хотя сама она преуспела благодаря тяжелой работе и предприимчивости, но не расчетливому карабканью вверх.
— Полли по уши в делах? — улыбается Ник. И усмехается: — Она мне уже рассказывала. Работает на какую-то крупную контору, да?
У Ника Полли всегда вызывала добродушное изумление — что в шесть лет, что в шестнадцать. Сама же Полли с годами стала относиться к отцу терпимее, хотя и не без брюзжания: так относятся к шалопаю, старшему брату. Снует вокруг. «Па, ну у тебя и бардак на столе, надо бы убраться». Обозревая его, кривит губы, не одобряет: «Ты что, этот галстук не идет к этой рубашке». Это означало, что она его любит: если Полли было плевать на человека, она не стала бы с ним возиться. И Ник, который точно так же, с превеликим удовольствием, взваливал на плечи других то, что не горел желанием делать сам, нисколечко не возражал. Теперь Полли заполняет ему декларации о подоходном налоге — кое-как, но справляется. Заставляет его принимать какое-то китайское народное средство от сенной лихорадки, а недавно буквально вынудила записаться в фитнес-клуб. Скрытое раздражение сменилось своего рода покровительственным отношением, точно он являлся давно испорченным, но дорогим и любимым, существом. Элейн подобное отношение раздражает, ей чудится в нем нечто противоестественное.
«Знаете, что самое главное, когда приезжаешь домой, — говорит Полли всякий раз, когда соблаговолит заскочить домой на ужин с ночевкой или на обед, — то, что все должно оставаться так, как было. Понимаете? Нет, разумеется, вы можете повесить новые шторы, если вам так захочется, ну, в пределах разумного, конечно, но в целом все должно быть таким, как прежде. Мне нужен контакт с домом, понимаете? Конечно, я законченная эгоистка, но вы же не возражаете, правда, мам? Ну, мелкий ремонт я еще прощу — в ванной, скажем, даже неплохо бы что-то поменять, — но никаких радикальных перемен, хорошо? И не вздумай превращаться в энергичную старушку, мам! А если папа станет носить фланелевые брюки и твидовый пиджак, я его убью».
Элейн эта мантра всякий раз трогает — и одновременно вызывает некий молчаливый протест. Ладно, ладно, думает она, тебя поняли. Но не стоит так беспокоиться, право слово. Господи, совсем не стоит. Единственные сколько-нибудь радикальные изменения в этом доме коснутся разве что устройства сада или обновления офисной техники — впрочем, к этому, полагаю, ты отнесешься вполне положительно.
Ник допил кофе. Теперь он принимается листать газету в поисках программы телепередач. Элейн достает телефонную книгу и тянется к аппарату, чтобы придвинуть его поближе. Нужно связаться с клиентом, до которого можно дозвониться только по вечерам. Ник глядит на нее через стол:
— Кстати, ты мне напомнила. Глин звонил. Завтра он ждет твоего звонка.
— Какой Глин? — спрашивает она — А… Глин.
Элейн и Глин
Зачем он пригласил ее в ресторан? Почему просто не приехал в гости? И вообще, что ему надо? Элейн подъезжает к парковке отеля «Суон», ищет место, куда поставить машину. Поправляет волосы, смотрится в зеркало. Она не видела Глина сто лет, а уж не обедала с ним и того дольше. «Суон» находится примерно на полпути от нее к Глину — и наоборот. Каждому из них пришлось проехать около шестидесяти километров. Глин произнес отрывисто и деловито: «Спасибо за приглашение, но если не возражаешь… Буду очень рад тебя видеть». И безо всяких дальнейших разъяснений повесил трубку.
И вот она здесь. Войдя в ресторан «Суона» — обитые темным деревом стены, скатерти в красную клетку; в будний день, в обеденное время, здесь совсем мало посетителей, — она обнаруживает, что Глин уже там. Приветствуя ее, он встает, вежливый поцелуй.
— Прекрасно выглядишь, Элейн.
Глин удивлен. Господи, Элейн же под шестьдесят, но ей их не дашь. Правда, ему тоже, раз уж на то пошло.
Она усаживается за столик, решительно критикует сад отеля, который виднелся из окна. Он внимательно ее рассматривает: удачная стрижка, одежда свободного стиля, но не лишенная нарядности. Элейн всегда была присуща некая энергия, и это ему нравилось; она не утратила ее и теперь. Прочие посетители бросают на них заинтересованные взгляды. В других обстоятельствах он бы только радовался тому, что приятно проводит время с женщиной, которую знает много лет. Но он пригласил ее не за тем: у него есть повестка дня — бумаги, тлеющие в кармане; мысли о них отвлекают его от предложенного официантом меню и от вопроса Элейн.
По какому случаю он ее пригласил на обед? Элейн сразу понимает, что Глин чем-то озабочен. Стоит заметить, что необходимо весьма близко знать Глина, чтобы понять это; он всегда был, что называется, «на взводе». Но сегодня определенно что-то произошло. Она чувствует, как он не может сосредоточиться, как он беспокоен. Видно, что даже краткий рассказ о последнем своем проекте дается ему с трудом — уж о чем, о чем, а о своей работе Глин поговорить любит. Так в чем же дело? Может быть, он собрался жениться снова и считает нужным формально уведомить об этом бывшую свояченицу? А что, если его сделали пэром — что ж, он выдающийся ученый, с четкой общественной позицией. Возможно — тут Элейн ощутила внезапный всплеск интереса, — возможно, он снова занимается каким-нибудь проектом и ему опять нужна консультация касательно истории садово-ландшафтной архитектуры, как… тогда. Если это так, немудрено — тема-то востребованная. Сегодня «утраченные сады Великобритании», как никогда, в моде. Прайм-тайм на телевидении и прочее в том же духе. В таком неплохо и самой поучаствовать.
Официант возвращается. Выбор сделан, еда заказана.
— Ник передает привет, — говорит Элейн.
Глин принимается возиться с салфеткой. Намазывает маслом булочку.
— Ну, как твой бизнес, Элейн? Работы хватает?
— Не жалуюсь.
— Хорошо. Счастливая ты женщина, Элейн. Украшаешь ландшафт, а тебе еще за это и платят. В отличие от тех из нас, кто тратит свою жизнь, задавая о нем, ландшафте, вопросы.
— А вам разве не платят?
— И то верно. — Он тянется через стол, чтобы потрепать ее по руке. — Рад, что у тебя все хорошо. Ты заслужила. Ты всегда трудилась, как пчелка.
Для Глина это характерно — тактильный контакт. Приобнять за плечи, тронуть за локоть. Его жест тут же напомнил ей об этом; так он расставляет акценты.
— Да, мне жаловаться грех, чего уж там. Правда, иногда такие клиенты попадаются…
— А… ну это издержки профессии. Капабилити Браун много писал об этом, да и Рептон тоже.[4] Им пришлось иметь дело с высокомерными аристократами восемнадцатого века. Имей в виду, это они исчезнут без следа. Твои творения переживут всех акционерных банкиров или кто там тебе особенно докучает.
Когда подают первое, он все еще рассуждает на эту тему. Рассказывает о некоем местном магнате, который решил устроить искусственный пруд и даже велел выкопать котлован, но потом ему не понравилось то, что получилось, и яму пришлось обратно забрасывать землей. Потом упоминает колоссальные расходы на воссоздание исторических садовых массивов. Элейн уже успела подзабыть, как этот человек умеет вложить максимум информации в несколько слов, как по волшебству извлечь из своей памяти факты, цифры и забавные истории. Конечно, слушать его было приятно, но в его словах ей послышался намек на то, что они собрались в этом ресторане не просто так.
Сейчас Глин толчет воду в ступе. Больше всего на свете ему хотелось бы приступить к делу, думать ни о чем другом он не может, но вежливость велит сначала заводить разговор на отвлеченные темы. Несколько минут болтовни. Необходимая порция «белого шума».
— Удивительно, — говорит Элейн. — Я и забыла, как с тобой интересно. Мне польстило, что ради меня цитируют Рептона и Брауна. Не то, чтобы в последнее время я вырывала пруды, но, думаю, все еще впереди.
И Глин снова принимается разглагольствовать. Нет, это настоящая беседа — каждый отвечает на реплики собеседника, высказывает собственное мнение, иногда оба ссылаются на какой-нибудь инцидент из общего прошлого. Тарелки из-под первого унесли; принесли второе. Пора, решает Глин. Минуты через две — пускай сначала доест.
Элейн принимается рассказывать о Полли. Глин вглядывается в нее, пытаясь сфокусировать свое внимание. Дочь. Да-да, их дочь… «Веб-дизайнер», — произносит Элейн. Глин слегка наклонил голову: дескать, внимательно слушаю.
— Знаешь, чем занимается веб-дизайнер?
Глин разводит руками: понятия не имею.
Элейн кладет вилку и нож на тарелку, вытирает губы салфеткой.
— Полагаю, — сказала она, — что ты себе этого и не представляешь? — Она смотрит на него долгим, испытующим взглядом. — Давай выкладывай. У меня такое чувство, что мы сюда не просто поболтать пришли, так?
— А… — Глин отодвигает тарелку. Что ж, начнем. Внезапно он чувствует, что полностью собран и прекрасно владеет собой. Тянется к карману. — Ты угадала, Элейн.
Элейн видит и слышит, что ее предположения оказались неверны. Дело вовсе не в женитьбе, не в титулах и не в истории садового дизайна. Она начинает испытывать смутное беспокойство.
Глин что-то протягивает ей. Фотографию. И нацарапанную на клочке бумаги записку. Сперва она смотрит на снимок. Долго, пристально. Потом читает записку.
И молчит. Просто держит их в руках — в одной фото, в другой бумажку, — смотрит то на одно, то на другое… и молчит. Потом бросает взгляд через столик, на Глина.
— В папке, в книжном шкафу, — говорит он. — Наверное, лежали там с тех пор, как она… ну, с тех самых. Вот в этом. — Он подтолкнул к ней лежавший на столе конверт с надписью.
— Не открывать. Уничтожить, — читает Элейн.
— Так-то, — говорит Глин. — Вот, собственно, и все. — Он пристально наблюдает за ней.
Элейн снова смотрит на фотографию. Происходит что-то странное — с ней и с теми, кого она видит на снимке. Людьми знакомыми и в то же самое время странно чужими. Точно Кэт и Ник в одночасье превратились во что-то ужасное. Точно кто-то бросил камень в неизменную спокойную гладь прошлого, и она пошла рябью, а когда волнение улеглось, отражения совершенно изменились. Все расшаталось, разбилось и не подлежит восстановлению. Что казалось одним, стало совсем другим.
— Или, может быть, ты знала? — спрашивает Глин.
— Нет, не знала. Если, конечно, было о чем знать.
— Ну, а как еще это выглядит?
Элейн видела достаточно. Руки. Почерк, язык. Она убирает фотографию и записку обратно в конверт.
— Это выглядит как… именно так это и выглядит. И нет, я не знала.
— В таком случае, мне очень жаль. Значит, для тебя это стало таким же потрясением, как и для меня. А то я уже начал думать, что я один ничего не знал.
На это Элейн ничего не ответила. Рябь стала рассеиваться; отражения сделались четче. Но не яснее: уродливей, искаженней, обманчивее.
— Когда была сделана фотография? Где вы все находитесь?
— Скорее всего, в конце восьмидесятых… году в восемьдесят седьмом — восемьдесят восьмом. Это римская вилла в Чедворте. Уже и не помню, отчего мы решили поехать именно туда. Мэри Паккард тогда ездила с нами. И ее тогдашний мужчина. Помнишь Мэри? — Элейн говорит медленно. Она предпочла бы молчать.
Глин отрицательно качает головой. Ему нет дела до Мэри Паккард.
— Кто еще был с вами? Кто сделал фотографию? И отдал ее Нику?
Какое-то время Элейн молчит. Наконец произносит.
— Оливер.
Оливер. Уже когда она произносит это имя, Оливер распадается на две части и снова собирается в единое целое — спустя долю секунды, в единый всеразрушающий момент. Он тоже становится кем-то другим. Оливер, каким она его помнила последние десять или пятнадцать лет, распадается на части — на его месте появляется новый, другой Оливер, которого она не знает. И никогда не знала.
— Ясно. Вот, значит, кто. Славный, надежный старина Оливер. И явно все знал.
У столика вновь маячит официант с меню в руках — будут ли гости заказывать десерт? У Элейн такое чувство, будто она только что упала с большой высоты и теперь осторожно проверяет, не сломала ли чего.
— Нет, больше ничего, — говорит она. — Только кофе.
Ну и бог бы с ним, с Оливером, думает Глин. До него я еще доберусь. Главное, теперь нас уже двое. Он осторожно косится на Элейн — новость шокировала ее, это было видно по лицу, но коллапса не случилось. Элейн вообще не из тех женщин, кто, услышав подобное, с ревом выскакивает из комнаты.
— Прости, — говорит он. — Это удар, я знаю. Сам несколько дней отходил. Не то чтобы сильно помогло.
— Помогло чему? — Скорее это был не вопрос, а намек. Говори, думает Элейн. Говори и дай мне подумать. Перевести дух и спокойно оценить ситуацию. Я в порядке — думала, что будет хуже.
— …главное — то, что теперь все, наверное, стало не таким, каким казалось раньше, — говорит Глин. — То, что мы думали о людях, которые нас окружали, ошибочно. Что мы не знали очень важного: того, что у твоей сестры — моей жены — в какой-то момент были явно интимные отношения с твоим мужем, если вкратце. Внезапно все стало видеться в другом свете.
— Некоторые предпочли бы вовсе не смотреть, — заметила Элейн.
— К сожалению, для меня это невозможно. А для тебя?
Пауза. «Наверное, тоже».
— Терпеть не могу недоразумений. Когда все подвергается сомнению. Во всяком случае, я так считаю. Все.
Он вдруг умолкает. И понимает, что не желает продолжать эту мысль. Он вовсе не собирался бить себя в грудь на публике, что вы? У этой встречи была иная, практическая цель, и теперь она достигнута. Он узнал то, что хотел. Или скорее начал узнавать то, что хочет узнать. Тут ему в голову приходит другая мысль.
— Это профессиональное, должно быть, — подогнать действительность под свод правил. Нам ужасно не нравится, когда нарушается статус-кво. Внезапно выясняется что-то новое, какая-то важная деталь — и вся идеально выстроенная картина истории рассыпается. Возьмем радиоуглеродный анализ. Калибровочная кривая углерода-14 и процесс датирования. Раньше составили такую прекрасную хронологию, что происходило одновременно с чем, хронологию, запечатленную на каменных табличках, и вот появляется дендрохронология,[5] и стройная система рассыпается в прах. Стоунхендж оказывается старше пирамид, эпоха неолита протекала не в то время, в какое считалось, что она протекала. Выбросьте из головы все, что знали до этого. Подумайте еще раз. — Он вопросительно смотрит на Элейн: — Ты слышала о радиоуглеродном анализе?
— Постольку-поскольку.
— Новейшая история не так этому подвержена. Тут скорее вопрос о постоянном разгребании праха. Различные интерпретации. Споры. Тут риск начать с нуля гораздо меньше. Древняя история — вот где сущие зыбучие пески. Минное поле. То есть ничего святого. Всегда есть вероятность, что отыщется новая важная улика, — и линия ворот сдвинется. Засушливое лето тысяча девятьсот семьдесят пятого года позволило сделать кадры аэрофотосъемки, на которых обнаружились четкие очертания ранних поселений на галечниковых насыпях в южных графствах — до этого никто не подозревал об их существовании. Таким образом, предполагаемую численность населения страны в доисторическую эпоху пришлось срочно пересчитывать заново. Понимаешь, о чем я?
— Понимаю. Ты только сейчас понял, что тебе придется целиком пересматривать собственное прошлое.
Глин пристально смотрит на нее:
— А разве тебе не придется?
Приносят кофе. Одновременно с этим оба понимают, что появляется кто-то третий. Приходит Кэт. Точнее, несколько ипостасей Кэт. Кэт Глина почему-то сидит на крыше узенькой лодки — рукав Гранд-Юнион-канала где-то в Нортхемптон-шире. Сидит, обхватив руками ноги в тряпичных туфлях на веревочной подошве, потертая соломенная шляпа обвязана по тулье ярко-голубой лентой. А он что делает? Правит лодкой, очевидно, Кэт так и не научилась этому; он смутно припоминает, что в тот уик-энд с ними была еще одна пара, но в тот момент, который воскрес в его памяти, их не было рядом. Кэт сидит одна и смотрит на детей, бегущих вдоль бечевника. Совсем маленьких детишек — странно, что он тоже их замечает. Кэт наблюдает за детишками, а он, Глин, очевидно, рывком выкручивает руль в ожидании очередного шлюза, тогда как Кэт думает о чем-то совершенно другом.
Элейн же видит несколько разных воплощений Кэт. Кэт теперь вышла из-под контроля, ее нельзя отослать прочь усилием воли. Она постоянно присутствует рядом, точно так же, как было в детстве, — точка, постоянно мелькающая где-то у самой границы поля зрения. И не обращать на нее внимания совершенно невозможно. «Я здесь, — словно бы говорит она. — Была здесь. Посмотри на меня».
И Элейн смотрит. Она видит новую Кэт, окрашенную тем, что она, Элейн, только что узнала. Эта Кэт сердит ее — сердит, выводит из себя, разочаровывает. Вместе с тем она озадачена и не до конца верит в случившееся. Почему? Почему именно Ник? Кэт же почти не замечала Ника. Или… считалось, что не замечала. Для Кэт Ник являлся просто частью окружения, не более того. Знакомым и неизбежным — мой муж. Но, очевидно, все это время… или часть времени.
Элейн вспоминает тот день, когда была сделана фотография. В короткий промежуток времени, когда размешивает кофе, кладет ложечку, подносит чашечку к губам, делает глоток и ставит ее обратно на блюдце. Она вспоминает события того дня, час за часом. Но вспоминать-то особо и нечего — кажется, большая часть того, что было, забылась безвозвратно. Она видит аккуратно отреставрированные развалины, выложенный мозаикой пол, в застекленной раме — фрагмент цемента, положенного еще римлянами, с отпечатком лапы некого римского пса. Видит Кэт — та идет к ним на парковке, а позади нее — Мэри Паккард и ее друг; очевидно, они встречались уже на месте. Как они договорились здесь встретиться и почему, она припомнить не может, но предположить, как все было, вполне можно. Позвонила Кэт: «Слушай, мы тут с Мэри придумали… да, да, завтра или никогда… разумеется, вы можете бросить все, вы оба, и Оливера с собой захватите». И постепенно всплывает в памяти сам пикник: вот Ник роется в сумке-термосе, поднимает на нее глаза и спрашивает: «Милая, а у нас не осталось фруктов?»; вот Мэри Паккард и Кэт облокотились на заграждение, окружающее мозаику, и над чем-то смеются. Мужчину, с которым была Мэри, Элейн успела забыть окончательно — она не может припомнить ни его имени, ни того, как он выглядел, просто присутствовал, и все. Зато Мэри Паккард отчетливо слышно и ясно видно — давняя задушевная подруга Кэт, единственная неизменная составляющая кружка людей, вращавшихся вокруг сестры. Короткие курчавые волосы, очень эмоциональная, гончар по профессии.
Глин пытается вспоминать те годы, но без особого успеха. Вооружившись ручкой и бумагой, он справился бы лучше, но сейчас, конечно, не до этого. Чем он занимался в восемьдесят седьмом — восемьдесят восьмом? В каком году — в том или в другом — он провел почти все лето на севере страны? Надо будет установить четкие временные рамки. Здесь Элейн ему не помогла. Она не знала о романе — значит, мысль о том, что только он один пребывал в неведении, а все прочие знали и либо ехидно насмехались за спиной, либо жалели, больше не будет его беспокоить. Она не знала, но другие наверняка. Оливер уж точно. Что ж, он доберется и до Оливера, всему свое время. Сейчас же надо действовать по плану.
— А когда именно — в восемьдесят седьмом или восемьдесят восьмом?
Элейн ставит на блюдце кофейную чашечку. И молчит, уставившись на стол. Обдумывает ответ, не иначе. Но нет.
— Разве это важно? — спрашивает она.
— Для меня — да.
Она пожимает плечами:
— Когда-то тогда.
— А точнее не вспомнишь?
— Нет.
— Господи, ну Элейн…
— И не надо со мной так разговаривать.
Он сразу же извинился:
— Прости. Прости, прости. Послушай, я вовсе не хотел тебя обидеть. Я зол на… на то, что, по всей вероятности, произошло.
— Злиться на то, что случилось давным-давно, бессмысленно, — замечает Элейн.
Более того, думает она, давай начистоту — у нас с тобой вовсе нет «общей причины» для раздражения. Конечно, мы оба заблуждались, и оба имеем право сердиться, но это все. Следующий шаг каждого из нас — его или ее личное дело.
— Почему Ник, спрашивается? — От раскаяния не осталось и следа; осталась настойчивость.
— Да уж, почему?
— А если Ник, то кто еще?
— Думаешь, это разумно?
— Что — разумно?
— Задавать вопросы.
— Нет, наверное. Но что еще я могу сделать?
Она смотрит ему в глаза:
— Ничего?
— Я не из тех, кто не стал бы ничего делать. Я вынужден задавать вопросы. А ты бы смогла сидеть сложа руки?
Она склоняет голову набок. И не удостаивает его ответом.
— Мне очень жаль, что пришлось посвятить тебя в это.
— Строго говоря, мне вовсе не обязательно было об этом знать.
Реплика имеет эффект. Угрызения совести — и в то же самое время вызов.
— Хорошо, хорошо. Ты права. Но ведь ты вполне могла оказаться на моем месте.
— И тебе непременно надо было знать: было ли мне обо всем известно?
Значит ли это, что он переложил бремя со своих плеч на ее? Непонятно. Теперь он уклоняется от прямого ответа.
— Как бы то ни… Вот, собственно. Что есть, то есть.
— Было, — поправляет Элейн.
— По мне, большая разница. Если здесь вообще можно говорить о разнице.
Немного подумав, она признает его правоту.
— Может быть. Но вопросы ничего не изменят. Скорее усугубят положение.
— Что ж, усугубят — так усугубят, — соглашается Глин.
Целеустремленность — или упрямство? Нависает пауза: очевидно, оба взвешивают сказанное только что. Элейн заговорила первой:
— Полагаю, на ум должен прийти еще один вопрос.
Глин напряженно ждет продолжения: что-то в ее тоне насторожило его.
— Кэт знала?
— Знала о чем? — Глин уклонился от ответа. Хотя оба прекрасно знали, о чем она.
Элейн слегка пожимает плечами и холодно глядит на него.
— Ну, знать-то там было особо нечего, так ведь? — Глин поднимет брови в знак протеста, удивления или чего бы то ни было.
— Может, и нет, — согласилась Элейн. — Но она знала?
— Нет. Понятия не имела.
Элейн принимается размышлять и приходит к выводу, что это, по всей видимости, правда. Между ними воцарилась тишина. Случилось что-то важное, нарушено некое табу.
— Так давно, — говорит Глин. Он избегает смотреть ей в глаза. — Господи, обязательно было вспоминать об этом? Дела давно минувших дней, и мы, кажется, уже давно это поняли.
Да уж, действительно давно. Но не настолько, чтобы забыть, думает Элейн, в том-то все и дело. В конце концов, мы оба в этом замешаны, и ничего не попишешь. В известной степени. Она пристально смотрит на Глина: самой удивительно, что когда-то она так страстно увлеклась этим человеком.
Глин испытывает схожие чувства. Мысленно они переносятся совсем в другое время — во время Беллбрукского проекта. Как будто не было тех восемнадцати лет — они смотрят друг на друга как в первый раз.
Элейн видит грязную пустошь, опоясанную вагончиками; то там, то сям стоят бульдозеры и лежат груды кирпичей и сложенные штабелями доски. Он рассматривает аэрографию того же самого места до вторжения тяжелой техники — с рисунком линий и впадин, много говорящим опытному глазу; потом передает аэрографию ей. Она видит съемочную группу с телевидения, приехавшую снять то, что осталось от сада при исчезнувшем ныне особняке эпохи Якова I, обнаруженном при строительстве нового жилого массива. Более же всего она обращает внимание на ведущего телепередачи, съемки которой, собственно, и велись, — симпатичного общительного человека. Ей сказали, что он — ландшафтный историк; раньше она и не слышала о подобной профессии.
Глин видит, что у находки — большой потенциал. Он поднимается в кабину строительного крана — предполагалось, что оттуда он будет зачитывать начальный текст, а камера в это время будет отъезжать, чтобы снять вид с высоты птичьего полета на очертания исчезнувшего сада, что растворялись в лабиринте пригородных тупичков и поворотов. И от комментариев к последующим кадрам он переходит к консультации с ней — консультантом по истории садового дизайна, приглашенным пролить свет на видимые следы прежнего ландшафта. «Вот здесь определенно был цветник, — говорит она. — И, сдается мне, вдоль этой оси пролегала главная аллея сада…» Он делает шаг к ней, протягивает руку: «Глин Питерс. Очень рад, что вы согласились нам помочь. Скажите…»
И она рассказывает. Достает карандаш и лист бумаги и начинает набрасывать предполагаемый дизайн давно исчезнувшего ландшафта. «Предположим, что данный участок ландшафта дополнялся участком идентичной структуры по другую сторону центральной дорожки сада, как оно, похоже, и было… тогда выходит, что он простирался еще как минимум на двести метров, и большая его часть уже застроена. Убеждена, что здесь присутствовали какой-нибудь водоем и фонтан…» Глин не спускает с нее глаз. Она ему нравится. Что-то в ее глазах, в линии губ. Определенно, эта женщина заинтересовала его. Он чувствует прилив энергии. Кладет ладонь на ее руку: «Превосходно. Слава богу, что вас пригласили. Послушайте… что, если мы сходим в паб, когда съемка закончится, — там мы сможем поговорить спокойно».
Он говорит. Отличный собеседник — умеет развлечь и воодушевить. Устроившись в пабе на главной улице какого-то городка, он принимается вспоминать забавные случаи, происходившие на съемочной площадке, увлекательно рассуждает о системе землепользования и проезжих дорогах — во всяком случае, так ей тогда казалось. Элейн припоминает, как восхищала ее смесь энтузиазма и широты познаний. Вот человек, который знает свое дело. И валлийский акцент ему очень идет.
Так что к тому моменту, когда они вернулись на съемочную площадку, между ними успело установиться взаимопонимание определенно большее, чем требуется для короткого делового знакомства. Глин интересуется, можно ли поспрашивать ее об истории садово-парковой архитектуры и ландшафтного дизайна; Элейн обнаруживает, что нисколечко не возражает. Они обмениваются адресами. «Вы замужем?» — интересуется Глин. «Конечно, — быстро отвечает она. — Вы ведь тоже женаты, так?» Он смеется: «Вообще-то нет».
Начинается съемка. Глин начинает рассказ, стоя в кабине строительного крана; поровнявшись с землей, он принимается мерить шагами стройплощадку, где пока царит разруха, и расписывать красоты, имевшие здесь место быть в прошлом столетии. Рассказывает о фигурно подстриженных деревьях и кустарниках, фонтанах, посыпанных гравием дорожках. Между дублями он болтает с Элейн: «Вы волшебница! Благодаря вам я заново открываю для себя текст». Элейн заинтересованно и даже зачарованно наблюдает за происходящим. Какие встречи с клиентами сравнятся с этим, думает она.
Несколько недель спустя, как они договаривались, Элейн снова встречается с Глином. Ему ужасно хочется показать ей заброшенную усадьбу в Нортгемптоншире, недавно обнаруженную им самим. Ей пришлось проехать до места не один километр; Нику она почему-то уклончиво объяснила, что собирается на встречу с поставщиками торфа. Глин и Элейн пробираются на территорию усадьбы, перебравшись через потрескавшуюся стену и продравшись сквозь заросли ежевики, со смехом и шутками. Когда Глин обнимает ее обеими руками за талию, чтобы помочь спрыгнуть со стены, она вдруг понимает, что, если представится возможность, она изменит мужу — в первый раз за все время супружества.
Все к этому шло. Без всякого сомнения. Вопрос стоял даже не так; не «если», а «когда» — когда представится случай, чтобы неявный интерес с ее стороны сменился согласием. Ей с самого начала показалось, что Глин не из тех, кто станет сдерживаться. И она понимала: когда представится тот самый случай, она тоже не станет. Теперь сама мысль об этом повергает ее в шок. Такое ощущение, что это другая женщина когда-то могла так желать этого человека. Более того, удивительно, но все последующие годы знакомства она больше никогда не рассматривала Глина в подобном качестве. Точно он утратил все свое очарование, стоило ему начать встречаться с Кэт.
Они встречались еще несколько раз. Два? Три? Если и больше, то ненамного. И непременно в контексте посещения какого-нибудь особенного места Мэйден-касл: они карабкаются по поросшим травой защитным валам, он подает ей руку, чтобы поддержать на крутом уступе, между ними точно пробегает электрический ток. Вот они на древнем каменном мостике над речушкой — облокотились на перила; Глин что-то говорит. Она больше не слышит ни слова, но все еще видит его лицо, когда он оборачивается к ней, прекращает говорить, обнимает ее за плечи, целует в губы. Она чувствует прикосновения его языка.
Но он ведь бывал и у нее дома. Если бы не… Если бы он не приходил к ней в гости, этого злополучного совместного обеда могло бы и не случиться, думает Элейн.
Глин приходит к Элейн домой. Он хочет посмотреть книгу, о которой рассказывала Элейн, — мол, там есть старинные фотографии земель вокруг Бленхеймского дворца. Когда он напросился в гости, Элейн еще подумала: он мог найти эту книгу в любой библиотеке. В тот день, когда Глин явился к ней, Ник — чисто случайно — куда-то отлучился, и Полли конечно же была в школе. Глин и Элейн проводят не один час в обществе друг друга — обедают, беседуют, рассматривают те самые, так удачно подвернувшиеся, фотографии. И снова между ними пробегает тот самый электрический ток — напряжение растет, становится все сильнее. Воздух искрится от предчувствия того, что могло быть… что может быть.
И отчего-то Глин не уходит, а остается до вечера. Возвращается из школы Полли, приходит Ник, который, по своему обыкновению, легко относится к неожиданным визитерам. Элейн занимается ужином, и тут дверь распахивается, и на пороге появляется Кэт — она любила неожиданно нагрянуть в гости, никого не предупредив.
Вечер продолжается в самой непринужденной атмосфере. Ник весел и оживлен. Глин попросту блистает. Он часто оборачивается к Кэт. И когда он наконец уходит, Кэт уходит вместе с ним. Он предложил подвезти ее до станции.
Элейн стоит у окна и смотрит на удаляющиеся огоньки фар автомобиля Глина. И думает: ну, вот и все. Стоило ему только взглянуть на нее. Собственно, ничего удивительного.
Голос Глина возвращает ее за столик ресторана, к делам дня сегодняшнего. «Это к делу не относится», — с нажимом говорит он.
Она смотрит на него.
— Если ты хочешь сказать, что Кэт связалась с твоим мужем только потому, что сто лет назад мы с тобой… посматривали друг на друга… то я скажу тебе вот что: она и понятия не имела. Совсем. Я ей ничего не говорил.
Он уставился на нее в ответ — и в его взгляде она прочла вызов.
— И я не говорила, — парирует Элейн. — Хорошо, значит, она не знала. Я просто подумала: надо же, какая симметрия.
О господи, думает Глин. Нашла о чем вспомнить. При чем тут это? И потом, какая, к черту, симметрия? Помнится, я ее даже пальцем не коснулся. К тому же все закончилось задолго до того, как я женился на Кэт. Мы и не вспоминали об этом после. Так зачем она мне напомнила? Ведь и речи не шло о том, чтобы… Он украдкой смотрит на нее, но ему кажется, что в выражении лица Элейн больше сдерживаемой неприязни, нежели скрытого интереса.
На самом деле пустой взгляд Элейн объяснялся скорее не неприязнью, а тем, что думала она совсем о другом. Она размышляла о собственном положении. В течение последнего часа ее воспоминания о прошлом подверглись сомнению, и трое близких людей оказались совсем не теми, за кого она их принимала; тем не менее она с удивлением обнаружила, что нисколько не чувствует себя униженной, но преисполняется мрачной решимостью. Глина тут же становится слишком много.
— Моя дорогая Элейн, — произносит он в это самое время, — на самом деле утекло много воды… — Умиротворяющая улыбка. — Мы оба знаем об этом. Не то чтобы я никогда тебя не любил. Но это никоим образом не влияет на… то, о чем мы говорим. — Он меняет тактику. — Это может показаться… словом, доказательства предполагают многое. Но только один человек теперь сможет рассказать нам, что именно произошло.
— Значит, ты собираешься разговаривать с Ником? — ледяным тоном спрашивает Элейн.
— А зачем? Ник теперь — твоя забота, делай с ним что хочешь.
И то правда, думает Элейн. Но ты ведь этого так не оставишь, верно?
Глин пялится на нее. Взгляд у него глубокомысленный и сосредоточенный — она помнит этот взгляд, точно с таким же он детально излагал какую-нибудь новую научную теорию или рассказывал о том, над чем работал в тот или иной момент. Он не отвечает.
Глин обнаруживает, что по какой-то странной причине Ник для него совсем не важен. Сперва ему, конечно, хотелось найти его и врезать как следует, но теперь гнев уступил место равнодушию. Его куда больше интересует Кэт, нежели Ник.
Ресторан опустел. У выхода сгрудились официанты.
Элейн складывает салфетку и кладет ее на стол. Глин приподнимает бровь, и к нему тут же подлетает внимательный официант. Приносят счет.
— Ну что, — говорит она. — Спасибо за обед.
Он корчит гримасу:
— Жаль, что при таких обстоятельствах.
— Кажется, они были предрешены давным-давно.
Вот только это не совсем так. Фотография могла остаться лежать в шкафу под лестницей, в кипе неразобранных бумаг; Глин мог найти ее, но решить не распространяться. В ее голове прокручиваются альтернативные сценарии — важные сами по себе, но теперь совершенно не относящиеся к делу. Мне все известно, думает Элейн, и ничего не попишешь. Придется с этим жить и принимать решения.
— И последнее, — говорит Глин. — Можно мне нынешний адрес Оливера?
Оливер
Глин?
Оливер не видел Глина сто лет. Он редко вспоминал о нем, разве что на подсознательном уровне — так мы внезапно вспоминаем людей из прошлого и так же быстро забываем и думать о них.
Но вот он, Глин, собственной персоной, материализуется в офисе, вызванный к жизни короткой репликой Сандры:
— Звонил некий Глин Питерс, оставил номер. Перезвони ему, пожалуйста.
— Хорошо, — говорит Оливер.
Сейчас он ясно видит Глина: скуластое лицо, копна густых темных волос. Слышит его голос с легким валлийским акцентом. Напористый, самоуверенный, но всегда обаятельный. Заговаривал с тобой тоном лектора, но ты слушал.
Что-то в интонации Оливера, должно быть, насторожило Сандру.
— Кто такой Глин Питерс?
— Глин-то? — будничным тоном переспросил Оливер. — А… Глин был свояком Элейн. Ну… Элейн, жены Ника, мы когда-то вместе работали. Не представляю, что ему могло понадобиться.
И ведь правда, не представляет.
Сандра мгновенно цепляется к словам — это у нее профессиональное.
— Был?
— Кэт… умерла. — Он утыкается в монитор. — Надо будет с тобой обсудить макет новой обложки для «Феникса».
— Хорошо, — деловито соглашается Сандра. — Давай прямо сейчас, если хочешь. — Его слова вернули ее в трудовые будни и вновь заставили думать о дизайнерских решениях для журнала, издаваемого выпускниками одного оксфордского колледжа.
Четкость и ясность — вот наше кредо, думает Оливер. Не без гордости, надо заметить. Точность до мелочей. Каждая точка, каждая запятая на своем месте, каждый параграф с аккуратным отступом. Если в каком-нибудь из напечатанных им изданий обнаружится опечатка, он ночь спать не будет. Еще никогда в жизни он не был так доволен собой. Настольные издательские средства изобрели для таких, как он. Никакой возни с редакторами и прочими, да и маркетинг и распространение — уже не твоя головная боль. Просто берешь заказ у клиента и выдаешь безукоризненный продукт. Он обожает экран компьютера, на котором и создается вся эта точность: любит умную и податливую технологию, преклоняется перед чудесной возможностью перемещать строчки и буквы в самых разных направлениях. Он всегда неохотно поручает работу другим и придирчиво проверяет и перепроверяет сделанное и самыми надежными сотрудниками. Даже, надо заметить, самой Сандрой, а они с ней очень схожи. Когда они остаются вдвоем, каждый у экрана своего компьютера, каждый поглощен в работу, Оливер знает, что Сандра испытывает удовольствие сродни тому, что ощущает он сам, — удовольствие от создания и компоновки текста, расположения заголовков и сносок. Получает такой же кайф. Почти как в сексе, думается ему.
Наверное, потому-то они и сошлись, деловые поначалу отношения переросли в нечто большее, так что теперь они вместе и днем, и ночью — союз двух друзей, приятное супружество. Оливер считает Сандру скорее другом, нежели любовницей. Лучшим другом. Другом, с которым можно заняться любовью в огромной кровати собственного, первого в жизни, дома. Больше никаких задрипанных квартирок. И пустых холодильников, где в лучшем случае тихо плесневеет огрызок сыра и киснет полбутылки молока. Всегда под рукой чистые рубашки, запасные лампочки и рулон туалетной бумаги.
Оливер никак не может оправиться от ощущения, что их теперь двое, — он довольно поздно обзавелся подругой. После долгих холостяцких лет, периодических вялых ухаживаний за какой-нибудь барышней, периодов одиночества, кстати, не сказать, чтобы особенно несчастливого. Постоянная партнерша для секса и в самом деле роскошь, хотя, говоря по правде, прежний пыл у них обоих слегка поутих. Веселая, разнузданная возня осталась в пусть и недалеком, но прошлом. Однако, в любом случае, не похоть стала движущей силой его растущего интереса к Сандре. Скорее чувство близости и одобрения — и вместе с тем осознания того, что да, неплохо бы было заняться с ней любовью.
И вот, в один прекрасный день, он коснулся пальцем колена Сандры; она, как обычно, уселась за свое кресло, держа спину идеально прямо, юбка ее поднялась, явив обтянутую нейлоном колгот коленку. «Я вот тут подумал, почему бы нам не…»
И Сандра не влепила ему пощечину, не выскочила из комнаты. Сделав какое-то исправление на экране монитора, она обернулась и посмотрела на него. «Если честно, — ответила она, — я тоже об этом думала».
Сандра совсем не похожа на тех, за кем он, бывало, приударял в свое время — длинноволосых блондинок с ногами от ушей. Она полногруда, с мускулистыми икрами. Лицо у нее немного плоское — такое впечатление, что все его черты располагаются на одной плоскости; большие серые глаза и тонкогубый рот. Аккуратная стрижка, в темных волосах — седые прядки, ей идет этот серебряный отблеск. Она проворна, всегда спокойна и хладнокровна. Оливер не припомнит ни одного случая, чтобы что-либо или кто-либо привел ее в полное замешательство. Крайне важное качество для делового партнерства и, как он понимает теперь, для тихой семейной жизни. В холодильнике всегда есть еда, счета оплачены, страховка в порядке.
Собственно говоря, Сандра совсем не похожа на тех людей, в кругу которых ему раньше приходилось вращаться. Совсем не похожа на Ника. Как деловые партнеры Сандра и Ник точно явились с разных планет. Она не такая, как Элейн.
И совсем не похожа на Кэт. Уж точно не на Кэт.
Как будто от нее это требуется, думает Оливер.
Оливеру доводилось общаться с самыми разными людьми. Довольно большую часть из которых составляли девушки, он пытался ухлестывать за ними, но никогда особенно не увлекался. Время от времени он водил их куда-нибудь, а потом они, как правило, уходили к кому-нибудь более настойчивому. С остальными он время от времени встречался, чтобы пообедать или пропустить по стаканчику. Кто-то остался с тех времен, когда они с Ником были партнерами. Ник и Элейн. Из-за рода их деятельности круг их общения стал чрезвычайно широк; в доме всегда были люди — те, кто, по мнению Ника, мог бы помочь в составлении какой-то из книжных серий, и он в порыве энтузиазма пригласил их к себе — бильд-редакторы, фотографы, дизайнеры. Временные помощники — нанимал их обычно Ник, а Оливер через некоторое время, когда выяснялось, что денег на зарплату сотрудникам совсем мало, вежливо увольнял. Под личный кабинет Оливера приспособили сарай, прилегавший к дому, а жил он в замызганной квартирке в ближайшем городке. В своем кабинете он занимался рутинной стороной издательского процесса, которая так утомляла Ника: переговорами с типографами, распространителями, бухгалтерами. А в доме тем временем царило веселье. Ник появлялся в сарае редко, тогда как сам Оливер был частым гостем в доме — его то и дело звали, чтобы познакомить с очередным гениальным фотографом или талантливым писателем. Много часов он провел за кухонным столом — за обменом идеями над бокалами из дешевого красного стекла. Элейн часто присутствовала при подобных обсуждениях, тут же возилась Полли, совсем малышкой на детском стульчике, на его глазах она училась ходить, потом пошла в школу. Иногда приходила и Кэт.
Оливер не принимал особенного участия в жарких творческих спорах за кухонным столом. Если требовалось, он мог быстренько подсчитать что-нибудь, а если обсуждаемый проект казался ему совсем уж запредельным, вежливо напоминал о затратах и перспективах. Но не особенно настаивал: он быстро понял, что надо попросту поговорить с Ником немного позже — вполне может статься, что от былого энтузиазма не останется и следа. К тому же Оливеру эти сборища нравились. Нравились кокетливые барышни с папками рисунков, время от времени он пытался волочиться за какой-нибудь из них. Впечатляли знатоки того и спецы по этому — как раз те самые авторы, которых им не хватало… или не те. Он четко понимал собственную роль: ласковый «голос разума», практичный Оливер, который, как никто, умеет справляться со скучной бумажной работой и может расставить все по местам. Но порой казалось, что он тоже обрел «защитную окраску», тоже стал принимать активное участие в творческом процессе. Вносить скромный, но необходимый вклад в составление грандиозных планов. Вносил его самим своим присутствием, тем самым становясь неотъемлемой частью того кружка, что собирался за кухонным столом в доме Элейн, тогда как многие другие приходили и уходили. Какое-то время он встречался с девушкой-дизайнером, которую нанял Ник. И подружился с человеком, знавшим все-все о ветряных мельницах. Его непременно приглашали на воскресные сборища за обедом, как запасной водитель он приходился весьма кстати, когда вся компания отправлялась куда-нибудь на экскурсию или пикник. Тогда жизнь кипела ключом: рискованные начинания, заманчивые проекты, новые люди, которых находил вездесущий Ник. Оттого, наверное, Оливеру и изменил присущий ему прагматизм, потому он и не заметил угрожающих признаков краха, а когда спохватился, было уже поздно. И в один прекрасный день он принялся считать, высчитывать и пересчитывать, подыскивая в расчетах даже не спасательный круг — соломинку, за которую можно было ухватиться, но тщетно.
«Боюсь, я снова вас подвел», — отчего-то он сказал это Элейн, не Нику. И до сих пор помнит, как подивился спокойствию, с которым она воспринимала происходящее. Ее муж вот-вот станет банкротом, а она ничего, бодра и весела. «Мы справимся, — сказала она тогда. — У меня есть кое-какие планы. А что будешь делать ты, Оливер?»
И у него планы имелись. Он четко понял, чем хочет заниматься, в тот самый момент, когда стало ясно, что издательскому дому «Хэммонд и Уотсон» пришел конец. Он вполне освоил компьютер, ему это нравилось. Ловко увильнув от ответа на предложение Ника о дальнейшем сотрудничестве, он занялся собственными делами и скоро отдалился от него. Порой он вспоминает о тех годах с чувством легкой ностальгии, но по большей части наслаждается вновь обретенной уверенностью и тем, что может полностью контролировать ситуацию. Безупречная работа и безупречное состояние банковских счетов приносят ему колоссальное удовлетворение.
Сандра почти ничего не знает ни о Нике, ни о Элейн. А о Кэт и того меньше. Она в курсе, что раньше Оливер занимался издательским делом в классическом смысле слова и что его партнер был душой и идейным вдохновителем предприятия, правда, с чересчур буйной творческой фантазией — из-за него издательство в конце концов и прогорело.
Оба — и Сандра, и Оливер — предпочитают не распространяться о своем прошлом. Сандра в разводе, но Оливер не в курсе того, как, когда и почему это случилось. «Было и прошло, — быстро говорит Сандра. — А раз прошло, то и хватит об этом». Точно так же она не настаивает и на том, чтобы Оливер рассказывал ей о своем прошлом. Между ними существует негласное соглашение: каждый когда-то жил другой жизнью, и для столь позднего союза жизненно необходимо уважительно относиться к нежеланию партнера рассказывать о ней. Оливер обнаруживает, что прошлое Сандры ему совсем неинтересно. Конечно, здесь есть повод задуматься: а нет ли тут нездоровой отчужденности? Но он напоминает себе о достоинствах Сандры и о том, почему с ней так легко и удобно: она прекрасный работник, невозмутимый человек и отличная хозяйка. У нее неплохая фигура — вполне себе сексапильные, но не откровенно провоцирующие формы. Она лихо водит автомобиль; сам он разлюбил сидеть за рулем. И мясо по-французски она готовит так, что пальчики оближешь.
А раз так, то и зачем ему знать о прошлом Сандры?! Детский сад, да и только. Ему же не восемнадцать лет, в конце концов.
Да и сама Сандра не спешит задавать вопросы. Лишь иногда в ее голосе слышатся нотки подавляемого любопытства. К примеру, когда она находит в одной из книг Оливера дарственную надпись: «С днем рождения! С любовью, Нелл».
— Наверное, какая-нибудь твоя бывшая. — Сказано с нажимом, но утверждение, а не вопрос. Больше она к этому не возвращалась.
Ник и Элейн Сандру, по всей видимости, не интересуют совсем. Издательство прогорело, Оливер занялся другим. Кажется, Сандре этого достаточно.
Теперь знакомых у Оливера поубавилось. Почти со всеми, с кем общался во времена издательского дома «Хэммонда и Уотсона», связь утрачена. Со своими нынешними клиентами он общается не так близко; большинство из них он и в глаза-то не видит, они так и остаются голосами по телефону или отправителями факсов и электронных писем. Иногда они с Сандрой приглашают кого-нибудь на ужин — другую семейную пару. Он понимает, что зажил супружеской жизнью — вступил наконец в этот закрытый клуб, у дверей которого отирался все свои холостяцкие годы. Если у тебя есть пара, тебе всегда есть с кем сходить на прогулку или в кино. Одинокие вечно болтаются сами по себе, бесцельно; те же, у кого есть пара, всегда целеустремленны. Время от времени он с тоской вспоминает о холостяцкой жизни — у нее были свои преимущества.
— Кэт? — спросила Сандра.
Оливер, вздрогнув от ее неожиданного замечания, навостряет уши. Только что он преспокойно занимался любимым делом, нескучной рутиной, думал о своем; пальцы его парили над клавиатурой легко и свободно. Он прекращает печатать и оборачивается к ней.
— Сестра. Как она выглядела?
Сандра пристально смотрела на него — так смотрит охотничий пес, учуяв добычу и сделав стойку. Точно так же она смотрела, когда выбирала мясо в магазине или разрабатывала дизайн обложки.
А как выглядела Кэт? Оливер приходит в замешательство. С чего начать, чтобы рассказать о том, как выглядела Кэт?
— Ну, она… — начал было он. — У нее были темные волосы. Не очень высокая.
— Я как-то видела фотографию в конверте, в ящике твоего письменного стола. Обратила на нее внимание, когда ты искал свое старое фото, чтобы показать мне. Девушка сидела у пруда. Это она?
В наблюдательности Сандре не откажешь. Он сразу же понимает, о каком снимке идет речь. Кэт сидит по-турецки на траве возле пруда, в саду у дома Ника и Элейн. Щурится на солнце, с голыми руками и ногами, и лучезарно улыбается прямо в объектив. Она ослепительна. Да, Сандра не могла не заметить такое фото.
— Это она, — отвечает он, — ага.
— Ясно. — Сандра задумчиво смотрит на него. — Значит, она была очень красивая?
— Ну да, — говорит он. — Была, Да, можно сказать, красавица.
— Я подумала, что это фото какой-нибудь твоей барышни.
Оливер слегка обалдел:
— О господи, нет, конечно. Нет, нет.
Сандра одаривает его легкой улыбкой. После чего оборачивается к своему компьютеру. Она узнала о Кэт все, что ей было нужно, и успокоилась.
Оливеру до сих пор не верится, что Кэт больше никогда не войдет в комнату. Что ее больше нет. Как в старые добрые времена — возьмет и войдет. Никто и не ждет ее, Элейн понятия не имеет, где она, — и вдруг вот она, улыбается, смеется: «Вы не очень заняты? Можно напроситься к вам на обед?»
Он видит ее с огромным подносом персиков — не иначе, скупила у какого-нибудь зеленщика всю партию. «Угощайтесь, — говорит она. — Не смогла удержаться. Давайте наедимся до отвала». Элейн поджимает губы. Оливер понимает, о чем она думает: какое расточительство, они же испортятся раньше, чем мы успеем их съесть.
Когда речь заходила о Кэт, Элейн становилась странной. Когда Кэт была рядом, она казалась беспокойной, даже напряженной. Она не сводила глаз с Кэт, но тогда так делали все. И придиралась к ней. Критиковала. Как всякая старшая сестра, но не только. А с Кэт, казалось, все скатывалось, как с гуся вода; она лишь улыбалась, ускользая: «Хорошо, хорошо. Я исправлюсь, обещаю. Лучше послушайте, какое я тут место нашла…»
Кэт. Жалко-то как, думает Оливер. Чертовски жалко. Когда он вспоминает о Кэт, точно луч солнца озаряет его мысли. Вот она рассказывает о том, где побывала, с кем познакомилась, — вся сгусток энергии, неизменно веселая; стоит ей появиться, вокруг все точно оживает. И поэтому невероятно сложно, почти невозможно, поверить в ее — именно ее — смерть.
Иногда он ловит себя на мысли: интересно, а почему я так в нее и не влюбился? В конце концов, в нее многие влюблялись. Но нет. Кэт всегда казалась свободной от всяких оков. В некотором смысле неприкосновенной. Не для него. Всегда преисполненная теплоты, дружеского участия, всегда радостно тебя встречавшая. Но так она относилась ко всем. Почти ко всем. Если Кэт кто-то не нравился, она просто с ним не общалась; не выказывая ни капли неодобрения, разочарования, она точно отгораживалась от неприятного ей человека. Это настоящий талант, думает Оливер. Но это и был ее образ жизни. Если что-то ее не устраивало, она попросту уходила, ускользала, занималась чем-то еще. Во всяком случае, насколько они знали. Он вспоминает, как Элейн коротко спрашивала: «То есть ты больше не работаешь в галерее?», а Кэт небрежно отвечала: «Да там стало все сложно. И потом, я встретила одного славного человека, и он попросил помочь ему с организацией фестиваля».
Иногда Кэт приходила не одна. Оливер не может толком припомнить ни одного из ее кавалеров. Конечно, на них все обращали внимание. Ревновали? Нет, не совсем — скорее по-отечески заботились о ней. Достоин ли этот парень?.. И поскольку один и тот же поклонник редко приходил дважды, а чаще всего она и вовсе являлась в одиночестве, то беспокоиться об этом и вовсе не стоило. Странно, что никто из них долго не задерживался, но у Кэт определенно был талант ускользать — в том числе и от ответа.
Тем удивительнее стало появление Глина Питерса. Оливер прекрасно помнит пришествие Глина Питерса. Сперва изменилась Элейн — в ней появилась напряженность, скованность. А потом в один прекрасный день явилась Кэт, а с ней этот тип, и вел он себя абсолютно уверенно, преспокойно посиживая за обеденным столом Элейн так, как будто имел полное право сидеть за ним, и разглагольствовал, постоянно поглядывая на Кэт. Поначалу Оливер насторожился, как зверь, когда у него встает дыбом шерсть на загривке, но вскоре обнаружил, что зачарован, даже загипнотизирован. Этот парень умел себя подать, без сомнения. Неудивительно, что его пригласили на телевидение. Он говорил так, точно именно ты, как никто другой, сможешь оценить удивительную вещь, которую он сейчас расскажет. Оливер и сейчас слышит его — вот он рассказывает о севообороте в Средние века, о том, как можно определить возраст живой изгороди; смотрит на тебя — и это льстит: приятно, что тебя посчитали знающим человеком.
Интересно, испытывала ли Кэт то же самое? Однажды утром в дверь его кабинета-сарая заглянула Элейн и сказала, по своему обыкновению, быстро и по делу: «Запиши себе, Оливер. Кэт выходит замуж. У нас будет что-то вроде приема. Помнишь Глина, он приходил пару недель назад?» И все. Ну, что ж. Тебе повезло, Глин Питерс. Как же тебе это удалось? Оливер вспоминает Кэт на одной из кухонных посиделок: стол ломится от еды и напитков, Ник болтает, Глин — и того больше; Кэт сидит поодаль, забралась на подоконник, подогнув под себя ноги; рядом с ней — Полли. Полли всегда была там, где Кэт. Кэт заплетает Полли косу — у девочки длинные волосы школьницы. Расчесывает волосы племянницы и поглядывает на Глина — задумчиво, точно хочет задать ему какой-то вопрос. Скоро они должны пожениться. Оливер смотрит на Кэт, выискивая в ее лице, взгляде признаки страсти, но видит лишь этот вопрошающий, почти озадаченный взгляд.
На Кэт невозможно было не обращать внимание, даже если ты не был в нее влюблен. Оттого, что она так выглядела, что была такой. Такой… Какой же она была? — думает Оливер. Она была очень хорошая. Хорошая? Что означает это слово? Какое-то оно пустое. Просто Кэт не могла совершить плохого или мерзкого поступка, не могла причинить никому зла, ни случайно, ни намеренно. Она относилась к людям хорошо — опять это слово! — по-доброму, искренне, участливо. Возникает провокационный вопрос неужели она могла быть такой из-за своей наружности? Потому что мир всегда улыбается внешне привлекательным людям и они могут улыбаться в ответ? Но ведь красота — не залог доброты. В мире было столько недобрых красавиц, взять хотя бы мачеху Белоснежки. У прекрасной женщины может оказаться прескверный характер. Так что теория не имеет ни малейшего подтверждения.
Когда Оливер вспоминает о Кэт, он непременно думает о внутреннем свете, что исходил от нее. Вспоминает, как с ее появлением мгновенно поднималось настроение, день обещал стать ярким, ты ощущал прилив адреналина, бодрости и жизненных сил. И вот что определенно странно, думает Оливер. Даже… нездорово, что ли. Кэт, веселая и энергичная, не была ни особенно умна, ни эрудированна, ни остроумна. Если говорить начистоту, она была абсолютно бесполезной для общества. Не занималась никаким трудом, не имела постоянной работы, ни творческой, ни физической. И матерью она так и не стала — если, конечно, считать материнство пользой для общества. Она просто существовала — как птица или цветок. Человек же не должен просто существовать — так ведь?
Ладно, думает Оливер, это уже чересчур. Достаточно того, что она была очень приятным во всех отношениях человеком.
И еще, могла удивить, застать врасплох. Как-то они вдвоем сидели во внутреннем дворике между домом и сараем, в котором располагался его кабинет. Расположившись на скамейке, они ждали — кого или чего, он теперь уже не припомнит. И тут она повернулась к нему и спросила: «Ты счастлив, Оливер?»
Он даже вздрогнул. Хотел было запротестовать: мол, что за дурацкий вопрос, не хочу я на него отвечать. Вместо этого он умоляюще посмотрел на нее — видимо, предполагалось спросить: «А ты, Кэт?»
Она посмотрела на него в ответ, задумчиво, выжидающе, — казалось, ей действительно хотелось услышать ответ, точно он помог бы ей решить какую-то проблему. А он предпочел смолчать, и она улыбнулась своей ослепительной улыбкой — так, что ты волей-неволей улыбался ей в ответ. «Уверена, что да. Ты слишком умен, чтобы быть несчастным».
Когда он понял, что между ней и Ником что-то есть, он пришел в замешательство. Более того, эта новость вызвала в нем недоверие, тревогу, даже обиду. Как такое могло случиться?
Сначала это был просто взгляд. Ник смотрел на Кэт так, как смотрели те, кто видел ее в первый раз, но ведь Ник знал ее уже много лет. Элейн поблизости не оказалось, и Оливер, которому стало не по себе, почувствовал странное облегчение.
Дальше — больше. Ник принялся подслушивать, когда Элейн говорила с Кэт по телефону, притворяясь, что читает газету. Кэт все реже заходила в гости. Элейн как-то заметила: «Что-то Кэт давно не было… чем-то она сейчас занимается?»
Ник посмотрел в сторону и притворился, что его это совсем не заботит.
И наконец, однажды Оливер пришел в уэлборнский паб «Голубой вепрь» пропустить по кружке пива в компании такого же холостяка, знакомца из прежней свободной жизни, и увидел, что за столиком напротив сидят Ник и Кэт. Судя по всему, голубки полностью поглощены друг другом. Оливера аж затрясло. Что делать? Прошествовать к ним, как ни в чем не бывало: «О, привет, какое совпадение! Мы тут с Томом, помните Тома Уиллоуза? Можно к вам?» Но он помедлил, огляделся; тут они оба разом подняли головы, и на их лицах появилось замешательство — стало очевидно, что видеть его они совсем не рады. Оливер помахал им рукой, вяло пробормотал что-то в знак приветствия и тут же нырнул в темный угол паба. «Там разве не твой партнер сидит?» — подивился Том Уиллоуз. «Нет, то есть да. Деловая встреча. Не будем мешать. По пиву?»
Позднее в тот же день Ник заглянул в сарай: «Да, зашел проконсультироваться, какой тираж будет у новой серии; гляди, суперобложку сделали — красота, правда? — Ник в своем репертуаре, одержимый новыми идеями и планами. — Нам придется потрудиться, но новая серия того стоит, согласен? — И, уже повернувшись было, чтобы уйти, он осторожно посмотрел на Оливера — и в его глазах была мольба. — И, Олли, если что, ты меня сегодня утром не видел, хорошо?»
Нет, нет, не хочу, подумал Оливер. Не хочу быть к этому причастным. Меня это не касается.
Теперь касалось.
Никто ничего не должен узнать: это он понимал. Он стал лишь невольным свидетелем, но больше об этом не узнает никто. Прежде всего, Элейн. И Глин. Питерс… Оливер вполне мог представить, что месть этого человека могла быть ужасной.
Больше они с Ником к этой теме не возвращались. Только один раз, да и то… Фотография. Он словно бы предупредил их. Без слов. Лишь намекнул: будьте осторожны, да и вообще пора прекращать. И вскоре все закончилось — он быстро это понял. Как и большинство подобных интрижек, долго их роман не продлился.
М-да, думает Оливер, давно это было. Слава богу, все в прошлом В конце концов, ничего такого не случилось.
— Мне надо идти, — говорит Сандра — В банк сходить хотела. Последишь за нашей лавочкой полчасика, ладно?
И ушла. Оливер делает себе кофе. Зевает. Что-то он сегодня утром размечтался — надо бы тщательнее отредактировать сделанную работу. Некоторое время он пялится в окно, и тут вспоминает о звонке. Набирает номер:
— Э-э… Глин? Говорит Оливер Уотсон, вы мне звонили.
Ник и Элейн
Теперь Ник ходит в спортзал. Главным образом оттого, что его беспокоит появившееся пузцо. И залысины тоже, и хотя он понимает, что от них спортзал вряд ли поможет, но чувствует, что тренировки его взбодрят и как-то повысят жизненный тонус. Нику до сих пор не верится, как это — ему уже пятьдесят восемь. Право, смешно. Время наступает ему на пятки, но он знает, что делать: игнорировать, не обращать внимания. А теперь вот оно вдруг настигло его и одолело. Ему совсем не нравится собственное отражение в зеркале: смотреть на него больно и обидно.
В спортзале Ник занимается на тренажерах — беговой дорожке, велотренажере, силовых. Ныряет с разбегу в голубую с золотыми отражениями ламп воду бассейна и с шумом выныривает. Во время тренировки он отчаянно скучает, от штанги и педалей болит тело, но все искупает сладкое осознание силы собственного духа. Он часто взвешивается — обнаружив, что можно смело вычеркивать килограмм лишнего веса, покупает себе новые джинсы в честь этого знаменательного события. Элейн ясно дает ему понять, что не любит, когда мужчины его возраста ходят в джинсах; это слишком, думает он, что же, теперь отказываться от того, что делал всю жизнь?
Иногда, чтобы занятия в спортивном клубе казались не таким скучными, он украдкой наблюдает за окружающими. Большинство посетителей гораздо моложе его — им лет по двадцать — тридцать. На телах многих девушек красуются татуировки — бабочка на плече, гирлянда листьев на бедре, звездочка на лодыжке. Чтобы убить время, Ник проводит мысленную опись этих татуировок, а это значит, что ему приходится наблюдать за их обладательницами достаточно пристально; разумеется, он очень осторожен, ибо знает, как легко в наше время мужчине быть неправильно понятым. Он насчитал преизрядное количество листочков клевера, гирлянд плюща и маргариток и даже одну розу. А вокруг талии некой посетительницы обвился целый дракон; разумеется, для этого пришлось рассмотреть ее со всех сторон. Сами девушки, конечно, наружности весьма приятной — правда, из этого абсолютно ничего не следует. Он может со всей честностью заявить, что, хоть иногда трепет вожделения и имеет место быть, особого соблазна он не испытывает. Бывает, что он перекидывается парой слов с кем-нибудь из прелестных посетительниц в кафетерии спортзала: «Вы уже дочитали газету, можно я ее возьму? Можно этот стул?» Девушки отвечали вполне вежливо, но ни в коем случае не делали ему, что называется, авансов. Ника иногда посещают грустные мысли: неужели брюшко и залысины настолько его старят?
Но Ник не из тех, кто привык часто предаваться грустным размышлениям.
Всю свою жизнь он просыпался с неизменным приливом интереса к жизни. Когда он вспоминает о прошлом — а по правде говоря, делает он это нечасто, — его охватывает приятное чувство того, что он всегда был занят: новыми проектами, блестящими идеями и заманчивыми перспективами. Следует признать, что большинство проектов так и не были реализованы, да и вообще, он почти забыл суть большинства из них, но ведь самое важное — это ощущение! Ему никогда не было скучно, а если временами и становилось, он быстро отказывался от одной идеи и выдумывал что-нибудь новое.
Да и сейчас у него уйма дел. Есть парочка идей — надо просто все потщательнее продумать, вот и все. Географический справочник: по искусственным готическим руинам XVIII века, самый полный путеводитель по холмам Великобритании, фотоальбом — коробочки для пилюль времен Второй мировой. Честно говоря, то, что Элейн так хорошо зарабатывала все эти годы, явилось для него сущим благословением; теперь, когда вопрос денег не стоит, он может передохнуть и тщательно обдумать новые идеи, рассмотреть их. И не придется снова становиться наемным писакой: труд хуже каторжного, а денег кот наплакал. Это здорово — время от времени заниматься журналистикой, чтобы не утратить хватки, но не становиться ее рабом.
— Нам надо поговорить, — слышит он голос Элейн.
Что-то в ее тоне насторожило его, но не особенно. Наверное, все из-за того, что он попросил новую машину. Ничего страшного, все решаемо — главное, знать подход.
Может статься, оно и к лучшему, что издательский дом «Хэммонд и Уотсон» потерпел крах. Конечно, славные времена были — кипучая деятельность, постоянно новые книги, трепет, когда привозят стопку первых отпечатанных экземпляров, поиск нужных авторов и прочие приятные хлопоты. Но было и другое — утомительные консультации с поставщиками и бухгалтерией, проклятые цифры, не позволяющие делать именно то, что тебе хотелось бы. Конечно, с большей частью этих проблем ловко управлялся Оливер, но они никогда не уходили совсем, постоянно маячили где-то рядом, точно унылый гость на веселой вечеринке.
Нет, он почти не жалеет о тех днях. Более того, Ник начинает понимать, что прекращение деятельности издательства стало для него неким избавлением. Теперь он мог тщательнее обдумывать каждый проект и спокойно откладывать его в сторону, если возникнет риск, что работа над ним в конце концов наскучит, вместо того чтобы настойчиво продолжать ее — ведь издательство должно издавать. И тогда ему, бывало, приедалась какая-нибудь книга или серия — аккурат в середине рабочего процесса. Нет, он вполне мог принимать все как есть — заниматься разработкой какой-нибудь очередной идеи в порыве вдохновения — и принимать как должное бесплодные дни, когда на ум не приходило ровным счетом ничего, но это ведь не страшно, существует множество способов приятно провести время. Он прекрасно знает, что Элейн не очень нравится то, как он относится к жизни, но это же так недальновидно. Он много раз пытался объяснить ей, что, если не спешить, можно работать куда продуктивнее; но, кажется, она его так и не поняла. Во времена «Хэммонда и Уотсона», когда он носился туда-сюда, как ополоумевший муравей, это ему и в голову не приходило, а ведь во многом поэтому они и прогорели. Конечно, сама Элейн работает денно и нощно — по-другому не может. Он постоянно твердит, что ей необходимо сделать паузу, отдохнуть пару дней. Но нет, если она не консультируется с клиентами и не работает на местах, то разбирает бумаги в кабинете при помощи Сони или прощупывает почву, узнавая, что собой представляет новый поставщик. Даже если она не занята ничем из вышеперечисленного, то целыми днями копается в своем саду.
— Ну, давай, — соглашается он. — За ужином, ладно? Я в спортзал собрался.
— Прямо сейчас. Вечером меня не будет.
Право слово, он первый признает, что трудолюбие Элейн выше всяческих похвал, и то, что она добилась успеха, великое благо. В этом надо отдать ей должное — он в жизни бы не поверил, что крошечная фирма, организованная его супругой, выросла в такой солидный бизнес. Буквально вчера, подслушав разговор жены с Соней, он узнал сумму годового оборота фирмы и обалдел. И, раз уж на то пошло, при таких прибылях не стоит так психовать из-за просьбы о новой машине.
Лишь иногда при взгляде на Элейн Ник приходит в замешательство. У него появляется странное ощущение, что это не она, а другая женщина, которую он совсем не знает. Чушь, конечно, — с этой женщиной он ложится в постель каждую ночь (ну, почти каждую — справедливости ради надо заметить, что теперь Элейн частенько ночует не дома) бог знает сколько лет. Сколько они уже женаты? Надо будет подсчитать. Конечно, ерунда — перед ним все та же Элейн, только старше. Но иногда за столом напротив сидит и смотрит на него совершенно незнакомая женщина.
Кажется, теперь она входит в «высшую лигу» своей профессии. Недавно ездила с лекциями в США и занимается устройством сада для крупнейшей в стране цветочной выставки в Челси, которая пройдет в следующем году. Она востребована. Что означает в том числе и то, что теперь она не так внимает тому, что говорит Ник, как внимала когда-то. Наверное, из-за чувства отчуждения. Но это не проблема.
Ник всегда старался избегать проблем. Решать проблемы — это не то, для чего мы живем. Если открывать свое дело, то следует нанять кого-нибудь, кто занимался бы практической стороной, как это делал старина Оливер. Ник то и дело твердит Элейн, что она должна доверять Соне больше дел или нанять еще кого-нибудь ей — и себе — в помощь. И самое главное — не стоит так переживать из-за того, что дела идут не совсем так, как тебе хотелось бы. Просто продолжай жить дальше. Спиши убытки со счета и забудь про них.
В личной жизни тоже нужно придерживаться схожих правил. Самое трудное — это когда кто-нибудь подставляет тебе подножку, случайно или намеренно. Неверно истолковывает твои слова или поступки. Надо сказать, Элейн частенько этим грешит. Она может раздуть из мухи слона и увидеть препятствие там, где его нет. Вот и давешняя история с автомобилем — лишнее тому подтверждение.
— В оранжерее, — говорит Элейн. — Соня придет сюда с минуты на минуту.
Он идет за ней. Определенно, что-то тут не так.
Так сколько же лет они женаты? Надо будет спросить у нее — потом, сейчас явно не время. Ник давно наловчился угадывать настроение Элейн — и теперь чувствует, что сегодня утром она по какой-то причине не в духе. Надо вести себя по выработанному плану — говорить с ней умиротворяюще, снизить накал, попробовать переменить тему, и, если повезет, ее раздражение постепенно пройдет.
Ник очень привязан к Элейн. Безо всякого сомнения. Он и представить себе не может, что женился бы на другой женщине. В свое время — и он готов это признать — он периодически посматривал на сторону. Но ведь в молодости все так делают, разве нет? Сейчас конечно же перестал, много лет уже как. Элейн его вполне устраивает. Они уже давно не занимаются сексом так часто и страстно, как бывало когда-то, но в их возрасте это нормально. Хотя Элейн слегка старше его… нет, он никогда не обращал на это внимания.
Ник и не припомнит теперь, как вышло, что они с Элейн поженились. Неудивительно, что он не может вспомнить, сколько лет назад это случилось. Давным-давно, это он точно знает. Он совсем не любитель ворошить прошлое. Что сделано, то сделано. Изменить что-либо все равно не в нашей власти — так стоит ли убиваться по этому поводу? Он ни разу не пожалел о том, что женился на Элейн, просто иногда ему… требовалось немного гульнуть. Когда они познакомились, он знал кучу народу — всех уже и не упомнишь, лица сливаются в смазанное пятно, как на картинах импрессионистов. И девушек, само собой. Как-то так вышло, что из них всех он выбрал именно Элейн, и Ник склонен считать, что выбор он сделал как нельзя более удачный. Ладно, ладно, иногда она бывает раздражительной, как вот сейчас, но все можно уладить. И она всегда со всем справляется, этого у нее не отнять; если бы не успешный бизнес супруги, оправиться после банкротства ему было бы куда труднее. Без сомнения, Элейн заслуживает всяческих похвал, и точка. Если у нее временами и случается дурное настроение, то ее можно понять. Она ведет напряженную жизнь. Надо только выслушать ее, понять, успокоить.
— Вообще-то, — начал он, — я тут подумал о машине — и решил: зачем мне совсем новая? Сойдет и подержанная, если ей год или два.
— Дело не в твоей машине.
Да, иногда Элейн бывает сущей домомучительницей. Всегда была, а с возрастом, опасается Ник, это стало проявляться все чаще. Что ж, надо просто потерпеть. Вовсе не обязательно возмущаться вслух, когда она придирается по пустякам, лучше просто смолчать, и, если повезет, все уляжется. Когда-то он легко мог ее успокоить, уговорить, стать ласковым и заботливым, как никогда, ну, и тому подобное. В последнее же время такой подход мало помогает. Лучше всего попросту не высовываться и тихо делать по-своему, чем, в сущности, он и занимался все эти годы, и избегать открытой конфронтации. Элейн любит, чтобы все по струнке ходили; ей нравится быть в курсе всего и вся, но теперь она по уши в делах, и, честно говоря, ей вовсе не обязательно вникать в повседневные заботы Ника. Вообще-то, надо бы придумать более гибкую систему движения наличности в семье, чтобы не пришлось привлекать жену, когда возникнет какая-нибудь проблема вроде замены автомобиля. Он не раз намекал об этом, но, когда речь заходит о деньгах, Элейн начинает вести себя странно. Подобные разговоры ее явно раздражают.
— А… понял. — Он вопросительно смотрит на нее. Открытым, ласковым, услужливым взором.
Черт побери. Значит, рассмотрение вопроса о покупке нового авто отложено; Элейн попросту взяла это на заметку, и все; ему придется благоразумно подождать, прежде чем снова поднимать его. Вот незадача! На спидометре его «гольфа» уже сто шестьдесят тысяч километров пробега, в нем то и дело что-нибудь ломается, и ездить на сколько-нибудь большие расстояния на этой машине попросту опасно. Это означает, что для поездки в Нортумбрию — вдохновиться красотами Линдисферна, Олнвика и тому подобных мест — ему придется менять автомобиль.
Элейн молчит. Ник ждет. В доме звонит телефон, потом умолкает. Соня взяла трубку. За окном туда-сюда, туда-сюда водит газонокосилкой Джим.
— Ну, если газонокосилку починили… — начинает Ник.
То оно и к лучшему. Хуже было бы, если бы ее снова заедало. Одному Богу известно, сколько стоят эти штуки. Нет, конечно, дешевле, чем новая машина, так ведь? Но, очевидно, речь пойдет не о ней. Случилось что-то еще.
Когда Элейн не в духе, как вот сейчас, надо не высовываться. Ник не любит скандалов. На самом деле Ник ни с кем не ссорится. Как только начинает попахивать ссорой, Ник попросту ретируется. До поры до времени подобный подход срабатывал и с Элейн. Трудновато поссориться с тем, кто вовсе не желает ссориться в ответ. Ник знает, что за эти годы поднаторел в искусстве улаживать семейные конфликты. Иногда он подумывает о том, что надо бы поделиться своим опытом, рассказать о нем другим. Когда стало модно выпускать книги по любительской психологии, он даже собирался выпустить поучительную брошюру о семейной жизни, с точки зрения мужчины. С каким-нибудь броским названием — «Секрет семейного счастья», например. Практическое пособие, написанное в сатирическом духе. С легким уклоном в литературщину — перечислить прочные браки известных людей, проанализировать лучшие и не самые лучшие периоды жизни семьи. Дэвид Герберт Лоуренс и эта, как ее там… Теннисон прожил в браке тысячу лет, так ведь? Диккенс… нет, у этого все разладилось. Пришлось бы, конечно, поработать, но результат мог выйти интересным. Да, это был действительно многообещающий проект, но у него так и не хватило духу не посоветоваться с Элейн. Обычно, работая над очередным проектом, он регулярно докладывает ей о достигнутых результатах — не то чтобы она вносила какой-нибудь конструктивный вклад, но все-таки. Иногда чувствовалось, что она даже не уделяет им, проектам, должного внимания. В любом случае, он чувствовал, что идеи книги о психологии семейных отношений она точно не поймет, так что даже не стал упоминать о ней, а вскоре и совсем забросил работу. К ней всегда можно вернуться, если иссякнут другие идеи.
— Кэт, — сказала Элейн.
Любопытно — стоило произнести ее имя, как она тут же появилась. Всего на секунду — стоит и смотрит на него. И он чувствует… что жизнь прекрасна, чувствует, как мгновенно улучшается настроение. Кэт это умела. Мимо него пронесся целый вихрь Кэт — Кэт из разных времен и разных мест. Вот она танцует с Полли — совсем малышкой Полли. Вот она — молодая супруга Глина, стоит рука об руку с ним и лучезарно улыбается. Вот сидит по-турецки в саду и плетет венок из маргариток. Она… и снова она.
— Что — Кэт? — спросил он.
Они редко вспоминают Кэт. Во всяком случае, никогда не вспоминают именно о ней. Но то и дело ее имя приходит на ум по тому или иному поводу. Что неудивительно. То и дело говорится: «Помнишь, когда… Кэт была здесь, да? Кэт часто ездила туда-то…» И Полли часто о ней говорит. Они с Полли всегда были не разлей вода.
Так с чего вдруг?
— Ты и Кэт, — говорит Элейн.
Вот и удар под дых. Кажется, комната закачалась. Хоровод Кэт исчез без следа. Остались они с Элейн, сидят в оранжерее, а за окном стрекочет газонокосилка да жужжит пчела над голубыми цветами свинчатки. Все настолько реальное и четкое, к сожалению. Сегодня вторник, половина одиннадцатого утра. В это время он должен ехать в спортзал, а вместо этого сидит здесь, и в животе у него неприятно щемит.
Что происходит? Нет… Она ведь не могла… Но как?
— Я видела фотографию, — говорит Элейн. — И записку, которая к ней прилагалась — ее написал ты.
О господи. Стоило ей произнести это, как до него дошло. Та самая фотография. Ну конечно. Он живо представляет себе этот снимок. И вспоминает, как смеялся, когда впервые его увидел. Как не смог удержаться и послал фото Кэт. Что, она его не сохранила? Глупышка, она не спрятала его подальше?
— Я вижу, ты понимаешь, о чем я, — говорит Элейн.
Господи Ииусе… Постойте, откуда…? Оливер. Это Оливер отдал ему фотографию. И… Оливер в своей «правильной» ипостаси. Он же сказал, что выбросил негатив. Неужели чертов Оливер… Или она отыскалась где-то еще… Где?
— Глин нашел ее, — говорит Элейн.
Теперь комната точно ходит ходуном. И пол шатается. Пчела жужжит пронзительно и монотонно, как бормашина. Этого не должно было случиться! Однако это случилось.
Собраться. Взять себя в руки. Дело плохо, но все вполне разрешимо, как и многое другое. Разумеется, Элейн расстроена: новость шокировала ее. Ему понадобятся все силы и возможности.
— А… Глин, — говорит он.
Теперь очередь Глина появиться в комнате. Ник отчетливо видит его, и вид у того самый грозный. Ник не слышит того, что он говорит, но, наверное, это и неважно. Глин — надо же, досадное затруднение. Но все по порядку.
— Послушай, любимая, — сказал он. — Надо просто посмотреть на случившееся с другой точки зрения. Хорошо, я не собираюсь оправдываться или врать. Жаль, что так вышло, но раз уж… хорошо, я буду честным до конца. Да, мы с Кэт когда-то, совсем недолго, мы…
— Я не хочу знать, — говорит Элейн. — Знать, когда, где и как долго. Достаточно того, что это было.
— Послушай, — начинает Ник, — да почти ничего и не было. Глупо, по-идиотски… и быстро закончилось. Все закончилось давным-давно. Задолго до ее…
— Не сомневаюсь.
— К нам с тобой это не имеет ни малейшего отношения, — частит он. — Что тогда не имело, что теперь. Глупая ошибка, и все. Кэт сказала бы точно так же.
— Вполне вероятно.
Не выходит. Значит, он задел не те струны. И сама Элейн лишает его силы духа. Сидит и спокойно смотрит, и он не может выдержать ее взгляд. Теперь он яснее, чем когда-либо, видит, что перед ним не родная жена, а чужая женщина.
Пчела умолкла. Джим отключил газонокосилку и ушел. Он вновь чувствует почву под ногами, комната перестает раскачиваться, но становится совсем другой. Все осталось на своих местах, но стало совсем не таким, как прежде.
— Что я могу сделать? — говорит он. Голос его очень тих. Ласковый и грустный голос.
— Я хочу, чтобы ты ушел, — говорит Элейн.
Ушам своим не веря, он уставился на нее:
— Куда ушел?
— Твое дело. Подальше отсюда. Прочь из этого дома.
Он собирается было запротестовать: «Но это мой дом», — но тут же понимает, что это не так. Это дом Элейн. Элейн выплатила первоначальный взнос, Элейн выплачивает ипотеку.
— Пока ты здесь, — говорит Элейн, — само твое присутствие будет напоминать мне о том, что случилось. Только взглянув на тебя, я стану чувствовать себя так же, как чувствую сейчас. И провести обозримое будущее с подобным чувством не входит в мои планы. У меня полным-полно других дел.
— Но я здесь живу, — говорит Ник.
— Пока.
Мысли путаются. Да это и не мысли вовсе — панические вспышки. Но она же не может! Вполне может. Что я стану… Где я смогу…? Это так нечестно. Столько лет прошло. Я же не преступление совершил. Я хочу сказать, столько людей…
Так, спокойствие — вот что нужно. Ласковый голос разума. Элейн — разумная женщина. Она скоро поймет, что… перегнула палку. Конечно же ее это потрясло. А кого бы не потрясло?
Тихий, спокойный голос. Нежный, убеждающий:
— Послушай, я прекрасно понимаю, как ты теперь себя чувствуешь. И сочувствую. У самого на душе кошки скребут. Но мы справимся. Нельзя позволить этому испортить нашу жизнь, нашу семью. В свое время мы научимся с этим жить.
— Тебе, очевидно, прекрасно удавалось это делать долгие годы, — говорит Элейн. — А вот лично за себя я бы утверждать не стала.
В доме снова звонит телефон. И тут же умолкает. Ник замечает, что Элейн поглядывает на часы.
— Право, милая, — говорит он. — Это уже слишком. Надо немного остыть, переждать, а через несколько дней спокойно поговорим.
Элейн встает.
— Через несколько дней тебя здесь не будет, — обрывает она его. — Я скоро уезжаю. Вернусь завтра к вечеру — надеюсь, что к этому времени ты уже уйдешь. На твой счет поступят деньги, и будут исправно поступать каждый месяц. Хватит снять комнату и скромно жить. Можешь забирать свою машину. И книги. Остальные твои вещи разберем как-нибудь потом.
И она уходит. В саду снова орудует газонокосилкой Джим. Прилетела еще одна пчела. День продолжается.
Глин и Оливер
Черт подери! Столько шуму. Спустя столько лет. И все из-за какой-то злополучной фотографии. Оливер чувствует, что его загнали в ловушку. Вот он сидит в знакомом пабе недалеко от офиса, но все не так. Вместо того чтобы полчасика тихо посидеть за кружкой пива и газетой, он оказывается лицом к лицу с Глином Питерсом. Пиво-то на столе, но толку? Над ним навис, его допрашивает с пристрастием Глин. Настойчиво наваливается грудью на низенький круглый отполированный столик, вертит пальцем подставки под кружки. И пристально смотрит на Оливера своими блестящими темно-карими глазами.
— Вот что я хочу узнать… — говорит он.
Лучше бы тебе совсем ничего не знать, думает Оливер. Оставь это в покое. Теперь-то что сделаешь. Все давно кончено. И… нет, я не знаю, сколько это продлилось, и знать не хочу, да и тебе не советую. Ко мне это не относится и никогда не относилось. А то можно подумать, что я теперь какой соучастник преступления.
— Зачем ты их сфотографировал? — спрашивает Глин.
О господи! «Слушай, я и не заметил, пока снимки не напечатал. Просто щелкнул всю компанию, когда они друг с другом болтали. Я и не заметил, что Кэт и Ник…» — и пожимает плечами.
А когда заметил, думает Глин, то, как водится, запаниковал, так ведь? Твой приятель и деловой партнер и его свояченица, а ты из их компании и со всеми дружишь и вечно торчишь в доме.
Он не видел Оливера Уотсона много лет. Тот практически не изменился — та же самая слегка извиняющаяся манера говорить, слегка самоуничижительная, но в то же время самодовольная. Кажется, сейчас у него небольшая типография. Небольшой офис, заставленный компьютерами. Даму, которая явно больше, чем просто деловой партнер, его появление определенно заинтересовало. Оливер сразу же поспешил расставить акценты, сказав быстро:
— Глин Питерс — Сандра Челкотт. Сандра — мой партнер. Пойдем-ка в паб, там и поговорим. Как ты меня нашел?
— Элейн.
— Ты рассказал Элейн!
— Мне нужно было установить некоторые факты. У меня не оставалось выбора. — Глин не то, чтобы оправдывался, скорее ему не терпелось продолжить разговор.
— Ник?
— Это Элейн решать, как поступить с Ником. Откровенно говоря, Ник меня мало интересует.
Оливер делает большой глоток из кружки, но пиво не помогает. Он хотел бы вновь очутиться в своем офисе. Хотел бы, чтобы Глин был где угодно, но не здесь. Он раздражен и в то же самое время отчасти понимает Глина. Есть что-то евангелическое, библейское в том, как подходит Глин к этому делу — точно одержимый проповедник.
Глин не унимается:
— Все эти годы ты, должно быть, частенько видел Кэт?
— Ну… да. Она часто к нам приходила.
К чему это он клонит? Боже ж ты мой… неужели пытается обвинить меня в том, что и я тоже с ней… того?
Глин откидывается на стуле. Опускает руки на стол, сцепив пальцы, кладет на них подбородок и смотрит задумчиво и доверительно.
— Признаться, эта находка меня здорово перетряхнула. Пойми меня правильно. Мне пришлось… столкнуться с разрушением незыблемости собственного прошлого. Нашего с Кэт прошлого. Я не собираюсь становиться обвинителем в этом бракоразводном процессе постфактум. Мой интерес — чисто судебный. Ты меня понимаешь?
— Не совсем, — признается Оливер.
— Я хочу знать: была ли у Кэт привычка крутить романы на стороне? Мне нужно узнать о ней это.
Оливер ушам своим не верит. Ради всего святого, хочет сказать он, ведь это ты был на ней женат. Поздновато уже об этом говорить.
Глин допивает свое пиво и жестом показывает Оливеру: давай допивай — и еще по одной.
— Думаю, одной мне хватит, — говорит Оливер.
Но Глин его не слышит — он уже направился к бару. Вернувшись, он начинает говорить, не успев усесться на свое место:
— Мне придется отнестись к этому так же, как я отношусь к остальным своим исследованиям. Каждая зацепка должна подвергнуться тщательному рассмотрению… Мне придется взглянуть на факты беспристрастно, тщательно собрать доказательства и как можно пристальнее рассматривать и самую незначительную информацию… — Отдельные фразы набегают одна на другую, перекрывая фоновый шум паба; Оливер делает вид, что внимательно слушает, сам же принимается размышлять. Что это с парнем? Интересно, он всегда таким был? В общем и целом — да, таким же. И этот голос — большое подспорье. Голос, отполированный многими поколениями уэльских проповедников. — Методично и терпеливо. Ты начинаешь с чистого листа и готов ко всему, что можешь узнать в процессе. Но это не означает, что ты никогда не руководствуешься предчувствиями и подозрениями — понимаешь? Расспрашивать вот тебя бесполезно, как я вижу, но это того стоило. Отныне Кэт — мой предмет исследования.
— Но Кэт — не предмет, — обрывает его Оливер. — Она женщина. Была.
Глин умолкает. И пристально смотрит на него. Кажется, он раздражен. Но настрой переменился.
— Сказано в точку. В этом-то вся проблема, так?
Оливер смотрит во вторую кружку пива — и понимает, что не хочет его пить. На это он не ответит.
— Тогда скажи мне. Было ли это в ее характере?
— Понятия не имею.
— До того как мы поженились, у нее водились… поклонники. Без сомнения.
— Это да, — соглашается Оливер.
— Вот я и намерен установить: было ли распутство чертой ее характера?
Оливер начинает сомневаться в том, что этот разговор происходит на самом деле. Он оглядывает паб. Видит других мужчин: кто-то пришел обмыть удачную сделку, кто-то — просто пропустить по кружке пива и поболтать о политике, о спорте или о том, что вчера вечером показывали по телевизору. И только Оливер вынужден отвечать на вопросы сущего маньяка, а он-то решил, что этот человек уже не появится в его жизни.
— Должно же у тебя было сложиться общее впечатление о ней как о человеке.
Хватит, думает Оливер.
— Послушай, — говорит он. — Кэт… умерла. Ее здесь нет. Она не может ни объясниться, ни оправдаться. Разве это честно?
Глин разводит руками:
— С усопшими так всегда. Ты совершенно прав. Им уже все равно. Их не достанешь. Не достучишься. В отличие тех из нас, кто еще барахтается на плаву и пытается найти во всем здравый смысл. Одержимые вроде меня выбирают это своей профессией.
— Что ж, — говорит Оливер. — Это твоя точка зрения. Я — другой. Что ж поделаешь.
Глин понимает, к чему клонит собеседник. Это ни к чему не приведет. Такому невозможно объяснить, что от него требуется. Обструкция — вот как это называется. Но зачем? Что у него на уме? Может быть, ему что-то известно? В таком случае быстро он оклемался. Полчаса назад, когда я пришел к нему, он понятия не имел, о чем я собирался с ним говорить. В любом случае, продолжать бессмысленно.
И он улыбается — искренне и спокойно:
— Я прекрасно вас понимаю. Но, уверен, вы тоже меня поймете. Я ведь пережил неслабое потрясение.
Да, Оливер его понимает. Во всяком случае, в тот момент. Такой удар в спину, надо думать. Он кое-как изображает сочувственную улыбку.
Глин одним глотком осушает кружку:
— Что ж — рад был повидаться спустя столько лет. Жаль, правда, что по такому поводу.
Оливер бормочет что-то в таком же духе. Оба встают и направляются к выходу. На улице Глин останавливает его:
— Та, вторая, пара… на пикнике. Женщину звали, кажется, Мэри Паккард. Вы с ней общаетесь?
Оливер отрицательно качает головой — он уже готов сорваться с места и бегом бежать в офис.
— Кажется, художница или кто-то в этом роде?
— Гончар, — безнадежно выдает Оливер. — Жила где-то в Уинчкомбе. — Предательство, конечно. Но что ему какая-то Мэри Паккард? Он готов на что угодно, лишь бы отвязаться от этого сумасшедшего. — Пора бежать. Вот-вот клиенты подойдут. Приятно было увидеться.
Полли
Кэт. Не могу поверить, что все случилось из-за Кэт.
То есть перво-наперво хочу сказать — она была такая славная. Я обожала ее. Так что я, наверное, пристрастна, но так уж я к ней относилась. Считала, что она лучше всех. Конечно же маме это совсем не нравилось. Она и мама… давно это было, хотя, как выяснилось, не очень. И по большей части со стороны мамы. Она вечно ругала Кэт, критиковала ее, а Кэт мило отшучивалась. Полагаю, в этом-то и крылась проблема — Кэт делала что хотела, а остальным оставалось только наблюдать, и немудрено, что многие смотрели косо. Хотя, если честно, какое им дело? То есть Кэт жила полной жизнью, и, по мне, ничего такого в этом нет.
Она была такая красивая. Лицо. Как она двигалась, стояла и сидела — за ней невольно хотелось наблюдать. Не то чтобы Кэт гордилась своей наружностью, она никогда особо не парилась по поводу одежды или там прически — ей, конечно, это было и не нужно, но дело-то в том, что она этого и не осознавала. Ей попросту было все равно. Конечно, так можно себя вести, только будучи очень привлекательным, так что, полагаю, подсознательно она все же понимала это — словом, с чего начали, к тому и пришли.
Но самоуверенности в ней не было ни капельки. Скорее какой-то внутренний свет, что ли. Она не могла сидеть на одном месте — всегда бежала, с кем-то встречалась, прыгала в машину. Не домоседка. Как будто бы ей не хватало смелости остаться, если подумать. Как будто бы, если она остановится, что-то настигнет ее. В любом случае, самоуверенность и надменность не были ей знакомы. Но она наверняка осознавала, какой эффект производит ее наружность. Мужчины, в конце концов… Скорее это никак на ней не отражалось. Эгоизм был ей чужд — насколько может быть чужд эгоизм тому, кто привык делать то, что захочет. Гм… все, оказывается, сложнее, чем я думала.
Вспоминаю, как меня бросил мой первый бойфренд — я тогда в колледже училась. Что? Да, редкостная скотина. Ага, хочешь сказать, я и сама не подарок? Ну ладно, ладно. В любом случае, я плакалась в жилетку Кэт, а не мамы. Кэт сказала: «Да, они такие». Пожала плечами и улыбнулась странной полуулыбкой. Помнится, я сказала тогда: «Тебя, наверное, ни один не бросал». Она задумалась и ответила: «Ну, именно так — нет, но всякое бывало». Я прекрасно помню ее голос и эти слова. Я тогда не поняла, что она имеет в виду, да и теперь не понимаю. Женщины тоже бросают? Естественно. Еще как бросают. Я же не в общем говорю, а про Кэт, понимаешь? А потом она потащила меня по магазинам, и мы купили мне какое-то жутко нелепое платье — сама бы я в жизни не купила себе такое, — а потом роскошно пообедали в итальянском ресторанчике. В этом и была вся Кэт — приедет, вернет тебя к жизни, развернется и уедет, позвонив кому-нибудь из друзей.
Подобные вещи и выводили маму из себя. Видишь ли, мама была не из таких. Знаешь притчу о черепахе и зайце? Говоришь, побеждает все равно черепаха? Хм… надо будет подумать над этим Не то чтобы они соревновались, ну, там даже как обычно соперничают родные сестры. Если честно, они и сестрами-то не казались. Но между ними была странная связь. Пуповина, что ли… нет, даже не это, но ты понимаешь, о чем я. Наверное, между родными братьями или сестрами всегда так. Я же единственный ребенок, мне не понять.
Когда я была маленькой, Кэт всегда приносила в дом радость, и всегда неожиданно — она редко предупреждала о своем визите. Приносила милые смешные подарки, я никогда их не забуду: то бумажные цветы, которые раскрывались, если их положить в воду, то воздушного змея в форме дракона, то рыженького котенка — мама так рассердилась! Она придумывала разные игры, в которые мы играли, читала мне сказки, делала разные модные прически и нашла декоративную косметику для девочек раньше, чем она стала продаваться повсюду. Когда она появлялась у двери, казалось, наступило Рождество или пришел внеочередной день рождения.
Странно, что своих детей она так и не завела. Они с Глином не завели. Правда, я не могу себе представить Глина с детишками… Сомневаюсь, что он вообще их хотел. Не помню, чтобы она даже говорила о собственных детях. Интересно… в любом случае, как бы там ни было, детей у нее не было.
Ты можешь представить, как это — не хотеть детей? О да, охотно верю, что можешь.
Если подумать о Кэт, то кое-что сразу бросалось в глаза: она никогда не работала. То есть в общепринятом смысле слова. Для большинства из нас, да почти для всех, работа — это в каком-то смысле то, что мы есть. То, что тебе приходится делать изо дня в день, определяет твою жизнь, то, сколько ты зарабатываешь, следовательно, как ты живешь. И это либо делает тебя сильнее, либо, напротив, вгоняет в депрессию. Лично я считаю — мне с работой повезло. Мне неплохо платят; то, чем я занимаюсь, мне нравится. И странным образом радуюсь тому, что моя профессия ультрасовременна. То есть профессия сегодняшнего дня. Если бы лет двадцать назад кому сказали: она — веб-дизайнер, он бы ответил: кто-кто? Услышав про Всемирную сеть, подумал бы, что я крючком вяжу. Наверное, те, кто стал работать на первой прядильной машине, «Дженни», в эпоху промышленного переворота или запускал первый паровой двигатель, чувствовали то же самое. Я говорю себе: раньше этого не делал никто. Никто целыми днями не просиживал у коробки с мерцающим экраном, управляясь с картинками. То есть моя работа напрямую связана с прогрессом человечества.
Смейся, смейся. Я знала, что произношу громкие слова. Ну да, смешно.
Нет. Извини, в каком месте торговля недвижимостью — современная профессия? Агенты существовали еще во времена Ноева ковчега. И на горе Арарат Ноя встретил твой коллега и стал настойчиво рекомендовать ее как отличный участок под застройку. Извини, Дэн.
Не беспокойся — ты всегда будешь зарабатывать намного больше меня. Но я бы не хотела заниматься ничем другим. Всяко лучше, чем двигатели запускать — если бы не техническая революция, нам, рабам машин, пришлось бы куда хуже. Да рабский труд и сейчас есть, так ведь? Только теперь это ремонт дорожного покрытия, уборка мусора и строительные работы — ну, то, что всегда было тяжелым. Конечно, чтобы избежать этого, нужно образование намного выше среднего. Три года в колледже и прочее. Я вовсе не собиралась идти кассиршей в какой-нибудь супермаркет.
Кэт. Мы отвлеклись от Кэт. От того, что она не работала. То есть не работала всерьез. То она что-то делала в издательстве, то встречала посетителей в галерее. Бог знает, как она зарабатывала и как выкручивалась. Правда, она не снимала квартиру и не брала ипотеку. Жила у кого-нибудь — то там, то сям. Мама вечно жаловалась, что не знает, где она живет.
Нет, за нее не платил никакой мужик, тут ты ошибаешься. Не то чтобы не было желающих. Вокруг нее вечно кто-нибудь увивался. Но Кэт не решалась на серьезные отношения — во всяком случае, долговременные. Честно говоря, по-моему, у нее были проблемы.
Извини, Дэн, но ты опять неправ. Разумеется, если человеку тридцать пять, а он все еще не может решиться на серьезные отношения, у него проблемы.
И в случае с Кэт — у нее не было никакой мотивации, чтобы сделать карьеру. Давным-давно, в ранней молодости, она собиралась стать актрисой. Вот почему всякая девушка с мало-мальски привлекательной внешностью должна непременно задуматься о карьере актрисы? Правда, сегодня девчонки все больше хотят стать моделями. Сегодня бы Кэт заваливала своими портфолио агентства на Оксфорд-стрит. А тогда ей, наверное, то и дело говорили: «С такой красотой ты могла бы стать актрисой…» Вот и договорились.
Я хочу сказать, глупо все это. То есть сама идея дурацкая: то, чем ты занимаешься, не должно зависеть от того, как ты выглядишь. С таким же успехом можно утверждать, что все рыжие должны водить лондонские автобусы. С женщинами это чаще, чем с мужчинами. Красивый парень вполне может махнуть рукой на свою наружность и стать в конце концов премьер-министром или управляющим Госбанком — да всем, чем хочешь! Я не говорю, что так оно и случается, но ты понял, о чем я. Если же девушка очень-очень красивая, то, что бы она ни делала, все определяется ее внешностью. У нее есть привилегии, которые иной раз могут сделаться хуже проклятия. Внешность определяет жизнь. В случае Кэт это означало: никакого колледжа, никакой учебы, просто приятное времяпрепровождение, которое в конце концов и становится образом жизни.
Хорошо, хорошо, я согласна, что красивая девушка может преуспеть в твоем бизнесе. Ну и что это доказывает?
А потом она встретила Глина. Знаешь, я до сих пор понятия не имею, почему она вдруг решила за него выйти. Я хочу сказать, он ведь был ученым, а она никогда не интересовалась ни наукой, ни учеными. Сперва с ним познакомилась мама — уж не знаю, как и где. Нет, конечно, не совсем ботаник — Глин не такой. В свое время он снимался на телевидении, знаешь, в таких документальных фильмах — лазал по всяким древнеримским развалинам и рассказывал, как и что. Вообще, когда я стала постарше, он произвел на меня определенное впечатление. Всякие интересные рассказы — в духе Ричарда Бертона.[6] Ричард Бертон с наружностью романтического злодея, какого-нибудь Хитклиффа.[7] И наверное, вцепился в Кэт мертвой хваткой, стоило ему ее увидеть. Но не он первый. Как бы то ни было, на сей раз она сдалась. Наконец решилась на долгие отношения.
И все получилось. Во всяком случае, получалось до того, как она… до того жуткого дня. Они поженились и долго жили в браке. Имей в виду, они не постоянно жили вместе — Глин был очень занят на работе и постоянно в разъездах, а она общалась со своими многочисленными друзьями и занималась своими делами. Кэт была не из тех, кто станет сидеть дома и изображать хлопотливую домохозяйку. Она почти о нем не говорила. Так, упоминала вскользь: «Глин уехал на какую-то конференцию, так что я свободна. Слушай, поехали в город…» И мы устраивали кутеж. С Кэт всегда было весело. И знаешь что — даже посреди всего этого я не могу думать о ней иначе. Я о чем… ведь вся эта суматоха началась из-за нее, ну, из-за нее и папы, если быть объективным. А для меня она осталась прежней Кэт. Она и все это — в голове не укладывается.
Ладно, завтра поговорим. Вообще-то, не так уж и поздно, но ничего страшного. Я очень-очень беспокоюсь за родителей, вот и все. И теперь мне интересно, насколько ты меня понимаешь в этом, Дэн.
Элейн уносит телефон в оранжерею — там Соня не сможет ее услышать. Вежливая напряженность Сони начала немного раздражать ее — она определенно пытается притвориться, что все в порядке. Аппарат дребезжит все время, пока она его несет, устраивается и смотрит в окно на беседку — ага, глициния начинает зацветать. Возбуждение Полли отдается в ее ухе — полчерепа тут же начинает неприятно зудеть.
— …и столько лет прошло! — Полли с трудом удается остановиться.
— Не так уж и много, — говорит Элейн.
На самом деле времени прошло всего ничего. Каких-то пятнадцать лет или около того — в контексте ее жизни сущий пустяк. Когда ты становишься старше, со временем происходит странная штука. Оно точно спрессовывается. Когда-то оно было категорией растяжимой, и десять лет казались целой вечностью, теперь же оно точно сжалось, сморщилось, и чудится, что все было совсем недавно. Но для Полли пятнадцать лет конечно же огромный срок.
Полли снова застрекотала:
— Понимаю, это шок, с таким трудно примириться, но разве это так важно? То есть вы с папой остались теми же самыми людьми.
— Как выяснилось, не совсем, — перебила Элейн.
— Мама, я поверить не могу в то, что случилось.
Элейн замечает, что в ковре декоративной травы под яблоней-китайкой появились проплешины — надо будет посеять еще. Думая о том, какой бы бордюр посадить вокруг беседки, она вдруг приходит к серьезному открытию: толку вон от того клена никакого.
— Я не понимаю, — восклицает Полли. — То есть я понимаю, конечно, прекрасно понимаю, как ты себя чувствуешь, мам, но тебе обязательно надо было так поступать? Ты не могла.
— Нет, — отвечает Элейн. — Не могла. Я тебе уже объяснила. И твоему отцу тоже.
— Но невозможно себе представить, как он… я хочу сказать, как он теперь будет?
Элейн перестает думать про клен и бордюр. Не то чтобы она хотела отвлечься или ее не заботило то, как расстроена дочь. Скорее она радуется, что посреди всего этого может думать о повседневных заботах, а это, разумеется, хороший знак. Вдобавок сегодня Кэт больше не появляется. Не всплывает неожиданно в памяти, молчит. Раскаивается? Оправдывается?
— С банком я договорилась, — говорит Элейн.
— А… знаю, знаю, папа сказал. Я не о деньгах. Я о том, как он вообще будет жить? Ты хоть знаешь, где он сейчас?
Молчание.
— Здесь, — говорит Полли. — Здесь, в моей квартире. Пока не подыщет себе что-нибудь… по идее так. На моем диване. Новом, из «Хабитат».[8]
— А… ясно… — Спокойствие Элейн изрядно пошатнулось. — Понятно, — повторяет она. — На диване.
— Он ушел — носки купить. Забыл взять из дома. В девять вечера. По-видимому, он считает, что носки можно купить на круглосуточной автозаправке.
Элейн судорожно впивается в трубку. Сказать ей нечего. Упоминание о носках стало ударом ниже пояса.
— Отключаюсь, — говорит Полли. — Он вернулся.
Полли кажется, что в ее жизнь вторгся компьютерный вирус. Упорядоченная жизнь, где все распланировано, летит в тартарары. Все не так, как должно быть. На экране мелькают незнакомые данные — ненужные, чужие данные, — и избавиться от них невозможно. Люди ведут себя не так, как должны были; более того, по-видимому, никогда не вели себя так, как надо. Полли всегда верила в перспективное планирование, но для него необходима надежная инфраструктура. А теперь все кувырком. Мать, похоже, совсем голову потеряла, отец расположился на ее диване и разбросал по всей ванной свои бритвенные принадлежности. Она подумывает о том, чтобы примчаться к матери на выходные и лично уговаривать, увещевать ее простить отца; она собиралась пригласить друзей на ужин — теперь это придется отложить, поскольку в квартире поселился отец. Она обожает родителей, спору нет, но они не должны так поступать. Они нарушили все правила. Перестали быть надежным и незыблемым тылом, родительский дом больше не спокойное убежище, вместо этого они лишь чинят препятствия планомерному движению вперед.
Люди расстаются. И это естественно. Там и тут распадаются пары, разваливаются семьи, что не редкость. Но не эта семья, не эти люди. Только не из-за дурацкой ошибки, имевшей место давным-давно, сто лет назад, — давно пора было все забыть. Что это на них нашло? Неужели они не могут отнестись к случившемуся как взрослые люди?
Она мысленно бранит Кэт. О чем ты думала? — говорит она Кэт. Как ты могла? Видишь, что ты наделала!
Но Кэт не слышит ее. В воспоминаниях Полли Кэт делает то, что делала всегда: запускает змея в форме дракона, снимает платье с вешалки и восклицает. «Вот это!», смеется, сидя напротив за столиком в ресторане. Упрекам настоящего не достать ее. Да Полли и не хочется ее упрекать. Она бранит ее скорее для порядка. Почему? — спросила она Кэт лишь однажды. И снова Кэт не услышала ее. Но Полли смотрит в глаза Кэт и видит в них то, чего, наверное, не видела раньше. На нее смотрела другая — грустная — женщина. Но Кэт никогда не грустила — только не Кэт.
Полли так и кипит от обиды и негодования. Рывком раскладывает диван из «Хабитат», чтобы на нем можно было спать, — что означает, что в ее гостиной теперь будет не развернуться. Она уже знает, что этой ночью будет спать плохо и завтра на работе будет клевать носом.
И еще. Кажется, Дэну вся эта история совсем не нравится. Наверное, надо рвать с Дэном, — и чем скорее, тем лучше.
Глин и Кэт
Время — предмет изучения Глина. И повод для беспокойства. На часах двенадцать сорок пять, Глин сидит на склоне дорсетского холма, а в два у него семинар в университете, куда ехать больше часа. Так что ему бы поспешить, но вместо этого он сидит тут и предается мрачным размышлениям о времени.
Время — важнейший инструмент его профессии, думает он. Не будь времени, все превратилось бы в хаотичную, непонятную мешанину вещественных доказательств, беспорядочных и запутанных, какими они были и до раскопок. Время. Вот оно, необходимое связующее звено. Вот что мешает всему происходить одновременно. Первые археологи занимались установлением хронологической последовательности, что неудивительно.
В воздухе, на уровне глаз, зависает пустельга. Внизу, в отдалении, сложный узор зеленых полей прерывается большим, длинным зданием с высоченной трубой. В девятнадцатом веке, припоминает Глин, в этом здании была мельница, а теперь строятся элитные квартиры. Прямо у его ног убегают вдаль выступы, в одном из них он узнает почти сровнявшийся с землей вал крепости железного века, ради которого, собственно, он здесь. Глин пишет статью, а на этом холме — давненько он тут не был — можно найти кое-что полезное.
Наблюдая за пустельгой, он вспоминает Кэт. Когда-то они приехали сюда вместе, и в воздухе зависла точно такая же птаха. Кэт ее заметила. «Смотри, и не шелохнется, — сказала она тогда. — Ветер дует, а ей хоть бы что — висит себе. Как у нее так получается?» И сегодня Глин видит другую птицу, видит волосы Кэт, брошенные ветром на ее лицо, чувствует ее руку на своей. «Смотри! — говорит она. — Смотри!»
И Глин отвлекается от размышлений о времени; он замечает, что поток его наблюдений, бездумный и свободный, — отличный пример хаотичной, спонтанной мыслительной деятельности. Он знает достаточно о теориях долговременной памяти, чтобы определить: то, что он узнал мельницу и остатки крепости, относится к семантической памяти, которая отвечает за факты, слова другого языка. Сведения всплывают в памяти самостоятельно, без контекста. Он просто знает, и эти знания, наряду с прочими, делают его человеком мыслящим, и, по его глубокому убеждению, мыслящим куда продуктивнее многих других. Тогда как образ Кэт, вызванный в его памяти созерцанием зависшей в воздухе пустельги, — работа эпизодической памяти, которая у каждого своя и обусловливает знания человека о самом себе. Без нее нас ничто бы не связывало с этим миром, и мы стали бы сродни душам в чистилище. Подобные проблески воспоминаний делают нас цельными и обозначают течение нашей жизни. Они говорят нам, кт́о мы.
Глин встает. Внутренние часы то и дело напоминают ему о семинаре. Пустельга вдруг подается в сторону и стремительно пикирует вниз. Глин направляется к своей машине. Он узнает ее благодаря той же семантической памяти и может водить, потому что полезные навыки хранит память механическая. Без нее мы бы попросту не могли ничего и, онемев от изумления, пялились бы на руль.
Как все ненадежно, думает Глин, уверенно двинувшись вниз с крутого холма. Как она ненадежна, эта цепочка автоматических процессов, необходимых для ежедневной жизнедеятельности, происходящих одновременно. И правда, обдумывая эту мысль, Глин успевает замечать различные мелочи, связанные с этим местом, ради которого он сюда и пришел. Он визирует валы и пытается определить, где был вход в крепость. Сравнивает с прочими развалинами кельтской эпохи. Но эти мысли пронизаны чем-то еще. Не какой-то умственной деятельностью, а скорее состоянием, ощущением. Все время включается эпизодическая память. Вот он уже вспоминает, как они с Кэт устроились тут, чтобы перекусить сэндвичами, как она заметила в траве орхидею и завопила: «Смотри! Красота какая!», как внезапно припустивший дождик заставил их стремглав бежать к машине.
А когда это было? Ни семантическая, ни эпизодическая, ни механическая память не могут ответить на этот вопрос. Определенно, мышление отвергает само понятие хронологии. Ибо оно противоестественно. Его придумали извращенцы-хронисты еще в ветхозаветные времена.
Что еще происходило тогда в жизни Кэт? Глин садится в машину и заводит двигатель. Теперь, когда он все знает, в образе Кэт, которую он вспоминает, мелькает что-то темное, мрачное. Неприятное. Может быть, как раз в то самое время она ему изменяла? Может, наблюдая за пустельгой и любуясь орхидеей, она думала о Нике?
Прошло уже несколько недель с тех пор, как он обнаружил фотографию. Это событие стало точкой отсчета. Время точно разделилось надвое. «До» фотографии — эпоха невинности и покоя, если можно так выразиться. И «после» — как теперь, когда на все приходится смотреть холодным, разочарованным взглядом.
Ну, не то чтобы на все. Лишь на собственный брак. Что немало. Он успокоился. Бурлящий гнев сменился спокойной целеустремленностью. Он должен хорошенько вспомнить годы, прожитые с Кэт, пристально рассмотреть каждый аспект их совместной жизни и сделать соответствующие выводы. Чтобы выяснить, была ли измена единственной. Если да, что ж, хреново; если же она изменяла ему все время, значит, его репутация полетит к чертям. Он больше не сможет называть себя наблюдательным и проницательным человеком. И самое худшее — все его воспоминания о прошлом окажутся сплошной ложью.
Сейчас Глин составляет дневник событий того периода. Где он был, когда и сколько времени. И далее пробует установить, где в то время была Кэт, что она делала. Насколько это возможно. Что, как выясняется, практически невозможно: найти, чем он занимался в то время, можно, покопавшись в документах, но поиск оказывается более долгим и трудоемким, чем он себе представлял, а прошлое Кэт и вовсе ускользает, и приходится расспрашивать других.
Встреча с Оливером Уотсоном оказалась, по сути, бесполезной. Но не совсем. Ту женщину, Мэри Паккард, в свое время надо будет разыскать, и, быть может, она расскажет ему больше. Но, в общем и целом, толку от него не было никакого. Это как проехать через всю страну в архив, только чтобы обнаружить, что хранящийся там документ совсем не то, что тебе было нужно.
Текущая же цель — найти и расспросить тех, с кем Кэт больше всего общалась в то время: друзей, которые могут согласиться дать свидетельские показания, мужчин, с которыми у нее могла быть связь. Конечно, напрямую вопрос не задашь. Не станет же он спрашивать: «Вы, часом, не знаете, не погуливала моя покойная супруга? А может, вы и сами с ней в свое время того, а?» Он будет осторожен. Он будет ходить вокруг да около и задавать наводящие вопросы. Являться под благовидным предлогом и аккуратно прощупывать почву. Он и так все поймет — в ту же секунду, как наткнется. Почувствует по модуляциям голоса, по смене интонации, по заминке в разговоре, по уклончивому ответу. В конце концов, его специально учили искать значимые опущения. Глин всегда знает, когда отсутствие сведений должно навести на мысль, и распознает малейший намек на пропуск в рассказе.
Хорошо. Теперь что касается списка свидетелей. Ему понадобится уйма материала: дневники, телефонные книги, газетные архивы и личные расспросы. Надо будет выяснить, как звали женщину, заправлявшую галереей в Кэмдене, отыскать информацию о центрах ремесел и фестивалях искусств, в которых некогда принимала участие Кэт. Ему понадобятся терпение и все его профессиональные навыки. Страха нет. Скорее Глин ощущает прилив новых сил. В конце концов, это его стезя. Что-что, а поиск информации удается ему лучше всего.
Но начинать надо с себя. Основной ресурс Глина — прохудившийся сосуд собственной памяти. Иногда она и правда кажется ему старым дырявым ведром с проржавевшими швами. Или ему видится огромный манускрипт, от которого осталась лишь горстка обуглившихся фрагментов, точно ему придется восстановить текст Евангелий по останкам рукописей Мертвого моря.
Глин составляет списки. Роется в папках и старых ежедневниках, выясняя, где и когда он был за десять лет супружеской жизни. Вот тут и приходится выжимать максимум из прохудившегося сосуда и полуистлевших листков. Глин вспоминает, что летом 1986 года, когда большую часть сезона он провел, исследуя исторические колебания плотности населения и дни напролет просиживая в Британской национальной библиотеке, Кэт помогала в организации некоего музыкального фестиваля. Во всяком случае, так она говорила, тоже почти не бывая дома. Ей часто звонил какой-то мужчина, один из организаторов. Глину даже чудится его голос. «Алло! Скажите, я могу услышать Кэт? Это Питер из Уэссекса. Я по поводу фестиваля… Пожалуйста, передайте ей, что я звонил».
Фестиваль занесен в список Глина. Кажется, 1986 год начинает обрастать плотью. Этот Питер тоже в списке. Имя подчеркнуто.
Расследование занимает все свободное время Глина, а также изрядную часть времени оставшегося, которое, строго говоря, свободным не назовешь. Вместо того чтобы просматривать документы на кафедре или готовиться к лекции, Глин копается в старых папках. Во время собраний он тоже не может думать ни о чем другом. И теперь, сидя в машине и направляясь в университет, чтобы провести семинар, он сосредоточенно обдумывает дальнейшую стратегию. Да, он ведет себя как одержимый, и прекрасно это осознает. Но для него это нормально: если Глин что-то задумывал, он всегда становится одержимым. Стопроцентная одержимость — это его рабочий метод; без этой одержимости не было бы известности, многочисленных книг и статей.
Добравшись до университета, Глин бросает машину и спешит в свой кабинет, где у дверей уже ждет горстка студентов. Он мгновенно переключается, становясь милейшим человеком, извиняется за опоздание и грязные туфли (видите, я уже успел поработать) и широким жестом приглашает всех в кабинет. Время углубиться в аграрные реформы шестнадцатого столетия; к делам насущным вернемся позже.
Кроме поиска фактов и розыска свидетелей у Глина есть и более глубокая задача. Он думает, что ее можно назвать поиском мотивации. Нужны мотивы. Почему он женился на Кэт? Почему (честно и откровенно) Кэт вышла за него? И самое главное, отчего Кэт изменяла ему с Ником? И с остальными, если таковые были.
Почему? Почему? Почему? Мотив — вот что ему надо. Мотив все прояснит. Мотив все объяснит. А может, отчасти и утешит.
А находить мотивы он умеет. Ландшафт таит в себе сотни спрятанных, закодированных мотивов. Местность выглядит так-то и так-то потому, что люди рубили лес, чтобы строить корабли, или же расчищали территорию для овечьих пастбищ, если был спрос на шерсть. На земле остаются шрамы, следы человеческой алчности: кто-то захотел разбогатеть — и затопил шахту, целые деревни стирались с лица земли, потому что еще кто-то решил, что его не устраивает окружающий пейзаж, и стер с лица земли целые деревни. Поиск мотивов — вот специализация Глина.
— Прошу прощения, — говорит Глин. — Не подскажете, это и есть Питер Клэйвердон?
Он находится в унылой библиотеке маленького городка. Чтобы найти ее, ему пришлось перелопатить старые газеты, прошерстить Интернет и пять раз позвонить совершенно незнакомым людям. Но сейчас, вечером пятницы, он здесь, на поэтическом вечере, на который ему пришлось проехать сто с лишним километров.
Последний из тех, кому он звонил, уверил его, что проблем с билетами не будет. Так и вышло. Библиотека была прекрасно оборудована компьютерами и слегка похуже собственно книгами. Неудобные стулья расставлены полукругом; три стула напротив выстроились в ряд. На расставленных полукругом стульях разместились одиннадцать человек. Из задней комнаты появляется какой-то мужчина и оглядывается — явно оценивает, как все устроились. Глин уже догадался, что это и есть его добыча, но все равно решает осведомиться у библиотекаря, который продал ему билет. Да, это Питер Клэйвердон.
Глин пристально рассматривает его. Он уже успел кое-что выяснить об этом человеке. Питер Клэйвердон давно занимается организацией различных мероприятий, связанных с культурой и искусством, мастер на все руки, постоянно в разъездах. Круг его интересов весьма широк: его нанимают для организации мероприятий самого разного масштаба — от помпезных музыкальных фестивалей до сегодняшнего вечера в рамках поэтического конкурса. Худощавый, одет в свободном стиле, лет пятьдесят с лишним. Да, именно этот человек названивал Кэт. Глин испытывает приступ враждебности, которую надо тщательно скрыть.
Он устроился на одном из крайних стульев. Пришли еще трое — собравшихся стало уже четырнадцать, — но, поскольку то там, то сям оставались пустые стулья, народу казалось меньше. Питер Клэйвердон вводит поэтов. Те читают стихи. Глин делает вид, что слушает, наблюдая за жертвой и разрабатывая тактику нападения.
Мероприятие подошло к концу. Два человека из числа слушателей покупают книжки стихов. Поэты принимаются болтать.
Глин улучает момент и подходит к Питеру. Представляется.
— Моя фамилия должна быть вам знакома. Вы знали мою жену.
Тот непонимающе смотрит на него, а потом сияет (определенно не просто так):
— А… Кэт. Боже ж ты мой, Кэт. — Теперь в голосе сожаление, сочувствие. — Какое несчастье. Такая жалость…
Глин грустно качает головой: мол, да, но я держусь. И вежливо благодарит за сочувствие. Позволяет повспоминать. А потом продолжает. Объясняет цель своего визита. Улыбается. Он хочет написать воспоминания о Кэт, чтобы подарить родственникам и друзьям. И вот хочет узнать получше о некоторых аспектах ее жизни. О тех периодах, когда дела требовали ее отъезда. О людях, с которыми она тогда общалась. Как я понимаю, вы — один из них. Не будете ли вы так любезны уделить мне немного вашего времени? Чтобы заполнить, скажем так, пустоты в моих воспоминаниях…
Произнося это, Глин пристально рассматривает лицо собеседника. И что же он видит? Он реагирует — это ясно. Но как? Что-то то и дело блещет в его глазах. Воспоминания о страстных свиданиях? Чувство вины? Замешательство? Глин начеку: он чует, что имя Кэт для собеседника не пустой звук.
Когда Клэйвердон отвечает, он само радушие и готов говорить и говорить. Да, тогда он часто виделся с Кэт. Какая она была славная. Развозила музыкантов по отелям, вовремя привозила в концертные залы. В нее был влюблен целый венгерский струнный квартет.
Отвлекающий маневр? Глин слушает с вежливым интересом
Комната потихоньку пустеет. Поэты собрались в кучку.
— Кстати, я тут подумал: у меня есть кое-какие фотографии, — говорит Клэйвердон. — Я живу в пяти минутах ходьбы отсюда. Поэты, должно быть, хотят напиться, но, полагаю, справятся и без меня. Просто покажу им, как пройти к «Белому оленю», и пойдем.
Приглашение приводит Глина в замешательство. Он чувствует: что-то тут не так. Этот человек определенно был знаком с Кэт. Тон голоса и блеснувшее в глазах выражение выдали его: Кэт он знал хорошо. Но насколько хорошо? Может, эта сердечность — лишь уловка для отвода глаз?
Питер Клэйвердон спроваживает поэтов. Они с Глином пересекают рыночную площадь и сворачивают на одну из боковых улочек, по пути беседуя о тех самых фотографиях: точно есть снимок, где Кэт сопровождает всемирно известного дирижера, только бы его найти.
— Она как-то подменяла одного сотрудника в нашем офисе, примерно год спустя, помните? — Питер бросает взгляд на Глина, который послушно припоминает. — Мы любили привлекать ее то по одному, то по другому поводу. Она нам очень нравилась, Кэт.
Они подходят к коттеджу с террасой. Клэйвердон отпирает дверь и кричит:
— А вот и я!
Ответа не последовало.
— А… — говорит он. — Значит, вот-вот вернется. Кофе? Вина?
Значит, он живет не один. Интересно, как давно он с ней.
Знала ли она о Кэт? Или весь этот спектакль и для нее тоже? Глин принимает бокал вина; он — весь внимание. Есть в этом человеке что-то странное, только он не совсем понимает что именно. А когда он говорит о Кэт, то говорит о ней с теплотой — и как о добром и близком друге.
Покопавшись в ящиках стола, хозяин находит фотографии. Да, на всех снимках — Кэт. Вот Кэт рядом со знаменитым дирижером, которому она, по словам хозяина, очень приглянулась. А вот групповое фото организаторов фестиваля: выстроились в ряд, на лицах улыбки; и Кэт среди них. Стоит рядом с этим Клэйвердоном; Глин ловит себя на мысли, что пристально их рассматривает. Но рук не видно. У нее совершенно счастливый и непринужденный вид. Она сияет. У Глина появляется странное чувство, что он чужой: он ничего не знает ни об этом дне, ни об этих людях.
Вдруг ему приходит в голову, что надо бы, собственно, рассказать, чем он занимается. Пока для Клэйвердона остается загадкой, кто он и что. Ловко переведя разговор, он сообщает ему о своей специальности и намекает на положение, которое занимает среди коллег. Тот кивает. Равнодушно. По-видимому, все же не совсем в курсе о заслугах собеседника. Да, Кэт говорила. Говорила, что вы всегда очень заняты. Что ландшафтная история занимает все ваше время.
Правда? Спорное откровение. Наводит на мысли. Значит, общались они и в самом деле весьма близко. Он начинает злиться, но необходимо сохранять спокойствие. И поэтому он снова обращается к теме того лета, фестиваля и Кэт. И спрашивает мол, не припомню, где она тогда останавливалась? В каком-то отеле, так ведь? Он испытывает Клэйвердона, ждет, что тот как-то выдаст себя.
Тут отворяется входная дверь. «Наконец-то», — восклицает Клэйвердон.
И входит… мужчина. Согнувшийся под тяжестью пакетов из супермаркета, слегка запыхавшийся, ставит пакеты на пол, добродушно улыбается Глину и говорит Клэйвердону.
— Да вот тут подумал, что неплохо бы купить продукты до выходных.
Клэйвердон объясняет ему, кто такой Глин:
— Помнишь Кэт Питерс? Одна из организаторов Уэссекского фестиваля. Вы же с ней тогда здорово подружились. Бедная Кэт…
Тот мгновенно выказывает интерес. Конечно, он помнит Кэт. Разве ее можно забыть? Лицо его выражает сожаление и сочувствие. Он тут же принимается вспоминать какую-то историю, связанную с Кэт.
Глин его почти не слушает. Откуда ему было знать, что парень — гей? Только зря время потратил. Больше здесь торчать незачем. Он допивает бокал и ждет удобного момента, чтобы встать, попрощаться и уйти.
Клэйвердон и его дружок в этот момент вспоминают, как Кэт спасла ситуацию, срочно помчавшись в аэропорт Хитроу, чтобы забрать музыканта, приехавшего на замену. Глин нарочитым жестом смотрит на наручные часы и восклицает:
— Господи! Уже так поздно! Мне пора.
Дружок Клэйвердона налил себе вина и устроился на диване, не прекращая говорить:
— Она всегда была готова помочь, правда? И в то лето она так радовалась. Жаль, что ничего не получилось. Она так расстроилась — все это заметили.
Глин не слышит: он вспомнит эти слова позже, много позже. Он встает и начинает говорить, что устал, припозднился, да и ехать далеко.
— Огромное спасибо, — говорит он. — Здорово было увидеть фотографии…
Хозяева тоже поднимаются: у Клэйвердона слегка протестующий вид — еще бы! Сзади маячит его бойфренд. Когда Глин выходит из дома и направляется к машине, перед его глазами снова встает эта картина: двое мужчин стоят рядом и озадаченно на него смотрят. Ну не объяснять же им, зачем он приехал на самом деле?
Ладно, допустим. Итак, почему он женился на Кэт? Он женился на ней, потому что она была самой желанной из женщин, которых он когда-либо встречал, заполучить ее было необходимо, заполучить насовсем, чтобы больше никто другой не мог обладать ею.
Значит, по любви?
Конечно.
Уверен?
Наверное. Точно. В любом случае, это неважно. Он всегда презирал банальные сантименты.
Он женился на Кэт потому, что непременно должен был на ней жениться.
— Могу я поговорить с Кларой Мэйхью?
— Я слушаю.
— А… Мы незнакомы — меня зовут Глин Питерс. Насколько мне известно, вы некогда были управляющей в галерее Ханнэй, и, наверное, знали мою жену, Кэт.
Пауза.
— Да. Она периодически у нас работала. — Еще пауза. — Мне говорили, что она…
— Да. Да. Боюсь, что так. Извините, ради бога, что беспокою, но хотелось спросить… — Глин снова вертит в уме идею написания мемуаров, убеждает себя; в голове его уже практически созрел план будущей работы.
— Вам, должно быть, пришлось потрудиться, чтобы меня найти, — наконец говорит Клара Мэйхью.
Предполагалось, что она скажет несколько не то, ну да ладно. Глин соглашается, ведь так оно, по сути, и есть. Он не стал рассказывать о систематическом поиске, просто заметил, что ему повезло.
— Наверное, вы хорошо ее знали?
— Правда?
Он не нашелся, что на это ответить; да от него и не ждали ответа. Теперь Глин уклоняется от идеи встречи. Может, эта Клара Мэйхью — очередной ложный след. Как бы то ни было, Кэт днями — неделями! — торчала в этой галерее. Он пробует другую тактику:
— Кажется, с одним из художников, которые там выставлялись, она особенно сдружилась, но я не могу припомнить, как его звали. Просто подумал: может, вы мне подскажете?
— Что подскажете?
— Подскажете имя этого… этого человека. Художника.
Вздох.
— Помнится, у Кэт всегда было очень много друзей. Она то и дело торчала в галерее.
— Мне показалось…
— Портрет. Он-таки был написан?
— Портрет? — Глин мигом насторожился.
— Бен Хепгуд. Хотел написать ее портрет. Давно хотел. Не сомневаюсь, он это сделал. Иначе и быть не могло.
Глину приходит в голову, что этой Кларе, должно быть, просто надоело с ним разговаривать, она вовсе не собирается ничего от него скрывать. Видимо, она не особо дружила с Кэт. Но разговор оказался полезным, и весьма. Он деловито спрашивает:
— Хепгуд? Точно, он и есть. Имя очень знакомое. Кстати, а у вас его адреса не сохранилось?
Но терпению Клары, видимо, пришел конец. Нет, адреса у нее не осталось, все, что ей известно, — что тогда он жил где-то в Суффолке. Она просит прощения, но ей пора…
Глин великодушно прощает ее. Бен Хепгуд, значит.
Почему Кэт вышла за него?
Она согласилась стать его женой, потому что нашла, что в нем есть харизма, шарм. Потому что он смог убедить ее: ему нужна только она, и никто больше. Она вышла за него, потому что он предложил ей другую жизнь, был не такой, как остальные: энергичный, деятельный.
И из-за секса?
Конечно.
Ты был хорош собой.
Да-да. И сама Кэт была замечательной красавицей. А я — привлекательным мужчиной. Красивая пара, что называется.
Тем не менее.
Что из того? Ты был не первый, причем далеко не первый. Так что почему ты? Почему?
Она вышла за него потому, что он настоял на этом.
Та женщина, Клара, назвала имя: Бен Хепгуд. Имя отпечаталось в памяти Глина и не давало ему покоя. И он принимается за работу. Ищет, роется в Интернете, просматривает списки художников — и очень скоро находит парня; надо же, он все еще живет в Суффолке. Это означает, что ему придется ехать через всю страну, но что значат расстояния, если у тебя есть цель?
Однако он не просто так погружался в думы. Из глубин памяти на поверхность кое-что всплыло — давно забытые воспоминания: Кэт сидит в саду в шезлонге в красно-белую полоску. На ней минимум одежды и солнечные очки. Она запрокидывает голову навстречу солнцу и говорит: «Бен Хепгуд… Такой классный художник… и недавно премию получил, очень престижную. Ты меня слушаешь?» — спрашивает она. Остальные слова утонули за этими «Ты меня слушаешь?», стекла очков устремлены на него, в полуулыбке сквозит недовольство. А он, Глин, что делает? Читает? Думает? Тоже разговаривает? Но не слушает — это уж точно. Зато теперь слушает. О, теперь он весь внимание.
Слушает который день, но тщетно. Кэт умолкла. Прислушивается всю дорогу до Суффолка, разбираясь в дорожной сетке: автострады, проезжие части с двусторонним движением и боковые дороги; то и дело ему приходится сверяться с картой. Бен Хепгуд его не ждет. Бен Хепгуд ожидает человека, который интересуется его творчеством, случайно оказался поблизости от его дома и попросился зайти… Безымянного человека, поскольку, когда Хепгуд спросил его имя, соединение прервалось. Бывает. Что поделать.
Так что Бен Хепгуд ничего не заподозрит и не будет ни обеспокоен, ни напуган. Глин уже представляет себе Бена Хепгуда, который так жаждал написать портрет Кэт — наверное, будучи влюбленным без памяти. Глин видит человека, который неустанно нахваливает красоту темноволосой Кэт, как он сам, Глин, неоднократно восхвалял ее. Он видит почти такого же Глина — с примесью дурной репутации и богемного лоска. Видит этого человека в своей мастерской, с Кэт. Портрет ведь долго пишется, правда? Приходится часами позировать. Только художник и модель — тет-а-тет.
Интересно, все эти часы единения они проводили здесь? И Кэт так же плутала среди крутых боковых улочек? Наверняка. И вдруг Глину чудится Кэт: она садится в свой маленький «рено» и куда-то едет, уезжает — одна рука на руле, второй она машет в окно: «Увидимся!» И он чувствует боль; его охватывает странное ощущение. Когда-то, во времена неведения, эти видения Кэт не несли никакой смысловой нагрузки. Он жил с ними, они были частью его внутреннего ландшафта, они просто есть, и все. И это ему не нравится. «Увидимся!» Вот только они не увидятся. Больше никогда.
Он резко нажимает на тормоз. Вот оно. Здесь живет Бен Хепгуд. Белый коттедж, обнесенный оградой из кольев, справа по дороге, сразу после того, как от развилки вы повернули налево.
А если приглядеться, это два небольших коттеджа, соединенных в один; вокруг разбросаны мелкие хозяйственные постройки? Может, в какой-то из них и располагается та самая мастерская, которую так живо представлял себе Глин. Он заезжает на травянистую обочину (интересно, Кэт тоже приходилось это делать?) и выбирается из машины. Мгновение он стоит на месте — собирается с мыслями и с силами, прежде чем открыть задвижку калитки. И в тот самый момент, когда он ее открывает, парадная дверь коттеджа открывается, и из нее показывается, стало быть, Бен Хепгуд. Рыжий коротышка. При виде незнакомца он широко улыбается, а за его спиной маячит женщина. Обоим лет по пятьдесят с небольшим.
Обмен приветствиями.
— Гленда, моя жена. А вы? Простите, по телефону я тогда не…
Еще бы ты разобрал, думает Глин.
— Питерс. Глин Питерс. — И внимательно смотрит, скажет фамилия что-нибудь или нет? Не говорит. Что объяснимо — не такая уж она и редкая.
Они перемещаются на кухню. Хозяева заваривают чай. Они болтают. Вы издалека? Надеюсь, вам было легко нас найти по моим указаниям. И тому подобное. Вполне дружелюбная пара, без выкрутасов и богемного лоска. Кэт любила художников, думает Глин. Выделяла их из числа прочих, увивалась за ними, как маркитантка за полком. Он рассматривает Бена Хепгуда; тот, помешивая ложечкой чай, нахваливает свой огород. Который виднеется тут же, за окном. Краем глаза Глин наблюдает и за его женой и гадает, давно ли они вместе.
Бен Хепгуд приглашает Глина посмотреть мастерскую. Глин соглашается. Все трое отправляются к одной из построек. Обычная студия художника: пахнет масляной краской и льняным семенем, холсты сложены в стопку, развешаны по стенам, навалены на столы и полки. Пара старых сосновых стульев, плетеное кресло с засаленными подушками. Ни шезлонга, ни кровати. По крайней мере, теперь.
А сейчас пора. Ему придется признаться, кто он такой, перестать быть инкогнито.
Что он и делает. Ласковым, извиняющимся тоном, пару раз скорбно опуская глаза. Когда он подходит к цели своего визита, то есть упоминает о портрете, он пристально наблюдает за Беном Хепгудом и краем глаза — за его женой Глендой. Ему нужно увидеть реакцию. На имя Кэт они среагировали очень знакомо — Глин уже видел радость и теплоту, с какой ее вспоминали, и сочувствие своей утрате. …И Глин начинает сомневаться. Но ведь портрет… Что там с ним?
— А… точно, — говорит Гленда. — Она была чудесной моделью. И Бен ее написал отлично. Один из его лучших портретов, я вам точно говорю… он, правда, так не считает. — И она по-супружески деловито, но ласково потрепала художника по руке. Тот улыбнулся жене.
Ну и что? Глин пристально смотрит на них. То ли оба притворяются из-за него, то ли она не в курсе. А может — скорее всего, — он, Глин, снова идет по ложному следу.
— Она приезжала сюда? — спросил он.
Да, конечно, кажется, так. Пару раз даже на ночь оставалась. С ней было так весело, дети тогда еще подростками были, а Кэт легко сходилась с детишками, придумывала всякие безумные игры, они до сих пор ее вспоминают.
— Когда?
Совещание. Наверное, ближе к концу восьмидесятых. Летом 1988-го? Да, точно, потому что вернисаж, на котором портрет купили, состоялся в восемьдесят девятом. Сразу же ушел портрет.
Как?
А вот так. Тот тип пришел на открытие и немедленно заприметил картину. Или что-то в этом роде. В первые же десять минут.
Серьезно? Серьезно?
Глин лихорадочно пересматривает свою позицию. Буквально доля секунды — и у него зреет другой план. Он четко видит, что надо делать. И объясняет: мол, все это время он очень надеялся, что ему удастся выкупить этот портрет. Ему ведь было известно, что его жену писали («Ты меня слушаешь?»), но что потом стало с портретом, Кэт не упоминала, и лишь недавно ему пришло в голову: а может, каким-нибудь чудом картина все еще у вас?
Кто мог ее купить? Да еще так сразу, как будто ждал шанса, а может, он уже знал о картине? Может, он знал Кэт, и знал ее настолько близко, что поспешил купить ее изображение, чтобы оно не досталось никому другому?
— …очевидно, это было слишком — надеяться, что картина еще у вас. Но у кого-то же она есть? Вы, случайно, не знаете, кто ее в итоге приобрел?
И да, у Бена Хепгуда имелся журнал, в который он записывал сведения, куда ушли его картины. Он извлекает из ящика стола папку и принимается в ней рыться. Гленда говорит о Кэт. О том лете, когда, по словам Кэт, он, Глин, постоянно был в разъездах по работе.
— Простите, я толком не запомнила, чем вы занимаетесь. А Кэт рассказывала… то есть она часто оставалась одна, я думаю, она очень радовалась возможности сюда приехать. Однажды она взяла с собой наших девочек и съездила с ними на побережье на пару дней. Жаль, что у нее так и… не то чтобы она жаловалась, но это всегда чувствовалось…
Глин пристально смотрит на Бена Хепгуда, тот никак не может найти записей из галереи.
— Черт, неужели я их выбросил? Постойте, нет, вот же они! Некий мистер Сол Клементс — вот адрес и телефон. Лондон. Кажется, небедный район. — И смеется.
Есть. Тот самый покупатель. Вот его настоящая добыча. Бен Хепгуд был просто ступенькой — но кто же знал? Бен Хепгуд, сам того не зная, облегчил ему задачу. Он написал портрет Кэт, по очень большому желанию написал, но по причинам исключительно творческого характера — да и кто бы устоял? Но как только портрет отправился на выставку, его тут же пожелали купить. Кто? Может быть, тот, кто ждал этого? Тот, с кем Кэт встречалась тем летом?
Остается только отделаться от Хепгудов. Которые даже теперь, когда выяснилось, что интерес к творчеству художника объясняется исключительно личными мотивами, продолжают относиться к нему вполне дружелюбно. Чтобы хоть как-то исправиться, Глин выказывает запоздалое внимание к работам, лежащим и висящим повсюду: задает вопросы, вежливо и почтительно комментирует. Хепгуд пишет маслом в классической манере, а значит, сегодня он, что называется, не модный, если судить по публикациям в воскресных газетах. Подумав так, Глин не упускает возможности польстить хозяину, поругав современный кич и перформанс — мол, теперь только и выставляют, что незаправленные кровати да чучела животных; кажется, его слова пришлись тому по душе.
Но тут Хепгуд прерывает беседу о современном искусстве — он вдруг вспоминает, что где-то у него хранился слайд с того портрета, и вновь принимается рыться в папках и ящиках стола. Глина эта новость заворожила — отчего-то он до сих пор не верил, что портрет существует — в той или иной форме. Кэт. Здесь и сейчас Бен Хепгуд роется в папках и альбомах; Гленда что-то говорит о том, что для Кэт ее наружность представляла проблему. Да ну? Глин мельком посматривает на Гленду — коренастая, румяная, пышущая здоровьем, она являет собой противоположность Кэт. Проблему? Но тут ее благоверный говорит: «О, нашел», открывает конверт и подносит слайды к свету. Должен лежать в этом конверте — здесь слайды с выставки. И потом: вот! И передает слайд Глину.
Крошечная, как драгоценный камушек, Кэт, освещенная лучами света из окна. Слайд слишком маленький, чтобы можно было различить детали, но он безошибочно узнает ее — характерная поза: сидит, подогнув под себя ноги, слегка отвернув голову и подперев подбородок, опершись локтем на ручку кресла. Глин пристально рассматривает застывший момент — момент из тех времен, когда Хепгуд видел Кэт, сидевшую в этой позе. Кэт просидела так в этой мастерской много часов подряд, наверное, в этом же самом плетеном кресле, глядя вот в это окно. Глина охватывает странное чувство: он ощущает, что был исключен из этого пространства, этого времени. Она была здесь, а он — нет. А теперь наоборот — он здесь, а ее нет, — и от осознания этого у него по спине пробежали мурашки.
Хепгуд говорит о портрете. Он сказал, что захотел написать ее даже не из-за красоты — вовсе не обязательно человека захочется рисовать лишь потому, что он хорош собой, — из-за того, как она держалась. Как стояла, сидела, двигалась. Потрясающе красиво. И в то же самое время — абсолютно естественно. Как грациозное животное. Он долго не мог решить, а какой позе ее писать: то ставил ее так и сяк, то сажал, — пока как-то раз не заметил, как она уселась именно так, и подумал: да, вот оно.
Глин едва слышит его. Все его внимание приковано к маленькому прозрачному квадратику в своей ладони — Кэт, сохраненной в капельке янтаря. Он чувствует, что ему не хочется расставаться со слайдом. Он пытается рассмотреть черты лица Кэт, но изображение вышло слишком маленьким. И вскоре он возвращает слайд Бену Хепгуду.
— Благодарю, — говорит он.
Домой Глин едет практически в трансе. Почти ни на что не обращает внимания; различные ландшафты мелькают незамеченными. Он не замечает, как обычно, ни названий населенных пунктов, ни расположения дорог, чтобы потом поискать на картах и аэрографиях, ни зданий, ни системы полей. Все, о чем он может думать, — маленький прозрачный квадратик, потерянная, неизвестная ему Кэт, которую он несколько минут держал в руке. Кэт снова мешает его работе, но он этого не замечает.
Она сюда приезжала. И не один раз, а несколько. Приходила в этот дом, болтала и смеялась с этими людьми, играла с их детишками, ее здесь привечали. Сидела в плетеном кресле в мастерской Бена Хепгуда, по много часов кряду, и смотрела в окно. И думала — о чем?
Он никогда не ревновал ее к друзьям, никогда не возмущался, что в доме снова толпа народу, что она вечно болтает с кем-то по телефону. Сказать по правде, они его мало интересовали. Вот любовники — другое дело, а друзья… ну, что друзья? Теперь он ищет любовников, но тревожат его другие, вызывают в нем незнакомое чувство… чего?
Того, что он был исключен из некоего кружка, ничего не знал о целом периоде жизни своей жены, чувство потери. Он по крупицам узнает о той Кэт, которую, как теперь выяснилось, он совсем не знал, но знали другие, будучи сами для него загадкой. Неизвестные ему люди, тем не менее отлично знакомые с той, с которой он жил в абсолютной интимности.
Ты знал это всегда. Что у нее есть друзья.
Конечно.
Так в чем же дело?
Откуда мне было знать? Как бы я, черт возьми, узнал? Глин несется по М25. Мимо него пролетают графства, там, вдали, маячит Лондон. Но он этого не видит. Перед его внутренним взором предстают лица — чужие лица Хепгудов, Питера Клэйвердона, — лица с прилагающимися к ним словами, повторяющимися незваным рефреном, сказанными сегодня и давным-давно: «Жаль, что ничего не получилось», «…ее наружность… проблему…», «Ты меня слушаешь?»
Он выходит из лифта в многоквартирном доме. Тихо, кругом ковры — живут тут явно люди состоятельные. Голос Сола Клементса в домофоне пригласил его подниматься, и Глин готовит себя к встрече с этим человеком. По предыдущему опыту он уже зарекся что-либо представлять заранее; тем не менее он начеку, когда он проходит в коридор и ждет звонка. Ему понадобятся вся его проницательность и способность логически мыслить, чтобы понять, что же так двигало человеком, который так поспешно купил портрет его супруги.
Дверь в квартиру уже открыта. А на пороге стоит хозяин — более уродливого мужчины Глин в жизни не встречал. Жаба, гном, неандерталец. Низенький и толстенький, как бочка, со сплющенным носом и огромным ртом. И лет ему по меньшей мере семьдесят пять. Неужели Кэт могла сделать своим любовником подобного человека?
Питекантроп между тем приглашает Глина в комнату, обставленную богатой мебелью темного дерева, слегка поблескивающей в полумраке. Даже окружающий мир был превращен в пейзаж, украшающий стену, — очертания Лондона обрамляли плотные, матово мерцающие парчовые шторы, шум машин за окном превратился в мурлычущую фоновую музыку. Обитые бархатом диваны и кресла, письменный стол и обеденные столы, которые бы украсили любой музей, а под ногами лежит сущий шедевр восточного ковроткачества. Да, здесь определенно пахнет деньгами. Стены увешаны картинами, каждая из которых освещена — мягко, но так, чтобы ее можно было наилучшим образом рассмотреть. Вот, кажется, Уильям Николсон, а вон там, наверное, Люсьен Фрейд. Видимо, здешний хозяин любит искусство. Очень любит. И за многие годы прилично потратился на картины и прочее.
Представить Кэт в такой комнате невозможно. Но вот она — вон в том углу, висит над изящной тахтой восемнадцатого века. Ярко освещенная точечным светом. В раме, на холсте размером два на три фута, в простом зеленом платье — руки обнажены, ноги подогнуты, — сидит в том самом плетеном кресле, которое Глин видел в мастерской Бена Хепгуда, обернувшись в полупрофиль, к свету из окна — свету других времен, тех, о которых Глин совсем ничего не знал.
Тот, который никак не мог быть любовником Кэт, подводит его к картине. И говорит. Твердым, аристократическим, с изящными модуляциями голосом — настолько же культурным, насколько неотесанным казался его внешний вид. Глин чувствует, что замолкает. Ощущает себя виноватым. Точно гость, ляпнувший бестактность, или школьник, опозорившийся перед классом. Он хочет бежать отсюда, но он здесь, и по своей воле, так что сам виноват.
Глин разглядывает Кэт. Видит ее лицо — задумчивое, отрешенное. О, ему знаком этот взгляд искоса, это погружение в думы. Он пристально разглядывает Кэт, утраченную Кэт, ныне запертую в золотой клетке квартиры этого человека, запертую в иное время, в ином месте, обрамленную Беном Хепгудом. Он принимается гадать, как они проводили те часы. О чем говорили она, Бен и Гленда, которая иногда, должно быть, приносила кофе или приходила звать за стол. Он прислушивается, пытаясь расслышать голос Кэт. Удивительно, просто поразительно, как ему хочется услышать этот голос в этом чуждом месте, среди огромных диванов и отполированной антикварной мебели.
Хозяин говорит. Он рассказывает, что, когда покупал картину, был незнаком с творчеством Бена Хепгуда, но как только увидел портрет в галерее, он сразу же привлек его внимание. Он тут же попал под обаяние вещи.
— Решение стало быстрым и легким. Такие принимаешь с удовольствием — когда просто знаешь, что картина должна быть твоей, и все.
Он улыбается Глину заговорщицкой улыбкой, как коллекционер коллекционеру. Привлекает его внимание к дивной лепке лица. К тому, как расположен свет, как он падает на руку и на выступающий уголок желтой подушки.
Словом, этот человек — сама учтивость. Учтивостью было пронизано и письмо, написанное им Глину в ответ на его тщательнейшим образом сформулированный запрос о том, где находится портрет его покойной жены, который, как ему удалось выяснить, приобрел некий мистер Клементс в 1989 году — мол, хотелось бы посмотреть на него и сфотографировать. Фотоаппарат лежит у него в кармане.
И тут его хозяин вдруг задает странный вопрос. Он спрашивает, как звали Кэт. Кажется, он на самом деле этого не знал; картину продали ему как портрет подруги художника, без всяких уточнений. Когда Глин просвещает его, он долго и пристально смотрит на картину.
— Кэт, — произносит он наконец. — Значит, вот как ее звали. Кэт. Я всегда думал о ней как… о ней. С уважением, разумеется. А теперь — большая разница. Тем более что ее больше нет.
Глин вычеркивает из списка мистера Сола Клементса, который никогда не был любовником Кэт, даже не знал ее имени, но теперь станет жить с ней каждый день в странной близости. Как вычеркивает и Питера Клэйвердона с Беном Хепгудом, которые тоже не спали с Кэт, но откуда ему было знать? Несколько раз он зашел в тупик — так всегда, когда начинаешь какое-нибудь фундаментальное исследование. Глин давно привык к чувству крушения иллюзий — он знает, что потребуются терпение и сила воли. Но вот к чувствам, вызванным этим исследованием, он не привык совсем. Он стал нервным, беспокойным, утратил способность контролировать собственную реакцию. Вместо того чтобы спокойно идти к цели — то есть установить, было ли в характере Кэт ходить налево, — он обнаруживает на своем пути засады и ловушки. Ему надо бы отбросить оказавшиеся бесплодными гипотезы, он же то и дело погружается в печальные размышления. О мастерской, где сидела, болтала и смеялась Кэт. Об освещенном точечной подсветкой портрете. О том лете, когда состоялся музыкальный фестиваль, и о сияющей на групповом снимке Кэт. Он хочет вернуться в то время и задать ей вопросы, которые ни разу не задал тогда. Куда ты собираешься? Почему? Каково тебе там?
Ник
Ник точно в ступоре. Ему нехорошо. Он потерял счет времени, не знает, какой теперь день недели. Бродит по Лондону, потому что в квартире Полли еще хуже, но так и не может найти себе никакого дела. Раньше поездка в Лондон была сущим подарком судьбы, теперь же он чувствует себя так, точно его сослали в Сибирь. Проголодавшись, он должен искать еду сам, потому что днем Полли нет дома, да и вечерами, как правило, тоже, а ее холодильник — совсем не то же самое, что забитый едой холодильник у них дома. Дома? Кажется, теперь у него нет дома. Полли едва ли не взашей выталкивает его в агентство, чтобы он отыскал себе съемную квартиру. Но он почти не слушает агентов, и списки, которые ему выдают, так и остаются лежать непросмотренными.
Этого не может быть. Это какая-то ужасная ошибка. Он пытается дозвониться до Элейн, но она не берет трубку. Либо к телефону подходит Соня и тактично уклоняется от прямого ответа, либо включен автоответчик. Он оставляет сообщения — просьбы, поначалу гордые и вежливые, вскоре перерастают в нытье и униженные мольбы. Но Элейн не отвечает.
Полли отправляется проведать мать и возвращается злая и раздраженная.
— Придется подождать, пап, — говорит она. — И слушай, ты точно не хочешь посмотреть ту квартирку в Клеркенвелле? Кажется, как раз то, что тебе надо.
Но Ник не хочет смотреть «потрясающий лофт» «практически в центре». Он хочет домой, прямо сейчас, он не хочет ждать. Хочет, чтобы этот кошмар поскорее закончился, отправился в прошлое и забылся, как должны забываться ошибки: с глаз долой — из сердца вон. История с Кэт давно поросла быльем и не всплыла бы, если бы не… не этот нелепый случай и безумная эскапада чертова Глина.
Было и прошло. Хорошо, хорошо, этого не следовало делать, но никому же тогда от этого хуже не стало, зато стало сейчас, и так некстати. Ник не может поверить, что столь давнее прошлое может всплыть на поверхность — и разрушить его жизнь. Он унижен и раздавлен; неудивительно, что у него все чаще болит голова и отказываются служить ноги. Они с Элейн должны пережить это вместе — тихо и спокойно; он уверен, у них бы получилось, дай она ему шанс.
Вместо этого он шатается по жуткому Лондону, периодически встречаясь с кем-нибудь из старых знакомых. Но эти встречи давно потеряли свою привлекательность. Более того, он уже не хочет ехать в Нортумбрию, и все проекты, что роились в его голове, внезапно куда-то подевались.
Неужели Элейн серьезно считает, что в подобных обстоятельствах он сможет работать? Он едва способен сконцентрироваться даже на том, чтобы купить себе газету. Сидит на скамейке в парке с бутылкой пива, точно какой-нибудь алкаш, и пялится на свои ботинки.
И вспоминает о том, что случилось тогда, чего не должно было случиться — что не должно было вернуться и врезать ему под дых.
В один прекрасный день, взглянув на Кэт, он видит, что она такая хорошенькая. А что, раньше он этого не замечал? Да, но не так, просто подумал об этом вскользь, и все. А теперь ее привлекательность вдруг стала другой: она стала значимой, значимой для него самого, заставляла думать о том, что с этим что-то надо делать.
Он захотел переспать с ней. Осознав это, он пришел в замешательство. Послушайте, это же сестра Элейн! Господи, сестра Элейн, которую ты знаешь столько лет!
Но это ничего не меняло. Абсолютно ничего. Ну и что? — говорил в его мозгу тихий, спокойный голос. Что с того, что она сестра Элейн? Такое случается, правда? И никто ничего не может с этим поделать. Ты не виноват в этом, да и она тоже.
Он вспоминает, как на него накатила… хорошо, похоть. Вспоминает, как смотрел и смотрел на Кэт, ошарашенный тем, что может смотреть на нее другими глазами, что знакомое лицо Кэт стало совсем другим. Но к изумлению примешивалось приятное волнение. Он вспоминает, как день начинал играть новыми красками, как в нем кипела и бушевала энергия.
Все он прекрасно помнит. Куда меньше он припоминает временные рамки. Сколько это продлилось? Полгода? Год? Сколько раз они занимались любовью? Ведь не так много? В его голове все слилось в горстку живых, отчетливых воспоминаний: лицо Кэт, ее тело, голос.
Она отворачивается от него. «Зачем мы это делаем?» — спрашивает она. И пристально смотрит на него — он хорошо помнит этот пристальный и слегка покорный взгляд. Взгляд, который ему не понравился, который совершенно не подходил к моменту. «Ты-то понятно — ты делаешь это затем, зачем все мужчины… все люди, — поправилась она. — Но зачем это делаю я?»
Он пытается успокоить ее. По крайней мере, он так считает. Когда теперь он слышит ее слова, он думает о том, что мог бы сказать ей в ответ, но так, очевидно, и не сказал.
— Ты — муж Элейн. Может, поэтому? Я сплю с тобой потому, что ты — муж Элейн?
Он вспоминает тот день, когда была сделана фотография. Проклятый снимок, из-за которого он сидит на скамье в парке, у его ног ветер гоняет пакетики из-под чипсов, а рядом сидит старик и читает «Сан». Я больше не могу так жить, думает он, не могу.
Зачем они поехали именно туда, на виллу? Кэт предложила? Но Кэт никогда не любила древние развалины. Нику подумалось, что, наверное, это он сам подал идею поездки, в связи с каким-то очередным проектом. Но на самом деле это был предлог для того, чтобы увидеть Кэт, потому что тогда ему было необходимо быть с ней — даже в компании. Вот они все и собрались — Элейн, он сам, и Кэт, и эта женщина, Мэри Паккард, с каким-то мужчиной, и Оливер. Судьбоносный Оливер, которому приспичило взять с собой фотоаппарат.
Он вспоминает пикник. Вся компания валяется на траве, и он, как никогда, ощущает присутствие Кэт, тщательно стараясь уделять ей не больше внимания, чем остальным, аккуратно продолжая вести себя с ней нормально, так, как вел все эти годы. Он вспоминает, как они с Мэри Паккард ушли побродить по окрестностям, как они смотрят на какой-то кусок мозаики и смеются. Тогда он еще подумал: знает ли Мэри Паккард? В конце концов, Кэт с ней очень дружила. Была ли Кэт с ней настолько откровенна? Он почти захотел узнать, что известно Мэри Паккард.
Он вспоминает, как они стояли вокруг чего-то и он очутился возле Кэт. Очутился? Скорее сам подошел к ней. И не удержался от того, чтобы взять ее за руку — потянулся к ней и сжал ее пальцы, отведя руки назад, спрятав их за ее развевавшейся юбкой. Тайна и интимность этого прикосновения были волнительны и приятны, особенно волнительны оттого, что с ними как раз разговаривала Элейн; он чувствовал вину и в то же самое время радостное возбуждение. Все продлилось лишь несколько секунд, а потом пальцы Кэт выскользнули. Но Оливер выбрал именно этот момент, чтобы запечатлеть воспоминания о прогулке. Не нарочно — Ник в этом почти уверен, — тем не менее фатально.
Это нечестно. Элейн поступила неразумно. И не дала ему возможности это объяснить, растолковать, что надо бы посмотреть на все это с другой точки зрения. Он наказан совершенно несоразмерно преступлению.
А тогда вы об этом не подумали, произносит другой голос в его голове, противный, пошленький голосок. Думал ли он? Думали ли они? Ну да… если периодические приступы чувства вины и переживания считать за размышления.
Ты так увлекаешься, так проникаешься неизбежностью этого, что уже не в силах остановить процесс. Конечно, переживаешь, а иногда даже мучаешься. Но всегда, всегда было ощущение, что все будет хорошо, все наладится…
А Кэт? Что она?
Ник видит, что с Кэт уже не спросишь. Он все так же может видеть ее, слышать ее голос, но он понятия не имеет о том, о чем она думает, что чувствует… точнее, думала и чувствовала. Он испытывает раздражение: слушай, мы же занимались этим вдвоем, и это ты зачем-то сохранила тот дурацкий снимок и записку.
Зачем? Эта мысль вызывает в нем новое беспокойство, уже иного рода. Она сохранила фотографию потому, что была безалаберной, или же потому, что она что-то для нее значила? От этого Нику вдруг становится неуютно: он не хочет думать, что ее увлеченность оказалась большей, чем он привык думать. Временное помутнение рассудка — во всяком случае, с его стороны это было именно так, — совершенно непреодолимое влечение, но вскоре ему пришел конец, как и всем пылким увлечениям подобного толка.
И правда, от воспоминаний о прошлой страсти ему становится неуютно. В них нет ни спокойствия, ни тоски, но есть какое-то непонимание. Непонимание? Очевидно, да. Но теперь он рассматривает себя тогдашнего, точно существо с другой планеты. Слышит собственные слова — и ушам своим не верит. Как он говорит ей: «Я хочу тебя, господи, как же я тебя хочу».
Она пристально смотрит на него — и размышляет. Какие у нее прекрасные глаза! «Хочу… — произносит она. — Хочу…» И взгляд у нее не такой, как надо, ему хотелось бы видеть в ее глазах ответную страсть, а не этот вопрошающий взгляд. Внезапно он понимает, что сказать ему нечего. А что бы вы сказали на его месте?
О чем они тогда беседовали, он почти не помнит. Ну, по большей части говорил он, это уж точно: Ник первым признается, что он большой болтун. Тогда его прямо-таки переполняли всякие издательские прожекты, всегда было что-нибудь интересное и захватывающее, и он думал, что может привлечь и ее тоже. У него осталось впечатление, что Кэт слушала его — сидела напротив за столиком в каком-нибудь пабе и улыбалась, очевидно очень внимательно слушая. Да… и тут так некстати припирается этот Оливер, и Нику пришлось впоследствии перемолвиться с ним словечком.
«…потому, что ты — муж Элейн?» Нику это не нравится. Он предпочел бы не слышать этих слов, что сейчас отдаются рефреном в его голове, тоже мне, психолог-любитель Кэт — толку от ее размышлений, да и потом это не очень-то лестно, правда? И снова он слышит ее голос: «Когда я была моложе, я хотела быть Элейн. Больше всего я хотела стать такой, как она, — организованной, рассудительной, уверенной. — И слегка усмехнулась грустным смешком: — А она и не подозревала об этом».
«Может быть, я делаю это оттого, что все еще хочу быть Элейн, — говорит она. — Как ты думаешь?» Она смотрит на него; они сидят за столиком в том самом пабе, у нее — странное выражение лица. Но он ничего не думал — ни тогда, ни теперь.
Он немного возмущен Кэт: ее тоже должны обвинять, ведь не он же один виноват. Вместо этого она одно большое воспоминание, что складывается из сотен маленьких. Снова и снова она произносит одни и те же слова. И ему чудится: было в Кэт нечто недоступное для него даже тогда, когда она лежала рядом, в его объятиях, живая и теплая. Ты никогда не знал, как Кэт к тебе относится, даже когда она слушала тебя, смотрела на тебя, говорила с тобой — о, она любила поговорить, но сказать ей было особо нечего. Так, пустяки: была там-то, делала то-то. И всегда ускользала — внезапно опустевший стул, гудки в телефонной трубке, автомобиль, исчезающий за поворотом.
И конечно, в какой-то момент она ушла насовсем. Нику не хочется думать об этом, даже теперь.
Словом, так или иначе, от Кэт толку мало. И Элейн превратилась в другую женщину. Стала кем-то еще, неумолимой незнакомкой, осудившей его без права апелляции. В последние годы Нику пришлось стать осторожней — она стала сердиться на него по поводу и без, но это другое. Он видит ее, точно ставшее каменным, лицо в то утро, в оранжерее: «Я хочу, чтобы ты ушел».
Так нечестно. Он слишком стар, чтобы с ним так обращались. Стар? Стоило этому слову прийти на ум, его мучения лишь усилились. Да, он стареет. О, черт!
Элейн и Кэт
Элейн ощущает необыкновенный прилив сил. Она сделала правильный выбор, в этом она уверена. Она поступила так, как этого требовали обстоятельства. Невозможно представить, что Ник остался бы в доме, как будто ничего не произошло; каждый день она бы вспоминала об этой истории — всякий раз, когда она смотрела бы на него, всякий раз, когда он говорил бы с ней. Ну а теперь она спокойно может отдаться любимой работе — и через какое-то время все забудется. Она передумала — вместо того чтобы отдохнуть, пересмотреть график, — она станет работать больше. Даст окончательное согласие на поездку в Америку с курсом лекций, напишет новую книгу и непременно подаст заявку на участие в Хэмптонкортской выставке в следующем году.
Сегодня она выбирает лучший сад в одном из пригородов Лондона, где живут в основном люди состоятельные. Дело нелегкое — не столько по причине того, что приходится много ходить, сколько оттого, что от нее требуется сохранять дипломатичный нейтралитет. Вежливость и уклончивость, сдержанность реакции — нет, конечно, негромкое одобрение она выразить может, но увлекаться этим крайне нежелательно. Обладатели садов ходят за ней по пятам с приклеенными на лицах улыбками, сверлят ее лазерами глаз. Как бы им хотелось взглянуть на отметки, которые она делает в своем блокноте! Организаторы конкурса водят ее от сада к саду, всегда готовые защитить и прийти на помощь. Атмосфера мерзопакостная — дух соперничества ощущается прямо-таки физически. Мероприятие, по сути, благотворительное — многие из садов-участников можно будет посетить в эти выходные за умеренную плату, и собранные средства пойдут на что-то там, но пока благотворительностью и не пахнет.
Элейн проходит мимо розовых клумб. Замечает поврежденные лепестки на «Мадам Альфред Карьер», оценивает «Гималайский мускус Пола», едва не вздрагивает над кустами морально давно устаревших «Мир» и «Пикадилли», касается цветков «Кардинала Ришелье». Морщится при виде ярких соцветий герани, одобряет дицентру превосходную и синюху, сокрушается при виде ужасной фуксинового цвета лаватеры, отмечает неведомый ей доселе сорт хохлатки. Конечно, не учитывать собственные предпочтения очень трудно, но она пытается по достоинству оценить мастерство и смелость владельцев, пусть даже она выражается в сооружении хитрых конструкций из камней или опрометчивом выборе трав для газона. Каждый устраивает сад сообразно своим капризам и пристрастиям, и это видно, но заметно и то, что здешние хозяева частенько смотрят телепередачи по устройству сада. Водоемам здесь позавидовали бы и устроители висячих садов Семирамиды: ручейки, каналы, миниатюрные речные пороги, фонтаны, пруды. В наше время сад — это демонстрация современных достижений не только растениеводства, но и инженерии. Украшения садов также отличаются разнообразием и порой демонстрируют фантазию и изобретательность владельцев: тут хозяева щедро усыпали дорожки гравием, там привезли полный грузовик речного голыша, в одном из садов обнаруживается четырехметровый пластиковый тотемный столб, в другом среди кустарников виднеется гипсовый бюст какого-то древнеримского божества. Вдруг Элейн оказывается точно в ином времени — на прямоугольной лужайке, окруженной бордюром из однолетников; сопровождающие нервно поглядывают на нее с недовольными улыбками. Они спешат препроводить ее в дом по соседству, где ее ждет тщательно «запущенный» сад, где растущие в беспорядке маки, скабиозы, ромашки и таволга украшают конец участка длиной в пятнадцать метров.
Она ищет хитроумное устройство сада, толковый подбор растений, интересные цветовые комбинации и сочетание знания тонкостей садового устройства с оригинальностью. Ей редко удается найти то и другое вместе. Слишком часто искусные садоводы зря тратят силы на осуществление крайне неудачного замысла, либо многообещающий дизайн выглядит совсем не так выигрышно из-за неверно подобранных растений. Возьмем, к примеру, вот этот длинный палисадник. Хозяева очень ловко и умело замаскировали длинное и узкое пространство, насажали кустарников и цветов и устроили тропинку, ведущую к фокусной точке в конце палисадника. Но вот в качестве фокуса выбрали заросли травы пампасной — неотъемлемого атрибута пригородного садика в стародавние времена; растет себе, безвкусная и пошлая, среди ковра более приемлемых цветов и растений. Что здесь не так? Элейн, хмурясь, обозревает заросли пампасной травы и что-то пишет в блокноте. И тут в ее мозгу снова появляется Кэт — вкупе с еще одним садом.
Кэт говорит «А можно и мне тоже?»
«Нет», — отвечает Элейн. Кэт четыре года, ей десять. И она делает сад. Насыпав земли в старый жестяной поднос, она раздумывает над тем, что и как посадить. Лужайка сделана из мха, там — кустик пушистой сурепки, здесь — купы незабудок, пучок очитка с крыши гаража: уже тогда Элейн знала, как что называется. Даже сегодня она явственно видит тот сад.
Она не забыла его. Может статься, так оно и началось — в то весеннее утро, когда ей было десять лет. Но теперь, когда она уже заканчивает творить и сажает в землю букетик «сережек» с дерева, призванных изображать плакучую иву, она осознает, что за ее спиной маячит Кэт.
«Можно я еще такой штуки принесу?» — спрашивает Кэт и показывает на мох. Она подобралась поближе — маленькая и незаметная фигурка. И просит.
Элейн не обращает на нее внимания. Кэт для нее всего лишь незначительное возмущение на дальней границе поля видимости. Элейн размышляет, из чего можно сделать пруд. Ну конечно! Из зеркала!
Где бы найти маленькое зеркальце вроде того, что мать носит в сумочке? Можно ли будет попросить его у матери?
Кэт снова здесь: «Вот». И протягивает цветок анютиных глазок — огромный, мясистый, аляповатый. Ее приношение для сада.
Элейн хмурится. «Не надо было тебе это рвать, — строго говорит она. — Ты же знаешь, тебе ничего рвать нельзя». И неужели она не видит, что цветок испортит весь ее сад? Он сюда не подходит — ни по размеру, ни по форме, ни по цвету.
Добрая старшая сестра приняла бы подношение, нашла бы, куда пристроить цветок. Она пялится на диссонирующую со всем прочим траву пампасную в этом лондонском саду и гадает, кто мог радостно вручить подарок. Муж? Золовка? Подруга?
Ее отношение к саду резко изменилось. Она больше не может судить беспристрастно. Конечно, золотой медали он не заслуживает, да и серебряной тоже, но неожиданно для себя она присуждает ему третье место, несмотря на траву пампасную, а может, именно из-за нее. Кэт вмешалась и тут.
Но вот осмотр выставленных на конкурс садов окончен, и Элейн пригласили домой к одному из организаторов — отдохнуть и подкрепиться. С ней обращаются с величайшим почтением и уважением, и это льстит; разумеется, она согласилась участвовать бесплатно: хорошая реклама — никогда не знаешь, что выгорит из этого мероприятия; что книги будут продаваться — это точно, а то и какой интересный заказ подкинут. Так что она по-прежнему остается вежливой и охотно идет на сотрудничество куда более близкое, чем того требует чувство долга, вплоть до не предусмотренного программой повторного посещения (мягко скажем, не самого лучшего) сада председателя жюри, чтобы дать совет, что делать с непокорным смолосемянником. Она осталась одна с чашкой чая и блокнотом — устроила себе долгожданный перерыв: уже пять часов вечера, она выехала из дома в семь утра, а ведь ей еще предстоит возвращаться домой, маневрируя среди потока машин южного Лондона. Она объявляет, кто занял первое место, кто второе, а кто — третье; разумеется, итоги конкурса определенно подольют масла в огонь вражды между соседями, которая, безусловно, имеет место быть в этом идиллическом уголке в пригороде Лондона. Наконец, она благосклонно выслушивает многочисленные благодарности, снова и снова улыбается в ответ и, довольная, направляется к машине.
Рабочий день. И к тому же, в общем и целом, достаточно спокойный. А ведь я могла бы расставлять товар на полках супермаркета или ворочать миллионами одним щелчком мыши в Сити, думает Элейн. Она — это ее работа, так считает она, и, наверное, все остальные тоже. Она не может представить себе другой жизни, той, что не подчинена работе. Если бы она не занималась этим, если бы посвятила свою жизнь чему-нибудь другому, то была бы теперь совсем не такой. Аллеи, беседки, альпийские горки, арки из вьющихся растений, цветники, перспектива, ось, смещение и фокус придают ей сил. Акцент, гармония и контраст побуждают мыслить и творить. Ее питает плодородный компост знаний и сведений — целая научная ботаническая библиотека: она навскидку может рассказать о том, как и когда надо подрезать побеги, поведать об особенностях выращивания тех или иных растений, сортах того или этого и о тысяче разновидностей деревьев, кустарников и цветов.
Вот о чем размышляет, выезжая из Лондона и отправляясь домой по знакомому маршруту, Элейн. Ее нынешнее состояние обостренной целеустремленности, она уверена, объясняется тем, что, к счастью, у нее есть цели, к которым можно и нужно стремиться. Без клиентов, встреч, планов и схем, учеников и выходных, когда ее сад открыт для посетителей, она бы целиком очутилась во власти случившегося. Ее бы мучили обида и горечь предательства. Вместо чего она легко может оттеснить всю эту историю на второй план: с глаз долой — из сердца вон.
Вот только получается не особо.
Вот и теперь, когда она пытается обогнать «гольф», то вспоминает, что машина Ника все еще стоит у дома. Он не собирался забрать ее? Если нет, она должна избавиться от автомобиля. Но чтобы намекнуть ему об этом, надо с ним разговаривать, а она пока не готова настолько выдавать себя.
И тут появляется Кэт. Кажется, Кэт была с ней все время, все эти дни. Иногда она просто болтается поблизости, готовая вмешаться в любой момент. А иногда принимает активное участие в происходящем — вот как сегодня: ей четыре, десять — или она в одном из взрослых своих воплощений? И вот эти воплощения Кэт и не дают Элейн покоя: было ли это до фотографии или уже после? Было ли это во время романа с Ником — если это, конечно, было — или нет? Кэт стало две — ни в чем не повинная Кэт и та Кэт, что повела себя необъяснимо. Почему? Почему Ник?
За все эти годы у нее было множество мужчин. До Глина. Часто с Кэт приходил какой-нибудь поклонник: «А это Джеймс». Или Брюс, или Гарри, и слово «ухажер» приходило на ум при взгляде на них чаще, чем «любовник». Эти мужчины всегда являлись соискателями, с испытательным сроком. Спала ли она с ними? Не всегда, подозревает Элейн. И не так часто, отнюдь. Они были поклонниками — несколько устаревшее слово очень к ним подходило, — и, когда поклонение становилось чересчур усердным, Кэт от них избавлялась. В следующий раз она появлялась уже с другим или и вовсе одна. И за все это время — Элейн убеждена в этом — она не взглянула на Ника дважды и всегда обращалась с ним как со старым знакомым: муж сестры, отец Полли.
Она приходила и ради Полли тоже, думает Элейн. И внезапно вспоминает, как Кэт пришла к ней в роддом в тот день, когда родилась Полли. Она вошла в палату, неся в руках охапку голубых цветов душистого горошка и сияя от радости; когда она проходила мимо кроватей, все оборачивались ей вслед. Полли лежит в кроватке возле Элейн. «О!» — говорит Кэт. Склоняется к колыбели, очень тихо, пристально смотрит на ребенка, что-то в ее взгляде удивляет Элейн. «О… вот мы какие. — И оборачивается к Элейн: — Можно подержать?»
Элейн достает Полли из колыбели и кладет в руки Кэт. И Полли открывает глаза, и ее крохотное сморщенное личико оживает. На мгновение их с Кэт взгляды встретились.
Элейн тянется к ней: «Дай-ка. Ее пора кормить».
Кэт и Полли всегда были близки. И да, иногда я ревновала. Кэт приходила, как какая-нибудь фея-крестная. И Полли постоянно твердила: Кэт то, Кэт се. Кажется, Кэт была для нее всем, чем не смогла стать я.
Интересно, была ли она тем же самым для Ника?
Мысль об этом посещает Элейн, как только она подъехала к собственному дому, практически к двери, лишая ее чувства облегчения, которое она всегда ощущает после трудного дня в предвкушении безмятежного вечера. Чего не случится — Ник здесь больше не живет, и она не должна думать об этом.
Ну и конечно, она видит его машину — еще один неприятный укол. Элейн спешит в дом и принимается за рутинную работу: разбор писем, факсов, прослушивание сообщений «голосовой почты» и просмотр надписей на доске на кухне. Это прекрасно отгоняет непрошеные мысли. Она снова в строю, ее ум занимают запросы клиентов и прочие ежедневные заботы, которые требуют ее внимания. Звонила Полли, голос у нее расстроенный. Ник же не звонил — уже хорошо. Сотрудница издательства, с которым она работает, ждет ее завтра и обещает показать блестящие работы многообещающего молодого фотографа. На доске написано, что, согласно прогнозу, погода на выходных ожидается великолепная, а значит, посетителей в ее саду будет много. Джим предлагает привлечь своего племянника, чтобы тот помог ему расставлять машины на парковке. Пэм тоже понимает, что покупателей прибавится: она весь день рассаживала в горшочки для продажи саженцы морозника и черенки из теплицы — ранние фуксии и пенстемоны; наверняка и в магазинчике тоже будут толпы народу, а следовательно, и спрос станет выше.
Элейн сидит в оранжерее с бумагами на коленях и бокалом вина в руке. Дивный вечер — в лучах заходящего солнца пламенеют цветы эуфорбии, матово поблескивают декоративные травы. При взгляде на них она принимается размышлять о преходящей моде на садовые растения. Пампасная трава теперь не в чести (потому что так решили спецы вроде меня, думает она…), а когда-то шла нарасхват. Теперь владельцы участков предпочитают декоративный ковыль и китайский веерник-мискантус. Конечно, модное поветрие есть модное поветрие, но подобное непостоянство ставит под сомнение само понятие красоты. Можно долго рассуждать об этом. Элейн планирует включить обсуждение недостатков и капризов садовой моды в новую книгу, которая пока существует лишь в виде планов; ясно, что глубокомысленному эссе об эстетических проблемах не место на страницах глянцевого издания для преуспевающих садовладельцев, так что она ограничится лишь упоминанием об этом. Но тут от растений ее мысли вновь переносятся к людям. И как водится, она снова принимается думать о Кэт.
Наружность была самой заметной чертой Кэт; ее замечали сразу же. Интересно, считалась бы она красавицей сто лет назад? А двести? Элейн начинает вспоминать внешность викторианских женщин. Интересно, есть ли неотъемлемые черты женского шарма — определенные пропорции лица и тела, какое-то особенное свойство глаз, форма губ? В случае Кэт — и то, и другое, и третье, и не только лицо, а то, как она держалась, двигалась. Это замечала даже я, думает Элейн, а ведь я наблюдала за ней с тех пор, как она… перестала быть ребенком и превратилась в дивное, неведомое раньше существо. Она вспоминает, как однажды пятнадцатилетняя Кэт показалась ей совсем другим человеком «Почему ты так на меня смотришь? — спросила она однажды Элейн. — Что я не так делаю? — И потом, удивленно: — На меня часто так смотрят». Тогда, в самом начале, она искренне недоумевала, отчего так.
А потом? Потом поняла. Словом, теоретически она знала о своей привлекательности, но всячески не обращала на нее внимания, избегала думать о ней. Даже в самом придирчивом настроении Элейн не смогла бы упрекнуть Кэт в тщеславии.
Она слышит Кэт. Та говорит не с ней, с кем-то другим, эти слова она подслушала, а не услышала. «Ничего особенного», — говорит Кэт. И теперь она вспоминает этот разговор — и вопрос, на который ответила Кэт. У нее спрашивают: каково это — быть такой красавицей? Говорит не мужчина — женщина, спрашивает из искреннего интереса и любопытства. И Кэт так же искренне, не уклончиво и не язвительно, отвечает.
Когда это было? Где? И кто та женщина? Элейн не слышала этого разговора раньше, а если и слышала, то не придала значения. Кажется, это было в их старом доме, на каком-то из многочисленных сборищ — либо за воскресным обедом, либо за обсуждением проекта какой-нибудь из публикаций Ника. Так что же это за женщина? Не то чтобы это важно, но неизвестность раздражает. Кажется, они не очень знакомы — скорее всего, тогда она увидела Кэт в первый раз, только познакомилась с ней. Вопрос мог показаться бесцеремонным и назойливым, но Кэт, кажется, не обижается. И честно на него отвечает.
А я что делала в это время? — спрашивает себя Элейн. И живо представляет себе сцену: полная кухня народу, она снует туда-сюда с тарелками, накладывая еду. Да, так и есть — она проходила мимо и уловила эти слова, оказавшись рядом, и запомнила, как оно обычно бывает. Но почему именно эту реплику, а не другие? Потому, наверное, что она привлекла ее внимание — прямой вопрос и странный ответ Кэт. Что она хотела этим сказать? Что внешность ничего для нее не значила — или ничем не помогла ей?
Бумаги отложены. Элейн сидит, смотрит в сад и видит Кэт. Разве я сама не задавала себе тот же вопрос? Каково это — быть Кэт? Обладать наружностью, при которой внимание и интерес окружающих гарантированы? Конечно, я не спрашивала ее об этом. Мы никогда не говорили на подобные темы. Я, ее сестра, должно быть, знала о ней меньше, чем друзья. И потом, я никогда не любила «разговоров по душам».
И как только она подумала об этом, комнату наполнили другие Кэт. Она не может видеть и слышать их — они не говорят и не делают ничего особенного, лишь где-то, глубоко и далеко, толпятся, точно души в чистилище. Маленькие Кэт смешались с взрослыми, точно это какое-то многогранное существо, совмещающее в себе всех Кэт сразу, больше не разделяя на десятилетнюю, двадцатилетнюю, тридцатилетнюю. Гидроглавая Кэт — в то же время самая настоящая, убедительная, постоянно меняющийся человек, которого Элейн помнит всю жизнь, который был, а потом вдруг его не стало. Эта Кэт несчастна — эти Кэт совсем не похожи на живчика, каким была настоящая Кэт, эти Кэт несли в себе нечто невысказанное. Постоянную мольбу. «Поговори со мной…» Слышит ли она это? «Зачем ты со мной так?..»
Обеспокоенная, Элейн гонит этих Кэт прочь. Собрав бумаги, она отправляется на кухню и начинает готовить ужин. Ставит разогревать пирог в духовку и собирается резать салат. Есть немного твердого сыра и печенья из непросеянной муки. Она принимается накрывать на стол и, доставая из буфета старинную прованскую тарелку, ощущает почти сейсмический толчок, внезапно вспомнив, когда именно Кэт говорила с той женщиной — та же самая женщина обратила внимание на эти тарелки. «У меня есть почти такие же. Вы тоже были в Эксе?» И Элейн слышит свой ответ. «Да нет, купила в магазине Хилса на Тоттенхем-корт-роуд». Более того, теперь она вспоминает, что эта женщина — супруга человека, с которым незадолго до этого познакомился Ник, автора нашумевшей книги о вывесках пабов. Элейн, по сути, наплевать и на него, и на его благоверную, она просто вдруг захотела узнать, когда состоялся тот разговор: другой сейсмический толчок памяти подсказал ей, что все произошло вскоре после странной болезни Кэт. Она долго не появлялась — за ней такое водилось, — а в один прекрасный день позвонила: «Я болела. Сейчас уже все хорошо. Можно, я приеду в воскресенье?» О том, что с ней случилось, она так и не рассказала. «Так, ничего страшного. Все уже прошло». И Элейн знает, что не стала интересоваться и задавать дальнейшие вопросы.
Тогда Кэт была молода. Причем очень молода. Двадцать с небольшим. Когда же именно? Случайное воспоминание тревожит Элейн, ибо воскрешает в памяти и другие неприятные вещи. Она хочет поскорее отделаться от него, забыть, но в то же самое время с маниакальным упорством вспоминает все точнее. Должно быть, Ник точно помнит. Как помнит все свои прошлые публикации — воспоминания греют его душу и по сей день. Она оборачивается, чтобы спросить у Ника: «Помнишь книгу о вывесках пабов? Когда ты делал эту серию?»
Но Ник здесь больше не живет, и мгновение она испуганно оглядывает пустую кухню.
Заявка на книгу Элейн лежит на столе ее редактора — все три страницы. Скудновато написано, думает Элейн, рассматривая ее, пока Хелен берет страницы в руки, откладывает, не переставая все время вещать. Хелен Коннор мало смыслит в садоводстве, зато прекрасно знает, как издать роскошную книгу с глянцевыми иллюстрациями, которая будет нарасхват во всех графствах страны, гарантией чему является громкое имя Элейн. Вот и теперь она протягивает Элейн пачку снимков — шедевров с точки зрения светотени, глубины, композиции и внимания к деталям. Не правда ли, юноша — талант, он так украсит книгу, мне не терпится с ним поработать… что скажете?
Элейн понимает, что, если не будет осторожна, ее книга рискует превратиться в красочный фотоальбом. Тогда как для нее важен текст — обстоятельный и подробный, снабженный подходящими по смыслу иллюстрациями. В этой книге она хочет расширить тематику и, помимо тонкостей ландшафта и правил выбора растений для сада, рассказать о капризах садовой моды, общественной значимости садоводства, садах как показателях статуса владельцев, садах — примерах для подражания. Ей надоело рассказывать, как устроить клумбу из болотных растений, что сажать на затененных участках, как создавать неординарные цветовые комбинации. Об этом она и так твердит без устали. Теперь она желает поведать о том, что ей пришлось повидать и узнать за все годы посещений чужих садов, во время которых она часто задавала вопрос: зачем эти люди делают то-то и то-то? Практической стороне садоводства она посвятила немало строк — теперь пора рассказать и о теории.
Хелен, конечно, всячески выражает согласие, но мысль о том, что в книге будет больше теории, чем практики, ее пугает. И она предлагает решение — разбавить теорию роскошью издания: качество, стиль и количество фотографий убедят читателя в том, что перед ним обычная книга по садоводству. И если такая будет лежать на кофейном столике, их сад зацветет пуще прежнего.
Элейн прекрасно знает, что у нее есть преимущество. В конце концов, есть и другие издательства. Может, придется и к ним обратиться, но это создаст определенные неудобства, так что она будет до последнего вести переговоры. И они с Хелен пускаются в вежливую перепалку — ни одна из них не собирается сдавать все позиции, обе крайне неохотно идут на уступки, но каждая потихоньку обдумывает пути компромиссного решения.
Два часа спустя Элейн покидает издательство. Ее не назовешь удовлетворенной — и разочарованной тоже. Искать другое издательство она не станет, но текст все же придется сократить, отказаться от потенциально интересной главы. («Книга становится многословной, вам не кажется?» — сказала Хелен). Сама же Хелен понимает, что от фотоиллюстраций на весь разворот придется отказаться в пользу более сдержанного оформления.
Элейн осознает, что в течение всего производственного процесса ей придется отстаивать свои позиции, но потом, книгу же еще необходимо написать. Пока же она может расслабиться: на этом фронте она, по крайней мере на сей раз, одержала победу. Хотя у нее и появились некоторые сомнения касательно Хелен Коннор.
Элейн решила сходить на выставку Королевского общества садоводов, которая устраивалась каждые две недели на Винсент-сквер, перед тем как ехать домой, но поначалу, думала она, ей надо отдохнуть. Купив стаканчик кофе, она направляется на площадь Блумсбери. Только устроившись там на скамейке среди парящих голубей и высоких платанов, она вспоминает это место. Однажды она приходила сюда с Кэт.
Она слышит свои слова: «Я тебе не мать». И Кэт: «Знаю. У меня больше нет мамы».
Кэт восемнадцать, Элейн двадцать четыре, и в эти годы она уже работает вовсю. Сегодня она слышит и видит себя и Кэт точно в конце какого-то временного туннеля. Шум листьев платана заглушает их слова; она не помнит ни того, как они выглядели, ни того, что на них было надето, но прекрасно помнит, что еще тогда, когда они там сидели, она заметила платаны — толстенные кривые стволы и слезающую кору. Они не изменились; тридцать шесть лет для этих великанов — пустяк, она улавливает отзвук себя тогдашней, как она рассматривает деревья и разговаривает с Кэт — далекий, глухой голос, который говорит: да, именно, теперь они остались одни, они уже взрослые, и Кэт должна с этим смириться.
…что-то в этом роде.
— Наверное, тебе это сделать легко, — отвечает Кэт. — А мне — нет.
К тому времени их мать уже два года как умерла. Элейн видит их, мать и Кэт — сестра откровенничала с ней так, как никогда не могла она, Элейн. Объятия, поцелуи, долгие доверительные разговоры, смех. Сама Элейн никогда не была такой; мать ее раздражала. Она считала мать скучной и хотела как можно раньше уехать из дому. Мать же, в свою очередь, стала относиться к Элейн с осторожностью, осознавая, что та считает ее ограниченной. Она стала избегать Элейн, пыталась смягчить ее, беспрестанно извинялась. С Кэт же она вновь становилась самой собой — надежной и уютной.
Эта встреча под платанами состоялась не просто так. Сперва Кэт позвонила ей по телефону: «Дженни меня не любит. Можно увидеться с тобой?» Элейн доводилось часто слышать эти слова, но в этом случае она слышит еще и себя. Не просто слова и фразы, но и собственное замешательство. Тогда вокруг тоже летали голуби и шелестели листвой платаны, и даже сейчас она прекрасно помнит, что чувствовала: ну, нелегко так нелегко, но как я могу дать тебе совет, что делать, ты же не училась в колледже, да и вообще, у тебя должна быть опора… говоришь, актерское училище, что ж, давай, при условии, что, как ты говоришь, нет никаких гарантий, что ты найдешь работу…
Я тебе не мать.
Элейн допивает кофе, выбрасывает стаканчик в урну. Она взволнована, обеспокоена, ее расстройство приобретает иной смысл. Она сердится на Кэт: о чем ты тогда думала? Ник, господи…
Но Кэт недосягаема, она больше не слышит ничьих упреков. Однако в то же самое время она навсегда останется с ней и все время будет вызывать новые и новые воспоминания.
Суббота. Сегодня в саду — день открытых дверей. И погода точь-в-точь такая, какую обещали прогнозы: по летнему небу цвета голубого веджвудского фарфора легкие перистые облачка, теплое солнце и ласковый ветерок. И на парковку, устроенную на месте выгула для лошадей, постоянно заезжают новые и новые автомобили; у племянника Джима работы хватает. И у Пэм тоже — она то и дело бегает от кассы к витринам и обратно. Сегодня рук не хватает: девушка, которая обычно помогала обслуживать покупателей в магазинчике, позвонила и сообщила, что неважно себя чувствует, так что Пэм приходится торговать в магазинчике, вместо того чтобы улыбаться посетителям сада и рассказывать, как что называется. Этим приходится заниматься самой Элейн. Как обычно, к ней подходят с идиотскими вопросами, как всегда, находится тетка, готовая дать совет, что делать в случае эпидемий, теряются чьи-то дети, но сегодня в числе прочих пришли корреспондент одной крупной газеты — интервью с ним может оказаться полезным, — а также несколько по-настоящему знающих и благодарных потенциальных клиентов. Так что настроение у нее сделалось самое радужное; и вдруг на ее пути встает женщина в соломенной шляпе и солнцезащитных очках и радостно говорит «Привет!»
Поодаль от нее стоит девушка, тоже в очках и шляпе, но что-то в облике последней заставляет Элейн насторожиться. Элейн холодно улыбается незнакомке, и тут понимает, что это Линда, ее двоюродная сестра, мама которой, тетя Клэр, была сестрой их матери. Она еще жива — по слухам, гниет в каком-то доме престарелых.
— А… привет! — Голос Элейн оказался чуть более радостным, чем улыбка.
Она не видела Линду уже много лет — честно говоря, и не горела желанием встретиться. Она запомнила Линду, которая на десять лет младше ее, бледным докучливым ребенком, а саму тетю Клэр — нудной гостьей, с которой ее мать время от времени устраивала кулинарные поединки и беседовала об успехах детишек. Став взрослой, она периодически обменивалась с Линдой рождественскими открытками, и этим их общение ограничивалось.
Теперь Линда живет в каком-то из западных графств, кажется, ездила в Лондон и на обратном пути решила заехать сюда. Софи рассматривала карту и вдруг сказала: слушай, мам, мы будем проезжать знаменитый сад тети Элейн… давай заедем?
Софи скромно делает шаг вперед. И тут Элейн понимает, отчего появление этих двоих ее так насторожило. В девушке есть что-то от Кэт. Конечно, до Кэт ей далеко, она даже не бледная тень Кэт, но есть в ее облике едва уловимое сходство: в форме ноздрей, в изгибе бровей, в осанке. Гены перескочили через поколение и одно колено родства и передались отпрыску коротышки Линды.
— Рада вас видеть, — говорит Элейн.
По ее тону в это было ну никак нельзя поверить, но Линда обрадованно сияет. Она вяло обводит рукой окружающие садовые красоты — террасу с облаками роз и клематисов, травянистую дорожку, обрамленную древовидными пионами, ручей, деревья гинкго и газон, простирающийся до самой изгороди:
— Как у тебя тут все красиво устроено. Надо бы тебе к нам приехать и дать пару советов. Боюсь, садоводы из нас никакие.
Элейн понимает, что ей с трудом удается сохранять дружелюбный тон. Она принимается озираться в поисках помощи. Вот почему никто не подходит, чтобы спросить, как называется вон тот голубой цветок или почему розы у них в саду болеют милдью. Но все, как назло, идет как по маслу, и вокруг бродят маленькими группками довольные посетители.
Линда переключилась на другую тему:
— А где Ник? Мы хотели бы и с ним пообщаться.
— К сожалению, у Ника сегодня дела, — говорит Элейн. Не будет же она рассказывать докучливой родственнице, что несколько дней назад выставила мрка из дома, потому что когда-то он спал с ее сестрой.
Линда разочарована:
— Жаль. Софи хотела пообщаться с Ником. Она у нас работает в издательстве.
Она с гордостью смотрит на Софи, та мило улыбается. Нет, на Кэт она совсем не тянет — только крошечные, едва заметные черты.
Линда спрашивает, чем занимается Полли. Элейн сообщает, что та веб-дизайнер. По крайней мере, это избавляет ее от дурацких расспросов о садоводстве, хотя неприятно напоминает, как хвастались друг перед другом достижениями дочурок мать и тетушка Клэр. Софи касается руки матери:
— Не забудь…
— А… — Линда лезет в сумочку. — У меня для тебя кое-что есть, Элейн. Мы как-то рассматривали старые фотографии, и я нашла одну, которая должна тебе понравиться. Наверняка у тебя куча ее фото. Но тем не менее… — Голос сделался тихим и уважительным, и она протягивает конверт.
Элейн понимает, что сейчас будет. Ей хочется сказать: нет, спасибо, с меня хватит старых фотографий Кэт.
Правда, эта достаточно безобидная. Кэт сидит на белом пластмассовом садовом стуле под полосатым зонтом. Смотрит прямо в объектив, повинуясь просьбе хозяев: «Сейчас вылетит птичка».
— Это у нас в саду, — говорит Линда. — Года через два после замужества, кажется. Заехала к нам неожиданно по пути — ехала в Корнуолл к каким-то друзьям. Но я так поняла, что у нее как раз случились… неприятности со здоровьем, так что она была не такая веселая, как обычно. — Линда искоса смотрит на Элейн, с сожалением и участием. — Так жалко…
Элейн сует фотографию в карман:
— Большое спасибо. Как мило с вашей стороны. — И деловито добавляет: — Вы еще не видели лесную полянку? Конечно, лучше всего там весной, но астранция как раз зацветает. Жаль, не смогу вас пригласить на чашку чая, но мне надо за всем следить. — Она игнорирует только что услышанные слова и одновременно запоминает их, чтобы обдумать на досуге.
Но отделаться от Линды оказывается не так-то просто. Она принимается говорить о Кэт. Становится ясно, что она приезжала не раз. Элейн удивлена: оказывается, Кэт поддерживала с ней отношения, периодически навещая все эти годы. Но зачем? Линда ведь была не из тех, с кем предпочитала общаться Кэт: она, наверное, за всю свою жизнь ни разу не побывала в художественной галерее или в концертном зале, не интересовалась фестивалями искусств, не лепила из глины, не увлекалась живописью или художественной фотографией. Словом, была прямой противоположностью тем, с кем проводила время Кэт. Так отчего Кэт ей интересовалась?
Линда рассказывает, что внезапные визиты Кэт всегда становились праздником, она так умела поднимать настроение, она… И та принимается окутывать Кэт коконом избитых фраз. Элейн это раздражает еще больше. Неужели эта женщина не видит: то, что она говорит, пародия на Кэт? Что она унижает Кэт до собственного ограниченного мировоззрения, сделав из нее что-то вроде аниматора в санатории. Она не имеет права говорить о ней в таком тоне, как будто знала ее очень и очень близко. Не имеет права на Кэт.
И тут в разговор вступает ее миловидная дочка, Софи. Она обожала Кэт. Я хочу сказать, она была такая классная, всегда такая красивая, с ней было так весело и она вечно привозила милые смешные подарочки.
— Вообще-то, — говорит Линда, — мы думаем, что Софи немножко на нее похожа. — Она ласково смотрит на дочь, а потом вновь принимает сочувственный и уважительный тон. — Софи так горевала, когда она… когда… Так печально. Мы не могли поверить…
Хватит. У Элейн больше нет сил это терпеть. Смотреть, как запросто эти двое вспоминают Кэт. Как нахально пользуются памятью ее сестры.
— Прошу простить меня, — говорит она. — Я вынуждена вас покинуть. Пойду проверю, все ли в порядке на парковке. А на лесную полянку все-таки сходите. Ник очень расстроится, что не повидался с вами.
Впоследствии она спрашивала себя, зачем она это сказала. Нику не было ни малейшего дела до кузины Линды. Так какой смысл в этих пустых словах, неужели ей и вправду понадобилась защита супруга и притворство, что все в порядке?
Впоследствии она снова услышит Линду. Неприятности со здоровьем. Не такая веселая, как обычно.
Но вернуться к этим словам она может лишь после шести вечера; сад пустеет, Джим с племянником устраиваются в красном пикапе, Пэм отправляется в паб с воздыхателем из округи. Оставшись в одиночестве, Элейн проверяет, сколько билетов было продано, и тихо радуется большому количеству посетителей, запирает магазин и возвращается в опустевший дом. И лишь тогда к ней возвращается прошедший день. Кузина Линда повторяет свои слова снова и снова.
Что-то происходит в пустом доме, в котором больше нет Ника, зато есть спокойствие и удобство. Сначала именно так и было: ощущение, что она избавилась от источника раздражения, от чувства беспокойства, связанного с Ником, ее больше не тревожат его присутствие и воспоминания, постоянные провокации и условия. Сладость долгожданного одиночества для Элейн подпорчена странным подсознательным беспокойством. У нее все хорошо, просто замечательно, она сидит здесь после хлопотливого дня с бокалом вина в руке, поджидая, когда в духовке поспеет скромный ужин, и вдруг на нее нападает какое-то болезненное чувство. Здесь слишком тихо; тишину нарушают лишь механические звуки: тиканье часов, щелчки и скрежет факса, писк микроволновки. Тишина угнетает Элейн; она принимается бродить по дому, включает телевизор — ради фоновой болтовни, так раздражавшей ее во времена Ника. Звонит по телефону ради того лишь, чтобы кому-то позвонить, — чтобы занять себя, дать себе цель.
Телефон стоит на автоответчике — на случай, если позвонит Ник, но она постоянно маячит поблизости, и если это не он, сразу же хватает трубку. Услышав голос Полли, она испытывает радость, но в то же время понимает, зачем та звонит, тем не менее отвечает коротко и очень осторожно. Голос у Полли возбужденный и раздраженный, и она часто срывается и начинает умолять и клянчить.
— Прошу тебя, пожалуйста, — говорит Элейн. — Не будем об этом.
— Но, мам…
Он не знает, куда себя деть, говорит Полли. (Можно подумать, когда-нибудь знал, думает Элейн.) На него смотреть жалко, говорит Полли, я не шучу. Уже несколько дней он не брился, и недавно сломал мою стиральную машинку — в жизни не думала, что он настолько «на вы» с техникой. И по-видимому, не собирается искать квартиру, если хочешь знать, — говорит, ему и здесь хорошо.
— Не могу поверить — со мной живет мой отец.
По правде говоря, самой Элейн в это тоже верится с трудом. Большую часть времени она планомерно занимается своими делами со свойственными ей спокойствием, хладнокровием и прагматизмом. Каждый день расписан и упорядочен, как и всегда. Она занимается делами насущными, будь то разбор документов с Соней, визит к потенциальному клиенту или работа над проектом какого-нибудь ландшафта за чертежной доской. Словом, работает в полную силу. Но порой бывают минуты, когда ее мысли начинают блуждать. Что же случилось на самом деле? Ник тут больше не живет — очевидно, оттого, что она его выгнала. Она думает о Кэт больше, чем когда-либо, но ее собственная реакция на Кэт меняется с головокружительной скоростью. Иногда она злится на Кэт. «Почему Ник?» — вопрошает она. В другом случае она пытается вспомнить о тех полупризрачных, ускользающих Кэт, которые говорят что-то, чего она никак не может расслышать, и порой поражается собственной реакции на эти слова. Кузина Линда оскорбила ее, фамильярность, с какой она говорила о Кэт, искренне возмутила Элейн — для Кэт она, Линда, была никто и ничто, она не имела права говорить в таком тоне.
После трудного дня — она ездила в санаторий, который перестраивали, ей заказали устройство там сада — Элейн возвращается домой и сразу же, только-только открывая ворота, чувствует: что-то не так. После секундного замешательства она понимает, что именно: машина Ника исчезла. «Гольф» больше не стоит на подъездной дорожке.
Элейн заходит в дом. Соня оставила обычную стопку писем и сообщений — о Нике ни слова. На доске в кухне Пэм написала, что на одном из старых каштанов начали расти подозрительные опята, а под ее сообщением Ник нацарапал: «Жаль, что тебя не было».
Он забрал еще кое-что из одежды. Практически опустевший гардероб красноречиво напоминает о том, о чем ей так неприятно думать теперь, как и пустое место на подъездной дорожке, где раньше стояла машина ее мужа.
Дети много говорят о любви. «Я люблю тебя», — лепечут они. «Ты меня любишь?» — спрашивают. Как только Полли научилась говорить, она стала задавать этот вопрос — в доме, где до тех пор почти не говорили о любви! Элейн всегда было трудно произнести слово «люблю»; и они с Ником редко дарили друг другу слова любви. То, как обращалась с этим словом Полли, напоминало ей Кэт, когда та была девочкой. Ее сестра тоже сообщала всем и каждому, что любит, и требовала любви в ответ. «Ты меня любишь?» — вопрошала она, подкравшись к Элейн, когда та делала домашнее задание, или мыла голову, или собиралась погулять. И она снова слышит себя: «Не глупи, Кэт».
Не глупи, ты же моя сестра. Она имела в виду именно это. Сестры не говорят о любви. Во всяком случае, я. Я не из таких.
Полли и Ник
Слушай, мы с Дэном расстались. Просто отношения зашли в тупик. На прошлой неделе. Разумно и по-взрослому — во всяком случае, я. Так что вот. Я теперь свободная женщина. Хотя есть один парень… Нет, не так. Может быть, один парень… Пока рано говорить — все еще только начинается, и я могу ошибаться. Так что не будем.
Да, папа все еще живет у меня. Нет, разумеется, мне его очень жалко, но это меня бесит! Мне почти тридцать, и я живу с отцом! Конечно, пробовала, по всей квартире валяются бумажки из агентств по недвижимости, так он их даже смотреть не хочет! Говорит, что ему сперва надо разобраться в себе, собраться как-то, что ли. Чем занимается мой отец? Ты имеешь в виду, где работает? Если честно, нигде. Просто болтает о том, что неплохо бы сделать то-то и то-то, и генерирует идеи, которые, может, когда-нибудь реализует. Но так было не всегда. У него имелось собственное издательство, и вполне успешное, кстати, но по части бухгалтерии он никогда не был силен, и они прогорели. А к тому времени мама так хорошо зарабатывала… Вообще папа очень славный. Знаешь, из тех, кто всю жизнь остается десятилетним мальчишкой. Ему уже пятьдесят восемь, а он все еще десятилетний. Маму это, понятно, всегда бесило, но такой уж он у нас — мальчик-переросток, вечно о чем-нибудь мечтает, планирует; по правде говоря, сердце кровью обливается, когда я смотрю на него теперь. Слоняется без дела. Почти все время молчит. Вдруг стал таким… старым.
Мама? Ну, откровенно скажем, я считаю, что мама вышла из себя и наделала глупостей. А мама не из тех, кто делает глупости. Она научилась обдумывать и просчитывать лет в пять. Нет, конечно, это все не просто так, но, по-моему, это уже слишком — столько времени прошло. Сто лет! Не хочу углубляться, но мне кажется, это явный перебор — всем попросту надо успокоиться и подумать. Господи, столько семей…
Что — отчимы? Нет, я понятия не имею. У нас старая добрая семья — папа — мама — я. Сколько? Ничего себе! Твоя мама прямо бьет все брачные рекорды.
Вот так и живем — папа спит на моем диване, в холодильнике — пивные банки, а по всей ванной валяются его грязные рубашки, кучу всяких планов пришлось отложить, а тут еще мама твердит, что не желает об этом говорить. Вдобавок завал на работе, клиенты трудные попались, как будто и без них проблем не хватало.
Ладно, мне пора — как ни странно, мне тут деньги платят. Еще кое-что — дома я не могу разговаривать по телефону. Не то чтобы он подслушивал, скажем так: меня лишили личного пространства.
Вообще-то нет, завтра я не могу. Я встречаюсь с тем парнем, Энди.
Не надо делать поспешных выводов. Я же сказала, рано еще. Там посмотрим.
О… привет. Нет, нормально. Да, мне тоже понравилось. О… Нет, нет, не в этом дело… Слушай, ты не так понял.
Жутко неловко. Короче… я не могу пригласить тебя к себе, потому что со мной сейчас живет мой отец. Он… ну, словом, сейчас он живет у меня. Долго рассказывать. Да. Именно поэтому.
А… понятно. Ты подумал… Господи, да нет же. То есть да, у меня кто-то был, но сейчас между нами все кончено. Вообще для меня сейчас не самое легкое время — нет, нет, не из-за него, там все равно бы ничего не вышло… так, семейные проблемы. Слушай, не хочу тебя этим нагружать, мы ведь едва знакомы.
Правда? Ну, здорово. Честно говоря, многие мужчины этого не любят. По ним, лучше не знать ничего. Они не хотят слушать. Вообще мы во многом из-за этого и расстались. Просто я почувствовала, что, если у меня что-нибудь случается, ему все равно. Понимаешь, о чем я? Боже, наверное, ты подумал, что у меня вечно что-нибудь случается. Нет, это не так, конечно, просто если ты с кем-то, то ждешь от него… Слушай, мне пора — через полчаса у меня встреча с клиентами.
Четверг? Да, пожалуй, в четверг смогу.
Мам? Все в порядке? Если так, то хорошо, потому что у меня все наоборот. Во-первых, я поняла, что не могу приглашать в квартиру гостей, пока там папа… ну, некоторых гостей, ты понимаешь. И именно теперь это страшно неудобно, потому что… потому, что у меня вроде как появился настоящий друг.
Ма-ам, я же сказала — с Дэном мы больше не встречаемся.
А вчера вечером я пришла домой, а его нет. Что? Нет, не друга — кстати, его зовут Энди, — а папы. То есть обычно все вечера он просиживает перед телевизором, между прочим, выпивать начал. Я не собиралась об этом говорить, но просто… мне честно захотелось, чтобы ты знала. Но уже одиннадцать вечера, а его все нет. Чувствовала себя мамашей, которая ждет ребенка с дискотеки, посматривая на часы и представляя всякие ужасы вроде ДТП. Машина? Конечно, на машине. А он понятия не имеет, как парковаться в Лондоне — его штрафуют почти каждый день. И кстати, он очень расстроился, что не застал тебя, когда приезжал за машиной, — лично я думаю, что он в основном из-за тебя и ездил. А вовсе не за тем, чтобы ее забрать.
О, конечно, до дома он в итоге добрался. Почти в час ночи. К тому времени я уже на стенку лезла, чуть в полицию звонить не начала. Сказал, что уезжал из Лондона. Хотел кое с кем повидаться. Далеко ездил, на обратном пути остановился где-то не там и заблудился. И лег спать, а я, естественно, так перенервничала, что еле уснула, и теперь чувствую себя разбитой, а тут еще завал на работе, срочный заказ.
Нет, не пьяный.
Мам, ты меня, конечно, извини, но, если тебе очень надо знать, помнит ли он, что ему скоро проходить техосмотр, спроси у него сама.
Оливер и Ник
— О нет! — Оливер отворачивается от монитора и принимается крутиться на стуле. — Я ушел, меня здесь нет.
Но Сандра не обратила на это внимания — на самом деле ей, кажется, все равно.
— Мистер Хэммонд уже звонил. — И протягивает ему трубку. Она хоть представляет, кто такой мистер Хэммонд?
Оливер пытается сделать страшное лицо, но и это не действует. Он подходит к телефону и берет трубку:
— А, Ник! Сколько лет, сколько зим.
Его начинает трясти. Неужели снова из-за той злополучной истории? Сначала Глин. Теперь Ник. Упаси бог, еще Элейн явится. Он почти не слушает того, что говорит Ник. А тот все не унимается. Все твердил: мол, столько не виделись, неплохо бы обменяться новостями. Надо встретиться.
— У меня куча работы, — говорит Оливер. И начинает распространяться о крайних сроках и неотложных заказах. — Может, осенью.
Сандра с интересом слушает.
Ник продолжает вещать. Говорит обрывками фраз. Что-то о том, что сейчас не дома, что недавно у него были какие-то проблемы, что хотелось бы поболтать о старых добрых временах. Голос у него какой-то… полубезумный.
— Нет! — Оливер едва не воет, бессловесный и беззащитный.
Ник говорит, что, раз уж у него нет никаких особых дел, он подъедет.
— Буду часам к шести, хорошо? Подхвачу тебя в офисе — адрес у меня есть. Поужинаем где-нибудь.
— Вообще-то… — протестует Оливер. — Этим вечером я…
Но Ник уже положил трубку. А Сандра задумчиво смотрит на него:
— Напомни-ка мне, кто такой этот мистер Хэммонд?
Когда Ник входит в комнату, Оливера охватывает ужас.
Неужели это Ник? Этот, с брюшком и залысинами? С отвисшей челюстью и мешками под глазами? Конечно, никто не молодеет, а некоторые и вовсе стареют нещадно, но Ник! Казалось, Ник так и останется вечно молодым, застрявшим на отметке «двадцать восемь», пока остальные мужают до сорока и неумолимо несутся к пятидесяти. Что ж, видимо, даже Ник не исключение.
Очутившись в комнате, Ник безо всяких преамбул начинает говорить — одним духом выпаливает, как он доехал: мол, барахлило сцепление, замучился с односторонним движением. Ему не терпится о чем-то рассказать — это ясно как божий день.
Оливер подбирается. Сандра пристально наблюдает за ними: по какой-то причине она решила, что сегодня задержится, и, когда пришел Ник, была еще здесь.
— А… привет, — говорит Оливер — радушно, но без особой сердечности, ради Сандры, — так приветствуют коллегу или знакомого. — Рад тебя видеть; это Сандра Челкотт — мой деловой партнер. — И оборачивается к Сандре: — Ладно, мы пошли. Пока…
— Ты как к индийской кухне? — спрашивает он. — Есть тут поблизости одно местечко. — И он ведет Ника по улице.
Тот болтает без умолку — во всяком случае, в этом отношении он остался прежним Ником, но при этом все никак не может остановиться, удержаться на какой-то одной теме. По его словам, эти дни он часто бывает в Лондоне: может, стоит заняться книгой о лондонских площадях — чертовски интересная тема, не находишь; Полли передает привет — точнее, передала бы, если бы знала, что я тебя увижу; Элейн теперь жутко занята — я ее, кажется, неделю не видел; уже было собрался написать книгу про Брюнеля, да все руки не доходят, столько всего навалилось…
Внезапно над тарелкой цыпленка тикка масала он умолкает. Непослушная прядь волос, которая некогда то и дело закрывала ему один глаз, тоже куда-то делась. Оливер осознает, что шевелюра его приятеля изрядно поредела. Без той непослушной прядки его лицо кажется… голым.
Ник поднимает глаза. Откладывает вилку, берет свой бокал пива и делает большой глоток.
— Меня кое-что беспокоит, — грустно сообщает он.
И смотрит на Оливера. Теперь он похож на пристыженного старшеклассника: из-под опухших век на него глядит шестнадцатилетний подросток, которого наказали на глазах у однокашников.
— А… — нарочито небрежно произносит Оливер, и ждет, что же последует за этими словами.
— Элейн жутко разозлилась из-за одной фотографии. Помнишь, то старое фото нас с Кэт?
Оливер рассматривает содержимое своей тарелки с ягненком под соусом корма.
— Да, — говорит он наконец.
Ник отодвигает свою тарелку:
— Это самое ужасное.
— Я знаю, — произносит Оливер.
— Знаешь?!
Оливер вздыхает. Ну, и к черту.
— Ко мне приходил Глин.
Теперь на лице Ника — настоящая паника.
— О, господи. Что ему было надо?
— Хотел знать, имела ли Кэт склонность… Словом, с кем еще она спала.
— И что ты сказал?
— Что понятия не имею. А ты бы что ответил?
Ник медлит. Кажется, он погружается в раздумья, а Ник, которого знал Оливер, редко отвлекался на подобные вещи.
— То же самое.
Оба смолкли.
— Вот незадача-то, — говорит Оливер. И снова принимается за еду. Наверняка он захочет заплатить — так чего пропадать хорошей еде?
И тут Ника точно прорывает. Из него исторгается сплошной поток бессвязных, неразборчивых жалоб. Конечно, у Кэт должны были быть еще любовники, говорит он, вокруг нее вечно кто-нибудь увивался. Она же была такая… хорошенькая. Но не ради этого самого, нет. Она не была легкомысленной. Не больше, чем я. Не знаю, что тогда на меня нашло. И на нее тоже, если уж так. Безумие. Глупость. Но факт в том, что прошло сто лет, так что к чему теперь… Я хочу сказать, так нечестно. Элейн ведет себя… Я не стал бы об этом говорить, но, кажется, у меня скоро случится нервный срыв. Кто-нибудь должен что-нибудь сделать.
Оливер едва слушает его. Он думает о Кэт. Которая за это время успела стать некой мифической фигурой, все вертят ей, как хотят, чтобы она вписалась в их рассказы. Каждый обходится с ней по-своему, каждый полагает, что именно он знал ее такой, какой она была на самом деле. Ему кажется нечестным, что посреди этой заварушки ее саму лишили права голоса.
Он перебивает:
— Ты любил ее?
Ник мгновенно умолкает. Он явно шокирован вопросом:
— Ну, я, конечно… — начинает он. — Естественно, надо… я хочу сказать — если ты замешан в таком, что… — Он тянется за тарелкой и берет вилку.
Нет, грустно думает Оливер. Не любил. Ник приходит в себя — настолько, насколько это возможно в его случае.
— Дело вот в чем: думаю, неплохо было бы, если бы ты поговорил с Элейн.
Оливер ошарашенно пялится на него:
— О чем?
Ник вздыхает — нервно, судорожно, раз и навсегда решившись сделать признание:
— Она выгнала меня, Олли, вот, собственно, и все.
Вздрогнув от неожиданности, Оливер принимается обдумывать услышанное. Подобная реакция Элейн удивила его. В свое время он считал, что Элейн скорее махнет на грешки Ника рукой. Да уж, вот это новость.
— Я хочу домой, — хнычет Ник, точно капризничающий малыш.
Оливера охватывает отчаяние. Ему бы рявкнуть на Ника, что он не семейный психолог, но раздражавшее еще со времен издательского дома Хэммонда и Уотсона чувство ответственности его останавливает. Но, боже ты мой, он ведь уже давно не отвечает ни за Ника, ни за его действия и поступки.
— В конце концов, — говорит Ник, — это ты сделал ту фотографию.
Оливер так и подпрыгивает на стуле.
— Нет! — кричит он.
Сидевшие за соседним столиком оборачиваются и смотрят на него.
— Как — нет?
— Я хотел сказать — нет, я не хочу, чтобы ты обвинял меня во всей этой истории.
— Тебя я и не виню, — ласково говорит Ник. Теперь он кажется совсем успокоенным. И начинает с аппетитом уплетать еду. — Я просто хотел сказать, что и ты в этом замешан, — вот и все.
— Да не замешан я, — сухо отвечает Оливер.
— Элейн ты всегда нравился.
— Я ее сто лет не видел.
— Она всегда хвалила тебя за спокойствие и уравновешенность. Которых нет у меня. Думаю, иногда ей казалось, что лучше бы ей было выйти за тебя, чем за меня. — Ник широко улыбается. — Все нормально. Я всегда прекрасно мог с ней договориться.
Вот и займись этим сейчас, кисло думает Оливер.
— Но это совсем выбило ее из колеи. Все, что ей надо, — чтобы кто-нибудь усадил ее рядом с собой и по-дружески поговорил. Ты, Олли.
Оливер сердито воззрился на него.
— Надо всего лишь убедить ее в том, что я этого не заслуживаю, — жалобно говорит Ник. — Верно? Я хочу сказать: да, это было глупо и неправильно, но все уже давно закончилось. То есть нет смысла так злиться. Глин рыщет, как коршун. Элейн ведет себя так, как будто бы я ограбил банк.
— Нет.
— Что «нет»?
— Нет, я не стану разговаривать с Элейн.
Ник молча смотрит на него через столик. Вид у него делается великодушно-укоризненный.
— Как знаешь. Тебе решать. Просто подумалось, что ты должен чувствовать… свою причастность, что ли. Не бери в голову. Проехали.
Доедали молча, лишь изредка обмениваясь ничего не значащими фразами. Когда приносят счет, Ник все еще пребывает в мрачном молчании. Оливер оплачивает его.
У выхода из ресторана они прощаются.
— Приятно было увидеться, Олли, — говорит Ник.
Ему удается показаться великодушным и всепрощающим; вот он уходит.
Оливер испытывает досадное чувство вины и возмущения.
Оливер и Сандра
— Так что стряслось у твоего приятеля? — спрашивает Сандра.
— Да так, ничего особенного, — отвечает Оливер.
— Ладно тебе. Что я, не вижу, когда у человека проблемы?
Они в постели. Путей к отступлению нет.
— Он всегда таким был.
— Сначала этот Глин, — задумчиво говорит Сандра. — Теперь этот Ник Хэммонд. Твой прежний партнер, верно? А Глин был женат на сестре жены Ника? Ну, той, что умерла?
Куда деваться. Оливер признался: да, это так.
— И тут вдруг им всем разом понадобилось тебя видеть. Вскрылась какая-то история?
На мгновение Оливеру захотелось рассказать ей все. Мол, видишь ли, вся заварушка началась из-за того, что Глин нашел старое фото, которое сделал я, при взгляде на него ясно, что у Ника одно время был роман с женой Глина, Кэт. Он тут же понимает, что ничего рассказывать не станет. Голые факты лишь искажают и пародируют правду. Да, они повествуют о том, что случилось, но также сбивают с толку, путают. Ибо не расскажут, каким был Ник, каким был Глин и, самое главное, какой была Кэт и как она жила. Без необходимого балласта сведений о каждом, о том, как тогда обстояли дела, голые факты дают лишь скудную картину и вызывают естественную реакцию. Он точно знает, что по этому поводу скажет Сандра.
Она ждет. Видимо, это — один их редких случаев, когда Сандра решает-таки порасспрашивать Оливера о его прошлом. Он заметил ее целеустремленность.
— Просто им надо кое-что прояснить, — говорит он. — Уточнить кое-какие даты и тому подобное.
— Это как-то связано с издательством? — спрашивает Сандра. — Деловой вопрос? — Тон ее делано безразличен.
Оливер не умеет и не любит лгать. Вот и теперь он дергается:
— Ну, в определенном смысле, да… Если честно, не совсем. Косвенно, иными словами.
Воцаряется многозначительное молчание.
— Ясно, — говорит Сандра. Затем: — Этот Глин — весьма примечательный мужчина. И обаятельный. Говоришь, ученый?
— Ага, — Оливер притворно зевает. — Слушай, любимая, я устал, как собака. Наверное…
— А его жена, — продолжает Сандра. — Ну, та, которая умерла. Кэт, кажется? Она не произвела на меня никакого впечатления, кроме того, что была удивительно красива. Значит, вы были близко знакомы?
Теперь Оливер понимает: хватит. Чтобы успокоить, умиротворить ее, он кладет ей на бедро ладонь и отворачивается с притворным усталым вздохом, в надежде, что подействует. Спустя несколько мгновений Сандра отворачивается и умолкает.
Оливер еще долго не может уснуть. Они толпятся у него перед глазами — Ник, Глин, Элейн. А более всего — Кэт; он видит и слышит Кэт ясно и отчетливо. «Привет, Оливер! — говорит она, влетая в его кабинет-сарай в старые добрые времена. — А где все?» Она сидит на подоконнике в доме Элейн и заплетает Полли косу. Вот она рядом с Ником на той злополучной древнеримской вилле, и он поднимает фотоаппарат. И когда он постепенно пересекает грань между бодрствованием и сном, она все равно не уходит, но теперь она очень молода — девочка-Кэт, которую он не знал, — и говорит о любви. Он не может разобрать ни слова.
Глин и Майра
Сегодня день рождения Глина. Он вспоминает о нем только тогда, когда видит дату в утренней газете. Глин никогда не любил дни рождения. Но прекрасно знал, сколько ему лет — шестьдесят два года. Напоминание о неизбежности старения ему не особо понравилось. Время — его рабочий инструмент, это да, но если применять его к себе, точно кто-то пакостно хихикает за спиной: мол, все смертны, и ты, как оказалось, не исключение.
Суббота. Выходные он планирует посвятить бумажной работе и подготовке к написанию статьи. Всяко полезно. В последние дни Глин пребывает в странном состоянии. И понимает это, потому что видит, что не может работать, как обычно, что усердие дается ему ценой волевого усилия, что ему стало трудно собраться с мыслями и он порой не может уследить за их направлением. Он, который всегда мог работать в любых условиях — работа была его движущей силой с тех пор, как он себя помнит. Теперь все изменилось. Он подолгу пялится в экран компьютера, не поворачивает страницы книги в руках, читает, не понимая ни слова из прочитанного.
Кэт. Все из-за нее. Вместе с тем что-то случилось с прежним желанием винить ее. Острая необходимость уличить ее во лжи, двуличности и связях с сонмом неизвестных любовников улетучилась. Встречи с Клэйвердоном и его приятелем и четой Хепгуд, разговор с любезным хозяином портрета Кэт подорвали его целеустремленность. Осталось чувство неловкости и даже стыда. Его больше не интересуют ни то, что она могла натворить, ни те, с кем… Даже Ник, как он с удивлением обнаруживает, его практически не интересует.
Он думает о Кэт. Она заслоняет ему экран, застит страницы. Он ее слушает.
В передней звенит звонок. Это Майра. Торжественно улыбаясь, она вручает ему подарок — довольно милую фарфоровую безделушку ранневикторианской эпохи. И то и другое он принимает со всей подобающей вежливостью, но ее визит явно неуместен. Совсем неуместен. Негласное правило их отношений предполагает, что встречаются они только у нее. До этого она бывала в этом доме всего раза два или три. Столкнувшись с ней в университете, он удостаивает ее вежливым приветствием, точь-в-точь таким же, каким встречает любого другого коллегу; без сомнения, кое-кто знает об их отношениях, но зачем лишний раз афишировать? В тех редких случаях, когда они выбирались куда-нибудь вместе, он намеренно искал место подальше.
Глин проводит ее на кухню и угощает кофе. А что ему еще остается? И говоря по правде, с ее появлением у него улучшается настроение. Противное ощущение жалости к себе, вызванное лишним напоминанием о собственном возрасте, чувство одиночества совсем ему не свойственны — ему, который всегда так тщательно охранял свое личное пространство.
Майре за сорок; долгое время она была замужем, но Глин совсем не желает знать ни об этом браке, ни о том, отчего он распался. Она красива зрелой красотой, темноволосая и жизнерадостная, в подходящие моменты ее присутствие подбадривает его, придает ему сил. Каковые моменты обычно выбирает он сам — за несколько лет отношений Майра четко уяснила для себя их границы. Если поначалу она и задумывалась о более прочном союзе, то теперь оставила всякую на него надежду. Так же как и Глин понимает, что, если Майре подвернется кто-нибудь более подходящий, ему придется отступить. Он нечасто задумывается об этом, а если и задумывается, спокойно решает, что просто поищет кого-нибудь другого.
Глину нравится секс с Майрой, да и она ясно дает понять, что и ей тоже. Они достаточно близки для тех, кто — как они всячески подчеркивают — спит друг с другом исключительно ради обоюдного удовольствия. Когда он с Майрой, он не допускает мыслей о Кэт. Не потому, что Майра не может заменить Кэт, скорее потому, что ей никогда не стать для него тем, чем была Кэт.
— Ты, наверное, работал, — извиняющимся тоном говорит она.
— Ну да.
Услышав в голосе Глина нехарактерную для него нерешительность, Майра тут же за нее ухватилась:
— Такой день чудесный.
Он замечает: да, так и есть. И начинает понимать, к чему она клонит. Пару минут спустя ее план начинает ему нравиться. Пикник. Прогулка на свежем воздухе. Может быть, обед в местном пабе. Или же (как выясняется, она неплохо подготовилась) есть тут поблизости одна старинная усадьба, и как раз сегодня там открыто. Но, наверное, ты там уже побывал.
Он там не был. И, сказать по правде, совсем не возражал против того, чтобы съездить и взглянуть. Майре повезло. Он соглашается, удивляясь самому себе. Но сначала ему надо-таки посидеть за письменным столом — срочные письма, знаешь ли.
Майру это абсолютно устраивает. Она найдет чем заняться. И в течение следующего часа она быстренько устраивает ревизию всем его чашкам и блюдцам. Отправляет в мусорное ведро заплесневевшие объедки из холодильника, собирает остальной мусор в пакет и быстренько пробегается по комнатам с пылесосом. Именно этого он всегда и боялся, когда речь шла о Майре, отчасти поэтому и не желал, чтобы она приходила к нему домой. Так что он ограничивается сухой благодарностью.
Она быстро понимает это и тактично извиняется.
— Боюсь, я слишком увлеклась. Ты же меня знаешь. — Так и есть, и она снова напоминает ему, что помимо альковных утех ее жилище манит его и домашним уютом. — А у тебя нет ни времени, ни желания, так? Куда только смотрит домработница! Конечно, будь здесь твоя жена…
Вот теперь она действительно перегибает палку. Говорить о Кэт запрещено. Глин отрезает:
— Кэт не занималась подобными вещами.
Майра, естественно, в недоумении. Означало ли это, что Кэт брезговала домашними делами? А может, она была выше подобных пустяков? И она благоразумно отступает, извлекая дорожную карту и предлагая вместе разобраться, как проехать к усадьбе.
Глину становится ясно, что она тщательно подготовилась к этой экскурсии. Он восхищен ее стратегией и тактикой. Так застать его врасплох. Будь все проделано иначе, он бы точно сопротивлялся. Это снова напоминает ему о том, в каком он теперь состоянии. Поддался уговорам Майры, чего раньше никогда не было. Но в работе у него наметился такой очевидный застой, что он совсем не прочь повидать особняк, построенный, как он слышал, еще в четырнадцатом веке, так что в нем самом и окрестностях может найтись масса интересного и полезного.
Глин ведет машину. Майра с явным удовольствием указывает ему дорогу: рада-радешенька, что ее план удался. А может, успех сегодняшнего предприятия видится ей первым шагом к сближению с Глином, некоему более тесному союзу. В любом случае, она не обращает внимания на то, что он необычно тих, и болтает без умолку. Как всегда, ее болтовня поверхностна, она то и дело перескакивает с одной темы на другую; Глину, которого она привлекает не этим, ничего не стоит перехватить инициативу в разговоре, если он того пожелает. Но сейчас ему не хочется, и Майра трещит как сорока все время, пока прибытие в пункт назначения и необходимость быть гидом не заставляют ее замолчать.
Любой старинный особняк для Глина — прекрасный набор скрытых ссылок. Отгороженная веревочным заборчиком старинная мебель и картины, привезенные из Европы, куда поколения и поколения прежних владельцев ездили получать диплом, его мало интересуют; куда занятнее восстанавливать сам процесс накопления богатств и получения титулов. Как возведение этого особняка повлияло на окружающую среду? Что пришлось стереть с лица земли, чтобы насадить этот парк и вырыть пруд? Какую роль играла усадьба в экономике региона?
Для Майры же, как выяснилось, старинный особняк — это немногим больше, чем кафе и магазинчик сувениров. Экскурсия по усадьбе была необходима, обязательная закуска — к ее организации она подходит деловито, со вниманием к деталям, свойственным домохозяйкам, которые не могут не обратить внимания на паутину и невытертую пыль. Тем не менее она проявляет интерес к картинам и охотно сопровождает Глина, когда тот отправляется посмотреть произведения искусства, выставленные на всеобщее обозрение в самом роскошном зале особняка.
Тематика у картин схожая — секс и слава; все разбавляется лишь несколькими лесными пейзажами и натюрмортами, изображающими то вазу с цветами, то битую дичь. Секс, конечно, замаскирован под мифологические сюжеты, но и так ясно, о чем все это, думает Глин, разглядывая изображение Вакха, глазеющего на аппетитно раскинувшуюся розовощекую нимфу, или белотелой Леды, увлекаемой похотливым лебедем.
— Ого! — восклицает вдруг Майра — Ну и дела.
Он не обращает на нее внимания; теперь он думает о славе, озаряющей все вокруг. Наполеон в огромном, не по росту, плаще взирает с каменистого утеса; гибнет на залитой кровью палубе Нельсон; Цезарь в блестящих доспехах окидывает взглядом тысячи мерцающих копий. Слава никогда особенно не интересовала Глина; куда больше его занимал труд неизвестных простолюдинов; но, блуждая среди картин, он понимает: слава освобождает тех, кому достается, они становятся вне времени и вне контекста — некие полумифические фигуры. Их знает каждый, но знает как образ и символ. Так их воспринимают, так изображают — и так будет всегда.
Майре все это начинает слегка надоедать. Она хочет обедать. И проводит Глина через комнату, через другую, третью. Он необычайно податлив и уступчив — погруженный в собственные мысли, далекие теперь от выставленного напоказ живописного изобилия, он равнодушно проходит мимо гобеленной и оружейной комнат, мозаичных шкатулок и тому подобного, размышляя о своем.
В кафетерии Майра снова берет инициативу в свои руки. Устраивает его за столиком, отправляется за едой и возвращается с целым подносом снеди и двумя бокалами вина. Глин с готовностью достает кошелек.
— Именинное угощение, — великодушно говорит Майра и поднимает бокал: — Поздравляю! — И пристально смотрит на него. — У тебя усталый вид. Ничего не случилось?
Глин весь подбирается. И быстро отвечает: нет, что ты, все в порядке. Сегодня Майра и так многого добилась. Больше он ей не уступит. Откровения исключаются, как, собственно, и всегда. О Кэт он рассказал Майре лишь то, что она умерла. Без сомнения, другие поведали ей гораздо больше.
Он собирается с мыслями. Вспоминает, где они находятся. И в упрощенной форме просвещает Майру об истории взлетов и падений местного дворянства начиная с эпохи раннего Средневековья, та слушает с очевидным интересом, хоть и не задает вопросов. Он планирует немного прояснить ей значение этого места, но, когда добирается до Викторианской эпохи, его пыл значительно утихает. Воспользовавшись паузой, Майра предлагает выпить кофе и отправляется за ним. По возвращении она решительно принимается говорить о своем сыне, который учится на инженера, — ей нужен совет Глина касательно его. Глин всегда опасался, что его запишут в отчимы, и избегал видеться с Майрой, когда юноша приезжал навестить мать. Теперь он обороняется тем, что пытается ускорить кофейную стадию и предлагает пойти посмотреть сад.
Майра отбывает в дамскую комнату. Глин выбирается на широкую террасу с видом на пышную зелень Южной Англии, и тут к нему присоединяется Кэт. Врывается вихрем; она не только в его голове — она повсюду, кажется, некогда он привозил ее в похожее место, тогда, когда он бешеными темпами ухлестывал за ней. Они стояли возле каменного парапета и любовались аллеями парка, и вдруг она положила ладонь ему на руку. «Есть вещи, о которых не говорят, — сказала она, а потом: — Да это я так». Теперь эти слова эхом отдаются у него в голове: есть вещи, о которых не говорят.
Возвращается Майра, и они принимаются бродить по ухоженному саду — мужчина и женщина, среди десятков таких же пар и экскурсантов, приехавших на автобусе. Погода все еще прекрасная, розы стоят в цвету. Майра жутко довольна:
— Как хорошо, что я тебя сюда вытащила.
Но рядом с Глином в этот момент не Майра, а Кэт. Майра что-то говорит, но ее слова не долетают до его ушей, остаются фоном — он снова и снова вспоминает Кэт.
— Ты меня не слушаешь! — говорит Кэт.
Но он слушает — слушает во все уши. Слышит и видит. И среди давно знакомых картин и видений, тех, что так хорошо вписывались в прежнюю картину жизни с Кэт, мелькают иные, точно неведомые до поры до времени звезды, открытие которых периодически будоражит умы астрономов. Но Глин вовсе не взбудоражен — он обеспокоен, взволнован, ему не по себе.
Вот он слышит голос Кэт — она говорит по телефону, — тихий голос, скомканные, прерывистые фразы. Она что, плачет? Он входит в комнату, и она тут же кладет трубку: «Мне пора, Мэри». У нее странное, искаженное лицо. Он спешит — собирается на конференцию в Штаты, а нужная бумага куда-то запропастилась. Так что у него нет времени рассматривать лицо Кэт, искаженное непонятной гримасой, но оно наверняка должно было отпечататься в его памяти, потому что сегодня, здесь и сейчас, он ясно видит его.
Элейн и Полли
Когда-то Элейн подумывала о том, чтобы не рожать Полли. То есть совсем не иметь детей. Сознательный выбор. Ибо видела, насколько дети усложняют жизнь. Присмотревшись к своим сверстникам, она заметила вот что. Среди них были те, кто не покладая рук трудился денно и нощно и не знал покоя ни ночью, ни днем, и те, кто чувствовал себя куда свободнее и отвечал только за себя.
Так что ей оставалось лишь выбрать. Пару лет она время от времени задумывалась над этим вопросом, но ненадолго. И в один прекрасный день обнаружилось, что она забыла принять таблетку. Ничего страшного — она и прежде забывала.
Когда она поняла, что беременна, Ник сказал: «Да ну? Круто!» Она так и не поведала ему своих сомнений касательно материнства. Конечно, ребенок мог появиться только у двоих, но она чувствовала, что с мужем станет обсуждать это в последнюю очередь. Ибо и так знала, на кого ляжет большинство забот.
Ник оказался неплохим отцом. Когда он был дома и ничем особенным не занят, он охотно возился с дочерью. Лет с двух Полли видела в нем симпатичного, но диковатого домашнего питомца, с которым бывает здорово поиграть и порезвиться, но всерьез воспринимать не стоит. Когда она стала старше, это отношение переросло в привязанность и радостное изумление, к которым примешивалось легкое раздражение: «Как это похоже на папочку!» «Доверься папочке!» — казалось, Полли быстро переросла его, превратившись в умелого и ответственного взрослого, тогда как он так и остался вечным подростком.
Теперь Полли стала более осторожной, когда звонила матери. Она оставила уговоры, побежденная вежливым упреком Элейн: «Давай не будем об этом». Вместо этого разговор вращается вокруг да около. Она упоминает о том, сколько проблем появилось, когда Ник сломал ее стиральную машинку и пришлось вызывать мастера. Элейн тут же предлагает заплатить. «Дело не в деньгах, — говорит Полли, — просто зачем мне лишний геморрой?» В красках описывается то, как она таскала Ника по различным агентствам недвижимости: «В субботу утром, когда у меня и без того куча дел… И мы ходили смотреть квартиру — очень хороший вариант, и он сказал: да, подойдет, но стоило нам вернуться ко мне, как тут же пошел на попятную и сказал: нет, не хочу, я еще подожду. И мое субботнее утро коту под хвост». Она мрачно намекает на то, что иногда он целыми днями пьет.
Утверждает, что Ник похудел. Не то чтобы ему не шло, но тем не менее.
Все это не может не подействовать на Элейн. Новости смущают ее. Прежняя решимость стремительно тает. Вместо того чтобы спокойно думать о работе, о каждодневных обязанностях и планах на будущее, она снова и снова вспоминает слова Полли. И представляет, как Ник бесцельно блуждает по Лондону, накачивается пивом, как он похудел и оброс.
Полли приезжает к ней в гости. Как обычно не известив, попросту влетает в дом воскресным утром.
— Папа знает, куда я поехала, — многозначительно говорит она. — Он… он передает большой привет.
Они с Элейн обедают в оранжерее.
— Не могу поверить, что папы тут больше нет, — говорит Полли. — Все жду, что он вот-вот войдет. Хорошо, хорошо, не буду начинать снова. Просто… ну, не верится, и все.
Элейн с ней согласна, но вслух этого не произносит. Полли рассказывает о своем приятеле. Том самом Энди.
— Не то чтобы я влюбилась или что-то в этом роде, — говорит она — Но это… интересно, скажем так. — Она задумчиво смотрит на Элейн: — А как у вас с папой было? Вы — бац! — и влюбились или как?
Элейн растерялась. Она не привыкла говорить на подобные темы, да и Полли обычно не задает таких вопросов. Неужели старые добрые семейные устои и те подорваны?
— О, — говорит она, — это было так давно.
Но Полли и не думает отступать:
— Да ну, мам. Все же помнят, как влюблялись.
Элейн возится с салатом.
— Все с грядки, — объявляет она. — Этот сорт кресс-салата я вырастила в первый раз. Неприхотливый, как сорняк. — Она щедро накладывает зелень в тарелку Полли. — И молодая свекловица. Угощайся.
Полли пристально смотрит на нее:
— Мам, извини, конечно, но мне кажется, тебе будет лучше, если ты станешь откровенней. А то из тебя слова не вытянешь. Я, конечно, понимаю, такой уж у тебя характер, но пользы тебе это не приносит.
Элейн привыкла к тому, что Полли ее критикует. Полли стала критиковать ее лет этак с трех. Обычно она придиралась к тому, как мать питается, одевается, как ведет хозяйство. Теперь, кажется, добралась и до самого важного.
— Кажется, я припоминаю — мы постепенно сблизились друг с другом.
— Сблизились? — взвизгивает Полли. — Сблизились?! Какая чушь, мама!
На самом деле Элейн просто старается говорить правду. Это все, что она помнит. Она пытается припомнить страсть, желание, и ей на ум приходит такая картина: яркий солнечный день, они с Ником гуляют по холмам Суссекса незадолго до свадьбы, и ее переполняет радость, предвкушение… да, любовь.
— Нет, конечно, что-то такое было.
— Еще бы, — отрезает Полли. Она принимается размышлять вслух: — Я хочу сказать, я влюблялась, но, наверное, по-настоящему никогда не любила. Не полноценный обед в шикарном ресторане, так, чтобы из-под ног земля уходила и тому подобное. Пара закусок, не больше. Я все еще жду.
— Ну, время есть, — улыбается Элейн. — Как на работе дела?
Но Полли не хочет говорить о работе:
— А Кэт любила Глина?
С чего это Полли стала так интересоваться любовью? И какая именно любовь ее интересует — та, что была в прошлом, или та, что еще будет? Любовь Элейн — или ее отсутствие? Или потенциальная любовь самой Полли? Как бы то ни было, Элейн этот разговор неприятен.
— Ну, — говорит Элейн, — она казалась очень счастливой.
Кэт снова и снова спускается по ступенькам ЗАГСа, снова и снова улыбается. В объектив фотоаппарата Элейн и самой Элейн, которая стоит на другой стороне дороги. На Кэт перекрутилась юбка.
— А когда Кэт не казалась счастливой? — восклицает Полли.
Элейн хочет прекратить этот разговор, если это можно назвать разговором, но она видит, что Полли понесло. И уже не скажешь, мол, давай не будем об этом, ибо разговор о Нике Полли не начинает.
Зато теперь ее заносит в другую сторону.
— Дело в том, что я не понимаю. Не понимаю, как люди могут быть такими непостижимыми. Не понимаю людей. Ты думаешь, что знаешь их как облупленных, и тут они — бац! — и выкинут что-нибудь такое… Даже в твоей голове, черт возьми! Я не понимаю Кэт. То есть я знала Кэт. Не понимаю папу. Смотрю на него — а сейчас он выглядит таким жалким, мам, видела бы ты: в грязной рубашке, небритый, с отросшими волосами, — смотрю на него и не понимаю, что творится у него в голове. И тебя не понимаю, мам. Совсем.
В окно оранжереи отчаянно бьется, хлопая крылышками, бабочка-ванесса. Снаружи, в саду, сквозь листву диких яблонь сочится солнечный свет, превращая лужайку перед домом в шитое золотом зеленое парчовое покрывало. Пэм катит тележку в дальнем углу тропинки; с тележки что-то свалилось, и она нагибается, чтобы это поднять. Элейн видит знакомые декорации; лишь присутствие дочери нарушает идиллию. Точно Полли не тридцать лет, а восемь, или десять, или двенадцать.
— Я не понимаю, как получилось, что все вдруг слетело с катушек. То есть жизнь ведь должна идти дальше? Ну, в смысле… двигаться вперед. Что бы не случилось… Она… не должна. А вы ее отматываете. Ты и папа. Папа вообще стал как зомби. Абсолютно не в себе. Я уже подумываю о психоаналитиках. Слышала, есть одна женщина…
Элейн мгновенно вздрогнула:
— Нет. Ни в коем случае.
И она свирепо смотрит на Полли, которая, отодвинув от себя тарелку с недоеденным обедом, умудряется принять вид одновременно мученический и протестующий.
Элейн понимает, что чувствует себя виноватой, и уже довольно давно. Виноватой перед Ником. Как такое возможно? Это он должен чувствовать себя виноватым перед ней, но отчего-то они поменялись ролями. И теперь Ник становится жертвой обстоятельств, Нику нужны помощь и поддержка. А она, неумолимая и недобрая, повела себя неразумно.
Она вопрошает:
— Можно подумать, я развела это на пустом месте?
— Ой, мам… конечно, не на пустом. Но посмотри на себя… Честно, мам, выглядишь ты ужасно. Я же вижу — ты на себя не похожа: дергаешься, мешки под глазами.
Неужели так и есть? Элейн стала замечать, что Соня как-то странно на нее поглядывает. Да и Пэм недавно участливо предложила взять на себя еще кое-какую работу. Неужели она и вправду так сдала? Неужели всем это видно?
Воцаряется молчание.
— Ну ладно, — говорит Полли. — Хватит. Умолкаю. — Она тянется за своей тарелкой и снова принимается за еду. — А вкусно. Можно я возьму с собой пучок этого твоего салата — для нас с папой?
Кэт
Оливер ловит себя на том, что думает о мужчинах Кэт. Тех, что иногда приходили с ней в дом Элейн. Разумеется, он почти их не помнит, кого-то помнит в лицо, но не припоминает по имени, а иных и в лицо помнит смутно. Их было не так много — четверо, пятеро, а может быть, шестеро. Двоих он вообще видел всего один раз; остальных, более настойчивых, запомнил лучше. Совсем разные — высокие и не очень, молодые и постарше, — но общим знаменателем, как припоминает Оливер, являлся торжествующий вид. Они походили на счастливых обладателей некоего приза, победителей соревнования, в котором он, Оливер, участия не принимал. Оливер знал, что такие, как он, не могут надеяться на благосклонность женщины с наружностью Кэт. Ее кавалеры были куда симпатичнее, увереннее в себе и целеустремленней. И их нынешней целью являлась Кэт. Они обращались с ней легко и непринужденно, и не без самодовольства — принимая общество подобной женщины как должное, нечто, положенное им по статусу.
Актер, чье имя тогда показалось ему смутно знакомым, с амплуа очаровательного жулика, а также некий обладатель изысканных манер и «БМВ» с откидным верхом. Оба приходили не один раз. И, вспоминая об этих мужчинах и о том, как постепенно они уходили в небытие, он вдруг оказывается в саду Элейн в компании Кэт, занятый сбором упавших с яблонь плодов. В тот раз она пришла одна, без кавалера. Вокруг снует Полли, деловито помогая управляться с яблоками. Она подбегает к ним, нагруженная добычей: «Смотрите, сколько я собрала!» — «Умница! — говорит Кэт. — Клади в корзинку».
«А где Майк? — спрашивает Полли. — Он обещал покатать меня на своей машине без крыши».
А Кэт отвечает. «Майк больше не придет». Походя, обозревая только что поднятое с земли яблоко. Полли делает недовольную гримасу и снова отправляется на поиски яблок.
Кэт оборачивается к Оливеру. Неужели у него был заинтересованный вид? А может, удивленный или сочувственный? Она улыбается: «Все в порядке, Олли, мое сердце не разбито. Он тебе нравился?»
И застигнутый врасплох Оливер что-то уклончиво бурчит, иначе он мог бы ответить, что все они дураки — не знают, что потеряли.
Кэт вздыхает. Вытирает яблоко о рукав и откусывает от него — он видит, как ее белые зубы впиваются в блестящий красный бок. «Главное — отойти в сторону, пока не поздно». То ли она говорит с ним, то ли просто себе под нос — неясно. И вид у нее странный — озабоченный и как будто потерянный.
— Слишком поздно? — переспрашивает он, чтобы убедиться, что расслышал все верно.
И она улыбается, становясь знакомой, неунывающей Кэт. «Пока они не передумали. У тебя есть подружка, Олли?»
А что ответил Оливер? О, ясно что. Буркнул что-нибудь себе под нос, Кэт посмеялась и поддразнила его, а потом, прихватив с собой Полли и корзинку с яблоками, они отправились домой обедать, или пить чай, или ужинать.
Во всяком случае, сейчас он уже смутно помнит, что из этой сцены происходило на самом деле, а что он присочинил сам. Он видит Кэт и маленькую Полли, которые возятся в высокой траве, и любуется игрой света на бочке румяного, без царапин и вмятин, яблока. Выхватывает обрывки фраз: «Мое сердце не разбито… Главное — отойти в сторону… Пока они не передумали». Насчет прочего он не уверен — может, так и было, может, он путает сказанное тогда со сказанным ранее или позднее, а воображение подсказало остальное. Достаточно и того, что он был там тогда с Кэт и все случилось именно так — или очень похоже.
Полли не помнит тот день, когда они собирали яблоки. Он так и остался погребенным под грузом детских воспоминаний о тех днях, когда она была лишь парой глаз и ушей — слушала, смотрела и запоминала. Запоминала Кэт — она помнит ее разной. По мере того как росла сама Полли, Кэт становилась меньше ростом, и вот они уже сровнялись. И теперь Кэт стала чем-то вроде старшей сестры.
Когда-то Полли хотела, чтобы Кэт стала для нее больше, чем тетей. Она хотела, чтобы Кэт была ее матерью. Нет, это вовсе не означало, что она отказывалась от Элейн, просто желала, чтобы Кэт всегда была рядом — внимательная и близкая, как мама. Это она помнит отчетливо, как и чувство вины; она знала, что не должна никому говорить об этом, а Элейн — особенно.
Теперь Полли смотрит на все это взрослыми глазами. Она обожала Кэт и, естественно, хотела видеть ее чаще. Но уже лет в шесть — семь? — лет стала настолько взрослой, чтобы понять, что в этом ее желании привкус измены: мать может быть только одна, и ее надо любить больше всех на свете.
Я и любила, думает она. А что мне еще оставалось?
Да и не было в Кэт ничего такого… материнского. Разве можно представить, чтобы Кэт катила коляску, раскладывала по тарелкам семейный обед или ждала у ворот школы, а Элейн проделывала это между прочим и еще и работала! Полли понимает это и отдает матери должное.
Однажды Полли и Кэт сидели в комнате студенческого общежития и пили кофе — Полли тогда училась в колледже. Кэт приехала навестить племянницу. Полли хвасталась красавицей теткой, провела ее по кампусу, и теперь они устроили откровенный междусобойчик, которые так любила Полли. Она принимается расспрашивать тетю, что та думает о ее друзьях. Студенческая жизнь захватила ее с головой. Но она работает — работает как вол, решительно заявляет Полли. Уже тогда у нее имеются цели, она знает, к чему стремиться. Может быть, она пойдет в бизнес, станет финансистом, устроится куда-нибудь в Сити. А может, подастся в журналистику. Про веб-дизайн тогда речи не шло, хотя Полли уже в колледже стремительно осваивала новые технологии.
Кэт слушает. Сидит на кровати, скрестив ноги, точно с рождения привыкла сидеть в позе лотоса, с кружкой кофе в руке. Точно ей двадцать, а не сорок с лишним. Слушает с явным восторгом. «Счастливица!» — восклицает она, и в голосе ее звучат странные нотки. Полли в недоумении: это она-то счастливица? Вот кто счастливица, так это Кэт — так выглядеть, вести такую жизнь. Легко идти по ней. Счастливица уже потому, что она — Кэт.
Они говорят о любви. Полли думает, что влюбилась — не то чтобы потеряла голову или что-то в этом роде, не безумно влюбилась, но что-то определенно есть. Симптомы кажутся ей интересными, и она расспрашивает о них Кэт. Сон она не потеряла, но очень много думает о нем, и гм… в сексуальном плане. И не может не строить планов, как к нему подступиться. Может, не стоит? Все равно ничего не выйдет. А как ты понимаешь, серьезно это или нет? Она думает: кто-то, а Кэт уж точно спец в подобных вопросах.
Кэт смеется: «А… ты об этом». И рассказывает, что в первый раз влюбилась в пять лет — в почтальона. Потом — в рекламного агента, который приходил к ним домой, потом — в викария, а в пятнадцать лет — в мальчишку из газетного киоска; это уже было серьезно и продлилось целых два месяца. Но девчачьи влюбленности Полли не интересуют, и она чувствует, что тетка уходит от ответа. А ей хочется получить совет искушенного. Но теперь Кэт, кажется, нарочно оттягивает этот момент. Она даже не пытается отвечать уклончиво, но странно молчит. «Я знаю только то, что в этих делах у меня опыта мало, — говорит она, — ошибки, ошибки… — Она пристально смотрит на Полли. — Главный вопрос: любят ли они тебя?»
Ник думает о том, что кроме Элейн у него было шесть женщин. Не так и много. Кажется, семь, но первый опыт случился лет в семнадцать, когда он ничего толком не умел, так что это не в счет. Не тянет на донжуанский список, правда? К тому же первые три были до свадьбы — нормальные этапы сексуального развития мужчины. Еще три раза он и вправду изменял жене, тут уж ничего не попишешь, хотя один случай все-таки под вопросом: он напился на какой-то вечеринке и в конце концов очутился дома у той женщины, но никакого продолжения это не имело. Очень давно у него случилась интрижка с коллегой по издательскому цеху. Теперь, беспристрастно взирая на все это, он готов согласиться, что она достойна порицания, но Элейн ничего не узнала, никто не пострадал, так что было и прошло.
Уже будучи женатым, он то и дело заглядывался на других женщин, и готов это признать. Любовался ими, а иногда и откровенно вожделел. Несколько раз флирт едва не перерос в нечто большее. И перерос бы, представься случай. И в этом он тоже готов признаться.
Конечно, образцовым мужем его не назовешь, но и беспутным тоже, правда? Ей-богу, бывают мужья и похуже.
Если бы речь шла не о Кэт, Элейн наверняка отреагировала бы по-другому. Если бы на той фотографии с ним стояла какая-нибудь другая женщина — незнакомая, неведомая, — Элейн бы разозлилась, он бы на коленях вымолил прощение и избежал лондонской ссылки.
Но почему? — спрашивает он себя. Почему это случилось? Но он знает ответ. В один прекрасный день, взглянув на Кэт, он как будто увидел ее заново. А теперь он не видит ее такой. Теперь же та нечеловеческая сила, что влекла его к ней, исчезла бесследно. Да и сам Ник уже не тот, что так желал Кэт.
Кэт сидит на подоконнике их старого дома, держа на коленях Полли, тогда совсем малышку. Задолго до той истории, еще во времена невинности. Ник вошел в комнату и сперва подумал, что перед ним Элейн. Так и сказал: «Я думал, это Элейн». Но поверх головы Полли на него смотрит Кэт. «Нет, это я». Снова и снова он вспоминает, как она произносит эти слова. Всегда веселая Кэт вдруг кажется ему грустной.
Медовый месяц Глин с Кэт провели в Озерном краю. Это был его выбор: попутно он собирался исследовать историю появления древнейших ферм на холмах — эта тема очень его интересовала, и нужно было провести исследования системы межевания на местах. В его памяти события той недели сливаются в вереницу образов: вот Кэт ложится на живот, чтобы напиться из озера, вот на нее глазеют посетители паба, когда она входит в двери, ее волосы намокли под дождем. Вот она идет за ним вдоль лощины. Обернувшись, он видит, что она остановилась и повернулась к нему спиной: руки на бедрах, алая куртка; маленькая, яркая фигурка — романтическая аллегория радости и легкости бытия, а вокруг лишь небо, озеро и холмы.
Вот они карабкаются по извилистой тропинке — вверх по скользкому, поросшему травой склону холма. «А холм как-нибудь называется?» — спрашивает она. «У них у всех есть имена. Это Кэт Беллз». Дует легкий ласковый ветерок, яркий солнечный свет заливает холмы. Она подходит ближе и обнимает его. Они целуются. Прижавшись к нему, она ведет рукой вниз и ощущает его возбуждение. «Идем спустимся с горки», — говорит она. И они быстро скатываются вниз по склону. Поблизости стоит невысокая каменная стена, заросшая снизу общипанной овцами травой и кустарником. Они добредают до стены; она смеется: «Я не могу раздеться совсем — такая холодрыга!» Он расстилает на земле плащ и укладывает ее. Это самый острый и пронзительный секс в его жизни, радостно-нетерпеливый, навеки оставшийся в его памяти: тот дивный край, запах примятой травы, птичий щебет, овцы, мирно пасшиеся вокруг. Потом его охватывает эйфория, острый приступ радости жизни — притянув жену к себе, он крепко обнимает ее, просовывает ладони под свитер и ощущает тепло ее кожи. Она снова смеется. «О да! — восклицает она. — Да!»
И теперь, сегодня, его охватывает злость — оттого, что все это осталось лишь в его памяти. Он хочет вернуть то время. Хочет вернуть Кэт — больше, чем когда-либо.
«Я хочу родить пятерых детей, — говорит Кэт. — Лучше девочек. Ну, может, пару мальчиков. Может быть, близнецов. Не сейчас, конечно. Через несколько лет».
Элейн слушает не без цинизма. Она беременна: тяжела, неуклюжа и раздражительна. Кэт снова занесло в ее дом попутным ветром, и вскоре она опять унесется восвояси, ее ничто не держит — делает что хочет.
Элейн замечает, что для этого ей понадобится муж.
«Да, да, конечно. Я уже думаю над этим».
Кэт двадцать один. И выбор у нее, как видит Элейн, весьма богат. Иногда она приезжает с каким-нибудь внимательным ухажером. Но не в этот раз.
Временами чувства Элейн к младшей сестре меняются на противоположные. Если Кэт не слышно много недель, Элейн начинает нервничать. Почему она не звонит? Что с ней? Когда же сестра наконец объявляется, беспокойство сменяется раздражением. Вот она, беззаботная стрекоза среди деловито копошащихся муравьев. Но ты снова и снова поражаешься ее красоте. Как будто уже успел забыть, какая она.
«Ну, ищи осторожнее», — говорит Элейн. Она не верит в благоразумие сестры. Тон у нее кислый, и она не пытается это скрыть.
Кэт смеется: «О, я осторожна. Ты даже не представляешь, как я осторожна». Смех резко умолкает. Она вдруг оглядывает маленькую комнату. Взгляд ее останавливается на животе Элейн. «И как это, правда, чудесно? — спрашивает она. — Ну, все это?»
Голоса
Слушай, — говорит он. — Это Ник. Знаю, я последний, кого ты хотел бы сейчас услышать, и если ты бросишь трубку, не обижусь. Но тем не менее попробуем поговорить, ладно? Просто я подумал, что нам с тобой не мешает пообщаться… Честно говоря, у тебя есть веские причины, чтобы послать меня подальше, но я подумал — попытка не пытка, мне терять нечего, все уже и так плохо, во всяком случае, теперь. И ей-богу, я прекрасно понимаю, что сейчас чувствуешь ты. Поверь, Глин. Я пытаюсь сказать вот что… Знаю, ты можешь подумать: это уже слишком, короче… Короче, все не совсем так, как кажется. То есть, с твоей точки зрения, это все омерзительно, но я чувствую, будь у меня шанс хоть немного объяснить, просто поговорить об этом, думаю, ты сможешь взглянуть на это по-другому, и на меня тоже. На самом деле, весь вопрос в точке зрения. Дело в том… ты меня слушаешь, Глин?
Глин бурчит, что да, слушает. Недоумевая зачем, собственно, он это делает.
— Господи, спасибо. Спасибо, что дал мне шанс. Слушай, я вот что хочу сказать: это было так… ужасно глупо и абсолютно несерьезно. Было такой большой ошибкой. Не знаю, что на нас… на меня тогда нашло. Конечно, все так говорят… Нет, не все, ты, наверное, так не сказал бы. Ты слишком рассудительный, чтобы так говорить. Я всегда знал, что ты — уравновешенный парень и всегда знаешь, что делаешь… Собственно, поэтому я и решил: а что, если я попытаюсь поговорить с ним?
— Именно этим ты и занят, — отрезает Глин. — И о чем ты хочешь поговорить?
— А, ну… О разном, Глин. То есть самое главное — обо мне и Кэт. Ты должен понять вот что: все закончилось, едва начавшись. Никакого затяжного романа, ничего. И все это абсолютно не касалось… других отношений. Меня и Элейн. Тебя и Кэт. Только они были важными, поверь мне. Тогда мы оба это знали. Она… скажу тебе честно и без обиняков… я всегда знал, что она никогда не была в меня влюблена. А я… ну, скажем так, я увлекся. В конце концов, она была чертовски… Совсем потерял голову. Но очень ненадолго, вот что я хочу сказать. Кратковременное помешательство. Собственно, поэтому я и решил позвонить, Глин. То есть это было так давно, и Кэт уже не с нами, так что лучше обо всем забыть и продолжать жить дальше.
Глин перебивает его и говорит, что лично он так и поступает.
— Вот тут ты умнее всех нас, Глин. Ты смотришь на случившееся исключительно с рациональной точки зрения. Мне так легко стало, когда я поговорил с тобой. Слава богу, что все-таки решился позвонить! Поверь, не так-то легко было себя заставить, но теперь мне намного лучше. На самом деле, проблема в том, что… Элейн восприняла это совсем иначе, и об этом я тоже хотел с тобой говорить. Из-за всей этой истории она вышла из себя. Собственно говоря, Глин, меня… выставили из дома.
Глин, последовательно переходивший от крайнего раздражения к презрению и откровенной скуке, ощутил внезапный всплеск интереса. Вон оно как, значит. Ну и дела…
— Я живу у Полли. Тебе, Глин, я рассказать могу. Мне сейчас очень плохо. То, что случилось… Мне кажется, это как-то… чересчур. Нет, конечно, я могу понять, что она чувствует, но неужели все должно быть именно так? Со мной она не разговаривает, а все, что говорит Полли, не имеет на нее никакого воздействия. Что мне пришло в голову, Глин… Элейн всегда к тебе хорошо относилась, много общалась с тобой, она тебя уважает, и я прекрасно это знаю. Может, ей нужен более беспристрастный взгляд, как твой, например… поговори с ней, скажи, что это зашло слишком далеко. Просто я чувствую, что тебя, Глин, она точно послушает.
— До сих пор? — спрашивает Глин.
— Ну и, конечно, не будем забывать, что это ты ей все рассказал.
— А… ясно. Конечно, это я во всем виноват, — язвит Глин.
— Господи, что я несу. Конечно нет. Я целиком и полностью понимаю, почему ты почувствовал: ей надо рассказать…
— Прекрасно, — отвечает Глин. — И что?
— …конечно, я все понимаю. И вы с Элейн так давно знакомы. Хотя жаль, что ты сперва не пришел ко мне и мы с тобой не поговорили на эту тему…
Хватит.
— Давно, — отрезает Глин. — Мы с Элейн действительно хорошо знакомы.
— Что, прости?
— Мы с ней… какое-то время нравились друг другу. Но ты, наверное, об этом знал.
— Нет, вообще-то.
— Да ладно. С нынешней точки зрения ничего особенного. Понимаешь, о чем я?
Потом Глин долго не мог понять, зачем он это сказал. Из-за того, что был раздражен? Или намеренно хотел поддразнить? Как бы то ни было, он это сказал.
— О! — говорит Ник. — Вы с Элейн… — И замолчал.
— Можно, конечно, поговорить, как ты предлагаешь, но в целом, думаю, это будет лишним. Придется тебе разбираться самому — вот мой совет.
— Мам? Слушай, я беспокоюсь о папе. Ничего нового, но я волнуюсь. Он совсем замкнулся в себе. Не то чтобы я его часто вижу — на этой неделе я работаю допоздна, у нас тут народ болеет, и я… да ладно, ничего страшного, — но, когда я прихожу домой, он меня не замечает. Смотрит так, будто меня здесь нет. Честно говоря, я снова подумываю о психотерапевтах.
— Это я. Нам надо поговорить.
Когда Элейн кладет трубку, она до сих пор не верит в реальность этого разговора с Ником. Ей пришлось признать: да, они с Глином нравились друг другу и несколько раз тайком встречались тет-а-тет. Но нет, любовниками они не были. Ее переполняют эмоции: злость на Глина, замешательство; ледяной тон в беседе с Ником, который не наткнулся на автоответчик лишь потому, что она забыла его включить. Но теперь, когда разговор окончен, она сердится и негодует, но вдруг понимает, что тон Ника оказался не таким, каким она ожидала. В его голосе не слышалось ни вызова, ни упрека, скорее замешательство и недоверие. Ей показалось, что он не видит в этом большой трагедии. И позвонил лишь для того, чтобы удостовериться.
— Я решил, что он все выдумал.
И зачем Нику понадобилось звонить Глину? Когда Ник ответил, она тоже едва поверила своим ушам:
— Хотел попросить его поговорить с тобой обо… всем. Замолвить за меня словечко.
Только Ник мог до такого додуматься. То есть только Ник, окончательно потерявший голову. Спровоцировать Глина, чтобы он такое сказал… Все мы тут чокнутые, думает она.
Глин возвращается к излюбленному методу. Снова выходит на охоту. Отслеживает направления, совершает набег на Центр искусств и ремесел, несколько раз берет ложный след, оказывается в тупике, но вот наконец находит нужный номер, звонит и договаривается о встрече.
Элейн вдруг решает, что ей срочно нужно наведаться в один знаменитый парк в Глостершире — она давно там не была. С профессиональной точки зрения будет большим упущением не полюбопытствовать, как обустроили новый пруд, и не посмотреть, каковы в этом году шикарные древовидные пионы. К тому же парк расположен недалеко от Уинчкомба, где живет кое-кто, с кем ей хотелось бы потолковать. Она снимает трубку:
— Привет. Это голос из прошлого: Элейн, сестра Кэт. Не могли бы вы…
Оливер роется в старых записных книжках. Тайком, по вечерам, когда Сандра уходит в ванную или возится на кухне, пряча их обратно в ящик, стоит ей появиться в дверях. Этот аспект совместного проживания тоже немного раздражает его — то, что в самых безобидных вещах, о которых ты по каким-либо причинам не хочешь распространяться, нужно быть осторожным. Когда речь идет о самом главном, нельзя портить воздух или ковырять в носу. И потом, все, что может привести к расспросам, которых хотелось бы избежать, приходится делать украдкой. Хотя с какой стати он должен таиться, разыскивая телефон и адрес старой знакомой?
Наконец он его находит. Вот он. Правда, не в записной книжке, а нацарапан на последней странице блокнота, исписанного телефонами типографий и поставщиков, цифрами и расчетами. Блокнот остался еще со времен издательского дома Хэммонда и Уотсона. Рядом с адресом стояла приписка «фотографии», обведенная в кружок. Должно быть, он записал ее адрес, потому что обещал прислать фотографии. И наверное, так и сделал, хотя и не помнит. Тогда-то, распечатывая кадры с той пленки, он и наткнулся на злополучный снимок. И конечно же не стал отсылать его Мэри Паккард вместе с остальными.
Нику постоянно слышится голос Глина. Он звучит в его голове: голос, который он не слышал много лет, но сразу же узнал — хмурый, но не без мелодичности, — голос, который тут же воскресил в памяти облик того, кому он принадлежал. «Мы с Элейн…» Эти слова вернули Ника в прошлое, когда Глин частенько приходил к ним домой, с Кэт, и завладевал беседой, подавляя самого Ника, вокруг которого она обычно вращалась. Даже тогда, готов признать Ник, он чувствовал себя побежденным.
И голос Элейн он слышит отчетливо. Что она говорила. Как она это говорила — ледяным тоном, в котором, однако же, чувствовалось некое замешательство. Сам Ник никак не может привести в порядок свои мысли и чувства, но в этом беспорядке ему чудится облегчение — странным образом он чувствует себя лучше, хотя толком не понимает отчего, да это и неважно. Глин отказался стать посредником — Ник и сам недоумевает, с чего он вдруг решил, что тот согласится; вместо этого Глин и сбросил бомбу. А может, вовсе не бомбу — так, сигнальную ракету? Что он чувствует по этому поводу? Ну… удивление. Элейн и… Глин? Хотя, кажется, ничего особенного не случилось. Но даже так… Он сердится или ревнует? Ну, не совсем. Хотя чувствует, что его… обставили. К тому же это все усложняет, не так ли?
Но чаще всего Нику слышатся различные модуляции голоса Глина. Не только слова из последнего телефонного разговора, но сказанные давно. Тогда. В тот день. Когда Кэт… Он слышит голос Глина — такой же, как сегодня, но в то же время совсем другой. Снова звонит телефон. Это Глин.
— Мне нужно поговорить с Элейн.
Тот день
Четверг. Глин ушел из дома рано: ему надо было успеть в университет к девяти — проводить семинар. Он едва не проспал. Потянувшись за будильником, воскликнул: «Черт возьми, времени уже…» — и обнаружил, что лежащая рядом Кэт смотрит на него широко раскрытыми глазами.
«Почему ты меня не разбудила? Мне сегодня надо пораньше».
Все события того дня навсегда отпечатались в его памяти. Что было сказано, что увидено.
Он принял душ и побрился. Увидел в зеркале отражение собственного лица в пене и промелькнувшее отражение Кэт — голое плечо, ее профиль. Когда он вернулся в спальню, ее уже не было. Он оделся. Спустившись вниз, обнаружил ее на кухне; одетая в голубой махровый халат, жена поджаривала кусок хлеба; из-под пол халата торчат босые ноги, волосы убраны за уши. Кофе уже ждал его на столе. Она спросила: «Тебе сварить яйцо?»
«Не надо, времени нет».
Он прошел в свой кабинет, сгреб нужные бумаги, вернулся на кухню и налил себе кофе, глядя одним глазом в студенческий реферат.
«Яйцо варится четыре минуты».
«Нет, нет…»
Впоследствии он долго думал об этом, повторенном дважды, предложении. Обычно дважды ему ничего не предлагали, а то и вовсе приходилось готовить самому.
В саду заливалась осенняя малиновка. Он поднял глаза от реферата: усыпанная палой листвой трава, тонкие ветви деревьев.
Она сказала: «Давай сегодня поужинаем где-нибудь? Может, в итальянском ресторане?»
«Я приеду домой только после девяти — дел много. Будет уже поздно…»
«Хорошо. Схожу в киношку с Джулией». У нее были друзья в городе, люди, которых он едва знал, с которыми она встречалась без него.
Она сидела напротив него и читала первую страницу газеты; идеальные очертания ее лица — он знал их наизусть, но не уставал любоваться.
Она взглянула на него и протянула ему газету: «Будешь читать?»
«Нет, спасибо. Я через минутку уже ухожу», — и он снова погружается в чтение реферата.
Она заметила «Все равно там только про смерть и разруху». Он увидел заголовок о голодающих Африки: изможденное личико ребенка в лохмотьях.
«Так было всегда. Вот тут студент пишет — правда, очень кратко — о демографических последствиях эпидемии чумы в Европе в четырнадцатом веке».
Кэт сказала: «Хотела бы я стать твоей студенткой».
Он не понял, что она имела в виду, и не догадался впоследствии, когда размышлял над ее словами: «Отчего же?»
«О… просто они знают тебя другим. Ты привязываешься к кому-нибудь из них?»
«Некоторые производят впечатление. Но, знаешь, их так много. Одни ушли, другие пришли, и так постоянно. — Он затолкал кипу рефератов в свой портфель и одним глотком допил кофе. — Ладно…»
«Глин!» Когда он встал и двинулся мимо нее к двери, она протянула руку и коснулась его запястья. Он помедлил: «Что?» — спешащий, рассеянный.
«Ничего» — ничего не отразилось и на ее лице; ни тогда, ни впоследствии он ничего не увидел. Она улыбнулась: «Давай, тебе пора. Увидимся».
Итак, то утро. Обычное осеннее рабочее утро, ничего особенного. Ее голос, ее присутствие, но ведь так было тысячу раз. Он вышел через парадную дверь, снова услышав пение малиновки, и сел в машину. Должно быть, обернулся и посмотрел на дом — Кэт сидела на кухне, пила кофе и читала газету. Может, снимала телефонную трубку: «Привет! Пойдем сегодня вечером в кино?»
В университете он провел у третьего курса семинар на тему «Аграрная реформа XVIII столетия». У себя в кабинете проверил почту, написал несколько писем и характеристику для студента, отнес ее на печать в секретариат факультета. Остановился поболтать с секретарем: Джой, веселая молодая женщина, всегда была в курсе событий в жизни и студенческой братии, и преподавательского состава — и те, и другие осаждали ее целыми днями. В двенадцать часов прочел лекцию.
Что ты делал в тот день? Когда она осталась дома одна.
В час он отправился в кафетерий, чтобы пообедать. Подсел за столик к коллегам, поспорил на тему роста числа студентов, обсудил с ними новый курс лекций, который должен был вот-вот начать читать, выпил кружку пива. В час пятьдесят вернулся на факультет, по пути в библиотеку зашел к себе забрать нужную папку. В открытую дверь заглянула Джой: «Звонила ваша жена. Пыталась позвонить напрямую в ваш кабинет, но вас не оказалось на месте. Попросила перезвонить».
Он забрал папку, и тут же его подкараулил ожидавший под дверью студент; он провозился со студентом минут десять, и все остальное вылетело у него из головы. В два двадцать на ступеньках библиотеки он на мгновение вспомнил слова Джой. Кэт подождет — ему осталось полтора часа, за которые надо успеть проверить рефераты.
Покончив с этим, он отправился на факультет, опоздав на пять минут на встречу с аспирантом, который терпеливо ждал его у двери. С ним он провел больше времени, чем планировал, и это означало, что студенты, явившиеся на пятичасовой семинар, уже поджидали в коридоре.
В четверть седьмого семинар закончился. Можно было быстренько сходить в библиотеку, перед тем как отправиться слушать лекцию коллеги по случаю получения им очередного научного звания; после лекции должен был состояться прием. Он собирался идти туда не из интеллектуального любопытства или желания поддержать коллегу, а чтобы убедиться, что тот не заслужил этого звания, — сам он в свое время возражал против его присвоения. На полпути вниз по лестнице он вдруг вспомнил, что надо позвонить Кэт.
Вернувшись в свой кабинет, он набрал номер. Никто не ответил. С минуту он слушал гудки, а потом повесил трубку. Наверное, ушла куда-нибудь.
С пользой проведенный час в библиотеке. Потом лекция, которая вышла удовлетворительно бледной. И наконец, прием, на нем он задержался дольше, чем планировал: увлекся, выпив пару бокалов вина.
В двадцать один час десять минут он вернулся домой. В передней горел свет, но он сразу же понял, что дома никого нет: дом стоял пустой, лишенный жизни. Он прошел в свой кабинет, бросил портфель. Забрел на кухню, выпил стакан воды; на сливной доске все еще стояла посуда, оставшаяся после завтрака. В холодильнике обнаружилось немного мяса и все необходимое для салата; Кэт наверняка поужинает где-нибудь в городе.
Он отправился в спальню, чтобы снять куртку и отыскать свитер. Включив свет, он обнаружил, что на кровати кто-то есть.
Она лежала на боку, отвернувшись от двери, чтобы он не мог видеть ее лица. Едва взглянув на нее, он все понял. Понял до того, как подошел к ней и коснулся ее. В комнате не было никого живого; точно таким же безжизненным показался ему дом, когда он входил.
Когда наконец он подошел к ней — смотрел на нее, касался ее, — она казалась лишь оболочкой. Это была Кэт — и в то же самое время совсем не Кэт; ее лицо — и одновременно маска, скорлупка. Ее вырвало: рот у нее был открыт, а на подушке остались следы. Он хотел было накрыть ее… нет, не сейчас. Увидел стакан на ночном столике, маленький коричневый пузырек без крышки и какие-то пустые бумажные пакетики. Он действовал точно на автомате, мог двигаться и реагировать, но глубоко внутри не верил в реальность происходящего. Как такое возможно? Как случилось, что он оказался здесь в это время, окруженный этими вещами, тогда как настоящее его место было этим утром: он одевался, а внизу Кэт готовила тост и варила кофе и забирала с коврика под дверью утреннюю газету. Тогда все было настоящим; теперь — нет.
«Скорая» приехала и уехала. Позже явились полицейские, двое — мужчина и женщина. Они бесцеремонно вторглись в спальню, собрали все с туалетного столика и спустились вниз. Сидя с Глином в кухне, полицейские задали ему пару вопросов бесстрастным, лишь слегка извиняющимся тоном:
— Что вы делали в тот день, когда она…
Женщина спросила, не хочет ли он, чтобы они кому-нибудь позвонили. Он покачал головой.
Когда они ушли, он так и остался сидеть — робот в нем боролся с человеком, который никак не желал верить в происходящее. Он налил себе чашку чая, но пить не стал.
Наконец он потянулся к телефонной книге и набрал номер.
В то утро Элейн сажала два молодых деревца кашмирской рябины, которые доставили накануне. Погода была идеальной: морозное и сухое осеннее утро, почва все еще мягкая. Они с Джимом носили саженцы туда-сюда, пока наконец не нашли подходящее место, выкопали лунки, прикатили тачку компоста. Через час с небольшим все было готово, столбики забиты, два стволика с многообещающим будущим бодро торчали вдоль дорожки, ведущей во фруктовый сад. По пути в дом она обернулась, чтобы посмотреть на них, представляя, как они будут выглядеть лет через десять — высокие, сильные, усыпанные снежно-белыми жемчужинами осенних ягод. Посадить сад — значит оседлать время.
Сейчас одиннадцать, и ее ждет хлопотливый день. Соня просит инструкций; Ник хочет поговорить о покупке компьютера, который поможет ему в осуществлении некоего хитроумного плана; нужно сделать непростой телефонный звонок новому придирчивому клиенту. Элейн проинструктировала Соню, уклончиво ответила Нику, с облегчением узнала, что клиент недоступен, и наконец занялась своим самым главным текущим заказом — разработкой дизайна садика вокруг перестроенного отеля класса «кантри-хаус». Пару часов она провела за разработкой дизайна и подсчитыванием сметы.
Пообедали бутербродами на кухне с Соней и Ником («Самое главное в новых технологиях, милая, то, что через пару лет они окупаются, если говорить об экономической эффективности»). К тому моменту она уже начинает посматривать на часы: надо успеть на лондонский поезд. После обеда намечались прием и пресс-конференция по случаю открытия нового крыла одной художественной галереи — Элейн делала для них дизайн внутреннего дворика; перед этим она намеревалась зайти в библиотеку Линдли, принадлежащую Королевскому сельскохозяйственному обществу, чтобы отыскать информацию про ныне исчезнувший сад времен Эдуардов, фотографии которого она когда-то видела, — возможно, это вдохновит ее на какие-нибудь новшества для текущего проекта.
Ник отвез ее на станцию. Он перестал говорить о компьютерах; но оба — и он, и Элейн — знали, что вскоре он вернется к теме, и она, наверное, уступит его просьбе — похоже, он в курсе современного взгляда на подобные вещи. Что ж, можно попробовать не учитывать покупку в налоговой декларации. На станции он некоторое время раздумывал, а не поехать ли с ней, ведь на приеме будет шампанское и все такое, но в последний момент решил, что не стоит его беспокоить. Он встретит ее с поезда вечером.
В библиотеке Элейн тут же погрузилась в поисковый процесс: углубилась в каталоги, обложилась стопкой книг. Через час, устроив перерыв, чтобы немного перевести дух, она вспомнила, что забыла сказать Соне, чтобы та собрала и отправила бухгалтерам кое-какие бумаги, и срочно. К счастью, было не слишком поздно, чтобы позвонить до того, как она уедет из библиотеки.
Элейн нашла таксофон, дозвонилась до Сони и со всем разобралась. Соня сообщила ей, что звонили клиенты. «А… и еще ваша сестра».
Вернувшись к книгам, Элейн решила, что Кэт можно будет позвонить уже из дома. Или завтра. Скоро начнется празднество в галерее.
Фоторепортеры неустанно запечатлевали сад во внутреннем дворике, и это было приятно. В самом деле, он того стоил — яркие цвета освещенного прожекторами оазиса в самом сердце лаконичного прямоугольника галереи. Несколько незнакомых людей похвалили ее работу. Наметилось несколько новых заказов. Она пристально рассмотрела сад, хотя всего за несколько дней до того приезжала туда с инспекцией, обратила внимание на то, что один из кустиков хохлатки посажен не там, где нужно, и отметила про себя, что надо бы его пересадить. Сорок минут спустя она отправилась на станцию, чтобы успеть на поезд.
Ника на станции не оказалось. Она раздраженно ждала; десять минут спустя автомобиль наконец примчался. «Прости, прости… совсем забыл, который час».
В течение того дня Элейн три раза думала о Кэт — нет, не так. Скорее Кэт приходила ей на ум, мимолетно и неуловимо. Когда она сажала деревца, в одном из комьев вывернутой лопатой земли шевельнулся дождевой червь, и она вспомнила, как Кэт, совсем маленькая девочка, присев на корточки, внимательно смотрела на цветочную клумбу: «Смотри, смотри! Что это?» Почти бессознательно вспомнилось. Позже, в Лондоне, силуэт и профиль женщины в окне проезжавшего автобуса напомнит ей Кэт, но снова лишь на долю секунды, и она снова принялась думать о том, как же найти в библиотеке подробный рассказ о том, полузабытом, саду.
После телефонного звонка Соне она и вправду подумала о том, чтобы набрать номер Кэт. Кэт полностью занимала ее мысли с… минуту, а может, чуть больше. В последний раз она слышала Кэт несколько недель назад. Намекала, что заедет, да так и не заехала: «Может, заскочу в следующее воскресенье. Посмотрим, какие у Глина будут планы». После чего не перезвонила, и Элейн снова слегка рассердилась на нее. Как это похоже на Кэт. Она собиралась позвонить ей сама, но то одно, то другое — словом, руки так и не дошли. Но сегодня — этим вечером — она непременно это сделает, как только доберется до дома.
Они вернулись домой в четверть девятого. Элейн зажгла духовку, чтобы разогреть остатки запеканки. И направилась к телефону.
Номер Кэт не отвечал. И автоответчик тоже, но Кэт часто забывала его включить. Глина, видимо, тоже не было дома.
Наконец они доели запеканку. Элейн почитала газету, а потом присоединилась к Нику, который смотрел новости по телевизору. Потом приняла ванну. Вытираясь, она услышала телефонный звонок; потом все стихло — должно быть, Ник взял трубку внизу. Вошла в спальню и услышала его голос: «Это Глин — тебя». Она сняла трубку аппарата, стоявшего на столике возле кровати.
Без лишних церемоний Глин сказал: «Мне надо сказать тебе что-то ужасное». И она сразу поняла. Не как, не почему — но что. Кэт.
Большую часть того дня Ник думал о компьютерах. Вот бы ему заполучить такой — хороший, на много гига… как их там… и с новейшим программным обеспечением, что бы это ни значило, — тогда он, без сомнения, сможет работать куда эффективнее. Действительно, вдохновению может послужить сама покупка: она станет стимулом, подарит новые идеи. В нынешнее время невозможно работать без знания новых технологий, а уж в его сфере — особенно. С ним он сможет… ну, скоро он увидит, что можно сделать, как только освоится.
Элейн вот-вот согласится, это ясно. Но Ник не без оснований чувствовал уверенность. Если он выберет верный тон — спокойный, деловой, знающий, — она в конце концов уступит. Да, эти штуки адски дороги, но от покупки одного компьютера они уж точно не обеднеют, особенно если учесть то, сколько сейчас зарабатывает Элейн, надо отдать ей должное.
Подобные мысли и вдохновили его отправиться в город, высадив Элейн на станции, — должен же он рассмотреть различные варианты. Целый час он проторчал в большом магазине офисной техники перед мерцающими экранами, перед которыми слегка робел, особенно если учесть, что он не понимал ни слова из разговоров продавцов. Ничего, очень скоро он начнет разбираться во всем этом.
Вернувшись домой, он налил себе чашку чая и отнес чаю Соне. Было почти четыре, так что смысла заниматься чем-либо серьезным не было. Он устроился в оранжерее с чашкой и книгой. В какой-то момент он проголодался и отправился на кухню поискать, чем бы перекусить. Проходя мимо двери кабинета Сони — та разговаривала по телефону, отведя трубку в сторону, — он услышал: «Это Кэт, она звонит Элейн. Не желаете.»
Он покачал головой. Не то чтобы это было проблемой — общаться с Кэт после… после того раза. Совсем нет. Все продолжало оставаться так, как обычно, просто они старались избегать общения тет-а-тет.
Он включил телевизор и, засмотревшись интересной передачей, слегка опоздал на станцию, чтобы встретить Элейн.
Больше он благоразумно не заговаривал про компьютер. Элейн была в хорошем расположении духа — ей слегка польстило обилие похвал ее садику в художественной галерее. Поужинали во вполне дружелюбной атмосфере, немного посмотрели телик, потом она ушла в ванную.
Голос Глина в трубке, сухое «Мне надо поговорить с Элейн». Ник крикнул ей снизу. Вернувшись в гостиную, он решил, что больше не желает смотреть телевизор. Побродил по дому, выключая свет, а потом поднялся наверх. Когда он вошел в спальню, Элейн все еще стояла с трубкой в руке с выражением лица, которого он не видел у нее прежде, и от этого сердце у него мгновенно ушло в пятки.
Когда про Кэт узнала Полли, «тот день» стал вчерашним. Ее охватило чувство вины — вины за все те часы, когда она беззаботно порхала по своим делам в то время, как где-то там Кэт… Сама мысль об этом казалась Полли невыносимой.
Теперь Полли была работающей женщиной. Ей двадцать два, у нее — диплом, превышение кредитного лимита, три кредитные карты и квартира-студия[9] в Стоук-Ньюингтоне. И гарантированное рабочее место среди нижестоящего персонала страховой компании «Прудентиал» — предположим, не предел мечтаний, но на первое время сойдет, а она пока осмотрится и приценится.
Так что в тот день она быстро управилась с работой — совсем нетрудной, даже слишком нетрудной; имела весьма полезную беседу с коллегами, пофлиртовала с парнем из отдела продаж возле фотокопировальной машины. В обеденный перерыв она приобрела пару дорогущих туфель, о которых мечтала. А вечером встречалась со старой, еще со времен колледжа, приятельницей, и они от души посплетничали, уплетая пиццу.
Она была занята, заинтересована, у нее появился стимул, флирт и новые туфли наполнили ее радужно-эйфорическим настроением; шагая среди огней большого города, она, переполненная энергией, в какой-то момент подумала: как хорошо-то! Если бы ее спросили, была ли она в тот день счастлива, она, наверное, ответила бы утвердительно. Пару раз она почувствовала раздражение, покупая туфли, с сожалением вспомнила о превышении кредита и немного позавидовала подруге, переживавшей бурный роман. Правда, менее счастливой от этого не стала.
Когда Полли вспоминает тот день — день Кэт, — она понимает, что увидела нечто, находившееся далеко за пределами собственного жизненного опыта и представлений о жизни. В тот день Кэт попала в некое жуткое место, которое Полли не могла себе представить. Кэт — такая знакомая, такая родная, такая, в некотором роде, обыкновенная… вот только обыкновенной она никогда не была.
Полли поняла, что до этого не знала никого, кто бы умер. То есть никого из родных и близких. И испытывала недоверие — не столько горечь утраты, сколько недоумение. Нет, нет, это… это невозможно. Только не Кэт. Должно быть, это какая-то нелепая ошибка.
Узнав, что никакой ошибки не было, все, о чем она могла думать: но куда же она ушла? Где она? Где, где? И ей представилась некая черная дыра, куда канула Кэт и где теперь она пребывает, недоступная, беспомощно барахтаясь во тьме.
Когда Оливер прочел письмо Элейн, его точно громом поразило: хоть я и не думал об этом, но да, такая вероятность всегда существовала. Он поймал себя на том, что вспоминает всякие случаи, связанные с Кэт, — и всякий раз в свете произошедшего эти воспоминания приобретают несколько иной оттенок; тот день прошедшей уже недели развеял в пух и прах прежние представления, то, что казалось обыденным, стало совсем другим. «Ты счастлив, Оливер?» — спрашивает Кэт.
Он оплакивал Кэт. Прочел письмо, которое мало что сказало ему — когда, где, как? Разумеется, «почему?» — он не узнал. По прочтении он отложил письмо в сторону, ему стало грустно. Он не видел Кэт и не говорил с ней уже много лет, но всегда мысль о том, что она где-то есть, наполняла его тихой радостью. И вот теперь ее не стало.
Он не задавался вопросом «почему?», он не желал знать — отчего? Но его не покидало смутное, необъяснимое подозрение: то, что случилось, было предрешено, в Кэт всегда было что-то беспокойное, нечто, отдалявшее ее от остальных. За ее наружностью и манерой держаться, глубоко внутри, в ней сидела какая-то черная хворь. Но никто и никогда не видел ее, не замечал. Все видели только ее лицо.
Мэри Паккард
Мэри Паккард наблюдает, как подъезжает по дорожке к ее калитке машина каждого из визитеров, как останавливается, как выходит и осматривается водитель: вроде бы здесь. Потом идет по дорожке через палисадник вдоль лавандовых кустов к двери коттеджа, а Мэри смотрит на него из окна своей мастерской, расположенной в стороне. Она появится, когда посетитель потянется к дверному молотку. «Привет, — скажет она. — Я тут».
Глину Питерсу, Элейн, Оливеру, фамилию которого она всегда забывала и до сих пор не может вспомнить. Не всем сразу, конечно, по отдельности, в течение нескольких недель — любопытное нашествие незваных гостей, — ее предупредили лишь одним телефонным звонком: сухо и по делу (Глин), робко, но не без умысла (Элейн), намеками (Оливер). После первого посетителя остальным она уже не удивлялась.
Мастерская Мэри располагается в бывшей сыроварне, выстроенной возле коттеджа; летом там прохладно, а зимой и вовсе холодно; беленые стены, выложенный плиткой пол, большое окно, наполняющее светом все помещение. Раковина и огромный, заваленный всякой всячиной стол, гончарный круг, ванна для глины и полки для готовых изделий. Работы Мэри выставляются в галереях и центрах ремесел и стоят немало. Поразительно, что столь изящные формы могут появиться из бесформенных, влажно поблескивающих комков глины. Кэт порой говаривала: «А можно я просто посижу рядом и посмотрю?» Она часто сидела тут, на старом плетеном стуле — в дружеском молчании.
Мэри невысокого роста, плотно сбитая, сильная. Кажется, у нее больше общего с самой глиной, чем с изящными творениями, которые она из нее извлекает. Сегодня, спустя много лет с той поры, когда Кэт была здесь частой гостьей, шапка густых жестких темных волос на голове хозяйки стала совсем седой. Она живет одна; иногда в ее жизни появлялись мужчины — и уходили; впрочем, она нисколько не переживала. Тот, со злополучной фотографии, успел настолько забыться, что ей пришлось долго вспоминать о том, как он выглядел, когда Элейн упомянула о нем. «А… этот. Я уже сто лет с ним не общалась».
Словом, самодостаточная женщина. Ее самодостаточность не предполагает того, что она — эгоистка, отнюдь, нет в ней и самодовольства, и равнодушия к ближнему. Скорее она — одна из тех редких и, наверное, счастливейших из смертных, которые вполне могут прожить, не нуждаясь в поддержке друзей, семьи или возлюбленных.
Мэри была любима и любила; но если любить было некого, она прекрасно обходилась и без этого. Своих детей у нее нет, но она с охотой возится с чужими; пожалуй, она готова признать, что тут упустила некий важный момент, но не видит смысла в излишних переживаниях по этому поводу. Здоровье у нее крепкое, нрав щедрый и радушный, а еще редкий дар судить беспристрастно.
Люди всегда тянулись к Мэри, чуя в ней силу, которую не могли толком определить. Во всяком случае, большинство из них не могли. Кое-кто пытался. «У тебя ледяное сердце», — сказал один из ее мужчин. Он ошибался: не ледяное внутри, а надежно защищенное снаружи. У Мэри всегда была прочная раковина, в которую она могла спрятаться; лишенные спасительной брони часто искали у нее прибежища, как ищет укрытия на морском дне рак-отшельник. Вокруг Мэри вечно крутились неудачники и прихлебатели; некоторые из них становились ее мужчинами, которых приходилось вежливо выставлять вон, когда они уже окончательно садились на шею. Иногда это были ученицы — молоденькие девушки, желавшие не столько обучиться лепить горшки, сколько научиться жить. А этому, как поняла Мэри, научить невозможно. Теперь, когда не стало никого с официальным статусом бродяги, — теперь к ней регулярно приезжают в поисках ободрения и опоры друзья, соседи и просто знакомые из округи.
Мэри живо посочувствует, в шутливой форме даст совет, который, правда, за таковой принимают редко, угостит кофе или дешевым вином, предложит гостю свободную кровать. Она умеет слушать, не мешает говорить, ты выговоришься — и тебе мгновенно легчает. Те, кто приходит к Мэри за утешением, чувствуют, как становятся чище, как камень валится с души, проблемы кажутся не такими уж неразрешимыми, точно дается шанс взглянуть на них с другой стороны. На самом деле Мэри мало на что намекает, а говорит и того меньше. Иногда то, что она думает, могло бы удивить и даже привести в смятение тех, кто доверялся ей, случись им проникнуть в ее мысли. Она не устает дивиться тому, как люди позволяют другим вить из себя веревки и вовлекать в неприятности. Понимая в то же самое время, что ее собственная неуязвимость — скорее исключение. Поскольку она не может ее никому передать, ей остается лишь выслушивать печальные истории и жалобы, оставляя свое мнение при себе. Иногда это не так-то легко, в особенности когда очередная ученица начинает жаловаться, что ее кто-то там предал и покинул. Мэри недоумевает — неужели она сама не видела, что парень ею просто пользовался? Или когда сосед сетует на финансовые трудности, а потом выясняется, что он неразумно тратил деньги. Сама Мэри живет, и всегда жила, очень скромно. Тот, кто сознательно использует других, должен понимать, что могут использовать и его самого, думает она, но предпочитает помалкивать. Ведь, изливая свои горести на других, мы ищем участия, а не наставлений.
С Кэт Мэри познакомилась на ярмарке ремесел много лет назад. Кэт стояла у витрины, продавала изделия кого-то из своих друзей. Осмотревшись вокруг, Мэри заметила удивительной красоты женщину, продававшую с прилавка тарелки и блюда, покрытые расписной глазурью; ее окружала толпа очарованных покупателей. Спрос на тарелки был бешеный. Мэри подошла к ней поболтать; обедать они пошли вместе. Мэри спросила: «Может, в следующий раз попродаешь мои горшки?» Они лучезарно улыбались друг другу; каждая чувствовала, что обретает неожиданного союзника. «Я — полная противоположность тебе», — много, много позже мимоходом заметила Мэри. «Да, — сказала Кэт. — В этом-то и соль. Но на самом деле мне бы хотелось быть тобой. Давай поменяемся?» Тон у нее был шутливый, но говорила она всерьез.
И стали они точно заговорщиками, негласными сообщниками. Могли не видеться неделями и месяцами, а потом снова начать общаться так, будто расстались вчера. По телефону они были немногословны, и каждая знала, как отреагирует другая. «Почему ты не мужчина? — вопрошала Кэт. — Или почему мы не можем быть лесбиянками? Тогда бы я не знала горя». Если кто-нибудь из ее мужчин встречал Мэри, то старался избегать ее, чувствуя некую конкуренцию, в которой ему было не победить. Кэт никогда не спрашивала, что думает Мэри о том или ином ее поклоннике, она попросту говорила: «Конечно, он никуда не годился». И они тут же меняли тему. С немногочисленными любовниками Мэри она обращалась вполне добродушно; после ухода очередного она говорила: «Бедняга. Но он был не то. И ты ведь даже не переживаешь из-за него, правда?»
Все эти годы они были близки, но в то же самое время бесконечно далеки, связанные лишь одним главным семафором дружбы. Кэт наблюдала за неудачниками и прихлебателями, жившими у Мэри, прекрасно осознавая их статус; но когда в доме жили подобные люди, Мэри становилась сердечной и дружелюбной, как никогда. Однажды, когда они остались одни после вереницы очередных бедолаг, она спросила: «Неужели я такая же, как они? Скажи честно». И Мэри сказала: «Ни в коем случае. Что бы с тобой ни случилось, ты никогда не станешь такой».
Она понимала, что творится с подругой. Временами. Не всегда. Однажды она обо всем догадалась по расстроенному лицу подруги, когда заметила, что за внешней веселостью таятся мрак и скорбь. Но понимала, что расспрашивать ни о чем не стоит. Она видела, что Кэт постоянно бежит от расспросов и испытующих взглядов; что бы с ней ни происходило, об этом приходилось только догадываться. Лишь изредка она узнавала обо всем. «Прости, что я так, — говорила Кэт, — но мне надо было кому-то выговориться, и получилось, что тебе. Вообще-то, кроме тебя, больше некому».
Глин Питерс и Мэри Паккард кружили вокруг друг друга, точно осторожные псы. Когда они познакомились, Мэри почувствовала, что ее открытая улыбка больше смахивала на оскал. Почему именно он? — думала она. Почему именно этот человек? Именно сейчас? Она сочла Глина ловким мародером, едва ли не насильником. Когда Кэт сообщила, а скорее объявила: «Вообще-то, я собираюсь за него замуж», Мэри тут же спросила: «Ты что, беременна?»
Кэт вдруг притихла и отвела взгляд. «О, нет, — сказала она. — Боже мой, нет, конечно…» И потом вдруг снова заговорила тихим, спокойным голосом: «Я думаю, он любит меня». И Мэри не нашлась, что ответить.
Так что сегодня, много лет спустя, когда Мэри наблюдает, как Глин выходит из машины, оглядывается по сторонам, открывает ворота и идет по тропинке ее сада, она видит человека, нагруженного багажом — багажом прожитых лет. Багажом ее первоначального недоверия, сменившегося терпимостью. Когда-то этот человек ей не нравился, потом она смирилась с его присутствием, потому что ничего другого не оставалось; он стал неотъемлемой частью жизни подруги. Она видит человека, с которым периодически спорила, того, чье мнение непререкаемо, того, кто готов переубедить и переспорить всех и каждого. Замечает, что этот человек стал старше, потом вспоминает о своей собственной седой макушке. Тем не менее это явно тот же самый человек, и с его появлением в памяти всплывают другие времена, другие люди. Он приносит с собой Кэт, голос Кэт, она говорит: Глин то, Глин се, Глин уехал на пару дней, так что я тут гуляю — давай и к тебе приеду? Их дом в Мелчестере, где Мэри бывала редко и всегда находила, что этот дом лишен сердца, двое приходят сюда и отсюда уходят, но отчего-то здесь не живут. Воспоминания о доме Элейн и Ника: сборища на тесной кухне, Кэт, от нее не отходит Полли, Элейн раскладывает по тарелкам еду для дюжины гостей, Ник беспрестанно вещает о каком-то очередном проекте, Оливер как-его-там постоянно маячит вокруг. Он приносит…
Глин стоит у двери коттеджа. Поднимает руку и стучит. Мэри открывает окно студии. «Я здесь!» — говорит она.
Когда Глин протягивает руку, чтобы открыть калитку, его охватывает нерешительность. Внезапно он перестает понимать, зачем понадобилось ехать к Мэри Паккард. Что заставило его сделать необдуманный телефонный звонок, показавшийся ему тогда таким нужным?
Он овладевает собой. Осматривается: видит сложенный из известняка коттедж, окна со средниками — дом построен веке в семнадцатом, а кирпичная труба и крытая шифером крыша относятся явно к более позднему периоду. Откуда-то сбоку раздается голос. Он оборачивается и видит ее. Да, это она, хотя он с удивлением замечает, что она тоже… словом, постарела.
— А… — говорит он. — Мэри.
Впоследствии он будет пытаться восстановить в памяти все сказанное тогда, и обнаружит, что все, что помнит, — скопление слов и чувств: ее слова, его молчаливая реакция. Своих собственных слов он не припоминает; он осознает, что сначала что-то говорил, а потом умолк. В какой-то момент она тоже перестает говорить, и в комнате воцаряется тишина — в весьма обитаемой комнате Мэри, комнате, которая одновременно служит кухней, гостиной и кабинетом. Негромко тикают старые часы из тех, что раньше висели на железнодорожной станции, на комоде свалены морские раковины, камни, сушеные травы и овечий череп. «Наверное, я и слова не даю тебе сказать, — замечает она. — Извини». Он вспоминает, что лишь руками развел — в знак чего? Поражения? Уступки? Отречения от собственных слов?
Это было уже после обеда. Обменявшись приветствиями, они отправились в коттедж, она сварила кофе. После нескольких минут разговора Мэри сидит и молчит, у нее странное выражение лица. После того как он робко намекнул, был осторожным, искренним, убедительным.
Немногим позже. После того как Мэри начала говорить — и проговорила довольно долго. Говорила о Кэт. Хочешь узнать о Кэт? — спросила она. Хорошо. Я расскажу тебе о Кэт.
Вообще-то, меня не проведешь, Глин. Забудь про свои мемуары. Ты ведь не собираешься писать никаких мемуаров, так? Я не знаю, что тебя беспокоит, но что бы то ни было, ты сделался одержимым Кэт, правда? Одержимым так, как, я подозреваю, никогда не был при ее жизни. Во всяком случае, после того, как на ней женился.
Тогда-то слова и стали накапливаться в его мозгу, а он — просто слушать, вопреки самому себе, испытывая калейдоскоп эмоций. Первоначальное негодование проходит, уступая место тому, что он осознает гораздо позже — много-много дней спустя. Мэри говорит о Кэт, которую Глин, кажется, совсем не знает. Тогда-то она и сообщает ему о выкидышах. Ты ведь так и не узнал об этом? — спрашивает она. Кэт говорила, ты не в курсе. Она бы и не сказала тебе. Когда все случилось, ты был в отъезде — кажется, в Штатах. Она собиралась сообщить тебе о том, что беременна, когда ты вернешься. Прошло много лет — это произошло спустя два или три года после вашей свадьбы. Она тогда работала на каком-то фестивале искусств вроде как.
Ты и не представлял, как она хочет ребенка. Как желает стать матерью. Я тоже не представляла — до того, как обо всем узнала. Впоследствии она призналась: может, оно и к лучшему, Глин вряд ли был бы в восторге от этой идеи. Вот только к лучшему это не оказалось — все было так же плохо, как и всегда.
Второй раз. Второй раз у нее случился выкидыш. Второй раз она не смогла стать матерью. Первый раз ребенок был не твой. Очень давно это случилось. Кэт тогда было двадцать с небольшим. Однажды она рассказала мне об этом — просто, в разговоре, так она всегда говорила о самом важном. Я спросила, осталась бы она с отцом ребенка, если бы не потеряла его, — и она ответила: конечно, ради этого — да. Еще бы. Ради этого — все что угодно.
Ты хочешь знать про друзей Кэт? — спрашивает Мэри. Ну, по большому счету, это только я. Но обо мне ты знал с самого начала. Ты хочешь знать о мужчинах, которые дружили с Кэт? Это тебя беспокоит? Если так, то ты идешь по ложному следу, Глин. Не было никакой толпы любовников. И скелетов в шкафу тоже.
Тут он и рассказывает ей о том, что случилось. По крайней мере, и у него есть козырь на руках.
Да, я знала, говорит она. Узнала впоследствии. Когда твоя жена ненавидела себя. То есть больше, чем обычно.
Она рассказала мне. Сказала: я сделала большую глупость. Чертовски бессмысленный поступок. Ник. Она сказала. Ник, почему именно он? Я помню, как она сидела здесь с крайне унылым видом.
И нет, я не знаю почему. Подобные вещи вечно влекут доморощенных психоаналитиков, так ведь? Могу сказать лишь одно: долго это не продлилось и в какой-то момент прекратилось раз и навсегда. Ник, конечно… ну, ты знаешь Ника так же, как и я. А то и лучше. Ник ведь всегда плыл по течению, так? Жил сегодняшним днем. И в Кэт это было в изрядной степени, это факт. Но в ее случае только так она могла удерживать своих демонов, чем бы они ни были, что бы ее так часто не мучили изнутри.
Ей постоянно требовалось движение — бежать из дому, куда-нибудь ехать, что-нибудь делать.
Так вот что тебя беспокоит. Я припоминаю тот пикник на древнеримской вилле. Пару дней она жила у меня, и кто-то — то ли Элейн, то ли Ник — позвонил сюда и предложил встретиться там. Должно быть, ты был в отъезде. Я не помню, чтобы нас фотографировали.
Голос Мэри воскрешает в памяти фотографию, которую Глин больше не хочет видеть. Он сменяет тему, возвращаясь к ее словам.
Ненавидела себя?..
А… так ты не знал? Ну, у нее здорово получалось пускать пыль в глаза. Может быть, у нее все же имелись задатки актрисы, и ей не стоило так поспешно бросать актерское училище. Большинству бы ни за что не догадаться, но ты…
Ты был ее мужем, ты прожил с ней десять лет. Она не произносит этого вслух, фраза повисает в воздухе.
Опять тебе говорю: не спрашивай меня — зачем? Психоаналитик из меня никакой. Такая уж она была. Не всегда. Иногда все и вправду было хорошо. А потом — бац! Как ни странно, часто в такие дни она становилась красивее всего — точно светилась. О, никто бы не узнал. Я узнала только потому, что она сама мне рассказала. А потом… потом я просто за ней наблюдала.
Я скажу тебе, почему она выбрала именно тебя, Глин. Из всех мужчин, которые ее добивались. Она думала, что ты ее любишь. Сказав это, Мэри пристально смотрит на Глина — и он не может выдержать ее взгляд.
И в какой-то момент Глин понимает, с него хватит. Он больше не выдержит ни слова, он хочет убраться отсюда, сесть в машину и уехать подальше от Мэри Паккард, от того, что она наговорила. Вот только сказанного не воротишь, и ее голос навсегда останется в его памяти. Он должен пройти по тропинке ее сада, держа в голове ее слова, и привезти их домой в машине.
Элейн знает, что ей нужно от Мэри Паккард, но она понятия не имеет о том, как этого добиться. То, что ей нужно, четко сидит в ее мозгу и в то же самое время не поддается определению. Она хочет, чтобы кто-нибудь поговорил с ней о Кэт — не Полли, не Глин, не Оливер Уотсон, не Ник… уж точно не Ник. Не жуткая кузина Линда. Кто-нибудь из тех, кто говорит авторитетно, как она сама. Но в последние несколько недель с ее авторитетным мнением что-то сталось: непонятные голоса, пробелы в памяти и обрывки странных воспоминаний, которые она не в силах истолковать.
Она хочет восстановить уверенность в собственном прошлом. Хочет услышать, что голоса обманывают ее, вводят в заблуждение, что ей показалось, что все было таким, каким она привыкла видеть и помнить.
Она просто хочет поговорить о Кэт с кем-то, кто хорошо ее знал. Только и всего, правда?
Так что она решительно выходит из автомобиля, открывает калитку и идет по тропинке между двумя маленькими клумбами лаванды остролистой «Манстед» и тянет руку к молотку, чтобы постучать в дверь дома Мэри Паккард, увитого клематисом и плетущейся розой сорта «Новая заря».
— Боюсь, что я как снег на голову, — говорит Элейн. — Мы давненько не…
— Вовсе нет, — говорит Мэри. — Я так и думала, что ты приедешь.
Ее слова смутили Элейн, которая ждала совсем другого.
Это было сначала.
Все закончилось; Элейн идет между кустов лаванды со странным ощущением, что прошло очень много времени, а вовсе не час или два, в течение которых она стала другим человеком. В каком-то смысле она так и осталась самой собой, но в то же самое время полностью изменилась. Ее прошлое подверглось значительному пересмотру, а вместе с ним то, в чем она была уверена и убеждена. Она видит и чувствует по-другому.
Теперь она четко и ясно видит нерожденных детей — каких-то пару часов назад она и не и подозревала об их существовании. Детей, которые могли бы быть у Кэт. Из-за них — из-за маленьких людей, которым так и не суждено было увидеть свет, — изменился смысл многих слов и поступков. Теперь те слова Кэт, которые слышит Элейн, приобретают новые нотки. Кэт говорит те же самые слова, но совсем по-другому.
— Почему ты мне-то не рассказала? — вопрошает она.
Она видит Кэт с Полли, как она танцует с ней — взрослая Кэт и малышка Полли, — как заплетает ей косу, как входит на кухню с Полли и полной корзиной собранных с земли яблок.
— Я всегда считала, что ты не особенно хотела детей, — говорит Элейн. Она обращается Кэт — и к рулевому колесу, зеркалу заднего вида, задней двери грузовика, который едет впереди.
Нерожденные дети заслоняют собой практически все остальное. Их голоса заглушают практически все сказанное, изменяют ее взгляд на вещи. Она снова и снова вспоминает о них — лишенных формы, лишенных лиц, но очень-очень важных.
Мэри Паккард знала, а Элейн нет. Подруга, сестра. Кажется, даже Мэри пришла в замешательство: я и не думала, говорит она. Я знаю, что Глин… но думала: может, тебе… ясно. Значит, у Кэт были на то свои причины, я полагаю, говорит Мэри.
Еще бы, думает Элейн, главная из которых, наверное, я сама. То, какая я есть. Как я с ней обращалась.
Хотя это еще не все. Есть еще один аспект — по пути домой Элейн думает и о нем. Дело в том, говорит Мэри Паккард, что Кэт всегда хотела быть кем-то еще. Хотела быть тобой. Хотела быть мной. А ее наружность диктовала ей условия, определяла ее жизнь — кажется, так. Если бы не ее внешность, все могло бы быть по-другому. В ее жизни были бы другие мужчины. Другие ориентиры. Она могла бы взяться за ум и выучиться какой-нибудь профессии, как ты или я. Однажды она сказала — сидя здесь, в моей мастерской, — она сказала: я ничего не умею делать хорошо, сколько я себя помню, я перескакивала с одного на другое.
Ей хотелось, чтобы ее любили. Всем хочется, верно. Но ей особенно.
Ранняя смерть вашей матери. Это многое объясняет, говорит Мэри. А ты не знала? В ее голосе появляются новые нотки, от которых Элейн становится неуютно.
Эта история с Ником, говорит Мэри.
И Элейн, некоторое время молчавшая, замирает. Ага, значит, здесь успел побывать Глин. Неудивительно, что меня ждали.
Эта злосчастная фотография, говорит Мэри. Да, я помню тот день. Кто? А… сто лет уже не общаемся.
Забудь, говорит Мэри. Забудь всю эту историю. Ник. Глупая ошибка. Бог знает, отчего. Зачем спрашивать?
На полпути до дома, застряв на перекрестке, Элейн обнаруживает, что и правда незачем. С пониманием приходит облегчение, точно с ее души свалилась огромная тяжесть, — и она становится еще более восприимчивой. Когда наконец вереница машин трогается с места и Элейн нажимает педаль газа, она ощущает, что отныне она въезжает в новую эпоху, в которой все осталось по-прежнему и то же самое время стало другим.
«Что я, черт побери, делаю?»
Оливер сидит в автомобиле возле калитки Мэри Паккард, еще немного — и он заведет мотор и рванет восвояси. Что он здесь делает? Глупо. Неловко. И совершенно бессмысленно. Вот только несколько дней тому назад ему на пару часов показалось, что это сделать необходимо.
Он выходит из машины, запирает ее, открывает калитку в сад.
Наружность Мэри Паккард начисто вылетела у него из головы, но он мгновенно узнает ее. Конечно, густая шапка волос, спокойный и уверенный тон. И, устроившись на кухне с кружкой чая в руке, он снова чувствует, что поступил совершенно правильно и разумно, приехав сюда.
Дело в том, говорит он, что я никак не могу выбросить это из головы. С тех пор, как… Видишь ли, тут всплыла одна гребаная фотография.
Я знаю про фотографию, отвечает Мэри Паккард. И объясняет откуда, но у Оливера появляется странное чувство, будто бы эта женщина узнала бы обо всем в любом случае, каким-нибудь мистическим образом, точно ведунья из сказки.
Это я виноват, говорит Оливер. То есть, конечно, не я, но и я тоже, потому что сделал этот снимок и вместо того, чтобы выбросить и забыть, как идиот, отдал его Нику. Если бы не я, не было бы всей этой канители. Меня они уже достали — сперва Глин, потом Ник. Элейн окончательно слетела с катушек и выставила Ника из дома.
Да, говорит Мэри. Кажется, все и вправду пошатнулось.
Неужто из-за меня? — спрашивает Оливер.
Нет, конечно, успокаивает она его. И ты сам прекрасно об этом знаешь. Ты ведь не за этим ко мне пришел, так?
Оливер соглашается: да, не за этим. Они ощутили странную близость, он и Мэри Паккард, точно были давними друзьями, хотя Оливер не припоминает, чтобы они разговаривали — так, здравствуй — до свидания. Теперь их объединяет общая точка зрения.
Чертовски жаль, говорит Оливер. Он больше не имеет в виду фотографию, или Глина, или Ника. Почему именно она? — грустно вопрошает он. Можно было подумать, благословеннейшая из смертных. Хотя больше похоже, что над ней висело проклятие.
Я постоянно думаю о ней. То есть не так, как раньше, — точно одержимый. Неужели ничего нельзя было сделать?
Наверное, нет, говорит Мэри.
День клонится к вечеру. Кружки чая сменяются бокалами красного вина. Оливер и Мэри Паккард вспоминают прошлое. Чаще всего говорят о Кэт. Вспоминают то одно, то другое, вызывая Кэт к жизни — говорит то он, то она, — и оба смотрят на нее, слушают ее. Их взгляды беспристрастны, воспоминания лишены сентиментальности. Оливер узнает о Кэт то, чего не знал о ней раньше, и в свете этого та Кэт, о которой вспоминает он, слегка меняется; ко всему, что он видел и слышал, примешивается иная точка зрения. Вместе с тем он чувствует странное утешение. Точно, размышляя о Кэт, они совершают некий ритуал, отдавая дань ее памяти. Он до сих пор не понял, зачем он здесь, но доволен тем, что приехал. Поездка послужила определенной цели, пусть и не той, какую он преследовал, как будто он сам знал, какая именно то была цель.
Она на нас подействовала, Кэт, говорит он.
Она продолжает действовать на нас, поправляет Мэри.
Заключение
— Ты не помнишь, какого числа мы с мамой поженились? — спрашивает Ник.
— Вообще-то меня там не было, — язвит Полли.
— В июле. Я точно уверен, что в июле. И сейчас июль. Но какого числа?
— Ты не помнишь? — восклицает Полли. — Столько времени прошло, и ты до сих пор не знаешь?
Ник отвечает, что, конечно, знает. То есть не совсем точно. Знает, что в районе… но когда именно, постоянно вылетает у него из головы.
— Тогда я тебе скажу. Девятнадцатого. В эту пятницу. Честно говоря, пап, я обалдела, когда узнала, что ты не помнишь. Думаю, тебе надо бы задуматься над тем, как так случилось, что ты все забыл. И еще, слушай, в эти выходные меня не будет дома. Я уезжаю за город с… с другом. Пожалуйста, не забывай взять ключи, если будешь выходить из дому.
Ник отправляется за покупками. Отрешенно пялится на витрины — светящиеся пещеры, где в складках атласа небрежно разбросаны наручные часы, бархатные безголовые шеи увешаны блестящим металлом или сверкающими каменьями, а с крошечных хрустальных деревцев свисают золотые цепи. Поскольку он не может представить себе, как войдет в подобное место и начнет расспрашивать продавцов, то проходит мимо и в конце концов оказывается в большом универмаге, бесцельно спускаясь и поднимаясь по движущейся лесенке. Он не был в подобных местах с тех пор, как мать покупала ему школьную форму. Тут он пожалел, что рядом с ним нет матери — уж она бы тут точно не растерялась.
Ник бродит среди множества отделов: электроприборы, фарфор и стекло, галантерея, белье, обивочные ткани, спорттовары, садовая мебель. Он похож на лодку, плывущую против течения, ежесекундно натыкаясь на целеустремленных граждан; все, кроме него, точно знают, что им здесь надо. Настроение у него мгновенно падает; ему кажется, он вот-вот сойдет с ума и наконец погрузится во тьму чистилища, грозившего ему с тех пор, как Элейн выгнала его вон. Этот большой магазин стал точно насмешливой аллегорией этого мира, где всякий знает отведенное ему место. Каждый направляется именно туда, куда нужно: в отдел осветительных приборов или чулочно-носочных изделий, — тогда как он беспомощно барахтается среди людского потока, не ведая ни того, чего ему нужно, ни того, куда ему идти. Это и впрямь на грани неприличного — какая-то абсурдная пародия на жизнь, вот только это и есть жизнь, и он здесь, сейчас и по собственной воле, и не знает, куда идти и что делать.
Кое-где ему видятся вещи из нормальной, обычной жизни. Вот в отделе «Кухонная утварь» такой же чайник, как дома; он обнаруживает, что смотрит на стул — такой же стоит в квартире у Полли. Мимо него скользнула девушка в больших круглых серьгах, какие часто носила Кэт, но он быстро выбросил Кэт из головы — для нее нет ни времени, ни места, о ней не надо думать, ни сейчас, ни, наверное, когда-либо еще. Тут он натыкается на самого себя, поймав в зеркале отражение сбитого с толку мужчины — слишком лысого, слишком старого, — и снова теряет ориентир. Не может быть, это ведь не он… Тем не менее это он и есть.
Возле стола он резко останавливается. За столом сидит женщина — спокойная, выглядит безобидно — и улыбается ему: первый живой человек, которого он увидел в этом проклятом месте. Над головой женщины табличка: служба работы с покупателями.
Возле стола стоит стул. Ник садится. Женщина продолжает приветливо улыбаться. Позже ему будет казаться, что он вывернул перед ней наизнанку душу.
— Уже девятнадцатое, — говорит Соня, — а смета устройства сада для особняка в Суррее еще не готова.
Элейн фиксирует это — скорее дату, а не требуемую смету. И что? — говорит она себе. Что с того, что сегодня годовщина свадьбы? Она каждый год приходит. Как время высадки луковичных или прививки. Ну и что?
Позже, улучив пару часов, чтобы поработать в саду, она смутно припоминает сегодняшнее число и лениво размышляет; Ник редко вспоминал об этом, а если и вспоминал, то непременно путал дату и предлагал устроить праздничный ужин неделей раньше, и ее это вечно раздражало; по правде говоря, она и сама не особенно помнит собственную свадьбу. Как можно так плохо запомнить столь важное событие — не картины, лишь неясные отражения. Шляпа тети Клэр, твердая, как камень, глазурь на свадебном пироге, никак не желавшая поддаваться ножу, Кэт в струящемся зеленом платье.
Элейн высаживает в грунт кустики медуницы и пытается думать о делах насущных. У нее куча работы, но после поездки к Мэри Паккард она чувствует себя дезориентированной, сбитой с толку, ей трудно сконцентрироваться на делах, требующих пристального внимания. И не потому, что она не может выбросить из головы то, что узнала от Мэри Паккард, дело скорее в том, что изменилось ее видение ситуации, и надо к этому приспосабливаться, научиться с этим жить.
День идет своим чередом. Подходит за указаниями Соня, потом приходят Пэм и Джим. Элейн снова улучает минутку, чтобы повозиться в саду; и вот, наконец, после пяти все расходятся, и она остается одна.
Ник выбрал очень удачное время. Элейн приняла ванну и устроилась было в оранжерее; тут раздается звук подъезжавшей к дому машины. Она подходит к парадной двери, а там стоит он с пакетом в руках.
Элейн настолько обалдевает при виде его, что замирает на месте, выдавив из себя: «О…» Полли права, он похудел, во всем же остальном это просто Ник, более того, Ник с вороватым видом, предвещающим долгую тираду в свое оправдание.
— Это шарфик, — объясняет он. — С цветами. Вообще-то, должен признаться, мне помогла его выбрать славная женщина в магазине. Я рассказал ей о тебе, и она решила, что тебе подойдет вот этот, с цветами. По-моему, он итальянский. Шелковый.
Элейн продолжает стоять на пороге, теперь с пакетом в руках. И тут она вспоминает совершенно новую подробность того дня, тридцать три года назад: рука Ника над ее рукой, он надевает ей кольцо. Она вспоминает, как внутренне вздрогнула от осознания, что теперь их двое, что бы это ни значило.
Ник стоит у порога и ждет.
— Что ж, — говорит она, — заходи. — Произнося это, она понимает, что больше он уже не уйдет — и все будет хорошо или, во всяком случае, по-прежнему.
— Помнишь, у меня все шло наперекосяк? — говорит Полли. — Короче, все разрешилось. Честно говоря, это жизнь… Во-первых, я думаю, у нас может быть серьезно. Ну, с Энди. Мы уезжали из города на уик-энд, и все было хорошо. Что? Ну, конечно, секс был замечательный, но дело же не только в этом, так? Знаешь, он так меня понимает. Ему можно рассказывать все что угодно. Он… словом, он не такой, как те, что были у меня до него. О господи… даже говорить о нем так… здорово. Знаешь, по-моему, я влюбилась.
Но это еще не все. Папа вернулся к маме. Во всяком случае, мама разрешила ему вернуться. В пятницу вечером я пришла домой поздно и нашла записку: он сейчас дома, а на следующей неделе приедет забрать вещи. Вот так. Короче, разобрались.
В юности Оливеру хорошо давалась латынь. Периодически ему до сих пор приходят на ум цитаты из Вергилия или Юлия Цезаря. В эти дни он часто вспоминает выражение lacrimae rerum[10] — трогательные слова. Он припоминает, что тогда преподаватель сказал: выражение считается непереводимым. Написал его мелом на доске… и парочку толкований: грусть о чем-то утраченном, мировая печаль. «Правда, не совсем то? — сказал он. — Красивое выражение, особенно в стихах, — и пусть будет, как будет».
Lacrimae rerum. Это уж точно, думает Оливер. Честно говоря, то, что он сейчас испытывает, — обычная грусть и вряд ли сравнится с плачем о падении Трои, тем не менее латинские слова очень подходят к ней и странным образом утешают. Он много раз их вспоминал, а в один прекрасный день сделал экранной заставкой — два слова плавали по экрану его монитора, разного цвета и разным шрифтом красные, пурпурные, желтые, зеленые, жирный шрифт, курсив, Symbol, Tahoma, Times New Roman, — да каким угодно. Он собирал их в охапку и двигал в разные стороны.
В какой-то момент это замечает Сандра и, проходя по комнате и бросив взгляд ему через плечо, спрашивает:
— Что это ты делаешь?
— Балуюсь, — отвечает Оливер. И все удаляет. — Ладно, хватит. Ну, кто займется заказом Ротари-клуба — ты или я?
Глин работает. Конечно, именно этим Глин всегда занимался, и продолжает заниматься и по сей день. Семестр закончился, а значит, можно отдохнуть от студентов и коллег; долгие часы он просиживает в библиотеке и в собственном кабинете, готовя крупномасштабный научный проект, посвященный истории транспортных систем. Он думает о доисторических путях, маршрутах перегона скота и перевозки соли и угля. Думает о проезжих дорогах, водных артериях и зарождении железных дорог; перед его глазами — карта Британии, сеть коммуникаций, слой за слоем, слои копятся, пересекаются, разбивают существующую хронологию в пух и прах. Он не думает ни о себе, ни о Кэт; во всяком случае, он полагает, что не думает о них.
Фотография водворена обратно, в шкаф под лестницей. Глин не желает и не намерен смотреть на нее снова. Конечно, он запросто может ее уничтожить, но уничтожение архивного материала противоречит важнейшим его принципам. Так что пусть лежит.
Глин работает, возится с кипой бумаг — книгами, журналами, гранками, картами. Читает и пишет, поднимает пласты информации, интерпретирует и открывает заново. Даже в минуты отдыха он размышляет о том, что с чем соединяет канал, о маршруте, по которому проложена железнодорожная ветка; когда варит себе кофе на кухне, то представляет целые речные системы на разделочном столике; спускаясь за газетой, думает о соединительных и аварийных маршрутах.
Но то и дело отрешенность изменяет ему. Неумолимо и непреклонно его мысли занимают воспоминания. Чаще всего он вспоминает тот день. Вечер, когда он вернулся в опустевший дом. Снова и снова он воскрешает в памяти события того дня — и в конце концов видит то же, что увидел тогда. Перед ним предстает то же самое зрелище, но теперь, когда он столько узнал, он смотрит на него совсем другими глазами.
Глин понимает, что придется заново учиться жить с Кэт, или, точнее, жить с новой, другой Кэт. Вернее, жить без нее — с новым, острым чувством потери.