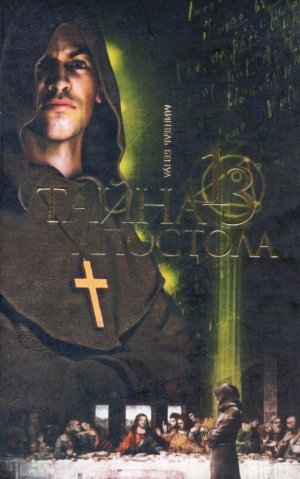
Мишель Бенуа
Тайна тринадцатого апостола
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
Поезд мчался во мраке ноябрьской ночи. Римский экспресс, пересекая Италию, по обыкновению, опаздывал на два часа. Пассажир взглянул на часы и вздохнул: раньше девяти вечера до Парижа не добраться…
Стараясь устроиться поудобнее, он оттянул пальцем целлулоидный воротничок, давивший шею. Отец Андрей не привык к традиционному облачению священнослужителя, так он одевался, только когда покидал аббатство, а случалось это редко. Эти итальянские вагоны, должно быть, еще помнят эпоху Муссолини! Сиденья, обтянутые искусственной кожей, жестки, как кресла в монастырской приемной, окно можно опустить только до половины, кондиционера нет…
Ладно, в конце концов, уже осталось не больше часа пути. Промелькнули огни станции Ламот-Веврон. На длинном прямом прогоне до Солони экспресс развивал максимальную скорость.
Заметив, что монах беспокойно вертится, пассажир, сидевший напротив, поднял от газеты темные глаза и слегка улыбнулся, но его бледное лицо тут же снова стало замкнутым.
«Вроде бы улыбается, — подумал отец Андрей, — а глаза холодны, как галька на берегу Луары».
Римский экспресс так часто перевозил духовных лиц, что стал похож на филиал Ватикана, но в этом купе, кроме отца Андрея, ехали только два молчаливых пассажира. Остальные места были забронированы, но так и оставались пустыми. Отец Андрей бросил взгляд на второго попутчика, забившегося в угол, — этот был чуть постарше, элегантный, с волосами цвета спелой пшеницы. Он, казалось, дремал, но временами пальцы его правой руки барабанили по колену, будто по клавишам. Перед отправлением поезда они обменялись парой вежливых фраз, и отец Андрей заметил, что незнакомец говорит с сильным акцентом, но с каким именно, определить не смог. Может быть, с восточно-европейским? Его лицо казалось юношеским, несмотря на шрам возле левого уха.
Эта привычка замечать малейшие детали… Она появилась после многих лет, проведенных над пыльными страницами древних манускриптов.
Прижавшись лбом к стеклу, он рассеянно смотрел на дорогу, бежавшую вдоль железнодорожного полотна.
Уже два месяца прошло с тех пор, как он должен был отослать в Рим перевод и анализ коптской рукописи из Наг-Хаммади. С переводом он управился в два счета, но вот доклад о результатах исследований… Он так и не сумел его составить. Невозможно сказать все как есть, а уж написать тем более. Слишком опасно.
Тогда его вызвали в Рим. В Конгрегации вероучения — бывшей инквизиции — на него насели с расспросами. Он предпочел бы не делиться с ними своими гипотезами, а ограничиться обсуждением технических проблем, возникающих при переводе. Но кардинал, а еще больше этот жуткий минутант[1] приперли его к стенке и заставили сказать куда больше, чем ему бы хотелось. Потом они начали расспрашивать о мраморной плите в Жерминьи, и физиономии у них мало-помалу стали каменеть.
В конце концов отец Андрей отправился в хранилище библиотеки Ватикана, где ему снова довелось прикоснуться к полной страданий истории своей семьи. Это было тяжело, но, может статься, такова цена, которую нужно заплатить, чтобы наконец получить доказательства того, о чем так давно догадывался. И вот тогда-то ему пришлось спешно покинуть Сан-Джироламо, сесть на поезд и мчаться без оглядки в аббатство, ибо он был в опасности, хотя желал только покоя и мира. Ему нечего делать в Риме, он чужой там. Но есть ли теперь на свете место, где он еще может чувствовать себя дома? Когда отец Андрей вступил под сень аббатства, то вторично поменял родину и одиночество обступило его.
Итак, тайна раскрыта. Что же сказать отцу Нилу? Его друг умеет хранить секреты, а кроме того, он в одиночку уже проделал большую часть пути… То, к чему отец Андрей шел всю жизнь, полную исканий, отец Нил обрел благодаря проницательности и сосредоточенности духа.
Если с ним что-нибудь случится, отец Нил станет достойным преемником.
Отец Андрей раскрыл сумку и стал рыться в ней под бесстрастным взглядом пассажира, сидящего напротив. В конце концов, даже хорошо, что их всего лишь трое в купе, рассчитанном на шестерых. Можно сбросить новую куртку, положить ее на пустое сиденье, чтобы не помялась. Он наконец нашел карандаш и маленький листок бумаги, быстро нацарапал несколько слов, сложил бумажку и зажал в левом кулаке, потом откинул голову на спинку кресла.
Перестук колес убаюкивал его. Он почувствовал, что начинает засыпать…
Дальше все произошло очень быстро. Пассажир, сидевший напротив, спокойно отложил газету и встал. В то же мгновение лицо блондина, сидевшего у выхода из купе, напряглось и застыло. Он тоже поднялся и подошел, словно затем, чтобы взять что-то с багажной полки. Отец Андрей машинально поднял глаза: полка была пуста.
Удивиться он не успел: мужчина потянулся к куртке, лежавшей на соседнем сиденье, а потом наступила темнота: отцу Андрею накинули куртку на голову. Мускулистые руки ухватили его за пояс, оторвали от пола. Ткань заглушила его протестующий крик. Раздался скрежет окна. Отец Андрей стал вырываться, ветер яростно трепал куртку, но ее удерживала твердая рука.
Отец Андрей задыхался. «Кто они? Я должен был ждать этого! За две тысячи лет столько людей… Но почему сейчас? Почему здесь?»
Пальцы его руки, придавленной к оконной раме, так и остались стиснутыми в кулак.
Монах почувствовал, как его выбрасывают в пустоту.
2
Преподобный Алессандро Кальфо был доволен. Прежде чем покинуть большую продолговатую залу в доме близ Ватиканского дворца, Одиннадцать предоставили ему полную свободу действий: нельзя было допустить ни малейшего риска. Вот уже четыре века они стерегут бесценное сокровище Римской апостольской католической церкви. Любой, кто приблизится к нему, должен быть устранен.
Кальфо поостерегся сказать кардиналу всю правду. Долго ли тот сможет хранить молчание? Если тайна будет предана огласке, это станет концом католической церкви, да и всего христианства. И ужасным ударом для Запада, который и без того сильно ослаб в противостоянии с исламом. Ответственность, что лежала на плечах двенадцати человек, огромна: Союз Святого Пия V создан с единственной целью — сохранить тайну, а он, Кальфо, был его ректором.
Итак, в беседе с кардиналом он ограничился заверениями, что известно лишь об отдельных разрозненных знаках, понять и интерпретировать которые способны лишь немногие. Но о главном он умолчал: кто угодно, окажись он достаточно упорным или догадливым, собрав воедино и сопоставив знаки, получит возможность докопаться до истины. Вот почему так важно, чтобы эти знаки оставались разрозненными.
Кальфо встал, обошел стол и остановился перед распятием:
— Учитель! Твои двенадцать апостолов охраняют Тебя!
Задумчиво покрутил перстень на безымянном пальце правой руки. Изысканный камень — темно-зеленый гелиотроп, усеянный красными точками, — был слишком увесист даже для римского прелата, не гнушавшегося показной роскоши, призванной подчеркивать величие сана. Этот драгоценный камень постоянно напоминал Кальфо об истинном значении возложенной на него миссии.
Он, Кальфо, должен уничтожить любого, кто приоткроет завесу тайны.
3
Поезд, похожий на огненную змею, мчался по равнине Солони. Отец Андрей все еще продолжал упираться, сопротивляясь тем, кто толкал его в бездну, но вдруг обмяк.
«Боже, с юных лет я искал Тебя, и вот жизнь моя подошла к концу».
Поднатужившись, убийца толкнул еще раз, и отец Андрей исчез в пустоте за окном. Второй пассажир неподвижно стоял у дверей купе.
Тело жертвы, перевернувшись в воздухе, рухнуло и распласталось на щебне.
Римский экспресс упорно стремился наверстать время — минуты не прошло, а он уже скрылся, только на обочине железнодорожного полотна осталось лежать тело монаха, как сломанная кукла. Куртка отлетела далеко в сторону. Странное дело, левая рука отца Андрея, зажатая во время борьбы оконной рамой, осталась согнутой, а кулак, по-прежнему сжимающий клочок бумаги, словно тянулся к немому черному небу, по которому катились на восток тяжелые тучи.
Чуть позже из ближнего леса появилась косуля и подошла понюхать этот бесформенный предмет, пахнущий человеком. Ей был знаком этот терпкий дух, что исходит от двуногих в минуты опасности. Косуля долго обнюхивала стиснутые пальцы отца Андрея.
Вдруг она вскинула голову, прислушалась и проворно бросилась к лесу, где замерла под пологом деревьев. Автомобиль, спугнувший ее, резко остановился на обочине дороги под насыпью. Из него вышли двое, вскарабкались по откосу и склонились над телом, потом вернулись к машине, о чем-то оживленно переговариваясь.
Когда же косуля увидела стремительно приближающиеся пятна света от мигалки на автомобиле жандармерии, она стрелой умчалась в глубь темного, молчаливого леса.
4
Евангелия от Марка и Иоанна
Досадливо скривившись, он подвинул повыше съехавшую подушку: сам пожелал придать этой трапезе некоторую торжественность. Только богачи могли завести привычку есть как римляне, полулежа на диване, а бедные евреи едят где придется, сидя прямо на земле. Влиятельный хозяин дома позаботился обо всем как нельзя лучше, но Двенадцать, возлежа в этой зале вокруг столов, поставленных покоем, чувствовали себя немного неловко.
В этот вечер четверга 6 апреля 30 года сын Иосифа, которого вся Палестина знала как Иисуса из Назарета, готовился принять свою последнюю трапезу в окружении двенадцати апостолов.
Оттеснив других учеников, они образовали вокруг него что-то вроде доверенной охраны — группы избранных, куда вошли только они — Двенадцать — число в высшей степени символическое; напоминающее о двенадцати коленах Израиля; Когда они возьмут штурмом храм, главный, единственный, а этот час близок, — народ поймет. Тогда они, Двенадцать, будут править Израилем во имя Господа, давшего Иакову двенадцать сыновей. На сей счет между ними было полное согласие. Вот только одесную от Иисуса, когда он воцарится, будет лишь одно место, и они уже теперь яростно соперничали, торопясь узнать, кто станет первым среди них, Двенадцати.
Уже скоро. После бунта, который они разожгут, пользуясь пасхальной суматохой. Через два дня.
окинув родную Галилею, чтобы отправиться в столицу, они тогда же договорились с человеком, который оказывал им гостеприимство этим вечером, владельцем прекрасного дома в западном квартале Иерусалима. Между собой они так и называли его — Домохозяин. Это был высокообразованный богатый иудей, между тем как знания Двенадцати ограничивались умением обращаться с рыболовной снастью.
Пока слуги разносили кушанья, Домохозяин помалкивал… Однако же Иисус подвергается чудовищной опасности в окружении этой дюжины фанатиков. Совершенно очевидно, что этот дурацкий захват храма закончится провалом. Нужно оградить его от участия в их честолюбивых и безумных планах, даже если ради этого придется временно стать сообщником Петра.
С Иисусом Домохозяин встретился два года назад на берегу Иордана. В прошлом ессей, он тогда стал назореем — эта иудейская секта провозглашала свою приверженность учению Иоанна Крестителя. Иисус и сам был одним из них, только никогда о том не распространялся. Между ними быстро установилось согласие, основанное на понимании и обоюдном уважении. Домохозяин утверждал, что лишь ему дано постигнуть, кем на самом деле является Иисус. Не Богом, как поговаривали в народе после одного потрясшего всех исцеления. Не мессией, каким хотел бы видеть его Петр. И не новым царем Давидом, как об этом мечтали зелоты.
Он был иным. Двенадцать, чьи умы были помрачены бреднями о власти и могуществе, и помыслить не могли, кем был Иисус на самом деле.
Себя Домохозяин считал гораздо выше их и всякому, кто хотел его слушать, говорил, что в глазах Учителя именно он — «возлюбленный ученик», что Иисус за последние месяцы все с большим трудом терпит эту банду невежественных галилеян, у которых аж руки чешутся дорваться до власти.
Двенадцать пребывали в бешенстве, видя, что рядом с ними появился еще один, и он добился Дружбы Назорея, чего никому из них до сих пор не удалось. Враг, провозгласивший себя возлюбленным учеником, проник в самое сердце их группы. Да он сиднем сидел в своей Иудее, когда они неотступно следовали за Учителем в его галилейских странствиях. И он говорит, что понимает Иисуса лучше их…
Самозванец!
Он возлежал по правую руку от Иисуса — на хозяйском месте. Петр глаз с него не спускал: не выдаст ли он страшный секрет, что с недавних пор связывает их? Не намекнет ли Иисусу о предательстве? Может, он уже успел пожалеть, что свел Иуду с Каиафой, чтобы расставить Учителю капкан, который захлопнется в этот вечер?
Иисус вдруг протянул руку, взял с блюда кусок, дал стечь подливе. Сейчас ритуальным жестом, говорящим об исключительной приязни, он предложит его одному из сотрапезников. Все разом примолкли. Петр побледнел, на щеках заходили желваки. «Если кусок предназначен этому самозванцу, — подумал он, — все пропало: тут-то он и проболтается о нашем договоре. Тогда я его убью, а сам сбегу…»
Широким жестом Иисус протянул кусок Иуде, который недвижно, словно окаменев, замер у дальнего конца стола.
— Ну же, мой друг… Возьми!
Иуда молча потянулся, взял кусок и положил в рот. Капля подливы стекла на его коротко подстриженную бородку.
Беседа возобновилась. Иуда медленно жевал, стараясь не встречаться глазами с Учителем. Потом встал и двинулся к выходу. Когда он проходил позади хозяина дома, тот заметил, что Иисус слегка повернул голову. И услышал слова, произнесенные так тихо, что больше никто из сотрапезников их не разобрал:
— Мой друг… Что взялся сделать, делай скорее!
Иуда медленно отворил дверь. Пасхальная луна еще не взошла, и ночь была черна.
Их теперь подле Иисуса осталось лишь одиннадцать.
Одиннадцать и возлюбленный ученик.
5
Колокольчик зазвонил — уже во второй раз. В этот ранний смутный час во всем селенье освещено было только аббатство Сен-Мартен. В такие зимние ночи ветер так тоскливо воет над унылыми берегами реки, что Валь-де-Луар начинает смахивать на далекую незнакомую Сибирь.
Отголоски колокольного звона еще звучали в стенах обители, когда отец Нил вошел туда, едва успев сбросить широкий балахон певчего — утренняя служба только что завершилась. Обычно монахи соблюдают полную тишину до «терции», девятичасовой утренней молитвы, и колокольчик на воротах никогда не звонит раньше восьми.
Прозвучал третий звонок — настойчивый, требовательный.
«Брат привратник не отзовется, таково предписание. Тем хуже, придется идти мне».
С тех пор как обнаружились ранее скрытые обстоятельства смерти Иисуса, недомогания отца Нила участились. Он не любил отлучек отца Андрея, как ни редки они были: библиотекарь стал его единственным, не считая Господа, доверенным собеседником. Монахи хоть и живут общиной, но особых отношений между собой не поддерживают, а отцу Нилу было необходимо рассказывать кому-то о своих изысканиях. И вот вместо того, чтобы вернуться в келью, где его ждали еще не законченные записки об обстоятельствах пленения Иисуса, он вошел в привратницкую и отпер тяжелые ворота, отделяющие монастырь от внешнего мира.
Жандармский офицер приветствовал его, вытянувшись по стойке «смирно» в свете фар:
— Отец мой, этот человек проживал здесь?
И протянул удостоверение личности. Отец Нил молча взял документ: «Андрей Соколовский, 67 лет. Проживает: аббатство Сен-Мартен…»
Отец Андрей!
Кровь застыла в жилах монаха.
— Да… конечно, это библиотекарь аббатства. Но что произошло?
Жандарм привык сообщать неприятные известия.
— Мы получили сообщение вчера вечером: двое рабочих, поздно возвращавшихся домой, обнаружили его тело на железнодорожной насыпи между станциями Ламот-Бёврон и Ла-Ферте-Сент-Обен. Он был мертв. Мне очень жаль, но кому-нибудь из вас необходимо явиться для опознания тела. Мы ведем расследование, вы же понимаете?
— Отец Андрей мертв?!
Отец Нил зашатался, ноги не держали его.
— Но… надо, чтобы преподобный отец настоятель…
Тут послышались шаги, по-монастырски степенные, приглушенные. Так и есть, отец настоятель собственной персоной. Потревожил ли его звон колокольчика, или он пришел сюда, движимый каким-то предчувствием?
Жандарм поклонился. В орлеанской бригаде знали: в аббатстве тот, кто носит перстень и нагрудный крест, имеет сан епископа. Республика уважает знаки отличия.
— Преподобный отец, один из ваших монахов, отец Андрей, был вчера вечером обнаружен неподалеку отсюда на железнодорожной насыпи вскоре после прохождения Римского экспресса. Шейные позвонки сломаны, смерть, видимо, наступила мгновенно. Мы не можем отправить труп в Париж на вскрытие до того, как будет произведено опознание. Не могли бы вы проехать со мной, чтобы поскорее исполнить эту формальность… тягостную, конечно, но необходимую?
С тех пор как его избрали на эту почетную должность, отец настоятель аббатства Сен-Мартен не позволял ни единому чувству, каким бы оно ни было, отражаться на его лице. Разумеется, он был избран самими монахами сообразно установленному в монастырях обычаю. Но вопреки правилам между Римом и Валь-де — Луар велось множество телефонных переговоров. И как раз перед избранием в монастырь прибыл римский прелат весьма высокого ранга, дабы на год предаться уединению, а заодно ненавязчиво внушить строптивым, что отец Жерар — самая подходящая кандидатура.
Власть над аббатством, над его весьма незаурядным схоластикатом, включавшим в себя епархиальную семинарию и три библиотеки, Рим мог доверить только надежному человеку, владеющему собой в любой ситуации. Ни один мускул не дрогнул на лице настоятеля.
— Отец Андрей! Боже мой, какая катастрофа! Мы ожидали его сегодня утром, он должен был вернуться из Рима. Как мог произойти такой несчастный случай?
— Несчастный случай? Боюсь, это выражение здесь не совсем подходит, преподобный отец. Мы располагаем данными, которые опровергают эту версию. В Римском экспрессе вагоны старого образца, но при отправлении поезда двери запираются на все время пути. Ваш собрат не мог покинуть вагон иначе, чем через окно своего купе. Во время последней проверки перед прибытием в Париж контролер отметил, что это купе опустело: там уже не было не только отца Андрея (хотя его чемодан оказался на месте), но и двух других пассажиров, они тоже исчезли, и после них не осталось никакого багажа. Еще три зарезервированных места оставались незанятыми от самого Рима, так что у нас нет свидетелей. Расследование в самом начале, но уже сейчас можно отказаться от версии о несчастном случае. Все это куда больше похоже на преступление. Отец Андрей был, несомненно, подвергнут дефенестрации, то есть, проще говоря, его выбросили из окна. На полном ходу. И сделали это два других пассажира, севшие с ним в поезд. Так вы сможете последовать за мной, чтобы опознать труп?
Отец Нил незаметно отступил назад, но, когда он взглянул на лицо настоятеля, ему показалось, что преподобный отец уже с трудом сдерживает волны эмоций.
Впрочем, отец Жерар тут же вновь овладел собой:
— Последовать за вами? Сейчас? Никак невозможно. Я сегодня принимаю у себя епископов из Центральных епархий, мое присутствие здесь необходимо.
И, повернувшись к отцу Нилу, он с сокрушенным вздохом попросил:
— Не могли бы вы, отец Нил, последовать за господином офицером, чтобы исполнить эту прискорбную формальность?
Склонив голову в знак повиновения, Нил подумал: его записки относительно заговора вокруг Иисуса могут подождать. Ведь сегодня крестную муку принял отец Андрей.
— Разумеется, отец мой, я только схожу за нашей накидкой, а то холодно. Офицер, я вернусь сию минуту, соблаговолите подождать…
Обет монастырской бедности запрещает монаху объявлять себя собственником чего бы то ни было: хотя «наша» накидка многие годы пребывала в пользовании только отца Нила, называть ее «своей» не полагалось.
Отец настоятель пригласил жандарма зайти в пустую привратницкую и, по-дружески взяв его вод руку, сказал:
— Я ни в коей мере не предвосхищаю результатов вашего расследования, но преступление — это просто немыслимо! Вы только представьте; пресса, телевидение, журналисты! Это бросит тень на католическую церковь, да и Республика будет выглядеть далеко не лучшим образом. Я уверен, что это было самоубийство. Несчастный отец Андрей…
Жандарм высвободил руку: он все прекрасно понял, но расследование есть расследование, а выпрыгнуть из окна поезда на полном ходу не так-то просто. К тому же он не любил, когда штатские, даже если они носили епископский перстень и нагрудный крест, диктовали ему, как он должен действовать.
— Преподобный, расследование пойдет своим чередом. Отец Андрей не мог выпасть из поезда без посторонней помощи, в Париже это сразу поймут. Позвольте заметить, что в настоящий момент, похоже, все наводит на мысль о преступлении.
— Ну ведь самоубийство тоже…
— Монах, покончивший с собой? В его-то годы? Крайне маловероятно.
Тут офицер потер подбородок, соображая: однако аббат прав, такое дело способно доставить немало беспокойства, в том числе и в высоких сферах……
— Скажите, отец настоятель, а не страдал ли отец Андрей какими-либо… гм… нервными расстройствами?
Аббат облегченно вздохнул: до жандарма, похоже, дошло.
— Совершенно верно! Он проходил курс лечения, я вас уверяю, что его психика была в самом плачевном состоянии.
Отец Андрей был известен среди своих собратьев поразительной уравновешенностью, и за сорок лет своего пребывания в монастыре ни разу не обращался к врачу. Это был человек спокойный, весь в своих занятиях и рукописях, эрудит, чей сердечный ритм никогда не превышал шестидесяти ударов в минуту… Прелат улыбнулся жандарму:
— Самоубийство, конечно, ужасный грех, но всякий грех достоин милосердия. В то время как преступление…
Мертвенно-бледный рассвет озарил мрачную сцену. Тело оттащили подальше от железнодорожного полотна, чтобы поезда могли ходить без помех, но труп успел окоченеть, а сжатый кулак отца Андрея по-прежнему тянулся к небу. За время пути отец Нил приготовился к ожидавшему его зрелищу. И все-таки ему было больно, когда он, приблизившись и преклонив колена, откинул с изуродованного лица прикрывавшую его простыню.
— Да, — пробормотал он, задохнувшись. — Да, это отец Андрей. Мой бедный друг…
Жандарм почтительно помолчал, потом тронул отца Нила за плечо:
— Побудьте возле него: я составлю в машине протокол опознания, вы его подпишите, и я тотчас отвезу вас назад в аббатство.
Отец Нил смахнул слезу, которая медленно катилась по щеке. И тут только заметил сжатый кулак, которым отец Андрей, казалось, в последнем отчаянном порыве грозил небесам. В заледеневших пальцах застрял маленький скомканный клочок бумаги.
Монах оглянулся: жандарм сидел, склонясь над протоколом. Отлепив бумажку от мертвой руки друга, он заметил на ней несколько строк, написанных карандашом. Никто не смотрел на него, и он проворно сунул записку в карман накидки.
6
Евангелия от Матфея и Иоанна
За несколько дней до последней трапезы Петр ожидал Домохозяина за городской стеной. Тот прошел через ворота, и караульные, узнав владельца одного из богатейших домов квартала, почтительно приветствовали его. Он сделал еще несколько шагов, и фигура рыбака выступила из тени ему навстречу.
— Шалом!
— И я тебя приветствую.
Домохозяин не подал галилеянину руки. Вот уже неделю его терзали страхи: с тех пор как он встретил Двенадцать на холме за городом, где они ночевали в большой оливковой роще под покровом сообщницы темноты, эти люди ни о чем ином не говорили, кроме как о скором захвате храма. Никогда еще обстоятельства не складывались столь благоприятно для них: повсюду на подступах к городу расположились лагерем тысячи паломников. Толпа, распаленная подстрекательствами зелотов, была готова на все. И Двенадцать собирались использовать любовь народа к Иисусу. Прямо сейчас.
Все их планы погорят, это ясно как день. А когда евреи пустятся наутек, в этой заварухе Иисуса могут глупейшим образом убить. Учитель стоит большего, он бесконечно важнее, чем они все, вместе взятые. Надо удалить его от этих фанатичных невежд, так называемых учеников. И вот в голове у Домохозяина созрел план, осталось лишь убедить Петра.
— Учитель спрашивает, нельзя ли в четверг поужинать в высокой зале твоего дома. А то ему в этом году не удастся отпраздновать Пасху, вокруг так и кишат соглядатаи. Просто трапеза, ну, чуть более торжественная, чем обычно, как положено по обычаю ессеев, только и всего.
— Вы совсем с ума спятили! Собраться для этого у меня? От моего дома четыреста шагов до дворца первосвященника! К тому же в этом квартале вас за один ваш галилейский выговор немедленно повяжут!
Рыбак с озера хихикнул, подмигнул — этакий хитрый лис:
— Право слово, как раз у тебя безопаснее всего. Никогда стражникам не взбредет в голову искать нас в самом охраняемом квартале, а тем паче в доме друга первосвященника!
— Ну… друг — это слишком сильно сказано. Приятельствуем по-соседски, не более того. Да и какая дружба возможна между бывшим ессеем вроде меня и духовным лицом высшего ранга?
— Стало быть, в четверг вечером, как стемнеет.
Идея была хоть и сумасшедшая, но хитроумная: укрывшись в стенах его жилища, галилеяне и впрямь ускользнут от всех надзирающих.
— Ладно. Скажи Учителю, что для меня честь принять его под моим кровом. Для праздничной вечери все будет приготовлено. Один из моих слуг проведет вас, поможет проскользнуть мимо всех дозоров. Вы его узнаете по кувшину с водой для ритуального омовения. А теперь отойдем-ка вон туда, нам надо потолковать.
Следуя за ним, Петр перешагнул через груду кирпичей. Под его плащом звякнуло что-то металлическое — это был сика, длинный изогнутый кинжал, которым зелоты вспарывают живот жертве. Значит, апостолы больше не расстаются с оружием! Они готовы на все…
В нескольких словах Домохозяин поделился своим планом. Вы решили поднять восстание, как только начнется праздник? Идея великолепная, толпу паломников легко подбить на что угодно. Но Иисус — проповедник мира и прощения. Как он поведет себя, когда начнется заваруха? Его и ранить могут, и даже хуже того. Если Учитель падет от меча легионера, всему их перевороту конец.
Петр навострил уши, внезапно заинтересовавшись:
— Значит, надо его уговорить вернуться в Галилею, где ему ничто не будет угрожать? Но ведь это в четырех днях пути отсюда…
— А кто просит удалять его из Иерусалима? Напротив, надо поместить его в самый центр событий, но так, чтобы никакая римская стрела не могла его настигнуть. Вы хотите устроить трапезу в том же квартале, где дворец Каиафы, поскольку считаете, что нигде не найти лучшего убежища, и это хорошо придумано. А я тебе больше скажу: вовремя выступления нужно, чтобы Иисус находился внутри этого дворца. Пусть его арестуют накануне Пасхи и отведут к Каиафе. Его запрут в подземелье, а в дни праздника не судят. Когда же праздник кончится, власть уже перейдет в другие руки! Вы победно освободите его, он появится на балконе дворца, и толпа будет вопить от восторга, что ее наконец избавили от гнета первосвященника и его шатии…
Петр, изумленный, перебил:
— Отдать Учителя в руки наших заклятых врагов? Сделать так, чтобы они его схватили?
— Иисус вам нужен живым и здоровым. Ваше дело — захватить власть, а потом уже настанет его черед увлечь народ словом, как умеет лишь он один. Нужно уберечь его от смуты и неразберихи восстания, где ему не место, а после переворота вы обретете его снова!
«А когда их разобьют, а их точно разобьют, как только в дело вступят римские войска, Иисус, по крайней мере, останется в живых. Все закончится совсем не так, как им грезится. Израилю нужен пророк, а не предводитель банды».
В молчании они прошли еще несколько шагов вдоль скалистого гребня, что возвышается над долиной, называемой Геенной.
Внезапно Петр тряхнул головой:
— Ты прав: он только будет нас смущать, когда настанет время применить силу, он же такого не одобрит. Но как устроить, чтобы его схватили точь-в-точь когда надо? Тут ведь на час промахнись, и уже все может пойти не так!
— Я об этом подумал. Как ты знаешь, Иуда ему предан безмерно. Ты, как и он, бывший зелот, вот ты ему и объяснишь: он должен привести храмовую стражу именно туда и именно тогда, когда они наверняка найдут его вдали от толпы, которая всегда его защищает. Например, сразу после вашей вечери у меня дома, в ночь с четверга на пятницу, в Гефсиманский сад.
— Согласится ли Иуда? И как он свяжется с еврейскими властями? Ему ли, простому галилеянину, получить доступ во дворец? Да еще столковаться с первосвященником, мечтая при этом его уничтожить? Да и с чего ты взял, что он был зелотом? Я-то их знаю: у них разговор короткий!
И он похлопал ладонью по кинжалу, при каждом шаге бьющему его по левому бедру.
— Ты скажешь ему, что так нужно для дела, что так мы убережем Учителя от опасности. Ты найдешь верные слова, он тебя послушает. А уж к Каиафе его проведу я. Я вхож во дворец, могу беспрепятственно и приходить туда, и уходить. Иуду пропустят, если он будет со мной. Каиафа попадется в ловушку: наши святоши так опасаются Иисуса!
— Ладно. Раз ты берешься свести его с Каиафой… И если, по-твоему, он может прикинуться предателем, чтобы защитить Иисуса… Рискованно, ясное дело. Да ведь сейчас, как ни поверни, все выходит рискованно.
Проходя через городские ворота, Домохозяин дружески махнул караульным рукой. Через несколько дней большинство этих людей будут мертвы или ранены: римляне, подавляя восстания, церемониться не привыкли. Земля Израиля скоро освободится навсегда от этой банды Двенадцати.
И вот тогда откроется предназначение Иисуса, его подлинная миссия.
7
Все утро — с момента, когда жандарм привез его назад в аббатство, — отец Нил просидел в полнейшей прострации, даже не раскрыв папки с материалами, касающимися обстоятельств смерти Христа. В монастырской келье не бывает стульев, тут не откинешься на спинку, не расслабишься в грезах. Тем не менее монах погрузился в воспоминания, картины прошлого проходили перед ним. Аббатство было окутано молчанием, как ватой: все занятия в схоластикате были прерваны вплоть до похорон отца Андрея. До мессы оставался еще час.
Отец Андрей… Единственный, с кем он мог говорить о своих изысканиях, кто понимал, а подчас даже опережал его выводы:
— Вы не должны страшиться истины, отец Нил: вы же затем и пришли в это аббатство, чтобы найти ее, чтобы узнать. Да, истина сделает вас одиноким, она может даже погубить вас, но не забывайте — именно истина привела к смерти Иисуса, а вслед за ним и многие другие отдали жизнь ради нее. Я приблизился к ней благодаря манускриптам, которые расшифровывал в течение сорока лет. Я пользуюсь доверием только потому, что таких специалистов, как я, способных постичь эти материи, очень мало, а также потому, что я своих выводов никогда ни с кем не обсуждаю. Вы же кое-что поняли, вчитываясь лишь в сами тексты Евангелий. Берегитесь: раз уж церковь так долго скрывает в своих самых темных подвалах то, о чем вы догадываетесь, опасно заговаривать об этом открыто.
— Евангелие от Иоанна входит в программу схоластиката на этот год. Как же я могу обойти вопрос об авторе? И о той роли, которую сыграл в заговоре этот таинственный «возлюбленный ученик», а также о решающих событиях, что последовали за смертью Иисуса?
Сын русских эмигрантов, перешедший в католичество, отец Андрей обладал исключительными способностями к языкам, и благодаря этому в его ведение были переданы все три библиотеки аббатства. На такую ответственную должность назначают только лиц, пользующихся особым доверием. Когда отец Андрей улыбался, он становился похож на старца из какой-нибудь русской пустыни.
— Мой друг, да ведь это вопрос, который обходили испокон веков. И вы уже начинаете понимать, почему, не правда ли? Вот и поступайте так же, как те, что были на вашем месте до вас: не говорите всего, что знаете. Студентам схоластиката ни к чему такие откровения… И, честно говоря, мне просто страшно за вас!
Отец Андрей был прав. Вот уже тридцать лет католическая церковь переживала глубокий кризис. Ряды ее прихожан редели: кто подавался в разного рода секты, кто в буддизм. В христианском мире все было далеко от благополучия. Стало трудно найти надежных преподавателей, чтобы знакомить со святой доктриной учащихся семинарий. Впрочем, семинарии тоже обезлюдели.
Тогда Рим решил сплотить семинаристов, оставшихся в монастырской школе — схоластикате. Двадцать студентов были поручены заботам ученых монахов, которым предстояло их обучать. Монахи, скрывшиеся от мира в стенах аббатства, должны были вооружить юных питомцев истинами, необходимыми для духовного выживания.
Отцу Нилу доверили обучать их экзегезе — толкованию евангельских текстов. Истинным знатоком древних языков он не являлся, вот и было решено, что в работе ему будет помогать отец Андрей, свободно читавший по-коптски, понимавший диалекты древней Сирии и другие мертвые языки.
Общее дело сдружило двух одиночек: монастырская жизнь не способствует сближению, но любовь к старинным текстам сделала это возможным.
И вот теперь отец Нил потерял своего единственного друга, да еще при столь трагических обстоятельствах. Эта смерть наполнила его душу тревогой.
В это же самое время дрожащая рука набирала номер международной связи, начинающийся на «390», пытаясь соединиться с частной и в высшей степени конфиденциальной линией Ватикана. На безымянном пальце этой руки был перстень с простым опалом. Архиепископ Парижский являл собою пример скромности.
— Слушаю?
Под соборным куполом, возведенным Микеланджело, трубку подняла другая рука с тщательно ухоженными ногтями. На ней также был епископский перстень, но с любопытнейшим камнем — темно-зеленым гелиотропом в виде асимметричного ромба, вставленным в серебряную резную оправу и почти закрывавшим ее. Украшение было чрезвычайно дорогим.
— Добрый день, монсеньор, говорит архиепископ Парижский… А, вы как раз собирались мне звонить?.. Да, история весьма прискорбная. Однако… вы уже в курсе?
«Как это возможно? Ведь несчастье произошло прошлой ночью…»
— Сохранить в полнейшей тайне? Чтобы ничего не просочилось? Это будет сложно. Расследование поручено Набережной д'Орфевр, похоже, это было преступление… Кардинал? Да-да, понимаю… Самоубийство, не так ли? Да… конечно, это горько слышать, самоубийство — грех, против коего даже божественное милосердие бессильно. Вы хотите сказать… предоставим Господу самому решить этот вопрос?
Архиепископ отстранил трубку от уха, чтобы собеседник не расслышал легкого смешка. В Ватикане любят давать поручения Богу.
— Алло? Да, я вас слушаю… Самое время пустить в ход мои связи? Разумеется, с министром внутренних дел у нас превосходные отношения. Хорошо… Итак, я этим займусь. Успокойте кардинала, речь пойдет о самоубийстве, и дело будет закрыто. Ариведерчи, монсеньор!
Архиепископ Парижский всегда очень заботился о том, чтобы не растрачивать без необходимости кредит своего влияния на правительство. Каким образом можно оправдать просьбу, прикрыть без расследования дело о смерти монаха, безобидного книжника? Архиепископ Парижский тяжело вздохнул. Приказы, исходящие от монсеньора Кальфо, не обсуждаются, тем паче когда он передает недвусмысленную просьбу кардинала-префекта.
Архиепископ снова поднял трубку: — Не могли бы вы соединить меня с министром внутренних дел? Спасибо, я подожду…
8
Евангелия от Матфея и Иоанна
Ночь с четверга на пятницу подходила к концу, заря вот-вот должна была забрезжить. Было так холодно, что караульные разожгли костер неподалеку от дворца Каиафы. Домохозяин подошел к огню, протянул руки к его благодатному теплу. Его почтительно приветствовали: как-никак владелец одного из богатейших домов в квартале, знакомец первосвященника… Он обернулся: Петр прятался за углом, напуганный тем, что оказался вблизи дворца — средоточия той власти, которую всего через несколько часов намеревался свергнуть. Его поведение рано или поздно должно было вызвать подозрения.
Домохозяин сделал Петру знак, чтобы тот подошел к костру. Рыбак нерешительно проскользнул в круг греющихся у огня.
Все прошло великолепно. Позавчера он привел сюда ошеломленного Иуду, впервые в жизни попавшего в квартал иудейских сановников. Беседа с Каиафой пошла сначала как по маслу — первосвященник был в восторге оттого, что ему предоставится повод без шума, по-тихому отправить Иисуса за решетку. Потом Иуда вдруг пошел на попятный. Может, до него только в тот момент дошло, кто перед ним, и он сообразил, что собирается выдать Учителя еврейским властям?
— А кто поручится, что вы не прикажете убить Иисуса, как только он попадет к вам?
Первосвященник торжественно поднял правую руку:
— Перед лицом Предвечного я клянусь тебе, галилеянин: Иисуса Назорея будут судить по нашему закону, согласно которому странствующему проповеднику не грозит смертная казнь. Его жизни ничто не угрожает. Да будет Предвечный свидетелем нашего договора.
И он с улыбкой вручил Иуде тридцать золотых монет.
Иуда молча взял деньги. Первосвященник дал торжественную клятву: Иисуса арестуют и будут судить. Это потребует времени, а через три дня Каиафа уже не будет верховным правителем страны. К тому времени его вообще не будет.
Что они там, наверху, копаются? Почему Иисус все еще не заперт где-нибудь в укромном подземелье? Уж скорее бы он оказался в темнице — и в безопасности!
Домохозяин видел, как несколько членов Синедриона поднялись по лестнице на второй этаж дворца, куда отвели Иисуса. Неизвестность угнетала. Пытаясь скрыть беспокойство, он направился к выходу на улицу, прошелся взад-вперед. Какая-то тень жалась к стене.
— Иуда? А ты что здесь делаешь?
Бедняга дрожал, как листок смоковницы на галилейском ветру.
— Я… я пришел посмотреть, мне страшно за Учителя! Можно ли верить слову Каиафы?
— Да полно, успокойся, все идет своим чередом. Не задерживайся здесь, это опасно: первый встречный дозор может тебя схватить. Ступай ко мне домой, у меня в высокой зале ты будешь в безопасности.
И Домохозяин направился обратно к входу во дворец. Оглянувшись, увидел Иуду — тот по-прежнему стоял неподвижно, как в землю врос, с места не сдвинется.
Когда раздались крики первых петухов, дверь залы распахнулась, свет факелов озарил лестницу. Вышел Каиафа, оглядывая двор. Домохозяин проворно отступил в тень, подальше от костра: сейчас не стоит попадаться на глаза. После, когда бунт будет подавлен, он отправится к первосвященнику и попросит отпустить Учителя.
Следом вышел Иисус, он был крепко связан. Два стражника держали его за локти.
Почему? Какой смысл связывать его, чтобы бросить в подземелье?
Группа, сопровождавшая узника, прошла по ту сторону костра, послышался резкий голос Каиафы:
— Немедленно ведите его к Пилату!
Домохозяина прошиб холодный пот.
«К Пилату!» Чего ради Иисуса ведут к римскому прокуратору? Этому есть лишь одно объяснение: Каиафа нарушил клятву.
Иуда по-прежнему прятался в тени. Вдруг его ослепил свет факелов. Он вжался в дверной проем, затаив дыхание. Что это? Дозор?
В окружении отряда храмовой стражи, спотыкаясь, шел человек со связанными за спиной руками. Поравнявшись с Иудой, офицер, что шагал впереди, отрывисто бросил:
— Во дворец Пилата! Пошевеливайтесь!
Иуда с ужасом увидел лицо пленника, которого подгоняли ударами кулаков в спину.
Учитель был очень бледен, черты лица искажены страданием. Он прошел мимо, никого не заметив, — казалось, взгляд его был обращен внутрь. Потрясенный, Иуда смотрел на запястья Учителя, стянутые веревкой до крови, и посиневшие пальцы, судорожно искривленные.
Страшная процессия скрылась из глаз — отряд свернул за угол направо, к крепости Антония, где останавливался Пилат, когда он бывал в Иерусалиме.
Любому иудею известен закон, по которому в Израиле богохульство жестоко карается: виновного насмерть забивают камнями. Если Иисуса не казнили сразу во дворе, это значит только одно: он не признал того, что провозглашал себя равным Богу. Поэтому правители Иудеи решили добиться приговора за преступление против власти. А поскольку римляне накануне Пасхи опасаются народных волнений и взвинчены, сделать это будет нетрудно.
Шатаясь, Иуда побрел прочь из города. Иисуса не станут судить. Каиафа нарушил клятву и решил предать его смерти. Учитель не признал себя виновным, и первосвященник решил передать пленника римлянам, которые казнят любого по малейшему подозрению.
Иуда подошел к храму, величественная тень накрыла его. В кармане позвякивали тридцать монет — смехотворный залог договора, который только что был нарушен. Каиафа посмеялся над ним.
Сейчас он войдет в храм, чтобы напомнить первосвященнику о его клятве. А если тот станет упорствовать в своем злодеянии, Иуда призовет в свидетели Предвечного, перед лицом которого поклялся Каиафа.
«Священники храма, пришел для вас час Божьего суда!»
9
Отец Нил вздрогнул, раздался первый удар колокола, зовущий к мессе. Надо спуститься в ризницу, приготовиться. Он еще раз перечитал слова, нацарапанные на клочке бумаги, которые несколькими часами ранее извлек из сжатых, окоченевших пальцев мертвого Андрея:
«Сказать Нилу: коптский манускрипт (Апок)
Послание Апостола.
МММ
Плита в Ж
Установить связь. Немедленно».
Оставив мысли о роли Иуды в гибели Иисуса, отец Нил вновь оказался лицом к лицу с жестокой реальностью дня нынешнего. Что все это могло означать? Вопрос, конечно, бессмысленный. Отец Андрей хотел поговорить с ним о коптской рукописи. О той, что из Рима, или другой? В ящиках его стола хранились многие сотни фотокопий — о которой из них идет речь? Он приписал в скобках «Апок» — может, имеется в виду коптский манускрипт об Апокалипсисе? Но это мало чем поможет: Апокалипсис упоминается во множестве источников, как еврейских, так и христианских. А отец Нил хоть и мог с грехом пополам читать по-коптски, но чувствовал, что с таким трудным текстом ему не справиться.
Следующая строка записки напомнила ему один разговор с библиотекарем. Речь зашла о некоем апостольском послании. Отец Андрей упомянул о его существовании крайне сдержанно, вскользь, как о простой гипотезе, догадке, ничем не подтвержденной. И не пожелал больше говорить об этом. Не это ли послание имелось здесь в виду? А что означает трижды повторенная буква «М»? Только одна, предпоследняя строка была вполне ясна для отца Нила. Да, ему надо было вернуться и сфотографировать каменную плиту в Жерминьи, как он обещал своему другу перед самым его отъездом.
Что касается последних слов: «Установить связь», они часто говорили об этом: для отца Андрея, как историка, обнаружение связей было необыкновенно важно. Но почему «немедленно», почему это слово подчеркнуто?
Отец Нил напряженно размышлял о своих исследованиях евангельских текстов, живо интересовавших отца Андрея, о вызове библиотекаря в Рим по поводу коптской рукописи и, наконец, о находке, сделанной отцом Андреем в Жерминьи и глубоко его взволновавшей. Похоже, все это неожиданно приобрело в глазах его друга такую важность, что ему не терпелось поговорить об этом с Нилом, как только он вернется.
Может быть, отец Андрей обнаружил во время поездки что-то, о чем они упоминали во время своих многочисленных бесед с глазу на глаз? Или его друг проговорился в Риме о том, о чем следовало молчать?
Жандарм говорил о «преступлении». Но для убийства нужен мотив. Отец Андрей ничем не владел, жил затворником в своей библиотеке, и никому не было до него дела… Никому, кроме Ватикана. Однако отец Нил никак не мог поверить, что за убийством мог стоять Рим. Последнее убийство священников по приказу папы произошло в Парагвае в 1760 году. Это массовое истребление невинных было, возможно, необходимым с точки зрения тогдашней политики, но сейчас другие времена. Невозможно представить, чтобы папа на исходе XX столетия распорядился убрать безобидного книгочея!
«Рим уже давно не проливает крови. Немыслимо, чтобы это преступление было организовано Ватиканом».
Однако покойный друг неоднократно предостерегал его. И тотчас тревога, с некоторых пор не оставлявшая его, снова дала о себе знать тупой болью в животе.
Отец Нил глянул на часы — до мессы осталось четыре минуты, нужно торопиться в ризницу, как бы не опоздать. Он выдвинул ящик письменного стола, сунул записку под стопку писем. Пальцы коснулись фотографии, сделанной месяц назад в церкви Жерминьи. Последняя воля отца Андрея…
Он встал и вышел из кельи. Темный выстуженный коридор третьего этажа — так называемый «кулуар святых отцов» — напомнил ему: отныне его ждет полное одиночество. Никогда больше улыбка его друга — библиотекаря не озарит это унылое место.
10
— Садитесь, монсеньор.
Удержавшись от досадливой гримасы, Кальфо опустил свое упитанное тело в мягкое кресло, стоявшее напротив внушительного письменного стола. Ему не понравилось, что Эмиль Катцингер, могущественный кардинал-префект, глава Конгрегации вероучения, официально вызвал его к себе. Ведь всем известно, что настоящие дела обсуждают не за письменным столом, а за пиццей или во время прогулки в тенистом парке после порции спагетти, да с хорошей сигарой.
Алессандро Кальфо появился на свет в испанском квартале, в бедном районе Неаполя. Его многодетная нищая семья, ютилась в одной-единственной комнатке, выходящей прямо на улицу. Выросший среди людей, чей вулканический темперамент питает щедрое неаполитанское солнце, он очень рано почувствовал неодолимую тягу к наслаждению. Кругом было столько мягкой, трепещущей плоти, недоступной для маленького бедняка. И он научился грезить о своих желаниях и желать осуществления своих грез.
Алессандро мог бы стать истинным неаполитанцем, ревностным служителем культа Эроса — единственного божества, способного даровать сладкое забвение обитателю убогого квартала. Но строгие нравы семьи не позволяли надеяться, что его мечты осуществятся. Скорее можно было дождаться чудес от святого Януария.
Тогда-то отец и отправил его на негостеприимный север Италии: в их тесной каморке ютилось слишком много народу. Пусть из его сынка сделают церковника, но только не абы где, нет! Папаша, восторженный поклонник Муссолини, слыхал, что там — в высших, стало быть, сферах — приняли решение учреждать семинарии, где детей воспитывают в духе фашизма. Коль скоро Господь сам добрый итальянец, то и готовиться к служению нужно именно в подобном заведении. Так Алессандро в десять лет от роду отослали на пологие берега реки По, где он облачился в сутану, чтобы никогда ее более не снимать.
Но сутана не могла заставить этого сына Везувия смириться с его новым положением.
В семинарии он сделал свое второе открытие: ощутил, что комфорт и достаток также притягательны, как и мир наслаждений. Средства таинственным образом стекались сюда от правых радикалов, чьи сети были раскинуты по всей Европе. Нищий уличный мальчишка живо смекнул, что деньги могут все.
Когда ему исполнилось семнадцать, Алессандро отправили в Ватикан для изучения латыни — языка Бога. Там его ожидало третье открытие: он познал вкус власти. Узнал, что она может наполнить жизнь смыслом даже больше, чем погоня за наслаждением. Конечно, культ Эроса приближает к тайне Всевышнего, но власть делает того, кто ею обладает, равным Богу.
Внутренняя склонность к фашизму в один прекрасный день привела его в Союз Святого Пия V. Он понял, что здесь обретет все, что желает. Его жажда власти утолится в лоне тоталитарной идеологии Союза. Сутана с фиолетовой оторочкой будет напоминать ему о духовных устремлениях, так поздно пробудившихся в нем, и в то же время позволит удовлетворить терзающие его желания. Деньги рекой потекут к нему благодаря сотням досье, которые тщательно составляются Союзом, никого не оставляющим без внимания.
Деньги, власть и наслаждение — в этом весь Алессандро Кальфо. К сорока годам его уже называли «монсеньором», он стал ректором таинственной и весьма влиятельной Коллегии, подчиненной непосредственно папе и ни от какой иной власти не зависящей. И тут произошло нечто неожиданное: он воспылал истинной страстью к порученному ему делу и стал яростным защитником догм церкви, которой был обязан всем. Он перестал сдерживать свою чувственность. Однако, позволив страстям выразиться во всей полноте, он придал им размах, соответствующий его духовной власти: отныне он видел в этом способ посредством преображения плоти быстро приблизиться к мистическому соединению с Богом.
Всего два человека, сам папа да кардинал Эмиль Катцингер, знали, что этот низенький человечек с елейным голосом и есть всемогущий ректор. Для всех же прочих, urbi et orbi[2], он оставался скромным минутантом Конгрегации.
— Садитесь. У нас два вопроса: один касается дел внутренних, другой — внешних.
Так было принято в правящих ведомствах Ватикана: под «внутренними вопросами» подразумевалось то, что происходит внутри церкви, стало быть, в дружественной, привычной и уютной среде. А вопросы «внешние» имели отношение к остальному миру — враждебному и безумному, который тем не менее следовало держать под контролем.
— Мы уже обсуждали проблемы французского бенедиктинского аббатства…
— Да, вы просили меня принять необходимые меры, но мы не успели вмешаться, несчастный отец Андрей покончил с собой. Полагаю, дело закрыто.
Его высокопреосвященство терпеть не мог, когда его перебивали, главным здесь был он. Нужно поставить Кальфо на место.
Папа приблизил к себе австрийца Катцингера, поскольку тот обладал репутацией просвещенного богослова. Но кардинал оказался ярым консерватором, что соответствовало глубоким убеждениям самого папы.
— Самоубийство — страшный грех, да примет Господь его душу! Но, похоже, в этом монастыре завелась еще одна паршивая овца. Взгляните на сообщение отца настоятеля. — Он протянул Кальфо папку. — Может быть, это не так уж важно, вы ознакомьтесь, потом обсудим.
Отношения Катцингера с собственным прошлым были довольно сложными: его отец был офицером австрийского вермахта, служил в дивизии «Аншлюс». Кардинал отвергал нацизм, но при этом считал, что только он способен объединить мир под эгидой единственно истинной католической веры.
— А вот внутренний вопрос непосредственно касается вас, монсеньор…
Кальфо закинул ногу на ногу и ждал продолжения.
— Вам известна римская поговорка: una piccola avventura non fa male — от маленького приключенья вреда нет, лишь бы прелат, уважая свой сан, не забывал о скромности и хорошем тоне. А до моего сведения дошло, что некая… некое создание может пойти на контакт с папарацци. Антиклерикальная пресса обещает ей целое состояние в обмен на откровения касательно… Как бы выразиться?.. Личных отношений, в которых вы якобы с ней состояли.
— Это были духовные отношения, ваше высокопреосвященство: мы вместе продвигаемся по стезе мистического опыта.
— Не сомневаюсь. Но дело в том, что журналисты предлагают очень большие деньги. Что вы думаете делать?
— Молчание — первейшая добродетель христианина. Наш Господь, и тот отказался отвечать Каиафе, клеветавшему на него. Полагаю, хватит нескольких сотен долларов?
— Вы шутите! На сей раз сумма на порядок больше. Я готов вам помочь, но пусть это будет в последний раз. Святой Отец вряд ли не заметит так встревожившую нас статейку в «Ла Стампа». Все это прискорбно!
Эмиль Катцингер извлек из складок своей пурпурной сутаны маленький серебряный ключик, открыл нижний ящик письменного стола. В ящике лежали десятка два пухлых конвертов. Католическая империя собирала налог со всех, даже самых маленьких приходов. Катцингер руководил одной из трех конгрегации, обеспечивающих сбор этих денег.
Он осторожно взял первый конверт и проворно пересчитал содержимое. Затем протянул конверт Кальфо, тот его приоткрыл, но проверять не стал, неаполитанцу достаточно одного взгляда на пачку купюр, чтобы определить размер суммы.
— Ваше высокопреосвященство, я бесконечно тронут, мои преданность и благодарность не будут иметь границ!
— Я уверен в этом. Мы ценим ваше рвение в самом святом из всех дел церкви, ибо оно касается Господа нашего Иисуса Христа. Что ж, ступайте с миром, успокойте эту прыткую девицу, возжаждавшую известности, и, прошу вас, впредь руководите ею на путях духа не столь… гм… дорогостоящим образом.
Несколько часов спустя Катцингер вошел в другой кабинет, расположенный над колоннадой Бернини и выходящий окнами непосредственно на площадь Святого Петра. Возвысившись до апостольского сана, папа немало времени проводил в разъездах, возлагая руководство повседневными делами на тех, кто всегда оставался в тени, но твердой рукой вел ладью святого Петра к реставрации прежних порядков.
Его высокопреосвященство Эмиль Катцингер управлял делами католической церкви тайно — и держал кормило железной рукой.
Сейчас другая рука, немощная и дрожащая, протянула кардиналу, почтительно стоявшему перед креслом, номер «Ла Стампа». Раздался голос — речь говорившего была заметно затруднена:
— А эта история, где мелькает имя Кальфо… гм… это наш монсеньор Кальфо?
— Да, Святейший Отец, это он. Я виделся с ним сегодня; он примет надлежащие меры, чтобы помешать мерзкой клевете запятнать Святой Престол.
— И… как же избежать…
— Он проследит за этим лично. К тому же, как вам известно, мы через ватиканский банк контролируем ту группу СМИ, к которой принадлежит «Ла Стампа».
— Нет, этого я не знал. Что ж, ваше преосвященство, помогите вновь воцариться миру. Я молюсь об этом каждый день и час.
Кардинал поклонился, улыбаясь. С годами он научился любить старого понтифика. Он был свидетелем той ежедневной борьбы, которую папа вел с болезнью, и восхищался силой его веры и мужеством, с которым тот переносил страдания.
11
Отец настоятель последним вошел в просторную трапезную. Монахи в грубошерстных балахонах почтительно ожидали его, стоя возле табуретов, расставленных в ряд с безукоризненной аккуратностью. Мелодичным голосом он прочел молитву, монахи сели за стол. Сорок голов склонились, готовясь в молчании внимать чтению. Полуденная трапеза началась.
Напротив прелата в другом конце трапезной занимали стол учащиеся схоластиката — будущие безукоризненные служители церкви. Лица их были сосредоточены, под глазами залегли круги. На столах перед ними стояли миски с салатом, на который они готовы были накинуться по первому сигналу. Начинался учебный год, нужно продержаться до июня.
Отец Нил всегда любил раннюю осень, когда зреют плоды, недаром Францию сравнивают с фруктовым садом. Но сейчас… Вот уже несколько дней, как у него пропал аппетит, занятия в схоластикате тяготили.
— Итак, совершенно очевидно, что Евангелие от святого Иоанна — произведение не вполне цельное, оно является результатом продолжительной литературной обработки. Кто его автор? Или здесь скорее надлежит говорить о нескольких авторах? Мы с вами только что сопоставили некоторые фрагменты этого священного текста и убедились, что в различных его частях не только язык, но подчас и содержание весьма отличаются. Один и тот же автор не мог одновременно так живо описать события, очевидцем которых он явно был сам, и в то же время пускаться в пространные рассуждения на блестящем греческом языке, в которых чувствуется влияние философии гностиков.
Отец Нил разрешал своим студентам прерывать его во время лекций при условии, что вопросы будут краткими. Но сегодня, стоило ему затронуть столь волнующую его тему, как он увидел перед собой окаменевшие лица учеников.
«Я понимаю, что мы сходим с торной дороги, это совсем не то, чему вас учили на уроках катехизиса. Но если сам текст вызывает вопросы… Вам еще предстоит много удивительного!» — думал он, глядя на застывших студентов.
Замысел его лекций возник в результате многолетних одиноких исследований и раздумий. В библиотеке аббатства он несколько раз тщетно разыскивал некоторые произведения, недавно вышедшие в свет. Он узнавал о них из специализированного журнала, который получал отец Андрей.
— Смотрите-ка, отец Нил, наконец извлечена из забвения еще одна часть рукописей с берегов Мертвого моря! Я уж и не надеялся… Пятьдесят лет прошло с тех пор, как в Кумранских пещерах были обнаружены кувшины, но после смерти Иггаэля Ядина ничего не публиковалось, больше половины этих текстов до сих пор не известны публике. Неслыханное безобразие!
Отец Нил улыбнулся. Он вспоминал, как постепенно ему открывались новые черты характера отца Андрея — увлеченность, стремление постоянно узнавать что-то новое. Он полюбил их долгие уединенные беседы, когда отец Андрей, слегка наклонив голову, внимательно слушал рассказы Нила о его изысканиях. Потом одним словом, а порой и молчанием или одобрял выводы своего ученика, или помогал сориентироваться в дебрях самых рискованных предположений.
Человек, которого он тогда видел перед собой, совсем не походил на сдержанного библиотекаря, сурового хранителя трех ключей, каким испокон веков полагалось быть исполнителю сей важной должности в аббатстве на берегу Луары!
Здание после войны было перестроено, хотя монастырь при этом не закрывался. Оно напоминало собой подкову. Библиотека располагалась на верхнем этаже под самой крышей, занимая все три крыла — северное, южное и центральное.
Четыре года назад в распоряжение отца Андрея вдруг поступили значительные суммы. Ему надлежало пополнить библиотечные фонды ценными изданиями по религиозной и исторической проблематике. Придя в восторг, он поставил все свои знания и умения на службу предложенной задаче. На стеллажах появились издания редкие или уже исчезнувшие из продажи, каких обычно днем с огнем не сыщешь, книги на древних и современных языках. Последовавшее непосредственно за этим распоряжение Ватикана об открытии схоластиката подсказало, откуда вдруг появилось такое сказочное изобилие материалов для исследований.
Однако все это сопровождалось и новым непривычным ограничением. Каждый из восьми монахов, преподававших в схоластикате, получил в свое распоряжение один ключ, дающий доступ только в ту часть библиотеки, где хранились материалы по его дисциплине. Отцу Нилу, читавшему лекции по Новому Завету, выдали ключ от двери, ведущей в помещения центрального крыла здания и над которой висел деревянный щит с вырезанной надписью «Библейские науки». Книгохранилища «Исторические науки» в северном крыле и «Теологические науки» — в южном оставались для него закрытыми.
Ключи от всех трех библиотек, собранные в неразделимую связку, были только у отца Андрея и отца настоятеля.
В самом начале своих исследований, отец Нил попросил у друга позволения посещать и историческую библиотеку.
— Я не смог найти в центральном крыле некоторых материалов, без которых мне не продвинуться дальше. Вы однажды говорили мне, что они приписаны к фондам северного крыла. Почему мне нельзя входить туда? Это же смешно!
Лицо библиотекаря внезапно замкнулось. Отец Андрей помялся и наконец, смущенно произнес:
— Отец Нил… Забудьте то, что я сказал тогда, я не должен был этого говорить. Пожалуйста, никогда не просите у меня ключей от тех двух библиотек, куда вам запрещен доступ. Поймите, мой друг, я не могу поступать так, как мне бы хотелось. Распоряжения отца настоятеля на этот счет категоричны, и это идет… с самого верха. Никто больше не может посещать все три наши библиотеки. И это совсем не смешно — это трагично. Я то допущен во все три крыла и часто пользуюсь правом читать все, что пожелаю… Но ради вашего душевного спокойствия, во имя нашей дружбы умоляю вас, довольствуйтесь тем, что найдете в центральном крыле.
Затем он погрузился в тяжкое молчание, обычно не свойственное ему в те часы, когда они с отцом Нилом оставались наедине.
И пришлось обескураженному преподавателю экзегезы волей-неволей ограничиться теми сокровищами, что таились за дверью, открывавшейся его единственным ключом.
— При внимательном чтении становится ясно, что основной автор Евангелия от святого Иоанна хорошо знал Иерусалим, имел в столице связи; это был просвещенный, зажиточный иудей, тогда как сам апостол Иоанн вырос в Галилее, был беден и малограмотен… как же он мог создать подобный текст, носящий теперь его имя?
Лица студентов мрачнели все больше, по мере того как он развивал свою мысль. Некоторые неодобрительно покачивали головами, однако никто не произносил ни слова. Это молчание аудитория тревожило отца Нила больше всего. Его ученики — сплошь отпрыски самых консервативных семей страны. Каждый из них оказался здесь неслучайно, завтра они станут передовым отрядом церкви — хранительницы догматов. И зачем только его назначили на это место? Как хорошо было работать одному, в тишине!
Отец Нил понимал, что всех своих выводов открывать ученикам не стоит. Но он и вообразить не мог, что настанет день, когда уроки толкования священных текстов станут для него такими трудными и опасными. Когда он сам учился в Риме, все казалось таким простым и легким рядом с Рембертом Лиландом, исполненным горячей братской приязни…
Первый удар колокола, зовущего к мессе, неторопливо поплыл в воздухе.
— Благодарю вас, и всего доброго. До будущей недели.
Студенты встали с мест, собрали свои записи. Коротко стриженный семинарист в сутане замешкался, дописывая несколько строк на маленьком листке из тех, которыми монахи пользуются, чтобы перекинуться парой слов, не нарушая тишины.
Пока молодой человек, прикусив губу, складывал листок вдвое, отец Нил рассеянно заметил, что ногти юноши обкусаны. А тот наконец встал и прошел мимо преподавателя, даже не взглянув на него.
Пока отец Нил переодевался в церковное облачение в ризнице, где приятно пахло свежим воском, тот, в сутане, проскользнул в общую залу и подошел к шкафчикам, отведенным для святых отцов, бросил проворный взгляд вокруг, чтобы убедиться, что в зале никого нет. И вот уже рука с обкусанными ногтями сунула сложенный листок в шкафчик отца настоятеля.
12
Если бы не венецианские бра, рассеивающие теплый приглушенный свет, лишенная окон зала выглядела бы мрачной. Всю ее длину занимал стол из вощеного дерева, за которым стояли тринадцать кресел, касающиеся спинками стены. В центре высилось некое подобие трона в неаполитанско-анжуйском стиле, обитого пурпурным бархатом. А по обе стороны от него — по шесть кресел попроще, хотя и с подлокотниками, украшенными львиными головами.
Драгоценные занавеси входной двери маскировали ее массивную броню.
Около пяти метров отделяло стол от противоположной, почти голой стены. В кирпичную кладку был вмурован темный деревянный щит. На фоне красного дерева, выделяясь своей мертвенной бледностью, белело окровавленное распятие, выполненное в янсенистском духе, в свете двух скрещивающихся прожекторов, спрятанных над центральным троном.
На этом троне никто никогда не сидел, да и впредь не будет; он призван напоминать членам собрания, что присутствие Учителя, главы Союза Святого Пия V, хотя и чисто духовно, зато вечно. Иисус Христос, Бог воскресший, на протяжении уже четырех столетий восседает на нем в Духе и Истине, окруженный двенадцатью верными апостолами, шестеро одесную, шестеро — ошую. В точности так, как за той последней трапезой, которую он разделил с учениками две тысячи лет назад в высокой зале одного из домов западного квартала Иерусалима.
Все двенадцать кресел были заняты людьми в широких стихарях, с низко надвинутыми капюшонами. Лица были скрыты простой белой тканью так, что на виду оставались лишь глаза, а длинные рукава умышленно скроены с таким расчетом, чтобы скрывать запястья и даже пальцы участников. Сидящие располагались за столом таким образом, что рассмотреть прочих собравшихся без дополнительных усилий было невозможно.
Члены этой ассамблеи обращались не друг к другу, а всегда как бы только к окровавленному распятию, которое видели перед собой. И если остальные слышали сказанное, то потому лишь, что так было угодно Учителю, безмолвствовавшему на кресте.
В этой комнате, само существование которой было тайной для простых смертных, Союз Святого Пия V ныне держал совет, собравшись в три тысячи шестьсот третий раз со дня своего основания.
Лишь один участник совета, занимавший место справа от пустого трона, сидел, положив на стол не прикрытые рукавами пухлые руки, и, когда он встал, на одной из них сверкнул темно-зеленый драгоценный камень. Машинально разгладив стихарь на внушительном животе, обладатель перстня заговорил:
— Братья мои, три внешних вопроса, которые мы уже обсуждали, ныне снова привлекли наше внимание. Есть и четвертый, внутренний вопрос, и он… мучителен для каждого из нас.
Эти слова были встречены молчанием: все ждали продолжения.
— По просьбе кардинала-префекта Конгрегации мы занялись той маленькой проблемой, что недавно возникла во Франции, в бенедиктинском аббатстве, находящемся под весьма строгим надзором. Итак, вы поручили мне разобраться. Что ж, я имею удовольствие сообщить, что проблема решена: монах, чьи высказывания вызвали наше беспокойство, отныне не сможет вредить святой католической церкви.
Один из присутствующих почти неприметно приподнял сложенные руки в знак, что хочет говорить:
— Вы хотите сказать, что он был… устранен?
— Я не употреблю этого слова, ибо оно offensivum auribus nostris[3]. Возвращаясь в свое аббатство, он случайно выпал из поезда и умер на месте. Французские власти пришли к заключению, что он покончил с собой. Итак, я прошу вас помолиться за него, самоубийство — ужасное преступление пред лицом Творца.
— Брат ректор, стоило ли обращаться за помощью к иностранному агенту, чтобы устроить все это?
— Этого палестинца я встретил в Каире много лет назад. С тех пор он не раз доказывал свою надежность. В данном случае его интересы совпадали с нашими, и он это прекрасно понял. В помощь себе он привлек своего старого знакомого, израильского агента. Люди из Хамаса и Моссада отчаянно враждуют, но, когда нужно, они могут выступить единым фронтом против общего противника. И сейчас это было нам на руку. Важен только результат, достичь которого мы должны решительно и быстро. Я гарантирую, что оба агента будут молчать. Они получили хорошее вознаграждение.
— Вот именно, несколько тысяч долларов — внушительная сумма. Такие траты впрямь оправданны?
На этот раз ректор повернулся к тому, кто задал вопрос:
— Брат мой, эта сумма просто смешна в сравнении с выгодой, которую она может принести. Я полагаю, можно говорить не о тысячах, а о миллионах долларов. Если все сложится так, как задумано, мы наконец получим средства, необходимые для осуществления нашей миссии. Помните, как внезапно разбогатели тамплиеры? Так вот, у нас есть надежда припасть к тому же источнику. И мы сможем добиться успеха там, где они потерпели поражение.
— А что с плитой в Жерминьи?
— Я к этому и веду. Это открытие прошло бы незамеченным, если бы отец Андрей не проведал о нем лишь потому, что его аббатство расположено по соседству. Он отправился туда и первым прочел надпись, о которой мы знаем из архивов ордена тамплиеров.
— Об этом вы уже говорили.
— Когда отец Андрей был в Риме, из его слов стало понятно, что он уловил некую связь между теми разрозненными сведениями, которыми обладал. Все это очень опасно, и неизвестно, к чему может привести. Наш Союз основан святым папой Пием V, — ректор поклонился пустому трону, — именно затем, чтобы не позволить ни малейшему пятну или даже тени коснуться памяти и образа Учителя. — И он поклонился распятию. — Любой, кто пытался даже помыслить об этом, был уничтожен. Чаще всего вовремя, но иногда — слишком поздно, и это порождало чудовищные беспорядки, причиняло немало страданий: вспомните Оригена, Ария или Нестора, многих других… Мои люди сделают все необходимое: плита из Жерминьи будет надежно укрыта от чужих взглядов.
Собравшиеся облегченно вздохнули.
— Однако у нас появилась другая проблема, тесно связанная с первой, — продолжал ректор.
Некоторые из присутствующих, не удержавшись, повернулись к нему.
— Покойный отец Андрей обзавелся, можно сказать, учеником. С ним сдружился один из монахов того же аббатства, преподаватель схоластиката, и похоже, что он тоже проникся идеями несчастного отца Андрея. Возможно, это ложная тревога, вызванная донесением отца настоятеля аббатства. Один из студентов, посещающих курс экзегезы, который ведет этот преподаватель, некто отец Нил, сообщил, что последний высказывал по поводу Евангелия от Иоанна суждения, идущие вразрез со святой доктриной. Принимая во внимание сложившуюся обстановку, отец настоятель счел уместным незамедлительно известить нас.
Братья насторожились: Евангелие от Иоанна имело самое прямое отношение к их миссии, и дело требовало самого пристального рассмотрения.
— Конгрегация должна следить за тем, чтобы преподаватель — богослов не допускал вольностей, толкуя священное писание. И этот монах будет не первым, кого призовут к порядку.
Если бы кто-то наблюдал за происходящим, он почувствовал бы, как усмехнулись собравшиеся.
— …но обстоятельства сложились исключительные. Отец Андрей был высокообразован и одарен острым, пытливым умом. Сам он уже не сможет причинить вреда, но что он успел передать своему ученику, отцу Нилу? Судя по донесению отца настоятеля, их связывала тесная дружба, что для аббатства и само по себе явление прискорбное. Иначе говоря, вопрос в том, заразился ли отец Нил теми же пагубными идеями? У нас пока не было способа выяснить это.
Один из братьев приподнял сложенные руки:
— Скажите, брат ректор, этот отец Нил… Ему, случаем, не приходится тоже путешествовать Римским экспрессом?
— Разумеется, это можно было бы устроить. Но о втором самоубийстве в том же аббатстве нечего и думать. Тут уж нам не убедить ни французское правительство, ни общественность. Однако же дело не терпит отлагательства. Этот монах регулярно читает лекции и, похоже, решил поделиться со студентами некоторыми своими выводами. Что это за выводы, мы не знаем, но не стоит рисковать; кардинал возлагает большие надежды на схоластикат монастыря Сен-Мартен и хочет, чтобы он был совершенно безупречен.
— Что вы предлагаете?
Ректор сел, спрятав руки в рукава стихаря.
— Пока не знаю. Необходимо, и притом немедленно, выяснить, что известно этому монаху, и, если он еще не докопался до чего-то серьезного, нужно выяснить, до чего он способен дойти своим умом. Я буду держать вас в курсе.
Он выдержал паузу, устремив напряженный взгляд на распятие, на слоновой кости которого темнела кровь. Следующий вопрос был потруднее, и приступать к нему следовало с большой осторожностью.
— Ни один из вас не знает ничего или почти ничего о брате, сидящем рядом. Таким образом, лишь на меня одного ложится тяжелая обязанность оберегать наш Союз.
Ректор Союза Святого Пия V назначается пожизненно. И только он один знает имена остальных одиннадцати братьев. Они же знают лишь его одного. Когда он чувствует приближение кончины, то сам избирает своего преемника среди братьев. Начиная с 1570 года большинство ректоров были достаточно благоразумны, чтобы умереть до наступления старческого слабоумия. Подчас, конечно, приходилось помогать тем, кто дорожил своей жизнью больше, чем служением Учителю. Дееспособность главы Союза находилась под неусыпным контролем Одиннадцати. И сам ректор, в свою очередь, следил за тем, чтобы никто из братьев не нарушал Устава. Если же такое случалось, то с провинившимся поступали вполне определенным образом. Для подобных случаев существовала особая процедура, которую и предстояло сейчас применить по отношению к одному из братьев.
— Как ни горько это признавать, но оказалось, что один из нас не способен более соблюдать наше главное требование — не разглашать информацию о делах Союза. Преклонный возраст, несомненно, притупил его бдительность.
Один из собравшихся вздрогнул, рукава стихаря соскользнули, обнажив костлявые руки со вздувшимися венами:
— Прикройтесь, брат! Итак, вам известен порядок. С сегодняшнего вечера мы все должны посвятить себя посту, молитве и суровому покаянию, как полагается перед тем, как один из нас завершит свои земные дела. Мы должны помочь нашему брату подойти к последнему порогу. Накануне следующего собрания объявляется строжайший пост, а с этого дня самобичевание хлыстом во время утреннего и вечернего чтения молитвы «Помилуй меня, Боже» или чаще. Ведь мы испытываем искреннюю привязанность к нашему брату, долгое время разделявшему с нами бремя ответственности, а теперь ему предстоит нас покинуть.
Кальфо не любил эту процедуру. Он устремил исступленный взор на распятие. С тех пор как он возглавил Союз, здесь еще и не такое происходило…
— Благодарю вас. Посвятим же оставшееся до следующего собрания время тому, чтобы тайно, но со всем усердием проявить любовь к нашему брату.
Братья встали и направились к бронированной двери в дальнем конце зала.
13
Евангелия от Матфея и Иоанна
Восходящее солнце пасхальной субботы коснулось черепицы крытой галереи вокруг имплювиума — мощеного камнем бассейна для сбора дождевой воды. Дом был построен в римском стиле, как и пристало жилищу богатого иудея. Домохозяин, измученный событиями двух последних дней, когда все надежды разом обратились в прах, присел на бортик бассейна и тяжко вздохнул. Иисуса выдали Пилату, вчера в полдень он был распят… это не просто удар, это кошмарное поражение.
Одиннадцать, словно перепуганное стадо, сгрудились в высокой зале. Надо идти туда. Собравшись наконец с духом, он стал медленно подниматься на второй этаж. Толкнул дверь — ту самую, порог которой Иуда переступил тогда, в четверг вечером. В просторной зале горел лишь один простой светильник. Он различил силуэты людей, сидевших на полу. Все молчали. Одиннадцать объятых ужасом галилеян, что прячутся здесь, — вот и все, что осталось от мечты о новом Израиле.
Один из них, отделившись от стены, приблизился к нему.
— Ну что?
Петр смотрел с презрением.
«Он никогда не смирится с поражением и, даже скрываясь под моим кровом, не признает, что чем-то мне обязан, — как прежде не желал признавать особых отношений между мною и Иисусом».
— Вчера вечером Пилат разрешил снять Иисуса с креста. Было уже слишком поздно, чтобы совершить похоронный обряд, тело временно поместили в ближайший склеп, который принадлежит Иосифу Аримафейскому — он из сочувствующих.
— Кто переносил тело?
— Никодим, он нес за плечи, Иосиф за ноги. И еще там было несколько женщин-плакальщиц — Мария из Магдалы с подругами, мы их знаем.
Петр сжал кулаки:
— Какой позор, какая… какая низость! В последний путь покойного должны проводить члены его семьи! А там не было ни Марии, ни Иакова, его брата! Никого, кроме просто сочувствующих! Учитель умер, как собака.
Домохозяин насмешливо посмотрел на него:
— Разве Мария, его мать, или Иаков и другие его братья или сестры виноваты в том, что вы готовились к бунту? Или в том, что в течение нескольких часов все так ужасно переменилось? Кто повинен в том, что Каиафа солгал и приказал отвести Иисуса к Пилату? И что распяли его без промедления, без суда? Кого во всем этом винить?
Петр опустил голову. Это именно он задумал восстание, связавшись с друзьями — зелотами, и он же уговорил Иуду взяться за такое грязное дело. Он понимал, что вся вина на нем, но признаться в этом не мог. Особенно перед лицом самозванца, который тем временем продолжал обличать его.
— А где был ты, когда Иисуса укладывали на крест, когда ему в запястья вбивали гвозди? Я-то был там вчера в полдень, прятался в толпе. Я слышал эти страшные удары молотка, видел, как кровь и вода хлынули из раны, когда легионер добил его копьем, Я здесь единственный, кто может подтвердить, что Иисус Назареянин умер как человек, без единой жалобы или упрека нам, толкнувшим его в западню. А вы все — где были вы?
Петр не ответил ни слова. Предательство Каиафы, выдача Иисуса римлянам — эти страшные события разрушили все их планы. Когда Учитель умирал, Петр, как и остальные, прятался где-то в бедных кварталах города, лишь бы подальше от римских легионеров, подальше от западных ворот Иерусалима и от этих крестов. Да, только Домохозяин там был, лишь он один действительно все видел, отныне только он сможет засвидетельствовать мужество и достоинство Иисуса в его смертный час. Теперь этот самозванец все время будет лезть вперед и еще больше возгордится!
Надо перехватить инициативу. Главный здесь все-таки он, Петр! Он увлек домохозяина к окну:
— Пойдем, поговорить надо.
Низкие тучи закрыли небо Иерусалима, за окном потемнело, будто уже надвигалась ночь. Несколько мгновений Петр вглядывался во мрак, потом обернулся и, прерывая тягостное молчание, сказал:
— У нас два дела, оба срочные. Прежде всего тело Иисуса — никто из нас не согласится, чтобы его бросили в общую яму, как всех приговоренных к смерти. Это было бы оскорблением его памяти.
Домохозяин покосился на едва различимые фигуры в глубине залы. Совершенно очевидно, что никто из них не сможет обеспечить Учителю достойного погребения. Иосиф Аримафейский тоже не согласится, чтобы тело Иисуса долго оставалось в его фамильном склепе. Нужно что-то придумать.
— Думаю, выход есть. Ессеи всегда считали Иисуса своим, хотя он никогда не признавал себя членом их секты. Я долгое время состоял в их мирской общине, так что хорошо их знаю. Мне кажется, они согласятся перенести тело Учителя в пустыню, в один из своих некрополей.
— Ты можешь быстро связаться с ними?
— Елеазар живет неподалеку, я возьму это на себя и поговорю с ним. А второе дело?
Петр посмотрел на собеседника в упор. Тучи тем временем немного разошлись, и грубые черты его лица стали еще резче в бледном свете пасмурного дня. Сейчас с Домохозяином говорил бывший зелот, и голос его прозвучал жестко:
— Иуда. Но это уже моя забота.
— Иуда? Что с ним?
— Ты знаешь, что сегодня утром он явился в храм и устроил скандал? Знаешь, что он во всеуслышание обвинил первосвященника в вероломстве, призывал Бога в свидетели договора, заключенного между ним и Каиафой? Целая толпа это слышала. Евреи верят, что один из них теперь должен умереть от руки Божьей. Каиафе это ведомо, он арестует Иуду, тот заговорит, и тогда мы оба будем разоблачены. Священнослужителям это безразлично. Если они узнают, что Учителя схватили из-за нас, все пропало. Никто не поверит, что мы хотели лишь оградить его от опасности, и никакого будущего у нас уже не будет. Понимаешь?
Домохозяин изумленно смотрел на галилеянина. «Что еще за будущее, — думал он, — мерещится тебе, несчастный? Ты и так насилу уцелел после провала своей безумной затеи. Какое у тебя, бедолага, может быть будущее, кроме как вернуться к своим рыболовным сетям? Да и лучше бы ты их никогда не оставлял?»
Но вслух он ничего не сказал. Петр опустил голову, на лицо его упала тень.
— Иуда спятил, он становится опасным. Нельзя допустить беды. Но об этом ты не думай, я с ним разберусь.
И он коснулся кинжала, висевшего на боку.
14
Деяния апостолов
Оставив Домохозяина в недоумении, Петр вышел из залы, обогнул бассейн и выскользнул на улицу. Он знал, где искать Иуду.
В это ненастное утро город был безлюден. Петр зашагал в сторону бедных кварталов. Чем дальше он уходил, тем уже становились здесь сплошь немощеные улочки. Песок похрустывал под его сандалиями. Перед одним из домов он остановился и постучал.
Из-за двери выглянула женщина, закутанная в покрывало, и посмотрела на него с ужасом. — Петр! Ты? В такое время?
— Я пришел не к тебе, женщина. Мне нужен Искариот. Он здесь?
Не приглашая гостя войти, она понизила голос, зашептала:
— Да, он пришел ночью, совсем обезумевший. Нет, правда, он явно не в себе… Умолял спрятать его до окончания празднеств. Говорил, что он самого первосвященника обвинил в злодеянии, да еще Бога в свидетели призвал. Теперь кто-то из них должен умереть.
— Ты же во все это не веришь?
— Я так же, как и ты, следовала за Иисусом. Он учил нас не верить этим сказкам.
Петр улыбнулся:
— Стало быть, бояться тебе нечего. Я пришел успокоить Иуду. Господь справедлив, он знает, что правда на стороне Иуды. Только зря он призвал Бога в свидетели. Попроси его выйти, мне надо кое-что ему сказать.
Женщина помедлила, потом захлопнула дверь.
Апостол Петр прошелся взад-вперед. Этот тупичок образовывали три низеньких домика, внешние ставни окон были затворены: Иерусалим еще дремал после ночи, проведенной за чтением пасхальных молитв.
Шум отворяемой двери заставил его вздрогнуть.
— Петр! Шалом!
Появившийся Иуда был очень бледен: волосы всклокочены, глаза запали, выглядел он потерянно. Петр не ответил на его приветствие, а лишь кивнул головой.
Иуда забеспокоился и тут же начал оправдываться:
— Если бы ты знал, что случилось… Нас предали, Петр, нас обманули! И кто? Сам первосвященник! Он поклялся, что Иисусу ничто не угрожает. А вчера на заре я увидел, как Учителя вели к Пилату, связанного… Тогда…
— Тогда ты спятил! — отрезал Петр.
— Я хотел напомнить Каиафе о нашем договоре, я призвал Бога в свидетели.
— А тебе известно, что это означает по вашим нелепым поверьям?
Иуда повесил голову, нервно сжал руки:
— Всякая клятва дается перед лицом Предвечного. Каиафа поклялся мне и дал даже денег в залог своих слов, а Иисуса все-таки казнили, как злодея! Теперь лишь Предвечный может нас рассудить.
— Разве Иисус не учил нас, что нельзя клясться пред престолом Всевышнего, ибо это его оскорбляет?
Иуда покачал головой:
— Господь судит, брат, он должен судить нечестивых…
«Вот что делают священнослужители, — подумал Петр. — Превращают нас в рабов, внушая веру в нелепые предрассудки. Прежде всего Израиль нужно избавить именно от этого, с Иисусом или без него. Однако Иуда для нас уже потерян — слишком поздно».
— А что потом, Иуда?
— Потом всему придет конец. Нам ничего другого не осталось, кроме как возвратиться в Галилею, чтобы искупить то, что мы живы, а Учитель мертв. Все кончено, Петр!
Апостол шагнул к Иуде, во взгляде которого мелькнуло недоверие. Чтобы успокоить его, Петр улыбнулся; этот человек — жертва властей Иудеи, да упокоится с миром! Потом он выхватил кинжал, вонзил его Иуде в низ живота и с гримасой отвращения рванул клинок вверх, до грудной кости.
— Бог рассудил, Иуда, — прошептал он в лицо умирающему. — Он всегда судит; Каиафа будет жить, на горе Израилю.
Широко раскрыв от ужаса глаза, Иуда молча рухнул ничком, его внутренности вывалились на песок.
Петр медленно отступил и огляделся: его никто не видел. Он неторопливо обтер изнанкой туники оружие, затем поднял глаза. Яркое пасхальное солнце, выйдя из-за туч, озарило землю Израиля, напоминая ему об исходе из египетского рабства и чудесном переходе через Красное море.
В тот день возник народ — Народ Божий. После этого двенадцать колен Израилевых скитались по пустыне, пока не достигли Ханаана, основав старый Израиль, которому ныне пришел конец. Пришло время родиться новому Израилю, и создадут его двенадцать апостолов. Их уже только одиннадцать? Что ж, Господь сам укажет, кто заменит Иуду.
Но только не Домохозяин! Тот, кто объявил себя возлюбленным учеником, не должен стать одним из Двенадцати. Никогда.
Петр перешагнул через труп Иуды. Когда тело найдут, все решат, что это жертва зелотов. У них принято вспарывать животы своим недругам. Он бросил прощальный взгляд на безжизненное тело: «Отныне я — тот камень, на коем создастся Церковь, и смерть не будет властна над нами. Это еще не конец, Иуда».
15
Со смерти отца Андрея прошло двое суток. Отец Нил смотрел на разложенные на столе бумаги — плоды многолетних изысканий, и думал о том, что ему наконец удалось пролить свет на подлинные обстоятельства смерти Иуды, которые были предопределены еще за несколько дней до распятия. Иуда не повесился, его убили. Все, что случилось дальше, можно понять, только тщательно изучая тексты и стремясь найти смысл, скрытый между строк. Историк может обнаружить истину, только сопоставив множество косвенных свидетельств.
Теперь нужно так же внимательно изучить таинственную записку, найденную в руке мертвого друга. А для этого необходимо попасть в исторический отдел библиотеки. Нового библиотекаря назначат лишь после погребения, а оно состоится завтра.
Он прикрыл глаза, давая волю нахлынувшим воспоминаниям.
— Отец Нил, я только что узнал, что рабочие, приступив к реставраций Жерминьи, обнаружили какую-то старинную надпись. Я хочу на нее посмотреть. Вы не могли бы поехать туда со мной? Я должен сделать снимки с орлеанских манускриптов, а по пути загляну в Жерминьи-де-Пре…
Они припарковались на площади маленького селения. Отцу Нилу было приятно вновь увидеть эту церковь: архитектор Карла Великого пожелал воссоздать здесь уменьшенную копию собора в Экс-ла-Шапель, построенного примерно в 800 году. Свет проникал внутрь через великолепные витражи, создавая в храме удивительную атмосферу тишины и покоя.
Приблизившись к алтарю, отец Андрей прошептал:
— Здесь все окутано тайной!
Слова его были почти неразличимы из-за стука молотков, которыми рабочие сбивали штукатурку со стены храма. Между двумя входами, прямо у пересечения продольного и поперечного нефов темнел пролом. Отец Андрей направился к нему:
— Прошу прощения, господа, я бы хотел взглянуть на плиту с надписью, которую вы, как я слышал, обнаружили во время работ.
— А, камень, который мы нашли под штукатуркой? Мы его выломали из стены и положили на ту перекладину, слева.
— Можно его осмотреть?
— Без проблем. Пока им никто не интересовался.
Пройдя несколько шагов, монахи увидели на полу квадратную плиту со следами штукатурки. Отец Андрей сначала наклонился, потом встал на колени:
— Ага… Это остатки того самого раствора, которым плиту укрепляли в стене. Плита находилась на самом виду, перед глазами прихожан. Стало быть, ей придавали особое значение… Но позднее — видите? — ее замазали штукатуркой.
Отец Нил был воодушевлен не меньше своего спутника. Эти двое никогда не воспринимали историю как что-то мертвое, прошлое было для них так же живо, как и настоящее. В это самое мгновение они словно услышали голос императора, который много веков назад приказал высечь надпись на плите и поместить ее на видном месте.
Отец Андрей достал платок и осторожно протер поверхность плиты.
— Такая же штукатурка использовалась при строительстве романских храмов. Видимо, эту плиту замазали через два или три столетия после установки. Значит, однажды возникла надобность спрятать надпись от посторонних глаз. Кому же это понадобилось?
Под штукатуркой, рассыпавшейся в пыль, показались буквы.
— Литеры эпохи Каролингов. Похоже… это текст Символа веры Никейского собора!
— Символа веры?
— Именно. Но зачем он здесь, в этом императорском храме? И, главное, я не могу понять…
Отец Андрей неожиданно замолчал, всматриваясь в надпись, потом встал, стряхнул пыль с одежды и положил отцу Нилу руку на плечо:
— Друг мой, в этом варианте Никейского Символа есть нечто, ставящее меня в тупик: я никогда еще такого не видел.
Они быстро сделали несколько снимков и ушли; у рабочих начался обеденный перерыв, и они собирались закрыть здание.
Отец Андрей молчал всю дорогу до самого Орлеана. Когда же отец Нил приготовил фотоаппарат для дальнейшей работы, он остановил его:
— Нет, не снимайте больше ничего на эту пленку. Уберите ее, а для рукописей, пожалуйста, используйте другую.
Весь обратный путь отец Андрей был мрачен. Когда пришло время выходить из машины, он повернулся к отцу Нилу, лицо его было необычайно серьезным:
— Мы напечатаем снимки Жерминьи в двух экземплярах. Один я немедленно отошлю факсом знакомому сотруднику библиотеки Ватикана. Интересно, что он об этом думает. Специалистов, способных разобраться в особенностях надписей эпохи раннего Средневековья, очень мало. А второй экземпляр храните как зеницу ока, у себя. Кто знает, что может случиться.
Две недели спустя отец Андрей пригласил отца Нила в свой кабинет. Казалось, он чем-то озабочен.
— Я только что получил письмо из Ватикана: меня вызывают, чтобы я отчитался о переводе коптского манускрипта. Не очень понятно, зачем для этого мне самому туда ехать. К письму приложена записка от моего знакомого. Он пишет, что получил фотографию плиты в Жерминьи. И все.
Отец Нил был удивлен не меньше своего друга.
— Когда вы едете?
— Отец настоятель утром вручил мне билет на завтра на Римский экспресс. Послушайте, отец Нил… У меня к вам просьба: съездите в Жерминьи, пока меня не будет. Снимки получились не очень четкими, постарайтесь сделать фотографии при боковом свете.
— Что вас тревожит, отец Андрей?
— Пока я больше ничего сказать не могу. Придумайте какой-нибудь повод для поездки и как можно скорее снимите плиту еще раз. Когда я вернусь, мы вместе поразмыслим над снимками.
На следующий день отец Андрей уехал в Рим. И больше не вернулся.
Отец Нил открыл глаза. Нужно исполнить последнюю волю друга. Хотя что он будет делать с новой фотографией без отца Андрея?
Мрачно зазвонил колокол, оповещая всю долину, что завтра будет погребен один из монахов. Отец Нил выдвинул ящик своего стола, сунул руку под пачку писем и похолодел.
Он вытащил ящик целиком, переворошил бумаги. Фотография, сделанная в Жерминьи, исчезла. И записка отца Андрея тоже.
«Немыслимо! Это немыслимо!»
Отец Нил вытряхнул на стол все содержимое ящика. Бесполезно, ни фотографии, ни записки.
Монахи дают обет бедности, они ничем не владеют, и ни одна келья аббатства никогда не запирается. Замки есть только на дверях кабинетов брата эконома и отца настоятеля да трех библиотек.
Однако же келья монаха — это его неприступная крепость для уединения: никто не может в отсутствие хозяина или без его разрешения проникнуть туда. Да и он неукоснительно соблюдал это правило: монахи живут общиной, но каждый из них имеет право остаться наедине с Богом.
Но кто-то пробрался в жилище отца Нила, и не только рылся в его вещах, а даже совершил кражу. Монах взглянул на папки, в беспорядке раскиданные по столу. Да, этот кто-то копался не только в ящике. Самая толстая из папок — та, где хранились материалы по Евангелию от Иоанна, — была сдвинута с обычного места и открыта. Отец Нил, который обращался к этим записям ежедневно с тех пор, как стал вести курс экзегезы, тотчас увидел, что некоторые его заметки лежат в другом порядке. Ему даже показалось, что некоторые листки исчезли.
Порядок жизни бенедиктинского монастыря был грубо нарушен. И для этого нужны были очень серьезные мотивы. Отец Нил смутно чувствовал, что между странными событиями последнего времени существует какая-то связь. Но какая?
Он стал монахом наперекор воле своего неверующего семейства и всю свою жизнь посвятил поиску истины. Только два человека понимали его: Ремберт Лиланд, вместе с которым он четыре года учился в Риме, и отец Андрей. Лиланд теперь работал где-то в Ватикане, отца Андрея больше нет. Отец Нил остался один на один с неразрешимыми вопросами и глухой тревогой, не покидавшей его с начала осени.
Он коснулся папки с материалами о Евангелии от Иоанна. По сути, отец Андрей много раз давал ему понять, что здесь уже достаточно информации, хоть и отказывался сказать больше. И в ту библиотеку, что в северном крыле, так и не пустил: не мог поступить иначе, на то и послушание. Теперь отец Андрей мертв, и, возможно, именно послушание стало тому причиной. А в келье отца Нила устроили форменный обыск, нарушив устав аббатства.
Надо было что-то делать.
До вечерни оставался еще час. Он встал, вышел в коридор и решительно направился к лестнице, ведущей к библиотекам.
Благодаря хорошей зрительной памяти отец Нил до мельчайших подробностей помнил записку отца Андрея. «Коптская рукопись (Апок.)» — наверняка речь идет о коптском апокалипсисе. «Послание апостола», потом три загадочные буквы «М.М.М.» и плита из Жерминьи. Ниточка, связывающая эти несколько таинственных строк, наверняка спрятана где-то там, среди книг библиотеки, к которой у него нет доступа.
Он остановился перед кабинетом отца Андрея, находившимся рядом с отделом «Библейских наук». Если пройти еще шагов двадцать, будет поворот, ведущий в северное крыло, к библиотеке «Исторических наук».
Дверь кабинета библиотекаря так же не имела замка, как и дверь любой монастырской кельи. Отец Нил вошел, включил свет, тяжело опустился на стул. Сколько счастливых часов он провел здесь, беседуя с покойным другом… В комнате ничего не изменилось. На стенах — полки, где появилось много новых книг, пока еще не приписанных ни к одной из трех библиотек. Ниже располагались фотокопии манускриптов, над которыми работал отец Андрей. Коптский апокалипсис должен быть где-то здесь. Может быть, стоит начать поиски именно отсюда?
Он насторожился. На одной из полок в беспорядке лежали негативы рукописей. Среди них он узнал пленку со снимком плиты в Жерминьи. Отец Андрей, собираясь в Рим, оставил ее здесь.
Фотографию у отца Нила украли, а о негативе не подумали или просто не успели осмотреть кабинет библиотекаря. Он встал, решительно взял пленку и сунул в карман. Последняя воля отца Андрея должна быть выполнена…
На спинке кресла висели куртка и брюки — тот самый костюм, что был на отце Андрее в его смертный час. Завтра его похоронят в полном монашеском облачении, а эту одежду больше никто не будет носить, да и следствию она уже не нужна. Слезы подступили, затуманив взгляд, потом в голове отца Нила мелькнула безумная идея. Он схватил брюки, в левом кармане пальцы нащупали ремешок: так и есть, связка ключей! Не колеблясь, он вытащил ее.
Три ключа — та самая связка, что имеется только у библиотекаря и у настоятеля. Самый длинный ключ — такой же, как и у отца Нила, был от центрального крыла, два других должны быть от северного и южного. Занятый трагическими событиями в аббатстве, отец настоятель еще не изъял эту связку. Позже ее передадут преемнику отца Андрея.
На миг отца Нила охватило сомнение в правильности принятого решения. Но тут ему вспомнилось лицо друга, столько раз сидевшего в этом самом кресле, и он, словно наяву, услышал: «Истина, отец Нил, вы ведь ушли в монастырь, чтобы познать ее!» Он сунул связку в карман, вышел в коридор и зашагал в северное крыло библиотеки.
Вот и надпись: «Исторические науки». Если сейчас он отопрет эту дверь, то пути назад уже не будет.
Отец Нил оглянулся, оба коридора, ведущие в центральное и северное крыло, были безлюдны. Решившись, он вставил один из ключей в замочную скважину, повернул — и дверь бесшумно отворилась.
Отец Нил, скромный преподаватель экзегезы, монах, ни разу в жизни не нарушивший устава аббатства, открыл запретную дверь и переступил порог северной библиотеки.
16
Евангелие от Матфея
— Что они делают там, наверху?
Они сидели на каменной скамье возле имплювиума. Занималось утро пасхального воскресенья. В доме царила тишина. Петр, так же как и хозяин дома, чувствовал, что валится с ног от усталости. «Две ночи без сна, да и ели толком последний раз в четверг вечером — в высокой зале, вместе с Иисусом. А потом были арест Учителя, его казнь, убийство Иуды».
Широкие круги темнели у него под глазами. Он повторил вопрос:
— Да что они там делают?
— Ты должен был бы знать об этом лучше меня — не ты ли весь вчерашний день провел здесь, взаперти, пока я вел переговоры с ессеями?
Домохозяин не упомянул о краткой отлучке своего гостя вчерашним утром. Глядя вслед Петру, когда тот выскользнул на улицу, придерживая что-то на левом боку, он обо всем догадался. А ближе к вечеру по Иерусалиму поползли слухи, что галилеянин, убитый зелотами, — тот самый, что накануне призвал Бога в свидетели своего спора с Каиафой, и Бог вынес свой приговор, покарав Искариота.
— Думается мне, — Петр криво усмехнулся, — что большинство из них сейчас спит. Однако скажи, ессеи помогут нам?
— Да, у меня добрые вести. Они считают Иисуса одним из израильских праведников и согласны похоронить его на одном из своих кладбищ. Но перенести тело можно не раньше, чем протрубят в рог, возвещая окончание Пасхи. Ты же знаешь, ессеи неукоснительно соблюдают ритуалы и ни за что не прикоснутся к мертвому телу, пока праздники не закончатся.
Петр покосился на собеседника:
— И где его похоронят? Под Кумраном?
Домохозяин отозвался не сразу. Сперва помолчал, глядя на Петра в упор. Потом ответил:
— Понятия не имею. Этого они мне не сказали. «А когда скажут, ты об этом не узнаешь. Ни за что».
17
Отец Нил осторожно прикрыл дверь библиотеки. Много лет он многие годы посещал ее беспрепятственно, но, когда учредили схоластикат, замки были заменены, и последние четыре года вход в эту часть северного крыла для него был закрыт.
Он почувствовал знакомый запах, и ему показалось, будто здесь все по-прежнему. Сколько раз он, бывало, заходил в хранилище, чтобы прихватить к себе в келью новую книгу! И каждый раз это было похоже на обретение нового друга, начало новой беседы. Книги всецело, безраздельно преданны тому, кто ищет в них ответы на свои вопросы тактично, но настойчиво. А отец Нил был чрезвычайно упорен в поисках истины.
Он, выросший среди материалистов, почитавших лишь благополучие и успех, однажды увидел впереди свет. Как это случилось, он уже не помнил. Но именно тогда он понял, что мир — это не только то, что мы просто видим, слышим и осязаем. В душе его зародилось желание постигнуть то, что за гранью видимого, ведь этот путь стоит того, чтобы потратить на него всю жизнь.
С тех пор отцу Нилу стало казаться, что в этом и заключается единственный смысл бытия, достойный свободного человека. А поиски незримого казались ему единственным занятием, не подвластным никакому давлению извне.
Входя в библиотеку северного крыла, он еще не понимал, как глубоко заблуждался. Ведь ему пришлось обманом проникнуть сюда, а его единственный друг в аббатстве погиб, возможно, лишь потому, что бывал здесь слишком часто.
Перед ним тянулись ряды книг, хранящих историю всего человечества.
— Книги не предлагают готовых знаний, — говаривал отец Андрей. — Они дают лишь пищу для размышлений. Ваше дело добыть из книг то, что вам необходимо и переосмыслить прочитанное. Я много учился, отец Нил, а узнал так мало. Не отклоняйтесь с пути: вы хотите постичь тайну самого Господа, а разгадка существует по ту сторону слов. Книги будут уводить вас от цели, заставят метаться из стороны в сторону, если вы не сумеете подчинить себе слова и образы, содержащиеся в них. В этих книгах есть все, но для большинства это не больше, чем разбросанные в беспорядке камни. Вам нужно построить из них здание. Только будьте осмотрительны: не всякая архитектура приемлема, многие решения недопустимы. Пока вы остаетесь в рамках того, что признано идеологически корректным, проблем не будет. Если вы станете повторять то, что уже было сказано до вас, и строить так, как строили веками, вас будут превозносить. Но если из тех же камней вы построите что-то новое, тогда берегитесь…
Вот и первый стеллаж — XX век. Библиотекарь послевоенной поры — ныне он покоится на кладбище — не слишком строго следовал традиционной классификации Дьюи[4], он расставлял книги в хронологическом порядке, что было удобнее для монахов. Стеллажи, что интересовали отца Нила, находились в самом дальнем конце помещения. Пройдя туда, он остановился в изумлении.
Еще четыре года назад для материалов по I веку хватало двух стеллажей, а расставлены они были по географическому принципу — имелись разделы, посвященные Палестине, другим регионам Среднего Востока, латинскому и греческому Западу… Теперь здесь уже было полдюжины стеллажей, два из них почти полностью занимал палестинский раздел! Он наконец нашел то, что тщетно разыскивал в единственно доступной ему библиотеке западного крыла, — древние мидрашим: сборники толкований скрижалей времен фарисеев, псалмы и вероучительные книги, не вошедшие ни в Ветхий, ни в Новый Завет…
Пройдя еще несколько шагов, он остановился перед стеллажом с этикеткой «Кумран». Начал было перебирать книги, но внезапно замер, наткнувшись на толстый том между изданиями рукописей Мертвого моря. И имени автора или издателя на корешке не было, только три буквы, написанные рукой отца Андрея: «М.М.М.».
С бьющимся сердцем отец Нил вытащил книгу. «М.М.М.» — те самые буквы, что были в предсмертной записке отца Андрея!
В тусклом свете лампы он открыл то, что принял сначала за книгу. Но нет, это была пачка сброшюрованных ксерокопий. Отец Нил сразу узнал характерную каллиграфию рукописей Мертвого моря. Вот, стало быть, что значили эти три загадочные «М»: просто-напросто «Манускрипты Мертвого моря»… Откуда взялись эти тексты?
На первой странице, внизу, он с трудом разобрал выцветший штамп; «Хантинтонгская библиотека, Сан-Марино, Калифорния». Из Америки, значит!
Ну да, однажды отец Андрей сказал, понизив голос, хотя дверь его кабинета была закрыта:
— Манускрипты Мертвого моря были найдены как раз перед образованием государства Израиль, в 1947–1948 годах. В той неразберихе все спешили купить, а то и украсть как можно больше этих свитков, которые, как предполагалось, могут произвести революцию в христианском миропонимании. Изрядное их количество заполучили американцы. Потом международная редакция, которой была поручена публикация найденных текстов, совершила поистине невозможное, лишь бы задержать их выход в свет. Вот тогда-то Хантинтонгская библиотека и решила опубликовать все, что находилось в ее фондах, в виде ксерокопий и распространить их среди специалистов. Надеюсь, — лукавая улыбка озарила лицо библиотекаря, — и мы сможем раздобыть экземпляр. Это самиздат, как в советские времена, приходится распространять тексты из-под полы!
— Почему так получается, отец Андрей? Кто препятствует изданию этих манускриптов? И почему боятся их огласки?
Но тут, как это уже бывало во время их разговоров, отец Андрей смущенно замолк. И потом перевел разговор на другую тему.
С минуту отец Нил колебался, вообще-то он не должен был выносить из библиотеки эти тексты. Всякий раз, когда монах берет с полки книгу, он обязан оставить вместо нее листок с подписью и датой. Такая система позволяет избегать утери книг и дает возможность следить за тем, что читают монахи. С некоторых пор такой контроль весьма ужесточился, и отец Нил об этом знал.
Он быстро решился: «Преемник отца Андрея еще не назначен. Маловероятно, что кто-нибудь заметит исчезновение книги всего на одну ночь».
Словно вор, он прокрался к выходу, прижимая к груди добычу, и выскользнул за дверь. Коридор северного крыла по-прежнему был пуст.
В его распоряжении была только одна ночь.
А в исторической библиотеке на месте изъятой книги осталось пустое место. Это означало, что кто-то из монахов нарушил устав аббатства Сен-Мартен.
18
Пока отец Нил, завесив окно полотенцем, листал в ночной тиши страницы «М.М.М.», тем самым вновь нарушив устав, в нескольких километрах от аббатства двое мужчин вышли из запыленного автомобиля. Согревая дыханием пальцы, коченеющие от ноябрьской стужи, тот, что был за рулем, смотрел на маленькую церковь, витражи которой блестели во мраке. Он чувствовал возбуждение, лицо его застыло, по телу пробежала дрожь.
Его напарник прошел вперед и осмотрелся. Вокруг было тихо. Щиты, огораживающие место реставрационных работ, преграждали им путь, но их можно раздвинуть и протащить плиту. Проще простого!
Он обернулся и негромко обронил по-арабски:
— Бисмилла, йалла![5]
— Кен, барух Адонаи! [6] — отозвался его спутник, доставая из машины кожаный мешок.
Несколько минут спустя они вышли из церкви, с трудом волоча тяжелую каменную плиту. Протискиваясь обратно между щитами, тому из них, кто собирался сесть за руль, стоило немалого труда унять сердцебиение: «Надо успокоиться, успокоиться…» — мысленно твердил он себе.
Площадь перед церковью была все так же тиха и пустынна. Они уложили плиту в багажник, сели в машину, водитель вздохнул: до Рима путь не близкий… При тусклом свете лампочки, освещавшей салон автомобиля, можно было разглядеть шрам возле его левого уха. Дверца автомобиля захлопнулась.
Зеленый камень в красных прожилках, оправленный в серебро, сверкнул, когда пухлая рука монсеньора Кальфо потянулась к роскошным волосам девушки. Ныне, на исходе XX столетия, он бы охотно воссоздал изысканные обычаи античности: в катакомбах Рима многое подсказывало, что публичные дома и храмы являли собой единое, органичное целое. К разным источникам единого экстаза вели одни и те же врата.
Этот вечер монсеньор проводил в своих апартаментах близ замка Сан-Анжело, откуда виден величественный купол над гробницей Петра, и на нем не было ничего, кроме епископского перстня.
«Союз божественного и плотского… Сам Бог принял образ человека именно затем, чтобы этот союз стал возможным. Ну же, красавица, вознеси меня на небеса!»
19
Евангелия от Марка и Луки
Со стороны Храма донесся протяжный звук рога, который приветствовал восход солнца и окончание Пасхи — воскресное утро 9 апреля. Четверо молодых людей решительно вошли на кладбище, что перед западными воротами Иерусалима. Один из них нес железный брус, чтобы откатить тяжелый могильный камень. Ничего, им не впервой.
Войдя в гробницу, они нашли труп казненного на плите. На теле были видны глубокие рубцы, оставленные бичами, следы от гвоздей. Из раны на боку еще слегка сочилась кровь. Вошедшие горестно возопили:
— Предвечный! Посмотри, что они делают с твоими сынами, пророками Израиля! Да падет на них проклятием пролитая кровь! Сколько страданий перенес этот праведник!
Прочитав заупокойную молитву, они накинули на себя длинные белые балахоны: перенос тела в чистую землю был для них религиозным обрядом и совершался в белых одеждах. Любой случайный путник поймет, что перед ним ессеи, которые переносят тело, чтобы перезахоронить его на своем кладбище.
В пятницу вечером все происходило слишком быстро, и теперь близкие покойного, конечно, придут сюда, чтобы обрядить мертвеца. Найдя гробницу пустой, они ужаснутся. Надо бы их предупредить.
Поэтому двое из ессеев в белых одеждах удобно устроились — один в головах, другой в изножии надгробной плиты, — ожидая родных покойного, а двое других, забрав труп, пустились в долгий путь к одному из ессейских некрополей в пустыне.
Оставшимся в гробнице ждать пришлось не долго, солнце еще не успело подняться высоко над горизонтом, как послышались торопливые шаги. Подошли две женщины из окружения Иисуса. Они увидели, что тяжелый надгробный камень лежит в стороне от входа, и попятились. Одна из них всё же отважилась шагнуть вперед, но, увидев внутри склепа две фигуры в белых одеждах, испустила вопль ужаса. Напуганная до полусмерти, она что-то спросила у них, они утвердительно ответили и хотели было подойти поближе, чтобы объяснить подробнее. Но едва они сдвинулись с места, как женщины с визгом пустились наутек.
Ессеи переглянулись, пожав плечами. Почему Иисусовы апостолы послали сюда женщин вместо того, чтобы прийти самим? Как бы то ни было, свое дело они сделали. Осталось лишь привести склеп в порядок и удалиться.
Они сбросили белые одежды и попытались вернуть надгробный камень на прежнее место, но для двоих он был слишком тяжелым. Оставив склеп открытым, они вышли из сада и уселись на солнышке. Тот, кто все это затеял, должен подойти сюда — надо его дождаться.
20
Кальфо снова взмахнул хлыстом, которым только что ударил себя по спине. Лишь в крайне редких случаях он предписывал членам Союза использовать это орудие для самобичевания. Хлыст был сплетен из кожаных ремешков с нанизанными на них маленькими алюминиевыми шариками. Кровь обычно появлялась на семнадцатом стихе «Miserere» пятидесятого псалма. Полагалось, чтобы на последнем, двадцать первом стихе несколько алых капель брызнуло на стену.
Эта процедура должна была напоминать о тридцати девяти ударах бича, которые нанес Иисусу перед распятием могучий легионер. Римляне обычно утяжеляли свой бич свинцовыми грузилами величиной с оливку, и эти удары раздирали плоть до костей и часто бывали смертельными.
Алессандро Кальфо отнюдь не намеревался рухнуть замертво от самобичевания: умереть вскорости предстояло другому, а его добровольное страдание должно было свидетельствовать о братском сочувствии обреченному. Не хотел он и повредить свою нежную кожу: девушка снова придет в субботу вечером.
«Остается три дня до „завершения миссии“ нашего брата, который, увы, стал слишком стар…»
Отправляя девушку к нему, агент-палестинец предупредил:
— Соня — румынка, девушка надежная, с ней вы можете не опасаться проблем вроде тех, которые доставила предыдущая… Вы в полной безопасности, Аллах свидетель!
Годы, проведенные в Египте в должности папского нунция, научили Кальфо быстро находить выход из затруднений. С недовольным видом он снова замахнулся хлыстом, ибо найти компромисс — не значит отступиться. Сколько бы сладострастия ни сулил ему уик-энд с Соней, он не позволит себе прекратить самобичевание. Нет, он сумеет и проявить свою братскую любовь, и сохранить приятную бархатистость собственной кожи.
Страдания, которые он причиняет себе от избытка христианской добродетели, зачтутся ему и в том случае, если он заменит «Miserere» на «De profundis». Зато «De profundis», знаменитый 129 псалом, состоит всего из восьми стихов и в три раза короче нескончаемого «Miserere».
21
Отец Нил снял очки, потер уставшие глаза, потом провел ладонью по седеющим, коротко остриженным волосам. Всю ночь он въедливо изучал ксерокопии «М.М.М.»! Отодвинув табурет, он встал, сдернул с окна полотенце. Скоро зазвонят к первой утренней службе, в этот час уже никого не удивит, что в окне его кельи горит свет.
Он постоял у окна, глядя на черное зимнее небо над долиной Луары. Всюду царил мрак — и за стеклом, и в его душе.
Отец Нил вернулся к столу, устало опустился на табурет. Перед ним были аккуратно разложены рукописные заметки, которые он сделал этой ночью. Глядя на них, он вздохнул.
Изучая материалы, связанные с Евангелием от Иоанна, отец Нил пришел к мысли, что в описываемых там событиях участвовал еще один персонаж, лишь вскользь упоминаемый в тексте Нового Завета, но сыгравший решающую роль в последние дни жизни Иисуса. Об этом человеке ничего не было известно, даже имени, но он называл себя «возлюбленным учеником» и говорил, что встретился с Учителем на берегах Иордана первым, еще до Петра. Он был одним из сотрапезников на тайной вечере, в высокой зале, а зала эта явно находилась в его собственном доме. Он рассказывал, что возлежал рядом с Учителем, на почетном месте, описывал с достоверностью очевидца казнь и последовавшие за ней события.
Этот человек из ближайшего окружения Иисуса стоял у истоков христианства и был бесценным очевидцем тех событий. Тем более странно, что любое упоминание о такой важной фигуре было тщательно вымарано из Нового Завета. Упоминаний о нем нет ни у других евангелистов, ни в посланиях святого Павла, ни в «Деяниях апостолов».
Откуда такое ожесточенное желание стереть память о нем? Для этого нужна крайне веская причина. И еще, почему в истории зарождения церкви совсем нет упоминаний об ессеях? Здесь была какая-то тайна — отец Нил был в этом убежден, и отец Андрей поддерживал его желание найти связь между событиями, оставившими неизгладимый след в истории западного мира.
— Думаю, что и мне встречался этот таинственный персонаж — в рукописях от III столетия до VII, с которыми я работаю.
Отец Нил аж подскочил:
— Вы хотите сказать, что встречали след «возлюбленного ученика» в текстах, созданных много позже евангельских?
На круглом лице отца Андрея появилась хитрая улыбка:
— Я бы не обратил на это внимания, если бы не был в курсе ваших открытий! Да, эти следы были совсем незаметны для меня, пока я не получил из Ватикана коптский манускрипт, найденный в Наг-Хаммади. — Отец Андрей махнул рукой в сторону своей картотеки.
Потом задумчиво посмотрел на собеседника и, помолчав, сказал:
— Вот мы с вами ведем разыскания порознь. Точно так же работают и десятки других историков и толкователей Священного Писания, и никто не мешает их работе. Но только пока каждый из них трудится сам по себе и не пытается поделиться с коллегами результатами своих исследований. Зачем, по-вашему, нам ограничили доступ в разные отделы библиотеки? Пока мы не выходим за рамки своего направления, то не рискуем подвергнуться цензуре и каким-либо иным санкциям, а каждая церковь может гордо утверждать, что в ней царит полная свобода мысли.
— Вы сказали «каждая церковь»?
— Помимо католической церкви существует целое созвездие протестантских, в том числе фундаменталистских, они сейчас входят в силу, особенно в Соединенных Штатах… К тому же есть еще евреи, есть ислам…
— Евреи — это еще куда ни шло, хоть я и не понимаю, какое им дело до толкования Нового Завета, если они признают только Ветхий. Но при чем здесь мусульмане?
— Ах, отец Нил! Вы живете в I веке в Палестине, а я добрался до VII века. Мухаммед последний раз коснулся текста Корана в 632 году. Вам следует изучить Коран и лучше этого не откладывать. Вы убедитесь, что эта книга тесно связана с злоключениями и судьбой человека, чьи следы вы разыскиваете. Если он и впрямь существовал!
Отец Андрей замолчал. Отец Нил попытался продолжить начатый разговор:
— Если? Вы, стало быть, сомневаетесь, что этот человек действительно существовал?
— Сомневался бы, если бы не ваши открытия. Сами того не ведая, вы побудили меня задуматься над некоторыми древними текстами, на которые я раньше не обращал внимания. Вы помогли мне понять значение довольно загадочного коптского манускрипта. Прошло уже полгода с тех пор, как мне из Рима прислали материалы об этой рукописи, а я в таком замешательстве, что до сих пор не могу составить заключение. Мне уже настоятельно советовали поторопиться, боюсь, как бы меня не вызвали в Рим.
В Рим отца Андрея действительно вызвали.
И он никогда уже больше не вернулся в свой кабинет.
Звон колокола нарушил тишину ноябрьской ночи. Отец Нил спустился в часовню и занял свое место в монастырском хоре. Справа в нескольких метрах от него пустовала скамья отца Андрея. Ему никак не удавалось сосредоточиться, мысленно он все время возвращался к рукописям, над которыми просидел всю прошлую ночь. Все, во что он верил, с некоторых пор стало рассыпаться в прах.
На первый взгляд рукописи Мертвого моря не представляли собой ничего сенсационного. Большинство из них некогда принадлежало общине кумранских ессеев. Среди них были комментарии к книгам Ветхого Завета, разрозненные тексты о борьбе добра и зла, о противостоянии сынов света и сынов тьмы, об Учителе Справедливости… Теперь уже ясно, что этим Учителем Справедливости Иисус быть не мог. Широкая публика, поначалу воспылавшая интересом к находкам Мертвого моря, вскоре разочаровалась, не найдя в них ничего особенного… И тексты, над которыми отец Нил просидел всю ночь, также не были интересны обычному читателю. Но отец Нил недаром столько времени посвятил изучению древних рукописей. Он сразу понял, что эти тексты подтверждают все его предположения, о которых до сих пор не знал никто, кроме отца Андрея.
Его открытие ставило под сомнение традиционные представления о происхождении христианства, а значит, культуры и цивилизации западного мира.
«От Сан-Франциско до Владивостока все держится на едином постулате: Христос — основатель новой религии. Его божественность была явлена апостолам в языках пламени, запылавших над их головами в день Пятидесятницы. Прежде был Ветхий Завет, после настало время Нового. Так вот, все это совсем не так!»
Вдруг отец Нил заметил, что стоит посреди церкви один, в то время как все его собратья преклонили колени, чтобы исполнить гимн «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Он торопливо последовал их примеру. Отец настоятель внимательно наблюдал за ним.
Отец Нил пытался следить за ходом службы, но мысли его все время возвращались к рукописям Мертвого моря: «Теперь понятно, как случилось, что люди поверили в божественное происхождение Иисуса. Необразованные апостолы были тут ни при чем. Они повторяли лишь то, что слышали. А мы ничего не знали об этом до появления кумранских находок».
Когда вся община разом повернулась к алтарю, чтобы исполнить «Отче наш», он вновь замешкался.
Отец настоятель тоже не сразу обратил свой взор к алтарю: он задумчиво смотрел на отца Нила.
Едва отец Нил вышел из церкви, как его остановил студент, которому срочно требовался совет по поводу дипломной работы. Отделавшись от него, отец Нил поспешил в свою келью, взял с заваленного бумагами стола папку с текстами «М.М.М.», сунул под накидку и направился в библиотеку западного крыла, стараясь выглядеть как можно более естественно.
С бьющимся сердцем он миновал вход в отдел «Библейских наук» и дверь кабинета отца Андрея, дошел до угла, за которым начинался коридор, ведущий в другое крыло аббатства. Длинный проход северного крыла был пуст.
Отец Нил приблизился к двери отдела «Исторических наук», куда ему входить не разрешалось. В последний раз оглянулся — в коридоре по-прежнему не было ни души. И он вошел.
В столь ранний час в библиотеке, как обычно, никого не было. Лишь несколько ночников горело, распространяя бледный желтоватый свет. Отец Нил не рискнул включить верхнее освещение, которое могло бы выдать его присутствие. Он направился в глубь помещения, чтобы поскорее поставить книгу на место и незаметно вернуться в келью.
Пробираясь между стеллажами, он уже добрался до раздела, посвященного III веку, как вдруг услышал глухой стук двери. И через мгновение потоки света залили библиотеку.
Отец Нил застыл посреди центрального прохода, вытянув вперед правую руку, а левой прижимая к груди книгу, которую не имел права читать, там, где ему нельзя было находиться, с ключом, которого у него не должно быть. Ему показалось, будто стеллажи расступаются вокруг него, оставляя его на самом виду. В ярком беспощадном свете отец Нил чувствовал себя совершенно беззащитным. Ему казалось, что все вокруг как будто спрашивало: «Отец Нил, что вы здесь делаете? Где вы взяли ключ? Что это за книга? Хорошо ли вам спалось прошлой ночью? Почему вы были так рассеянны во время утренней службы?»
Его вот-вот разоблачат… Он вдруг вспомнил предостережения отца Андрея, мертвое окоченевшее тело на железнодорожной насыпи и кулак, яростно воздетый к небу, будто обличающий убийцу.
22
Евангелие от Иоанна
В то раннее воскресное утро женщины, обнаружившие пустой склеп, вернулись в страшном волнении. Апостолы недоверчиво выслушали их сбивчивый рассказ о том, что они видели ангелов. Ведь кем еще могли быть эти две таинственные фигуры в белых одеждах. Петр прервал их: «Ангелы? Что за глупости!» Но тут Домохозяин сделал ему знак, и, стараясь не привлекать внимания, они вышли на улицу.
Сперва они шли молча, потом пустились бегом, Петр быстро отстал. Когда он, совсем запыхавшись, примчался в сад, ессеи уже ушли, но его спутник, подоспевший сюда первым, сказал апостолу, что успел с ними поговорить. Опять он выскочил вперед, снова оказался главным свидетелем…
Разъяренный, Петр вернулся в высокую залу; Домохозяин, ничего не объясняя, на полпути оставил его, направившись к одному из богатых домов западной части города.
Секта ессеев зародилась двумя столетиями ранее. Она состояла из общин монастырского типа, которые, так же как и кумранская, держались вдали от мирской суеты, и общин светских, живших среди евреев, самая значительная из которых находилась в Иерусалиме и даже дала имя западной части столицы. Во главе этой общины стоял Елеазар Бен-Аккайя.
Гостя он встретил радушно:
— Ты долго был одним из нас, и, если бы не присоединился к ученикам Иисусовым, наверняка стал бы моим преемником. Ты ведь знаешь, храмовые иудеи нас ненавидят и не дают нам хоронить наших мертвецов так, как принято у нас, поэтому некоторые из наших кладбищ сокрыты в пустыне. Да не осквернят нечистые руки наших могил!
— Все это мне ведомо, равви, и я разделяю вашу озабоченность этим: нужно сохранить неприкосновенным последний приют праведников Израиля.
— Иисус из Назарета был одним из них. Место его вечного упокоения должно остаться тайной.
— Елеазар, ты уже… гм… человек в летах. Не может быть, чтобы только ты знал, где будет могила Иисуса.
— Мои сыновья Адония и Озия как раз сейчас переносят его тело к месту погребения, но унесут эту тайну с собой в могилу.
— А вдруг с ними что-то случится? Ты должен рассказать и мне.
Елеазар Бен-Аккайя долго поглаживал свою поредевшую бороду. Его гость был прав: мир с Римом крайне неустойчив, все может измениться в любой миг… Он подошел, положил руки на плечи Домохозяина:
— Ты всегда был достоин нашего доверия. Но знай: если ты предашь врагам останки наших братьев, да покарает тебя Предвечный!
Елеазар отошел к окну, поманив гостя за собой, и, наклонившись к самому его уху, прошептал несколько слов.
Расставаясь, мужчины молча посмотрели в глаза друг другу, лица их были суровы.
Но на обратном пути Домохозяин уже улыбался. Теперь могила Иисуса не станет предметом торга в борьбе за власть.
23
Ослепленный ярким светом, отец Нил шагнул в ближайший проход между стеллажами. В дальнем конце этого ряда стояли два больших ящика с книгами. Он проворно нырнул за них, уже слыша приближающийся шум шагов. Кто это? Монах или кто-то из студентов? Если посетитель свернет сюда, отец Нил пропал. Но, может быть, этот человек явился сюда совсем не ради книг?
Отец Нил втянул голову в плечи.
Посетитель прошел мимо не останавливаясь. Отец Нил, затаив дыхание, забился в темный угол. Он услышал, как неизвестный остановился у полок, откуда отец Нил вчера вытащил «М.М.М.», Как же он сожалел сейчас, что не сообразил подвинуть соседние книги так, чтобы пустота между ними не бросалась в глаза.
Некоторое время стояла тишина, потом донеслись шаги — посетитель прошел к выходу из библиотеки. Отца Нила он не заметил. Кто же это был? Монаха всегда узнаешь по скользящей походке, он никогда не станет топать, грохоча каблуками по полу.
Это точно был не студент.
Верхний свет погас, и отец Нил услышал, как закрылась дверь, щелкнул замок. Выждав несколько секунд, он поднялся, вытер взмокший лоб. Вокруг было темно и тихо.
Когда он вышел из библиотеки, поставив «М.М.М.» на прежнее место, коридор северного крыла по-прежнему был пуст. Теперь нужно вернуть ключи. Дверь кабинета библиотекаря все еще была не заперта, и одежда отца Андрея висела на спинке кресла. С бьющимся сердцем он опустил в карман брюк связку ключей. Отец Нил знал, что никогда больше не переступит порог этого кабинета — того, что было прежде не вернуть. Он окинул прощальным взглядом полки, где отец Андрей хранил книги, прежде чем распределить их по библиотечным отделам.
На самом верху одной из стопок он заметил книгу без этикетки, название его заинтересовало:
«Последние коптские апокрифы из Наг-Хаммади. Научный редактор и автор комментариев преподобный отец Андрей Соколовский, орден Святого Бенедикта. Издательство „Габальда“, Париж».
«А, наконец-то вышло в свет издание апокрифов, над которым он трудился последние десять лет!»
Отец Нил раскрыл книгу, эта удивительная монография была опубликована при участии и содействии Национального комитета научных исследований. На странице слева был приведен коптский текст, кропотливо воссозданный отцом Андреем, справа — перевод. Последний труд единственного друга — его завещание.
Пора было уходить, он и так чересчур задержался здесь. И тут неожиданно для себя он вдруг принял решение. Из его кельи выкрали предсмертную записку отца Андрея, обращенную лично к нему. Так пусть же книга, над которой его друг работал с такой любовью, вложив в нее все свои знания, книга, которую он получил перед самым отъездом в Рим, принадлежит теперь ему, отцу Нилу. Она его по праву. На ней нет этикетки, значит, в каталог аббатства ее еще не внесли. Никто не узнает, что он забрал ее. Отец Нил хотел быть ее единственным обладателем. Это был словно прощальный подарок друга, который никогда уже больше не улыбнется ему и не сядет в это кресло.
Решительно спрятав под накидку издание апокрифов из Наг-Хаммади, он вышел в коридор.
Когда отец Нил спускался по лестнице, он вдруг почувствовал такое беспредельное одиночество, отныне уготованное ему, что не заметил, как кто-то в грубошерстной монашеской рясе прижался к стене возле двери в отдел «Библейских наук». Таинственный незнакомец нервно сжимал наперсный крест, на безымянном пальце его руки виднелось простое металлическое кольцо.
Отец Нил вошел в свою келью, затворил дверь и замер. Чуть раньше, отправляясь на утреннюю службу, он оставил свои ночные записи в безукоризненном порядке, тщательно разложенные на несколько небольших стопок. Теперь же листы бумаги были разбросаны, как будто по келье пронесся порыв ветра.
Но сегодня он окна не открывал.
Кто-то опять побывал в его келье. Кто-то рылся в его вещах и, может быть, украл кое-что из его вчерашних заметок.
24
Деяния апостолов
Уже три недели минуло со дня смерти Иисуса. Нынешним утром в высокой зале собралось около сотни последователей Учителя. У всех на устах был один вопрос: что стало с телом Иисуса?
Петр огляделся. В другом конце комнаты возле стены стоял хозяин дома. Вокруг него сидело десятка два человек, они то смотрели на него, то в сторону окна, около которого плечом к плечу собрались Одиннадцать. «У него появились сторонники? — подумал Петр. — Настало время решать — он или я!»
Он посмотрел на тех, кто сидел рядом. Вот его брат Андрей прикусил губу, вот Иоанн и Иаков Зеведеевы, бывший мытарь Матфей… Никто из них не способен стать предводителем.
Кто-то должен возглавить эту растерянную толпу. И именно сейчас нужно встать и взять слово. А значит, взять власть.
— Где тело Учителя?
Петр глубоко вздохнул и вскочил на ноги. Свет из окна падал ему на спину, оставляя лицо в тени.
— Братья…
Сколько он ни пытался, но так и не смог выяснить, похоронили ессеи Иисуса или нет. «Интересно, знает ли это Домохозяин? Надо раз и навсегда отвлечь от него внимание этих людей и показать свою силу». Обведя толпу глазами, он не стал отвечать на вопросы. Час настал, им пора узнать, чьими руками свершился Божий суд. Его, Петра, Бог избрал своим орудием.
— Братья, Иуда был одним из Двенадцати, но предал нас. Суд над ним свершился. Когда он упал, его внутренности вывалились на песок из распоротого живота.
Мертвая тишина нависла над залой. Такие подробности мог знать только убийца. И вот он прилюдно признался, что рука, державшая клинок, принадлежала не какому-то неведомому зелоту — то была его рука!
Он поочередно обращал взгляд на каждого, и все отводили глаза.
Домохозяин, любимый ученик Иисуса по-прежнему не произносил ни слова. Петр поднял руку.
— Мы должны найти кого-то вместо Иуды, пусть другой займет его место. Да будет он избран среди тех, кто сопровождал Учителя со дня встречи на Иордане и до конца.
Одобрительный ропот пробежал по зале, и все взоры обратились на возлюбленного ученика. Ибо лишь он один мог стать двенадцатым: он первым встретил Учителя на берегу Иордана, и до последнего дня их связывали узы дружбы. Ему свыше предназначено стать преемником Иуды.
Петр мгновенно уловил настроение толпы.
— Не мы должны сделать выбор! Нужно бросить жребий, чтобы сам Господь указал нам двенадцатого апостола. Матфей, напиши на этом куске коры два имени.
Петр наклонился к Матфею и шепнул ему на ухо несколько слов. Бывший мытарь удивленно посмотрел на него. Но потом кивнул, сел и что-то быстро нацарапал на куске коры, который затем разорвал надвое и положил в платок. Петр поднял ткань за уголки:
— Ты, подойди и вытащи одно из двух имен. Пусть Бог скажет нам свое слово!
Юноша, на которого он указал, встал и вытащил из платка кусочек коры.
Петр выхватил его и подал Матфею:
— Я читать не обучен. Скажи нам, что там написано.
Матфей прокашлялся и объявил:
— Здесь стоит имя Матфия!
Толпа возмущенно зашумела.
— Братья! — Петру пришлось кричать, чтобы его услышали. — Сам Бог указал нам на Матфия! Значит, ему и быть преемником Иуды! Нас снова двенадцать, как в час последней трапезы, которую Иисус разделил с нами перед смертью — здесь, в этой зале!
Петр обнял Матфия и усадил среди Одиннадцати. Затем он устремил взгляд на Домохозяина. Их разделяли сидящие на полу люди. Но вокруг того уже начали собираться сторонники. Лица их были угрюмы. Петр вновь повысил голос, пытаясь перекричать шум толпы:
— Двенадцать колен говорили от имени Бога — двенадцать апостолов будут вещать от имени Иисуса или во имя его. Двенадцать, и ни одним больше, тринадцатому апостолу не быть вовеки!
Возлюбленный ученик некоторое время смотрел на него, потом наклонился и шепнул что-то на ухо подростку с кудрявыми волосами. Внезапно ощутив тревогу, Петр сквозь складки туники торопливо нащупал рукоять меча. Но его соперник сделал знак тем, кто его окружал, и молча направился к двери. Три десятка человек с непроницаемыми лицами вышли вслед за ним.
Едва они вышли на улицу, Домохозяин оглянулся, подросток догнал его и протянул ему кусок коры — тот, что остался в платке.
Он спросил мальчика:
— Иоханан, никто больше не видел эту надпись?
— Никто, аббу. Никто, кроме Матфея, который это писал, и самого Петра. Да вот теперь еще ты видишь.
— Что ж, дитя мое, отдай это мне. И навсегда забудь о случившемся.
Он усмехнулся: на другом куске коры, предоставленном Господу на выбор, так же не было его имени.
«Стало быть, Петр, ты задумал отстранить меня От дел Нового Израиля! Что ж, ты положил начало войне между нами: лишь бы она не погубила тех, кто придет за нами».
25
Итак, отца Нила вновь оторвали от его занятий, помешали кропотливому воссозданию былого, вторглись в его жизнь, такую тихую и размеренную прежде. Уже второй раз неизвестный рылся в его бумагах, и некоторые записи исчезли с рабочего стола.
По заметкам, похищенным сегодня утром, вполне можно было понять, как далеко продвинулся отец Нил в исследовании ранней истории церкви. Впрочем, он давно сознавал, что мыслит в направлении, издавна запрещенном для католиков. А вот теперь кто-то и здесь, в монастыре, узнал, что, собственно он ищет и что уже успел отыскать. И этот неизвестный следит за ним, проникает в его отсутствие в келью, не останавливается даже перед воровством. Опасность, казалось, была уже повсюду, ее присутствие становилось все ощутимее, а он понятия не имел, откуда она исходит и почему.
Возможно ли, чтобы научные занятия стали опасными?
Отец Нил начал рассеянно листать последний опубликованный труд своего друга. И с каждым мгновением он все мучительнее ощущал, какая громадная пустота возникла в его жизни. Никого больше нет рядом, кто бы его выслушал, направил… Одинокий, предоставленный самому себе, он чувствовал, как в душу проникает доселе не ведомое тягостное чувство страха.
Последняя мысль отца Андрея была обращена к нему, он оставил ему послание — значит, необходимо одолеть свой страх и продолжить расследование. В ее первой строке говорится о рукописи коптского апокалипсиса; это, несомненно, один из тех материалов, которые его друг хранил в письменном столе.
Но загадочный посетитель северной библиотеки, чуть было не заставший там отца Нила, наверняка заметил пустоту среди книг на месте «Манускриптов Мертвого моря» и отсутствие там листка с подписью.
Связку ключей, забытую в кармане брюк отца Андрея, также скоро обнаружат. А когда эти факты сопоставят, то в дверь кабинета немедленно врежут замок, и отец Нил потеряет всякую надежду проникнуть туда, чтобы отыскать таинственный манускрипт.
Обескураженный, он машинально перелистывал страницы.
И вдруг его пальцы нащупали утолщение на внутренней стороне обложки.
Типографский брак?
Отец Нил поднес книгу поближе к лампе. Нет, это не промах переплетчика. Край обложки был отклеен, потом его подклеили заново. И под ним что-то было.
Очень осторожно он отделил слой бумаги от обложки и там, внутри, увидел листок бумаги, сложенный вчетверо. Отец Нил аккуратно извлек его.
26
В тот вечер преподобный отец настоятель, сидя у себя в кабинете за письменным столом, кипел от негодования.
Он попросил, чтобы его соединили с Римом, с кардиналом Катцингером, но при наборе ватиканского кода телефон давал отбой, похоже, линия была перегружена. Наконец до его слуха донесся приглушенный голос прелата, и отец настоятель торопливо заговорил:
— Надеюсь, что не побеспокоил вас, ваше преосвященство… Осмеливаюсь попросить вашего совета, а возможно, и помощи. Дело касается того монаха, о котором у нас уже был разговор… отца Нила, преподающего в схоластикате. Если помните, я уже обращал ваше внимание… да-да, тот самый. За последние дни он очень переменился. Он всегда являлся весьма примерным монахом, и во время литургии был безукоризненно внимателен. Но, когда не стало несчастного отца Андрея, его как подменили. А только что произошло неслыханное. Я ведь теперь, пока место библиотекаря вакантно, сам проверяю, что берут из библиотеки. Так вот, сегодня ранним утром я обнаружил, что отец Нил похитил в северном крыле одну книгу. Прошу прощения? Ну это было то самое американское издание «М.М.М.»…
Тут ему пришлось отодвинуть трубку подальше от уха. Приватная ватиканская линия, привыкшая к речам вкрадчивым, слишком отчетливо передавала грозные раскаты кардинальского гнева. Переждав первый взрыв, он заворковал:
— Ваше преосвященство, я всей душой разделяю вашу тревогу, и вам незамедлительно будет выслан маленький образец заметок, сделанных собственноручно отцом Нилом… Да, мне удалось раздобыть несколько страниц. Тогда вы сможете сами судить, пора ли принимать меры или можно позволить нашему почтенному брату мирно продолжать свои ученые труды… Вы займетесь этим лично? Благодарю, ваше преосвященство. Ариведерчи, ваше преосвященство.
Вешая трубку, отец настоятель вздохнул с облегчением. Хотя он и согласился в свое время на покупку опасных произведений вроде «М.М.М.», но без всякого энтузиазма. А с другой стороны, как бороться с врагом, если не владеть его оружием?
Он сознавал, что отвечает перед Господом за своих монахов, за их жизнь — и духовную, и интеллектуальную. И был вынужден дважды нарушить священную неприкосновенность кельи одного из своих духовных чад — хотя это было ему не по сердцу. Но что поделаешь?
Эмиль Катцингер в своем ватиканском кабинете гневно нажал на кнопку коммутатора.
— Соедините меня с монсеньором Кальфо. Да, немедленно. Я прекрасно знаю, что сейчас субботний вечер! Он, должно быть, в своих апартаментах, в замке Сан-Анжело, — найдите его.
27
Руки отца Нила слегка дрожали, когда он только что извлек из-под обложки книги отца Андрея ксерокопию. Поднеся ее к лампе, он тотчас узнал изысканную каллиграфию древних коптских рукописей.
Значит, это коптский манускрипт. Точнее, отличная четкая ксерокопия фрагмента хорошо сохранившегося пергамента. Отцу Нилу часто приходилось разглядывать сокровища, которые отец Андрей доставал из своих ящиков или снимал с полок, чтобы дать другу полюбоваться. Ему были хорошо знакомы страницы манускриптов из Наг-Хаммади. После того как они были найдены в 1945 году на левом берегу Нила в его среднем течении, первым их обработал египтолог Жан Дорес.
Работая с еврейскими и греческими рукописями, отец Нил знал, что каллиграфия со временем упрощается. Такая манера, как изображение букв на этом пергаменте, встречалась в знаменитых апокрифах вроде Евангелия от Фомы, относящегося к концу II столетия и привлекшего некогда внимание всего мира. Но этот документ, по всей видимости, относился к более позднему времени.
Должно быть, Дорес, отбросивший этот маленький фрагмент, нашел его недостаточно интересным или слишком невразумительным. И тот в конце концов, подобно многим другим, затерялся в Риме, пока в один прекрасный день его не откопал сотрудник ватиканской библиотеки и не отослал в аббатство. Отец Андрей, как признанный эксперт в этой области, часто получал такого рода документы для анализа.
Отец Нил знал, что апокрифы из Наг-Хаммади датируются II и III веками, более поздних рукописей из этого коптского селения не существовало. Стало быть, этот фрагмент можно отнести к концу III столетия.
Тот ли это коптский манускрипт, который привел отца Андрея в такое смятение, что он даже не решился отослать в Рим свое окончательное заключение? Но тогда почему он спрятал эту ксерокопию вместо того, чтобы просто убрать его в ящик стола?
Отца Андрея больше не было, ждать ответа не от кого. Отец Нил сжал голову руками и закрыл глаза.
Он вспомнил первую строку записки, найденной в руке мертвого друга: «Коптская рукопись (Апок.)». Отец Нил непроизвольно истолковал это как Апокалипсис, поскольку именно такое сокращение принято в Библии. Отцу новую догадку нужно было проверить, и он открыл последний экуменический перевод Священного Писания, которым пользовался отец Андрей. В этом издании аббревиатура названия книги «Апокалипсис» была уже сокращена до Ап.
Педантичный отец Андрей всегда был в курсе всего нового. И если бы он имел в виду Апокалипсис, непременно так бы и написал: «Ап.», а не «Апок.».
Так вот что он хотел сказать: не Апокалипсис, а Апокриф! Вот, о чем думал отец Андрей: «Нужно поговорить с отцом Нилом о коптском манускрипте, который я спрятал перед отъездом в своей книге об апокрифах». Стало быть, содержание этого манускрипта настолько важно, что он хотел поговорить об этом с другом «немедленно», как только вернется из поездки в Ватикан.
«Да, это тот самый коптский манускрипт, что прислали ему из Рима!»
Отец Нил держал в руках текст, из-за которого библиотекаря аббатства Сен-Мартен и вызвали в Рим.
Фрагмент был небольшой. Отец Нил не был специалистом по древнему коптскому, но читал на нем без затруднений, а почерк был так разборчив, что никаких проблем с расшифровкой не возникло.
Сумеет ли он это перевести? Идеально — разумеется, нет. Но приблизительный пересказ, подстрочник, без сомнения, сделать можно: отыскать слово за словом в словаре, выстроить их в нужном порядке — глядишь, смысл и проступит.
Он встал. Поколебавшись несколько секунд, убрал драгоценную ксерокопию на полку, заменяющую монахам шкаф, и вышел в коридор. Ему нужно уйти всего на несколько минут, за это время келью обыскать не успеют.
Быстрым шагом он устремился в единственный отдел библиотеки, куда имел доступ: в «Библейские науки».
На первом, самом востребованном стеллаже он нашел коптско-английский этимологический словарь. Взял, оставив на его месте листок со своим именем, и с бьющимся сердцем поспешил в келью. Бесценный фрагмент лежал там, где он его оставил.
Первый удар колокола, зовущего к вечерне, заставил его отложить словарь. Он сунул ксерокопию во внутренний карман, и побрел в церковь.
Отца Нила ожидала еще одна бессонная ночь.
28
Деяния апостолов, послание к Галатам, год 48
— Аббу, ты же не оставишь это так!
Восемнадцать лет минуло со дня смерти Иисуса. Иоханан стоял рядом с возлюбленным учеником, сгорая от нетерпения. Представители христиан, как с недавних пор стали их называть, в первый раз собрались в Иерусалиме: назрел конфликт между верующими «евреями», не пожелавшими отречься от предписаний Закона, в первую очередь от обрезания, и «греками», отвергающими эту процедуру. Но и тем, и другим были нужны новая религия и новый бог. Им должен стать Иисус, которого отныне будут называть Христом, — идея носилась в воздухе, о ней говорили все чаще.
На самом деле все это служило лишь прикрытием. Шла жестокая борьба за первенство. Те благочестивые евреи, что считали себя последователями Иакова, набиравшего силу младшего брата Иисуса, ополчились на учеников Петра — эти были в большинстве, и старый предводитель держал их в строгости. А греки были против всех, их возглавлял новообращенный Павел. Он мечтал, чтобы хижина, выстроенная апостолами, созданная ими церковь, вместила весь мир. Противники оскорбляли друг друга, осыпая ужасными обвинениями — «ложный брат», «самозванец», «шпион», дело едва не доходило до рукоприкладства.
Так нарождающаяся христианская церковь держала свой первый совет в Иерусалиме, городе, который убивал пророков.
— Посмотри на них, Иоханан! Они передрались из-за трупа, и думают лишь о том, как поделить Наследство!
Молодой человек с кудрявой головой схватил возлюбленного ученика за руку:
— Это же ты первым встретил Иисуса, раньше, чем они все! Ты должен им сказать, аббу!
Вздохнув, тот встал. Хотя Двенадцать и отодвинули его в сторону, но он по-прежнему пользовался уважением. Все умолкли и повернулись к нему.
— Со вчерашнего дня, — начал он, — я слушаю ваши речи, и мне кажется, будто говорят о каком-то другом Иисусе, не о том, кого я знал. Каждый его переиначивает на свой манер: одни хотят, чтобы он был не более чем благочестивым иудеем, другие пытаются сделать из него бога. Я принимал его за своим столом, нас было тринадцать рядом с ним в тот вечер в высокой зале моего дома. Но на следующий день только мне одному из здесь присутствующих довелось услышать, как вколачивали гвозди в его руки, увидеть, как его пронзило копье. Я присутствовал при его кончине, в то время как вы все разбежались и попрятались. И я свидетельствую: он не был богом. Бог не может умереть. Бог не может биться в агонии, как я это видел своими глазами. Я первым пришел к его гробнице в день, когда она опустела. Мне ведомо, что стало с его истерзанным телом, но об этом я буду молчать, так же как и пустыня, в которой он ныне покоится.
Тут проклятия посыпались на него со всех сторон, не давая продолжать. Некоторые еще не решались признать божественность Иисуса, но в том, что он воскрес из мертвых, никто не сомневался, и это привлекало многих. Так было легче переносить жизнь, не дававшую иных надежд. Чего же он хочет, этот человек, имеющий лишь жалкую кучку учеников? Отправить тысячи верующих восвояси с пустыми руками?
Кулаки замелькали перед его лицом.
«Они хотят превратить Иисуса в орудие своих честолюбивых замыслов? Пусть занимаются этим без меня».
Опершись на плечо Иоханана, он двинулся к выходу.
Когда римские легионеры разрушили Сефорис, столицу Галилеи, Иоханан был еще маленьким. Он видел тысячи крестов, установленных на улицах города, видел медленную агонию распятых под палящим солнцем. Однажды пришли и за его отцом. Мальчик в ужасе смотрел, как отца бичевали, потом уложили на брус. Удары молотка по гвоздям отдавались в его сердце, он видел кровь, хлынувшую из пробитых запястий, слышал крики боли. Когда крест подняли к небу Галилеи, ребенок лишился чувств. Мать закутала его в свою шаль, и они бежали из города.
С тех пор мальчик перестал говорить. Но по ночам, мечась в тревожном сне, без конца твердил: «Авва!» Он звал отца.
Когда он оправился, они перебрались в Иерусалим. Мать принесла обет и посвятила мальчика Богу: отныне он не должен был пить вина, стричь волос и прикасаться к мертвым, как ревностный правоверный иудей. Однако обет не помог: ребенок по-прежнему безмолвствовал.
О том, что Иисуса распяли, он, как и все жители города, узнал сразу. Ужас, который вызывала у мальчика подобная казнь, был так нестерпим, что он поспешил забыть об этом человеке. Народ ожидает мессию, он скоро придет и это не может быть Иисус: мессия никогда не позволил бы себя распять. Мессия будет могучим, он прогонит римлян и восстановит царство Давида.
А потом он встретил Домохозяина, сдержанного, как и он сам, глядевшего на него дружелюбно и не удивившегося его немоте. Об Иисусе тот говорил так, будто жил с ним рядом и знал его как самого себя. Когда умерла мать мальчика, этот человек, так любивший Учителя и называвший себя его возлюбленным учеником, взял сироту к себе и стал «отцом его души».
Однажды, желая показать, что он принимает тот мир, который Иисус открыл людям, Иоханан взял ножницы и коротко обрезал свои волосы. Он сделал это, глядя в глаза аббу. Он все еще не произносил ни слова, объясняясь лишь жестами.
В ответ возлюбленный ученик большим пальцем начертал на его челе, устах и сердце невидимый крест. И Иоханан понял, что отмечен знаком распятия. Его давно умолкнувший язык беззвучно напрягся…
На следующую ночь он впервые спал, не сбросив на пол одеяла. А назавтра речь возвратилась к нему, и он заговорил от полноты сердца, исцеленного Иисусом.
Когда они подошли к дому, возлюбленный ученик положил руку ему на плечо:
— Сегодня вечером, Иоханан, ты навестишь Иакова, брата Иисуса. Скажи ему, что я хочу с ним повидаться. Пусть он придет ко мне.
Молодой человек кивнул и молча сжал руку своего аббу.
29
Была уже глубокая ночь, когда отец Нил отложил словарь и задумался, сидя возле загроможденного книгами стола. Каким далеким казался ему сейчас тот драматический совет в Иерусалиме, в перипетии которого он столь упорно вникал несколькими днями раньше! Но, похоже, именно в тот день, через восемнадцать лет после смерти Иисуса, возлюбленный ученик его был окончательно вычеркнут из истории нарождающейся церкви.
Ему удалось перевести фрагмент папируса, обнаруженного в только что изданной книге его друга. Две короткие фразы, по видимости, никак друг с другом не связанные:
«Устав веры двенадцати апостолов несет в себе семя разрушения.»
«Да будет послание уничтожено повсюду, чтобы устои устояли».
Потирая лоб, отец Нил ломал себе голову, что это может означать.
«Устав веры двенадцати апостолов» — так в древности именовали Никейский Символ веры, кредо христианской церкви. Тот самый, что был начертан на плите в Жерминьи и который так заинтересовал отца Андрея. Но что это за «семя разрушения». Непонятно.
«Да будет послание уничтожено повсюду…» Это коптское слово он перевел как «послание». Именно так в Новом Завете обозначаются послания святого Павла. Возможно, речь идет об одном из них? Но церковь никогда не осуждала ни одного из этих посланий. Или этот манускрипт был написан христианами, отошедшими от учения церкви? Последняя строка фрагмента тоже не менее загадочна. «Чтобы устои устояли»? По словарю есть несколько значений этих слов — видимо, имеется в виду или устойчивость здания, или единство некой общности людей. В этой фразе подряд употреблены два коптских слова с одинаковым корнем. Может быть, это умышленная игра слов? Но для чего?
Со значением слов он кое-как разобрался, однако смысл записи ускользал от него. Понял ли ее отец Андрей? И какова связь между ней и остальным содержанием его посмертной записки?
Смерть настигла библиотекаря после того, как он был вызван в Рим, чтобы дать отчёт о переводе фрагмента. Могли эти четыре строки иметь какое-то отношение к убийству или нет?
Перед отцом Нилом была шахматная партия, в которой все фигуры беспорядочно перемешаны. А ведь отец Андрей уже потратил немало сил, терпеливо восстанавливая их порядок. И там, в поезде, возвращаясь из Рима, он написал: «Немедленно». Стало быть, у апостольской гробницы в Ватикане, он сделал какое-то новое, решающее открытие. Но какое?
Для него, для отца Нила, все уже изменилось, ему никогда больше не жить как прежде. Что ж, вся его жизнь поставлена на карту? И вот вопрос: можно ли еще считать себя христианином, если ты усомнился в божественности Иисуса?
До утра оставалось еще несколько часов. Отец Нил выключил свет и в темноте лег.
«Бог… Никто никогда его не видел. А Иисус, даже если он не был Богом, остается самым удивительным человеком. Нет, я не ошибся, посвятив ему свою жизнь».
Прошло всего несколько минут, и отец Нил, монах-бенедиктинец, узнавший столько мучительных тайн, уснул глубоким сном.
30
— Садитесь, монсеньор.
Маленькое, как будто кукольное, лицо кардинала под белоснежной шапкой волос было озабочено. Кальфо со вздохом опустился на широкое сиденье.
Эмиль Катцингер появился на свет в годы зарождения нацизма. Как все дети его возраста, он, сам того не желая, был вовлечен в Гитлерюгенд [7]. Позже у него хватило ума держаться подальше от фюрера, и при этом удалось избежать участия в гестаповских чистках. Но детские впечатления оставили в его душе глубокий след.
— Спасибо, что отложили свои дела.
Ректор, который только что расстался с юной румынкой в самом разгаре весьма многообещающего свидания, сурово кивнул:
— Служение церкви, ваше преосвященство, не терпит отлагательства.
— Воистину так. Сегодня после обеда мне позвонил отец настоятель аббатства Сен-Мартен.
— Достойный прелат, ему можно доверять.
— Он известил меня, что монах отец Нил, о котором мы уже говорили, похитил в закрытой для него библиотеке книгу сомнительного содержания.
Кальфо ограничился тем, что поднял брови то ли недоуменно, то ли вопросительно.
— Он только что прислал по факсу некоторые личные записи отца Нила, и они очень встревожили меня. Судя по всему, этот монах вполне способен приблизиться к разгадке тайны, столь ревностно хранимой нашей святой церковью и вашим Союзом Святого Пия V.
— Вы думаете, он вступил на опасный путь?
— Пока не знаю. Но он был очень близок к отцу Андрею, который весьма далеко продвинулся по запретной стезе. Вы знаете, о чем речь, под вопросом само существование католической церкви. Нужно выяснить, что известно отцу Нилу. Что вы можете предложить?
Кальфо, самодовольно улыбнувшись, слегка откинулся назад, вытащил из складок сутаны конверт и протянул его кардиналу.
— Если вашему преосвященству угодно взглянуть… После нашего прошлого разговора об отце Ниле я попросил моих братьев по Союзу провести двойное расследование. Здесь результат, а возможно, и ответ на ваш вопрос.
Катцингер вынул из конверта две папки с отметкой «Конфиденциально».
— Посмотрите первую папку… Там есть сведения о том, что отец Нил блестяще учился в бенедиктинском университете в Риме. И он… — как бы сказать? — идеалист, для себя лично ему ничего не нужно. Он строго соблюдает устав, вся его жизнь проходит в ученых занятиях и молитве.
Оглядев его поверх очков, Катцингер произнес:
— Мой дорогой Кальфо, не мне вам объяснять, что нет никого опаснее идеалистов. И Арий, и Савонарола, и Лютер тоже были идеалистами. Добрый сын церкви верует в ее догмы, не подвергая их анализу. Всякий же иной идеал может оказаться до крайности вредоносным.
— Да, ваше преосвященство, — поспешно согласился Кальфо. — Но я продолжаю. Во время своей учебы в Риме он подружился с американским бенедиктинцем Рембертом Лиландом.
— Постойте-постойте! Наш Лиланд? Вот это уже интересно!
— Действительно, это именно он, монсеньор Лиланд. Я поднял и его досье — оно здесь, во второй папке. Он прежде всего музыкант и лишь потом — монах кентуккийского аббатства Святой Марии, где есть своя музыкальная академия. Его избрали настоятелем монастыря. Но после нескольких случаев, когда он занял спорную позицию…
— Дальнейшее мне известно, я тогда уже был префектом Конгрегации. Лиланд получил сан епископа in partibus [8], после чего был отправлен в Рим из соображений promoveatur ut amoveatur [9]. Нет, он не был опасен, он всего лишь музыкант — и этим все сказано! Но надо было погасить скандал, который чуть не разразился из-за его публичных заявлений по поводу женатых священников. Он теперь где-то состоит минутантом, не так ли?
— В Секретариате по связям с евреями; после Рима он два года провел в Израиле, где музыке учился куда усерднее, чем ивриту. Этот Лиланд, кажется, отличный пианист.
— И что?
Кальфо посмотрел на собеседника снисходительно.
— Как, ваше преосвященство Eminenza, неужели вы не понимаете?
Кардинал не курит и не пьет, поэтому Кальфо подавил отчаянное желание закурить сигару, спрятанную во внутреннем кармане. Вообще-то, он мог бы себе это позволить, ведь Союз Святого Пия V располагал солидным досье на кардинала, и ректор мог ни в чем себе не отказывать.
— Пока отец Нил остается в Сен-Мартене, мы не узнаем, что у него на уме. Надо, чтобы он приехал сюда, в Рим. Однако, ваше преосвященство, совершенно ясно, что он не станет откровенничать ни в моем кабинете, ни в вашем. Но если устроить ему под каким-либо предлогом встречу с его другом Лиландом и дать им время наговориться от души… Оставшись вдвоем, артист и мистик быстро найдут общий язык.
— И каким же будет этот предлог?
— Лиланд интересуется старинной музыкой, она его занимает куда больше, чем еврейские дела. А мы намекнем, что ему нужна помощь специалиста по древним текстам.
— И вы считаете, что он… пойдет на сотрудничество?
— Это мое дело. Вы же знаете: он у нас в руках никуда от нас не денется.
Оба помолчали. Катцингер раздумывал. «Кальфо — неаполитанец. Сложные интриги — его стихия. Пожалуй, это неплохая мысль».
— Монсеньор, я вам предоставляю карт-бланш. Найдите повод вызвать сюда этого Джеймса Бонд в сутане. И устройте так, чтобы он разговорился.
Когда Кальфо покидал кабинет шефа Конгрегации, мысленно он уже представлял себе толстый ковер из зеленых купюр, что потекут к нему в замок Сан-Анжело. Катцингеру кажется, что у него все под контролем, но кардинал не знает главного. И лишь ему, Алессандро Кальфо, бедному маленькому человеку, ставшему ректором Союза Свято го Пия V, известно все.
Он один знает, что делать. И он справится, даже если придется действовать методами, за которые XIV веке тамплиеров заживо сжигали на кострах.
Сами того не зная, Филипп Красивый и Ногаре тогда спасли Запад. А сегодня эта грозная мисси; ложится на Союз Святого Пия V.
31
Иерусалим, год 48
— Спасибо, что пришел так быстро, Иаков.
Заходящее солнце озарило имплювиум дома, где возлюбленный ученик встречал гостя. Они были одни. Брат Иисуса снял со лба и руки филактерии, но продолжал кутаться в молитвенную накидку. Он выглядел напуганным.
— Павел вчера отправился обратно в Антиохию. Первый церковный собор едва не закончился бедой. Нам пришлось пойти на взаимные уступки, и Петра сильно потеснили. Он ненавидит тебя. Так же, как и меня.
— Петр — человек не злой. Встреча с Иисусом перевернула его жизнь. Он боится вернуться к своему бедняцкому прошлому, и поэтому не выносит, когда кто-то посягает на его первенство.
— Я — брат Иисуса, если кто-то из нас двоих должен уступить, то придется это сделать ему, несмотря на его первенство! Пусть отправляется куда хочет.
— Он и отправится, Иаков, будь покоен. Когда Павел утвердит новую религию, о которой мечтает, ее новый источник переместится из Иерусалима в Рим. Борьба за власть только начинается.
Иаков опустил голову:
— С тех пор как он у всех на глазах убил Ананию и жену его Сапфиру, Петр больше не носит оружия, но некоторые из его соратников вооружены. Я слышал вчера, как они толковали о том, что ты человек из прошлого, что ты противишься тем, кто создает будущее. Сам знаешь, они же все твердят, что «не может быть тринадцатого апостола». Твоя жизнь в опасности. Тебе нельзя оставаться в Иерусалиме.
— Но ведь убийство Анании и его жены — это давняя история, и тогда все дело было в деньгах. С тех пор от всех церквей Азии деньги рекой текут в Иерусалим.
— Сейчас речь не о деньгах; ты ставишь под сомнение все, ради чего они воюют. Мой брат Иисус предпочтение отдавал тебе, так же как Иуде. Мы оба знаем, как Петр расправился с Иудой, и знаем, что он не остановится ни перед чем. Если ты погибнешь, как Искариот, вместе с тобой исчезнет и память о прошлом. Тебе надо бежать, да поскорее, может быть, это наша последняя встреча, так что, молю тебя: скажи мне, где ессеи похоронили Иисуса. Где его могила!
У этого человека не было ни честолюбия Петра, ни гениальности Павла. Это был обычный иудей, который пытался узнать что-то новое о погибшем брате. Его собеседник с жаром ответил:
— Я провел рядом с Иисусом куда меньше времени, чем ты, Иаков. Но вы не смогли понять в нем того, что увидел я. Ты — потому, что всем сердцем привязан к иудаизму. Павел — потому, что он еще совсем недавно поклонялся языческим богам империи и теперь мечтает заменить их новой религией, в центре которой Христос, чьи слова Павел толкует, как ему удобно. А Иисус никому не принадлежит, мой друг, — ни тебе, ни Павлу. Теперь он покоится в пустыне. И одна лишь пустыня сможет защитить его от еврейских или греческих стервятников новой церкви. Это был самый свободный человек из всех, кого я знал; он хотел заменить закон Моисея другим законом — новым, который был бы записан не на скрижалях, а в сердце человека. Законом, основанном лишь на любви.
Иаков помрачнел. Закона Моисея касаться нельзя, в нем суть Израиля. Он счел за благо переменить тему разговора:
— Ты должен уехать. И увезти подальше отсюда мою мать Марию: рядом с тобой она выглядит такой счастливой…
— Я почитаю мать Иисуса, и мы очень привязались друг к другу. Если бы она постоянно была рядом, это каждый миг наполняло бы меня радостью. Ты прав, я больше не чувствую себя дома ни в Иерусалиме, ни в Антиохии. Я уеду. Как только буду знать, где смогу раскинуть шатер кочевника, тотчас приглашу Марию отправиться со мной. А пока Иоханан послужит нам связным. Она стала для него второй матерью.
— Куда же ты направишься?
Возлюбленный ученик огляделся. Имплювиум уже накрыла вечерняя тень, но в окна высокой залы еще проникали последние лучи заходящего солнца. В этой зале они с Иисусом в последний раз ужинали вместе, с той поры минуло восемнадцать лет. Пришло время покинуть это место, ставшее всего лишь пустым наваждением. И поискать реальность там, где обрел ее Учитель.
— Поеду на восток, в пустыню. Ведь именно там Иисус понял, в чем его предназначение. Помню, он часто говаривал с улыбкой, что там даже дикие звери не нарушали его уединения.
И, глядя прямо в глаза брату Иисуса, он заключил:
— Пустыня, Иаков… Может быть, именно ей отныне суждено стать единственной родиной учеников Иисуса Назорея. Единственным местом, где они будут чувствовать себя дома.
32
После утренней службы отец настоятель обратил внимание на осунувшееся и бледное лицо отца Нила.
Когда он входил к себе в кабинет, зазвонил телефон.
Двадцать минут спустя, вешая трубку, отец настоятель пребывал в полной растерянности и в то же время испытывал чувство облегчения. Ему позвонил сам кардинал Катцингер, дабы сообщить, сколь великая честь выпала его аббатству: Ватикану срочно требуются познания одного из подчиненных ему монахов. Специалисту по старинной музыке, работающему в курии, нужна помощь в работе, касающейся происхождения григорианских песнопений. Святейший Отец возлагает большие надежды на эти исследования, которые помогут укрепить взаимоотношения между иудаизмом и христианством. Короче, отца Нила незамедлительно ждут в Риме, дабы его знания послужили всемирной церкви. Его отсутствие продлится несколько недель, а выехать он должен на первом же поезде. Работать отцу Нилу предстоит в Сан-Джироламо, бенедиктинском аббатстве Рима.
Там же, куда вызывали отца Андрея…
Приказы кардинала Катцингера не обсуждаются, подумалось отцу настоятелю. Да и недавнее поведение отца Нила его беспокоило. И чем дальше тот уедет, тем лучше.
Монсеньор Кальфо прервал свои воскресные утехи, чтобы забежать к себе в кабинет, но связаться с агентом в Каире ему так и не удалось. Тучный неаполитанец стремительно взлетел по лестнице — то, что ожидало его наверху, окрыляло.
Соня уснула обнаженной, единственным ее украшением были разметавшиеся волосы. Кальфо оценил: «Бодлер воистину гений! Какой поэт! Но драгоценностей я им никогда не дарю — только наличные».
Моктар правду говорил: Соня не только оказалась чрезвычайно искусной в науке страсти, но и отлично знала свое место. Пользуясь тем, что она спит, ректор взял телефон и опять вызвал Каир:
— Мне нужен Моктар Аль-Корайш, пожалуйста. Спасибо, я подожду.
На сей раз агента сумели отыскать, он как раз вернулся из мечети Аль-Ахар после молитвы.
— Моктар? Салям алейкум. Скажи-ка, ты можешь сейчас на некоторое время оставить своих учеников? Превосходно. Вылетай ко мне в Рим. Речь пойдет о продолжении того небольшого заседания, которое я тебе поручил… Опять поработать вместе с твоим излюбленным врагом? Нет, пока рано. Если потребуется, свяжешься с ним в Иерусалиме. О, всего на недельку-другую, не более! Ну да, в театре Марцелла, как обычно. И главное, полнейшая секретность!
Он положил трубку, улыбаясь. Его доверенным лицом был не кто иной, как профессор знаменитого университета Аль-Азхар с кафедры изучения Корана. Фанатик, яростный защитник устоев ислама. Заставить работать вместе араба и еврея, агентов двух самых грозных ближневосточных спецслужб, направив их деятельность на сохранение драгоценнейшего секрета католической Церкви, — вот пример правильно понятого экуменизма.
Моктар Аль-Корайш попал в поле зрения Кальфо еще в ту пору, когда тот был нунцием в Каире. Дипломат и догматик поладили: каждый угадал в другом то же пожирающее изнутри тайное пламя, это привело к тому, что между ними неожиданно завязалось даже что-то вроде дружбы. Только палестинец не пытался, подобно ему, воспарить духовно путем эротических священнодействий. Он был всего лишь сексуальным маньяком.
Издав нежный стон, Соня открыла глаза.
Кальфо тотчас положил телефон на пол и склонился над красавицей.
33
— Возвращайся в Рим, Моктар. Совету Братьев-мусульман удалось убедить ХАМАС в важности этого дела. Одних терактов недостаточно, чтобы защитить ислам, если божественную природу Корана или священную персону Пророка, благословенно имя его, запятнает хотя бы тень сомнений. Но есть одна вещь…
Моктар Аль-Корайш усмехнулся: он этого ждал. Его бронзовая кожа, мощная мускулатура и малый рост составляли живописный контраст с высокой узкоплечей фигурой собеседника — Мустафы Машалура, почитаемого всеми студентами каирского университета Аль-Азар.
— Речь идет о том, что ты поддерживаешь отношения с евреем. О самом факте твоей дружбы с ним…
— Он спас мне жизнь во время Шестидневной войны, в 67 году. Я оказался один, без оружия, в пустыне, наша армия обратилась в бегство, его танк шел прямо на меня, по всем законам войны он должен был меня раздавить. А он остановился, напоил меня и оставил в живых. Он еврей, но не такой, как другие.
— Тем не менее, это еврей! И уж кому, как не тебе, знать, что он не простой еврей.
Они остановились в тени минарета Аль-Гари. Даже теперь, на исходе ноября, бледная кожа старца не выносила солнечных лучей.
— Не забывай слов Пророка: «Будьте врагами евреям и христианам, они в дружбе между собой! Тот, кто принимает их за друзей, равняет себя с ними, и Аллах не направляет тот народ, который сбивается с пути». Пятая сура!
— Ты знаешь священный Коран лучше, чем кто бы то ни было, муршид [11], — это обращение означало нечто вроде «верховного наставника», именуя его так, Моктар тем самым выражал особое почтение. — Но ведь и сам Пророк без колебаний вступал в союз со своими врагами для пользы общего дела, а его образ действия для нас закон и пример, даже во время джихада. Ни евреи, ни арабы не заинтересованы в том, чтобы вековые основы христианства были поколеблены.
Верховный наставник взирал на него с улыбкой:
— Мы пришли к этому заключению задолго до тебя, потому и предоставляем тебе свободу действия. Но помни всегда, что ты — потомок тех, кто видел, как в мир явился Пророк, благословенно имя его. Веди же себя так, как пристало тому, кто носит славное имя Корайш. Пусть дружбе, с этим евреем никогда не заставит тебя забыть, кто он и на кого работает. Масло и уксус могут оказаться в одном сосуде, но они никогда не смешаются.
— Будь покоен, муршид, Корайша уксус еврея ни за что не проест, у меня шкура дубленая. Я знаю этого человека. Если бы все наши враги были похожи на него, быть может, на Ближнем Востоке уже воцарился бы мир.
— Мир… Для мусульманина мира не будет до тех пор, пока вся земля не научится каждый день пятикратно склоняться перед Киблой, указывающей, в какой стороне Мекка.
Выйдя из спасительной тени минарета, они в молчании направились к входу в медресе, чей купол сверкал на солнце. Но прежде чем туда войти, старик придержал Моктара за локоть:
— А девушка? Ты ей доверяешь?
— В Риме ей сейчас лучше, чем было в Саудовской Аравии, в том борделе, откуда я ее вытащил. Пока она ведет себя хорошо. И, главное, совсем не хочет, чтобы ее отправили обратно в Румынию, к родне. Ее задача проста, ничего сложного, мы используем только старые проверенные методы.
— Бисмилля, аль рахман аль рахим! А теперь оставь меня, настал час молитвы.
Ибо верховный наставник Братьев-мусульман, преемник его основателя Хасана Аль-Банны, пред лицом Аллаха не более чем муслим — такой же покорный раб, как все прочие.
Моктар прислонился к колонне, прикрыл глаза. Ему вдруг снова привиделось: человек выпрыгивает из танка, направляется к нему, правая рука поднята — это знак пулеметчику, чтобы не стрелял. Вокруг безмолвие Синайской пустыни, египтяне обращены в бегство. Почему он все еще жив? И почему этот еврей не убивает его сразу, зачем тянет?
Израильский офицер, похоже, колеблется, его лицо застыло, будто окаменев. Потом он неожиданно улыбается и протягивает ему свою фляжку с водой. Моктар пьет, не спуская с еврея глаз, и замечает шрам, пересекающий его светловолосую, очень коротко стриженную голову.
Несколько лет спустя в Палестине разразилась интифада. Моктар производил зачистку на одной из улочек Газы, Там было всего несколько лачуг, откуда израильтяне только что отступили, неся потери. Он вошел в разрушенный гранатами двор — какой-то еврей, лежавший без сил под стеной, тихонько стонал, держась за раненую ногу.
Униформы ЦАГАЛ на нем не было, наверняка агент Моссада. Моктар направил на него свой Калашников, собираясь расстрелять. Увидев нацеленное ему прямо в грудь дуло автомата, еврей усмехнулся, его искаженное страданием лицо оживилось. Возле уха начинался длинный шрам.
«Еврей из Синайской пустыни!» Араб медленно поднял дуло своего автомата к небу. Прокашлялся. Сплюнул. Засунув левую руку под рубаху, вытащил пакет первой помощи и швырнул его еврею.
Потом обернулся и бросил своим людям краткий приказ: мол, пошли дальше, нет в этом бараке никого и ничего.
Моктар вздохнул, Рим — прекрасный город, и девушек там полным полно. Побольше, чем в пустыне, уж это точно.
Он вернется в Рим. Притом с удовольствием.
34
Три дня спустя отец Нил уже катил в Римском экспрессе, пытаясь устроиться на неудобном сиденье.
Он был озадачен неожиданным приглашением из Рима. Какие-то рукописи о старинной музыке! Отец настоятель вручил ему билет на поезд, тем самым лишив всякой возможности заехать в Жерминьи, чтобы еще раз сфотографировать плиту. Вместе со своими папками отец Нил прятал на дно чемодана негатив, украденный из кабинета отца Андрея, — ничего компрометирующего в келье оставлять нельзя! Но сможет ли он что-нибудь понять из этого негатива?
Не без удивления он заметил, что его купе почти пусто, хотя все места были забронированы. Единственный пассажир, худощавый мужчина средних лет, казалось, спал, забившись в угол. В Париже при встрече в купе, они обменялись кивками. В светлых кудрях попутчика терялся длинный шрам.
Отец Нил снял куртку, в какой лица духовного звания показываются в миру, и аккуратно сложил на сиденье справа от себя.
Потом он закрыл глаза.
Цель монастырской жизни — избавить человека от страстей, искоренить их подчистую. С тех пор как стал послушником, отец Нил прошел хорошую школу: аббатство Сен-Мартен было просто создано для того, чтобы совершенствоваться в самоотречении. Всецело захваченный поисками истины, он почти не ощущал тягот монашеской жизни. Зато ценил свободу от желаний, которые, к его великому прискорбию, порабощали род людской.
Он уже с трудом мог припомнить, когда в последний раз впадал в гнев, давал волю этой разрушительной страсти. А потому колебался, не зная, как назвать то состояние, в котором находился последние несколько дней. Отец Андрей умер, расследование проведено явно спустя рукава, дело закрыто с заключением «суицид», постыдным для его друга. В монастыре за ним шпионят, роются в его вещах, да еще и обокрали… А теперь его послали в Рим, как бандероль…
Что же это?
Гнев? По крайней мере, сильнейшая досада. Она поднималась в нем бурно, мучительно, как внезапная вспышка давно побежденной болезни.
Отец Нил решил, что нужно разобраться в природе этих нездоровых ощущений, но попозже: «В Риме. Этот город всего навидался».
Он терпеливо восстановил события, окружавшие смерть Иисуса, прослеживая их с того момента, как в поле его зрения замаячила фигура возлюбленного ученика. После собора в Иерусалиме этот человек был еще жив. Бежал в пустыню? Эта гипотеза представлялась отцу Нилу наиболее вероятной, ведь и сам Иисус удалялся туда, причем не единожды. Да и ессеи тоже там скрывались, и зелоты впоследствии прятались там же вплоть до восстания Бар-Кохбы.
И там, в пустыне, его след не затерялся. И, чтобы его отыскать, отцу Нилу нужно услышать весть с того света, голос погибшего друга.
К тому же продолжение исследований отвлечет его, поможет улечься растущему гневу, который он с беспокойством чувствовал в себе.
Он постарался усесться поудобнее, чтобы немного вздремнуть.
Шум поезда мягко убаюкивал. Мимо окна стремительно проносились огни Ламот-Бёврона.
Дальнейшее произошло чрезвычайно быстро. Человек, что пристроился в уголке, встал и подошел, как будто затем, чтобы взять что-то с верхней полки прямо над ним. Отец Нил машинально поднял глаза: полка была пуста.
Он не успел ничего сообразить: блондин уже склонился над ним, протянув руку к его куртке.
Отец Нил уже собрался запротестовать, возмущенный бесцеремонными манерами попутчика.
Но тут дверь купе с шумом отворилась.
Незнакомец разом выпрямился, отдернул протянутую руку, застывшее лицо оживилось, и он улыбнулся отцу Нилу.
— Извините за беспокойство, господа! — Это был контролер. — Пассажиры, которые забронировали свободные места в вашем купе, не явились. У меня здесь две монахини, им во всем поезде не удалось найти двух мест рядом. Ну вот, сестры, располагайтесь, в этом купе места хватит. Доброго пути!
Монахини вошли, церемонно поклонившись отцу Нилу, а попутчик тем временем, не сказав ни единого слова, вернулся на свое место, закрыл глаза и через мгновение уже спал.
«Странный субъект! Что на него нашло?»
Однако внимание отца Нила тотчас переключилось на вновь прибывших. Пришлось, освобождая им место, забросить свой чемодан на верхнюю полку, затолкать под сиденье свои толстые папки, а потом терпеть нескончаемую болтовню благочестивых монахинь.
Тем временем наступила ночь. Пытаясь заснуть, отец Нил отметил, что его загадочный визави как забился в свой угол, так с тех пор даже пальцем не шевельнул.
Когда, разбуженный на рассвете, он открыл глаза, угловое сиденье было пусто. Чтобы позавтракать, отцу Нилу пришлось пройти весь поезд от начала до конца, но того человека нигде не было. След простыл.
Возвратясь в купе, где одна из добрейших сестер заставила его попробовать жуткий кофе из своего термоса, он должен был признать очевидное: таинственный пассажир исчез.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
35
Пелла, Иордания, год 58
— Как твои ноги, аббу?
Возлюбленный ученик вздохнул. За прошедшие годы его волосы побелели, щеки запали. Поглядев на мужчину в полном расцвете сил, сидевшего рядом, он промолвил:
— Вот уже двадцать восемь лет прошло с тех пор, как умер Иисус, и десять — с того дня, когда я покинул Иерусалим. Моим ногам пришлось нелегко, они привели меня сюда, Иоханан, и, если то, что ты говоришь, верно, им, может быть, еще придется нести меня дальше…
Они сидели, укрывшись от солнца в тени перистиля, пол которого был выложен великолепной мозаикой, изображавшей бога Диониса. Пустыня начиналась в двух шагах отсюда, дюны подступали к перистилю.
Пелла, город, построенный ветеранами походов Александра Великого на восточном берегу Иордана, был почти полностью разрушен землетрясением. Когда пришлось бежать из Иерусалима, из-за угрозы, исходившей от сторонников Петра, ему казалось, что этот город, расположенный за пределами Палестины, достаточно безопасен для него. Он обосновался здесь вместе с матерью Иисуса, и вскоре к ним присоединились его ученики. Иоханан то и дело уезжал из Пеллы в соседнюю Палестину и даже в Сирию, поскольку Павел обосновался с целым штатом приближенных в Антиохии, одной из малоазиатских столиц.
— А Мария?
Привязанность Иоханана к матери Иисуса была трогательна. «Этот мальчик полюбил мать распятого Иисуса, как родную, а во мне увидел замену своего распятого отца».
— Ты с ней увидишься позже. Расскажи мне еще, что нового, я здесь как будто оторван от всего…
— Мои новости успели устареть на несколько недель. Иаков, брат Иисуса, в конце концов взял верх и стал во главе иерусалимской общины.
— Иаков?! Но… как же тогда Петр?
— Он сопротивлялся, как только мог. Попытался даже низложить Павла на его территории, в Антиохии, но добился только того, что его изгнали, как нечестивца! Кончилось тем, что он сёл на корабль, идущий в Рим.
Оба расхохотались. Здесь, у самой границы бесплодной пустыни, эта борьба за власть во имя Иисуса казалась смешной.
— Рим… Я так и думал. Если Петр больше не может первенствовать в Иерусалиме, только Рим может быть целью его честолюбия. В Риме, Иоханан, в центре империи — вот где церковь, о которой он мечтает, может стать могущественной.
— Есть еще одна вещь: твоих учеников, оставшихся в Иудее, все более притесняют. Они спрашивают, не следует ли им тоже бежать, чтобы присоединиться к тебе здесь.
Старик закрыл глаза. Что ж, он и это предвидел. Назореи не так одержимы иудаизмом, как Иаков, и не жаждут обожествить Иисуса, как Павел, зажатые между двумя яростно противоборствующими ветвями нарождающейся церкви, но не желающие примкнуть ни к той, ни к другой, они рискуют быть раздавленными.
— Пусть те, кто не может больше терпеть, перебираются сюда. Пелла для нас безопасна — пока.
Иоханан сел с ним рядом и спросил, указывая на пачку листов папируса, разбросанных по столу:
— Ты читал, аббу?
— Всю ночь. Особенно этот сборник, о котором ты говорил, что люди передают его из рук в руки и он достиг пределов Азии.
Он указал на стопку в три десятка скрепленных шерстяной тесьмой листов, что лежала у него на коленях.
— Все эти годы, — сказал Иоханан, — апостолы передавали слова Учителя из уст в уста. А теперь записали все это здесь, вперемешку, чтобы после их кончины память не была утрачена.
— Верно, это все его мысли, те, что и я слышал. Только апостолы ловчат. Они, конечно, не приписывают Иисусу того, чего он никогда не говорил. Они всего лишь довольствуются тем, что переиначивают понемногу — здесь слово, там оттенок мысли. Измышляют собственные комментарии, от своего имени вставляют замечания, каких в ту пору никогда бы не сделали. Я здесь, к примеру, прочел, что в один прекрасный день Петр пал на колени перед Иисусом и провозгласил: «Воистину ты Мессия, Сын Божий!»
Он бросил книгу на стол.
— Это чтобы Петр вымолвил такое! Иисусу никогда в жизни не доводилось слышать подобных признаний — ни от Петра, ни от кого-либо другого. Пойми же, Иоханан, отправив меня в изгнание, апостолы присвоили себе исключительное право свидетельствовать об Иисусе. Евангелие в их руках становится ставкой в борьбе за власть. Иисус в их воспоминаниях будет переживать превращения все более явные, это очевидно. Как далеко могут они зайти?
Иоханан опустился на пол у его ног, положил руки ему на колени:
— Ты не можешь позволить им сделать это. Они записывают свои воспоминания — запиши и ты все то, о чем рассказываешь здесь ученикам, и пускай твой текст ходит по рукам так же, как их записки. Поведай обо всем, аббу: о вашей первой встрече на берегу Иордана, об исцелении бессильного в купальне Вифезды, о последних днях Иисуса… Пусть он предстанет таким, каким я его узнал с твоих слов, не дай умереть теперь памяти о нем!
Он неотрывно, настойчиво смотрел в лицо своего приемного родителя, а тот взял со стола другую пачку листов.
— Что до Павла, он весьма сообразителен. Знает, что люди лишь благодаря вере в воскресение могут выносить свое жалкое существование. Вот он им и толкует: вы воскреснете, поскольку Иисус воскрес первым. А коль скоро он воскрес, стало быть, он Бог, ибо только Бог может воскресить самого себя.
— Так что с того, отец? Павел пишет послания своим ученикам? Действуй так же. Помимо своего рассказа, напиши и ты нам письмо. Послание, призванное утвердить ту истину, что Иисус не был Богом. А доказательство… ведь существует его могила.
Лицо старика замкнулось, и Иоханан взял его руки в свои:
— Не хотелось тебе говорить, но Елиезер Бен-Аккайя, глава иерусалимских ессеев, скончался. Неужели он унесет с собой тайну могилы Иисуса?
На глазах старого человека показались слезы. Со смертью ессея из мира уходило все, что было связано с молодостью.
— Тело тогда унесли сыновья Елиезера: Адония и Озия. Они знают, где он погребен. Значит, нас трое, знающих это. И довольно. Я научил тебя, как соединиться с Иисусом после смерти. Что даст тебе знание о том, где упокоились его бренные останки? Пустыня почтительно оберегает его последний приют — люди так бы не сумели.
Иоханан проворно вскочил на ноги и вышел, но тотчас вернулся. В одной руке он держал пачку чистых пергаментных листов, в другой перо из рога буйвола и глиняную чернильницу.
— Так пиши, аббу. Пиши, чтобы Иисус остался среди живых.
36
— Объявляю это торжественное заседание открытым.
Ректор Союза Святого Пия V с удовлетворением отметил, что некоторые из братьев избегают опираться на спинки кресел: бичуя себя металлическим хлыстом, они читали длинный псалом «Помилуй меня, Боже».
В зале появилось два новых предмета обстановки: прямо перед ректором, у подножия окровавленного распятия, был установлен самый обычный стул. А на пустом столе напротив — рюмка с бесцветной жидкостью, слегка пахнущей горьким миндалем.
— Брат мой, займите место согласно процедуре.
Один из присутствующих встал, обошел вокруг стола и сел на стул. Ткань, скрывавшая его лицо, трепетала так, словно он задыхался.
— На протяжении долгих лет вы безукоризненно служили нашему Союзу. Но недавно вы совершили серьезную ошибку, разгласив конфиденциальные сведения, имеющие для нашей миссии основополагающее значение.
Человек с мольбой простер руки к присутствующим:
— Плоть слаба, братья мои, я умоляю вас простить меня!
— Не о том речь, — в голосе ректора прорезались стальные нотки. — Плотский грех очищается таинством покаяния, подобно тому, как Господь наш простил грезы блуднице. Но, рассказав этой девушке о наших делах…
— Она более не опасна!
— Воистину. Пришлось позаботиться о том, чтобы причинить вред она уже не могла. Что всегда прискорбно и должно оставаться мерой исключительной.
— Но тогда… коль скоро вы были так добры, что уладили эту проблему…
— Вы не понимаете, брат.
Тут он обратился к собранию:
— То, что поставлено на карту, до крайности важно. До середины XX века только церковь могла толковать Священное Писание. Но с тех пор как папа Павел VI в 1967 году, к нашему великому сожалению, упразднил Конгрегацию индекса, ведающую церковной цензурой, мы потеряли контроль над ситуацией. Кто угодно может публиковать все, что вздумается, нет больше индекса, этого указующего перста, по знаку которого вредоносные сочинения отправлялись в библиотечные секретные хранилища — в так называемый «ад». Индекс рухнул, будто отвалился, палец, изъеденный проказой новомодных идей. Простой монах, порывшись в фондах библиотеки своего аббатства, может ныне представлять серьезную угрозу для церкви, ибо в его власти предать гласности доказательства того, что Христос был всего лишь обычным человеком.
Собрание тревожно зашевелилось.
— С тех пор как святой папа Пий V основал наш Союз, мы боролись за сохранение в сознании публики образа «Господа и Бога нашего» ставшего человеком. И всегда нам это удавалось.
Братья дружно покивали.
— Но времена меняются, властно требуя более серьезных мер. Нужны средства, чтобы искоренять зло, учреждать семинарии и ограждать их от духа вольнодумства, контролировать прессу по всей планете, предотвращая некоторые публикации. Чтобы оказывать давление на правительства в сфере культурной политики, чтобы помешать исламу и сектам заполонить христианский Запад, необходимы огромные траты. Вера может двигать горы, но рычагом ей служат деньги. Они могут все: став орудием в чистых руках, они спасут церковь, которой ныне грозит утрата самого драгоценного — догматов о Воплощении Господня и Пресвятой Троице.
Одобрительный гул пробежал по залу. Ректор устремил взор на распятие, под которым дрожал обвиняемый:
— Так вот, финансируют нас до жалости плохо. А помните ли вы, как внезапно баснословно разбогатели тамплиеры? Никто так никогда и не узнал, откуда нахлынули на них эти богатства. А меж тем неистощимый источник этого благоденствия сейчас так близок, стоит только руку протянуть. Если мы овладеем этим источником, в нашем распоряжении окажутся ничем не лимитированные средства для исполнения священной миссии. При одном условии…
Он опустил взгляд — туда, где злосчастный брат, казалось, на глазах таял, готовый растечься под слепящими лучами двух прожекторов, расположенных над распятием.
— При условии, что чья-либо невоздержанность не испортит дела. Вы же, брат, такую невоздержанность допустили. Нам удалось вырвать терновый шип, вонзённый вами в плоть Господа нашего, но нам это едва удалось. Мы больше не можем полагаться на вас, и значит, ваша миссия сегодня закончится. Прошу десятерых присутствующих здесь апостолов подтвердить голосованием мое верховное решение.
Десять рук одновременно простерлись к распятию.
— Брат, наша любовь пребудет с вами. Процедуру вы знаете.
Приговоренный открыл лицо. Ректору часто приходилось его видеть, но остальным — никогда. В исключительных случаях можно было увидеть только руки.
Маска упала, присутствующие увидели перед собой старика. Вокруг его глаз залегли глубокие тени, но взгляд ни о чем более не молил; этот финальный акт был частью миссии, которую принимает на себя любой член Союза. Его приверженность к Христу — Богу была всепоглощающей, и сегодня она не ослабнет. Ректор встал, десять апостолов последовали его примеру. Они медленно протянули друг другу руки, пальцы их соприкоснулись.
Перед запятнанным кровью распятием десять мужчин, соединив руки, устремили взгляды на своего брата, который тоже поднялся. Трястись он перестал, ведь Иисус, распростертый на деревянном столбе, не дрожал.
Ректор возвысил голос и безо всякого выражения произнес:
— Брат, три лица Пресвятой Троицы знают, сколь ревностно вы служили делу одного из них.
Они примут вас в свое лоно, озарив Божественным светом, который вы искали всю свою жизнь.
Он медленно взял стоящую на столе рюмку, на мгновение вознес ее вверх, а затем протянул старику.
Тот с улыбкой шагнул вперед.
37
— Добро пожаловать в Сан-Джироламо! Я отец Иоанн, — приветствовал его хозяин гостиницы.
Выйдя из Римского экспресса, отец Нил как будто вновь почувствовал себя беспечным студентом и без колебаний устремился к остановке автобуса, идущего к катакомбам Присциллы. Радуясь встрече с городом своей юности, он и думать забыл о недавних событиях.
Он вышел незадолго до конечной, там, где берет начало виа Салариа. Окруженное пышной зеленью, аббатство Сан-Джироламо было основано папой Пием XI, который собрал здесь бенедиктинцев со всего света, чтобы заново перевести Библию на латынь.
Отец Нил поставил свой чемодан у входа в грязно-желтую монастырскую галерею, посреди которой стояла чаша с уныло поникшим пучком бамбука. Лишь слабый запах олеандра и макарон со специями напоминал, что ты в Риме.
— Вчера Конгрегация предупредила меня о вашем прибытии. В начале месяца нас также извещали и о приезде отца Андрея, он провел здесь несколько дней…
Отец Иоанн был говорлив, как и пристало римлянину с правого берега Тибра. Он подвел посетителя к лестнице, ведущей на верхние этажи.
— Дайте-ка мне ваш чемодан… ух! Какой же он тяжелый!.. Бедный отец Андрей, не пойму, что на него нашло, он уехал утром, никого не предупредил. В такой спешке собирался, даже забыл в номере кое-что из вещей. Я все это там и оставил — в той самой комнате, где и вы поселитесь. Никто не входил туда с тех пор, как ваш несчастный собрат уехал. А вы, стало быть, приехали потрудиться над григорианскими манускриптами?
Но отец Нил уже не слушал его. Сейчас он войдет в комнату отца Андрея! Ему предстоит жить там!
Отделавшись, наконец, от отца Иоанна, он оглядел комнату. Не в пример кельям его аббатства, она была загромождена самой разной мебелью. Большой шкаф, две этажерки для книг, кровать с металлической сеткой и матрацем, широкий стол с придвинутым стулом, кресло… И витающий в воздухе еле уловимый монастырский запах сухой пыли и воска.
На одной из этажерок были сложены позабытые отцом Андреем вещи. Бритвенный набор, платки, карта Рима, ежедневник… Отец Нил усмехнулся: ежедневник у монаха! Много ли туда запишешь…
С усилием взгромоздил чемодан на стол. Он был набит в основном его драгоценными записями. Сперва он хотел разместить их на этажерке, но передумал, заметив, что шкаф запирается на ключ. Туда он и положил бумаги, запрятав в самую глубину негатив из Жерминьи. Запер дверцу и, сознавая, что это как-то глупо, сунул ключ в карман.
И вдруг замер: на столе лежал конверт с его именем.
«Дорогой Нил!
Ты приехал, чтобы помочь мне в моих поисках. WelcomeinRome! По правде сказать, я ничего не понимаю: я никогда не просил, чтобы тебя сюда вызвали! И все-таки я ужасно рад, что увижу тебя. Заходи ко мне в кабинет, как только сможешь — „Секретариат по связям с евреями“, это в здании Конгрегации. Seeyousoon!
Твой старый друг Ремберт Лиланд».
Широкая улыбка озарила лицо отца Нила: «Ремби!» Так, значит, это он — тот самый музыкант, помогать которому он приехал! Конечно, можно было бы и догадаться, но ведь он не видел своего товарища по учебе в Риме уже более десяти лет, поэтому и представить не мог, что это именно он устроил ему вызов в Рим. «Ремби, как славно!» В этой поездке уже одно то хорошо, что они снова увидятся.
Он еще раз прочитал записку. Однако Лиланд, похоже, удивлен не меньше. «Я никогда не просил…» Нет, все-таки это не он вызвал его сюда.
Тогда кто же?
38
Старик в белом стихаре взял протянутую ректором рюмку, поднес к губам и залпом проглотил бесцветную жидкость. Поморщившись, опустился на стул.
Дальше все произошло очень быстро. На глазах одиннадцати апостолов, по-прежнему стоявших соединив руки, он дернулся, захрипел и со стоном перегнулся пополам. Его лицо исказилось в страшном оскале, и он рухнул на пол. Судороги продолжались около минуты, потом он затих. Из приоткрытого рта стекала на подбородок вязкая слюна. Широко раскрытые глаза смотрели на распятие, нависшее над ним.
Апостолы медленно опустили руки и сели. Тело старца, лежавшее перед ними, было недвижимо.
Брат, сидящий с краю по правую руку от ректора, встал было, держа в руках кусок ткани.
— Подожди! Наш брат еще должен встретиться со своим преемником. Прошу вас, откройте дверь.
Все еще держа в руке белый сверток, брат подошел к бронированной двери и открыл ее.
Там, в полумраке, стояла, словно в ожидании, белая фигура.
— Подойдите, брат мой!
Вновь прибывший был облачен в такой же стихарь, как все присутствующие, так же капюшон надвинут, лицо прикрыто куском ткани. Он сделал три шага вперед и в ужасе замер.
«Антонио, — подумал ректор, — такой очаровательный юноша! Жаль его. Но он должен сделать это, так полагается по уставу апостольской преемственности».
При виде скорченного тела новый брат широко раскрыл глаза. Весьма примечательные глаза — почти совершенно черная радужка и расширенные зрачки придавали взгляду нечто странное, а матовая бледность лба подчеркивала это впечатление.
Ректор движением руки дал ему знак приблизиться.
— Брат мой, вам предстоит самому прикрыть лицо апостола, чьим преемником вы сегодня стали. Вглядитесь в его черты — это был человек, всецело преданный своему делу. Когда он уже не мог более исполнять ее, он добровольно положил конец своему служению. Примите же от него апостольскую миссию, дабы служить, как он служил, и умереть, как он умер, в радости о своем Учителе.
Новый брат повернулся к тому, кто открыл ему дверь, и тот протянул ему кусок полотна. Преемник взял ткань, преклонил колена возле лежащего тела и долго смотрел на мертвое лицо. Потом вытер влажные рот и подбородок, и, почти что простершись ниц, долгим поцелуем приложился к посиневшим губам усопшего.
Затем он прикрыл тканью лицо, уже начавшее понемногу раздуваться, поднялся и наконец повернулся к недвижимым братьям.
— Хорошо, — промолвил ректор задушевным голосом. — Вы выдержали последнее испытание. Отныне вы — двенадцатый из апостолов, что окружали Господа нашего на тайной вечере, в высоких покоях дома в Иерусалиме.
Антонио пришлось уехать из родной Андалузии, так как «Опус Деи», к которому он принадлежал, нелегко расставался со своими членами. Антонио решил бежать. В Вене молчаливого юношу с черным сумрачным взглядом приметили сотрудники кардинала Катцингера. После нескольких лет наблюдения его досье было отправлено префекту Конгрегации, откуда попало уже на письменный стол Кальфо.
Два года агенты Союза Святого Пия V следили за ним, прослушивали телефонные разговоры, наблюдали за его семейством и оставшимися в Андалузии друзьями… Когда Кальфо назначил ему самую первую встречу в своих апартаментах в замке Сан-Анжело, он уже знал андалузца лучше, чем тот сам себя. В Вене, столице чувственных соблазнов, молодого человека искушали на все лады, но наслаждения и деньги не прельщали его. Лишь власть и защита католической церкви занимали его мысли.
«Андалузец с примесью мавританской крови, — промелькнуло в голове ректора. — Критиковал методы „Опус Деи“. В нем одновременно присутствуют арабская меланхоличность, венский нигилизм и разочарованность южанина. Отличное пополнение!»
И он с широким радушным жестом пригласил:
— Займите свое место среди Двенадцати, брат мой.
Перед голой стеной, на которой выделялось лишь кровавое изображение распятого, Двенадцать снова восседали в полном составе вокруг своего Учителя.
— Наша миссия вам известна. С сегодняшнего дня вы станете вносить свою лепту в нашу общую работу. Вам нужно внимательно приглядеться как можно пристальнее к французскому монаху, прибывшему сегодня в Сан-Джироламо. Мне только что сообщили, что иностранный агент чуть не погубил все наше расследование по делу этого монаха. Инцидент прискорбный, ибо агент не получал на этот счет никакого приказа. Но я не контролирую его непосредственно.
Ректор вздохнул. Он никогда не встречался с этим человеком, но имел на него подробное досье; «Непредсказуем. Постоянно испытывает потребность в бегстве от реальности, либо всецело отдаваясь музыке, либо пускаясь в опасные мероприятия. Риск возбуждает его. Моссад лишил его права убивать».
— Здесь инструкции для вас. — Он протянул: новому брату конверт, — Дальнейшие указание вам передадут, когда понадобится. Отныне вы должны забывать, кто вы!
И он указал на распятие, четко выступавшее на фоне панно из красного дерева. На правой руке сверкнул зеленый камень перстня.
«Господи! Никогда еще со времен тамплиеров Ты не подвергался такой опасности. Но когда у Твоих двенадцати апостолов появится в руках такое же оружие, что было у них, мы пустим его в ход чтобы защитить Тебя!»
39
Перед Эмилем Катцингером стоял высокий стройный человек с широким лбом, с очками в прямоугольной оправе. Кардинал жестом предложил своему посетителю садиться. — Прошу вас, монсеньор…
Глаза Ремберта Лиланда блестели даже за стеклами очков. На продолговатом англосаксонском лице выделялись полные губы артиста. Он устремил на его преосвященство вопрошающий взгляд.
— Вы, должно быть, спрашиваете себя, почему мы вас вызвали… Но сперва скажите: ваше время полностью отдано связям с нашими братьями — евреями?
Лиланд улыбнулся, и в его чертах мелькнуло что-то по-студенчески озорное:
— По правде сказать, не совсем, ваше преосвященство. К счастью, у меня есть еще мои работы по музыковедению.
— Вот именно о них-то и пойдет речь. Сам Святейший Отец проявляет интерес к вашим исследованиям. Если вы сможете доказать, что григорианские песнопения ведут свое происхождение от тех, что в раннем Средневековье исполнялись в синагогах, это может послужить нашему сближению с иудаизмом. Мы также назначили вам в помощники специалиста, разбирающегося в старинных текстах, которые вы изучаете… Это французский монах, блестящий толкователь Писания. Отец Нил из аббатства Сен-Мартен.
— Я еще вчера узнал об этом. Мы с ним когда-то вместе учились.
Кардинал улыбнулся:
— Так вы знакомы? Тем лучше — совместите приятное с полезным, такие встречи старых друзей всегда приятны. Он только что прибыл. Общайтесь с ним сколько пожелаете. Да слушайте его хорошенько, отец Нил — кладезь познаний, ему есть что сказать, и вы многое почерпнете из встреч с ним. А затем… время от времени вы будете отчитываться мне о содержании ваших бесед. Письменно, я буду единственным адресатом и читателем. Вы меня понимаете?
Глаза Лиланда расширились от изумления: «Что все это значит? Он меня просит вызвать отца Нила на откровенность, а потом настрочить ему рапорт? За кого он меня принимает?»
Глядя на изменившееся лицо американца, кардинал, как в открытой книге, прочел по нему всё, что происходило в его душе. И добавил с благодушной улыбкой:
— Не беспокойтесь, монсеньор, я не прошу вас сочинять доносы. Вы просто будете информировать меня об изысканиях и трудах вашего друга. Я очень занят и не смогу принять его лично. Тем не менее, мне тоже любопытно быть в курсе последних, новейших достижений экзегезы. Вы окажете мне услугу, расширив в этом направлении мой кругозор.
Увидев, что это Лиланда не убеждает, кардинал сменил тон и сказал уже гораздо суше:
— Хочу напомнить, каково ваше положение. Нам пришлось отозвать вас из Соединенных Штатов и здесь возвести в ранг епископа, только чтобы пресечь скандал, который вы там спровоцировали. Святейший Отец не допускает сомнений по поводу его отказа — категорического и правомерного — поручать миссию священнослужителей женатым мужчинам. Ведь вслед за ними настал бы черед женщин, почему нет? Тем более он не склонен терпеть, если аббат-бенедиктинец, настоятель знаменитого монастыря Святой Марии, публично будет давать ему советы на этот счет. Сейчас вам, монсеньор, выпадает шанс искупить свои заблуждения в глазах папы. Итак, я рассчитываю на ваше сотрудничество, конфиденциальное и действенное. Вам понятно?
Лиланд молчал, глядя в пол. Тогда кардинал, воспроизводя интонации своего родителя, когда тот только что вернулся с восточного фронта, отчеканил:
— Досадно, что я вынужден напоминать вам об этом, монсеньор, но ведь существует и другая причина, по которой пришлось заставить вас срочно покинуть вашу страну, а также возвести в епископский сан, дабы это не только возвысило, но и кое от чего оберегало вас впредь. Теперь понятно?
Лиланд грустно посмотрел на кардинала и кивнул, подтверждая, что понял. Господь прощает все грехи, но церковь заставляет своих служителей расплачиваться за них.
Причем расплачиваться очень долго.
40
Пелла, конец 66 года
— Отец, я думал, мне никогда сюда не добраться!
Двое мужчин с жаром обнялись. Осунувшееся лицо Иоханана свидетельствовало о его крайнем изнеможении.
— Двенадцатый римский легион предал огню и мечу все побережье. Сейчас он с боями отступил от Иерусалима, понеся значительные потери. Говорят, император Нерон вызовет из Сирии генерала Веспасиана, чтобы усилить позиции за счет Пятого и Десятого Сокрушительного легионов. Тысячи воинов, закаленных в битвах, стягиваются к Палестине. Это начало конца!
— А Иерусалим?
— Пока свободен. Там Иаков боролся, как мог, против обожествления своего брата, но в конце концов признал его Богом публично. В глазах еврейских властей это было святотатством, и Синедрион приказал побить его камнями. Христиане в смятении.
«Иаков! С ним исчезла последняя узда, еще сдерживавшая амбиции церквей».
— О Петре что-нибудь слышно?
— Все еще в Риме. А там, по слухам, гонения. Нерон одинаково ненавидит и иудеев, и христиан. Сама церковь Петра в опасности. Может статься, что и там тоже всему конец.
Он показал на свою дорожную торбу, где лежало несколько пергаментных свитков.
— Иаков, Петр… Они принадлежат прошлому, аббу. Теперь по рукам ходят несколько Евангелий, а еще новые послание Павла…
— Я все это получил от наших беженцев. — Он указал на стол в перистиле, заваленный рукописями. — Матфей переделал свой текст. Я заметил, что он следует примеру Марка, тот первым составил нечто вроде истории Иисуса, начав со встречи на берегу Иордана и закончив опустевшей гробницей. На самом деле это вообще не Матфей писал, потому что, сам видишь, написано по-гречески. Он, видимо, сначала написал по-арамейски, а после отдал переводчику.
— Да, конечно. Третье Евангелие распространяется тоже на греческом. Его копии идут из Антиохии, и я смог встретиться с автором, его зовут Лука, он близок к Павлу.
— Я прочел эти три Евангелия. Чем дальше, тем больше они приписывают Иисусу то, чего он не говорил: будто он считает себя мессией или даже Богом. Это неизбежно, Иоханан. А как… как там мой рассказ?
Он в конце концов согласился написать, но не Евангелие, как у Марка и прочих, а рассказ. Иоханан переписал его и пустил по рукам. Возлюбленный ученик поведал о собственных воспоминаниях — о встрече на берегу Иордана, о том, что поразило его с самых первых дней. Но он остался в Иудее, когда Иисус отправился жить и проповедовать на север, в Галилею. О том, что происходило там, он почти не упоминал. Его повествование возобновлялось с того момента, когда Двенадцать во главе со своим Учителем вернулись в Иерусалим, — оно охватывало несколько последних недель перед распятием. И тоже заканчивалось опустевшей могилой.
Разумеется, о том, что затем последовало, — об изъятии тела Адонией и Озией, сыновьями Елиезера Бен-Аккайи, там и речи не было. Роль ессеев в исчезновении тела казненного должна была остаться нерушимой тайной.
Так же, как и место упокоения Иисуса.
Между двумя этими периодами — началом и концом — он поместил воспоминания своих иерусалимских друзей: Никодима, Лазаря, Симона-Прокаженного. Рассказ писался сразу по-гречески, Иисус изображался таким, каким он его помнил: прежде всего евреем, но ослепительным, когда Отец его Небесный, Бог, которого он называл Авва, будто бы вселялся в него. Никогда еще ни один иудей не осмеливался так запросто именовать Моисеева Бога.
Он повторил вопрос:
— Так что с моим рассказом, Иоханан? Лицо молодого человека омрачилось:
— Его читают. Твои ученики, те знают его наизусть, но и в церкви Павла он тоже известен, кажется, дошел до Вифании[12].
— И там его принимают уже совсем по-другому, не так ли?
— Нет. В Иудее евреи упрекают тебя в том, что ты изобразил Иисуса пророком, превосходящим самого Моисея. А у греков считают, что твой Иисус слишком человек. Уничтожить свидетельство возлюбленного ученика никто не осмеливается, но, прежде чем читать народу, его исправляют или, как они выражаются, «дополняют», причем чем дальше, тем больше.
— Не удалось меня зарезать, как Иуду, вот и уничтожают меня пером. Мой рассказ будет превращен в четвертое Евангелие, они просто переделают его на свой лад.
И снова, как когда-то, Иоханан опустился на колени перед своим аббу, взял его руки в свои:
— Если так, отец, напиши послание для нас, твоих учеников. Я его припрячу в надежном месте, пока это еще возможно: иерусалимские евреи хоть и объяты фанатическим пылом, долго не продержатся. Напиши правду об Иисусе, а чтобы никто не смог ее извратить, открой и то, что тебе ведомо о его могиле. Не той, иерусалимской, что опустела, а настоящей, в пустыне, где покоится его прах.
Теперь в Пеллу со всех концов стекались беженцы. Сидя у перистиля, старик смотрел на долину. На противоположном берегу Иордана уже можно было разглядеть столбы дыма над горящими фермами.
Это дело рук грабителей, всегда идущих вслед за наступающей армией. Это был конец. Настала пора послать весть грядущим поколениям.
Решительно усевшись за стол, он взял лист пергамента и начал писать: «Я, возлюбленный ученик Иисуса, обращаюсь ко всем церквам…»
На следующий день, когда Иоханан уже седлал мула, он подошел к нему:
— Если тебе удастся выбраться, попробуй передать это послание иерусалимским и сирийским назореям.
— А как же ты?
— Я останусь в Пелле до последнего. Если римляне подойдут совсем близко, поведу своих назореев на юг. Когда возвратишься, ступай прямиком в Кумран, там тебе скажут, где меня искать. Береги себя, сын.
С комом в горле, молча он протянул Иоханану полую камышину, которую молодой человек тотчас засунул за пояс. Внутри был спрятан простой листок пергамента, скрученный и крепко перевязанный льняной тесьмой.
Послание тринадцатого апостола потомкам.
41
Миновав сначала Виллу Дориа-Памфили, отец Нил свернул на виа Салариа Антика, зажатую между каменными стенами. Ему нравились неровные мостовые старых имперских дорог, чьи плиты явно сохранились еще со времен Древнего Рима. В студенческие годы он увлеченно изучал этот город, Mater Praecipua — Мать всех народов. Отец Нил вышел на виа Аурелиа, что приводит к Ватикану, к этому городу-государству внутри Рима, но не со стороны центрального входа, а с противоположной. Без колебаний он направился к зданию Конгрегации вероучения.
Секретариат по связям с евреями находился в пристройке со стороны базилики Святого Петра. Отцу Нилу пришлось карабкаться на четвертый этаж, под самую кровлю, чтобы попасть в коридор с нишами в стенах — там располагались кабинеты минутантов.
«Монсеньор Ремберт Лиланд (орден Святого Бенедикта)». Монах негромко постучал.
— Нил! Как я рад тебя видеть! (Ремберт даже повторил это по-английски: «God bless, so good to see you!»)
Его крошечный кабинет отделялся от соседних простой перегородкой. Места здесь хватало только на то, чтобы пробраться к единственному стулу, стоящему напротив до странности пустого стола. Заметив удивление друга, Лиланд смущенно улыбнулся:
— Я всего лишь скромный минутант незначительного секретариата… На самом деле я работаю в основном у себя, здесь мне едва хватает воздуха, чтобы не задохнуться.
— И на это ты поменял равнины родного Кентукки!
На лицо американца набежала тень:
— Я здесь в ссылке, Нил. За то, что громко говорил то, о чем многие думают, но помалкивают…
Отец Нил с нежностью разглядывал его:
— Ты все такой же, Ремби.
Учась в Риме как раз после вселенского собора, они разделяли надежды всей молодежи, верившей в обновление церкви и общества. Эти иллюзий, давно унесенные ветром, оставили в них свой след.
— Ты ошибаешься, Нил. Я очень изменился, больше даже, чем сумел бы высказать. Я уж не тот. Но ты-то как? В прошлом месяце было сообщение о страшной смерти одного из ваших монахов, он еще ехал в Римском экспрессе… Поговаривали о самоубийстве. А теперь ты вдруг приезжаешь сюда, хоть я об этом не просил. Что происходит, друг?
— Я хорошо знал отца Андрея, он не из тех, кто кончает с собой. Напротив, он был страстно увлечен исследованиями, которые мы с ним вели уже несколько лет, хоть и не вдвоем, но параллельно. Он обнаружил нечто такое, о чем не хотел — или не мог — откровенно рассказать мне, но у меня создалось впечатление, что он направлял меня, подталкивал, желая, чтобы я пришел к тому же самостоятельно. На официальное опознание тела пришлось поехать именно мне, и я обнаружил зажатую у него в кулаке записочку, которую он написал перед самой смертью. Андрей там перечислил четыре пункта, насчет которых собирался поговорить со мной по возвращении. Предсмертные письма самоубийц пишутся не так — та записка служила доказательством, что у него были планы на будущее и он собирался привлечь меня к своей работе. Я никому эту записку не показывал, но у меня ее украли из кельи — понятия не имею кто.
— Украли?
— Да, и это еще не все. У меня также пропали некоторые из моих заметок.
— А расследование причин смерти отца Андрея? О нем что-нибудь сообщали?
— В местной газетке появилась короткая заметка о несчастном случае со смертельным исходом, да в «Ла Круа» — обычное уведомление о кончине. Никаких других газет мы не получаем, радио не слушаем и телевизора не смотрим — нашим монахам ведомо лишь то, о чем отец настоятель сочтет нужным возвестить на капитуле. Жандарм, обнаруживший тело, сказал, что речь идет об убийстве, но его отстранили от расследования.
— Убийство?!
— Да, Ремби. У меня это тоже никак в голове не укладывается. Но я хочу знать, что произошло, почему умер мой друг. Его последняя мысль была обращена ко мне, и теперь у меня такое чувство, будто мне что-то завещано и я обязан это сделать. Последняя воля умершего священна, особенно когда это такой человек, как отец Андрей.
Отбросив появившиеся было в начале сомнения, отец Нил рассказал другу об исследовании текста Евангелия от святого Иоанна и об обнаруженном им возлюбленном ученике. Он описал их частые беседы с отцом Андреем, упомянул и о его странном поведении в Жерминьи, и о фрагменте коптской рукописи, найденном под обложкой его последней работы.
Лиланд слушал, не прерывая.
— Нил, я никогда ничего не умел, ни в чем не разбирался, кроме музыки. Ну и, само собой, информатики — в пределах работы с манускриптами, которые изучаю. Но я не понимаю, каким образом ученые занятия могут спровоцировать столь драматические события и вызвать у тебя такую тревогу.
О просьбе кардинала-префекта он при этом осмотрительно умолчал.
— Отец Андрей непрестанно, хоть и в завуалированной форме, намекал, что наши исследования имеют особую важность, но суть ее от меня пока ускользает. Я как будто вижу перед собой нити гобелена, не зная узора канвы. Но теперь, Ремберт, я решил идти до конца: я хочу понять, почему погиб отец Андрей, и хочу раскрыть тайну, над разгадкой которой я бьюсь годами.
Лиланд был поражен яростной решимостью, которую он видел на лице, обычно умиротворенном и кротком. Он встал, обошел стул и открыл дверь:
— У тебя будет возможность продолжать здесь свои исследования. Но сейчас нам с тобой надо посетить книгохранилище Ватикана. Я отведу тебя туда, где я работаю, да и тебе не мешает показаться там: не забывай, что повод твоего приезда в Рим — мои рукописи григорианских песнопений.
Тут Лиланду припомнился его вызов к Катцингеру — может, и там имелся другой мотив? В молчании они зашагали по лабиринтам коридоров и лестниц, ведущих к выходу на площадь Святого Петра.
А тем временем человек в соседнем кабинете снял наушники, соединенные с коробкой, прикрепленной к деревянной перегородке с помощью присосок. Пасторская куртка сидела на нем элегантно, да и сшита была безукоризненно. Оставив наушники болтаться на шее, человек быстро разложил по порядку листки, покрытые мелкими стенографическими значками. Его до странности черные глаза удовлетворенно блестели: слышимость была отличная, перегородка не слишком толстая. Он не упустил ни словечка из разговора американского монсеньора с французским монахом. Этим двоим только дай поговорить, и они нескоро остановятся.
Ректор Союза Святого Пия V останется доволен: все идет как задумано.
42
— Книгохранилище находится в подземельях Ватикана. Я запросил для тебя аккредитацию, допуск в эту часть здания строго контролируется — когда попадешь туда, сам поймешь почему.
Они прошли вдоль высокой стены, возведенной вокруг почти всего города-государства Ватикан (а то, что находится внутри этой стены, здесь называют просто Ситэ, то есть Град) и пошли по виа делла Порта Ангелика до главного караульного поста. Два швейцарца в голубой униформе пропустили их, и они направились сквозь череду внутренних дворов к дворцу Бельведер. За его стенами хранятся музейная галерея камней и библиотека Ватикана. Несмотря на ранний час, сквозь стекла можно было разглядеть чьи-то силуэты.
Лиланд знаком предложил следовать за ним и прошел немного вперед, потом завернул за угол и остановился возле маленькой металлической двери с кодовым замком. Американец набрал несколько цифр и, пока ждали, пояснил:
— Некоторые сотрудники, прошедшие тщательный отбор, имеют постоянную аккредитацию. Но тебе придется предъявлять пропуск.
Полицейский в штатском из папской службы открыл дверь и оглядел посетителей с подозрением. Но, узнав Лиланда, изобразил улыбку:
— Buongiorno, monsignore. Этот монах с вами? Можно взглянуть на его пропуск?
Отец Нил уже снова был в Своем монастырском одеянии — Лиланд ему объяснил, что здесь это многое упрощает. Они вошли в помещение, смахивающее на переходный отсек субмарины, и отец Нил протянул стражу бумагу с гербом Ватикана. Полицейский молча взял ее и скрылся.
— Контроль здесь строгий, — шепнул американец. — Библиотека Ватикана открыта для публики, но в ее подземных хранилищах содержатся старинные рукописи, к которым редко кто допускается. Ты сейчас увидишь отца Бречинского, главного хранителя. Понимая неоценимую важность сокровищ, собранных здесь, папа назначил на этот пост поляка, это человек скромный, незаметный, но всецело преданный Святейшему Отцу.
Полицейский вернулся и отдал отцу Нилу его пропуск.
— Эту бумагу будете предъявлять всякий раз, как придете. Вам не разрешено проходить сюда одному, а только в сопровождении монсеньора Лиланда, у него допуск постоянный. Следуйте за мной.
Длинный коридор, плавно спускаясь вниз, вел в подземную часть здания. Наконец они оказались перед бронированной дверью. У отца Нила возникло ощущение, будто они пробираются в цитадель, ждущую вражеского набега. «Это место упрятано под тысячетонной базиликой Святого Петра, Здесь неподалеку гробница апостола». Полицейский ввел магнитную карточку, набрал код, дверь со скрежетом открылась.
— Вы знаете, как пройти к отцу Бречинскому, монсеньор. Он ждет вас.
Лицо человека, стоявшего на пороге второй бронированной двери, было почти мертвенно-белым, что подчеркивала строгая черная сутана. Его близорукие глаза смотрели из-под круглых очков:
— Добрый день, монсеньор. А это француз, об аккредитации которого мне сообщила Конгрегация?
— Он самый, любезный отче. Его прислали мне в помощь. Это отец Нил, монах из аббатства Сен-Мартен.
Отец Бречинский вздрогнул:
— Вы случайно не собрат отца Андрея?
— Мы были собратьями тридцать лет.
Казалось, отец Бречинский хотел задать какой-то вопрос, даже рот приоткрыл, но передумал и приветственно кивнул. Потом обернулся к Лиланду:
— Монсеньор, зал подготовлен. Если вы пройдете за мной…
В молчании они пересекли анфиладу сводчатых залов, соединенных арками. Все стены были заняты застекленными полками, слышалось тихое гудение гидрометрических приборов — для сохранения старинных манускриптов необходимо контролировать уровень влажности. Взгляд отца Нила скользил по шкафам, мимо которых они проходили: античность, Средние века, эпоха Возрождения, Рисорджименто… Судя по надписям здесь собраны бесценные памятники истории христианского Запада, казалось, будто вся она проплывает перед тобой на нескольких десятках метров.
Позабавленный удивлением своего спутника, Лиланд зашептал:
— В музыкальной секции — я ведь только ею и пользуюсь — я тебе покажу собственноручные партитуры Вивальди, страницы «Мессии» Генделя, восемь первых тактов моцартовской «Лакримозы»— последние ноты, написанные им уже при смерти. Все это хранится здесь…
Секция музыки находилась в последнем зале. В центре, под лампами, стоял пустой стол, покрытый идеально чистым стеклом.
— Вы все здесь знаете, монсеньор, так что я вас оставлю. М-м… — казалось, он сделал над собой какое-то усилие. — Отец Нил, не зайдете ли ко мне в кабинет? Надо подыскать вам перчатки по размеру, они понадобятся при работе с манускриптами.
Лиланд, похоже, удивился, но ничего не сказал, когда отец Нил прошел за библиотекарем в кабинет, дверь которого как раз выходила в их зал. Там отец Бречинский тщательно закрыл за собой дверь, взял с полки какую-то коробку, повернулся к отцу Нилу… Вид у него был смущенный:
— Отец мой, могу ли я вас спросить, каковы были ваши отношения с отцом Андреем?
— Мы были очень близки между собой, а что?
— Ну я… видите ли, я с ним состоял в переписке, он иногда спрашивал мое мнение о древних надписях, которыми занимался.
— Так, значит… Это вы?
Отцу Нилу вспомнилось: «Я отослал фотографию плиты из Жерминьи одному сотруднику Ватикана. Он ответил, что получил. Без комментариев».
— Андрей говорил мне о своем знакомом из ватиканской библиотеки, но я не знал, что это вы. Не думал, что у меня появится случай встретиться с вами!
Наклонив голову, отец Бречинский машинально мял в руках перчатки, вынутые из коробки.
— Он, как и другие исследователи, просил меня о некоторых технических уточнениях. У нас, хоть и на расстоянии, возникли доверительные отношения. Потом однажды я, разбираясь в коптском фонде, нашел маленький фрагмент манускрипта, по-видимому, происходящего из Наг-Хаммади. Он никогда не переводился. Я послал его отцу Андрею. Он, казалось, был очень взволнован этой находкой, но отправил мне ее назад без перевода. Я написал ему, не понимая, в чем дело. Тогда он выслал мне по факсу фотографию надписи эпохи Каролингов, найденной в Жерминьи, и осведомился, что я о ней думаю.
— Знаю, мы вместе фотографировали эту плиту. Отец Андрей держал меня в курсе своих изысканий. Почти всех.
— Почти?
— Да, он говорил мне не все. И не скрывал этого. Мне всегда было непонятно, какие тут могут быть тайны.
— Потом он приехал сюда, это был первый раз когда мы встретились лично, встреча была… весьма насыщенной. Затем он исчез, больше я его не видел. А вскоре из газеты «Ла Круа» узнал о его смерти — то ли несчастный случай, то ли самоубийство…
Отцу Бречинскому было явно не по себе, он прятал глаза, старался не смотреть на собеседника. И, наконец, протянул пару перчаток.
— Не стоит находиться у меня слишком долго, вы должны вернуться в зал. Я… мы еще потолкуем, отец Нил. Попозже. Я найду способ. Не доверяйте здесь никому, даже монсеньору Лиланду.
— Что вы хотите сказать? Я, наверное, никого больше и не увижу в Риме, но ему верю безусловно мы вместе учились, я его знаю много лет.
— Но он провел какое-то время в Ватикане. Это место меняет любого, кто приблизится к нему. И таким людям уже никогда не стать прежними… Неважно, забудьте все, что я вам сказал, только берегитесь, будьте осторожны!
Лиланд между тем уже разложил на столе свои манускрипты.
— Долго же, однако, он перчатки искал! А между тем в соседнем зале их полным полно в ящике, на все размеры…
Не отвечая на встревоженный взгляд друга, отец Нил склонился к большой прямоугольной лупе, Закрепленной над рукописью. Вгляделся:
— Иллюминирований нет, наверняка написано ранее X века. Ну, Ремби, за дело!
В полдень они перекусили сандвичами, которые принес им отец Бречинский. Неожиданно подобрев, поляк попросил отца Нила объяснить, в чем будет состоять его работа.
— Сначала надо разобрать латинский текст этой рукописи григорианских песнопений. Затем перевести с древнееврейского тексты, которые пели в старину иудеи. Мелодически они между собой близки. Мое дело — сопоставить их по содержанию, конечно, я занимаюсь только текстами, все остальное — забота монсеньора Лиланда.
— Древнееврейский для меня так же темен, как средневековые письмена, — со смехом пояснил американец.
Когда они вышли из здания, солнце уже висело низко над горизонтом.
— Я сразу вернусь в Сан-Джироламо, — извиняющимся тоном сказал отец Нил. — Голова разболелась от этого воздуха, там же всюду кондиционеры…
Но отец Лиланд остановил его. Они проходили как раз по площади Святого Петра:
— По-моему, ты произвел сильное впечатление на отца Бречинского. Обычно от него не дождешься более трех фраз подряд. Так вот, друг мой, я хочу тебя предостеречь: не доверяй ему.
«И он туда же! Господи, куда я попал?»
А Лиланд настаивал, лицо его стало суровым: — Держись настороже, не допускай лишнего. Если с тобой заговаривают, то только затем, чтобы тебя прощупать, здесь ничто не делается по простоте душевной. Ты представить себе не можешь, до какой степени Ватикан опасен. Не доверяй никому и ничему.
43
Отец Нил вошел в свою комнату в Сан-Джироламо. Он так и не смог привести в порядок свои мысли. Удостоверившись, что из шкафа, по-прежнему запертого на ключ, ничего не пропало, он подошел к окну; там опять поднимался сирокко, этот кошмарный южный ветер, покрывающий город тонким налетом песка, принесенного из Сахары. Рим, обычно залитый солнечным светом, накрыл желтоватый туман.
Он закрыл окно, чтобы уберечься от песка. Хотя это не поможет спастись от мигрени, вызываемой сильным спадом атмосферного давления, неизменно сопровождающим сирокко, все население страдает такими же головными болями, и, если преступление совершается под воздействием сирокко, римская юстиция принимает это во внимание как смягчающее обстоятельство.
Решив заблаговременно принять таблетку аспирина, он шагнул к полке. И остановился, глядя на забытые отцом Андреем вещи. Отвергнутый своей семьей за то, что ушел в монастырь, раненый жестокой утратой друга, отец Нил легко приходил в волнение, слезы навернулись, затуманивая его взгляд. Он сгреб все разом и засунул на дно своего чемодана — отныне это станет для него драгоценной памятью и займет место в его келье в Сен-Мартен.
Он машинально раскрыл записную книжку, стал перелистывать. Ежедневник монаха так же монотонно приглажен, как и его жизнь; страницы были девственно-чисты вплоть до первых чисел ноября. Там отец Андрей отметил день и час своего отъезда в Рим, затем — время своих собеседований в Конгрегации. Отец Нил перевернул страницу и увидел несколько строчек, нацарапанных явно второпях.
С бьющимся сердцем он присел к уголку стола, зажег лампу.
Вверху страницы слева отец Андрей вывел заглавными буквами: «ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА». Затем, чуть ниже, следовали два имени: «Ориген, Евсевий Цезарийский», потом еще три буквы и шесть цифр. Более ничего.
Ориген и Евсевий — отцы греческой церкви.
На странице напротив стояло: «S.C.V. Тамплиеры». И снова три буквы, но цифр уже только четыре.
Какая связь между тамплиерами и отцами церкви?
Голова слегка кружилась. Это из-за сирокко?
«Послание апостола»… В речах отца Андрея, когда они беседовали наедине, мелькало что-то в этом роде, но очень туманно. И об этом же говорилось в оставленной им записке, написанной в Римском экспрессе.
Отец Нил часто спрашивал себя, каким образом эти загадочные слова могут ему послужить. И вот его друг, словно он по-прежнему рядом, опять направляет его, как будто подсказывает, что о его судьбе можно выяснить нечто важное, если заглянуть в писания двух отцов церкви, чьи имена он записал здесь, словно ориентир.
Надо бы раздобыть эти тексты. Но где?
Отец Нил устало побрел в ванную, наполнил стакан воды, бросил туда таблетку аспирина и замер в сосредоточенном размышлении. Три буквы, а за ними цифры — это шифры из классификатора Дьюи, обозначающие место, занимаемое данными книгами в библиотеке. Но в какой именно? Преимущество системы Дьюи в том, что она способна расширяться до бесконечности. Две последние цифры с большой вероятностью могли бы помочь отыскать нужную библиотеку среди сотен других.
Если расспрашивать каждого библиотекаря. В каждой библиотеке…
Он выпил аспирин.
Искать книгу, исходя только из шифра Дьюи, — все равно что разыскивать машину в паркинге на четыре тысячи мест, не зная ни места ее стоянки, ни марки, ни имени служителя, что дежурил на въезде. Собственно не зная даже, о каком паркинге идет речь…
Он потер ладонями виски, боль нарастала быстрее, чем действовал аспирин.
Три буквы после Оригена и Евсевия дополнялись шестью цифрами — это, стало быть, полный шифр, точное указание на место, занимаемое книгой на стеллаже. Но за тремя буквами, сопровождающими «S.C.V. Тамплиеры», следовали только четыре цифры; они указывали стеллаж, может быть, отдел данной библиотеки, но не точное расположение книги.
«S.C.V.» — что это? Аббревиатура? Сокращенное название библиотеки? В какой части света ее искать?
Теперь боль уже сжимала голову отца Нила, как пыточные тиски, мешая думать. Отец Андрей многие годы поддерживал, часто через Интернет, связь с библиотекарями всей Европы. Если один из этих шифров принадлежал, скажем, венской библиотеке, вряд ли имеет смысл попросить преподобного отца настоятеля заказать ему обратный билет в Австрию.
Он принял еще одну таблетку аспирина и вышел на плоскую крышу, откуда был виден весь квартал. Вдали виднелся высокий купол базилики Святого Петра. Могила апостола находилась в песчанике Ватиканского холма, который в ту пору находился за городской чертой, Нерон велел построить на нем императорскую резиденцию и цирк. Это там, в году 67-м были распяты тысячи христиан и евреев, между которыми ненависть правителя не видела разницы.
Последние исследования раскрыли перед ним облик Петра с неожиданной стороны — как человека, подвластного гибельным порывам. Деяния апостолов свидетельствуют, что двое иерусалимских христиан, Анания и Сафира, пали от его руки. Убийство Иуды не более чем гипотеза, однако она опирается на многие факты и заслуживает внимания. Тем не менее смерть, которую Петр принял в Риме, была мученической, и, как сказал Паскаль, «Я верю тем, кто умирает за свою веру». Петр был рожден честолюбивым, грубым, расчетливым, но, может быть, в свои последние мгновения он все же наконец стал истинным учеником Иисуса? Это нельзя доказать или опровергнуть, можно только надеяться.
«Петр, вероятно, был, подобно любому из нас, человеком двойственным, способным на самое доброе после самого дурного…»
Отцу Нилу только что сказали, что не следует доверять никому и ничему. Эта мысль была для него невыносима: если над этим задуматься, то лучше просто уехать на первом же поезде, как и отец Андрей. Чтобы не потерять присутствия духа, он решил с головой уйти в работу. Жить в Риме, как в монастыре, столь же уединенно.
«Я буду искать. И я найду».
44
Ватиканский холм, год 67
— Петр! Если ты ничего не ешь, хотя бы попей!
Старик оттолкнул кувшин, который протягивал ему молодой человек, одетый в короткую тунику раба. Потом он сел, подложил себе под спину немного соломы и прислонился к кирпичной стене, выложенной согласно opus reticulatum [13]. Его трясло: пройдет несколько часов, и он будет распят. Потом его тело вместе с другими зальют смолой. А когда стемнеет, палачи подожгут эти живые факелы, которые нужны для спектакля, задуманного императором, чтобы потешить римский народ.
Вот уже несколько дней прошло с тех пор, как приговоренных к смерти согнали в эти длинные сводчатые коридоры, выходящие прямо на цирковую арену. Сквозь зарешеченную дверь были видны два межевых столба — меты, отмечающие начало и конец дорожки. Это здесь, вокруг громадного обелиска, возведенного посреди арены, каждый вечер казнят через распятие мужчин, женщин и детей евреев — предполагаемых виновников чудовищного пожара, разрушившего город несколько лет тому назад.
— Зачем мне есть или пить, Лин? Ты же знаешь, это случится сегодня вечером; начинают всегда с самых старых. Ты проживешь еще несколько дней, и Анаклет увидит, как уведут тебя, а потом сам присоединится к нам одним из последних.
И он погладил по голове ребенка, сидевшего рядом с ним на соломе. Тот смотрел на него, с обожанием, синие тени лежали вокруг его больших глаз.
Как только Петр прибыл в Рим, он взял управление христианской общиной в свои руки. Обращенные в большинстве своем были рабами, подобно Лину и маленькому Анаклету. Все они прежде увлекались разного рода восточными религиями мистерии Востока, столь притягательными для простого люда, — они сулили за могилой лучшую жизнь, а в этой поражали воображение кровавой живописностью обрядов. Строгая, чистая религия евреев, принявших Христа, бывшего одновременно Богом и человеком, имела огромный успех.
Петр в конце концов признал, что полное обожествление Иисуса — непременное условие распространения новой религии. Он отбросил последние сомнения, еще удерживавшие его первое время среди новообращенных Иерусалима: «Иисус мертв. Бог-Христос жив. Только живой может подвигнуть людские толпы к новой жизни».
Галилеянин стал неоспоримым главой римской общины, о тринадцатом апостоле больше и речи не было.
Он закрыл глаза. В начале своего заточения он рассказал другим узникам, что воины схватили его на виа Аппиа, когда он в потоке других беженцев пытался спастись от преследований Нерона, Расценивая такую попытку как трусость, многие христиане, угодившие в темницу из-за своей отваги, стали обходить его стороной.
Жизнь покидала его. Продержится ли он до вечера? Надо продержаться. Он должен выдержать эту отвратительную казнь, чтобы искупить свои прегрешения и стать достойным Божьей милости.
Он жестом позвал Лина, сидевшего на заплесневелом каменном полу рядом с Анаклетом. С полудня рычания диких зверей больше не было слышно, их еще утром перебили гладиаторы в большом сражении. Доносившийся сюда аромат стряпни сливался с запахом крови и экскрементов. Чтобы заговорить, ему пришлось пересилить себя:
— Может быть, вы еще выживете, ты и это дитя. Три года назад, сразу после пожара, самые юные из приговоренных были отпущены на свободу, когда народ пресытился ужасами, творившимися на арене. Ты будешь жить, Лин. Так надо.
Раб смотрел на него неотрывно, со слезами на глазах:
— Но если здесь больше не будет тебя, Петр, кто станет управлять нашей коммуной? Кто будет нашим наставником?
— Ты. Я знаю тебя еще с тех пор, как ты был выставлен на ярмарочные торги близ Форума. И я видел, как рос твой мальчик. Ты и он, вы оба останетесь в живых. Вы — будущее церкви. Я же теперь не более чем старое дерево, уже мертвое внутри…
— Как ты можешь такое говорить? Ты, который знал Господа нашего, ты, следовавший за ним и неустанно ему служивший!
Петр склонил голову. Преданный Иисус, убийства, ожесточенная борьба с противниками в Иерусалиме — он причинил столько зла…
— Слушай меня хорошенько, Лин, солнце уже низко, времени осталось мало. Надо, чтобы ты об этом знал: я грешен. И не только по несчастной случайности — такое может случиться с каждым из нас. Нет, я грешил подолгу, снова и снова. Скажи об этом нашей церкви, когда все закончится. Но скажи ей и то, что я умер примиренным, ибо признал свои ошибки, свои неисчислимые заблуждения. Потому что испросил прощения за них у самого Иисуса и у Бога его. И еще потому, что никогда, ты слышишь, никогда христианин не должен сомневаться в прощении Господнем. В этом самая суть того, о чем возвещал Иисус.
Лин сжал обе ладони Петра своими — они были как лед. Может быть, жизнь покидает его? Некоторые уже умирали в этом тоннеле, даже не успев подвергнуться пытке.
Старик поднял голову:
— Запомни, Лин, и ты, мальчик, тоже послушай: в вечер последней трапезы, которую мы приняли вместе с Учителем перед самым его арестом, нас было двенадцать подле него. Только двенадцать человек было рядом с Иисусом. Я был там, и я о том свидетельствую перед Богом в мой смертный час. Может быть, однажды вы услышите что-либо о тринадцатом апостоле. Но ни ты, ни Анаклет, ни те, что придут вам на смену, не должны допускать никаких разговоров и даже простого упоминания об ином апостоле, кроме Двенадцати. Само существование церкви зависит от этого. Даете ли вы в том торжественную клятву передо мной и перед Богом?
Молодой человек и ребенок сурово кивнули.
— Если он только выйдет из темноты на свет, этот тринадцатый апостол, он может уничтожить все то, во что мы верим. Все то, что позволит им, — он указал на неясные в полутьме силуэты, лежащие на плитах, — всем этим мужчинам и женщинам сегодня вечером умереть спокойно, может быть, даже с улыбкой. А теперь оставьте меня. Я многое еще должен сказать Господу моему.
Петр был распят на закате меж двух межевых столбов ватиканского цирка. Когда его тело обложили хворостом и подожгли, его костер, вспыхнув на какое-то мгновение, осветил обелиск, стоявший в нескольких шагах от его креста.
Два дня спустя Нерон объявил об окончании игр, все приговоренные были выпущены на волю, предварительно получив по тридцать девять ударов бича.
Так первым преемником Петра стал Лин, потом на его место заступил Анаклет, третий в том списке пап, что в целом свете провозглашается на каждой католической мессе. Это он приказал построить первую часовню над могилой Петра. Впоследствии ее заменили базиликой, величественной, как того пожелал император Константин.
Торжественная клятва двух пап, преемников Петра, передавалась тем, кто приходил вслед за ними, из века в век.
Сирокко утих, и Рим сиял во славе своей. Отец Нил обелиском — тем самым, у подножия которого девятнадцать веков тому назад добровольно встретил страшную казнь ученик Иисуса, примиренный со своим Богом через покаяние и прощение.
Петр скрыл от христиан правду, он один знал, что не заслуживает их почитания, а потому умышленно навлек на себя презрение многих и сам пожелал позорной смерти. На самом деле он вовсе не пытался скрыться. Напротив, он сдался стражникам Нерона, чтобы искупить свои прегрешения. И получить право взять с Лина клятву, что тот сохранит тайну и передаст ее дальше.
С той поры эта тайна никогда не выходила за пределы Ватиканского холма.
Ибо тринадцатый апостол не сказал своего слова.
45
Отец Нил любил побродить, мечтая, по площади Святого Петра ранним утром, пока еще нет вездесущих туристов. Он обошел тень обелиска, чтобы погреться на осеннем солнце. «Говорят, этот обелиск украшал цирк Нерона. В Риме прошлое существует рядом с настоящим».
Его левая рука придерживала сумку, где лежали наиболее ценные заметки, выписки из документов, оставленных на полке. Здесь его комнату могли обыскать так же запросто, как в аббатстве, но теперь он знал, что никому нельзя доверять. «Но только не Ремби, нет, никогда!» Собираясь уходить, он в последний момент сунул на дно сумки пленку с негативом фотографии, сделанной в Жерминьи. Один из четырех ориентиров, оставленных отцом Андреем, и он до сих пор не знает, как его использовать.
Пока отец Нил размышлял у подножия обелиска об империи, наделенной волшебным даром сжимать время, Лиланд, зайдя в свой кабинет, обнаружил записку, приглашавшую немедленно зайти к одному из минутантов Конгрегации. Имелся в виду некий монсеньор Кальфо, которого он иногда встречал в коридоре, не зная точно, чем тот занимается в Ватикане.
Спустившись на два этажа вниз и поплутав по лабиринту коридоров, он был поражен, попав в роскошный кабинет прелата, единственное окно в котором выходило прямо на площадь Святого Петра. Владелец кабинета был человеком малорослым и полным и выглядел при этом самоуверенным и слащавым одновременно. «Обитатель ватиканской галактики», — мельком отметил американец.
Кальфо не предложил ему сесть.
— Монсеньор, кардинал просил меня держать его в курсе ваших бесед с отцом Нилом, приехавшим, чтобы помочь вам. Его преосвященство живо интересуется подробностями работы наших специалистов, и было бы странно, если бы дело обстояло иначе.
На его письменном столе, на видном месте, лежало донесение, накануне представленное Лиландом Катцингеру; он там кратко пересказал свой первый разговор с Нилом, но полностью умолчал о его откровениях, связанных с Евангелием от Иоанна.
— Его преосвященство ознакомил меня с вашим первым рапортом; по нему видно, что между вами и французом существуют дружеские отношения. Но этого недостаточно, монсеньор, совершенно недостаточно! Я не могу поверить, что он ничего больше не рассказал вам о природе исследований, которые он ведет с присущим ему талантом, и притом уже давно!
— Я не думал, что подробности разговора, перескакивающего с пятого на десятое, могут интересовать кардинала.
— Все детали важны, монсеньор. Вам в ваших отчетах надобно быть точнее и отбросить излишнюю сдержанность. Эти доклады помогают кардиналу экономить свое драгоценное время, ведь он не хочет упустить из виду ни одного научного достижения — это его долг как префекта Конгрегации вероучения. Мы ожидаем от вас добросовестного сотрудничества, монсеньор, и вы знаете почему… не так ли?
Лиланд не мог совладать со своими чувствами — его переполняла глухая ненависть. Он молча кусал губы.
— Видите этот епископский перстень? — Кальфо протянул руку. — Замечательный шедевр из тех времен, когда люди еще понимали язык камней. Аметист, который выбирает большинство католических прелатов, — символ смирения, оно напоминает нам о чистосердечии святого Матфея. Но здесь, в этом перстне — гелиотроп, который ассоциируется со святым Петром. Каждое мгновение он напоминает мне о том, чему я посвятил всю мою жизнь — о католической вере. Это ее, веру, затрагивают труды отца Нила. И когда он чем-то делится с вами, вам, монсеньор, не следует впредь ничего скрывать из его слов, как вы поступали до сих пор.
Знаком отпустив посетителя, Кальфо сел за письменный стол. Выдвинув ящик, он достал оттуда пачку вырванных из блокнота страниц — донесение-стенограмму вчерашней беседы. «Пока только я знаю, что Лиланд — не с нами. Антонио хорошо поработал».
Шагая к своему кабинету, Лиланд пытался подавить в себе гнев. Этот минутант уверен, что oн упустил в рапорте большую часть своего разговора с Нилом. Откуда он знает?
«Нас подслушивали! Меня поставили на прослушку здесь, в Ватикане».
Ярость вспыхнула в нем с новой силой. Слишком много страданий они причинили ему. Они сломали его жизнь.
Войдя в крошечный кабинет Лиланда, отец Нил извинился за опоздание:
— Прости, я бродил до площади…
Он сел, прислонив сумку к ножке стула, и улыбнулся:
— Я туда упрятал свои самые ценные записи. Я хочу показать тебе, к чему я пришел. Это заключения предварительные, но ты начнешь понимать..
Прервав его жестом, Лиланд написал на клочке бумаги несколько слов и, прижав палец к губам протянул отцу Нилу листок. Недоумевая, француз взял бумажку и прочел: «Нас подслушивают. Ничего не говори. Я все объясню. Не здесь».
Он поднял на Лиланда изумленный взгляд. А тот заговорил беспечным тоном:
— Ну так как, хорошо устроился в Сан-Джироламо? Вчера тут у нас сирокко поднялся, ты был в порядке?
— Гм… да нет, голова весь вечер болела. Да что такое…
— Нам с тобой сегодня нет смысла снова идти: книгохранилище — хочу сперва показать тебе то, что хранится у меня в компьютере — там есть уж готовая работа. Это у меня дома. Хочешь, сходим туда прямо сейчас? Это на виа Аурелиа, в десяти минутах ходьбы отсюда.
Он кивнул на дверь ошарашенному отцу Нилу и встал, не дожидаясь ответа.
В тот момент, когда они выходили из коридора на лестницу, Лиланд, пропустив отца Нила вперед, оглянулся. И увидел, как из соседнего кабинета вышел незнакомый минутант, невозмутимо запер за собой дверь и направился за ними. На нем была обычная пасторская куртка, но весьма элегантная, и Лиланд в полумраке коридора заметил его черный взгляд, меланхоличный, но пугающий.
Быстро догнав отца Нила, который с недоумевающим видом ждал его на первых ступенях лестницы, он коротко бросил:
— Вниз. Живо.
46
Когда они прошли колоннаду Бернини, Лиланд огляделся и без церемоний взял отца Нила под руку.
— Друг мой, сегодня утром я узнал, что наш вчерашний разговор был подслушан.
— Ну прямо как в посольстве Советского Союза в былые времена!
— Советской империи больше нет, но здесь ты находишься в мозговом центре другой империи. Я знаю, что говорю, но ты меня об этом больше не расспрашивай. Бедняга (он так и сказал, перейдя на английский, «my poor friend»), что за осиное гнездо ты разворошил?
Дальше они шли молча. На виа Аурелиа было многолюдно — не поговоришь. На перекрестке Лиланд остановился перед современным зданием.
— Вот, у меня здесь квартира на четвертом этаже. Ее оплачивает Ватикан, моего жалованья минутанта на это не хватило бы.
Переступив порог квартиры Лиланда, отец Нил даже присвистнул:
— Монсеньор, да это же здорово!
Большая гостиная была разделена надвое. В первой ее части царил кабинетный рояль, вокруг которого была в беспорядке разбросана всевозможная акустическая аппаратура. Решетчатый шкаф с книгами служил одновременно перегородкой, по другую сторону которой отец Нил увидел два компьютера с подключенными к ним принтерами, сканерами, еще какими-то устройствами в футлярах и коробках, назначение которых он даже не смог определить. Лиланд попросил друга чувствовать себя как дома и смущенно пояснил:
— Все это добро — дар моей американской общины. Они были в ярости от того, каким манером меня в интересах политики церковных властей отстранили от должности настоятеля наперекор их воле, они-то меня переизбирали регулярно. Ватикан требует, чтобы я каждое утро и каждый вечер обязательно появлялся в кабинете минутанта. В промежутках я работаю в книгохранилище, потом возвращаюсь сюда. Отец Бречинский позволяет мне переснимать кое-какие манускрипты, я их потом сканирую.
— Почему ты сказал, что я должен остерегаться его?
Лиланд, казалось, заколебался, прежде чем ответить:
— В ту пору, когда мы учились в Риме, ты смотрел на Ватикан с Авентинского холма. Он в километре отсюда — это далеко, Нил, это очень далеко. Ты был очарован балетными танцами прелатов вокруг папы, тебе, как зрителю, все это было по душе, ты гордился своей принадлежностью к этой империи. Но теперь ты уже не зритель, ты насекомое, попавшее в сачок или застрявшее в паутине, влипшее в нее, как беспомощная муха.
Отец Нил слушал его молча. Он и раньше чувствовал, что после смерти отца Андрея рухнула и его жизнь, потому что он вступил в мир, о котором ничего не знает. А Лиланд продолжал:
— Юзеф Бречинский поляк, один из тех, кого зовут «папскими людьми». В силу своей абсолютной личной преданности Святейшему Отцу он разрывается на части между разными течениями, треплющими Ватикан. Вот уже четыре года я работаю по соседству с его кабинетом, а все еще ничего о нем не знаю, кроме того, что он несет бремя бесконечных страданий, — это видно по его лицу. Кажется, ты пришелся ему по сердцу. Но будь очень осторожен, говоря с ним, взвешивай каждое слово.
Отец Нил едва удержался, чтобы не схватить Лиланда за руку:
— А ты, Ремби? Ты и сам тоже… насекомое, влипшее в паутину?
Глаза американца увлажнились:
— Я… моя жизнь кончена, Нил. Они сломали меня за то, что я верил в любовь. Они и тебя могут сломать — за то, что ты веришь в истину.
«Не стоит больше спрашивать! — понял отец Нил. — Не сегодня. Он и так в отчаянии!»
Американец справился с волнением:
— Я не способен участвовать в твоих ученых трудах, но сделаю все, чтобы тебе помочь. Католикам всегда хотелось забыть, что Иисус был евреем! Работай над своим исследованием, если надо, григорианские манускрипты подождут, пользуйся тем, что ты в Риме, — это твой шанс.
— Чтобы не вызвать подозрений, мы будем каждый день ходить в книгохранилище и там работать. Но я хочу продолжить работу отца Андрея. Его записка дает четыре ориентира, их надо использовать. Один из них связан с плитой, недавно обнаруженной в храме в Жерминьи, там есть надпись эпохи Карла Великого. Она очень поразила отца Андрея, мы ее сфотографировали. Негатив у меня с собой. Как думаешь, с твоим электронным оборудованием из него можно что-нибудь выжать?
Лиланд с радостью ухватился за новую тему, разговор о технике поможет прогнать призраки прошлого.
— Ты и представить себе не можешь, на что способен компьютер! Если надпись на языке, который есть в его памяти, он сможет восстановить стертые временем буквы и слова, исходя из общего смысла текста. Покажи-ка мне свой негатив.
Отец Нил взял сумку, протянул другу рулон пленки. Они подошли к компьютерам, Лиланд что-то включил, и на корпусах приборов замигали огоньки. Он открыл один из футляров:
— Лазерный сканер, последнее поколение.
Через пятнадцать секунд на экране показалась плита. Лиланд подвигал мышью, пальцы его пробежали по клавишам, и кисточка на экране заскользила по изображению, проявляя четкие строки.
— На это уйдет минут двадцать. Пока он работает, пойдем к роялю, я тебе сыграю «Детский уголок».
И пока из-под пальцев Лиланда лилась изысканная мелодия Дебюсси, компьютер неутомимо трудился над изображением загадочной надписи эпохи Каролингов.
Надписи, сфотографированной на закате XX столетия монахом, и это стоило ему жизни.
А монсеньор Кальфо в это время разговаривал по мобильному телефону:
— Вы говорите, они покинули кабинет Конгрегации и сразу отправились к americano, в его квартиру? Ладно, незаметно следите за всеми их передвижениями, а сегодня вечером представите мне доклад.
И он машинально потрогал удлиненный ромбовидный камень своего перстня — зеленый гелиотроп.
47
Надпись на плите в Жерминьи теперь вырисовывалась на экране компьютера безукоризненно четко.
— Смотри, Нил, уже все готово. Это латинские буквы, компьютер их восстановил. Более того, в начале и в конце текста есть две греческие буквы, альфа и омега, они тоже идентифицированы, ошибки быть не может.
— Можешь это распечатать?
Отец Нил долго разглядывал надпись на бумаге. Лиланд молча ждал, что он скажет.
— Это и впрямь текст Никейского Символа. Текст «Кредо». Но он расположен здесь очень странно…
Они придвинулись друг к другу. «Как когда-то, когда я забегал к нему, чтобы позаниматься вместе, бок о бок, под одной лампой».
— Зачем здесь альфа перед первым словом текста и омега после заключительного? К чему помещать канонический текст, написанный на латыни, между греческими буквами? И почему слова расположены на камне так странно? Я вижу здесь только одно возможное объяснение: здесь дело не в смысле текста, а в способе его расположения. Отец Андрей мне говорил, что никогда такого не видел, он наверняка сразу понял, что эта надпись имеет какое-то особое значение. И именно в Риме он выяснил, что такое модифицированное «Кредо» как-то связано с тремя другими ориентирами, указанными в его записке. Я пока могу расшифровать разве что одну связку — с коптским манускриптом.
— О нем ты мне еще не говорил…
— Потому что я выяснил только значение отдельных слов, но не общий смысл. А ключ к пониманию, может быть, заключен именно в том, как в VIII веке был выгравирован этот текст.
Отец Нил примолк, задумавшись, потом сказал:
— А знаешь, для греков альфа и омега символизировали начало и конец времен…
— Как в Апокалипсисе святого Иоанна?
— Точно. Когда автор Апокалипсиса говорит: «И увидел я новое небо и новую землю», он приписывает Христу, явившемуся ему во славе, такую речь:
«Аз есмь Альфа и Омега,
начало и конец,
тот, который есть и был и грядет».
Буква «альфа» означает, что новый мир начался, а «омега» — что этот мир пребудет вечно. Тогда заключенный между этими двумя буквами, этот странно расположенный текст может служить намеком на обновленный миропорядок, который ни в коем случае не должен быть нарушен: «новое небо и новая земля» суть нечто такое, что должно длиться до скончания времен.
— Альфа и омега часто встречаются в Библии?
— Вовсе нет. Они появляются только в Апокалипсисе, автором которого, как принято считать, был Иоанн. Если этот оказался между альфой и омегой, может быть, его расположение как-то связано с Евангелием от Иоанна.
Умолкнув, отец Нил встал, подошел к закрытому окну.
— Расположение текста, не зависящее от смысла слов, но каким-то образом связанное с Евангелием от Иоанна, — снова заговорил он. — Ничего пока не понимаю, тут надо хорошенько подумать, повертеть эту надпись так и сяк. Наверняка и отец Андрей так же действовал. Как бы то ни было, все вертится вокруг Евангелия от Иоанна. Теперь ясно, почему моего друга так интересовало то, чем занимаюсь я.
Он жестом поманил Лиланда, и тот тоже подошел к окну.
— Завтра мы не увидимся, я запрусь у себя в комнате в Сан-Джироламо и носа не высуну, пока не доберусь до смысла этой надписи. Встретимся послезавтра — надеюсь, к тому времени я кое-что проясню. А потом мне нужен будет Интернет, мне потребуется обратиться во все крупные библиотеки мира.
И, кивком указав на купол Святого Петра, выступающий над городскими кровлями, он добавил:
— Может быть, отец Андрей докопался до чего-то такого, что угрожает этому…
Если бы вместо того, чтобы созерцать купол Ватикана, они бросили взгляд вниз, на улицу, они увидели бы там молодого человека, который с небрежным видом покуривал, прячась в подворотне от декабрьского холода. Одет он был, как обычный прохожий, — светлые брюки, толстая куртка.
Черные глаза его неотрывно смотрели на окна четвертого этажа дома на виа Аурелиа.
48
Поздним вечером того же дня во всем здании Конгрегации свет горел только в кабинете Катцингера. Когда туда вошел вызванный им Кальфо, кардинал властно обратился к нему:
— Монсеньор, — в руках Катцингер держал какой-то листок, — сегодня вечером я получил второе донесение Лиланда. Он же смеется над нами. Пишет, что сегодня они не говорили ни о чем, кроме григорианских песнопений. А по вашим словам, они все утро просидели в апартаментах на виа Аурелиа.
— До двух часов дня, ваше преосвященство. Затем француз оттуда ушел и отправился в Сан-Джироламо, засел там в своем номере. Мой сведения абсолютно надежны.
— Делайте что хотите, но выясните, о чем они говорят в квартире Лиланда. Мы должны знать, что на уме у этого француза. Я достаточно понятно выражаюсь?
Ранним утром следующего дня некий турист проявлял повышенный интерес к капителям колонн театра Марцелла, что стоит возле Форо Боарио — древнеримского скотного рынка. Неподалеку возвышались строгие колонны храма мужелюбивой Фортуны, поддерживающие коринфский архитрав, глядя на которые искушенный зритель догадывался, чему был посвящен храм. Тут же рядом приютился маленький круглый храм весталок, даривших божествам города свою вовеки нерушимую чистоту и поддерживавших священный огонь. Проходя мимо этих двух соседних зданий, турист ухмыльнулся, довольный: «Мужская удача и нерушимая невинность. Обожествленный Эрос рядом с Божественной девственностью — уже во времена римлян все было понятно. Наши мистики только развили это».
Его костюм не мог скрыть внушительной фигуры. Правую руку мужчина предусмотрительно засунул поглубже в карман замшевого пиджака, чтобы лишний раз не демонстрировать эффектный перстень с гелиотропом, с которым никогда не расставался.
Он подошел к человеку, державшему в руках толстый туристический путеводитель по Риму.
— Салям алейкум, монсеньор!
— Алейкум ассалям, Моктар. Вот то, о чем мы договаривались. Это за перевозку плиты из Жерминьи. Хорошая работа.
Он вынул из кармана конверт, который тотчас перекочевал к новому владельцу. Моктар Аль-Корайш быстро прощупал конверт, не вскрывая, и улыбнулся в ответ:
— Я проверил дом на виа Аурелиа. Ни одни апартаменты там не сдаются. Зато продается однокомнатная квартирка на третьем этаже, прямо под квартирой американца.
— Сколько?
Услышав цифру, Кальфо поморщился: такими темпами Союз Святого Пия V скоро разорится. Расстегнув пиджак, он вытащил из внутреннего кармана другой конверт, побольше и потолще первого.
— Отправляйся туда немедленно. Оформи покупку и получи ключ. Лиланда сегодня после обеда задержат в Конгрегации, у тебя будет в распоряжении три часа, чтобы все подготовить.
— Монсеньор! Чтобы установить микрофон, нужно не больше часа.
— Твой напарник отбыл в Израиль?
— Сразу после нашего маленького путешествия. Он готовит международное турне, которое начнется с серии концертов здесь, в Риме, по случаю Нового года.
— Великолепно, прикрытие отменное. Тебе еще, может быть, придется привлечь его к делу.
Моктар игриво покосился на него:
— А как вам Соня? Вы ею довольны?
Подавив раздражение, Кальфо сухо отрезал:
— Да, все хорошо, благодарю. Но не будем терять времени.
Обменявшись скупым кивком на прощание, эти двое расстались. Моктар по мосту Изолы перешел Тибр, Кальфо, спрямляя путь, зашагал по Пьяца Навона.
«Христианство могло зародиться только в Риме, — думал он, проходя мимо статуй работы Бернини и Брунеллески, в драматическом противостоянии застывших друг против друга. — Пустыня заставляет думать о том, что выразить словами невозможно, но Богу, чтобы воплотиться, нужна трепещущая плоть».
49
Кумран, год 68
Над Мертвым морем клубились черные тучи. В этой низине они никогда не проливаются дождем, облака здесь — предвестники катастрофы.
Иоханан дал своему спутнику знак не останавливаться. В молчании они приблизились к крепостной стене. Тут раздался гортанный голос, остановивший их:
— Кто идет?
— Мы евреи, сыны Израиля.
Спрашивавший сощурился подозрительно:
— Как вы добрались сюда?
— По склону горы, потом пробирались через плантации Айн-Фешха. Это единственно возможный путь, Кумран окружен легионерами.
Человек сплюнул на землю:
— Сыны тьмы! Вы-то что собираетесь здесь делать? Смерти ищете?
— Я пришел из Иерусалима, мне нужно повидать Симона бен-Иаира. Он знает меня. Проведи нас к нему.
Они перебрались через стену укреплений и остановились, пораженные. Тихое место былых молитв превратилось в огромный караван-сарай. Мужчины чистили свое убогое вооружение, дети носились с воплями, раненые стонали, лежа здесь же, на земле. А ведь некогда Иоханан пришел сюда вместе со своим приемным отцом, который с радостью встретил здесь своих друзей — ессеев.
В густеющих сумерках он нерешительно остановился перед кучкой пожилых людей, сидевших у стены скриптория, где он когда-то подолгу смотрел, как писцы выводят на пергаменте письмена иврита.
Стражник подошел к одному из стариков и что-то прошептал ему на ухо. Тот порывисто вскочил, распростер объятия:
— Иоханан! Ты меня не узнаешь? Правда, я за один месяц постарел лет на сто. Кто это с тобой? Мои глаза отравлены, я наполовину слепец.
— Да нет же, Симон, я узнал тебя! А это Адония, сын Елиезерабен — Аккайи.
— Адония! Иди сюда, я тебя обниму… Но где Озия?
Спутник Иоханана опустил голову:
— Мой брат пал на Ашкелонской равнине, римская стрела сразила его. Я сам чудом ускользнул от Пятого легиона, эти воины непобедимы.
— Им уготовано поражение, Адония, это сыны тьмы. Но мы умрем раньше их, Кумран созрел для смертной жатвы. Веспасиан принял командование Сокрушительным Десятым легионом, который окружил нас. Он хочет напасть на Иерусалим с юга. Мы целый день наблюдали за их приготовлениями. У нас нет лучников, поэтому они преспокойно маневрируют у нас на глазах. Все произойдет нынче же ночью.
С мукой в сердце Иоханан смотрел на этих людей, обреченных сгинуть. Им уже не увернуться от колесницы истории. Потом он спросил:
— Симон, ты не видел моего аббу? Я потратил более трех месяцев, всю страну прошел, но ни о нем, ни о его учениках нигде ни слуху ни духу. Пелла совершенно заброшена, я там никого не нашел.
Обратив к небу свои гноящиеся глаза, Симон смотрел, как заходящее солнце подсвечивает облака снизу. «Прекраснейшее в мире зрелище, как утро творения! Но это вечер, это закат нашего мира».
— Путь его бегства проходил здесь. С ним было не менее пяти сотен назореев — мужчин, женщин, детей. Он хотел увести их в Аравию, к побережью Внутреннего моря. Он был прав: если бы их не убили римляне, с ними расправились бы христиане, которые их ненавидят. Наши люди проводили их в страну Эдом до границы пустыни.
— Мой отец последовал за ними?
— Нет, он их покинул в Беер-Шеве, дальше они пошли на юг без него. У нас есть маленькая ессейская община в Идумейской пустыне, там он и ждет тебя. Но сможешь ли ты туда добраться? Ты только что сумел проскользнуть сквозь сеть, натянутую вокруг сынов света. Хочешь пережить с нами Великий День, и этой же ночью войти в царство вечного сияния?
Отойдя в сторонку, Иоханан обменялся несколькими словами с Адонией, потом сказал старцу:
— Симон, я должен отыскать моего отца. Мы попытаемся выскользнуть отсюда. Когда-то я отдал вам на хранение нечто священное, чтобы вы спрятали это в безопасном месте. Помоги мне, прошу тебя.
Он придвинулся к старику, зашептал ему что-то на ухо. Симон внимательно выслушал и кивнул:
— Все твои священные свитки спрятаны в гротах, неприступных для любого, кто не знает этой горы. Один из наших людей проводит тебя туда, но сам не сможет подняться с вами. Слышишь?..
Из лагеря римлян раздались звуки труб. «Они идут на приступ!»
Симон бросил часовому краткий приказ. Тот молча дал Иоханану и Адонии знак следовать за ним. Между тем первая туча стрел уже полетела в ессеев, раздались вопли испуганных женщин и детский плач.
Толпа изможденных людей ринулась к восточной стене, между тем как трое, двигаясь против течения людского потока, пробились к воротам, обращенным к горе.
Кумран погибал, это было начало конца.
Иоханан машинально провел ладонью по своему поясу там, где был спрятан полый стебель бамбука, врученный ему отцом, когда они прощались в Пелле. Драгоценная рукопись была на месте.
Кумран был возведен так, что с тыла он прилепился к высокой скале, его постройки ютились на каменистом выступе над Мертвым морем. Система водоводов, расположенных под открытым небом, подводила воду к центральному бассейну, где у ессеев совершали ритуал крещения.
Иоханан и Адония, следуя по пятам за своим проводником, сначала двигались вдоль канав с водой. Согнувшись в три погибели, они перебегали от дерева к дереву. Шум яростной битвы догонял, она бушевала у них за спиной, совсем близко.
Запыхавшись, Иоханан знаком попросил проводника о передышке. Он был уже не молод… Поднял глаза. Скала, что высилась у них на пути, казалось, являла собой голую отвесную стену. Однако приглядевшись повнимательнее, он заметил, что она состоит из гигантских каменных глыб, со сложным переплетением тропок и расселин, нависающих над пропастью.
Тут и там на фоне серого камня чернели пятна — гроты. Вот, значит, куда ессеи спрятали всю их библиотеку. Как же они это сделали? Пещеры выглядели абсолютно недосягаемыми.
С вершины известкового выступа, на котором он стоял, Иоханан разглядел подвижные лапы римских катапульт, похожих издали на вертикально стоящие ложки — они уже начали свою страшную работу, неся смерть в город. Цепь лучников, растянувшись на три сотни шагов, пускала стрелы с ужасающей размеренностью. Сердце сжалось. Больше он не оглядывался.
Проводник показал им тропинку, по которой можно было добраться до одного из гротов:
— Наши главные свитки там. Я сам отнес туда нашу общинную «Уставную книгу». У стены слева, третий кувшин, если считать от входа. Он большой, твой пергамент тоже поместится. Да хранит вас Бог! Мое место внизу. Шалом!
По-прежнему согнувшись и перебежками, он устремился обратно. Он хотел пережить Великий День вместе с братьями по вере.
А они должны были еще одолеть путь в две с лишним тысячи шагов, на всем протяжении которого их могли заметить. Им снова приходилось пробираться вдоль каналов и прыгать от одного дерева до другого. Дорожные торбы при резких рывках колотили по бокам, сковывая движения.
Внезапно туча стрел засвистела вокруг, заколотила по камням совсем рядом.
— Адония, нас увидели! Бежим!
Но эти две тени, безоружные и бегущие прочь от битвы, вскоре перестали занимать римских лучников. Вконец выдохшиеся, они наконец добрались до сравнительно безопасного выступа. Дальше нужно было карабкаться вверх по крутому склону.
Среди нагромождений утесов они высматривали козьи тропки. Когда добрались до грота, уже вечерело.
— Поспешим, Адония, у нас мало времени, вот-вот стемнеет!
Вход в пещеру был так узок, что протискиваться пришлось вперед ногами. Внутри, как ни странно, оказалось светлее, чем снаружи, ни слова не говоря, они поползли влево, где и нашли выступающие из песка конусообразные сосуды — кувшины из обожженной глины, наполовину закопанные, закупоренные круглыми пробками.
С помощью Адонии Иоханан очень осторожно открыл третий кувшин слева от входа. Внутри лежал свиток, обернутый просмоленной тканью. Достав из пояса и почтительно раскупорив полый бамбуковый стебель, он вытащил оттуда простой лист пергамента, обвязанный льняной тесьмой. Уложил его в кувшин, стараясь, чтобы на пергамент не налипла смола с соседнего свитка. Потом вернул пробку на место и подгреб песок до самого горлышка.
«Вот так. Теперь, аббу, мы можем умереть, послание твое спрятано в самом безопасном месте. Если христианам удастся уничтожить все копии, сохранится сама рукопись».
Когда спутники выбрались из грота, Кумран уже был в огне. Глядя на горящие здания, можно было представить, что там происходят. Легионеры строем, одно каре за другим, прочесывали город, оставляя после себя лишь трупы — мужчин, женщин, детей с перерезанным горлом. Ессеи больше не сопротивлялись. Вокруг центрального бассейна смутно темнела кучка коленопреклоненных людей. Среди них стоял, вздымая руки к небесам, человек в белых одеждах. «Симон! Взывает к Предвечному, чтобы он принял к себе детей света!»
Иоханан повернулся к Адонии:
— Вы с братом отнесли тело Иисуса туда, где он упокоился. Озия мертв, отныне ты один знаешь, где его могила. Ты и мой аббу. Его послание здесь, теперь оно надежно спрятано. Если Бог возьмет нашу жизнь, что ж, мы сделали то, что должно.
Тьма опустилась на Мертвое море. Вокруг Кумрана были выставлены посты. Если и можно было ускользнуть из этой ловушки, то лишь через оазис у плантации Айн-Фешха — тем же путем, каким пришли. Но когда они туда пробрались, навстречу попалась группа воинов с факелами, которые закричали на ломаном еврейском:
— Стой! Кто вы есть?
Они бросились бежать, вдогонку полетела туча стрел. Иоханан кинулся изо всех сил к ближним оливковым деревьям, торба билась у него на боку. Сзади послышался глухой вскрик.
— Адония! Ты ранен?
Он кинулся обратно, склонился над товарищем, римская стрела торчала у того между лопаток. Но Адония еще нашел в себе силы прошептать:
— Беги, брат! Беги, и да пребудет с тобой Иисус!
Притаившись в чаще олив, Иоханан издали видел, как легионеры ударами меча прикончили второго сына Елиезера бен-Аккайи.
Теперь лишь один человек в целом свете знал, где находится могила Иисуса.
50
Отец Нил шел бодрым шагом. Сияющие лучи солнца проникали между высоких стен по обе стороны виа Салариа. Весь вчерашний день он провел взаперти у себя в номере, разделил с местными монахами трапезу, но на их редких литургических службах не присутствовал, спеша поскорее отделаться. Терпеть болтовню отца Иоанна ему приходилось лишь за чашкой утреннего кофе, которую он выпивал в монастыре.
— Все мы здесь помним великие дни Сан-Джироламо, когда надеялись подарить миру новую версию Библии на латинском языке. С тех пор как современный мир нас осудил, мы трудимся в изоляции, наша библиотека заброшена.
«Может быть, не только современность, а сама истина осуждает вас», — думал отец Нил, глотая жидкость, позорящую Рим — город, где можно насладиться лучшим в мире кофе.
Но сегодня утром он чувствовал удивительную легкость, он почти забыл о тягостной обстановке, что окружала его здесь с первых часов прибытия, эта атмосфера всеобщего недоверия и страшные слова Лиланда: «Для меня все кончено, они сломали мне жизнь». Что случилось с тем высоким, крепким студентом, одновременно ребячливым и серьезным, который смотрел на мир с неиссякающим оптимизмом, настолько же несокрушимым, как и его вера в Америку?
Отец Нил ломал голову над письменами, начертанными на плите, и был уже готов бросить это занятие, но случайно попробовал сопоставить таинственную надпись с текстом коптского манускрипта, и вот он, луч света. Глубоко ночью одна из тех двух коптских фраз дала ему ключ к пониманию сути.
Отец Андрей не ошибся: следует все «расположить, исходя из перспективы». Нужно сблизить разрозненные элементы текстов, написанных в разные эпохи: Евангелие в I веке, манускрипт в III, надпись на плите — в VIII. Наконец-то ему удалось поймать нить к разгадке.
Только бы не упустить ее. «Истина, Нил! Это ради нее вы ушли в монастырь». Истина отомстит за отца Андрея.
Когда он вошел в квартирку на виа Аурелиа, Лиланд играл «Этюд» Шопена и вошедшего приветствовал молчаливой улыбкой. Сейчас при взгляде на него отцу Нилу не верилось, что это тот самый человек, который два дня назад позволил ему заглянуть в бездну своего отчаяния.
— Прожив долгие годы в Иерусалиме, я много времени проводил возле Артура Рубинштейна, окончившего там свои дни. Нас было человек десять студентов, израильтян и иностранцев, собиравшихся у него. Мне посчастливилось наблюдать, как он работал над этим «Этюдом», это было потрясающе!.. Ну а тебе удалось разгадать свой ребус?
Отец Нил жестом предложил Лиланду сесть рядом с ним.
— Все прояснилось, — сказал он, — когда я попробовал пронумеровать строчки надписи. Вот что получилось:
1. a credo in deum patrem om
2. nipotentem creatorem cel
3. i et terrae et in iesum с
4. ristum filium ejus unicu
5. m dominum nostrum qui со
6. nceptus est de spiritu s
7. ancto natus ex maria vir
8. gine passus sub pontio p
9. ilato crucifixus mortuus
10. et sepultus descendit a
11. d inferos tertia die res
12. ur rexit a mortius ascend
13. it in coelos sedet ad dex
14. teram dei patris omnipot
15. entis inde venturus est
16. iudicare vivos et mortuo
17. s credo in spiritum sanc
18. tum sanctam ecclesiam ca
19. tholicam sanctorum commu
20. nionem remissionem pecca
21. torum carnis resurrection
22. nem vitam eternam amen w
— Двадцать две строки, — пробормотал Лиланд.
— Именно. Двадцать две. Тогда я задал себе первый вопрос: почему в начале и в конце текста стоят альфа и омега?
— Об этом ты уже говорил, на мраморе выбит символ нового миропорядка, нерушимого на веки вечные.
— Да, но мне удалось продвинуться намного дальше. Каждая строка в отдельности не имеет никакого смысла, но, пересчитав число знаков — то есть и буквы, и пробелы, — я заметил, что все они одинаковы по длине и содержат двадцать четыре знака. Первый вывод: это своего рода цифровой код, основанный, так сказать, на символике чисел, она ведь была очень широко распространена в античности и раннем Средневековье — излюбленный конек, можно сказать.
— Цифровой код? А что это такое?
— Ну ты знаешь, что 12 и 12 в сумме дают 24?
Лиланд присвистнул сквозь зубы:
— Преклоняюсь перед твоим гением, потратить целый день, чтобы прийти к такому результату!
— А ты погоди зубоскалить. Цифровая основа этого кода — число 12, которое в Библии символизирует превосходство избранного народа: двенадцать сынов Авраама, двенадцать колен Израилевых, двенадцать апостолов. Но если двенадцать означает превосходство, то удвоение этого числа говорит о превосходстве абсолютном. К примеру, в Апокалипсисе Бог на престоле своем нам явлен в окружении двадцати четырех старцев — снова дважды по двенадцать. Каждая строка надписи содержит это же число знаков, следовательно, она абсолютно совершенна. Но, для того чтобы все строки были безупречны, в тексте «Кредо» не хватает двух букв. Чтобы восполнить их недостаток, потребовались альфа в начале и омега в конце. Таким образом был достигнут двойной результат, поскольку одновременно вводился прозрачный намек на Апокалипсис святого Иоанна: «Я альфа и омега, начало и конец». С помощью такого цифрового кода текст утверждает новый нерушимый миропорядок. Ты следишь за моей мыслью?
— Пока удается.
— Если дважды двенадцать символизирует абсолютное совершенство, его возведение в квадрат — 24 раза по 24 — это уже вечное совершенство: в Апокалипсисе стены небесного Иерусалима, вечного града, имеют размер сто сорок четыре локтя, то бишь двенадцать в квадрате. Чтобы выражать идею вечного совершенства согласно этому коду, «Кредо» должно было бы состоять из двадцати четырех строк по двадцать четыре знака каждая, тогда был бы идеальный квадрат. Согласен?
— Но ведь там всего двадцать две строки!
— Вот именно. Для безупречного квадрата не хватает двух строк. Так вот, установлено, что текст, принятый на Никейском соборе, содержит двенадцать символов веры. Древнейшая легенда гласит, что на тайной вечере, за той последней трапезой в высокой зале, каждый из двенадцати апостолов письменно изложил свой символ веры. Это наивно считалось доказательством того, что «Кредо» исходит непосредственно от апостолов. Двенадцать апостолов, двенадцать символов веры в двенадцати фразах, каждая из которых состоит из двух строк по двадцать четыре знака; исходя из требований цифрового кода, должен получиться идеальный квадрат — двадцать четыре строки по двадцать четыре знака. А тут, как видишь, всего двадцать две строчки, квадрат не совершенен, не хватает одного апостола!
— К чему ты клонишь?
— Когда в вечер последней трапезы они вошли в высокую залу, их с Иисусом было двенадцать, да еще хозяин дома, возлюбленный ученик, всего тринадцать свидетелей. Посреди трапезы Иуда ушел, чтобы подготовить арест Учителя, теперь с ним осталось двенадцать человек. И один из этих двенадцати — тот, кого потом безжалостно вычеркнут из всех текстов, сотрут из памяти. Значит, он не мог войти в число апостолов — тех, кто на своих свидетельствах будет строить церковь. Его любой ценой следовало отодвинуть в сторону, устроить так, чтобы мир на веки вечные забыл, что он был одним из Двенадцати. Если бы в тексте было двадцать четыре строки, пришлось бы признать, что в «Кредо» вошел и его символ веры. Это бы подтвердило подлинность его свидетельства наравне с прочими. Две недостающие строки, Ремберт, это опустевшее место того, кто возлежал рядом с Учителем вечером в четверг 6 апреля 30 года, но был отвергнут группой Двенадцати в пору основания церкви. Перед нами неявное признание, что он был возле Иисуса, этот тринадцатый!
Отец Нил открыл свою папку и вынул оттуда ксерокопию коптскою манускрипта. Протянул ее Лиланду:
— Вот мой перевод первой фразы: «Устав веры двенадцати апостолов несет в себе семя разрушения». Иначе говоря, если бы к свидетельствам одиннадцати апостолов добавилось свидетельство возлюбленного ученика, то есть если бы здесь вместо двадцати двух строк было двадцать четыре, «Кредо» и церковь, на нем возведенная, рухнули бы. Этот текст, в VIII веке выбитый на мраморной плите, сообщает об отвергнутом тринадцатом апостоле. Многие после него на протяжении столетий противились обожествлению Иисуса, но никого из них не преследовали даже после смерти, причем упорно и ожесточенно. Похоже, он был чем-то особенно опасен, и, я думаю, не разобрался ли отец Андрей в этом. И не это ли открытие привело его к гибели?
Лиланд встал, взял на рояле несколько аккордов.
— Думаешь, текст «Кредо» был закодирован с самого начала?
— По-видимому, нет. Никейский собор состоялся в 325 году под надзором императора Константина, который настаивал самым решительным образом, чтобы божественность Иисуса была принята всеми церквами. Надлежало победить арианскую секту, учение которой, отвергая это обожествление, угрожало единству империи. Как известно, там было много споров, но нет доказательств, что при разработке Символа брали в расчет иные резоны, кроме чисто политических, внося к тому же коррективы в старинные тексты. Нет, это гораздо позже, на заре Средневековья, помешавшегося на эзотерике, возникла надобность закодировать этот текст и плиту, где он выгравирован, выставить в имперском храме на видном месте. Потому что таким образом желали еще раз подтвердить необходимость упразднения свидетельства, признанного крайне опасным.
— И ты в самом деле думаешь, что малограмотные поселяне Валь-де-Луар, посещавшие церковь в Жерминьи, могли понять смысл надписи, что была у них перед глазами?
— Разумеется, не могли. Цифровые коды всегда очень сложны, разобраться в них способны лишь редкие знатоки, которым, впрочем, и так известно содержание кода. Подобно капителям римских церквей, такие коды создаются не для простых людей, а ради тех немногих, что владеют тайным знанием посвященных. Нет, эта надпись была выгравирована по воле имперской власти, чтобы напомнить церковной элите, а именно епископам, в чем их миссия: на веки вечные — от альфы до омеги — поддерживать веру в божественность Иисуса, утвержденную «Кредо». На этой вере основана церковь, служащая главной опорой имперского владычества.
— Все это как-то странно!
— Странно то, что уже с конца I столетия сложилось, видимо, что-то вроде заговора, призванного скрывать от мира тайну тринадцатого апостола. Но она периодически проявляет себя. Об этом говорят и коптский манускрипт III века, и надпись в Жерминьи, сделанная в VIII веке, возможно, есть и другие свидетельства, я ведь еще не завершил свою работу. Этот секрет оберегается правящей клерикальной верхушкой на всем протяжении истории Запада, и вот теперь я вслед за отцом Андреем подобрался к нему вплотную. Мне ясно одно, будучи раскрыт, такой секрет поставит под вопрос самую суть веры, которую отстаивают поборники церковной иерархии.
Лиланд внезапно замолчал. Ведь те самые поборники уже поставили под удар не чью-нибудь, а его собственную жизнь. Помедлив, встал, накинул мантию:
— Пошли в Ватикан, мы опаздываем… Так что же ты намерен делать?
— С завтрашнего дня усядусь за твой компьютер. Попробую разыскать в Интернете два произведения отцов церкви, о которых мне известен только их шифр по классификации Дьюи и то, что они имеются в какой-то из библиотек планеты.
А на третьем этаже Моктар, прослушавший весь этот разговор, снял наушники. Табличка «Продается» была убрана с двери квартиры еще накануне, так что у него хватило времени подготовиться. На столе стояло электронное оборудование, от которого во все стороны тянулись провода. Тот, что проходил по потолку, исчезал как раз в том месте, куда упиралась одна из ножек кабинетного рояля этажом выше. Крохотный микрофон, не больше мягкой линзы для глаз, был спрятан в ее шарнире. Чтобы его обнаружить, рояль пришлось бы разобрать целиком.
Магнитофоны, подключенные к этому проводу, заработали, как только отец Нил вошел в квартиру.
Надев наушники, Моктар слушал, ни упуская ни единого слова, но мало что понимая при этом. Во всяком случае, ничего такого, что касалось бы его истинной задачи, он не уловил. Он вытащил ленту из второго магнитофона — эта пойдет в Ватикан, и он заставит Кальфо заплатить за нее. Ну а первая — для каирского университета Аль-Азхар.
51
— Братья мои…
Это было первое собрание Союза Святого Пия V, состоявшееся после принятия нового брата. Антонио скромно занял место двенадцатого апостола в самом дальнем конце стола.
— Братья мои, я получил возможность предъявить вам одно из доказательств, связанных с той тайной, которую мы призваны оберегать. Обнаруженное недавно, оно на днях перешло в наше владение. Речь идет о надписи, выставленной на всеобщее обозрение в храме в Жерминьи по воле императора Карла Великого. Потаенный смысл этой надписи может быть постигнут лишь немногими учеными специалистами. И сейчас я с радостью представляю ее вам. Второй и третий апостолы, прошу вас…
Двое братьев поднялись с мест и встали перед распятием справа и слева от Кальфо. Ректор взялся за гвоздь, пронзающий стопы Учителя. Два вызванных помощника, один справа, другой слева, так же протянули руки к гвоздям, которыми были приколочены ладони Иисуса. По знаку шефа каждый из них стал поворачивать свой ключ согласно шифру, известному лишь ему.
Послышался щелчок, и панно из красного дерева скользнуло в сторону.
Открылась ниша, внутри которой размещались три полки. Нижнюю, ту, что на уровне пола, занимала каменная плита.
— Братья мои, вы можете приблизиться для поклонения.
Апостолы встали, и каждый в свой черед подошел, чтобы преклонить колена перед плитой. Штукатурку с нее счистили полностью, латинский текст «Кредо», обрамленный двумя греческими литерами и разделенный на двадцать две строки абсолютно одинаковой длины, был прекрасно виден. Каждый из братьев с глубоким поклоном, открыв лицо, коснулся устами альфы и омеги. Затем, поднявшись, поцеловал епископский перстень ректора, который все это время стоял под распятием.
Когда подошла очередь Антонио, он сильно разволновался. Сегодня он впервые видел шкаф открытым: внутри покоились два реальных доказательства их тайны, и охрана их уже сама по себе служила достаточным оправданием существования Союза Двенадцати. Над плитой, на средней полке, матово поблескивал сундук из драгоценной древесины. Сокровище тамплиеров! Скоро оно также будет открыто братьям для поклонения — по календарному плану это произойдет в ближайшую пятницу, выпавшую на 13-е число.
Третья, верхняя полка была пуста.
Встав, Антонио, так же как прочие, коснулся губами ректорского кольца. Темно-зеленый гелиотроп в багровых прожилках был обточен в форме продолговатого ромба, вставленного в оправу из резного серебра, придающую ему сходство с миниатюрным гробом. Перстень Антонио Гислиери, будущего папы Пия V! С бьющимся сердцем он занял свое двенадцатое кресло. Между тем ректор подтолкнул панно из красного дерева, и оно автоматически встало на место.
— Братья мои, в один прекрасный день верхняя полка этого шкафа должна принять самое драгоценное из всех сокровищ, в сравнении с которым все остальное не более чем отблеск, тень. Мы подозреваем, что это сокровище существует, но пока не знаем, где оно находится; возможно, нам удастся овладеть им и забрать под свою охрану, где оно наконец будет в безопасности. И тогда мы сможем получить достаточно средств, чтобы осуществить то, во имя чего мы посвятили свою жизнь Господу: мы убережем подлинность воскресшего Христа.
— Аминь!
Ректор занял свое место одесную от трона, что высился в центре, покрытый алым бархатом.
— Я избавил двенадцатого апостола от задания слушать разговоры двух монахов, такой надзор требует постоянного присутствия, а у него есть и другие дела. За дело взялся мой агент — палестинец, и скоро я смогу сообщить вам о магнитофонных записях, которые я сейчас анализирую. Двенадцатый апостол будет наблюдать за ватиканским книгохранилищем. Отец Бречинский его пока не знает, это облегчит задачу. В настоящее время я полностью контролирую информацию, поступающую к кардиналу. Что до Святейшего Отца, так ему такие тяжкие заботы ни к чему, и мы должны позаботиться о его спокойствии.
Одиннадцать дружно закивали в знак одобрения, ректор умеет добиваться желаемых результатов.
52
Идумейская пустыня, год 70
— Ты спал, аббу?
— С тех пор как я пришел сюда, в эту пустыню, я ждал твоего возвращения, мечтая дожить до нашей встречи. Теперь же, снова увидев тебя, я готов заснуть навеки… А как ты?
Левая рука Иоханана бессильно болталась, как неживая, а его обнаженный торс пересекал глубокий шрам. Он с беспокойством смотрел на старика, измученного недугом, его лицо совсем осунулось. Ни слова не ответив, он тяжело опустился рядом, но помолчав, заговорил:
— Убив Адонию, легионеры настигли меня в оазисе Айн-Фешха и бросили там умирать. Ессейские беженцы, которым удалось спастись при штурме Кумрана и избежать смерти, нашли меня и вынесли на своих плечах. Я был без сознания, но живой. Долгие месяцы они выхаживали меня в общине посреди иудейской пустыни, где нашли убежище. Едва начав ходить, я умолил их проводить меня сюда. Я должен был тебя найти. Ты не представляешь, как я добирался через эту пустыню.
Тринадцатый апостол лежал на простой циновке перед входом в пещеру. Его взгляд блуждал по глубокому ущелью, что простиралось перед ним. Вдали едва виднелась горная цепь и гора Хорив, где некогда Бог дал Моисею Закон.
— Ессеи… Если бы не они, Иисусу бы не прожил в пустыне сорок одиноких дней, которые так изменили его. Не будь их, я бы не встретился сначала с Иоанном Крестителем, а потом и с Учителем, и он бы не познакомился с Никодимом, с Лазарем, со своими друзьями в Иерусалиме. А теперь в Кумране, в одном из их гротов ты спрятал в кувшине мое послание… мы столь многим обязаны этому народу!
— Даже больше, чем ты думаешь. В пустынях Иудеи они продолжают переписывать манускрипты. Когда я уходил, они вручили мне это. Иоханан положил на край циновки пачку пергаментных листов. — Здесь твое Евангелие, отец, в том виде, в каком оно разошлось по всей Римской империи. Я принес его тебе, чтобы ты мог прочесть.
Старик чуть приподнял руку — было видно, как тяжело дается ему каждое движение.
— Чтение теперь меня утомляет. Лучше ты сам мне почитай!
— Их текст намного длиннее, чем был твой рассказ. Они больше не вносят поправок, просто выдумывают. Иисус, каким ты его описываешь, бы евреем до мозга костей, и обращался он к евреям. Легкий румянец проступил на щеках тринадцатого апостола. Он прикрыл глаза, будто оживляя давние, но глубоко отпечатавшиеся в памяти сцены:
— Внимать Иисусу — это как слушать шум ветра среди холмов Галилеи, как смотреть на отяжелевшие колосья, что клонятся перед жатвой, на облака, плывущие в небе над нашей землей — землей Израиля… Когда Иисус говорил, он бы похож, Иоханан, на флейтиста, играющего на базарной площади, на арендатора, ищущего себе работников, на хозяина, скликающего гостей на свадебный пир, на невесту, что наряжается для жениха… Это был сам воплощенный Израиль, все его радости, все скорби, кроткое сияние его вечеров на озерном берегу. Это была мелодия, прорвавшаяся ввысь из нашей родной глины, вознеся нас к его и нашему Богу. Слушать Иисуса — значит впитывать, как чистейшую влагу, нежность пророков, облеченную в таинственные напевы псалмов. О да! Воистину он был евреем, говорящим с евреями!
— Этому Иисусу, которого ты знал, они приписывают теперь пространные рассуждения в дух философов-гностиков. Они делают из него Логос вечное Слово. Они говорят, мол, «все исходит о него, и ничто без него не совершается».
— Замолчи!
Из закрытых глаз старца выкатились две слезы, медленно поползли вниз по впалым, заросим бородой щекам.
— Логос! Безымянный колдун ярмарочных философов, утверждающих, будто читали Платона, и пополняющих свою мошну, распинаясь перед легковерной толпой, чтобы заставить ее между делом подкинуть им еще несколько серебряных монет! Греки уже сделали богом кузнеца Гефеста, превратили в богиню потаскушку Афродиту, у них есть бог-ревнивец, и бог-лодочник. О, как же это просто — бог с человеческим лицом! Как это нравится публике! Обожествляя Иисуса, они отбрасывают нас назад, во мрак язычества, откуда вывел свой народ Моисей.
Теперь он уже просто плакал, совсем тихо. Помолчав, Иоханан заговорил снова:
— Некоторые твои ученики примкнули к новой церкви, но другие хранят верность Иисусу-назорею. Их выгоняют из христианских собраний, преследуют, даже иногда убивают.
— Иисус нас предупреждал: «Вы будете ненавидимы всеми за имя мое, вас будут гнать из городов и собраний верующих и предавать смерти». У тебя есть какие-нибудь вести от назореев, которых мне пришлось покинуть, чтобы укрыться здесь?
— Караванщики рассказывали мне о них. Уйдя с тобой вместе из Пеллы, назореи продолжали свой исход, пока не дошли до некоего оазиса на Аравийском полуострове. Он называется, кажется, Бака, — это одна из стоянок торговых караванов, идущих из Йемена. Бедуины, обитающие там, поклоняются священным камням, однако называют себя, как и мы, сынами Авраама. Так что теперь назорейское семя упало на аравийскую почву!
— Это хорошо, там они будут в безопасности. А что Иерусалим?
— Осажден Титом, сыном императора Веспасиана. Город пока сопротивляется, но сколько он сможет продержаться…
— Твое место там, сын. А мой путь обрывается здесь. Возвращайся в Иерусалим, ступай защищать наш дом в западном квартале. У тебя есть копия моего послания, так неси его людям. Вдруг к твоим словам прислушаются? Как бы то ни было, переиначить послание так, как они перекроили мое Евангелие, им не удастся.
Два дня спустя старик умер. В последний раз он дождался солнечного восхода, а когда загорелись лучи зари, окутав умирающего своим сиянием, он произнес имя Иисуса и затих.
С тех пор в сердце Идумейской пустыни появился могильный холм на песке, сложенный из камней без раствора, последний приют того, кто называл себя возлюбленным учеником Иисуса, самого близкого и правдивого из знавших его, тринадцатого апостола. С ним навсегда из мира ушла память о другой такой же могиле, затерянной где-то в пустыне. Той, что до сей поры хранит останки безвинно распятого праведника.
Иоханан всю ночь просидел, глядя в темноту пустынной долины. Когда же небо посветлело и звезды были уже не видны, он встал и побрел на север, сопровождаемый двумя ессеями.
53
— Я впервые обнаруживаю столь прямое и очевидное влияние раввинских мелодий на средневековый песенный лад!
Проведя долгие часы над столом книгохранилища, они скрупулезно, слово за словом, ноту за нотой сопоставили рукописи григорианских песнопений и синагогальной музыки. Оба пергамента написаны до XI века на основании одного и того же библейского текста.
Лиланд повернулся к отцу Нилу:
— Выходит, церковные песнопения и впрямь происходят от синагогальных? Схожу-ка я в зал еврейских манускриптов, поищу другой текст. А ты пока отдохни.
Отец Бречинский в то утро встретил их со своей обычной сдержанностью. Но, воспользовавшись минутным отсутствием Лиланда, шепнул отцу Нилу:
— Если можно… Я хотел бы немного поговорить с вами сегодня.
Дверь, ведущая в кабинет поляка, была в двух шагах. Оставшись один за столом, отец Нил поколебался секунду-другую, потом снял перчатки и направился к этой двери.
— Садитесь, прошу вас.
Комната производила такое же впечатление, как и ее обитатель: она была сурова и печальна. На полках в ряд стояли громадные папки, на письменном столе — монитор компьютера.
— Каждая из наших бесценных рукописей занесена в каталог, которым пользуются ученые всего мира. Сейчас я занимаюсь созданием видеотеки, которая позволит консультировать их по Интернету. Уже и сейчас, как вы могли убедиться, сюда мало кто приходит. Пускаться в дорогу лишь затем, чтобы проштудировать текст, — эти хлопоты чем дальше, тем бесполезнее.
«И чем дальше, тем ты более одинок», — подумалось отцу Нилу. Наступило молчание, казалось, отец Бречинский не находит в себе сил нарушить его. В конце концов он все же заговорил, неуверенно, запинаясь:
— Можно спросить, какие у вас были отношения с отцом Андреем?
— Я вам уже говорил, мы очень долго были собратьями.
— Да, но… вы были в курсе его трудов?
— Лишь отчасти. Однако мы были очень близки, куда больше, чем это принято между монахами.
— Значит, вы были… близкими людьми?
Отец Нил все не мог взять в толк, к чему он клонит.
— Отец Андрей был моим другом, самым дорогим другом, мы были не просто братьями по вере. Это настоящее духовное родство, ни с кем за всю мою жизнь у меня не было столько общего.
— Да, — пробормотал Бречинский, — я так и подумал. А поначалу, когда вы только прибыли, я было решил, что вы один из сотрудников кардинала Катцингера! Это все меняет.
— Что меняет, отец мой?
Поляк зажмурился, словно пытаясь почерпнуть где-то в самой глубине души недостающие внутренние силы.
— Когда отец Андрей приехал в Рим, он пожелал увидеться со мной, мы долгое время переписывались, но никогда не встречались. Уловив мой акцент, он тотчас перешел на польский, которым владел безукоризненно.
— Отец Андрей и сам был славянином. К тому же он говорил на десяти языках.
— Я был потрясен, когда узнал, что его семья происходила из Брест-Литовска, польской провинции, присоединенной к России в 1920 году, а в 1939-м там прошла граница территории, попавшей под германское правление. Этот злосчастный клочок территории, испокон веку польский, русские и немцы без конца оспаривали друг у друга. Когда поженились мои родители, эта земля еще находилась под сапогом Советского Союза, который заселял его своими колонистами, загоняя их туда против воли.
— А где вы родились?
— В маленькой деревне неподалеку от Брест-Литовска. Советская власть обращалась с исконным польским населением крайне жестоко, нас презирали, как покоренный народ, да еще и католиков. Потом пришли нацисты, началось гитлеровское наступление на Советский Союз. Семья отца Андрея жила рядом с моей, наши дома разделял только забор. Они прикрывали моих несчастных родителей от притеснений, которые перед войной превратились на этой приграничной земле в настоящий террор. А когда пришли нацисты, эта семья подкармливала нас потихоньку. Без них, без их повседневной щедрости и отважного заступничества мои близкие не выжили бы, а я просто не появился бы на свет. Моя мать, будучи при смерти, взяла с меня клятву, что я никогда не забуду их, так же как их потомков и близких. Вы были близким другом, братом отца Андрея? Братья этого человека мои братья, моя жизнь принадлежит им. Что я могу сделать для вас?
Отец Нил был поражен, поняв, что поляк решился доверить ему свои самые сокровенные воспоминания. В этих римских подземельях неожиданно повеяло ветром большой истории и ее баталий.
— Перед смертью отец Андрей написал маленькую записку для памяти — о том, о чем хотел поговорить со мной по возвращении. Я сейчас прилагаю все усилия, чтобы понять его послание, я пытаюсь следовать тем путем, который он для меня проложил. Мне трудно поверить, что его смерть не была несчастной случайностью. Я никогда не узнаю, на самом ли деле он был убит, но у меня такое чувство, будто он завещал мне продолжить его исследования, словно это его просьба с того света. Вы понимаете?
— Да, и лучше, чем кто бы то ни было, поскольку он поведал мне много такого, о чем, вероятно, никому не говорил, даже вам. Мы обнаружили, что у нас общее прошлое, ведь в тех тяжелых обстоятельствах соседство наших семей переросло в близость. Здесь, в этом кабинете, призраки бесконечно дорогих нам обоим людей оживали, запятнанные кровью и грязью. Мы были потрясены — и он, и я. Этот шок толкнул меня на то, что я спустя несколько дней сделал для отца Андрея нечто такое, чего… чего не должен был делать никогда. Никогда.
«Нил, дружище, не торопись, тише едешь — дальше будешь. Поосторожнее с ним».
— Самое главное для меня сейчас — отыскать кое-какие сочинения отцов церкви по ориентирам, оставленным отцом Андреем, а точнее, по более или менее полным шифрам согласно классификатору Дьюи. Если я не найду их в Интернете, я обращусь к вам. До сих пор я не решался просить кого-то о помощи, чем дальше я продвигаюсь, тем опаснее мои находки.
— Вы даже не представляете, насколько вы правы. — Отец Бречинский встал, давая понять, что разговор окончен. — Повторяю: брат или близкий друг отца Андрея — мой брат. Но будьте предельно осмотрительны, наш разговор должен остаться строго между нами.
Кивнув, отец Нил удалился. Когда он вернулся в зал, Лиланд уже сидел за столом и раскладывал под лампой новые манускрипты. Мельком глянув на своего товарища, он опустил голову и, ни слова не говоря, вернулся к прерванному занятию. Лицо его было мрачно.
54
Иерусалим, 10 сентября 70 года
Иоханан вошел в город через южные ворота, которые остались невредимыми, и застыл; Иерусалима больше не было. Сплошные развалины.
Войска Тита вошли сюда в начале августа, и целый месяц здесь продолжались ожесточенные бои. Враги, одолевая упорное сопротивление жителей, захватывали улицу за улицей, дом за домом. Воины Десятого, Сокрушительного легиона разрушали каждую стену и даже часть стены, если она еще стояла. Тит приказал стереть город с лица земли, но храма не трогать. Он хотел увидеть изображение Бога, ради которого целый народ готов пожертвовать своей жизнью.
Двадцать восьмого августа он вступил наконец на паперть, откуда открывался путь к святая святых. Говорят, именно здесь обитает Яхве, еврейский Бог. Он сам, его статуя или нечто подобное.
Взмахом меча император рассек завесу святилища. Вошел. И остановился, озадаченный.
Ничего.
Точнее, все, что он увидел — на легком золотом столике стояли два крылатых существа, два херувима, с человеческими головами и звериными лапами, — на таких он насмотрелся в Месопотамии. Но, кроме их раскинутых крыльев, ничего. Пустота.
Итак, Бога Моисея и всех этих одержимых не существовало, раз уж во всем храме не нашлось изображения, подтверждающего его присутствие. Тит с хохотом вышел из храма. «Это же величайшее плутовство в мире! В Израиле нет бога! Вся их кровь пролилась понапрасну». И один из легионеров, поглядев на своего веселящегося военачальника, бросил факел в святая святых.
Два дня спустя иерусалимский храм медленно догорал. От великого строения, едва законченного Иродом, не осталось ничего.
Восьмого сентября 70 года Тит покинул разрушенный Иерусалим и направился в Цезарию.
Иоханан дождался, когда последний легионер покинет город, и лишь после этого рискнул проникнуть туда. Западного квартала больше не было. С трудом пробираясь среди развалин, лишь по остаткам мощной ограды он узнал место, где стояла роскошная вилла Каиафы. Дом возлюбленного ученика, приют самых счастливых лет его детства, находился в пяти сотнях шагов отсюда. Он прикинул, в какой стороне, и побрел туда.
Даже чаши имплювиума и той не было. Все сгорело, кровля обрушилась. Вот здесь, под этими кусками обугленной черепицы, погребены останки высокой залы. Той, где сорок лет назад Иисус принял свою последнюю трапезу в окружении сначала тринадцати, потом двенадцати человек.
Он долго стоял, глядя на руины. Наконец один из двух ессеев, что пришли с ним, тронул его за плечо:
— Уйдем отсюда, Иоханан. Память не в этих камнях. Она в тебе. Куда мы пойдем теперь?
«Память об Иисусе-назорее. Хрупкое сокровище, которое все так алчно оспаривают».
— Ты прав. Отправимся на север, в Галилею, холмы которой еще помнят голос Иисуса. Мне доверено наследие, которое я должен передать.
Он вынул из дорожной торбы лист пергамента, поднес к губам: «Копия послания моего аббу, тринадцатого апостола».
Три века спустя богатая испанка по имени Этери, совершала паломничество в Иерусалим, чтобы провести там святую неделю, проезжая по берегу Иордана, приметила уныло покосившуюся стелу с выгравированными письменами. Заинтересовавшись, не является ли это еще одним памятником времен Христа, она приказала остановить свои носилки.
Надпись оказалась вполне разборчивой. Там рассказывалось, что во время разрушения храма здесь, на этом самом месте, был убит назорей Иоханан, бежавший из разрушенного Иерусалима. «Должно быть, его настигли легионеры Тита, — подумала Этери. — Перерезали горло и бросили в реку, ведь Иордан совсем рядом». И продолжила уже вслух:
— Назорей! Много же воды утекло с тех пор, как их истребили! Этот несчастный, верно, был последним, и поэтому здесь воздвигли эту стелу.
Благочестивая христианка ошибалась, Иоханан не был последним из назореев.
На тот момент на свете осталось всего два экземпляра послания тринадцатого апостола. Первый был спрятан на дне кувшина в неприступной пещере на скале, что высится над руинами Кумрана у берега Мертвого моря.
А другой — в руках назореев, спасшихся обитателей Пеллы. Тех самых, что нашли приют среди Аравийской пустыни, в оазисе, что зовется Бакка.
55
Монсеньор Кальфо накинул свою сутану с фиолетовой оторочкой. Собираясь принять Антонио, он считал необходимым продемонстрировать ему все атрибуты епископского достоинства, молодежь не должна забывать, с кем имеет дело.
Если не считать собеседований перед приемом в Союз нового члена, он редко принимал братьев у себя. Его адрес знали все, и секретность проще было соблюдать где-нибудь в более укромном месте. Да и аромат Сони после ее ухода порой еще долго витал в его апартаментах.
Но сейчас он с удовольствием открыл свою дверь двенадцатому апостолу.
— Теперь ваша задача — держать на крючке отца Бречинского. Это неудачник, тот кто всегда проигрывает. Но люди такого типа всегда непредсказуемы, от них можно ожидать чего угодно.
— Что нам от него нужно?
— В первую очередь, чтобы он держал вас в курсе всего, о чем разговаривают известные нам монахи в книгохранилище Ватикана. Напомните ему, откуда он, кто он такой и кто такой кардинал. Это должно предостеречь его от неразумных поступков. Вы теперь один из тех немногих, кому известно, насколько важные секретные документы находятся под его охраной. Не забывайте, что в его жизни была страшная трагедия; нам достаточно сыграть на этом, и мы добьемся от него всего, чего хотим. О щепетильности забудьте, нам важен результат, прочее не в счет.
Получив инструкции, Антонио попрощался и, выйдя на улицу, демонстративно повернул направо, в сторону Тибра, как если бы собирался вернуться в город. Не поднимая головы, он чувствовал, как взгляд ректора, наблюдающего из окна своих апартаментов, давит ему на затылок. Но, дойдя до угла замка Сан-Анжело, он повернул еще раз направо и, сделав новый крюк, зашагал в противоположном от города направлении — к площади Святого Петра.
Под бледными лучами декабрьского солнца Рим выглядел строго и сдержанно. Много веков подряд город равнодушно взирал на непрекращающийся балет заговоров и интриг в исполнении католических прелатов. Вот и сейчас он с отеческой снисходительностью наблюдал за пустыми играми, которые затевали вокруг гробницы апостола жаждущие власти и славы.
— Входите, дорогой друг, — Катцингер с улыбкой встретил посетителя, — я вас ждал.
Молодой человек склонился, чтобы поцеловать перстень кардинала. «Дважды спасшийся, — мелькнуло у него в голове. — Сначала при чистке гестаповцев, потом — освободителей».
Он сел по другую сторону письменного стола его преосвященства и устремил на него взгляд своих странных черных глаз.
56
Отец Нил попросил Лиланда отправиться в ватиканское книгохранилище без него: — Хочу поработать над записью, которую нашел в ежедневнике, забытом отцом Андреем в Сан-Джироламо. Мне придется воспользоваться Интернетом, боюсь, на это уйдут часы. Если отец Бречинский спросит обо мне, придумай что-нибудь.
Оставшись один на один с компьютером, он задумался: все следы были перепутаны и вели в разные стороны. Ксерокопии текстов из Хантингтонской библиотеки лишь подтверждали его подозрения, возникшие при изучении рукописи Мертвого моря. Коптский манускрипт? Его первая фраза помогла понять, какой код зашифрован в Никейском Символе. Оставались вторая фраза и таинственное письмо апостола. Он решил начать именно с него, благо на него указывала записная книжка отца Андрея. Все эти следы должны были где-то неизбежно сойтись. И таков был последний совет его друга: искать связь между ними.
Ремберт Лиланд… Что случилось с тем дружелюбным, доверчивым студентом, которого он знал, с тем смешливым парнем, для которого вся жизнь заключалась в музыке? А сейчас в его душе чувствовалась такая боль, которую даже старинному другу не показывают.
Что до отца Бречинского, он казался таким одиноким в ледяных подземельях ватиканской библиотеки. И с чего бы это он так разоткровенничался с малознакомым монахом о том, что произошло между ним и отцом Андреем?
Однако нужно сосредоточиться на письме апостола. По шифру Дьюи где-то в мире отыскать книгу.
Он вышел в Интернет, вызвал «Гугл» и набрал «университетские библиотеки».
Поисковая система выдала ему список с адресами одиннадцати сайтов. Внизу экрана «Гугл» сообщил, что подобрал еще двенадцать подобных страниц. Придется просмотреть около ста тридцати сайтов.
Вздохнув, он щелкнул на первой ссылке.
Явившись чуть заполдень, Лиланд был раздосадован, обнаружив краткую записку, лежащую перед компьютером; отцу Нилу потребовалось срочно вернуться в Сан-Джироламо. На виа Аурелиа он будет вечером.
Видимо, он что-то раскопал? Американец отнюдь не принадлежал к числу знатоков Библии. Но вникая мало-помалу в работу отца Нила, он начал живо интересоваться этой темой. Пытаясь помочь другу выяснить, что стало причиной смерти отца Андрея, он хотел расквитаться и за свое прошлое. Ведь и он был жертвой, его собственная жизнь также была загублена.
И он чувствовал: те силы, что разрушили его жизнь, были повинны и в гибели библиотекаря аббатства Сен-Мартен.
Заходящее солнце окрасило нависшее над Римом облако в мрачные багровые тона. Лиланд отправился в Ватикан.
Палестинец, засевший в квартире этажом ниже, вдруг услышал, как кто-то вошел и расположился перед компьютером — наверное, отец Нил. Пленки записывающего устройства фиксировали лишь стук пальцев по клавиатуре.
Но вот звуковой ряд изменился — вернулся Лиланд.
Значит, сейчас начнутся разговоры.
57
Египет, между II и VII веками
Вынужденные бежать из Пеллы, спасаясь от войны, назореи обосновались в оазисе Бакка. Арабы встретили их дружелюбно. Однако суровый климат Аравийской пустыни вынудил некоторых из них двинуться дальше, в Египет. Они осели в северной части Луксора, в селении Наг-Хаммади у подножия горы Гебель — эль Тариф. Там сложилась община, сплоченная памятью о тринадцатом апостоле и его наказах. В каждой семье имелась копия его послания.
В скором времени им пришлось столкнуться с христианскими миссионерами из Александрии, чья церковь бурно расширяла границы своего влияния. Христианство распространялось по империи с неудержимостью лесного пожара; перед назореями, отрицавшими божественность Иисуса, встал выбор: или покориться, или исчезнуть с лица земли.
Превратить Иисуса в Христа, Бога-Сына? Изменить заветам послания? Никогда — лучше умереть. Из Александрии пришел приказ, написанный по-коптски: уничтожать это послание как в Египте, так и в любой части империи. Всякий раз, когда семью назореев изгоняли в пустыню, где их ждала неминуемая смерть, опустошенный дом обыскивали. Ведь в послании тринадцатого апостола говорилось, что где-то в Идумейской пустыне есть могила, где упокоилось тело Иисуса. Но могила Иисуса должна была пустовать, дабы Христос оставался вечно живым.
И лишь один-единственный экземпляр послания избежал расправы. Он попал в Александрийскую библиотеку, где затерялся среди пятисот тысяч томов этого восьмого чуда света.
Чуть позже 200 года юный житель Александрии по имени Ориген начал усердно посещать эту библиотеку. Этот неутомимый искатель был одержим страстным интересом к личности Иисуса. Его память была поистине изумительна.
Будучи уже преподавателем, Ориген стал неугоден епископу Деметрию. Тут была замешана зависть, поскольку обаяние Оригена привлекало к нему сливки александрийского общества. Но важную роль сыграло и недоверие к Оригену, который в своих поучениях, не колеблясь, использовал запрещенные церковью тексты. Кончилось все тем, что Деметрий изгнал его из Египта, и Ориген нашел пристанище в палестинской Цезарии. Однако то, что он когда-то прочитал, осталось с ним навсегда. А послание тринадцатого апостола, по-прежнему осталось лежать в недрах гигантской библиотеки, не ведомое никому; такие искатели, как Ориген, встречаются редко.
Когда в 691 году Александрия попала в руки к мусульман, генерал Аль аз-Амру приказал все книги одну за другой сжечь: «Если они не противоречат Корану, они бесполезны, — изрек он, — а если противоречат — опасны». В течение шести месяцев культурным наследием античности обогревались общественные бани.
Предав огню Александрийскую библиотеку, мусульмане преуспели в том, чего никак не могли довершить христиане: отныне нигде не осталось ни одной из многочисленных копий послания.
Но оригинал по-прежнему покоился на дне занесенного песком кувшина, слева от входа в один из гротов, смотрящих с высокой скалы на древние руины Кумрана.
58
— Ну как, нашел что-нибудь?
Лиланд вошел в комнату, лицо у него было напряженное. Возле компьютера он заметил разбросанные бумаги. Отец Нил, стоявший у окна, выглядел усталым. Не отвечая на вопрос, он вернулся к компьютеру и сел, решив про себя, что не станет считаться с предостережениями отца Бречинского и расскажет другу все.
— После твоего ухода я разослал запросы в самые крупные библиотеки мира. Ближе к полудню я вышел на гейдельбергского библиотекаря, жившего прежде в Риме. Между нами завязалась переписка, и он мне сообщил, что шифр Дьюи взят… ну, угадай, откуда?
— Из библиотеки Сан-Джироламо, потому ты и помчался туда сломя голову!
— Я и сам мог бы додуматься, ведь это последняя библиотека, где отец Андрей был перед смертью; он там нашел нужную книгу, наскоро записал шифр в ежедневнике, благо тот был под рукой, и наверняка собирался потом заглянуть в нее еще раз. А потом покинул Рим в спешке, оставив в номере ежедневник, ставший бесполезным.
Лиланд сел рядом с Нилом, его глаза загорелись:
— И ты разыскал эту книгу?
— Библиотека Сан-Джироламо собиралась с миру по нитке, библиотекари часто сменялись, в результате теперь чего там только нет. Но классификацию худо-бедно произвели, так что я действительно раздобыл ту книгу, что привлекла внимание отца Андрея. Это катена, то есть цепь рассуждений Эвсебия из Цезарии, редкое издание XVII века, я о нем даже не слышал никогда.
Лиланд смущенно пожал плечами:
— Ты уж не обессудь, Нил, но все, что не касается моей музыки, не задерживается у меня в голове. Что это такое — катена?
— В III веке завязалась яростная борьба вокруг божественности Иисуса, которую церковь старалась навязать миру; повсюду уничтожались тексты, идущие вразрез с нарождающейся догмой. Осудив Оригена, церковь методически истребляла все, что он написал. Эвсебий же из Цезарии восхищался александрийцем, окончившим свои дни в его родном городе, и относился к нему с величайшим почтением. Он хотел спасти, что мог, из его наследия, но чтобы самому не подвергнуться гонениям, стал распространять избранные отрывки, выжимки из его сочинений, связанные между собой наподобие цепочки — катены. Его идея имела своих последователей, вот почему многие произведения античности сегодня доступны нам лишь в виде подобных отрывков. Отец Андрей понял, что эта катена, которая никогда ему еще не попадалась, может содержать что-нибудь любопытное и малоизвестное из Оригена. И думаю, что он нашел.
— Что нашел?
— Фразу Эвсебия, до сих пор никем не замеченную. В одном из своих ныне утраченных сочинений Ориген утверждает, что в Александрийской библиотеке ему на глаза попалась таинственная «epistola abscondita apostoli tredicesimi» — тайное или, возможно, спрятанное, послание тринадцатого апостола, где содержится доказательство того, что Иисусу не была присуща божественная природа. Отец Андрей, вероятно, не был уверен в существовании этой эпистолы, он говорил мне о своих сомнениях, хотя довольно туманно. Теперь ясно, что он тем не менее разыскивал ее, раз уж так тщательно записал шифр книги, где обнаружил это упоминание.
— Но как можно полагаться на фразу, вырванную из текста, который к тому же утерян, и вставленную в другое сочинение, притом довольно второстепенное?
Отец Нил потер подбородок, вздохнул:
— Ты прав, само по себе это лишь звено, выдернутое из цепочки, само по себе малозначительное. Но вспомни: посмертная записка отца Андрея подсказывает, что эти четыре ориентира, которые он держал в памяти, надо связать между собой. Уже не первую неделю я так и сяк верчу в голове вторую фразу коптского манускрипта, найденного в аббатстве: «Да будет послание уничтожено повсюду, чтобы устои устояли». Благодаря Оригену я, кажется, это понял.
— Еще один код?
— Вовсе нет. В начале III века церковь разрабатывала догму воплощения Господня, готовясь провозгласить ее на Никейском соборе. Вот она и старалась искоренить все, что этой догме противоречило. Я уже не сомневаюсь, что фрагмент коптского манускрипта, так взбудораживший отца Андрея, не что иное, как обрывок присланного из Александрии распоряжения уничтожать это послание повсюду, где оно будет обнаружено. И потом эту коптскую игру слов, которую я поначалу перевел как «устои устояли», можно понимать и по-другому: то же самое существительное имеет второе значение — «община», а по-гречески, то есть на официальном языке Александрии, община — это ekklesia, иначе говоря, церковь. И тут смысл фразы меняется: послание должно быть уничтожено везде и всюду, «чтобы церковь устояла»! То есть третьего не дано, сохранится либо послание тринадцатого апостола, либо церковь. Лиланд тихонько присвистнул:
— Ну-ну…
— И тут наконец все четыре следа сходятся. Надпись в Жерминьи подтверждает, что и в VIII веке тринадцатого апостола считали настолько опасным, что стремились устранить его навеки — отсюда альфа и омега. А ведь мы-то знаем, что он не кто иной, как возлюбленный ученик из четвертого Евангелия. Ориген сообщает нам, что видел в Александрии послание, написанное этим человеком, а коптский манускрипт подтверждает, что в Наг-Хаммади имелся по крайней мере один его экземпляр, а может, и несколько, потому и последовал приказ об уничтожении.
— Но как это послание могло попасть в Наг-Хаммади?
— Как известно, беженцы — назореи обосновались в Пелле, на территории нынешней Иордании.
Возможно, тринадцатый апостол был там с ними. Потом их след теряется. Но отец Андрей советовал мне внимательно прочесть Коран, который он сам знал превосходно. Я так и сделал, попутно сверяя между собой несколько академических переводов, которые есть в библиотеке нашего аббатства. Меня поразило, что автор весьма часто упоминает «пазвга» — так арабы именовали назореев, которые были для него основным источником информации об Иисусе. Скорее всего когда им пришлось бежать и из Пеллы, ученики тринадцатого апостола подались в Аравию, где с ними впоследствии познакомился Мухаммед. Отчего бы не предположить, что они добрались аж до самого Египта? В принципе они могли дойти и до Наг-Хаммади, неся с собой копии пресловутого послания, разве нет?
— Коран… Ты в самом деле считаешь, что беглые назореи могли повлиять на его автора?
— Это совершенно очевидно, текст Корана изобилует свидетельствами такого влияния. Я сейчас не хочу ничего больше тебе говорить, мне осталось проверить, что дает последний ориентир. Речь идет о неком произведении о тамплиерах, одном или нескольких, но его шифр не полон. О Коране поговорим в другой раз, сейчас уже поздно, мне пора возвращаться в Сан-Джироламо.
Отец Нил встал, снова глянул в окно, на погруженную во мрак улицу. И пробормотал тихо, будто говорил сам с собой:
— Выходит, тринадцатый оставил потомкам свое апостольское послание, повсеместно уничтоженное, преследуемое церковью. Что же там могло быть такого опасного, в его письме?
Этажом ниже Моктар внимательно прослушал весь разговор. Когда отец Нил упомянул о Коране, Мухаммеде и назореях, он злобно буркнул:
— Песье отродье!
59
Аравийская пустыня, сентябрь 622 года
Всадник родом из знаменитого клана Корайшитов ехал сквозь ночную тьму. Он держал путь в Медину, торопя своего измученного верблюда. Потом эту ночь нарекут Хиджрой, для мусульман она станет началом эры ислама.
Он бежал из оазиса Бакка. Бежал потому, что Корайшиты поклонялись священным камням, даром что звались сынами Авраамовыми.
К тому моменту, когда настала ночь времен, в Бакке, этом оазисе среди пустыни, где отдыхали караваны, выросла уже целая еврейская община. Во главе ее стоял ученый раввин, фанатично мечтавший весь арабский мир обратить в иудаизм, прельстив своими обычаями и преданиями. Один юный араб и впрямь увлекся речами этого эмоционального проповедника. Он стал учеником раввина и втайне принял его веру.
Но раввин требовал от него большего. Если надменные Корайшиты отвергают проповеди еврея, может быть, они прислушаются к нему, арабу из их же рода? Разве он не стал иудеем в сердце своем? Так пусть теперь юноша провозгласит все то, чему он его учил, на площади своего селения.
«Скажи им», — без устали твердил ему наставник… Чтобы ничего не упустить из его ученых речей, Мухаммед стал делать записи, которых накапливалось все больше. Писал по-арабски: раввин понимал, что с этими людьми надо не на иврите толковать, а на их родном языке. Корайшиты сочли, что это уж слишком; их родич пытается ниспровергнуть культ священных камней, источник их богатства! Они бы еще простили ему, если бы он стал назореем, эти христианские раскольники прибыли сюда несколько столетий назад, их пророк Иисус никакой угрозы не представлял. Молодой араб внимал их поучениям так же охотно, как наставлениям своего раввина, но Иисус пленял Мухаммеда, юноше хотелось приблизиться к нему. Но Корайшиты не дали ему времени на это — они его изгнали.
И вот теперь он спешил в Медину, не имея при себе никаких пожитков, кроме своих драгоценных записей. Тех, что он делал день за днем, слушая своего раввина: «Скажи им».
В Медине он как будто переродился, его пламенными речами заслушивались, круг последователей рос на глазах, постепенно охватывая весь край. Он быстро стал вождем, уважаемой политической фигурой. Чтобы организовать тех, кто примкнул к нему, потребовались законы, сначала он их провозгласил, а потом стал записывать. Новые листы добавлялись к прежним ученическим заметкам. Порой сюда же попадали и отдельные рассказы о его жизни. Постепенно из этих записей сложилось что-то вроде толстой тетради путевых впечатлений.
Когда он пожелал и евреев завербовать под свои знамена, те без обиняков отказались. В ярости он прогнал их из города и обратился к христианам севера. Эти согласились поддержать его, но с условием: он должен принять христианство и признать божественность Иисуса. Мухаммед проклял их и отныне проникся единой ненавистью как к христианам, так и к евреям.
Одни лишь назореи снискали его благосклонность. Для них и их пророка Исы он находил похвальные слова.
Победителем возвратясь в Бакку, Мухаммед саблей расшвырял все священные камни идолопоклонников. Но перед иконой, изображавшей Иисуса и его мать, которую назореи всегда почитали, он остановился, спрятал саблю в ножны и отвесил глубокий поклон.
Со временем, как это часто бывает, название «Бакка» слегка трансформировалось, и оазис стал известен миру под другим именем.
Мекка!
Два поколения спустя калиф Осман переделал на свой лад путевые заметки Мухаммеда и нарек их Кораном, объявив, что эту книгу Мухаммед писал непосредственно под диктовку Аллаха. С тех пор никто не должен был сомневаться в божественной природе Корана, если хотел остаться в живых.
У ислама не было своего тринадцатого апостола.
60
Площадь Святого Петра шумела от праздничного наплыва публики. На фасаде базилики красовался огромный портрет нового праведника, причисленного к лику блаженных. Погода выдалась солнечная и не слишком холодная, что позволяло провести торжества в его честь на улице. Колоннада Бернини величественно встречала пеструю толпу, ликующую оттого, что ей удается лицезреть Святейшего Отца и участвовать в христианском празднике.
Кардинал Катцингер, как и пристало префекту Конгрегации, совершал богослужение вместе с папой — одесную от него. Собственно, он и был инициатором этого торжества, потому как в следующий раз к лику блаженных планировалось причислить основателя организации «Опус Деи». Список добродетелей следующего претендента можно бы составить без хлопот, но ведь еще нужно подыскать три чуда, необходимых для канонизации — таковы правила. Катцингер машинально поправил полу папской ризы, соскользнувшую оттого, что старого понтифика била дрожь — симптом тяжкого недуга. Слушая речь папы, кардинал усмехнулся. «Чудеса будут, найдем. Но главное из чудес — то постоянство, с каким католическая апостольская римская церковь держится уже который век».
Катцингер лично знал следующего кандидата в святые. Основавший в 1928 году «Опус Деи» Хосе Мария Эскрива де Балагер принимал весьма деятельное участие в гражданской войне в Испании на стороне Франко, а потом был дружен с одним молодым офицером чилийской армии, неким Аугусто Пиночетом. Его отец также вложил свою лепту в грядущую канонизацию сына, отправившись на восточный фронт воевать с коммунистами. Возвести на священный алтарь такого человека, как Эскрива де Балагер, — это ведь еще и дань почтения его родителю, павшему, защищая Запад.
На скамьях перед возвышением, где священнодействовал папа, среди других прелатов сидел и монсеньор Кальфо. На этом скромном месте, полагающемся минутанту, он наслаждался лаской солнечных лучей и пышностью церемонии. «Только католическая церковь способна облечь подобной красотой встречу божественного и человеческого начал, превратить ее в зрелище, привлекающее толпу», — думал он. В конце церемонии, когда за спиной папы уже выстроилась процессия сановитых духовных лиц, он встретился глазами с кардиналом, и тот едва приметным властным жестом подал ему знак.
Час спустя эти двое сидели друг против друга в кабинете Катцингера, причем выражение лица последнего не предвещало ничего хорошего.
— Итак, монсеньор, чего мы достигли в нашем деле?
В отличие от кардинала Кальфо был настроен вполне непринужденно, в чем отчасти ему помогала Соня; он нашел в ней не только опытную жрицу Эроса, но и слушательницу, внимающую ему с готовностью.
— Ваше преосвященство, мы быстро продвигаемся к цели. Отец Нил весьма упорен в своих исследованиях.
Кардинал скривился. Доклады Лиланда, пустые и бесцветные, появлялись все реже, а нажимать на отца Бречинского было пока рано, его власть над поляком опиралась на темные стороны души человеческой, воспользоваться подобным рычагом можно лишь единожды, но уж наверняка. Так что в настоящий момент игра была целиком в руках монсеньора Кальфо.
— Что вы имеете в виду?
— Да что говорить, — Кальфо поморщился, — он нашел след утраченного апостольского послания, который послужит подтверждением его нового толкования Евангелия от Иоанна.
Кардинал поднялся и, жестом пригласив Кальфо следовать за ним, подошел к окну, откуда открывался вид на площадь Святого Петра. Возвышение, воздвигнутое специально для папы, было еще не убрано, и тысячи паломников описывали круги возле этого центра, как вода внутри засасывающей ее воронки. Толпа казалась счастливой, словно большая семья, которая радуется, обнаруживая все новые нити кровного родства.
— Посмотрите на них, монсеньор. На нас с вами лежит ответственность за миллионы верующих, которые, подобно этим, живут надеждой на воскресение, купленное ценой самопожертвования воплощенного Бога. И что же, один человек поставит все это под сомнение? Мы не можем этого допустить. Вспомните Джордано Бруно, монаха, также очень упорного в своих изысканиях; несмотря на свою европейскую известность, он был сожжен в километре отсюда, на Кампо-де-Фьори. Сейчас на карту поставлена нерушимость миропорядка — и снова некий монах готов поколебать его. Мы не можем больше, как встарь, лечить прижиганиями болячки на теле церкви. Но мы должны незамедлительно положить конец ученым трудам отца Нила.
Кальфо ответил не сразу. Одиннадцать одобрили предложенную им линию поведения: говорить кардиналу об этом деле ровно столько, чтобы его напугать, но не упоминать при этом о конечной цели Союза.
— Не думаю, ваше преосвященство, — возразил он наконец. — Это всего лишь интеллектуал, книжный червь, он не отдает себе отчета в том, что делает. Полагаю, можно позволить ему продолжать, пока мы держим ситуацию под контролем.
— Однако, если он вернется в свое аббатство, как мы помешаем ему разболтать о своих находках?
— Терпение, ваше преосвященство! Чтобы заставить умолкнуть тех, кто отступает от церковной доктрины, есть другие способы, менее экстравагантные, чем катастрофа в поезде.
Накануне ему пришлось успокаивать Моктара, взбешенного тем, что отец Нил усомнился в возвышенной природе Корана и божественности основателя ислама. Палестинец жаждал перейти к действию немедленно.
Всего за несколько дней отец Нил надел на себя пояс смертника. Но Кальфо не хотел, чтобы этот шахид поневоле взлетел на воздух прежде, чем он успеет принести настоящую пользу католической церкви. Машинально крутя епископский перстень на своем безымянном пальце, он с улыбкой заверил собеседника:
— Отец Нил и в Риме ведет себя так, будто и не покидал своего аббатства, из Сан-Джироламо выходит только затем, чтобы отправиться в ватиканское книгохранилище, не общается ни с кем, кроме своего друга Лиланда, у него нет никаких контактов с прессой или с какими-либо вольнодумными сообществами, о которых он, по-видимому, даже не подозревает.
Многозначительно кивнув на площадь Святого Петра, Кальфо добавил:
— Никакой опасности для этих толп верующих он не представляет. Они никогда о нем не услышат, да и он, затворившись в монастыре, добровольно отказался иметь что-либо общее с миром. Предоставим ему спокойно продолжать свои труды; я верю в воспитание, которое он за время послушничества получил в аббатстве Сен-Мартен. Кто получил монастырскую закалку, тот сохранит ее на всю жизнь. Пусть возвращается в строй, ну а уж если ему захочется заново обрести внутреннюю свободу, тут мы вмешаемся. Но я уверен, что такая необходимость не возникнет.
Расставаясь, оба прелата испытывали чувство глубокого удовлетворения. Один полагал, что достаточно встревожил его преосвященство, оставив себе при этом свободу маневрировать. А второй в тот же вечер ждал Антонио, от которого надеялся узнать почти все, что известно ректору Союза Святого Пия V.
61
— Сегодня утром состоится церемония причисления к лику блаженных, так что на площади Святого Петра будет не протолкнуться, пойдем кружным путем.
Погрузившись каждый в свои мысли, они зашагали по виа Борго Санто-Спирито, а потом направились к ватиканскому центру мимо замка Сан-Анжело, который встарь был мавзолеем императора Адриана, потом стал крепостью и папской тюрьмой. Отцу Нилу трудно было привыкнуть к тяжелому молчанию, которое частенько повисало между ними с тех пор, как он прибыл в Рим. Наконец Лиланд заговорил:
— Я тебя не понимаю, ты годами носа не высовывал из своего монастыря и здесь тоже живешь затворником. А ведь когда мы были студентами, ты так любил Рим! Используй же хоть немножко свое пребывание здесь, походи по музеям, навести людей, которых когда-то знал… Ты ведешь себя так, будто носишь свое аббатство на спине, как улитка — раковину, вот и сейчас оно с нами рядом!
Отец Нил грустно взглянул на своего товарища:
— Уходя в монастырь, я избрал уединение. Я долго считал, что церковь и есть моя семья, которая заменяет ту, что меня отвергла. А теперь я понимаю, что мои поиски подлинного Иисуса исключают меня и из этой второй, приемной семьи. Подвергать сомнению основы религии — такое не остается безнаказанным. Мне кажется, что тринадцатый апостол, когда противопоставил себя Двенадцати, испытывал сходное одиночество. У меня остался лишь один друг — Иисус, тайну которого я пытаюсь разгадать.
Вздохнул и поправился:
— Кроме тебя, конечно.
Они шли вдоль длинной стены, окружавшей Ватикан. Американец сунул руку в карман и вытащил две розовые маленькие картонки: — У меня для тебя сюрприз. Я получил два приглашения на концерт Льва Барионы в Академии Святой Цецилии в Риме. Это будет перед самым Рождеством. Ты не можешь отказаться — тебе придется пойти со мной.
— А кто этот Лев Бариона?
— Знаменитый израильский пианист, мы с ним вместе учились у Артура Рубинштейна и подружились, можно сказать, рядом с учителем. Лев — удивительный человек, и жизнь он прожил необычную. К приглашению он приложил записку, в которой уточняет, что второй билет для тебя. Он будет играть Третий концерт Рахманинова, среди современных исполнителей которого с ним никто не сравнится.
— Буду очень рад, — сказал отец Нил. — Я люблю Рахманинова, да и на концертах уже не был так давно! Это поможет мне развеяться.
Они уже вошли в Ватикан, но тут он вдруг остановился, нахмурившись:
— Однако… как это может быть, что твой друг прислал второй билет специально для меня?
Это замечание озадачило Лиланда, он собрался ответить, но тут им пришлось отскочить в разные стороны — прямо на них ехал роскошный лимузин. Внутри мелькнуло пурпурное облачение кардинала. Автомобиль замедлил ход, въезжая под портик бельведера, и тут отец Нил вдруг схватил американца за руку.
— «S.C.V.»! Да это же те самые буквы, что записаны в ежедневнике Андрея, как раз перед словом «тамплиеры»! «Sacra Civitas Vaticani». — «Священный город — государство Ватикан»! Сколько дней я голову ломал, что они могут означать; поскольку они стоят перед неполным шифром Дьюи, я был уверен, что это указание на какую-то библиотеку. Но теперь, Ремберт, я, кажется, понял! Эта аббревиатура, а следующие за ней четыре цифры — указание на место, где находятся нужные мне произведения, то есть на одну из ватиканских библиотек в системе «S.C.V.». Я должен был подумать об этом, ведь отец Андрей был очень настойчив. В библиотеке Сан-Джироламо он умудрился откопать редкий текст Оригена, а здесь нужно искать вторую книгу, шифр которой он записал. Закинув голову, отец Нил оглядел величественное здание.
— Где-то здесь есть книга, которая, вероятно, поможет мне узнать что-то еще о тринадцатом апостоле. Но знаешь, Ремберт, я никак не пойму: каким образом в этой истории замешаны тамплиеры?
Но Лиланд его больше не слушал. Одна мысль мучила его: почему Лев Бариона прислал ему два билета?
Он машинально набрал код доступа в книгохранилище Ватикана.
Когда зазвонил звонок, отец Бречинский нервно вцепился в локоть своего собеседника:
— Это наверняка они, я сегодня утром никого больше не жду. Если выйдете через парадное, вы с ними столкнетесь. В книгохранилище есть лестница, ведущая прямо в библиотеку, я вас провожу. Быстрее, они сейчас придут.
Антонио, облаченный в строгую сутану, бросил испытующий взгляд на поляка, чье мертвенно-бледное лицо выражало полную растерянность. Задача оказалась легче легкого: короткого разговора в кабинете отца Бречинского хватило, чтобы библиотекарь согласился на все. Кардинал хорошо изучил людскую натуру, достаточно нащупать место, нажать на него — и все пойдет как надо.
62
Перебросив свои пышные волосы со спины на грудь, Соня смотрела на маленького человечка, который снова натягивал на себя одежду. В конечном счете он не был злым. Только чудаковатым — эта привычка болтать без умолку, пока она делает то, чего он от нее ждет… Когда она приехала в Саудовскую Аравию, соблазнившись заманчивыми предложениями работы, то сразу угодила в гарем крупного государственного сановника. Араб занимался любовью, не произнося ни слова, и заканчивал свое дело быстро. Но этот — совсем другое дело, наверное, он все же малость чокнутый, хочет, чтобы все было медленно, а иногда так смотрит, что ей становится не по себе. И рассказывает вкрадчивым голосом такие вещи, что ее просто прямо воротит от этого епископа.
С Моктаром, который привез ее в Рим, она не могла об этом говорить. Он тогда сказал ей: «Вот увидишь, этот клиент платит отлично». И правда, епископ был щедр. Но теперь Соня пришла к выводу, что эти деньги ей достаются слишком дорого.
Застегивая ворот сутаны, Кальфо повернулся к ней:
— Тебе надо уйти, у меня сегодня вечером собрание. Важное. Понимаешь?
Она кивнула. Епископ объяснил ей: чтобы всходить по ступеням «Небесной лестницы» [14], нужно поддерживать диалектическое напряжение между двумя перилами — плотским и духовным. Она в этой галиматье ничего не поняла, но знала: прийти снова нужно через два дня, не раньше.
Это всегда так, когда у него «важное собрание». А завтра — пятница, тринадцатое.
Двенадцать апостолов держались сегодня с особой торжественностью. Антонио, облаченный в белый стихарь, молча проскользнул вдоль длинного стола к своему месту. Странный черный взор — единственное, что было видно из-под закрывавшей лицо ткани, — был кроток и невинен.
— Как всегда бывает в пятницу, тринадцатого, братья мои, сегодняшнее собрание предусмотрено уставом. Но, прежде чем поклониться бесценной реликвии, коей мы владеем, я должен ввести вас в курс последних событий, связанных с нашей текущей миссией.
Ректор выдержал паузу, глядя на распятие, что высилось перед ним, затем в полной тишине продолжил:
— Благодаря моему палестинскому агенту мы располагаем записями всех разговоров, что ведутся в квартире на виа Аурелиа. Француз показал себя достойным преемником отца Андрея. Ему удалось взломать код надписи из Жерминьи, а также благодаря первой фразе коптского манускрипта понять ее смысл. Он нашел цитату из Оригена и благодаря второй фразе манускрипта напал на след послания тринадцатого апостола, о существовании которого отец Андрей также догадывался, но убедился в этом, лишь приехав сюда, в Рим.
По собранию пробежал легкий шум. Один из апостолов приподнял над столом руки:
— Брат ректор, не играем ли мы с огнем? Со времен тамплиеров никто не подходил так близко к тайне, которую мы оберегаем.
— На нашем собрании уже взвешивались все за и против, и решение принято. Предоставить отцу Нилу продолжать свои изыскания — да, это риск, но риск рассчитанный. Несмотря на усилия наших предшественников, не все следы послания уничтожены полностью. Мы знаем, что, будучи предано огласке, оно может разрушить католическую церковь и всю цивилизацию, душой и вдохновительницей которой она является. Возможно, что существует еще один экземпляр этого документа, нам пока неизвестный. Не станем же повторять ошибку, допущенную с отцом Андреем: не надо мешать хорьку гнаться за добычей. Если монаху удастся выяснить местонахождение послания, мы сразу начнем действовать. Сейчас отец Нил работает на нас…
Его прервал другой апостол, чей широкий белоснежный стихарь не мог скрыть тучной фигуры:
— Большую часть времени они проводят в книгохранилище Ватикана. Как мы может контролировать, о чем они там разговаривают?
Никто, кроме ректора, не знал, что этот апостол — высокопоставленный член Конгрегации распространения веры, одной из самых успешных разведслужб мира. Этот человек имел доступ к информации, собранной со всех концов мира, вплоть до малейших сельских приходов. Поэтому Кальфо ответил ему почтительно.
— Вчера один из нас посетил отца Бречинского и напомнил ему кое о чем. Похоже, что тот осознал своё положение. Думаю, мы в самом скором времени выясним, способен ли отец Нил отыскать послание. А теперь перейдем к предписанной уставом церемонии.
С помощью двух апостолов он сдвинул с места деревянное панно и торжественно взял со средней полки ларец. Затем, повернувшись к замершим в неподвижности Одиннадцати, поставил его на стол и низко поклонился:
— В пятницу 13 октября 1307 года сенешаль Гильом де Ногаре арестовал тамплиеров великого магистра храма Жака де Моле и тридцать восемь его собратьев. Их заточили в подземную темницу и пытали, не давая передышки. В тот же день по всей Франции обезвредили почти всех членов ордена. Христианство было спасено. С той поры пятница, 13-го — день, судьбоносный для всего мира, и мы сегодня отмечаем его согласно нашему уставу.
И он, склонясь над ларцом, открыл его, затем отступил на шаг. Там, внутри, было то, о чем не знал отец Нил, нашедший почти все следы, оставленные в истории посланием тринадцатого апостола.
— Братья мои, прошу приступить к ритуалу поклонения.
Апостолы встали и чередой потянулись, чтобы прикоснуться губами сначала к перстню ректора, а после — к тому, что хранилось в ларце.
Когда настала очередь Антонио, он на мгновение замер над столом: уложенный на красную бархатную подушечку, перед ним мягко сиял золотой самородок в форме слезы.
«Все, что осталось от клада тамплиеров!» Он наклонился, губы его коснулись золотой слезы. Ему показалось, что она все еще обжигает, а перед глазами мелькнула страшная картина.
63
Отец Бречинский приветствовал их слабой улыбкой и, ни слова не говоря, проводил к рабочему столу. Затем кивнул и побрел в свой кабинет, однако дверь за собой не закрыл.
Поглощенный мыслями о своем новом открытии, отец Нил не обратил внимания на то, как скованно тот держался. «S.C.V., шифр Ватикана. Одна из величайших библиотек мира! Разыскать там книгу — немыслимая задача».
Он несколько минут машинально пытался включиться в работу, потом шумно вздохнул и повернулся к Лиланду:
— Ремберт, сделай милость — обойдись без меня. Я скоро вернусь. Отец Бречинский — единственный, кто может определить, к чему относится шифр «S.C.V.», оставленный отцом Андреем в ежедневнике. Пойду спрошу его об этом.
Тень омрачила лицо американца, и он прошептал:
— Прошу тебя, вспомни, что я тебе говорил: здесь никому нельзя доверять.
«Я знаю кое-что, о чем тебе неизвестно», — подумал отец Нил, но вслух ничего не сказал. Сняв перчатки, он постучался в приоткрытую дверь кабинета библиотекаря.
Отец Бречинский неподвижно сидел перед выключенным экраном компьютера, бессильно уронив руки на край стола.
— Отец мой, вы однажды сказали, что готовы мне помочь. Могу ли я обратиться к вам?
Поляк посмотрел на него растерянно, потом опустил глаза и глухо заговорил, будто не замечая отца Нила и обращаясь к самому себе:
— Мой отец был убит в конце 1940 года, я его не знал. Мама рассказывала: однажды утром заявился старший офицер вермахта, сказал, что собирает всех мужчин села якобы для проведения работ в лесу. Отец больше не вернулся, а моя мать умерла, когда мне было шесть лет. Родственник из Кракова взял меня к себе. Я был несчастным одиноким ребенком военного временя, к тому же потерявшим дар речи. Молодой кюре из соседнего прихода пожалел немое дитя, он взял меня к себе, снова научил радоваться жизни. Однажды он начертал у меня на лбу, на устах и на сердце знак креста. На следующий день я впервые заговорил после долгих лет молчания. Со временем он помог мне поступить в епархиальную семинарию Кракова, где сам стал епископом. Я всем ему обязан, это отец моей души.
— Как его звали?
— Кароль Войтыла. Нынешний папа. Папа, которому я служу всеми силами.
Наконец он поднял глаза, посмотрел на отца Нила в упор:
— Вы истинный монах, отец Нил. Таким же был и отец Андрей. Вы живете в другом мире. В Ватикане вокруг папы плетутся интриги, его окружают люди, одержимые интересами, о которых он не ведает, как не знает и тех дел, что они творят от его имени. Каролю Войтыле никогда не приходилось сталкиваться в Польше с чем-либо подобным, тамошнее духовенство сплотилось против общего врага — советской власти. Там каждый безоговорочно верил своим братьям, польская церковь не выжила бы, если бы ее раздирали внутренние дрязги. Именно такой верой папа и руководствовался, когда переложил часть своей ответственности на людей вроде кардинала Катцингера. А мне здесь случается быть молчаливым свидетелем многих вещей…
Он с трудом поднялся со своего места:
— Я помогу вам, как помогал отцу Андрею. Но я сильно рискую. Поклянитесь, что вы не будете вредить папе.
Отец Нил мягко отвечал:
— Я всего лишь монах, отец мой, я хочу только увидеть подлинное лицо Иисуса, ничто другое меня не интересует. Политика и нравы Ватикана мне чужды, и у меня ничего нет общего с кардиналом Катцингером, который понятия не имеет о моих трудах. Я, подобно отцу Андрею, всего лишь ищу истину.
— Хорошо, я вам верю, ведь и сам папа тоже искатель истины. Что я могу сделать для вас?
Отец Нил протянул ему ежедневник отца Андрея:
— Будучи в Риме, отец Андрей что-то выяснял по книге, шифр которой он записал здесь. Эти цифры вам что-нибудь говорят?
Внимательно посмотрев на страницу ежедневника, отец Бречинский поднял глаза на собеседника:
— Конечно. Это шифр нашего книгохранилища. Он указывает на стеллажи, где хранятся подлинники судебных решений по процессам, проведенным инквизицией над тамплиерами. Когда отец Андрей приезжал сюда, он попросил меня о позволении просмотреть их, хотя допуска у него не было. Пойдемте со мной.
Они молча прошли мимо стола Лиланда, который сидел, склонясь над своими манускриптами, и головы не поднял. Когда вошли в третью залу, поляк повернул влево и подвел отца Нила к ряду стеллажей.
— Здесь у нас, — он указал на полки, сплошь покрывающие стену, — акты инквизиции по делу тамплиеров. Могу вам сказать, что отец Андрей особенно задержался на протоколах допроса Эскье де Флуарана, проведенного Гильомом де Ногаре, а также на переписке Филиппа Красивого. Я сам после его отъезда вернул все эти документы на прежние места. Надеюсь, что вы будете работать так же быстро, как он, даю вам два часа. И запомните: вы никогда не заходили в эту часть книгохранилища.
Он бесшумно вышел. В этом безлюдном уголке не были слышны никакие звуки, кроме гудения кондиционера. Десятки пронумерованных папок тянулись рядами. В одной из них, на странице, исписанной стряпчим инквизиции в присутствии изнуренного пытками пленника, быть может, таился обнаруженный отцом Андреем след тринадцатого апостола.
Отец Нил решительно потянул на себя первую папку: «Признания братьев-тамплиеров, полученные в присутствии монсеньора Гильома де Ногаре мною, Гильомом Парижским, представителем короля Филиппа Красивого и великого инквизитора Франции».
64
Берег Мертвого моря, март 1149 года
— Еще одно усилие, Пьер, держись. Они догоняют.
Эскье де Флуаран обеими руками подхватил слабеющего товарища. Они находились у подножия горы, вокруг громоздились обломки скал, среди которых вились чуть заметные козьи тропки. На отвесной скале над пропастью тут и там виднелись черные пятна — входы в естественные пещеры.
С тех пор как три года назад они повстречались в Везеле, эти двое более не расставались. Вдохновленные проповедями святого Бернара, они надели белые туники с красным крестом и присоединились ко второму крестовому походу на Палестину. Там, в Газе, турки-сельджуки заманили тамплиеров в ловушку. Эскье хотел прорваться с боем: средь бела дня устроил вылазку во главе отряда из двадцати рыцарей. Этот отвлекающий маневр оказался весьма действенным — большая часть осаждавших устремилась в погоню за беглецами. Они скакали на восток, и его товарищи гибли один за другим. И вот с ним рядом остался лишь Пьер де Монбризон, самый верный соратник.
Доскакав до берега Мертвого моря, их лошади пали. Два тамплиера перебрались через разрушенную стену и оказались среди руин в каком-то загоне, где, похоже, когда-то отбушевал страшный пожар. Спасаясь от погони, рыцари прошли мимо широкого бассейна, выдолбленного в камне, потом двинулись вдоль каналов бывшего водовода, которые вели к скале. Если спасение было возможно, оно ждало их там.
Но, как только они вышли из-под прикрытия деревьев, Пьер вскрикнул и упал. Его спутник, склонившись над ним, увидел, что стрела попала тому в живот.
— Оставь меня, Эскье, я ранен!
— Оставить тебя у них в руках? Никогда! Мы спрячемся на этой скале, ускользнем от них, когда стемнеет. Тут поблизости есть оазис Айн-Фешха, это путь на запад, к спасению. Обопрись на меня, это же не первая стрела, которая тебя задела. Мы ее выдернем, как только заберемся наверх, ты еще увидишь Францию и своих соратников.
Призывы святого Бернара все еще звучали у них в ушах: «Рыцарь Христов сеет смерть, будучи в полной безопасности. Если он гибнет, это во благо ему, если он убивает, то во имя Христа». [15] Но в настоящий момент речь шла о том, как скрыться от банды разъяренных турок.
«Аллах акбар!» Их крики раздавались уже совсем близко. «Пьер больше не в силах идти. Господи, помоги нам!»
Поддерживая друга, он все же сумел затащить его наверх по крутому откосу.
Они остановились у входа в один из гротов, и Эскье глянул вниз; преследователи, похоже, потеряли их из виду и теперь держали совет. Отсюда он видел не только руины, хранящие следы древнего пожара, но и залив Мертвого моря, сверкающий в лучах восходящего солнца.
Справа от него Пьер, бледный как смерть, сидел, прислонясь спиной к утесу.
— Тебе нужно лечь, и тогда я вытащу твою стрелу. Давай заберемся в эту дыру и там дождемся ночи.
Щель была такой узкой, что залезать пришлось вперед ногами. Эскье протащил туда своего окровавленного друга. Как ни странно, внутри было довольно светло. Он уложил раненого слева от входа, прислонив головой к какому-то шарообразному предмету из обожженной глины, торчащему из песка. Потом резким движением выдернул стрелу. Пьер взвыл от боли и лишился чувств.
«Стрела пробила живот насквозь, кровь хлещет рекой — ему конец».
Он влил в рот умирающему последние капли из своей фляги. Потом выглянул, посмотрел вниз; турки все еще были там. Придется ждать их ухода. Но Пьер умрет раньше.
Эскье отличался немалой ученостью. Пребывая уже на этих землях, он получил в монастыре белых монахов новый наказ святого Бернара. Все свободное время он стал проводить за чтением манускриптов, собранных в скрипториях, и по греческим текстам изучать секреты врачевателя Га-лена. И вот сейчас Пьер истекал кровью, рядом с ним уже образовалась темная лужа. Больше часа он не продержится.
В полной растерянности Эскье оглядел пещеру. Вдоль всей левой стены из песка торчали обожженные глиняные шары. Он наудачу приподнял третий, считая от входа, — это оказался прекрасно сохранившийся керамический кувшин. Внутри он обнаружил туго свернутый свиток, обернутый промасленной тканью. Рядом с ним пристроился свиток поменьше. Хорошо сохранившийся пергамент был стянут простой льняной тесемкой.
Эскье оглянулся на Пьера. Тот лежал неподвижно, тяжело дыша, и его лицо уже приобрело землистый оттенок. «Мой бедный друг… Умереть на чужбине!»
Рыцарь развернул пергамент. Текст был написан по-гречески, вполне разборчиво, почерк изящный, и слова все знакомые: так апостолы говорили.
Придвинувшись к выходу из грота, он начал читать, и глаза его стали округляться, руки задрожали…
«Я, возлюбленный ученик Иисуса, тринадцатый апостол, обращаюсь ко всем церквам…» Автор строк утверждал, что в вечер последней трапезы в высокой зале апостолов было не двенадцать, а тринадцать и этим тринадцатым был он. Он настойчиво возражал против обожествления праведника-назорея. И утверждал, что Иисус не воскрес, а был после своей кончины перенесен в могилу, которая находится…
— Пьер, смотри! Апостольское послание времен Иисуса, его написал один из апостолов… Пьер!
Голова его друга склонилась в сторону первого кувшина от входа. Пьер был мертв.
Час спустя Эскье решил: пусть тело друга покоится здесь до судного дня. Но это послание тринадцатого апостола — он должен возвестить о нем всему христианскому миру. Взять пергамент с собой было бы слишком рискованно; пролежав здесь столько времени, он легко мог развалиться на мелкие кусочки. Да и он сам сумеет ли этой ночью ускользнуть от мусульман? Доберется ли живым и невредимым до Газы? Нет, пусть оригинал останется в этом гроте, а он сделает копию. Сейчас же.
Он бережно перевернул тело своего друга, распахнул его тунику и оторвал широкую полосу ткани от рубахи. Потом тщательно заострил щепку, расправил ткань на плоском камне, обмакнул импровизированное перо в лужу рдеющей на песке крови. И принялся переписывать апостольское послание — так, как это делали много раз у него на глазах в монастырском скриптории.
Солнце почти скрылось за Кумранской скалой. Эскье встал, текст тринадцатого апостола был переписан кровавыми буквами на клочок рубахи Пьера. Он свернул пергамент, снова обмотал его льняной тесьмой и осторожно вложил обратно в кувшин, стараясь, чтобы он не соприкасался с другим, грязным свитком. Вставив обратно пробку, он бережно свернул только что сделанную копию и засунул в пояс.
Выглянув из грота, он посмотрел вниз; турки были еще там, но их осталось уже вдвое меньше. Надо было дождаться ночи и пройти через плантацию Айи-Фешха. У него все получится.
Два месяца спустя судно, на парусе которого алел крест, через узкий пролив выходило из гавани Сен-Жан-д'Акр, чтобы взять курс на запад. Стоя на носу корабля, рыцарь храма в белом торжественном облачении в последний раз оглянулся на землю Христову.
Там, на берегу, он оставил лучшего друга, чье тело лежало в одной из пещер высокого утеса над развалинами Кумрана. В пещере, где с незапамятных пор, спрятанные кем-то, хранятся в песке кувшины со странными свитками. Как только будет возможно, он туда вернется, извлечет пергамент из третьего кувшина слева от входа и со всеми предосторожностями, каких заслуживает столь почтенный документ, доставит его во Францию.
Смерть Пьера не была напрасной. Копия неизвестного апостольского послания будет вручена Роберу де Краону, великому магистру Храма. То, о чем этот текст возвещает, изменит лицо мира. Все узнают, что тамплиеры не напрасно отвергали обожествленного Христа, почитая и любя при этом Иисуса.
Прибыв в Париж, Эскье де Флуаран попросил Робера де Краонао встрече наедине. Как только они остались вдвоем, он вынул из своего пояса свернутый клочок ткани, покрытый коричневыми буквами, и протянул его великому магистру ордена, второму из носителей этого титула.
Не проронив ни слова, великий магистр развернул ткань. Все еще храня молчание, ознакомился с текстом, переписанным очень разборчиво. Сурово потребовал, чтобы Эскье поклялся кровью своего брата и друга нерушимо хранить тайну, и скупым кивком отпустил его.
Весь вечер и всю следующую ночь Робер де Краон провел в одиночестве у стола, на котором лежал развернутый кусок ткани, испачканный кровью одного из его братьев. Кровью, которой были начертаны самые немыслимые, самые потрясающие слова из всего, что он когда-либо читал.
Назавтра, с сумрачным лицом представ перед приближенными, он распорядился разослать по всей Европе вестников для чрезвычайного созыва генерального капитула ордена тамплиеров. Всем братьям — капитуляриям, сенешалям или приорам, духовным главам знаменитых и могущественных крепостей, равно как и командорам самых малозначительных земель, было предписано присутствовать на этом капитуле. Никто не вправе пропустить его.
Ни один.
65
Когда отец Нил возвратился к другу, все еще склоненному над столом в зале книгохранилища, его лицо было замкнуто. Лиланд глянул на него, оторвавшись от манускрипта:
— Ну и что?
— Не здесь. Вернемся на виа Аурелиа.
Рим готовился к празднованию Рождества. Каждая церковь Вечного Города, в эти дни считает своим долгом выставить самый красивый presepio — рождественские ясли. Декабрьскими вечерами римляне гуляют, заходя то в один храм, то в другой и сравнивая, какой украшен лучше, причем всегда сопровождают обсуждение бурной жестикуляцией.
«Невозможно, — думал отец Нил, глядя, как большие семейства в полном составе входят под церковные портики, как распахиваются счастливые глаза детей, — невозможно сказать им, что все это основано на самой обычной мирской лжи. Им так нужен бог в человеческом образе, бог-дитя! Церкви не остается ничего иного, как только хранить свою тайну; Ногаре был прав».
Двое мужчин молча шагали рядом. Войдя в квартиру, они уселись возле пианино, и Лиланд достал бутылку бурбона. Налил полную рюмку отцу Нилу, хотя тот пытался жестом остановить его.
— Ну же, Нил! Наш национальный напиток носит имя короля Франции. Всего несколько глотков, и ты расскажешь мне, чем ты занимался все утро один-одинешенек в том закоулке ватиканского книгохранилища, куда тебе в принципе и входить-то запрещено…
Уловить намек отец Нил не пожелал, сейчас он впервые кое-что скроет от своего друга. Откровения отца Бречинского, его испуганное лицо — все это не касалось его исследований. Он чувствовал себя хранителем тайны, которую нельзя ни с кем разделить. Он пропустил глоток бурбона, поморщился, закашлялся:
— Не знаю, с чего начать. Ты же не историк, ты не видел протоколов допросов инквизиции, а я их только что читал. И нашел те тексты, которые заинтересовали отца Андрея, когда он заходил в книгохранилище. Они мне раскрыли разом много чего, все это и ясно, и вместе с тем загадочно.
— Ты что-нибудь откопал насчет тринадцатого апостола?
— Слова вроде «тринадцатый апостол» или «апостольское послание» не встречаются ни в одном допросе. Но теперь, когда, я знаю, что мы разыскиваем, мое внимание привлекли две подробности, которых я не понимаю. Сам Филипп Красивый распорядился о наказании тамплиеров, это следует из его письма, разосланного комиссарам королевской полиции 14 сентября 1307 года, то есть за месяц до ареста всех членов ордена. Это письмо есть в книгохранилище, я его скопировал сегодня утром.
Нагнувшись, он вытащил из сумки лист бумаги:
— Я тебе прочту его первое обвинение: «Вот что воистину горько и прискорбно, вне всякого сомнения ужасно, отвратительное преступление…» Так о чем речь? «Что тамплиеры, вступая в свой орден, троекратно отрекаются от Христа и столько же раз плюют ему в лицо» [16].
— Ну и что!
— И потом, начиная с первого допроса, состоявшегося на следующий день после пятницы 13 октября 1307 года и кончая последним допросом Жака де Моле уже на костре, 19 марта 1314 года, им без конца задавался один и тот же вопрос: «Это правда, что вы отрицаете Христа?» Все тамплиеры вне зависимости от тяжести пыток, которым их подвергали, признавались, что да, Христа они отринули. Но они не отрицали Иисуса, с его именем они вступили в крестоносное ополчение.
— И что?..
— А то, что то же самое утверждали назореи, чьи тексты Ориген смог отыскать в Александрии. А нам известно, что этому учил их наставник, тринадцатый апостол. Если его послание само по себе способно разрушить церковь, если оно должно быть «уничтожено повсюду», как того требует коптская рукопись, то дело, видимо, не только в том, что оно отрицает божественность Иисуса — это делали многие и после него. Но послание, по Оригену, еще и приводит доказательство того, что Иисус не был Богом.
— Что же получается, тамплиеры были знакомы с исчезнувшим посланием тринадцатого апостола?
— Понятия не имею. Но заметим, что в XIV веке тамплиеры навлекли на себя пытки и казни за ту же самую доктрину, которую провозглашали назореи, причем они подтверждали свой выбор ритуальным плевком в Христа. Тут возможна и другая гипотеза… — Отец Нил потер лоб. — Эти люди долго были в близком контакте с мусульманами. Отказ от иного бога, кроме Аллаха, без конца повторяется в Коране, и не забывай, что сам Мухаммед знал и часто цитировал поучения назореев…
— И к чему мы так придем? У тебя все перемешалось!
— Нет, я просто пытаюсь связать между собой разрозненные элементы. Часто говорилось о том, что тамплиеры попали под влияние ислама. Может, это и так, но отрицание божественности Иисуса у них идет не от Корана. Все серьезнее: судя по протоколам допросов, некоторые из них признались, что авторитет Петра и двенадцати апостолов в их представлении был перенесен на великого магистра ордена.
— Выходит, великий магистр — своего рода преемник тринадцатого апостола?
— Они так не говорили, но признавали, что их отречение от Христа опиралось на личность великого магистра, которого они ставили выше церкви и двенадцати апостолов. Все выглядит так, как тайные наследники тринадцатого апостола проходили сквозь века параллельно череде преемников Петра. От возлюбленного ученика эта линия перешла к его верным назореям, а после них каким-то таинственным образом продолжила свое существование, опираясь на это исчезнувшее послание.
Отец Нил глотнул еще бурбона.
— Филипп Красивый выдвигает против тамплиеров и другое суровое обвинение: «Когда они вступают в свой орден, они касаются устами того, кто принимает их туда, — великого магистра — сначала пониже спины, потом в живот» [17].
— О Господи! Храмовники — геи! — Лиланд покатился со смеху.
— Нет, тамплиеры не были гомосексуалами. Они давали обет целомудрия и, судя по всему, соблюдали его. Это был такой ритуал в ходе религиозной церемонии, торжественной и прилюдной, который дал Филиппу Красивому повод обвинить их в содомском грехе только потому, что король не понял его смысла. А этот символический ритуал был очень важен.
— Поцеловать великого магистра в пьедестал, потом обойти вокруг него и чмокнуть в брюхо — это символический ритуал? Они это в церкви проделывали?
— Именно так, ритуальное действо, которому они придавали огромное значение. Ты спросишь, какой смысл они в него вкладывали? Сначала я думал, что они поклонялись чакрам великого магистра, этим пересечениям духовной энергии, которые, по представлениям индусов, располагаются именно в животе и… гм… на пьедестале, как ты выражаешься. Но тамплиеры не были знакомы с индусской философией. И я не вижу иного объяснения, кроме следующего: раз уж этот жест поклонения обращен к персоне великого магистра, заменившего для них Петра и его преемников, они таким манером, видимо, приобщались к иной преемственности, у истока которой — тринадцатый апостол. Но почему поцелуй запечатлевался именно на таком месте? Этого я не понимаю.
В тот вечер отцу Нилу заснуть не удалось. В голове вертелся все тот же вопрос. Что мог означать этот кажущийся неприличным ритуал, навсегда запятнавший память рыцарей-тамплиеров? И главное, как это может быть связано с посланием тринадцатого апостола?
66
Париж, 18 марта 1314 года
— В последний раз заклинаем тебя признаться: ты отвергаешь божественность Христа? Ты скажешь нам, что означает нечестивый ритуал вступления в ваш орден?
На берегу острова Сите великий магистр храма Жак де Моле был привязан к столбу, под которым громоздились вязанки хвороста, его руки под белой мантией с красным крестом были стянуты веревкой, Напротив него стоял Гильом де Ногаре, «продажная душа» и сенешаль короля Филиппа IV Красивого. Народ, толпившийся по обоим берегам Сены, ждал: отречется ли великий магистр в последний момент, лишив зевак такого впечатляющего зрелища? Палач уже был наготове, расставив ноги и держа в правой руке горящий факел — так, что ему оставалось сделать лишь одно движение.
На миг прикрыв глаза, Жак де Моле вспомнил всю историю своего ордена. Она началась чуть менее двух столетий назад, в 1149 году. Притом совсем рядом, не так уж далеко от этого костра, на котором ему суждено умереть.
На следующий день после того, как рыцарь Эскье де Флуаран прибыл в Париж, великий магистр Робер де Краон срочно созвал чрезвычайный капитул ордена тамплиеров.
Представ перед собравшимися братьями, он громко прочел послание тринадцатого апостола, копия которого недавно чудесным образом попала к нему, и где представлено неоспоримое доказательство, что Иисус не был богом. Его тело никогда не воскресало, оно было погребено ессеями где-то в пределах Идумейской пустыни. Автор послания отвергал свидетельства Двенадцати и авторитет Петра, обвиняя его в том, что он согласился на обожествление Иисуса, чтобы завоевать власть.
Ошеломленные, тамплиеры внимали ему в мертвой тишине. Потом один из них встал и глухим голосом заговорил:
— Братья, все мы много лет имеем дело с мусульманами. Каждый знает, что их Коран отрицает божественность Иисуса, причем почти теми же словами, как это апостольское послание, и что именно здесь коренится главная причина их ожесточения против христиан. Надо довести до сведения христианского мира это послание, чтобы мы все наконец узнали подлинного Иисуса; это навсегда положит конец беспощадной войне, в которой преемники Петра противостоят преемникам Мухаммеда. Лишь тогда те, кто в один голос утверждают, что Иисус, сын Иосифа, был исключительным человеком и вдохновенным наставником, но не богом, смогут жить в мире бок о бок!
Робер де Краон тщательно взвесил каждое слово, прежде чем ответить. «Никогда, — сказал он собравшимся — никогда, братья мои, церковь не откажется от своей основополагающей догмы, источника ее мирового господства».
И он предложил другой план, который после длительных споров был принят.
За последующие десятилетия богатство ордена тамплиеров волшебным образом приумножилось. Великому магистру достаточно было встретиться с каким-нибудь принцем либо епископом, чтобы дары в виде земельных угодий и драгоценных металлов тотчас хлынули рекой. Преемники Робера де Краона выдвигали неоспоримый довод.
— Дайте нам средства для выполнения нашей миссии, — говорили они, — в противном случае мы предадим гласности имеющийся в нашем распоряжении апостольский документ, который разорит вас, ибо ниспровергнет христианство — основу вашего могущества и ваших доходов.
Платили короли, раскошеливались даже папы, и процветающие командорства тамплиеров росли и множились по всей земле, словно грибы после дождя. Послание тринадцатого апостола стало шлюзом, через который золотая река текла в сундуки рыцарей. Личность великого магистра, продолжателя дела тринадцатого апостола, противостоящего основанному Петром христианству, стала в прямом смысле неприкосновенной. Однако источник стольких благ, объект стольких посягательств могли похитить — значит, требовалось припрятать этот ветхий обрывок ткани в надежное место. Один из великих магистров вспомнил, как восточные пленники прячут свои деньги — заталкивая их внутрь собственного тела в металлической трубке, что дает им возможность и не расставаться со своим добром, и не бояться воришек. Он велел изготовить золотой футлярчик, убрал туда старательно свернутую копию послания и отныне хранил его внутри собственного тела, ставшего теперь священным вдвойне.
Дабы никто заподозрил тайны послания, следовало стереть с лица земли всякий, даже самый ничтожный его след. Сенешаль командорства в Патэ прослышал о надписи, что выгравирована в церкви Жерминьи, находившейся в ту пору в его владениях; ученый монах высказал предположение, что существует какой-то скрытый смысл в том диковинном способе, каким записан текст Символа Никейского собора. Он утверждал, что способен расшифровать этот код.
Сенешаль призвал монаха к себе и заперся с ним в храме Жерминьи. Когда же он оттуда вышел, лицо его было сурово. Он велел немедленно отправить монаха под стражей в его командорство в Пата.
Там ученый монах и умер на следующий же день. Плиту покрыли слоем штукатурки, и таинственная надпись скрылась из глаз, равно как и из памяти народа.
С той поры ритуал приема в орден тамплиеров обогатился странным жестом, который новички исполняли с религиозным благоговением: во время мессы и перед тем как облачиться в свою торжественную белую мантию, каждому полагалось преклонить колена перед великим магистром и поцеловать его сперва пониже спины, а затем в живот.
Не ведая того, новый брат поклонялся таким образом посланию тринадцатого апостола, повсеместно преследуемому ненавистью церкви, которой оно угрожало погибелью. Содержась отныне во внутренностях великого магистра, оно извлекалось из своего футлярчика лишь тогда, когда требовалось подкрепить угрозу, чтобы получить еще больше золота и угодьев.
Сокровища тамплиеров копились в подвалах множества командорств. Но их источник, источник воистину неистощимый, каждый великий магистр в свой черед передавал своему преемнику, дабы последний сберегал его в крепости собственного тела.
Жак де Моле, уже возведенный на костер, поднял голову. Они подвергали его пытке водой, огнем и дыбой, но в его внутренностях никто не копался. Ему достаточно было простого сокращения мышц, чтобы почувствовать в самом интимном уголке своего тела золотой футляр. Оно исчезнет вместе с ним, это послание — единственное оружие тамплиеров против королей и прелатов церкви, что стала недостойна Иисуса. До странности сильным голосом он отвечал Гильому де Ногаре:
— Только лишь пыткой ты смог вынудить некоторых из наших братьев сознаться в тех ужасах, в которых ты меня обвиняешь. Перед лицом неба и земли я клянусь, что все эти преступления и кощунства, которые ты здесь перечислял, не более чем клевета на тамплиеров. Мы заслуживаем смерти только потому, что не смогли вынести пыток, которыми нас терзала инквизиция.
Ногаре с торжествующей усмешкой повернулся к королю. Стоят высоко над Сеной в королевской ложе, которую соорудили по такому случаю, Филипп поднял руку, в тот же миг палач опустил пылающий факел в вязанку хвороста.
Огненные языки взвивались высоко в воздух, достигая башен собора Парижской Богоматери. Жак де Моле еще нашел в себе силы крикнуть:
— Папа Клемент! Король Филипп! Года не пройдет, как вы предстанете пред Божьим судом, и он справедливо вас покарает! Будьте прокляты вы и те, кто придет после вас!
Костер догорал, взрываясь бесчисленными искрами. Жар от него шел такой, что достигал берегов Сены.
На исходе дня кюре собора Парижской Богоматери подошел, чтобы помолиться над тлеющими остатками костра. Лучники уже ушли, место опустело, и он в одиночестве преклонил колена. В лучах заходящего солнца что-то сверкнуло среди горячего пепла. Подняв с земли ветку, он подвинул странный предмет к себе. И увидел золотой слиток, Оплавившийся в костре, похожий на слезу.
Это было все, что осталось от футляра, где хранилось послание тринадцатого апостола, все, что осталось от последнего великого магистра Храма, — и все, что осталось от подлинного сокровища тамплиеров.
Подобно многим, кюре знал, что тамплиеры были невиновны, что их страшная смерть, по сути, была мученичеством; он благоговейно поднес к губам уже остывшую золотую слезу, но она показалась ему раскаленной. Это была память о человеке, который отдал свою жизнь во имя памяти Иисуса, как и многие другие. Кюре передал реликвию посланцу папы Клемента, который вскоре скончался — не прошло и года.
Побывав в разных переделках, золотая слеза в конце концов попала в руки ректора Союза Святого Пия V. А уж тот сумел сообразить, каково ее значение, ведь в начале XIV века погибли не все тамплиеры: нет ничего труднее, чем истребить память.
С тех пор эта реликвия, как величайшая драгоценность, хранилась среди сокровищ Союза; она была хоть и косвенным, но все же свидетельством бунта тринадцатого апостола против доминирующей церкви.
67
Холл отеля был прежде гостиной большого патрицианского дома. Здесь, в двух шагах от оживленного городского центра, виа Джулиа дарила Риму очарование своих аркад, увитых глицинией, и старинных дворцов, переоборудованных в шикарные и при этом по-домашнему уютные отели.
— Не могли бы вы передать господину Барионе, что я хочу его видеть?
Администратор, в строгом черном костюме, внимательно оглядел утреннего визитера. Средних лет, волосы уже с проседью, одет так себе: какой-нибудь поклонник? Или заезжий журналист? Он поджал губы:
— Маэстро накануне вернулся поздно ночью, мы никогда его не беспокоим раньше…
С самым непринужденным видом посетитель вынул из кармана двадцатидолларовую банкноту и протянул ее администратору:
— Он будет очень рад меня видеть. А если нет, я дам вам еще столько же. Скажите ему, что давний друг из клуба ждет его. Он поймет.
— Что это на тебя нашло, Ари? Вытаскиваешь меня из постели в такой час, да еще перед концертом! И главное, что ты делаешь в Риме? Ты же должен был мирно проводить свой отпуск в Яффе, а меня оставить в покое. Я ведь больше не в твоей команде.
— Конечно, Лев, но из Моссада не увольняются, а в этой команде ты все-таки состоишь. Да ну же, расслабься! Я в Европе проездом, вот и пользуюсь случаем, чтобы тебя повидать. Только и всего. Как проходит твой римский сезон?
— Хорошо, но сегодня вечером я иду в атаку с рахманиновским Третьим концертом, это колоссальная вещь, так что мне необходимо сосредоточиться. Значит, у тебя в Европе осталась какая-то родня?
— У еврея везде есть родня. Для тебя семью в какой-то мере заменила наша служба, куда ты попал еще подростком. А теперь там, в Иерусалиме, за тебя беспокоятся. Чего ради ты увязался за этим французским монахом, что ехал в Римском экспрессе, зачем зарезервировал в его купе все места? Кто давал тебе такой приказ? Тебе что, захотелось в одиночку повторить предыдущую операцию? Разве я учил тебя пускаться в дело сломя голову, одному?
Лев скорчил досадливую гримасу:
— У меня не было времени известить Иерусалим, все происходило так быстро…
Ари взмахнул стиснутыми кулаками, обрывая собеседника на полуслове:
— Не лги! Уж меня-то избавь. Мы оба знаем: после той катастрофы ты изменился. И вот уже много лет ты слишком заигрываешь со смертью. Бывают моменты, когда жажда опасности тебя захлестывает с головой, ее запах тебя возбуждает, как наркотик. И тогда ты перестаешь соображать. Представь себе, что было бы, если бы отец Нил тоже погиб от точно такого же несчастного случая?
— Это создало бы изрядные проблемы людям из Ватикана. Я всей душой ненавижу их, Ари. Ведь это они позволили нацистам, истребившим мою семью, бежать в Аргентину.
С нежностью глядя на него, Ари напомнил: — Время ненависти прошло, настало время правосудия. И совершенно недопустимо, чтобы ты, не связавшись с командованием, самолично принимал политические решения такого уровня. Этим ты показал, что больше не способен себя контролировать. Отныне — категорический запрет на любые операции в этой области. Тому мальчишке, что с легкостью играл своей жизнью, пора повзрослеть. Теперь ты знаменитость; продолжай выполнять задачу, которую мы тебе доверили, веди наблюдение за Моктаром Аль-Корайшем и сосредоточься на французском монахе. И больше никаких прямых действий — это уже не для тебя!
68
Входя в Академию Святой Цецилии отец Нил испытывал некоторое волнение. В последний раз на концерте он был в Париже, накануне своего ухода в монастырь. Мягко говоря, это было давно.
Зал был небольшим, все выглядело почти по-семейному. Вокруг слышалась светская болтовня, но среди шикарных вечерних туалетов мелькали и пурпурные сутаны кардиналов. Лиланд протянул привратнику два пригласительных билета, тот отвел их в двадцатый ряд и усадил чуть левее середины.
— Отсюда, монсеньор, хорошо видны руки солиста, их не заслоняет крышка рояля, вам будет удобнее следить за его игрой.
Они заняли места, но по-прежнему молчали. В Риме отец Нил все время чувствовал, что между ним и Лиландом что-то надломилось, не было больше былого доверия и того ощущения нерушимой душевной близости. Ему казалось, что он потерял своего последнего, единственного друга.
Между тем оркестр был уже на своих местах. Наконец лампы в зале померкли, появился дирижер, а за ним и пианист. В зале раздались аплодисменты, и американец, наклонять к уху спутника, пояснил:
— Лев Бариона уже дал здесь несколько сольных концертов, публика его знает и любит.
Дирижер поклонился, а Лев Бариона прямиком направился к роялю, даже не повернув головы к залу. Со своего места отец Нил мог видеть только его профиль с пышной гривой белокурых волос. Когда дирижер встал за свой пюпитр, пианист поднял глаза и улыбнулся ему. Потом кивнул, и тут запели скрипки, им отозвался глубокий звук — вступил рояль. Музыка полностью захватила пианиста, лицо его застыло, помертвело, словно у инструмента сидел не человек, а заводная кукла.
В мозгу отца Нила мелькнуло, как вспышка: где-то он уже видел это странное выражение. Но руки Льва летали над клавишами, и тема первой части уже плыла в воздухе, словно тоскующий зов покинутого мира, плач о счастье, загубленном Октябрьской революцией в России. Отец Нил закрыл глаза. Музыка Рахманинова уносила его — в санях по снежному насту, по дорогам изгнания, к вратам смерти и забвения.
К концу второй части зал уже был совершенно покорен музыкой. Лиланд снова наклонился к отцу Нилу:
— Третья часть — одна из самых сложных.
Когда прозвучали последние аккорды, весь зал, как один человек, вскочил на ноги, но музыкант едва кивнул и скрылся за кулисами. Лиланд, сияющий от удовольствия, аплодировал что было сил. Но вдруг остановился:
— Я знаю Льва. На сцену он не вернется, он никогда не играет на «бис». Пойдем, попробуем встретиться с ним.
Они стали пробираться среди зрителей, кричавших: «Браво! Браво! Бис!»
В ложе, зарезервированной для Ватикана, равнодушно сидел кардинал Катцингер. Он получил из Министерства иностранных дел Ватикана, так называемого Государственного секретариата, «конфиденциальное» сообщение о том, что израильского пианиста следует остерегаться. «Видимо, темная личность. Но какой виртуоз!»
Внезапно он напрягся, приметив внизу, в партере, изящную фигуру Лиланда и рядом — седеющую голову отца Нила. Они пробирались мимо сцены куда-то влево, за кулисы — к артистическим уборным.
— Ремберт! Шалом! Как приятно тебя снова увидеть!
Лев Бариона, окруженный красивыми женщинами, похлопал Лиланда по плечу, потом повернулся к отцу Нилу:
— А это, насколько я понимаю, твой спутник… Счастлив с вами познакомиться. Вы любите Рахманинова?
Потрясенный, отец Нил не ответил на приветствие. Теперь, при ярком свете, впервые увидев израильтянина вблизи, он сразу узнал шрам, идущий от левого уха и скрывающийся под пышное шевелюрой.
«Человек из поезда!»
Пребывая в превосходном расположении духа Лев притворился, будто не замечает его изумления. Наклонившись к Лиланду, он зашептал, улыбаясь:
— Вы очень кстати, я попытаюсь улизнуть от поклонников. Мне после каждого концерта нужно несколько часов, чтобы вернуться с небес на землю. Тут нужен, как в подводной лодке, переходный отсек тишины и покоя.
Он повернулся к отцу Нилу:
— Вы доставите мне удовольствие, поужинав те со мной? Мы можем отправиться в какую-нибудь скромную тратторию, а в обществе двух монахов покой мне будет гарантирован. Чтобы выйти из мира Рахманинова, не найдешь лучших со трапезников, чем вы. Подождите меня у артистического подъезда, я отделаюсь от этой занудной компании, переоденусь и приду.
Улыбка Льва Барионы и его обаяние действовали неотразимо, причем он явно об этом знал; не дожидаясь ответа, пианист направился в глубины кулис, предоставив отцу Нилу изумленно смотреть ему вслед.
Человек из поезда! Почему они оказались тогда наедине в переполненном Римском экспрессе? И что тот собирался делать перед тем, как в их купе неожиданно появился контролер?
Они будут вместе ужинать, почти один на один…
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
69
В тот же вечер, уже совсем поздно, в апартаментах замка Сан-Анжело зазвонил телефон — Алессандро Кальфо раздраженно потянулся за трубкой. Ему только что наконец-то удалось уговорить Соню — она все легче уступала его настояниям — следовать в их очередной любовной игре тому сценарию, который он придумал. И на самом интересном месте их прервали.
В такой час звонить ему мог только кардинал.
Это действительно был Катцингер, только что возвратившийся в Ватикан из Академии Святой Цецилии, расположенной поблизости. По его голосу Кальфо сразу понял: что-то неладно.
— Монсеньор, вы в курсе?
— В курсе чего, ваше преосвященство?
— Я только что вернулся с концерта израильского пианиста Льва Барионы. Несколько дней назад наши службы предупредили меня, что этот человек опасен, и я с удивлением узнал, что Союз Святого Пия V позволил себе… как бы это сказать? использовать его скрытые таланты. Кто разрешил вам от имени Ватикана использовать в этом деле иностранных агентов?
— Ваше преосвященство, Лев Бариона никогда не был агентом Ватикана! Это в первую очередь выдающийся пианист, и если я согласился на его участие в деле, то лишь потому, что он, как и мы, сын Авраама и все понимает правильно. Но я его никогда даже в глаза не видел.
— Ну а что до меня, я его только что видел в Святой Цецилии. И угадайте, кого я еще заметил в зале?
Кальфо вздохнул.
— Двух ваших монахов! — продолжал Катцингер — Американца и француза.
— Ваше преосвященство, что за беда, если они пришли послушать хорошую музыку?
— Начнем с того, что монаху на концерте не место. А главное, я видел, как они в конце представления отправились за кулисы. Они явно собирались встретиться со Львом Барионой.
«Я очень на это надеюсь», — подумал Кальфо про себя. Вслух же сказал:
— Ваше преосвященство, в давние годы в Иерусалиме Лиланд водил знакомство с Барионой, они оба тогда учились у Артура Рубинштейна. Их связывает общая страсть к музыке, и это вполне естественно, если…
Катцингер перебил:
— Разрешите вам напомнить, что Лиланд работает в Ватикане и именно я рекомендовал вам использовать его как приманку для отца Нила. Крайне опасно допускать их контакты с таким пропахшим адской серой субъектом, как этот Лев Бариона, о котором вы не хуже меня знаете, что он отнюдь не просто талантливый музыкант. Мое терпение на исходе. В течение предновогодней недели я каждое утро должен служить мессу в своем приходе Санта-Мариа-ин-Космедин [18]. Завтра первый день. Позаботьтесь, чтобы Лиланд явился в мой кабинет сразу после полудня. Раз уж он забывает о своей ответственности, придется ему напомнить. А вы не забывайте, что состоите на службе церкви, которая запрещает подобные… инициативы.
Повесив трубку, Кальфо усмехнулся. Не хотел бы он быть на месте американца. Лиланд превосходно сыграл свою роль, сначала заставив отца Нила заговорить, а теперь сведя его с израильтянином. А теперь он будет наживкой для кардинала. Пусть тот только клюнет, а уж он, Кальфо, сумеет эту рыбину подсечь.
Он вернулся в комнату и с трудом спрятал досаду, Соня сбросила свой маскарадный наряд и сидела нагишом на краешке кровати. На ее лице застыло упрямое выражение, по щекам катились слезы.
— Ну же, моя прелесть, это не так уж страшно!
Прелат заставил девушку встать и снова надеть апостольник, скрывший ее пленительные волосы, а поверх — накрахмаленный чепец, концы которого упали на ее округлые плечи. Сделав из нее таким образом старорежимную монахиню — «Но только сверху — в области головы, все остальное — для меня!», он заставил ее преклонить колени на молитвенную подушечку из красного бархата перед византийской иконой. Как всегда, предусмотрев заранее, что икона поможет румынке лучше сыграть роль, исполнения которой он от нее ждал.
Отступил на шаг, полюбовался, картина получилась отличная. Соня была обнажена, но чепец, обрамляя овал лица, придавал ему благородства, глаза она подняла к иконе, тонкие руки сложила, словно в молитвенном экстазе… «Девственность и кроткость перед образом Девы. Весьма непристойно».
Рим погрузился в безмолвие ночи. Монсеньор Кальфо плюхнулся на колени за спиной Сони и прижался к ее изящно выгнутой спине. Ласкающее бархатное прикосновение молитвенной подушечки, на которую теперь опирались и его колени, было весьма приятно. Крепко взявшись за грудь молодой женщины, он на миг почувствовал смущение от взгляда византийской Девы, смотревшей на него с немым укором. Он закрыл глаза, ничто не должно вклиниваться между человеческим и божественным, плотским и духовным.
Когда он забормотал что-то бессвязно, Соня, не в силах оторвать глаз от иконы, нарушила навязанную ей позу и подняла руку, чтобы вытереть слезы, застилавшие глаза.
70
В это самое время Лев поднял бокал, приветствуя своих сотрапезников:
— За нашу встречу!
Он привел обоих монахов в тратторию в Трастевере — одном из обычных римских кварталов.
Посещали это место в основном итальянцы, заказывавшие гигантские порции знаменитой пасты.
— Я вам рекомендую попробовать их свежеприготовленные гребешки. Настоящее домашнее блюдо. После концерта я всегда прихожу сюда. Они закрываются очень поздно, поэтому у нас хватит времени, чтобы познакомиться поближе.
С того момента, как они вошли в ресторан, отец Нил еще ни слова не произнес. Израильтянин не узнает его? Нет, это невозможно. Однако Лев вел себя весело и непринужденно и, казалось, не замечал молчания монаха. Он вспоминал с Лиландом о добрых старых временах, проведенных в Израиле, толковали о своих музыкальных открытиях.
— В те годы в Иерусалиме мы наконец-то начали приходить в себя после Шестидневной войны. Командующий Иггаэль Ядин очень хотел, чтобы я остался при нем в ЦАГАЛ.
Тут отец Нил первый раз вмешался в разговор:
— Знаменитый археолог? Так вы его знали?
Лев выдержал паузу, пока перед ними ставили три тарелки, над которыми поднимался горячий пар пасты, потом, обернувшись к отцу Нилу, скорчил забавную гримасу и с улыбкой сообщил:
— Не только знал, но даже пережил благодаря ему довольно оригинальное приключение. Вы специалист по старинным текстам, исследователь, вас это должно заинтересовать…
У отца Нила возникло отвратительное чувство, что он угодил в западню. «Откуда он знает, что я специалист и исследователь? Зачем он притащил нас сюда?» Не зная, что ответить, он решил больше не вмешиваться в разговор и, ни слова не говоря, только согласно кивнул.
— В 1947 году мне было восемь, мы жили в Иерусалиме. Мой отец был другом молодого археолога Иггаэля Ядина из местного Еврейского университета: я рос рядом с ними. Ему было двадцать лет, и он, как и все евреи, живущие в Палестине, вел двойную жизнь: с одной стороны, студент, другой, что важнее, — боец Хаганы [19], в которой он скоро стал главнокомандующим. Я знал его, безмерно им восхищался и мечтал только об одном: сражаться, как и он, за свою страну.
— В восемь лет?
— Ремберт! Сеявшие ужас бойцы ПАЛЬМАХа [20] и Хаганы были подростками, опьяненными опасностью, как наркотиком! Они без колебаний привлекали к делу детей, чтобы передавать донесения; у нас ведь не было никаких средств коммуникации. Утром 30 ноября ООН согласилась на создание еврейского государства. Мы знали, что вспыхнет война: Иерусалим выставил проволочные заграждения, и только ребенок мог бегать туда-сюда без пропуска.
— Именно это ты и делал?
— Конечно. Ядин стал меня использовать постоянно. Я слушал все, что говорилось вокруг него. Однажды вечером он упомянул о странном открытии: погнавшись за козой по скалам, что возвышаются над Мертвым морем, некий бедуин наткнулся на пещеру, в которой обнаружил кувшины с какими-то липкими свертками внутри. Он их продал за пять фунтов сапожнику — христианину из Вифлеема, а тот в конце концов передал их митрополиту Самуилу, настоятелю монастыря Святого Марка, расположенного как раз в той части Иерусалима, что стала арабской.
Отец Нил прислушался, ведь речь зашла о событиях, связанных с рукописями Мертвого моря. Он разом и думать забыл о своих подозрениях; перед ним был непосредственный свидетель, встреча с ним — такая удача, о которой он даже мечтать не мог.
Лев взглянул на отца Нила, чей внезапно проснувшийся интерес, казалось, забавлял его. Он продолжил:
— Митрополит Самуил попросил Ядина удостоверить подлинность этих текстов. Но чтобы дойти до монастыря Святого Марка, надо было пересечь весь город, где на каждой улице стоят проволочные заграждения. Ядин дал мне фартук и ранец школьника и рассказал, как пройти к монастырю. По пути мне встречались и английские баррикады, и арабские повозки, отряды Хаганы, и все прекращали стрельбу, чтобы пропустить мальчика, который идет в школу! В том школьном ранце я притащил из монастыря два свитка, и Ядин сразу понял, о чем идет речь: это были самые древние рукописи, когда-либо найденные на земле Израиля, сокровище, по праву принадлежащее новому еврейскому: государству.
— И что же он с ними сделал?
— Оставить их у себя он не мог, это было бы воровством. Он их вернул митрополиту, а сам дал понять, что готов купить все манускрипты, которые бедуин найдет в гротах Кумрана. Невзирая на войну, поползли слухи: янки из Американской восточной школы и французские доминиканцы из иерусалимской Библейской школы стали проявлять интерес к находкам. Ядин, ранее командовавший воинскими операциями, начал секретные переговоры с вифлеемскими и иерусалимскими торговцами древностями. Но все заполучили американцы…
— Это я знаю, — перебил его отец Нил. — Я у себя в монастыре видел ксерокопии Хантингтонской библиотеки.
— А, так вам удалось раздобыть экземпляр? Мало кому так повезло, я очень надеюсь, что в один прекрасный день они все-таки будут опубликованы. Но тогда я случайно стал действующим лицом происшествия, которое должно было вас заинтересовать…
Он отодвинул свою тарелку, налил себе еще вина. И тут отец Нил заметил, что его лицо снова застыло — совсем как в поезде или на концерте, когда он играл Рахманинова!
Помолчав, Лев сделал над собой усилие и продолжил:
— Однажды митрополит Самуил сообщил Ядину, что у него имеются два исключительно хорошо сохранившихся документа. Бедуин нашел их во время своего второго посещения пещеры в третьем кувшине слева от входа, рядом со скелетом человека, который, по всей вероятности, был тамплиером, поскольку на нем была белая туника с красным крестом. Снова мне пришлось пройти через весь город, и я принес Ядину содержимое того кувшина: большой свиток, обернутый в промасленную бумагу, и маленький пергамент, всего один лист, просто обвязанный льняной тесьмой. В комнате, что служила ему штабом, Ядин, несмотря на бомбежку, сначала развернул свиток, исписанный по-древнееврейски; это была «Уставная книга» ессеев. Потом он открыл листок, исписанный по-гречески, и вслух перевел мне первую строку. Я был ребенком, но все еще помню: «Я, возлюбленный ученик, тринадцатый апостол, обращаюсь ко всем церквам…»
Отец Нил побледнел и скомкал свою салфетку, насилу сдерживаясь:
— Вы уверены? Это было именно так, вы хорошо расслышали: «возлюбленный ученик, тринадцатый апостол»?
— Абсолютно уверен. У Ядина был такой вид, будто он потрясен. Он сказал мне, что его интересуют только рукописи на древнееврейском, поскольку они достояние Израиля, а это послание написано на таком же греческом, как и Евангелия, значит, оно касается христиан, и надо вернуть его митрополиту. «Уставную книгу» он оставил у себя, взамен сунул в мой ранец пачку долларов, а также маленький греческий пергамент. Затем отослал меня назад в монастырь Святого Марка, и я побежал среди падающих бомб.
Отец Нил молчал, ошарашенный. «Он держал в руках послание тринадцатого апостола, единственный экземпляр, ускользнувший от церкви, избежавший уничтожения. Может быть, даже оригинал!»
С таким же странно застывшим лицом Лев продолжал:
— Я не дошел сотни метров до монастыря, когда на улицу упал снаряд. Меня подбросило в воздух, и я потерял сознание, а когда снова открыл глаза, то увидел монаха, склонившегося надо мной. Я был уже внутри монастыря, кожа на голове была разодрана сверху донизу, — поморщившись, он потрогал шрам, — а мой школьный ранец исчез.
— Исчез?
— Да. Я двадцать четыре часа провалялся в коме, между жизнью и смертью. Когда на другой день митрополит зашел навестить меня, он сказал мне, что один из его монахов поднял меня на улице, а ранец передал ему. Открыв его, он понял, что Ядин выплатил ему запрошенную сумму за кумранский манускрипт, но греческого письма купить не захотел. Это письмо он только что продал доминиканскому монаху заодно с кучей новых древнееврейских манускриптов, которые притащил ему бедуин. Он даже прибавил со смехом, что засунул письмо и манускрипты в пустой ящик из-под коньяка «Наполеон», до которого был большой охотник. И что, похоже, доминиканец даже не сознавал всей ценности того, что получил.
Столько вопросов роились, сталкиваясь и путаясь, у отца Нила в голове, что он сам не знал, с которого начать, и насилу выдавил из себя:
— По-вашему, митрополит прочел письмо, прежде чем перепродать его доминиканцу?
— Черт возьми, понятия не имею! Но меня бы это удивило, митрополит Самуил был кем угодно, но только не эрудитом. Да и не забудьте, шла война, ему требовались деньги, чтобы прокормить своих монахов и лечить раненых, которых десятками тащили в монастырь. Не тот был момент, чтобы тексты изучать! Наверняка он даже не понял, что это за письмо.
— А доминиканец?
Лев повернулся к нему: он-то знал, до какой степени этого французского монаха интересует его рассказ. «А как по-вашему, отец мой, зачем я пригласил вас сегодня на ужин? Чтобы полакомиться паштетами под пряным соусом?»
— Я очень хорошо помню всю эту историю. Много позже, на пороге смерти, Ядин снова заговорил со мной о том письме и просил меня отыскать его след. Мне удалось провести небольшое расследование благодаря Моссаду, для которого я стал… ну скажем, информатором от случая к случаю. Похоже, что у Моссада лучшая в мире информационная служба — после ватиканской, разумеется!
Сейчас Лев снова был мил и весел: на его лице не осталось и следа напряженности.
— Тот доминиканец, по сути, был братом послушником, а не священником, в монастыре он занимался хозяйственными делами. Славный малый, немного туповатый. Перед объявлением независимости Израиля ситуация в Иерусалиме была настолько напряженной, что многих монахов репатриировали в Европу. Похоже, что доминиканец, собираясь в дорогу, засунул в свой багаж и тот ящик из-под коньяка «Наполеон», о значении которого он не имел ни малейшего представления, да и дотащил его до самого Рима, где и закончил свои дни на Авентинском холме, в доминиканской курии. Мы выяснили, что ящика там уже нет, после его кончины в келье не нашли ничего, кроме четок из оливкового дерева.
— И… где же все это теперь может быть?
— Курия — учреждение, не склонное хранить документы, бесполезные для него. Она передала разрозненные рукописи, вывезенные из Иерусалима, в Ватикан, и они, несомненно, осели там, где хранится всякое старье, с которым не поймешь что и делать, или использование которого возможно, но не желательно. Где-то в уголке одной из библиотек или хранилищ священного града упокоилось и это послание. Думаю, что, если бы его раскопали, оно дало бы о себе знать.
— А почему, Лев?
Тронутый тем, как израильтянин на глазах оттаял, отец Нил назвал его по имени. Лев это заметил и налил ему еще рюмку вина:
— Потому что Иггаэль Ядин прочел письмо, прежде чем вернуть его митрополиту. И то, что он мне сказал перед смертью, заставляет думать, что в письме том содержится страшная байка — из тех, которые в конце концов выходят наружу и никакая церковь, никакое государство, даже такое закрытое, как Ватикан, не может вечно скрывать их. Если кто-то видел это послание, отец Нил, он или уже мертв, или Ватикан и вся католическая церковь скоро взлетят на воздух.
Отец Нил нервно потер подбородок. «Он или уже мертв…»
— Отец Андрей!
71
Легкое вино из Кастелли слегка кружило голову. Отец Нил с удивлением увидел, что гарсон ставит перед ним чашку кофе; всецело поглощенный рассказом Льва, он незаметно для себя проглотил и пасту, и последовавший за ней эскалоп по-милански. Между тем Лиланд с озабоченным видом мешал ложечкой свой кофе. Он решился задать Льву тот вопрос, на который натолкнул его Нил тогда, во дворе бельведера:
— Скажи-ка, Лев… Почему ты прислал мне два билета на твой концерт, да еще в записке уточнил, что это может заинтересовать моего друга? Откуда ты узнал, что он в Риме, да и просто о его существовании?
Лев удивленно поднял брови:
— Но… ты же сам мне сообщил! На следующий день после твоего приезда я получил в отеле на виа Джулиа письмо с гербами Ватикана. В конверте было несколько строк, напечатанных на машинке — если память мне не изменяет, что-то типа «монсеньор Лиланд и его друг отец Нил были бы счастливы присутствовать…» ну, и так далее. Я еще подумал, что ты поручил своей секретарше известить меня, и, по правде сказать, нашел, что это уже слишком по-деловому, но так уж, видимо, принято у вас в Ватикане.
Лиланд мягко возразил:
— У меня нет секретарши, Лев, и я не посылал тебе никакого письма. Я даже не знал, в каком отеле ты остановился, только слышал, что ты будешь давать в Риме серию концертов. Скажи, а на письме была моя подпись?
Пианист задумчиво почесал затылок, взъерошив свою пышную белокурую шевелюру:
— Да я уже и не помню! Нет, это была не в твоем духе, внизу там был только инициал. Вроде бы прописная буква «К» с точкой. Но я, Ремберт, в любом случае хотел с тобой повидаться, раз уж приехал. К тому же мне непременно нужно было познакомиться с отцом Нилом.
Лицо Лиланда омрачилось: Катцингер или Кальфо? В нем снова поднялась волна раздражения.
Погруженный в свои мысли, отец Нил лишь краем уха слушал разговор. Его мучили совсем другие вопросы, и он решил вмешаться:
— Все хорошо, что хорошо кончается, ведь благодаря этому письму я сегодня вечером смог послушать ваше потрясающее исполнение рахманиновского концерта. Но скажите мне, Лев… почему вы были с нами так откровенны? Вы догадались, что значило бы для Ремберта и для меня обнаружение нового послания апостола, способного поставить под сомнение нашу веру и чудесным образом извлеченного из забвения на исходе XX столетия? Зачем вы рассказали нам все это?
Лев обезоруживающе улыбнулся. Не мог же он сказать отцу Нилу правду: «Потому что таково задание Моссада»!
— А кому, кроме вас, это могло бы быть интересно?
Он, казалось, не придал вопросу отца Нила ни малейшего значения и смотрел на него тепло, дружески:
— Отец Нил, неужели какой-то древний документ, оспаривающий божественность Иисуса, действительно что-то изменил бы для вас?
Тем временем последние клиенты уже покинули тратторию, они были одни в зале, и хозяин уже лениво принялся наводить порядок. Отец Нил надолго задумался, прежде чем ответить. Потом заговорил как-то странно, будто забыл, к кому обращается:
— Сегодня вечером вы рассказали мне, что апостольское послание было найдено в Кумране тогда же, когда манускрипты Мертвого моря. А я все последние недели собирал доказательства существования этого документа. В III веке он упоминался в одной коптской рукописи, на рубеже IV — в тексте Оригена, в VII веке — в Коране, а в VIII веке была выбита надпись в Жерминьи — закодированный Никейский Символ, и смысл его кода относится все к тому же посланию. Наконец, процесс тамплиеров в XIV столетии также касается этого документа. Все это я выяснил после долгих лет поиска скрытого смысла текста конца I века, с которого все и началось, — с Евангелия от Иоанна. Что до послания тринадцатого апостола, я отыскал его следы благодаря тому, что тень этого человека лежит на всей истории Запада.
Он посмотрел прямо в лицо Льву:
— А теперь вы приходите и рассказываете мне, что таскали этот документ в своем школьном ранце, исполняя поручения шефа Хаганы. Затем вы сообщаете, что послание находится где-то в Ватикане, то ли спрятанное, то ли просто неопознанное. Иггаэль Ядин говорил вам, что в нем заключена страшная тайна. Но даже если я узнаю его содержание, которое должно быть и впрямь чудовищным, если оно на протяжении веков становилось поводом для стольких изгнаний, убийств и заговоров, в моей духовной связи с Иисусом это ничего не изменит. Я с Ним встретился лично, Лев, можете вы это понять? Его образ не принадлежит ни одной церкви, Он, чтобы существовать, в ней не нуждается.
На Льва, похоже, эта речь произвела впечатление. Он мягко коснулся локтя отца Нила:
— Я никогда не был особенно набожным, отец Нил, но любой еврей поймет то, что вы сказали, поскольку каждый из нас является потомком рода пророков, хочет он того или нет. Знайте, что вы мне бесконечно симпатичны, и хоть лгал я в своей жизни немало, сейчас говорю я это абсолютно искренне.
Он встал, поскольку хозяин уже ходил кругами вокруг их столика.
— От всей души желаю вам добиться цели в своих поисках. Не думайте, что они касаются только вас. Но берегитесь, пророки всегда умирают насильственной смертью. Это тоже всякий еврей знает инстинктивно и принимает так же, как некогда принял свою участь еврей Иисус. Однако уже два часа ночи. Позвольте мне поймать для вас такси, чтобы вы могли вернуться в Сан-Джироламо.
Ссутулившись на сиденье автомобиля, отец Нил смотрел, как проносятся мимо купола Ватикана, мягко поблескивая инеем в темноте морозной декабрьской ночи. Но пелена слез затуманивала его взгляд. До сегодняшнего дня это письмо было все-таки лишь гипотезой, чем-то придуманным. Но он только что пожимал руку того, кто видел этот документ, смотрел ему в глаза.
Гипотеза внезапно стала принимать реальные черты. Письмо тринадцатого апостола, несомненно, находилось где-то за высокими стенами Ватикана.
Он пойдет до конца. Да, он тоже собственными глазами увидит это письмо.
И в отличие от всех тех, кто прошел этот путь раньше, он попытается выжить.
72
Лиланд играл прелюдию Баха, когда отец Нил вошел в квартиру на виа Аурелиа. Он до рассвета вспоминал рассказ Льва Барионы. Под глазами у него наметились круги, беспокойство, что грызло его, отчетливо проступало во взгляде.
— Я всю ночь глаз не сомкнул — слишком много навалилось сразу! Ладно, это не важно, пойдем в книгохранилище, займусь рукописями твоих григорианских песнопений, надеюсь, это поможет мне собраться с мыслями. Однако, Ремберт, ты понимаешь, что случилось? Письмо тринадцатого апостола находится в Ватикане!
— Мы сможем провести в хранилище только утренние часы. Мне только что звонил монсеньор Кальфо, меня вызывает кардинал, сегодня в два я должен явиться к нему в кабинет.
— Зачем?
— О… — Лиланд закрыл крышку рояля, лицо его стало смущенным. — Я, наверное, знаю, в чем дело, но предпочел бы тебе сейчас об этом не рассказывать. А это таинственное послание… Если оно и правда в Ватикане, как ты рассчитываешь добраться до него?
Теперь уже отец Нил, в свою очередь, отвел глаза:
— Извини, Ремби, я тоже предпочитаю не отвечать тебе на этот вопрос так сразу. Видишь, что Ватикан с нами сделал, братья уже не могут быть братьями в полной мере, когда они что-то скрывают друг от друга…
Моктар этажом ниже выключил магнитофон и присвистнул сквозь зубы. Отец Нил только что произнес фразу, которая многих денег стоит: «Письмо тринадцатого апостола находится в Ватикане!» Правильно он сделал, что послушался приказаний из Каира и все еще ничего не предпринял против этого мелкого француза. ХАМАС знал столько же, сколько было известно Кальфо, и о пресловутом письме, и о том, как оно жизненно важно для христианства, смертоносное кольцо вокруг отца Нила сжимается, но сначала пусть он доведет поиски до конца.
Кальфо защищает христианство, но он-то, Моктар, отстаивает ислам, свой Коран, своего пророка, благословенно имя его.
Проходя по длинному коридору, ведущему к кабинету префекта Конгрегации, Лиланд почувствовал, как под ложечкой засосало, желудок словно скукожился. Пушистые ковры, венецианские бра, дорогая резьба по дереву — вся эта пышность вдруг показалась ему нестерпимой. Это была нарочитая демонстрация мощи организации, которая готова уничтожить любого, чтобы продлить существование своей гигантской империи, построенной на преемственности лжи. Со времени приезда Нила он успел понять, что его друг стал жертвой этой власти — так же, как он сам, хотя и по совсем иной причине. Лиланд никогда ранее не задавал себе вопросов относительно собственной веры. Открытия Нила его потрясли, придав новые силы бунту, нараставшему в душе.
Он скромно постучался в высокую дверь, покрытую орнаментом из тонких золотых нитей.
— Входите, монсеньор, я вас ждал.
Лиланд приготовился к тому, что Кальфо будет помогать кардиналу в беседе. Но Катцингер был один. На его пустом письменном столе лежала простая папка, перечеркнутая красным. Выражение лица кардинала, обычно мягкое, обрело гранитную жесткость.
— Монсеньор, я не стану ходить вокруг да около. В течение трех недель вы ежедневно видитесь с отцом Нилом. Теперь вот привели его на публичный концерт, познакомили с человеком, о котором мы получаем весьма нелестные отзывы.
— Ваше преосвященство, Рим не монастырь…
— Довольно пустословия! Мы с вами заключили соглашение, вы должны были держать меня в курсе ваших бесед с отцом Нилом и докладывать о том, как продвигаются его личные исследования. В католической церкви никакое исследование не может быть личным: всякое размышление, открытие должно приносить ей пользу. Я уже не получаю от вас никаких докладов, да и те, которые вы мне составляли вначале, весьма немногословны, в них сказано меньше, чем можно было бы. Мы знаем, что поиски отца Нила движутся в рискованном направлении, и также знаем, что он держит вас в курсе. Так почему же вы, монсеньор, становитесь на сторону авантюры, направленной против церкви, к которой вы принадлежите, которая вам, как мать?
Лиланд опустил голову. Этот человек… Что ему ответить?
— Ваше преосвященство, я так мало смыслю в ученых трудах отца Нила…
Катцингер сухо оборвал его:
— Я прошу вас не понимать, а докладывать о том, что вы услышите. Мне неприятно вам об этом напоминать, но в вашем положении не выбирают.
Он склонился над столом, раскрыл папку и подтолкнул её к Лиланду:
— Узнаете эти снимки? Вы здесь представлены в компании одного из монахов вашего монастыря Святой Марии в пору, когда вы были там настоятелем. Здесь — он помахал перед носом Лиланда черно-белой фотографией — вы с ним наедине в саду аббатства, и взгляды, которыми вы обмениваетесь, говорят о многом. А здесь — это изображение было уже цветным — вы стоите у него за спиной, и ваша рука лежит на его плече. Подобные вещи недопустимы между монахами, это непристойно.
Лиланд побледнел, сердце заколотилось. «Ансельм!» Чистый, благородный брат Ансельм! Никогда этому кардиналу не понять, что сближало их. Да и сам он никогда бы не позволил ни этим выпученным глазам, ни словам, произнесенными так жестко и холодно, осквернить то, что было тогда в его жизни.
— Ваше преосвященство, как вам известно, я доказал, что между мной и братом Ансельмом не было ничего такого, что нарушило бы наши обеты целомудрия — ни действий, ни малейшего намека на поступки, противные христианской морали!
— Монсеньор, христианская чистота нарушается не только поступками, нужно уметь владеть своим разумом, сердцем и душой. Вы пренебрегли своими обетами, дав волю дурным помыслам, ваша переписка с братом Ансельмом доказывает это. — И он показал Лиланду несколько писем, аккуратно сложенных в стопку. — Злоупотребляя властью, которую имели над ним, вы вовлекли этого несчастного брата в водоворот страстей, обуревающих вас, одна мысль о которых внушает мне ужас.
Лиланд покраснел до корней волос и съежился. «Как им удалось заграбастать эти письма? Ансельм, бедный мой друг, что они с тобой сделали?»
— Ваше преосвященство, в этих письмах нет ничего, кроме выражения приязни, конечно, сильной, но чистой, которая связывала монаха и его настоятеля.
— Да вы шутите! Эти фотографии, потом эти письма, наконец ваши публичные высказывания о допустимости брака для священнослужителей. Все это говорит о том, что вы дошли до той степени моральной испорченности, которая нас вынудила облечь вас епископским саном, чтобы оградить от соблазна и избежать ужасающего скандала, назревавшего в США по вашей милости. Американская католическая церковь и без того переживает нелегкие времена, процессы о педофилии, да еще повторные, серьезно подорвали доверие ее прихожан. Вообразите, как бы раздула этот скандал пресса: «Аббатство Святой Марии — уголок Содома и Гоморры». Приютив вас в Ватикане, я добился от журналистов молчания, и это нам весьма дорого обошлось. Это досье, монсеньор…
Он заботливо сложил фотографии поверх пачки писем, резким жестом захлопнул папку и заключил:
— Я не смогу и далее хранить это досье в секрете, если вы не будете исполнять наш договор так, как следует. Отныне вы будете напрямую держать меня в курсе всех изысканий вашего французского друга. Кроме того, потрудитесь проследить, чтобы он не встречался в Риме больше ни с кем, кроме вас, и вот тогда вы обеспечите как свою, так и его безопасность. Понятно?
Когда Лиланд снова вышел в длинный безлюдный коридор, ему пришлось на миг прислониться к стене. Он задыхался, этот разговор довел его до полного изнеможения. Он был весь в поту, майка прилипла к груди. Медленно приходя в себя, он спустился по широкой мраморной лестнице и вышел из здания Конгрегации, машинально повернул направо, зашагал по первому из трех переходов, огибающих колоннаду Бернини, потом снова направо, к виа Аурелиа — не глядя по сторонам, с пустотой в голове.
Его преследовало ощущение, будто его раздавили физически. Ансельм! Откуда им знать, да и разве способны они постигнуть, что такое любовь? Для этих людей это всего лишь слово, такое же пустое изнутри, как политическая программа. Как можно любить невидимого Бога, если никогда не любил существа из плоти и крови? Как быть всемирным братом, если ты своему брату не брат?
Сам не заметив, как очутился перед подъездом своего дома, он поднялся на четвертый этаж, где застал отца Нила сидящим на ступеньке лестницы с мешком, зажатым между коленями.
— Я не мог оставаться в Сан-Джироламо, сидеть там без дела. Этот монастырь омерзительно уныл. Мне захотелось поговорить, я подумал, дождусь тебя…
Лиланд без единого слова провел его в гостиную. У него тоже была потребность поговорить, но сможет ли он расколоть эту сдавившую грудь каменную броню?
Он сел и налил себе бурбона. Его лицо все еще было страшно бледно. Нил, склонив голову набок, всмотрелся в него:
— Ремби, мой друг, да что случилось? На тебе лица нет.
Обхватив стакан обеими руками, Лиланд на мгновение зажмурился. «Смогу ли я сказать ему?» Но, сделав еще глоток, робко улыбнулся Нилу и подумал: «А ведь теперь это мой единственный друг». Он больше не вынесет этого двоедушия, к которому его вынудили с тех пор, как он здесь, в Риме. И, сделав над собой усилие, он заговорил:
— Как ты знаешь, я был совсем юнцом, когда поступил в консерваторию аббатства Святой Марии и прямо со школьной скамьи угодил в послушники. Я ничего не знал о жизни, Нил, и целомудрие меня не угнетало, потому что я не ведал страсти. В том году, когда я принес монашеский обет, к нам присоединился еще один послушник из консерватории, такой же невинный, как новорожденное дитя. Я пианист, а он был виолончелистом. Сначала нас сблизила музыка, потом к этому прибавилось что-то еще, мне совершенно не известное, я был перед этим абсолютно безоружен, но это было то, о чем в монастырях не говорят, — любовь. Мне потребовались годы, чтобы понять, какое чувство овладело мной, что счастье, которое я испытываю в его присутствии, называется именно так! И я тоже был любим, я знал об этом, мы открыли друг другу свое сердце. Да, я полюбил монаха, который был младше меня, чистого, как вода, бегущая из источника. И он тоже любил меня, Нил!
Его собеседник, кажется, порывался что-то сказать, но перебить не решился.
— Когда я стал настоятелем монастыря, наши отношения стали глубже. По выбору местной церкви он был наречен моим сыном пред Господом, и моя любовь к нему окрасилась бесконечной нежностью…
Две слезы скатились по его щекам, он не мог продолжать. Нил забрал у него стакан и поставил на рояль. Потом, поколебавшись, все же спросил:
— Эта взаимная любовь, которой ни один из вас не отвергал, она выражалась в каких-нибудь физических контактах?
Лиланд поднял на него глаза, полные слез: — Никогда! Никогда, слышишь, если ты подразумеваешь что бы то ни было пошлое. Я наслаждался его присутствием, я угадывал малейшее движение его души, но наши тела никогда не предавались грубому соитию. Я никогда не переставал быть монахом, он был неизменно кристально чист. Мы любили друг друга, Нил, и этого сознания было довольно, чтобы сделать нас счастливыми. С тех дней любовь Господня стала мне понятнее, ближе. Может быть, возлюбленный ученик и Иисус некогда тоже пережили что-то похожее?
Отец Нил поморщился. Не стоило бы так углубляться, лучше оставаться на почве фактов.
— Если между вами ничего не было, никогда никаких конкретных действий, то есть отсутствует сама субстанция греха — прости меня, это у теологов так принято выражаться, — то при чем здесь Катцингер? Ты ведь у него сейчас был, верно?
— Я в свое время написал Ансельму несколько писем, в которых сквозит эта любовь. Уж не знаю, к чему прибегнул Ватикан, чтобы получить их. Есть еще две совершенно невинные фотографии, где мы с Ансельмом сняты рядом. А ты ведь знаешь, все, что связано с сексом, — навязчивая идея церкви. Этого оказалось довольно, чтобы их болезненная фантазия воспалилась. Меня обвинили в моральном разложении, осквернили, заляпали тошнотворной грязью чувство, которого не могли понять. Как по-твоему, Нил, эти прелаты — люди ли они вообще? Я в этом сомневаюсь, им ведь не знакома боль любви, а без нее душа человеческая мертва.
— Итак, — настаивал Нил, — сейчас Катцингер пытается надавить именно на тебя. Но почему? Ты это знаешь? Что он тебе сказал, чем ты так потрясен?
Опустив голову, Лиланд на одном дыхании выговорил:
— В день твоего приезда в Рим он меня вызвал к себе. И поручил докладывать ему обо всех наших разговорах, иначе он меня отдаст на растерзание прессе, я-то, может, и пережил бы, но Ансельм беззащитен, я знаю, его бы такое сломило. Раз я осмелился полюбить, он за это потребовал, чтобы я шпионил за тобой, Нил!
Когда первые мгновения цепенящей растерянности прошли, Нил встал и налил себе стакан бурбона. Теперь он понимал двусмысленное поведение своего друга, это молчание, в которое тот порой так внезапно впадал. Все разом встало на свои места: бумаги, похищенные из его кельи на берегу Луары, должно быть, очень быстро были доставлены в бюро Конгрегации. Его вызов в Рим под явно искусственным предлогом, их встреча с Лиландом — все было предусмотрено и было частью единого замысла. За ним шпионили? Да, это началось еще в аббатстве, на следующий день после гибели отца Андрея. А несчастный Лиланд стал пешкой на шахматной доске, где центральной фигурой был он сам, отец Нил.
Он напряженно размышлял, потом быстро принял решение:
— Ремберт, похоже, наши поиски, мои и отца Андрея, обеспокоили многих. С тех пор как я догадался о присутствии рядом с Иисусом в высокой зале еще одного человека — тринадцатого апостола — и о том, как впоследствии память о нем старательно уничтожалась, произошли такие вещи, которые я считал невозможными в XX веке. Для церкви я стал мерзким нечестивцем, поскольку в конце концов признал недопустимое, но очевидное: превращение Иисуса в Христа, в Бога было мошеннической подменой. Да я еще и увидел истинное лицо первого папы, чей обман по захвату власти лег в основание церкви. Мне не позволят продолжать поиски в этом направлении, теперь я знаю, что отец Андрей погиб именно потому, что ввязался в это дело. Я хочу расквитаться за его смерть, а отомстить за нее может только истина. Ты готов вместе со мной идти до конца?
Лиланд ответил глухо, но без колебаний:
— Ты хочешь отомстить за убитого друга, а я — за друга живого, обреченного на стыд и молчание в моем бывшем аббатстве. Вот уже много месяцев, как он мне больше не пишет. Я хочу отомстить за всю ту грязь, которую на нас вылили, за то невинное чувство, которое в нас убили. Да, Нил, я с тобой, наконец-то мы снова вместе!
Откинувшись в кресле, Нил осушил свой стакан и поморщился: «Я стал пить, как ковбой!» Напряжение вдруг разом отпустило, они снова могут открыто разговаривать. Надо действовать, только это поможет выбраться из западни, в которую они угодили.
— Я хочу отыскать это послание. Но у меня возникают вопросы насчет Льва Барионы, наша встреча была не случайной, ее спровоцировали. Но кто и зачем?
— Лев мой друг, я ему доверяю.
— Но он еврей и к тому же бывший агент Моссада. Как он рассказал, израильтяне знают о существовании письма и, возможно, даже о его содержании, раз уж Иггаэль Ядин его читал и говорил о нем перед смертью. Кто еще в курсе? Похоже, Ватикан не знает, что оно где-то здесь, в его стенах. Зачем Лев сообщил мне об этом? Человек его склада ничего не делает в простоте душевной.
— Не знаю. Но как ты разыщешь простой листок, возможно тщательно оберегаемый или, напротив, попросту забытый в каком-нибудь уголке?
Ватикан огромен — разного рода музеи, библиотеки, их филиалы, чердаки и подвалы, забитые самым невообразимым старьем, начиная с рукописей, кем-то забытых в стенном шкафу, и кончая копией спутника, подаренной Иоанну XXIII Никитой Хрущевым. Миллионы предметов, классифицированных зачастую весьма приблизительно. И у тебя нет ничего, способного навести на след, — даже библиотечного шифра.
Отец Нил встал и потянулся:
— Лев Бариона нам дал, возможно и сам о том не догадываясь, бесценную подсказку. Чтобы ее использовать, у меня есть единственный козырь — отец Бречинский. Этот человек закрыт со всех сторон. Но я должен найти способ достучаться до него, он один может мне помочь. Завтра мы, как всегда, пойдем работать в книгохранилище, и я начну действовать.
С тем отец Нил и ушел, а Моктар снял наушники и перемотал магнитофонные пленки. Одна была для Кальфо, другую он засунул в конверт, который нужно сразу отнести в египетское посольство. Завтра же утром его в дипломатическом чемодане доставят верховному наставнику университета Аль-Азхар.
Его лицо скривилось от омерзения. Американец не только сообщник Нила, он еще и педик! Они недостойны жить. Ни тот ни другой.
73
В тот же вечер Кальфо созвал экстренное совещание Союза Святого Пия V. Обстоятельства требовали абсолютной сплоченности Двенадцати вокруг своего распятого Учителя.
Ректор быстрым взглядом окинул апостолов. Антонио, скромно опустив глаза под надвинутым капюшоном, ждал начала заседания. Кальфо поручил ему взяться за Бречинского, указав, какая у поляка слабина, испанец почему-то не явился к нему с докладом, как было условлено. Неужели, оказав ему особое доверие, он ошибся в выборе? Прежде с ним такого не случалось, это был бы первый подобный промах… Да нет, вряд ли, прочь неприятную мысль! Он пребывал в состоянии эйфории после вчерашнего священнодействия, которое совершил с Соней, преображенной в живую икону. Румынка в конце концов уступила всем его настояниям, до конца их игры сохранив на своей точеной головке рогатый чепец монахини.
Окрыленный таким успехом, он, отпуская ее, предупредил, что в следующий раз он ей покажет другой культовый обряд, который интимнейшим образом соединит их в жертвоприношении пред Господом. Когда он описал, в каком ритуале им предстоит слиться, Соня побледнела и в смятении бросилась наутек.
Это его не беспокоило, вернется. Она никогда еще ни в чем ему не отказывала. В этот вечер надо быстренько закруглиться, чтобы после собрания пораньше вернуться домой, где его ждут долгие и кропотливые приготовления. Он встал, прокашлялся:
— Братья мои, текущая миссия принимает неожиданный и весьма, удовлетворительный оборот Я устроил так, чтобы Лев Бариона, который сей час дает в Академии Святой Цецилии серию концертов, встретился с отцом Нилом. Сказать по правде, мое вмешательство было излишним, израильтянин и сам планировал выйти на контакт нашим монахом. Это показывает, до какой степени Моссад — да, и он тоже! — интересуется его изысканиями. Короче, они встретились, и Лев выложил этому безобидному интеллектуалу информацию, за которой мы так долго гоняемся. Послание тринадцатого апостола не исчезло. Один экземпляр сохранился, и он, без сомнения, находится Ватикане.
Собрание зашевелилось. Один из Двенадцати приподнял согласно правилам сложенные руки на столом:
— Как такое возможно? Мы подозревали, что один экземпляр мог ускользнуть от наших глаз, но чтобы… В Ватикане, вы уверены?
— Мы здесь находимся в самом сердце христианского мира, отсюда простирается во все концы света гигантская сеть. В конце концов рано или поздно все приходит сюда, в Ватикан, в том числе манускрипты и древние тексты, обнаружении где-либо, так, судя по всему, произошло и на сей раз. Лев Бариона не просто так подбросил французу эту информацию, он наверняка рассчитывал, что любознательный отец Нил сам приведет его этому документу, завладеть которым евреи жаждут не меньше нашего.
— Брат ректор, разве нам так уж необходимо рисковать, допуская эксгумацию этого послания? Забвение всегда было самым действенным оружием церкви в ее борьбе с тринадцатым апостолом. Не лучше ли просто поддерживать и дальше эту целительную амнезию?
Этот вопрос послужил ректору удобным поводом напомнить Одиннадцати о величии их задачи. Он торжественно протянул вперед правую руку, сверкнув зеленым камнем перстня.
— После Тридентского собора святой Пий V, он же доминиканец Антонио Гислиери, ужаснувшись тому, как ослабела католическая церковь, о крушении которой уже было объявлено вслух, сделал все, чтобы спасти ее. Самая зловещая угроза исходила не от бунта Лютера. Гораздо страшнее был стародавний слух, задушить который не смогла даже инквизиция: дескать, могила, где упокоились останки Христа, существует и находится где-то в пустыне на Ближнем Востоке. В утраченном послании свидетеля, присутствовавшего при последних минутах Господа нашего, утверждается, что Иисус не воскресал, а был погребен ессеями где-то в тех краях. Все это вы знаете, не так ли?
Одиннадцать дружно закивали.
— Прежде чем стать папой, Гислиери был великим инквизитором, он знакомился с материалами допросов заключенных, заживо сожженных потом за ересь, просматривал кое-какие протоколы процесса тамплиеров — все эти документы ныне утрачены. Убедившись, что могила Иисуса существует, он понял, что если весть об этом дойдет до мира, то это необратимо станет концом церкви. И вот тогда, в 1570 году, он создал наш Союз, чтобы вечно хранить тайну этой могилы.
Все это так же было известно его слушателям Угадывая их нетерпение, ректор поднял руку, i перстень снова блеснул в направленном луче прожектора.
— Гислиери приказал выточить из чистейшее гелиотропа этот епископский перстень в форме гроба. С тех пор он каждому новому ректору снявшему его с пальца своего мертвого предшественника напоминает своей формой, в чем наша миссия: действовать так, чтобы гроб, содержащий кости того кто был распят в Иерусалиме, никогда не был обнаружен.
— Но если отголоски послания тринадцатой апостола и доносятся сквозь века, ничто не доказывает, что там содержится точное указание местоположение этой могилы. Пустыня огромна и за прошедшие века песком все занесло!
— Действительно, могиле Иисуса ничто не угрожает, пока по пустыне бродят одни лишь верблюды. Но завоевание космоса дало в руки рода людского чрезвычайно усовершенствованные средства для поиска. Если можно определить русла, по которым на далеком Марсе в незапамятные времена текла вода, то вполне реально обнаружить все, в том числе и занесенные песком захоронения в пустыне Негев или в Идумее. Такого будущий папа Гислиери даже вообразить тогда не мог. Едва лишь известие о существовании могилы будет опубликовано, сотни самолетов, снабженных радарами иле космическими зондами, начнут прочесывать пустыню от Иерусалима до Красного моря. Вторжение космических технологий создало новую опасность, от которой нам никуда не деться. Нам нужно завладеть этим документом, да поскорее, раз израильтяне вышли на его след.
Он благоговейно поднес к устам гелиотроповый гробик, потом спрятал руки в длинные рукава своего балахона.
— Этот документ необходимо навеки спрятать в сундуке, который перед нами. Им нужно завладеть не только затем, чтобы его не получили наши враги. Благодаря ему мы сможем располагать в дальнейшем финансовыми возможностями, которые дадут нам возможность положить конец отклонениям Запада от должного пути. Вы знаете, каким образом тамплиеры смогли приобрести свои громадные богатства, — об этом нам напоминает реликвия, которой мы поклоняемся каждую пятницу, если она приходится на 13 число. Это богатство может стать нашим, и мы его используем, чтобы уберечь божественный образ Господа нашего.
— Что вы предлагаете, брат ректор?
— Отец Нил идет по следу, который в конечном счете может оказаться правильным, предоставим ему продолжать поиски. Я усилил надзор за ним, если он достигнет цели, мы первыми узнаем об этом. А потом…
Ректор не счел нужным договорить фразу. То, что будет «потом», уже повторялось много раз в подвалах инквизиции, стены которых видели столько страданий, и на кострах, освещавших христианский мир на всем протяжении его истории. Насчет «потом» им опыта не занимать. В данном случае изменится лишь способ осуществления извечного действа. Отца Нила не сожгут принародно на площади, как не сделали этого и с отцом Андреем.
74
Лучи солнца ласкали плиты двора бельведера, когда Нил и Лиланд вошли туда. Испытывая облегчение после недавнего откровенного разговора, американец снова обрел свою былую жизнерадостность, и они всю дорогу проговорили, как в золотую пору своего римского студенчества. Когда подошли к дверям книгохранилища, на часах уже было десять.
Часом ранее в эту же дверь вошел священник в сутане. При виде его пропуска с личной подписью кардинала Катцингера полицейский при входе поклонился и почтительно проводил посетителя до бронированной двери, где его встревожено ждал отец Бречинский. Их вторая встреча была такой же краткой, как первая. Прощаясь, священник с черными глазами долго смотрел на поляка своими и заметил, как у того задрожала нижняя губа.
Отец Нил не обратил внимания на чрезмерную бледность его лица, ставшего почти прозрачным, и не заметил его волнения, просто вошел и стал раскладывать на столе их рабочие материалы, между тем как Лиланд пошел за рукописями, которыми им предстояло заняться.
Проведя за работой час, отец Нил снял перчатки и шепнул:
— Продолжай без меня, пойду попытаю счастья у Бречинского.
Лиланд молча кивнул, и отец Нил, подойдя к двери библиотекаря, постучался.
— Входите, отец мой, садитесь.
Похоже, отец Бречинский был рад видеть его.
— Вы мне ничего не сказали о результатах ваших поисков тогда, на стеллаже тамплиеров. Удалось найти что-нибудь полезное?
— Даже больше, отец мой, я отыскал тот самый текст, который заинтересовал отца Андрея. Тот, ссылка на который была в его ежедневнике.
От волнения перехватывало дыхание — он поглубже вздохнул и с отчаянной решимостью выпалил:
— Благодаря моему покойному собрату я напал на след важнейшего документа, публикация которого может потрясти самые основы нашей католической веры. Простите, что не рассказываю вам об этом подробнее, со времени моего приезда в Рим мой друг Лиланд подвергается из-за меня сильному давлению. Вот я и помалкиваю — пытаюсь уберечь вас от возможных неприятностей.
Отец Бречинский молча смотрел на него, потом робко спросил:
— Но… кто же может давить на епископа, работающего в Ватикане?
Вспомнив замечание, которое вырвалось у поляка во время их первой беседы: «А я думал, что вы человек Катцингера!» — отец Нил решился:
— Конгрегация вероучения, точнее, лично кардинал-префект.
— Катцингер!
Поляк вытер вспотевший лоб, его руки слегка дрожали:
— Вы не знаете ни прошлого этого человека, ни того, что он пережил!
Отцу Нилу удалось не выдать своего изумления:
— Я действительно ничего о нем не знаю, кроме того, что это третье лицо в церкви после папы и государственного секретаря.
Отец Бречинский смотрел на него глазами побитой собаки:
— Отец Нил, вы слишком далеко зашли, теперь вам необходимо знать… То, что я сейчас скажу, я никогда никому не говорил, кроме отца Андрея, потому что он один мог понять. Его семья была рядом с моей в дни несчастья. Отцу Андрею мне не пришлось ничего объяснять, он уловил суть с первого слова.
Отец Нил задержал дыхание.
— Когда немцы нарушили германо-советский договор, части вермахта лавиной хлынули на польскую территорию. Дивизия «Аншлюс» несколько месяцев стояла в окрестностях Брест-Литовска, обеспечивая тылы наступающей армии. В апреле 1940 года один из высших офицеров, обер-лейтенант, согнал всех мужчин нашей деревни… Моего отца вместе с ними увели в лес. Больше никто его никогда не видел.
— Да, вы мне уже говорили…
— Потом дивизия «Аншлюс» отправилась на восточный фронт, а моя мать со мной на руках пыталась выжить в деревне, тогда ей помогала семья отца Андрея. Два года спустя мы снова видели, как остатки германской армии проходят мимо наших жилищ, но в обратном направлении — теперь они отступали. Это был уже не кичащийся своей доблестью вермахт, а банда грабителей, везде, где бы ни проходили, они насиловали и жгли. Однажды — мне было пять лет — мама, страшно испуганная; схватила меня за руку: «Спрячься в погреб! Вон идет офицер, который увел твоего папу! Он вернулся!» Я спрятался, но сквозь приоткрытую дверь видел, как вошел человек в немецкой форме. Ни слова не говоря, он расстегнул свой поясной ремень, набросился на маму и изнасиловал ее у меня на глазах.
В ужасе отец Нил пролепетал:
— Вы знаете имя этого офицера?
— Как вы понимаете, я не мог его забыть и долго разыскивал его след. Он умер вскоре после того дня, польское сопротивление расправилось с ним. Это был обер-лейтенант Герберт фон Катцингер, отец нынешнего кардинала-префекта Конгрегации доктринального очищения веры.
Отец Нил открыл было рот, но не сумел выдавить ни слова. Бречинский, сидевший напротив, казалось, был окончательно разбит и подавлен. Наконец с заметным усилием он заговорил снова:
— После войны, став кардиналом в Вене, Катцингер попросил одного испанца из «Опус Деи» порыться в австрийских и польских архивах, и тут выяснилось, что его отца, которым он безмерно восхищался, убили польские партизаны. С тех пор он ненавидит меня, как и всех поляков.
— Но как же?.. Ведь папа — поляк.
— Вам этого не понять, все, кто подвергся влиянию нацизма, пусть даже не по своей воле, всю жизнь носят в душе его глубокий отпечаток. Бывший член гитлерюгенда, сын офицера вермахта, убитого поляками, он отказался от своего прошлого, но не забыл его; из этого ада никто не возвращается невредимым. Я уверен, что он сумел избавиться от негатива по отношению к папе — поляку, чьей правой рукой сейчас является. Он искренне чтит его. Но ему известно, что я родом из деревни, где стояла дивизия «Аншлюс», и знает о смерти моего отца.
— А… о вашей маме?
Тыльной стороной ладони отец Бречинский вытер набежавшую слезу:
— Нет, этого он знать не может, я единственный свидетель, память об отце остается для него незапятнанной. Но я-то знаю. И не могу… я не в силах простить, отец Нил!
Огромная жалость переполняла сердце отца Нила.
— Вы не можете простить отца… или сына?
Отец Бречинский отозвался едва слышно:
— Ни того ни другого. Уже не первый год болезнь Святейшего Отца позволяет кардиналу творить — или побуждать к этому других — вещи, противные духу Евангелия. Он хочет любой ценой восстановить церковь минувших веков, он одержим тем, что называет «мировым порядком». Я видел, как богословов, священников, монахов здесь топчут, превращают в ничто — Ватикан перемалывает их с той же беспощадностью, какую некогда проявлял его отец в отношении порабощенных рейхом народов. Вы говорите, он оказывает давление на монсеньора Лиланда? Если бы ваш друг был единственной жертвой… Я не более чем мелкий, ничего не значащий камешек, но и меня, как всех прочих, нужно раздробить, чтобы в монолитном фундаменте Доктрины и Веры не было и намека на трещинки.
— Вас-то зачем? Здесь, в тишине книгохранилища, вы никому не мешаете, не угрожаете ничьей власти.
— Но я человек папы, и пост, который я занимаю, куда ответственнее, а мои задачи куда деликатнее, чем вы можете представить. Я… нет, лучше не надо об этом.
Его плечи слегка дрожали. Говорить ему было трудно, но он продолжал:
— Я так никогда и не оправился от бед, пережитых по вине Герберта фон Катцингера. Рана не затянулась, и кардинал об этом знает. Каждую ночь я просыпаюсь весь в поту, меня преследуют эти картины: то я вижу, как отца под дулами автоматов уводят в лес, то мерещатся ноги в офицерских сапогах, мамино тело, прижатое к кухонному столу в нашей каморке… Можно обезоружить человека угрозами, но также можно поработить того, чьи страдания тебе известны. С тех самых пор, как Катцингер поступил на службу к папе, я чувствую, как меня топчут сверкающие сапоги. Кардинал в своей пурпурной мантии властвует надо мной, так же как его отец, затянутый в свою тесную униформу, властвовал над моей мамой и своими польскими рабами.
Отец Нил начинал понимать. Бречинскому так и не удалось выйти из того подвала, где он однажды в детстве притаился за дверью и смотрел, как насилуют его мать. Он до сих пор идет в своих снах за отцом, который сейчас умрет, скошенный автоматной очередью. День и ночь его преследует видение: ноги в начищенных сапогах и голос Герберта фон Катцингера: «Feuer!»[21] — снова и снова оглушает его.
Как его отец пал когда-то от немецких пуль, так теперь он сам падает, падает в темный бездонный колодец своей памяти. Этот человек живой мертвец. Отец Нил растерянно пробормотал:
— Неужели кардинал приходит сюда, чтобы мучить вас, напоминая о прошлом? Поверить не могу.
— О нет, лично сам он ничего не делает. Он подсылает ко мне испанца, того самого, что искал для него документы в венских архивах. Этот человек сейчас в Риме, за эти дни он уже дважды приходил ко мне, он меня… он меня пытает. Одет он как священник, но если это и в самом деле служитель Иисуса Христа, тогда, отец Нил, церкви и вправду приходит конец. У него нет души, нет человеческих чувств.
Наступило долгое молчание, отец Нил терпеливо ждал, когда Бречинский заговорит снова. Наконец библиотекарь сказал:
— Теперь вы понимаете, почему я помогал отцу Андрею и помогаю вам. Он, как и вы, сказал мне, что ищет важный документ, ему непременно нужно было скрыть его от Катцингера и отдать папе в собственные руки.
Времени на раздумья у отца Нила не было. До сих пор он еще не задавался вопросом, что станет делать, если найдет послание тринадцатого апостола. А ведь верно, кому, как не папе, решать, что будет с церковью, если документ опубликуют.
— Отец Андрей был прав. Я пока не знаю почему, но совершенно очевидно, что то, что я ищу, жаждут заполучить все. Если мне удастся отыскать текст, на много столетий пропавший из виду, я собираюсь сообщить о его местонахождении папе. Только сам глава церкви должен знать эту тайну, как это было с Фатимским чудом. Мне только что сообщили, что послание скрыто где-то в Ватикане!
— Ватикан огромен — у вас нет какого-нибудь более конкретного указания?
— Только одно, и ниточка совсем тоненькая. Если послание было доставлено в Рим, скорее всего оно находится где-то среди рукописей Мертвого моря. Ватикан получил его где-то около 1948 года, после еврейской войны за независимость. Как вы думаете, где могут храниться манускрипты Кумранских ессеев?
Отец Бречинский встал, вид у него был совсем измученный:
— Я пока не знаю, надо подумать. Завтра после обеда загляните ко мне в кабинет. Здесь никого не будет, кроме вас и монсеньора Лиланда. Только умоляю, не говорите ему о нашем разговоре, я ведь ни при каких обстоятельствах не должен был говорить вам этого.
Отец Нил успокоил его, заверив, что ему можно доверять так же, как отцу Андрею. И цель у них одна — поставить в известность папу.
75
— Я поднимаю свой бокал за отъезд последнего еврейского колониста из Палестины!
— А я — за укрепление великого Израиля!
Оба ухмыльнулись и осушили свои бокалы единым глотком. Лев Бариона вдруг побагровел и поперхнулся.
— Клянусь Торой, Моктар Аль-Корайш, что это такое? Арабская нефть?
— «Сто трав». Настойка из Абруцци. Семьдесят градусов — мужской напиток.
Между палестинцем и израильтянином, поочередно спасшим друг другу жизнь, с тех самых пор установились странные отношения. Такое случается порой между офицерами противоборствующих армий, между политическими противниками или членами крупных соперничающих группировок. Бойцы невидимого фронта, они чувствуют себя свободно лишь среди таких же, как они, презирающих заурядное общество штатских, их скучное, пресное существование. Во время военных действий они яростно сражаются друг с другом, а в мирные дни не прочь вместе пропустить стаканчик, закадрить девчонок или даже совместно провернуть, коли представится повод, какую-нибудь операцию на нейтральной почве.
Такой повод был представлен монсеньором Алессандро Кальфо. Он предложил им одно из тех грязных делишек, которых сама церковь не может ни осуществить, ни даже официально признать допустимыми. «Ecclesia Sanguinem abhorret», или, если обойтись без торжественности латыни, «Кровопролитие ужасает церковь». Так что последняя, лишившись возможности переваливать черную работу на плечи светской власти, которая ныне повернулась к ней спиной, вынуждена обращаться к независимой агентуре. Чаще всего — к наемникам из крайне правого лагеря. Но последние зачастую не прочь покрасоваться перед СМИ и вечно готовы оказывать платные услуги уйме разношерстных политических группировок. Кальфо ценил, что Моктар никогда ничего, кроме долларов, от него не требовал, кроме того, эти двое никогда не оставляли за собой улик.
— Моктар, почему ты назначил мне встречу здесь? Ты же знаешь, если нас увидят вместе, и твои, и мои боссы одинаково расценят это как серьезнейший профессиональный просчет.
— Ну, Лев, у Моссада агентов не счесть, они шныряют повсюду. Но только не здесь, в этом ресторане подают одну свинину, и я знаю хозяина; если бы он пронюхал, что ты еврей, ты бы ни минуты не задержался под его крышей. Мы с тобой не виделись с тех пор, как перевозили плиту из Жерминьи в Рим, и вот ты только что пообщался с нашей парочкой ученых монахов, а я их регулярно подслушиваю. Нам есть о чем поговорить.
— Я весь внимание…
Моктар дал знак хозяину, чтобы тот не спешил убирать со стола фляжку «Ста трав».
— Только давай без недомолвок, Лев, тут нам с тобой скрытничать нечего, сейчас мы играем за одну команду. Мне в этом деле не все известно, и это раздражает, француз все время ходит кругами вокруг Корана, а ты же знаешь, есть вещи, которых мусульмане терпеть не могут. Внесем полную ясность, я за это задание взялся не только ради монсеньора Кальфо, тут задеты и интересы ХАМАСа. Но что для меня не очень понятно, так это твои личные резоны. Чего ради ты, встретив Нила, выдал ему сведения, которые на вес золота?
— Ты хочешь знать, почему и для нас важно это затерянное послание?
— Вот именно, какое отношение к евреям имеет эта история с тринадцатым апостолом?
Лев рассеянно побарабанил пальцами до столу, пицца со свининой, здешнее дежурное блюдо, заставляла себя ждать.
— Фундаменталисты из Ликуда следят за тем, что католическая церковь говорит насчет Библии. Для этих ревнителей веры крайне важно, чтобы христиане никогда не смогли поставить под сомнение божественность Иисуса Христа. Мы перехватили информацию отца Андрея — ту, которой он поделился со своими европейскими коллегами, когда был в Риме. Потому-то мне и было позволено присоединиться к твоей операции в Римском экспрессе, пора было действовать. Этот книгочей раскопал некоторые вещи, обеспокоившие людей из Меа-Шеарим, а в этом квартале, как тебе известно, живут очень ортодоксальные евреи.
— Но почему?! Что вам с того, если христиане вдруг спохватятся, что сфабриковали фальшивого Бога или, вернее, Бога номер два? Вот уже тринадцать веков, как Коран осудил их за это. Наоборот, вы должны быть довольны, если они признают наконец, что Иисус был всего-навсего одним из иудейских пророков, как и утверждает Мухаммед.
— Ты же знаешь, Моктар, что мы боремся за целостность Израиля во всех смыслах, а не только в территориальном плане. Если католическая Церковь поставит под сомнение божественность Иисуса и признает, что он всегда был лишь великим пророком, что тогда будет отличать нас от нее? Христианство станет еврейским, возвратясь к своему историческому истоку, оно превратится просто в ветвь иудаизма. Если, вместо того, чтобы поклоняться своему Иисусу Христу, христиане будут чтить еврея Иисуса, для еврейского народа это обернется потрясением, которого мы не можем допустить. Тем более что тогда они сразу объявят Иисуса более великим, чем Моисей, а с ним и Тора обесценится, даром что сам-то Иисус, напротив, говорил, что пришел не ниспровергнуть Закон, а только усовершенствовать его. Но ты же знаешь христиан: еврейский пророк, заявляющий, что он предлагает закон, более совершенный, чем Моисеев, — это для них слишком большое искушение. Им не удалось уничтожить нас посредством погромов, но путем ассимиляции мы будем стерты с лица земли. Огонь гитлеровских печей нас очистил, но, если Иисус больше не Бог, если он снова станет евреем, христианство вскоре поглотит иудаизм — сперва пожует, а потом заглотит и переварит в ненасытном брюхе церкви. Вот почему нас тревожат изыскания вроде тех, которыми занимается Нил.
Тут перед ними поставили две громадные пиццы, аппетитно благоухающие жареным свиным салом. Моктар с аппетитом приступил к своей порции.
— Попробуй это, потом скажешь мне, каковы новые ощущения. И если мы угодим в ад, то хотя бы будем знать, за что. М-м-м… Что у вас, евреев, ужасно, так это ваша паранойя. Не могу понять, зачем вы все время ищете повод для страха. Но я вас знаю, с вашей точки зрения, такой ход мысли оправдан. Главное — избежать сближения с христианами, чтобы не потеряться, как капля в море. Предоставить папе прослезиться перед Стеной Плача, но дальше табачок врозь. Ладно, так тому и быть. Но тогда что вы будете делать, если этот симпатяга Нил будет упрямо продолжать свои раскопки?
— Мне уже дали по рукам, когда я хотел было… скажем, прервать его труды немного преждевременно. Я получил указания: дать ему возможность действовать и посмотреть, что из этого выйдет. Да и у Кальфо такая же политика. Встретившись с французским монахом и потолковав с ним, я дал ему небольшой толчок, не исключено, что моя подсказка поможет ему отыскать то, что нужно всем нам. К тому же Нил любит Рахманинова, это доказывает, что он человек со вкусом.
— Похоже, он тебе понравился?
Лев со смаком проглотил большой кусок пиццы — эти гои умеют-таки готовить свинину.
— Я нахожу его весьма симпатичным, даже трогательным. Вам, арабам, этого не понять, поскольку Мухаммед никогда ничего не смыслил в иудейских пророках. Нил похож на Лиланда, они оба идеалисты, духовные сыны Илии, а он для евреев и герой, и пример.
— Не знаю, смыслил ли Мухаммед в ваших пророках, но я Мухаммеда понимаю, неверные не должны жить.
Лев отодвинул пустую тарелку.
— Ты из рода Корайш, а я Бариона. Я потомок зелотов [22], некогда наводивших ужас на римлян. Как и ты, я не знаю сомнений, защищая свои ценности и традиции. Зелотов еще называли сикариями за виртуозное владение коротким кривым кинжалом, сикой, и, в частности, техникой вспарывания вражеских животов. Но если Нил мне просто симпатичен, то с Лиландом мы дружны с двадцатилетнего возраста. Не предпринимай против них ничего, не предупредив меня.
— Твой Лиланд заодно с французом, ему известно почти все. К тому же он педик, наша религия осуждает это! Что до Нила, то раз уж он осмелился затронуть Коран и его пророка, правосудие Аллаха должно свершиться.
— Ремберт педик? Ты шутишь! Эти люди чисты, Моктар, я уверен в моем друге. Что там творится у него в голове — это дело другое, но Коран осуждает лишь деяния, он мозги не проверяет. Еще раз говорю — не трогай их без моего ведома. К тому же, если ты хочешь применить законы Корана, без меня тебе все равно не обойтись; в Римском экспрессе была детская игра, а здесь, посреди города, все куда сложнее — Моссад оставляет после себя куда меньше следов, чем ХАМАС, сам знаешь… Здесь ваши методы не подойдут.
Когда уходили, фляжка «Ста трав» была уже пуста. Но эти двое удалялись по пустынной улице таким уверенным шагом, будто не пили ничего, кроме воды из родника.
76
Соня шла, куда глаза глядят. Она с самого рассвета бесцельно бродила по городу. И все прокручивала в голове мучительные подробности того, что она по настоянию Кальфо сделала в последний раз. Нет, она так больше не может. «Я всего лишь проститутка, но это уже слишком». Ей было необходимо с кем-нибудь поговорить, поделиться своим отчаянием. Моктар? Он отошлет ее назад в Саудовскую Аравию. Он отобрал у нее паспорт и показал фотографии ее семьи, сделанные в Румынии совсем недавно. Ее сестры, ее родители в опасности; если она не будет послушна, за это поплатятся они. Молодая женщина вытерла слезы, высморкалась.
Только сейчас она заметила, что идет вдоль левого берега Тибра, миновав знакомый перекресток, весьма оживленный в этот утренний час. В конце широкой тихой улицы, что поворачивает к Капитолию, она увидела два старинных храма и фронтон театра Марцелла. Ей не хотелось идти туда, там наверняка бродят туристы, а она жаждала уединения. Она перешла улицу, прямо перед ней были открытый вход храма Санта-Мариа-ин-Космедин. Даже не взглянув на знаменитые «Уста правды», куда не стоит совать руку врунам, она прошла мимо, прямо в ворота.
Она никогда не бывала здесь, и красота храмовых мозаик потрясла ее. Хотя иконостаса здесь не было, церковь очень походила на те, в которые она ходила в юности и Христос во славе своей был тот же, что в православных храмах, и тонкий аромат ладана так же витал в воздухе. Месса только что закончилась, и мальчик из хора одну за другой гасил свечи. Она подошла ближе, опустилась на колени в первом ряду слева.
«Священник! Мне нужно поговорить со священником. Католики так же чтут тайну исповеди, как это принято у нас».
И тут появился священник, вышел как раз из двери слева — наверняка у них там ризница. На нем был широкий стихарь в белых кружевах, без особых знаков отличия. Лицо его было кругло и гладко, как у ребенка, но седые волосы свидетельствовали, что перед ней человек, умудренный житейским опытом. Она вскинула на него глаза, покрасневшие после ночи, проведенной в слезах, и в безотчетном порыве бросилась к нему:
— Отец мой…
Его взгляд мягко окутал ее.
— Отец мой, я православная… могу ли исповедаться вам?
С доброй улыбкой он смотрел на нее — ему были приятны те редкие случаи, когда он мог исполнить долг милосердия анонимно. Отраженный свет, который золоченые мозаики отбрасывали на осунувшееся от переутомления и тоски лицо Сони, придавал ее чертам красоту мадонн работы средневековых сиенских мастеров.
— Я не смогу дать вам отпущение, но сам Господь в милости своей утешит вас… Идемте.
Она была удивлена, когда пришлось преклонить колени перед ним без решетки или иной преграды, как обычно принято в римской церкви. Она видела его лицо совсем близко, в нескольких сантиметрах от своего.
— Что ж, я слушаю вас…
Начав говорить, она почувствовала, будто отвалили камень, что давил ей на грудь. Она рассказала о женщине, что завербовала ее в Румынии, прельстив хорошей работой, потом о палестинце, который отправил ее в гарем саудовского вельможи. И, наконец, о Риме и маленьком толстяке, католическом прелате, которого нужно удовлетворять любой ценой.
Священник вдруг резко отодвинулся, взгляд его стал острым, как нож:
— А как зовут этого католического прелата? Вам известно его имя?
— Я его не знаю, отец мой, но он, наверное, епископ. Он носит странный перстень, я такого никогда не видела. Он похож на гроб. Украшение в форме гроба.
Священник торопливо повернул епископский перстень на своем безымянном пальце так, что камень оказался у него в ладони, и спрятал правую руку в складки своего стихаря. Соня, поглощенная исповедью, этих торопливых движений не заметила.
— Епископ… какой ужас! И вы говорите, он принуждал вас…
С трудом превозмогая стыд, Соня рассказала о сцене перед византийской иконой, о рогатом монашеском чепце, что сдавливал ее голову, в то время как ее обнаженное тело было отдано мужчине, стоящему на коленях позади нее на той же молитвенной подушечке. И он при этом бормотал какие-то непонятные слова, речь вроде бы шла о единении перед Несказанным.
Глаза священника вновь придвинулись совсем близко:
— И вы говорите, что в следующий раз, когда вы придете к нему, он хочет…
Она пересказала то, что, прощаясь, объяснял ей епископ, и отчего она, сломя голову, убежала из его апартаментов. Теперь лицо священника почти соприкасалось с ее собственным, его черты стали жесткими, как мраморные плиты церковного пола, в которые упирались ее колени. Он заговорил медленно, отчетливо произнося каждое слово:
— Дитя мое, Господь вас простит, ибо вы стали жертвой злоупотребления одного из тех, кто представляет Его на земле, и у вас не было выбора. От Его имени я ныне дарую мир вашей душе. Но вам нельзя — вы меня слышите? — нельзя больше ходить к этому прелату. То, что он хочет с вами сделать, — отвратительное кощунство по отношению к нашему спасителю Иисусу Христу, распятому за нас.
Соня подняла к нему потрясенное лицо:
— Но это невозможно! Что со мной будет, если я не подчинюсь? Я же не могу покинуть Рим, мой паспорт…
— Ничего с вами не случится. Во-первых, потому, что Господь вас охранит, ваше признание доказывает, что душа ваша осталась чистой. Я сохраню тайну исповеди, не сомневайтесь. Но я кое-что значу в жизни Рима и смогу, не выдав ваших тайн, позаботиться, чтобы вам не причинили вреда. На свою беду, вы попали в руки развращенного епископа, который утратил право носить свой перстень. Этот гроб украшает преступную руку, и он стал символом духовной смерти, которая уже постигла его. Но вы все еще в руках Божьих, доверьтесь же им. Не ходите к нему в назначенный день.
Непредвиденная встреча со священником была для Сони подобна ответу Господа на ее молитву. С тех пор как она впервые взошла по лестнице, ведущей в апартаменты Кальфо, ей еще никогда не дышалось так легко. Этот незнакомый священник выслушал ее, так хорошо к ней отнесся, он обещал ей Божье прощение! Освобожденная от смертельно давившей ее тяжести, она перед уходом схватила его руку и поцеловала, как делают православные. Она не обратила внимания, что это была левая рука — правую он по-прежнему упорно прятал в складках стихаря.
Она двинулась к выходу, а священник, встав, направился обратно в ризницу. Сначала он вернул на прежнее место свой епископский перстень с печатью святого Петра. Потом сбросил стихарь, доселе скрывавший его широкий пурпурный пояс, пригладил седые волосы и водрузил на макушку шапочку того же цвета — знак кардинальского сана.
До этого момента карты, которыми располагал Катцингер, были похуже, чем у неаполитанца. Соня, сама того не зная, только что снабдила его козырным тузом. Он воспользуется этой картой, поручив выложить ее на стол верному Антонио, сумевшему обмануть даже бдительность Союза Святого Пия V, андалузцу, никогда не отступавшему и не сворачивавшему со своего пути, такого же узкого, как толедский клинок, и, подобно ему, сгибавшемуся лишь затем, чтобы тем вернее выпрямиться.
77
Папский охранник, сидящий перед бронированной дверью, пропустил их, уже не заглядывая в пропуск отца Нила; они стали здесь завсегдатаями… Бречинский подвел пришедших к столу, где ждали вчерашние манускрипты.
Отец Нил предупредил Лиланда, что в Ватикан отправится не раньше полудня, ему нужно было подумать. Доверие, с каким поляк открылся ему, сначала удивило его, потом стало пугать. «Этот человек заговорил потому, что отчаянно одинок, или потому, что он мной манипулирует?» Никогда еще тихий преподаватель с берегов Луары не сталкивался с подобной ситуацией. Он отправился по следам тринадцатого апостола, а в результате сам оказался в центре конфликта интересов, который ему явно не по силам.
Отец Бречинский сказал, что хочет ему помочь. Но что он может? Ватикан огромен, его разнообразные музеи и библиотеки имеют еще и филиалы, в которых также ждут своего часа тысячи ценных предметов. Где-то там, может статься, прячется и ящик из-под коньяка «Наполеон», содержащий разрозненные рукописи ессеев и маленький листок папируса, обвязанный льняной тесьмой. Описание, услышанное от Льва Барионы четко, как надпись на камне, отпечаталось в памяти отца Нила. А вдруг ящик был опустошен, а его содержимое рассовано торопливым сотрудником куда ни попадя?
Поработав часа три, отец Нил стащил перчатки:
— Не спрашивай пока ни о чем. Мне надо еще раз поговорить с отцом Бречинским.
Лиланд молча кивнул, подбодрил отца Нила улыбкой и вновь склонился над средневековой рукописью, которую изучал.
С бьющимся сердцем француз постучался в дверь библиотекаря.
Отец Бречинский выглядел так, будто его трепала лихорадка, глаза за стеклами очков были обведены темными кругами. Он молча, знаком предложил Нилу сесть.
— Отец мой, я всю ночь молился, чтобы Господь просветил меня. И я принял решение. Я сделаю для вас то, что сделал для отца Андрея. Но знайте, что этим я нарушу самые священные предписания, которые получил, когда принимал этот пост. Вы заверили меня, что не причините вреда папе, а, напротив, собираетесь передать ему то, что найдете, — иначе я никогда бы на это не пошел. Вы можете дать мне клятву перед Богом, что ваши намерения именно таковы?
— Я всего лишь монах, отец Бречинский, но я всегда стремился быть им до конца. Если то, что я открыл, представляет опасность для Церкви, от меня об этом узнает только папа.
— Хорошо… Я вам верю так же, как верил отцу Андрею. Ведать сокровищами, собранными здесь, — лишь одна из моих обязанностей, единственно явная для всех, но наименее значительная. У этого книгохранилища есть помещение, которого вы не найдете ни на одном плане этих зданий, упоминания о котором не встретите нигде, поскольку официально его не существует. Так пожелал святой Пий V в 1570 году, когда достраивали базилику Святого Петра.
— Секретные архивы Ватикана?
Отец Бречинский улыбнулся:
— Секретные архивы абсолютно официальны, они находятся у нас над головами двумя этажами выше их содержимое доступно исследователям в соответствии с установленными гласными правилами. Нет, то помещение известно лишь немногим лицам, а коль скоро его не существует, у него и названия нет. Это, если угодно, секретный фонд Ватикана, у большинства государств на планете имеется нечто подобное. Там нет штатного библиотекаря, ибо, повторяю, самого фонда не существует, и его содержимое не имеет ни каталогов, ни шифра. Это спецхран вроде библиотечного «ада», где, погруженные в забвение, дремлют документы щекотливого свойства, которых не должен узнать мир. Я один отвечаю за них перед Святейшим Отцом. На протяжении веков туда по распоряжению очередного папы или кардинала-префекта духовной консистории попадало множество самых разнородных вещей. Когда кто-нибудь решает отправить документ в секретный фонд, он уже оттуда не возвращается даже после смерти принявшего такое решение. Он никогда не будет классифицирован и о нем никто не вспомнит.
— Отец Бречинский… Почему вы рассказываете мне о существовании этих секретных фондов?
— Потому что это одно из двух мест в Ватикане, где может находиться то, что вы разыскиваете. Второе — это те секретные архивы, где хранятся документы, доступ к которым открывается по истечении пятидесяти лет после описываемого в них события. Не считая случаев, когда секретность сохраняется и далее, но это, как правило, сопровождается официальной мотивировкой. Вы сказали, что ящик с манускриптами Мертвого моря был доставлен в Ватикан в 1948 году по случаю первой арабо-израильской войны. Значит, если бы его отправили в такие секретные архивы, срок его давности уже вышел. А если там что-то сочли слишком рискованным, чтобы предавать это гласности, я бы непременно узнал об этом; когда такое случается, я получаю сверток или папку, которые надо отправить уже в секретный фонд, подальше от нездорового любопытства непосвященных. Делать это уполномочен лишь я один. Так вот, за последние пять лет туда не поступало ничего нового, ни из секретных архивов, ни откуда-либо еще.
— Но… неужели вы не в курсе, что именно отправляете на веки вечные в этот секретный фонд? Любопытство никогда не подбивало вас посмотреть, что ваши предшественники насобирали там с конца XVI века?
Отец Бречинский откликнулся почти весело:
— Папа Войтыла взял с меня клятву, что я никогда не буду пытаться узнать, что содержится в документах, которые я получаю, или в тех, что уже хранятся там. За пятнадцать лет я побывал там всего трижды — чтобы сделать новые вклады. Я был верен клятве, но не мог не заметить целого ряда полок с надписью: «Рукописи Мертвого моря». Я не знаю, что находится в той зоне хранилища. Когда я рассказал о нем отцу Андрею, он умолял меня позволить туда заглянуть. У кого я мог просить разрешения? Только у папы, но ведь именно папу мы, отец Андрей и я, хотели защитить. Я согласился, и он провел целый час там, внутри.
Отец Нил пробормотал совсем тихо:
— А назавтра после этого он спешно уехал из Рима, не так ли?
— Да. Он сел в Римский экспресс на следующий день, ничего мне не сказав. Обнаружил ли он что-то? Сказал ли об этом кому-нибудь? Я ничего не знаю.
— Однако ночью он погиб, и это не был несчастный случай.
Отец Бречинский провел ладонями по лицу:
— Да. Это не несчастный случай. И мне кажется, что вы, продолжая труд своего собрата, ставите себя в такое же бедственное положение. Вас, как и его, поиски привели к порогу этого безымянного, несуществующего для всего мира места. Я готов позволить и вам проникнуть туда, потому что доверяю вам так же, как ему. Но Катцингер и, боюсь, кое-кто еще крадется по вашим следам; если вы придете к цели раньше их, вам будет угрожать та же участь, что постигла отца Андрея. У вас еще есть время все бросить, отец Нил, вернуться в соседнюю комнату и засесть за безобидную средневековую рукопись. У вас еще есть выбор?
Отец Нил зажмурился. Ему почудилось, будто он видит тринадцатого апостола, возлежащего одесную Иисуса в высокой зале и благоговейно внимающего Учителю. Потом он представил его уже хранителем тайны, противостоящим в одиночку ненависти Петра, да и всех Двенадцати, претендующих на монопольное право говорить о распятом. Они обрекли его на изгнание и молчание, чтобы церковь, которая будет основана ими на лживо перекроенной памяти об Иисусе, стояла вечно, альфа и омега.
И вот тайна пробилась сквозь века. Возлюбленный ученик Иисуса, возлежащий около Учителя за последней трапезой, опершись на локоть, смотрел на отца Нила и звал к себе.
Отец Нил встал:
— Идемте, отец мой.
Они вышли из кабинета. Лиланд, склоненный над столом, даже головы не поднял, услышав, как они проходят за его спиной. Оставив позади анфиладу залов книгохранилища, они подошли к маленькой двери. Бречинский отпер ее и сделал отцу Нилу знак следовать за ним.
Коридор полого спускался вниз. Отец Нил пытался сориентироваться. Бречинский, словно угадывая его мысли, прошептал:
— Мы сейчас под правым поперечным нефом базилики Святого Петра. Эта полость выбита в фундаменте, примерно в сорока метрах от гробницы апостола, ее обнаружили во время раскопок, проводившихся по распоряжению Пия XII под главным алтарем.
Коридор резко повернул, и они оказались возле бронированной двери. Поляк отстегнул стоячий воротник и достал маленький ключ, висевший на шее. Отпирая дверь, он глянул на часы: — Сейчас пять вечера, книгохранилище закрывается в шесть — у вас час времени. Все наши двери изнутри открываются без ключа, эта не исключение; выходя, ее достаточно толкнуть, она закроется автоматически. Прежде чем уйти, выключите свет. Я буду ждать вас у себя в кабинете.
Бронированная дверь бесшумно открылась, Бречинский провел рукой по внутренней стене, нащупал выключатель, и помещение осветилось.
— Будьте осторожны, не испортите там ничего. Удачи!
Отец Нил вошел. Дверь, глухо щелкнув, захлопнулась у него за спиной.
78
Перед ним был длинный, сводчатый, ярко освещенный проход. Отец Нил, провел ладонью по поверхности каменной стены, справа и сразу определил технику кладки. Клейма средневековых каменщиков на кирпичах не было, но не было и бороздок от мастерка, говорящих о том, что работа недавняя. Такие аккуратные повторяющиеся следы от ударов долота оставляли каменотесы эпохи Возрождения.
Вдоль левой стены тянулись, уходя в глубину, ряды стеллажей. Некоторые из них, более старые, были не лишены изысканности. Другие, сколоченные из досок, явно появлялись здесь уже по мере надобности, когда на старых полках не хватало места для новинок.
Отец Нил с первого же взгляда понял, что никакой осмысленной классификации здесь никогда не было. Полки были загромождены вперемешку ящиками, коробами, картонными коробками, кипами папок. «Зачем наводить здесь порядок? Ни один документ никогда не покинет этого места».
Он прошел вперед, чтобы посмотреть, что там дальше, проход тянулся еще метров на пятьдесят. Десятки стеллажей, тысячи документов; за час времени отыскать здесь что-то было немыслимо. Однако отец Андрей нашел, только этим можно объяснить его бегство и гибель. И отец Нил продолжал идти вперед, оглядывая череду стеллажей, проплывающих слева.
Никакого порядка, только наскоро приколоченные к полкам дощечки с надписями, то выполненными в изысканной манере старинных каллиграфов, то более современными, подписанными как придется. Здесь казалось, что времени не существует, настолько все перемешано.
«Катары»… «Процесс тамплиеров» — целый пролет. «Савонарола», «Ян Гус», «Дело Галилея», «Джордано Бруно», «Французские Священники-ренегаты» — список духовных лиц, в 1792 году осужденных за сквернословие, приравненное Римом к вероотступничеству. «Переписка его святейшества с Гарибальди»… Вся тайная история церкви и ее борьбы с врагами. Внезапно отец Нил остановился, на стеллаже, забитом картонными коробками явно недавнего происхождения, он увидел табличку: «Операция „Крысиные ходы“».
Забыв, для чего он здесь, монах протиснулся в проход и наудачу открыл одну из коробок, там хранилась переписка Пия XII с Драгановичем, бывшим священником, впоследствии вождем усташей, хорватских нацистов, совершавших немыслимые зверства в годы войны. Заглянул в другую коробку — удостоверения личности знаменитых нацистов, опись паспортов, выправленных для них Ватиканом, и значительных сумм, что были им выплачены. «Операция „Крысиные ходы“» — так называлась та система административных каналов, что сразу после войны позволяла нацистским военным преступникам бежать, ускользнув от возмездия с помощью Святого Престола.
Отец Нил провел рукой по лицу. Да разве он узнал что-то новое? Сделки с совестью, даже прямые преступления церкви были лишь логическим следствием того, с чего она начинала — с гонений, которым тринадцатый апостол подвергся в I столетии.
Монах выбрался из закоулка между стеллажами, и в глаза ему бросилась папка, заброшенная наверх переполненной этажерки: «Аушвитц, секретные донесения — 1941». Шевельнулось желание заглянуть и туда, но он его подавил. «Выходит, Святой Престол и насчет Освенцима был в курсе, уже тогда, в сорок первом…»
Он глянул на часы — осталось всего тридцать минут. Двинулся дальше.
И вдруг замер на месте, взгляд наткнулся на сравнительно свежую этикетку: «Рукописи Мертвого моря. Остатки».
Добрый десяток пыльных ящиков громоздился перед ним. Он взял верхний, открыл, там лежало несколько свитков папируса, изъеденного временем, уже наполовину уничтоженного. Пожалев, что не прихватил с собой перчаток, он взял один из них, пергамент в руках раскрошился и мелкими чешуйками осыпался на дно ящика, уже покрытое такой же пылью. «Древнееврейские письмена Кумрана!» Это и впрямь были манускрипты Мертвого моря, но почему их забросили в этот «ад», где они рассыпаются в прах, в то время как ученые всего мира разыскивают их? «Остатки»… Значит, понадобилось спрятать их от человечества, причем именно потому, что это — «остатки» истории, которую нужно скрыть на веки вечные, ибо она не соответствует тому, как людей приучили думать?
Он собрался поставить коробку на прежнее место. И тут увидел ящик, что был под ней. Ящик из легкой древесины, а на боку типографская надпись: «Коньяк „Наполеон“, достойный винных подвалов императора».
Ящик митрополита Самуила, тот самый, что привез в Рим доминиканский монах!
С бьющимся сердцем отец Нил вытащил его и стопки. На крышке чья-то рука вывела три буквы «М.М.М». Он узнал крупный, с нажимом почерк отца Андрея.
Голова пошла кругом, выходит, когда отец Андрей в поезде записал эти буквы на своем билете он имел в виду не только ксерокопии из Хантинтонской библиотеки, хранящиеся в книжных фондах аббатства Сен-Мартен. Он указывал на это ящик, который отец Нил лишь теперь чудом обнаружил. Отец Андрей собственной рукой подписал крышку ящика, чтобы в один прекрасный день легче было отыскать его. Вот о чем он собирало поговорить с Нилом! Эта находка, ставшая возможной благодаря встрече с Бречинским, был финалом их общих поисков, и он намеревался рас сказать о ней Нилу.
И из-за нее же его убили.
Отец Нил открыл ящик, те же горы пыли от растрескавшихся папирусов — свитков здесь было по-видимому, несколько. А рядом — простой листок свернутого пергамента. У отца Нила затряслись руки, когда он развязывал льняную тесьму, которой был обвязан манускрипт. Он крайне бережно развернул его. И увидел греческие письмена, изящный, безукоризненно разборчивый почерк. Рука тринадцатого апостола! Он начал читать:
«Я, возлюбленный ученик Иисуса, тринадцатый апостол, обращаюсь ко всем церквам…»
Когда отец Нил закончил чтение, он был бледен как полотно. В начале послания не сообщалось ничего такого, чего он еще не знал: Иисус не был Богом, его обожествили Двенадцать, побуждаемые к этой лжи своей жаждой власти. Но тринадцатый апостол понимал, что этого рассказа не достаточно, чтобы сохранить истинное лицо Учителя. Он привел неопровержимые свидетельства: в точности назвал день — отец Нил сразу машинально посчитал, что в григорианском летоисчислении это 9 апреля 30 года — день, когда он встретился с двумя ессеями в белых одеждах у опустелой гробницы, откуда они только что забрали тело Иисуса, собираясь похоронить его в пустыне, в одном из своих некрополей.
Места, где расположен тот некрополь, он в точности не указывает. Только коротко отмечает, что лишь песок пустыни убережет могилу Иисуса от корыстных посягательств людей. Назорей, как все пророки, будет жить в веках, а поклонение его праху отвлекло бы человечество от единственного средства приблизиться к нему — молитвы.
За долгие месяцы поисков отец Нил привык думать, что главная тайна, с которой он столкнулся, — это само существование тринадцатого апостола, та роль, которую он при жизни играл в Иерусалиме, его след в памяти поколений. Человек, писавший эти строки, уже знал, что он отторгнут от церкви, вычеркнут из ее памяти. Он предвидел, что в будущем жизнь и наставления его Учителя никак не будут связаны с ним. Потому он и доверился этому пергаменту в надежде, что, может быть, настанет день, когда миру будет позволено вновь открыть для себя истинный лик Иисуса. Он сделал это, не теша себя иллюзиями; что такое маленький, исписанный им листок в сравнении с амбициями людей, готовых на все, лишь бы достигнуть своих целей, и ради этого исковеркавших память того, кто был ему дороже всех на свете?
Тринадцатый апостол только что раскрыл отцу Нилу подлинную тайну: могила с останками Иисуса где-то есть, она реально, физически существует.
Отец Нил глянул на часы, десять минут седьмого. «Только бы отец Бречинский дождался меня!» Он вернул найденное послание на прежнее место. Данное слово он сдержит, папа будет предупрежден. Библиотекарь-поляк послужит посредником, который сообщит папе о том, что существует апостольское послание, уничтожить которое людям церкви не удалось за все минувшие века вопреки всем усилиям. Благодаря надписи «М.М.М.» отец Бречинский без труда отыщет этот пергамент и передаст Святейшему Отцу.
Дальнейшее уже не будет касаться такого маленького скромного монаха, как он. Это забота папы, и только его.
Монах торопливо вышел из безымянного помещения, не забыв потушить свет, дверь за ним захлопнулась автоматически. Когда он добрался до зала, где они работали с Лиландом все эти дни, там было пусто, потолочные светильники выключены. Он подошел к двери кабинета библиотекаря, постучался — никакого ответа. Отец Бречинский не дождался его.
Отец Нил не был уверен, все ли двери, ведущие на двор бельведера, открываются изнутри. Он плохо представлял себе, как сможет провести всю ночь в книгохранилище с его затхлым воздухом. Но отец Бречинский ему не солгал: он беспрепятственно прошел обе бронированные двери. Пропускная камера при входе была пуста, наружная дверь здания распахнута настежь. Не раздумывая, отец Нил вышел во двор и полной грудью вдохнул свежего воздуха. Ему было необходимо пройтись, чтобы хоть немного привести в порядок свои мысли.
Ему так не терпелось покинуть это место, что он и внимания не обратил на кабинку из тонированного стекла, где ждал, покуривая сигарету, папский охранник. Как только монах прошел мимо него, он поднял трубку внутреннего телефона Ватикана, нажал на кнопку:
— Ваше преосвященство, он только что вышел… Да, один, другой ушел раньше. Не за что, ваше преосвященство.
Кардинал Катцингер в своем кабинете вздохнул и положил трубку. Наступает час, когда за дело возьмется Антонио. Пора.
79
Пересекая площадь Святого Петра, отец Нил машинально поднял глаза, окно папы было освещено. Завтра же надо поговорить с отцом Бречинским, объяснить, как найти ящик из-под коньяка с пометкой «М.М.М», и поручить рассказать старому понтифику о том, что там хранится. С этой мыслью он повернул на виа Аурелиа.
На площадке четвертого этажа он остановился, из-за двери было слышно, что Лиланд играет вторую «Гимнопедию» Эрика Сати. Легкая, воздушная мелодия была пронизана бесконечной меланхолией, тоской вперемежку с юмором, даже насмешкой. «Ремберт… А тебе-то твой юмор поможет одолеть отчаяние?» Он скромно поцарапался в дверь.
— Входи, я жду тебя с нетерпением.
Отец Нил сел возле пианино.
— Ремби, почему ты ушел из книгохранилища, не дождавшись меня?
— Бречинский явился, напомнил, что закрывается в шесть. Вид у него был крайне озабоченный. Ну да это не важно, ты мне лучше скажи: нашел что-нибудь?
Отец Нил не разделял беспечности Лиланда, отсутствие Бречинского его беспокоило. «Почему его там не оказалось, мы же договорились, что он будет меня ждать?» И все-таки он отвлек от этого вопроса:
— Да, я нашел то, что мы с отцом Андреем искали так долго — сохранившийся экземпляр послания тринадцатого апостола, судя по всему, оригинал.
— Здорово! А это письмо… оно вправду так ужасно?
— Оно короткое, я его наизусть запомнил. Ориген правду говорил, письмо неоспоримо доказывает, что Иисус не воскрес, как тому учит церковь. А значит, он не Бог, опустевшая гробница в Иерусалиме, на месте которой возведена часовня Гроба Господня, — это обман. Настоящая могила, где покоятся останки Иисуса, находится где-то в пустыне.
Лиланд был поражен:
— В пустыне? Но где?
— Тринадцатый апостол не называет точное место, чтобы избавить прах Иисуса от людской небескорыстной суеты. Он только говорит об Идумейской пустыне на юге Израиля, границы которой менялись с течением столетий. Впрочем, в археологии сейчас есть такие технологии, что если в это вложат средства, то могилу найдут. Если в заброшенном ессейском некрополе в пустыне обнаружат скелет со следами распятия, и анализ на содержание углерода — 14 покажет, что он относится к середине I века, — это будет удар для всего Запада.
— Ты опубликуешь результаты своих поисков, расскажешь миру об этом послании, будешь консультировать археологов на раскопках? Нил, ты хочешь, чтобы могилу нашли?
Отец Нил ответил не сразу. В ушах еще звучала мелодия Сати.
— Я доведу дело до конца. Если бы история сохранила свидетельство тринадцатого апостола, католической церкви не существовало бы. Двенадцать потому и отказались считать его одним из своих, что сообразили это. Вспомни надпись в Жерминьи: тех, кто свидетельствует об Иисусе, не должно быть более двенадцати, это альфа и омега. Нужно ли двадцать веков спустя ставить под сомнение то здание, что они возвели на пустой могиле? Сейчас центром христианского мира стала могила апостола Петра. Пустую гробницу заменила гробница с прахом первого из Двенадцати. Церковь придумала таинства, с помощью которых каждый житель планеты может прикоснуться к Богу. Если отнять это у верующих, что им останется? Иисус хотел лишь, чтобы люди подражали ему, и единственный способ, который он для этого предлагал, — молитва. Но большинство людей, как и все человечество в целом, можно увлечь лишь чем-то осязаемым, конкретным. Автор послания был прав, переместить останки Иисуса в Гроб Господень значило бы превратить эту могилу в уникальный объект поклонения для огромных толп. И на веки вечные лишить малых и сирых возможности прикосновения к Богу невидимому.
— И что ты собираешься делать?
— Известить папу, что существует подобное послание, и позаботиться, чтобы он узнал, где оно находится. Он станет еще одним обладателем этой тайны, только и всего. А я, вернувшись в аббатство, похороню свои открытия в молчании монастырских стен. И лишь о роли назореев в рождении Корана я собираюсь опубликовать сообщение.
Этажом ниже Моктар, записав на пленку обе «Гипнопедии» Сати, после прихода отца Нила прослушал их беседу. И в этот момент он, насторожившись, насадил наушники уже на оба уха.
— Ты узнал из послания тринадцатого апостола что-то новое насчет Корана?
— Он обращает свое письмо ко всем церквам, но это лишь форма, по сути, оно адресовано его ученикам, назореям. В конце послания он заклинает их оставаться верными его свидетельству, помнить все, что он рассказывал об Иисусе, куда бы ни привели их пути изгнания. Этим он подтверждает мои предположения: после бегства в Пеллу назореи через какое-то время были вынуждены вновь сняться с места, скорее всего это случилось перед нашествием римлян в 70 году. Что с ними стало, нам неизвестно, но никто не обратил внимания, что в Коране Мухаммед часто говорит о «пазвга» — это слово обычно переводят как «христиане». На самом же деле по-арабски так называли назореев!
— И каков же вывод?
— Мухаммед, по-видимому, познакомился с назореями в Мекке, где они нашли приют после бегства из Пеллы. Очарованный их проповедями, он чуть было сам не стал одним из них. Потом он бежал в Медину, где стал военачальником; политика и насилие взяли верх, но в его сознании навсегда осталась неизгладимая память об Иисусе, о котором говорили назореи, ученики тринадцатого апостола. Если бы Мухаммеда не одолевала жажда побед, ислам никогда бы не зародился, мусульмане стали бы последними из назореев, а их символом был бы крест пророка Иисуса!
Похоже, Лиланд разделял энтузиазм своего друга:
— Я тебе гарантирую, что, по крайней мере, в университетах Соединенных Штатов высоко оценят твои работы! А я помогу устроить так, чтобы о них там узнали.
— Представь, Ремби! Предположим, что мусульмане признают наконец, что их священный текст отмечен влиянием любимого ученика и друга Иисуса, которого тоже отлучили от церкви за то, что он, подобно им, отрицал его божественность! Это послужило бы делу возможного сближения между мусульманами, христианами и евреями. И, несомненно, положило бы конец джихаду против Запада!
Лицо Моктара внезапно исказилось. Обуреваемый ненавистью, он уже только краем уха слушал дальнейший разговор; теперь Нил спрашивал Лиланда, каковы его планы, что он предпримет, чтобы скрыть все это от Катцингера. Сможет ли он противостоять нажиму и ничего не сказать? Что будет, если кардинал приведет в исполнение свою угрозу и предаст гласности его особые взаимоотношения с Ансельмом?
Такая болтовня уже не занимала палестинца, он снял наушники. Эти двое только что преступили запретную черту: «Коран неприкосновенен». Если христианские ученые обнаружили новые тайны, скрытые в Евангелиях, это их проблемы. Но никто не позволит толковать Коран подобными нечестивыми методами, университет Аль-Азхар твердо стоит на этом. Не пристало анатомировать слово Аллаха, переданное правоверным его Пророком, благословенно имя его.
Мухаммед — тайный последователь еврея Иисуса! Француз собрался анализировать священный текст, да еще опубликовать с помощью американца свои выводы. В руках Америки, этой служанки Израиля, его труды станут страшным оружием против ислама.
Наморщив лоб, он перемотал магнитофонные пленки и вспомнил фразу, которую часто цитировал своим студентам: «Не выбирайте друзей среди неверных, пока они не встанут на путь Аллаха. Если же они отвергнут ваш призыв, то убивайте их, где бы они ни были»[23].
Повторив это про себя, Моктар почувствовал облегчение, верно сказал Пророк, благословенно имя его.
80
«Дождь шел весь день. Густая пелена тумана медленно наползала на склон Абруцци с нашей стороны, потом словно бы заколебалась да и перевалила через гребень горы, чтобы уплыть, затерявшись где-то над Адриатическим морем. Кружащиеся в вышине хищные птицы тоже улетели, будто и их тянуло за горизонт.
Отец Нил приютил меня в своей отшельнической келье, высеченной прямо в скале. Соломенный тюфяк, брошенный на высушенный папоротник, маленький столик перед крошечным окошком, примитивный очаг, Библия на полке и несколько вязанок хвороста.
Он предупредил меня, что рассказ его близится к финалу. Это уже сейчас, когда все кончено, в тишине своего убежища, в горах, он обдумал и постиг все тогдашние перипетии. И на всем протяжении рассказа он взволновался лишь однажды — я это заметил по дрожи в его голосе, когда он говорил о Ремберте Лиланде, о страшной душевной муке, испытанной этим человеком, и о том, как трагически все закончилось. И как стремительно — всего за несколько часов.
С того момента, как он отыскал наконец утраченный манускрипт, события понеслись вскачь, сталкиваясь и переплетаясь. Извлекая из забвения текст давно ушедших времен, он словно отомкнул некие шлюзы, откуда рванулась бешеная стихия. Люди, ему не известные, ринулись в бой — каждый со своей целью. Ожесточение, обуявшее их, так и осталось непостижимым для него. Да, этого он не понимал. До сих пор.»
81
В тот же вечер Моктар позвонил Льву Барионе, назначив ему встречу в баре. Они заказали по бокалу вина и остались стоять у стойки, разговаривая вполголоса, несмотря на окружающий шум, — посетителей было много.
— Послушай, Лев, это серьезно. Я только что передал Кальфо запись разговора Нила с Лиландом. Француз нашел-таки послание, оно было в ящике из-под коньяка, о котором тебе говорил митрополит Самуил. Монах его прочел и оставил на прежнем месте, в Ватикане.
— Хорошо, очень хорошо! Теперь надо пробраться туда, но деликатно.
— Теперь надо действовать, и без всякой деликатности. Этот пес утверждает, что там, в том письме, содержится доказательство… или, точнее, оно подтверждает его внутреннюю убежденность, будто бы Коран не был внушен Мухаммеду Аллахом. Что в самом начале Пророк был близок к назореям — еще в самом начале, до того как им в Медине овладел дух насилия. А это случилось, потому что он был ослеплен амбициями… Тебе известно, что это значит, ты с нами давно имеешь дело. Он преступил черту, на такое каждый мусульманин реагирует мгновенно. Он должен исчезнуть. И его сообщник тоже.
— Успокойся, Моктар. Ты получил на этот счет инструкции из Каира? А от Кальфо?
— Я не нуждаюсь в инструкциях Кальфо, в таких обстоятельствах сам Коран диктует правоверному, что он должен делать. Что до Кальфо, мне плевать на него. Это развратник. И мне безразличны проблемы христиан. Пусть улаживают их сами, пусть плетут интриги, мне их возня ни к чему. Я защищаю чистоту завета, ниспосланного Аллахом Мухаммеду. Каждый мусульманин готов пролить кровь за это, Аллах не терпит очернения. Я должен отстоять честь Аллаха.
Пианист знаком подозвал бармена, но разговора не прервал:
— И что ты задумал?
— Мне известно, куда они ходят, когда, какой дорогой. Вечером Нил возвращается в Сан-Джироламо пешком, затрачивая на это час времени. Он проходит по виа Салариа Антика, которая к ночи всегда пустеет. Американец сначала его недалеко провожает, потом возвращается, чтобы пройтись вокруг замка Сан-Анжело, он там мечтает при луне, а вокруг ни души. Ты со мной? Завтра вечером.
Лев вздохнул. Скороспелая, халтурная операция, в горячке гнева, вслепую. Когда Моктару ударяет в голову его фанатизм, он уже не способен рассуждать здраво. Бедуин садится на своего верблюда и мчится смывать оскорбление кровью. Выжидание — признак слабости, которая не признается законами пустыни. Тщеславие арабов, их неспособность владеть собой, когда речь заходит о вопросах чести, всегда позволяли Моссаду брать над ними верх. К тому же он вспомнил предписание Иерусалима, их посланец Ари сформулировал его вполне недвусмысленно: «И больше никаких прямых действий — это уже не для тебя».
— Завтра вечером у меня репетиция с оркестром перед последним концертом. Все знают, что я в Риме, и, если я не появлюсь там, этого не поймут. Я не могу разрушить свое прикрытие, Моктар. Извини.
— Справлюсь и без тебя, сперва одного, потом другого. Отец Нил — он как фарфоровая кукла, такой переломится от одного удара. Что до американца, его можно вовсе не трогать, достаточно напугать, он от страха и умрет. Можно даже рук не пачкать.
Когда они расстались, Лев направился в парк Монте Пинчо. Ему нужно было подумать.
Поздно вечером ректор срочно созвал собрание Двенадцати. Когда все расселись за длинным столом, он поднялся:
— Братья мои, сегодня мы снова собрались вокруг Учителя, как когда-то Двенадцать. Но сейчас мы здесь не для того, чтобы проводить его в Гефсиманский сад, а затем, чтобы устроить ему второй триумфальный приход в Иерусалим. Отец Нил смог отыскать единственный оставшийся экземпляр письма самозванца, называвшего себя тринадцатым апостолом. Оно просто-напросто находится в секретном фонде Ватикана — вместе с рукописями Мертвого моря, сброшенными туда на вечное хранение в 1948 году.
Собрание отозвалось невнятным, но одобрительным бормотанием.
— Что он с ним сделал, брат ректор?
— Оставил на прежнем месте, собираясь известить Святейшего Отца о его существовании и местонахождении.
Лица, хоть и прикрытые масками, заметно омрачились.
— Сделает он это или нет, неважно; Нил намерен известить папу через Бречинского. Но поляк находится под надежным контролем двенадцатого апостола — не так ли, брат?
Антонио безмолвно наклонил голову, подтверждая это.
— Как только Нил обратится со своим поручением к Бречинскому, а он наверняка сделает это уже завтра, мы начнем действовать. Поляк в наших руках, он приведет нас к письму. Еще два дня, братья, и оно займет подобающее ему место здесь, у нас, охраняемое как нашей верностью, так и этим распятием. Грядущие месяцы и годы благодаря ему принесут нам средства, нужные для исполнения нашей миссии: давить змей, жалящих стопы Христовы, заглушать голоса тех, кто противится Царству его. Мы должны восстановить былое величие христианства, чтобы Запад вновь обрел свое утраченное достоинство.
Выходя из зала, ректор, ни слова не говоря, вручил Антонио конверт, он вызывал его к себе в замок Сан-Анжело послезавтра утром. Чтобы дать отцу Нилу время поговорить с Бречинским.
А еще — чтобы освободить себя от всех забот для завтрашнего вечера с Соней, которого он очень ждал. Воистину ему повезло, она была наилучшим приобретением. Благодаря ей у него появятся новые силы, которые ему скоро понадобятся. Те внутренние силы, которые христианин получает, сливаясь с Христом, распятым на своем кресте.
Антонио сунул письмо в карман. Но, вместо того чтобы направиться в центр города, он кружным путем поспешил в Ватикан.
Кардинал-префект Конгрегации всегда допоздна засиживался в своем кабинете.
82
Рим потягивался, пробуждаясь в лучах восходящего солнца. Было все еще очень холодно, однако приближение Рождества не позволяло римлянам засиживаться по домам. Стоя у окна, Лиланд рассеянно смотрел, как оживает виа Аурелиа. Вчера Нил сказал ему, что решил немедленно вернуться во Францию, найдя послание, он исполнил посмертную волю отца Андрея.
— Только подумай, Ремби, этот клочок пустыни между Галилеей и Красным морем — место зарождения трех монотеистических религий планеты! Это там Моисею явилось видение неопалимой купины, там же свершилось Преображение Иисуса, Мухаммед родился и жил тоже там. Ну а я найду свою пустыню на берегу Луары.
Для Лиланда отъезд Нила вдруг безжалостно осветил всю пустоту его существования. Он знал, что ему никогда не взойти на такую ступень духовного опыта, какой достиг его друг, Иисус не наполнит собой его безотрадную жизнь. Да и музыка тоже; он играет, чтобы быть услышанным, чтобы разделить свои музыкальные переживания с другими. Он очень часто играл для Ансельма, а тот сидел рядом и переворачивал нотные страницы. В такие моменты между ними возникало удивительное чувство, когда прекрасная голова виолончелиста склонялась над клавиатурой, по которой пробегали пальцы Ремберта. Ансельм потерян для него навсегда, и у Катцингера есть средства, чтобы погрузить их обоих в пучину страданий. Жизнь рухнула. «Life is over», — повторил он по-английски.
И вздрогнул, в дверь постучались. Нил? Но это был не Нил, а Лев Бариона. Удивленный его нежданным появлением, Лиланд собрался задать гостю вопрос, но израильтянин приложил палец к губам и прошептал:
— На крыше есть терраса?
Таковая имелась, как и в большинстве римских домов, и там никого не было. Лев потащил Лиланда к тому ее краю, что был максимально удален от улицы.
— С тех пор как Нил в Риме, твоя квартира на прослушке, я только что узнал об этом. Все, о чем вы говорили, записывалось до мелочей и немедленно передавалось монсеньору Кальфо и другим, еще более опасным лицам.
— Но…
— Молчи и слушай, времени у нас мало. Сами того не зная, вы с Нилом ввязались в большую игру, игру, о которой ты не имеешь ни малейшего понятия, ровным счетом ничего в ней не смыслишь, и тем лучше для тебя. Этот бой — занятие для профессионалов. Вы, как мальчики в коротких штанишках, вместо того чтобы резвиться на своей детской площадке, пробрались на взрослую территорию, где не в шарики играют, а крайне жестко меряются силой, и ставка здесь всегда одна: власть или ее материальное выражение — деньги.
— Извини, что перебиваю, так ты все еще в игре?
— Ты же знаешь, я слишком долго работал на Моссад. Из такой игры никогда не уходят, Ремби, даже если очень хотят. Больше я тебе ничего не скажу, но вы с Нилом в большой опасности. Предупреждая тебя об этом, я действую против своей команды, но ты мой друг, а Нил славный малый. Он нашел то, что искал, теперь пусть игра продолжается без вас. Если хотите жить, вам надо исчезнуть. И быстро. Очень быстро.
Лиланда замутило, как боксера в состоянии грогги.
— Исчезнуть… но как?
— Вы оба — монахи, спрячьтесь в ваших монастырях. Убийца идет за вами по пятам, и он профессионал. Уезжайте. Сегодня же.
— Ты думаешь, он нас убьет?
— Не думаю, а уверен. И он не будет медлить, вы у него в руках. Послушайся меня, я тебя прошу, сегодня же садитесь в поезд, автомобиль, самолет, неважно, вы должны исчезнуть. Предупреди Нила.
Он с силой сжал Лиланда в объятиях:
— Я рискую, решившись прийти сюда, в большой игре не любят тех, кто не соблюдает правил, а я хотел бы еще пожить, успеть дать много концертов. Шалом, друг, через пять лет, десять лет — когда-нибудь мы еще встретимся, ни одна партия не продолжается вечно.
Еще секунда, и он исчез, оставив Лиланда на террасе, совершенно потерянного.
83
Утром Моктар позволил себе понежиться в постели — впервые у него не было нужды с рассвета занимать свой пост, надевать наушники, подслушивать все, что происходило в квартире наверху.
Поэтому он не видел Лиланда, когда тот стремительно вышел из здания на виа Аурелиа, на миг остановился, колеблясь, и направился к остановке автобуса, идущего на виа Салариа. Американец, выглядевший крайне взволнованным, остановил первую же попавшуюся машину и укатил.
Отец Нил отодвинул листок бумаги, лежавший перед ним на столе. Не доверяя своей памяти, он только что записал послание тринадцатого апостола, которое запомнил без труда. Он один, не считая папы, будет знать, что где-то в пустыне между Иерусалимом и Красным морем есть могила, где упокоились останки Иисуса. Он открыл сумку и спрятал листок.
Свой чемодан он уложит быстро, сумку будет нести в руках. Сядет в ночной поезд до Парижа, он в это время года никогда не бывает переполнен. Распроститься с Сан-Джироламо, этим монастырем-призраком, будет для него облегчением, а как только он окажется в Сен-Мартен, первым делом спрячет самые компрометирующие из своих бумаг — и обоснуется в своем аббатстве, как некогда тринадцатый апостол в пустыне.
В его жизни осталось главное, то, чего никто не отнимет: личность Иисуса, его слова и поступки. Чтобы выжить в пустыне, иной духовной пищи не нужно.
Он очень удивился, когда услышал, что в дверь его кельи стучат. Это был отец Иоанн — с ним он тоже расстанется без сожаления. Глаза пришедшего горели от любопытства:
— Отец мой, монсеньор Лиланд желает вас видеть.
Нил встал навстречу другу, который стремительно вошел в комнату и рухнул на предложенный Нилом стул. Теперь в нем уже ничего не осталось от жизнерадостного студента, это был человек, загнанный вконец.
— Что случилось, Ремби?
— Моя квартира на виа Аурелиа прослушивалась с самого твоего приезда, Катцингер и его люди в курсе всего, о чем мы говорили. И другие, которые еще опаснее. По разным причинам все они хотят, чтобы мы исчезли.
Это был шок — теперь уже Нил, в свой черед, пошатнувшись, упал в кресло.
— Ты бредишь или это приступ паранойи?
— Ко мне только что приходил Лев Бариона, он ввел меня в курс дела — кратко, но недвусмысленно. Он сказал, что делает это ради старой дружбы. Я ни на мгновение не сомневаюсь в нем. Мы никогда не сможем этого понять, Нил. В общем, твоя жизнь в опасности. И моя тоже.
Нил закрыл лицо руками. А когда отнял ладони, на Лиланда глянули полные слез глаза:
— Я знал это, Ремби, с самого начала, еще когда отец Андрей меня предостерегал. Знал в монастыре, несмотря на видимость покоя и мира, оберегаемых тишиной его стен. Я знал это, когда сообщили о его смерти, когда поехал опознавать труп, исковерканный ударом о камни. Знал, когда история подступила ко мне вплотную в своей кошмарной реальности, когда встретился с отцом Бречинским и услышал некоторые его откровения… Меня никогда не пугало это. Моя жизнь в опасности? Что ж, последний в очень длинном списке, он начался, когда тринадцатый апостол отказался извращать истину.
— Истина? Существует только одна истина: людьми владеет желание утвердить и сохранить свою власть. Истина чистейших отношений между мной и Ансельмом не для них. Истина, которую ты открыл, роясь в древних манускриптах, в их глазах лжива, поскольку противоречит их единственной правде.
— Иисус сказал: «Истина сделает вас свободными». Я свободен, Ремби.
— Только если ты исчезнешь вместе со своей истиной. Философы, которых ты так любишь, учат, что истина — категория бытия, существующая в себе самой так же, как добро и красота. Так вот, это не так, и я пришел сказать тебе об этом. Любовь, что связывала нас, Ансельма и меня, добра и прекрасна, но с истиной церкви она не в ладу, и значит, она — ложь. Твое открытие возвращает нам подлинный лик Иисуса, но это противоречит истине христианства, поэтому ты — обманщик. Церковь не терпит иных истин, кроме своей. Евреи и мусульмане — тоже.
— Чем они все могут мне навредить? Что можно сделать со свободным человеком?
— Убить его. Ты должен скрыться, бежать из Рима.
Наступило молчание, нарушаемое только щебетом птиц в зарослях тростника возле монастырской стены. Отец Нил встал, подошел к окну:
— Если то, что ты говоришь, правда, мне нельзя возвращаться в аббатство, там моя пустыня будет кишеть гиенами. Скрыться? Но где?
— Я думал об этом, пока ехал сюда. Помнишь отца Калати?
— Настоятеля обители монахов-молчальников? Конечно, мы же вместе учились у него здесь, в Риме. Чудесный человек.
— Ступай в тот монастырь, попроси, чтобы он принял тебя. У них есть отшельнические горные приюты в Абруцци. Там ты найдешь себе пустыню по сердцу. Поспеши туда. Сейчас же, немедленно!
— Ты прав, монахи-молчальники всегда были очень гостеприимны. Но как же ты?
Лиланд на миг закрыл глаза, вздохнул: — Обо мне не беспокойся. Моя жизнь кончена с того дня, когда я осознал, что любовь, которую проповедует церковь, — не более чем идеология, такая же, как любая другая. Твои открытия, к которым я оказался причастен, сам того не желая, лишь подтвердили то, что я уже чувствовал сам: церковь мне больше не мать, она отказалась от своего сына только потому, что я любил не так, как она велела. Я останусь в Риме, стать пустынником в Абруцци — нет, это не для меня. С тех пор как меня силой заставили уехать из Штатов, моя пустыня — у меня в душе.
Он направился было к двери, но остановился:
— Твой чемодан уложить недолго. Я сейчас спущусь, попрошу отца Иоанна показать мне здешнюю библиотеку, надо увести его подальше от привратницкой. За это время незаметно уходи из монастыря, садись на автобус, доедешь до конечной, а там уезжай первым же поездом до Ареццо. Я доверяю отцу Калати, он отправит тебя в безопасное место. Спрячься в одном из их приютов, а недели через две-три напиши мне, я сообщу, можно ли тебе вернуться в Рим.
— Что ты собираешься предпринять?
— Я уже мертв, Нил, они больше ничего не могут мне сделать, не беспокойся. У тебя есть несколько минут, чтобы покинуть Сан-Джироламо незамеченным. До скорого, друг. И знаешь, ты был прав, истина делает нас свободными.
Отец Иоанн был удивлен тем неожиданным интересом, который Ремберт Лиланд проявил к библиотеке, успевшей прослыть безнадежно запущенной, где никогда не найдешь то, что нужно. Пока американец осаждал его вопросами, изобличавшими полнейшую некомпетентность в области исторических наук, отец Нил с чемоданом в правой руке сел в автобус, идущий по виа Салариа Нуова до центрального вокзала Рима.
Его левая рука так крепко сжимала сумку, что со стороны казалось, что он хранит там свое самое бесценное сокровище.
84
Антонио шел легким, пружинистым шагом. Возведенный возле небольшой бухты Тибра, замок Сан-Анжело сиял в лучах заходящего солнца, на его кирпичах плясали золотистые блики. Здесь в старину вершилось папское правосудие, а нынче вечером должно свершиться правосудие Небесное. Человек собирается противопоставить себя церковной власти во имя дела, которое считает добрым. Но добрых дел вне иерархии не существует. А этот человек одержим сатаной. Испанец остановился, облокотившись на поручни моста Виктора-Иммануила II. Прежде чем начать действовать, он хотел вспомнить слова, которые накануне вечером сказал ему кардинал, хотел заново раздуть пламя жгучего негодования — тогда его рука не дрогнет.
— Вы говорите, что он хочет воспользоваться посланием, чтобы давить на нас?
— Он несколько раз говорил нам об этом, ваше преосвященство, и Двенадцать его поддержали. Письмо тринадцатого апостола даст тому, кто им завладеет, немалую власть: его разглашение так пошатнуло бы основы, что наша церковь и даже некоторые европейские правительства были бы готовы дорого заплатить, чтобы Союз сохранил тайну. Тамплиеры без колебаний пускали это средство в ход.
— Могила Иисуса… невероятно! — Кардинал провел ладонью по лбу. — Я думал, послание ограничивается отрицанием его божественности. И тогда это был бы не первый случай, церкви всегда удавалось справиться с такой угрозой, пресечь ересь. Но реальная могила с останками Иисуса, могила, которую можно найти… Это чревато не просто еще одной теологической склокой, ведь тут доказательство — осязаемое, неопровержимое! Это немыслимо, сущий конец света!
Антонио усмехнулся:
— Монсеньор Кальфо тоже так думает, но у него свои планы. Он находит, что церковь слишком робка в своем противоборстве с испорченным веком, который движется своим путем нам назло. Он хочет раздобыть деньги, много денег, чтобы можно было давить на мировое общественное мнение.
— Bastardo! — процедил кардинал. — Ублюдок!
Однако прелат быстро овладел собой: — Антонио, когда мы с вами познакомились в Вене, вы дезертировали из рядов «Опус Деи». Но вы поклялись служить папе, а если он станет недееспособным — тогда служить папству, ибо именно оно — опора Запада. Наш досточтимый Святейший Отец болен, он отдает все свои силы и внимание толпам, которые бурно приветствуют его всюду, где бы он ни появился во время поездок. А реальное управление церковью вот уже двадцать лет взвалено на плечи нескольких человек вроде меня. Папа подчас даже не знает о тех опасностях, от которых нам приходится обороняться. Я часто вынужден действовать от его имени, и сейчас я снова поступлю так же. Я могу рассчитывать на вашу помощь? Нужно… нейтрализовать Кальфо и восстановить наш контроль над Союзом Святого Пия V. Без промедления.
— Ваше преосвященство…
Кардинал крепко сжал губы, лицо его вдруг удлинилось, щеки уже не казались такими округлыми. Когда он заговорил, в его голосе послышалось что-то похожее на шипение:
— Мой мальчик, вспомни: когда ты приехал в Вену, за тобой гнались по пятам. «Опус Деи» — не та организация, из которой можно уйти, тем более если ты позволил себе ее критиковать. Ты был юнцом, идеалистом, не понимал, что натворил! Я взял тебя под крыло, защитил, затем почтил особым доверием. И в Союз Святого Пия V тебя ввел именно я. Кто, как не я, заплатил этим одержимым каталонцам из окружения Эскривы де Балагера, чтобы помалкивали, когда Кальфо проводил свое расследование насчет тебя? Я только прошу отплатить мне тем же, Антонио!
Молодой человек упрямо склонил голову. Катцингер почувствовал, что здесь одного приказа недостаточно — нужно подхлестнуть возмущение андалузца, разбудить его взрывной темперамент, затронув слабую струну. Его суровый, непреклонный нрав отвергает все телесное. После долгих лет подавления сексуальности в школе «Опус Деи» все это в нем до болезненности гипертрофировано…
Черты лица кардинала смягчились, теперь он источал мед:
— Знаешь, что он такое, этот твой ректор? Известно ли тебе, что представляет собой этот человек, которого ты уважаешь, несмотря на его недисциплинированность? Ты и вообразить себе не можешь, какие ужасы способен задумать первый из Двенадцати, и это в десяти шагах от святого места, гробницы Петра! Несколько дней назад я выслушал одну из его жертв, молодую женщину, прекрасную и чистую, словно мадонна, которую он обесчестил, не только надругавшись над ее телом, но и втоптав в грязь ее душу истинной верующей. И она была не первой среди оскверненных им. Ты этого не знал? Ладно, я тебе расскажу, что он с ней уже сделал и что еще собирается сотворить не далее как завтра.
Несколько мгновений он что-то шептал, шелестел чуть слышно, словно стараясь, чтобы его речь не донеслась до распятия, висевшего на стене у него за спиной.
Когда он кончил, Антонио вскинул голову. Его черные глаза горели жестоким, неумолимым огнем. Он вышел из кардинальского кабинета, не произнеся больше ни слова.
С тяжелым вздохом андалузец оторвался от парапета моста. Чтобы начать действовать, ему нужно было оживить в памяти эту мерзкую сцену. Да, церковь непрестанно нуждается в очищении, пусть даже каленым железом. Приказы кардинала освобождали его лично от всякой ответственности — это тоже испокон веку было силой церкви. Трудное решение, нравственное насилие, необходимость отсечь пораженную гангреной конечность… Никогда тот, чья рука заносит клинок, кромсающий живое, не отвечает за пролитую кровь, за погубленные жизни. Ответственность — дело церкви.
85
Алессандро Кальфо с довольным видом отступил назад, полюбовался — великолепно! На паркетном полу его комнаты лежал громадный крест, два широких бруса которого позволят телу привольно растянуться. Соне будет удобно. Он, примериваясь, раскинул руки с двумя тесемками из мягкого шелка, которые предусмотрительно приготовил. Что до ног, они должны оставаться свободными. Стоило лишь вообразить, какова будет сцена, и уже застучало в висках, кровь начала приливать к низу живота; он телесно сольется с молодой женщиной, распростершись на месте божественного мученика, и это будет самый возвышенный половой акт из всех, когда-либо им испытанных. Божественное окончательно соединится с человеческим, все его существо до малейшей клеточки преисполнится экстазом, когда искупительная Христова жертва предстанет в столь совершенно форме. Насилие не потребуется, Соня уступит, он это знал, чувствовал. Ее исполненная ужаса реакция в прошлый раз была лишь следствием удивления. Она подчинится, как всегда.
Он позаботился, чтобы византийская икона висела на стене точно над крестом, чтобы во время культового обряда Соня могла, просто подняв глаза, смотреть на этот образ, успокоительный для ее православной души. Да, он обо всем подумал, все должно быть безупречно. А еще завтра вечером он отнесет проклятое послание на пустую полку, так давно ожидающую его.
Звонок заставил его вздрогнуть. Уже? Обычно эта скромница являлась, только когда стемнеет Может быть, сегодня и ей не терпится? Он довольно ухмыльнулся и пошел открывать.
Это была не Соня.
— Ан… Антонио? Но почему вы здесь? Я же на значил вам явиться завтра утром, Нил должен сперва увидеться с поляком, это произойдет сего дня вечером… Как это понимать?..
Антонио надвигался на него, вынуждая отступать в глубь коридора.
— Понимать надо так, что нам надо поговорить брат ректор.
— Поговорить? Но я буду говорить, когда считаю нужным! Вы последний из Двенадцати, и ни коей мере…
Антонио продолжал наступать, не отпускав взглядом глаз неаполитанца, а тот все пятился наталкиваясь на стены.
— Решаешь уже не ты, а Бог, которому ты якобы служишь.
— Что такое… как это «якобы»? Да кто вам разрешил говорить со мной в подобном тоне?
Они были уже перед дверью, которую Кальфо оставил открытой.
— Кто мне разрешил? А тебе, несчастный, кто разрешил предать обет целомудрия? Кто позволил тебе обесчестить создание Божье, защищенное твоим же епископским саном?
Толкнув маленького толстяка боком, он вынудил его снова отступить, на сей раз внутрь комнаты. Кальфо споткнулся о подножие креста, едва удержавшись на ногах. Антонио быстрым взглядом кинул тщательно подготовленную декорацию, так и есть, Катцингер ему не солгал.
— А это что? Ты собирался здесь устроить гнусное святотатство. Ты не достоин владеть посланием тринадцатого апостола, божественность Учителя не может оберегать такой человек, как ты. Только чистая душа может предотвратить осквернение, ныне грозящее Господу нашему.
— Но… но…
Кальфо снова зацепился ногой за перекладину креста и, поскользнувшись, плюхнулся перед андалузцем на колени. Тот смотрел на него с презрением, брезгливо скривив губы. Это был уже не его ректор, первый из Двенадцати, а всего лишь жалкий тип, трясущийся и потный от страха. И глаза у него как-то вдруг помутнели.
— Ты хотел распластаться на этом кресте, не так ли? Думал отождествить свое тело, обезображенное излишествами, с телом Учителя, преображенным его любовью к каждому из нас? Что ж, ты это сделаешь. Хотя твои страдания все равно не сравнятся с муками Того, кто мертв для тебя.
Спустя пятнадцать минут Антонио тихо прикрыл за собой дверь апартаментов и вытер руки бумажной салфеткой. Это было не трудно, это никогда не трудно, если просто повинуешься приказу.
86
Лиланд шагал, поминутно оступаясь на неровной мостовой виа Салариа Антика. «Нилу так нравилась эта улица! Он любил приходить ко мне именно этой дорогой… Ну вот, я уже думаю о нем в прошедшем времени!»
Ему удалось надолго задержать отца Иоанна в библиотеке, но от его предложения позавтракать вместе с монахами общины он отказался:
— Мы с отцом Нилом встречаемся в Ватикане сегодня после полудня. Он наверняка уже отправился туда, не дождавшись меня, а вернется сегодня… поздно вечером.
Нил не вернется, сейчас он, наверное, уже на конечной остановке автобуса, готовится сесть в поезд, идущий в Ареццо. Или уже уехал.
Охваченный тревогой, Лиланд вместе с тем чувствовал удивительную легкость и пустоту во всем теле. Life is over. To, что он отказывался признать все это время своей почетной ватиканской ссылки, эта правда, которую он скрывал от себя самого, за краткие дни, проведенные вместе с Нилом, открылась ему во всей своей беспощадной очевидности: его существование больше не имело смысла, он полностью утратил вкус к жизни.
Он сам не заметил, как оказался перед дверью своей квартиры. Дрожащей рукой толкнул дверь, закрыл ее за собой, тяжело опустился на табурет перед роялем. Хотя бы играть он еще способен? Только для кого?
Этажом ниже Моктар занял свой пост и включил магнитофон. Американец сегодня вернулся позже обычного. И один, оставил, значит, Нила в Ватикане, который, наверное, сейчас толкует с Бречинским. Он устроился поудобнее, надел наушники. Француз вернется ближе к вечеру, и они снова примутся за разговоры. А когда стемнеет, Нил отправится, как обычно, к себе в Сан-Джироламо. Пешком, по темным безлюдным улицам. А приятель выйдет, чтобы малость его проводить.
Сперва он займется американцем. Потом тем, другим.
Однако Нил все не возвращался. Лиланд, сидя за роялем, смотрел, как в квартире сгущаются потемки. Света не зажег, изо всех сил борясь со своим страхом, он тем самым боролся с собой. Ему осталось сделать только одно — Лев подсказал ему решение, сам того не ведая. Но хватит ли у него решимости выйти из дому?
Час спустя на Рим опустилась ночь. Магнитофонные ленты крутились впустую, — что происходит? Внезапно Моктар услышал наверху невнятный шум, дверь квартиры открылась, потом снова захлопнулась. Он снял наушники, метнулся к окну, Лиланд один вышел из здания и теперь переходил улицу. Они что, назначили встречу где-то на полпути к Сан-Джироламо? Если так, все еще больше упрощается.
Моктар выскользнул из подъезда, прихватив с собой кинжал и металлическую струну. Он всегда использовал для убийства либо холодное оружие, либо удушение. Физический контакт с неверным придает убийству особые ощущения. Моссад предпочитает своих элитных стрелков, но еврейский Бог — это всего лишь безжизненная абстракция, для мусульман же Аллах непосредственно, телесно соприкасается с реальным миром. Недаром Пророк никогда не пускал в ход стрелы, только свою саблю. Если все сложится благоприятно, он задушит американца. И ощутит, как сердце остановится под его рукой — сердце того, кто был готов снабдить своих презренных соплеменников убийственным оружием против мусульман.
Он шел за Лиландом по пятам. Тот обогнул площадь Святого Петра, не заходя под колоннаду, и вышел на виа Борго Санто-Спирито. Он шел к замку Сан-Анжело. Ночь была пронизывающе-холодной, и римляне грелись у своих очагов. Если эти двое условились встретиться возле дворца, то только потому, что знали: там не встретишь ни одной живой души. Тем лучше.
Теперь Лиланд шел не торопясь, в душе его воцарился мир. В полумраке своей квартиры он принял окончательное решение, повторяя про себя фразу Льва: «Убийца — профессионал, беги, спрячься в своем монастыре…» Он никуда не побежит. Не станет прятаться. Напротив, пойдет навстречу своей судьбе, как сейчас, когда его видно отовсюду. Самоубийство для христианина под запретом, он сам никогда не положит конец этому бессмысленному прозябанию, в которое превратилась его жизнь. Но если это сделает кто-то другой, что ж, так тому и быть. Лиланд перешел на левый берег Тибра, миновал замок Сан-Анжело, потом двинулся к Лунготевере. Редкие автомобили еще проезжали по этой улице, проходящей над Тибром, поворачивая затем влево, к пьяца Кавур. Здесь никто не прогуливался, от реки несло сыростью, да и стужа пробирала до костей.
Выйдя на мост Умберто I, он оглянулся. При свете фонарей заметил прохожего, идущего, как и он, вдоль парапета. Замедлил шаг, и ему показалось, что тот тоже приостановился. Да, сомнений нет, это он.
Не бежать, не прятаться, не пытаться спастись.
Life is over. Брат Ансельм… Иллюзии юности, улетевшие, как дым: реформа церкви, допущение брака священников, конец долгой муки, навязанной стольким благородным людям, — этого целомудрия, которого так упорно требует церковь, враждебная человеческой любви… Он увидел каменную лестницу, ведущую вниз, к Тибру, и стал спускаться. Без колебаний.
Набережная, тускло освещенная, была вымощена еще в незапамятные времена. Он шел по ней, глядя на черную воду; сильное течение, в этом месте втиснутое в узкие берега, билось о камни, торчащие из воды. Заросли высокого тростника, густой кустарник на откосе, круто обрывающемся в поток… Риму никогда не избавиться до конца от примет провинциального города.
За своей спиной он слышал, как тот, другой, спускался по лестнице, потом его шаги стали звонко отдаваться уже на плитах набережной. Теперь они приближались. Хотя Ремберт был в призывном возрасте, статус монаха избавил его от вьетнамской войны. Он часто спрашивал себя, как бы он повел себя перед лицом врага? Он усмехнулся: этот берег станет его Вьетнамом. Его сердце даже не забилось быстрее обычного. Интересно, что он почувствует? Будет ли страдать?
Оба, преследуемый и преследователь, приближались к аркам моста Кавур. Вплотную к ним высилась стена, отгораживающая набережную, здесь кончалась эспланада — излюбленное место для прогулок римлян в хорошую погоду. Здесь не было лестницы, которая поднималась бы наверх; чтобы выйти на скоростное шоссе, проложенное вдоль Тибра, нужно было повернуть назад. И лицом к лицу столкнуться с тем, кто шел сзади.
Лиланд глубоко вздохнул, на миг зажмурился. Он был спокоен, но лица этого человека он видеть не желал. Пусть смерть подкрадется со спины, как воровка.
Шаги, что слышались позади, зазвучали по-новому, человек бежал, будто разгоняясь. Шаг был легкий, едва задевавший мостовую.
87
Держа в одной руке сумку, в другой чемодан, отец Нил сошел с автобуса. Эти места были именно такими, как описывал их отец Калати:
— Наш эконом как раз едет в Акилу, поезжайте с ним. Он высадит вас на местном автовокзале. После полудня местный автобус отправится в Абруцци. Доберетесь на нем до деревни, дальше отправляйтесь пешком до перекрестка. Там повернете налево, пройдете километр по грунтовой дороге до одиноко стоящей фермы, где встретите Беппо, он там живет вдвоем с матерью. Не удивляйтесь, он не говорит, но все понимает. Скажите ему, что вы от меня, и попросите проводить до нашего приюта. Вам придется долго подниматься в горы. Потом Беппо будет иногда наведываться к вам туда — приносить время от времени немного провизии.
Затем отец Калати поднял руки к небу, молчаливо благословляя отца Нила, преклонившего перед ним колени на ледяных монастырских плитах.
Когда отец Нил появился в обители камальдолийцев (так официально назывались монахи-молчальники), его бывший профессор заключил нежданного гостя в объятия, коснувшись его щек своей кустистой бородой. Он хочет обосноваться в пустынной местности? На неопределенное время? Никто не должен знать, где он скрывается? Отец Калати не задал ни одного лишнего вопроса, не удивился ни его появлению, ни странной просьбе. Просто порекомендовал одного старого отшельника и сказал, что ему будет хорошо рядом с ним:
— Вы увидите, это человек несколько необычный, он много лет живет там, на горе. Но одиноким себя никогда не чувствует: молитва связывает его со всей Вселенной. Он наделен даром предвидения, который иногда развивается у людей особенно одухотворенных. Связь между нами поддерживается благодаря Беппо, он каждые две недели спускается с горы, чтобы купить в Акиле сыра. Да благословит вас Господь!
Отец Нил смотрел вслед автобусу, исчезающему в облаке пыли. Затем побрел по единственной улице деревушки. Было еще светло, но окна низеньких домов уже наглухо закрылись, чтобы уберечь жителей от ночной стужи.
Мимоходом он бросил взгляд на одно из этих окон и усмехнулся, увидев в стекле свое отражение: его коротко стриженные волосы, только начинавшие седеть, когда он покидал аббатство Сен-Мартен, за то время, пока он искал послание, стали абсолютно белыми.
Когда он остановился перед фермой, чемодан уже изрядно оттягивал руку. У порога одного из домов он увидел молодого человека. Парень колол дрова. Одет он был в безрукавку из козьих шкур — традиционный наряд пастухов Абруцци. Отец Нил окликнул его, и тот беспокойно обернулся, наморщив лоб под копной кучерявых волос.
— Ты Беппо? Я пришел от отца Калати. Можешь проводить меня к отшельнику?
Беппо аккуратно прислонил топор к поленнице дров, вытер руки о подкладку куртки, затем, подойдя поближе, внимательно оглядел монаха. Его лицо, поначалу настороженное, постепенно смягчилось, наконец, он улыбнулся, кивнул. Могучей рукой перехватил чемодан, выразительно дернул подбородком, указывая на гору, и кивком позвал отца Нила за собой.
Дорога уводила в лес, потом стала круто забирать вверх. Беппо шел размеренно, его манера держаться создавала впечатление спокойной уверенности. Отец Нил с трудом поспевал за ним. Хорошо ли понял его этот парень? Придется всецело положиться на него. И не потерять по пути драгоценную сумку.
Они дошли до места, где дорога, казалось, заканчивалась тупиком. Там виднелись давние следы какой-то машины, колея, по-видимому, была оставлена трактором лесника, который изредка добирается сюда. По дну оврага бежал прозрачный ручей. Беппо поставил на землю чемодан и, склонясь над водой, долго пил из сложенных ладоней. Потом все так же молча подхватил чемодан и двинулся вперед по тропинке, ведущей по горному склону. За зелеными кронами можно было разглядеть вдали скалистый хребет.
Уже совсем стемнело, когда они вышли на крошечную площадку над заполненной ночным мраком долиной. Отец Нил увидел окно, светящееся прямо в скале. Беппо бросил на землю чемодан и без церемоний постучал в оконный переплет.
Низкая дверь отворилась, и в проеме появился темный силуэт. Человек весьма преклонных лет с длинными, спадающими на плечи седыми волосами, окружавшими его голову светлым ореолом, одетый в длинную блузу с поясом, шагнул им навстречу. За его спиной отец Нил приметил очаг наподобие камина, в котором ярко пылала, освещая каморку, вязанка хвороста. Беппо поклонился, издал ворчание и протянул руку, указывая на отца Нила. Старик потрепал юношу по кудрявой голове и повернулся к гостю с улыбкой. Гостеприимным жестом он пригласил его войти в свою отшельническую келью, откуда веяло добрым теплом, и просто сказал:
— Входи, сын мой. Я тебя ждал!
88
В то утро в ватиканском граде царило лихорадочное оживление. Впрочем, к столь чинному месту выражение это применимо лишь относительно. Некоторые прелаты проходили по мраморным полам коридоров чуть менее чопорным шагом, нежели обычно, а кое у кого фиолетовые пояса развевались чуть заметнее, когда их обладатели, поднимаясь по лестницам, перескакивали через две ступеньки. Автомобиль с буквами «S.C.V.» на номерном знаке на полном ходу проскочил под порталом бельведера, приветствуемый швейцарским гвардейцем, который узнал сидевшего в машине человека средних лет с черным чемоданчиком на коленях — личного врача папы.
В любом другом месте эти едва уловимые признаки беспокойства остались бы незамеченными. Но караульный, свидетель всей этой суеты, столь несвойственной святому граду, развеселился: сегодня ему будет о чем порассказать товарищам.
Автомобиль S.C.V., проехав по виа делла Кончильяционе до самого конца, повернул налево, миновал замок Сан-Анжело и припарковался чуть подальше на Лунготевере позади фургона с мигалкой. Человек с черным чемоданчиком торопливо сбежал по лестнице, ведущей на берег Тибра, и по неровной мостовой прошел к арке моста Кавур, где толпилось с десяток итальянских жандармов, окруживших нечто темное, бесформенное и промокшее насквозь — труп явно только что вытащили из зарослей прибрежного тростника.
Врач осмотрел тело, потолковал с жандармами, закрыл чемоданчик, потом снова поднялся на Лунготевере, где вполголоса поговорил по мобильнику, стараясь при этом быть подальше от зевак, глазевших на эту сцену. Потом он несколько раз утвердительно кивнул, знаком отпустил шофера и быстрым шагом направился к замку Сан-Анжело. Перешел на другую сторону улицы, прошел еще немного и нырнул в подъезд недавно построенного дома, возле которого топтался, поджидая доктора, молодой человек, по одежде смахивающий на туриста.
Они обменялись парой слов, потом молодой человек вынул из кармана ключ и знаком пригласил врача следовать за ним.
Время близилось к полудню, когда верховного понтифика доставили в его рабочий кабинет и перед ним предстал кардинал Катцингер. Пока папа держал перед глазами, читая, листок бумаги, его правая рука с перстнем Второго Ватиканского собора, участником которого он был, заметно дрожала. Болезнь согнула пополам тело старца, но глаза из-под кустистых бровей смотрели ясно и пронзительно.
— Это правда, ваше преосвященство? Прошлой ночью умерли два прелата Ватикана. Всего за несколько часов?
— Прискорбное совпадение, Святейший Отец. У монсеньора Кальфо, которого уже несколько месяцев беспокоили тревожные симптомы, этой ночью случилась остановка сердца.
Алессандро Кальфо был найден у себя в комнате распростертым на двух брусьях, сложенных в форме креста. Его посиневшее лицо искажала гримаса смертной муки, остекленевший взгляд устремлен на висящую напротив византийскую икону с изображением Божьей Матери. К поперечной перекладине креста двумя шелковыми тесемками были привязаны раскинутые руки.
В ладони казненного были вколочены два гвоздя, уже вытащенные из продольного бруса этого зловещего ложа. Кровь не текла, жертву явно распяли уже после смерти.
Апартаменты находились чуть поодаль от площади Святого Петра, так что дело находилось в компетенции итальянской полиции. Но насильственная смерть прелата, гражданина Ватикана, поставила итальянские власти в весьма затруднительное положение. Комиссар полиции, неаполитанец, как и покойный, был в большом смущении. Почему несчастного распяли — это что, какой-то сатанинский ритуал? Не нравилось ему все это, К тому же, ежели считать по прямой, невидимая граница священного града пролегает всего в сотне метров от места убийства. Поэтому можно надеяться, что личный врач папы, который прибудет с минуты на минуту, выдаст медицинское разрешение на захоронение тела.
Прибывший эскулап даже не потрудился открыть свой чемоданчик. При помощи сопровождавшего его молодого человека со странным черным взглядом он перво-наперво заботливо застегнул воротник Кальфо, чтобы не были видны следы удушения. Затем подозвал полицейского, который из скромности держался в сторонке, и сообщил ему свой диагноз: остановка сердца, случившаяся от неподвижного образа жизни и переедания — видно, спагетти не пошли покойному впрок. Такие вещи неаполитанец понимает с полуслова. Облегченно вздохнув, комиссар незамедлительно передал труп на попечение ватиканских властей.
— Остановка сердца, — вздохнул папа, — значит, он не страдал? Господь милостив к своим слугам, requiescat in расе [24]. Но что со вторым, ваше преосвященство? Ведь этой ночью случились две смерти, не так ли?
— Воистину так, и во втором случае дело куда более деликатное. Речь идет о монсеньоре Лиланде, о котором я вам уже говорил.
— Лиланд! Настоятель бенедиктинского аббатства, который громко ратовал за разрешение брака священнослужителей? Прекрасно помню, это ему стоило promoveatur ut amoveatur, и с тех пор он здесь, в Риме, вел себя тихо.
— Не совсем, ваше высокопреосвященство. Он даже здесь встретился с одним монахом-бунтарем, который поделился с ним своими безумными теориями относительно Господа нашего Иисуса Христа. Похоже, это сильно повлияло на душевное состояние нашего прелата, его нашли сегодня утром в Тибре, в тростниках у моста Кавур. Должно быть, самоубийство.
Ни врач, ни жандармы не пожелали обратить внимание на след удушения, отчетливо видный на шее Лиланда. Очевидно, что в ход была пущена металлическая струна, передавившая голосовую щель. Профессиональная работа. Странно только, что лицо американца осталось безмятежным, он чуть ли не улыбался.
Старый понтифик не без труда поднял голову, посмотрел на кардинала:
— Будем молиться за этого несчастного монсеньора Лиланда, он, несомненно, много выстрадал в душе. Отныне сообщайте мне обо всей корреспонденции, что будет еще приходить на его имя. А что тот монах-бунтарь?
— Он вчера покинул Сан-Джироламо, где пробыл несколько дней, и мы не знаем, где он теперь. Но отыскать его след было бы несложно.
Папа махнул рукой:
— Ваше преосвященство, где, по-вашему, может скрываться монах, если не в монастыре? Ну так и не надо принимать никаких неотложных мер. Дадим ему время, чтобы снова обрести душевный мир, который он, надо полагать, утратил после всего того, о чем вы мне только что рассказали.
Вернувшись в свой кабинет, Катцингер отметил про себя, что от всего сердца разделяет чувства папы. Смерть Кальфо изрядно облегчала бремя забот, лежащих на его плечах. Антонио вступил в игру очень вовремя — послание тринадцатого апостола останется погребенным в секретном фонде Ватикана, лучшего места для него и не придумаешь — ничей любопытный взгляд туда не проникнет. Лиланд? Не более чем насекомое, одна из тех мелких мошек, от которых отмахиваешься мимоходом. Наконец, Нил, но этот опасен лишь в своем аббатстве. А уж раз он туда не вернулся, с ним можно не спешить. Оставался Бречинский. Его присутствие в стенах Ватикана было невыносимым, как гвоздь в подошве, — живое напоминание о темном эпизоде немецкой истории, разжигающее в нем чувство вины, от которого он, сколько себя помнил, всеми силами стремился избавиться. Его отец только выполнял свой долг, отважно храня верность высокой миссии — бороться с коммунизмом, угрожавшим мировому порядку. Разве он да и другие немцы повинны в том, что Гитлер извратил столь благородную цель ради того, чтобы ценой апокалипсических ужасов утвердить господство своей якобы высшей расы?
Да, его отец уничтожил этого поляка, но такова участь всех побежденных. Сам себе в том не признаваясь, кардинал чувствовал свою вину в этой трагедии, не будучи сам к ней причастен. Но отец… Это потаенное чувство вины подхлестывало Катцингера в борьбе за чистоту католической доктрины. В ней было его предназначение, уж он-то не пополнит собой шеренгу побежденных. Единственная высшая раса, рожденная для побед, — это воинство поборников веры. Церковь в его глазах была последней твердыней, противостоящей современному апокалипсису.
Бречинский стал ему ненавистен. Нужно было как-то от него избавиться. Кардиналу не обрести покоя, пока перед глазами у него будет этот последний свидетель истории его жизни и жизни и поступков его отца.
Сейчас же ему придавала силы и энергии другая забота — канонизация Эскривы де Балагера, ожидаемая через несколько месяцев. Основатель «Опус Деи» — вот кто помогал выстоять зданию, возведенному на фундаменте божественности Христа. Именно благодаря таким людям церковь не сдает своих позиций.
Надо бы, однако, собраться с мыслями и придумать для него какое-нибудь чудо, это нетрудно, ибо кто ищет — находит.
89
Уединение в Абруцци было именно таким, какого желал Нил. Такое уединение, должно быть, познал тринадцатый апостол, покинув Пеллу, да и сам Иисус пережил нечто подобное после встречи с Иоанном Крестителем на берегу Иордана.
В первый же вечер отшельник указал ему на соломенный тюфяк в углу:
— Им обычно пользуется Беппо, когда остается здесь ночевать. Этот парень привязался ко мне, как к родному отцу, которого никогда не знал. Он немой, но мы общаемся без затруднений.
Больше старик ничего не говорил, и они прожили несколько дней в полном молчании, без единого слова деля трапезу, состоящую из сыра, трав и хлеба. Они съедали это, сидя на скалистом выступе над долиной, и гора говорила с ними на своем языке.
Отец Нил осознал в те дни, что главное для пустынника — это прежде всего особый настрой мысли и души. Так можно жить и в аббатстве, и в Центре многолюдного города. Необходимо лишь особое состояние внутреннего отречения, отказа от всех привычных ориентиров общественной жизни.
Крайняя бедность жилища очень скоро стала для него настолько безразлична, что он даже мало-помалу перестал ее замечать. Рядом с отшельником он почувствовал присутствие какой-то неожиданно мощной и щедрой силы, отогревающей душу. Сперва он воспринимал ее как нечто, идущее извне — от природы, от соседства молчаливого старика. Потом понял, что она родственна иной силе, присутствующей в нем самом. И что если быть внимательным, ощутить и принять ее, то этого и довольно, все остальное — лишнее, напускное. И тогда не будет больше ни житейских неудобств, ни одиночества, ни страхов.
И тогда, может быть, прошлое и его боль тоже утратят всякое значение.
Однажды, когда Беппо, забежавший обновить их запасы хлеба, ушел, отшельник, пригладив бороду, обратился к нему:
— Почему ты до сих пор ломаешь голову над вопросом, что значили мои первые слова при встрече: «Я ждал тебя, сын мой»?
Этот человек как будто читал его мысли!
— Ну Вы же не были со мной знакомы, ничего обо мне не знали, вас никто не предупреждал о моем приходе!
— Я знал тебя, сын мой, и мне ведомо о тебе то, что ты и сам не подозреваешь. Вот увидишь, живя здесь, ты научишься видеть не только глазами, как Иисус — после того, как он побывал в пустыне. Именно такой дар помог ему узреть Нафанаила под фиговым деревом. Я знаю, сколько ты выстрадал, и знаю почему. Ты ищешь сокровище, ключом к которому не владеют даже церкви, они могут лишь показать направление, ведущее к нему, если, конечно, вместо этого не загородят дорогу.
— А вы знаете, кто был тринадцатым апостолом?
Отшельник тихонько засмеялся, в его глазах засветились огоньки:
— Ты думаешь, чтобы знать, всегда нужно иметь доказательство?
Он помолчал, словно забывшись, взгляд его задумчиво блуждал по долине, где беззвучно скользили тени облаков, проплывающих в вышине. Потом старик вновь заговорил:
— Все можно понять только изнутри. Познание — лишь кора на дереве, ее нужно отодвинуть, чтобы нащупать сердцевину. Это касается не только камней, растений, живых существ, но и Евангелий тоже. В старину такое постижение изнутри звалось гнозисом, и многие были отравлены этим знанием и решили, что они выше всех, нарекли себя «катарами», что по-гречески означает «чистые». На Тот, о Ком говорят Евангелия, Тот, Кого ты познаешь в молитве, не выше тебя и не ниже: Он с тобой. Реальное присутствие рядом с тобой Иисуса — это сила, которая и объединяет тебя со всем сущим, но и отделяет от него. Ты уже почувствовал это раньше, а здесь придешь к этому окончательно. Вот зачем ты пришел сюда.
Я ждал тебя, сын мой…
90
Рим безучастно наблюдал, как кардинал Эмиль Катцингер вновь взял в свои руки Союз Святого Пия V. От имени папы он сам назначил нового ректора вместо неаполитанца Алессандро Кальфо, скоропостижно скончавшегося и не успевшего передать преемнику перстень с камнем в форме гроба, напоминающий о необходимости хранить главную тайну католической церкви — безвестную могилу, где упокоился Тот, Кого распяли в Иерусалиме.
Он избрал этого ректора из числа оставшихся Одиннадцати, пожелав, чтобы тот был молод, ибо ему потребуется много сил для борьбы с врагами человека, превращенного в Христа и Бога. А ведь они не замедлят снова поднять голову, так было испокон века, еще с той поры, когда пришлось уничтожить память о самозванце, претендующем на право считаться тринадцатым апостолом.
Надевая на безымянный палец правой руки избранника кольцо с бесценным гелиотропом, он улыбнулся черным глазам, безмятежным, словно гладь горного озера. Антонио же лишь подумал, что становится отныне недосягаем для длинных щупалец «Опус Деи». Уже второй раз сын обер-лейтенанта Герберта фон Катцингера и воспитанник гитлерюгенда оказывает ему протекцию. Но он еще потребует плату за услуги. В сейфе Союза Антонио нашел досье с пометкой «Конфиденциально», озаглавленное именем кардинала. Если бы новоиспеченный ректор его открыл, то обнаружил бы там документы на бланках со свастикой, касающиеся его могущественного покровителя. И убедился бы, что не все они появились на свет до мая 1945 года. Некоторые составлены позднее.
Однако он не стал ее открывать, а сразу передал в собственные руки его преосвященства, который тут же отправил все это в специальную машину для измельчения бумаги, имевшуюся в ведении Конгрегации вероучения.
Отец Бречинский, по-прежнему облаченный в строгую черную сутану, смотрел, как мимо проплывают печальные ландшафты Польши. Когда он работал у себя в книгохранилище, за ним явился Антонио и без объяснений отвез на центральный вокзал Рима, С того момента, как это произошло, поляк утратил способность мыслить связно. Проехав на поезде всю Европу, теперь он ехал по равнинам родины. Он не испытывал никаких чувств при виде родных мест, хотя и удивлялся этому. Потом вдруг резко выпрямился, глаза его за круглыми стеклами наполнились слезами, он увидел название стремительно пролетавшей мимо маленькой провинциальной станции — Собибор. Здесь был концентрационный лагерь, к которому стягивалась дивизия «Аншлюс» перед поспешным отступлением на запад. Уходя, она гнала перед собой последних поляков — заключенных, их убили здесь же, перед самым приходом Красной Армии. Среди них были все, кто еще оставался в живых из его родни.
А его самого несколькими днями раньше спрятал, пренебрегая опасностью, в своей тесной краковской квартирке молодой священник Кароль Войтыла. И тем спас от облавы, которую устроил немецкий офицер, только что сменивший на посту убитого польскими партизанами Герберта фон Катцингера.
Отцу Бречинскому придется сойти на следующей остановке. Там, при маленьком уединенном Монастыре кармелиток, его преосвященство кардинал Катцингер предписал ему обитать в дальнейшем. Мать настоятельница получила специальные указания в конверте с гербом Ватикана: священник, который посылается к ней, никогда не должен принимать никаких посетителей, равно как и поддерживать письменные или любые другие контакты с внешним миром.
Он нуждается во внимательном присмотре и абсолютном покое. И, без сомнения, будет нуждаться в этом долгое время.
91
Зал встал на ноги, все как один: последний концерт Льва Барионы в Риме собрал столько народу, что помещение Академии Святой Цецилии было переполнено. Израильтянин собирался играть Третий концерт для фортепиано с оркестром Камилла Сен-Санса, продемонстрировав в первой части свое виртуозное мастерство, во второй — неподражаемую беглость пальцев, в третьей — чувство юмора.
Пианист вышел на сцену и, по обыкновению не взглянув на публику, прямиком прошел к инструменту и сел. Когда дирижер подал знак, лицо музыканта вдруг застыло, и он взял первые торжественные аккорды, зазвучала романтическая тема, подхваченная оркестром.
Во второй части он был ослепителен. Его пальцы проносились по клавишам с акробатической ловкостью, каждая нота была безукоризненна и совершенна, несмотря на то, что он с первого мгновения взял дьявольский темп. Контраст между стремительной, пугающей энергией игры и абсолютной неподвижностью лица исполнителя завораживал публику, и она после финального аккорда устроила ему оглушительную овацию. Римляне не жалеют аплодисментов для тех, кто сумел завоевать их сердца.
Все ожидали, что Лев Бариона, по своему обыкновению, сразу отправится за кулисы, невзирая на традиционные крики «Бис!» восторженной толпы. Поэтому все были изумлены, когда он вышел вперед, встал перед публикой и жестом потребовал, чтобы ему подали микрофон. Он поднял глаза, ослепленные огнями рампы, смотря куда-то вдаль, мимо внезапно затихшего зала. Его черты больше не казались застывшими, но лицо было необычно сурово для того, кто был известен своими неотразимыми, чарующими улыбками. Шрам, что уходил в гущу его золотистых волос, усугублял тревожное впечатление — все ждали, что сейчас прозвучит нечто драматическое.
Пианист был краток:
— В благодарность за ваш теплый прием я сыграю вам вторую «Гимнопедию» Эрика Сати, великого французского композитора. Я посвящаю ее сегодня другому французу, страннику, искателю абсолютной истины. И еще одному человеку — трагически погибшему американскому пианисту, память о котором останется со мной навсегда. Он сам потрясающе исполнял это произведение, потому что, подобно Сати, верил в любовь, которая обернулась для него предательством.
Пока Лев, прикрыв глаза, казалось, весь отдался совершенству этой совсем простой мелодии, из глубины зала на него с усмешкой смотрел мужчина — очень собранный, весь состоящий из сплошных мускулов и слегка выбивающейся среди окружавшей его утонченной, элегантной публики.
«До чего ж сентиментальны эти евреи!» — думал Моктар Аль-Курайш!
Со смертью Алессандро Кальфо его задание подошло к концу. Он испытывал удовлетворение оттого, что собственными руками прикончил американца. Второй же монах, как сквозь землю провалился, и Моктару пока не удалось напасть на его след. Ну да это дело времени. Завтра он возвращается в Каир. Отчитается перед Советом ФАТАХа, а потом возобновит поиски. Француз должен умереть. Чтобы выследить его, Моктару нужны средства и помощник. Лев только что публично объявил, что восхищается этим неверным, так что на него больше рассчитывать нельзя.
Что до Сони, так она теперь безработная. Он заставил ее незамедлительно вернуться в Каир. Ее точеная фигурка станет ему наградой. Да, ему, поскольку он оставит ее для себя. Побывав в руках развратного ватиканского прелата, она должна была обучиться таким штукам, каких Пророк, может, и не одобрил бы, если бы узнал про них. Но в Коране сказано просто: «Ваши жены нивы для вас, ходите на ваши нивы, как пожелаете» [25]. Вот Соня и станет его пашней.
Абсолютно равнодушный к проникновенной музыке, рождающейся под пальцами Льва, он ощутил, как накатывает жаркая волна возбуждения.
92
Прошло три недели с тех пор, как отец Нил прибыл в Абруцци, а ему уже стало казаться, будто вся его жизнь протекла в этом уединенном краю. Мало-помалу он рассказал старому отшельнику свою историю — приезд в Рим, встреча с Лиландом и его трагическая исповедь, появление Льва Барионы, мучительные поиски следов апостольского послания, обнаружение его в секретном фонде Ватикана…
Старик улыбнулся:
— Я знаю, что все это не могло ничего изменить в твоей жизни. Истина, которую ты искал всю жизнь, найдена, но пока ты видишь лишь ее внешнюю оболочку. Тебе остается углубить свое знание молитвой. Не озлобляйся на католическую церковь. Она делает то же, что делала всегда, то, ради чего создается любая церковь: сначала завоевывает власть, потом любой ценой удерживает ее. Один средневековый монах дал ей точное определение: casta simul et meretrix — целомудренная шлюха. Неблаговидные поступки церкви не должны заставить тебя забыть, что именно она подарила тебе счастье знакомства с Иисусом. Не будь церкви, ты бы никогда о нем не узнал.
Отец Нил промолчал. Он знал, что старик прав.
Заинтригованный появлением нового человека, так похожего на его приемного отца, у которого даже волосы такие же белые, Беппо стал чаще навещать отшельническую келью. Он садился возле отца Нила на нагретые солнцем камни возле входа и они долго сидели молча рядом, слыша лишь дыхание друг друга. Потом юноша внезапно вскакивал на ноги, слегка наклонял голову — этот кивок заменял у него слова прощания — и уходил.
Но настал день, когда отец Нил впервые обратился к нему:
— Беппо, ты не мог бы помочь мне? Я должен отправить это письмо в обитель камальдолийцев отцу Калати. Его нельзя отсылать по почте, а нужно передать в собственные руки. Ты возьмешься за это?
Беппо кивнул и спрятал письмо во внутренний карман куртки из козьей шкуры. Конверт был адресован Ремберту Лиланду, виа Аурелиа. Отец Нил вкратце написал другу о своем прибытии в приют отшельника, о жизни, которую он здесь ведет, о счастье, покинувшем его так давно, а здесь, кажется, снова обретающем реальность. Он просил Лиланда сообщить, как дела и нельзя ли ему вернуться в Рим, чтобы они могли свидеться.
Несколько дней спустя папа распечатал и прочел письмо в присутствии Катцингера, который согласно полученной инструкции передавал ему полученный на имя Лиланда конверт.
Потом понтифик устало уронил его на колени и, подняв голову, взглянул на кардинала, почтительно стоявшего перед ним:
— Этот французский монах, о котором вы мне говорили, чем он, по-вашему, опасен для церкви?
— Он ставит под сомнение божественность Христа, Святейший Отец. Его нужно заставить хранить молчание и отправить назад в аббатство, где он будет пребывать в полном уединении под вечным запретом покидать стены обители.
Голова понтифика опустилась на грудь, подбородок коснулся белоснежной сутаны. Старик закрыл глаза. Христос никогда не будет познан до конца, всей правды о нем людям ведать не дано. Он всегда впереди, а мы можем лишь искать его. Святой Августин сказал: искать Христа — значит найти его. Перестать искать — потерять его.
Не поднимая головы, он пробормотал так тихо, что Катцингеру пришлось напрячь слух, чтобы разобрать слова:
— Уединение… Думаю, он его нашел, ваше преосвященство, и я тоже мечтаю о нем… да, мечтаю. Знаете, слово «монах» ведь происходит от monos, что означает один. Или — единственный. Он обрел для себя то самое единое на потребу, о котором Иисус говорил Марфе, сестре Марии и Лазаря. Оставьте ему его уединение, ваше преосвященство. Пусть он останется наедине с Тем, Кого он там нашел.
Помолчав, он добавил еще невнятнее и тише:
— Мы же для этого и нужны, не правда ли? Ради этого и церковь существует. Чтобы в ней некоторые находили то, что мы ищем, и вы, и я.
Катцингер недоуменно поднял брови. Что до него, он так искал решения проблем, возникавших одна за другой. Он защищал церковь от ее врагов, чтобы она продолжала существовать. «Sono il carabinere della Chiesa»[26], как сказал однажды его блаженной памяти предшественник кардинал Оттавиани.
Папа тем временем знаком подозвал его:
— Подкатите меня к этой машине, что в углу. Прошу вас.
Катцингер подтолкнул кресло-каталку к старенькой машинке, установленной перед корзиной, уже наполовину заполненной белым бумажным конфетти. Поскольку папе не удалось дрожащей рукой включить аппарат, Катцингер почтительно нажал на кнопку.
— Благодарю… Нет, оставьте, я хочу это сделать сам.
Из машинки посыпалась бумажная стружка, и письмо французского монаха смешалось в корзине с другими секретами, которые папа хранил только в памяти, будучи до сих пор на удивление прозорливым.
«Есть лишь одна тайна, и это тайна Господа. Повезло ему, этому отцу Нилу. Воистину редкое везение».
93
Глубокой ночью отца Нила разбудили непривычные звуки. Он зажег свечу. Старый отшельник, вытянувшись на своем соломенном тюфяке, тихо хрипел.
— Отец, вам плохо? Нужно сбегать за Беппо, я сейчас…
— Оставь, сын мой. Просто пришел мой черед оставить этот берег и уйти в глубокие воды. Мне пора.
Открыв глаза, он окинул Нила взглядом, исполненным безмерной доброты:
— Ты останешься здесь, это место предназначено тебе от начала времен. Подобно возлюбленному ученику, ты склонишь голову к Иисусу, чтобы внимать ему. Услышать его может лишь твое сердце, и оно пробуждается день ото дня. Ты только слушай, и Учитель сам покажет тебе дорогу. Ты можешь всецело довериться ему. Люди предали тебя — он не предаст никогда.
Жизнь уже покидала его, но старик собрал последние силы:
— Беппо… позаботься о нем. Я поручаю его тебе. Он чист, как вода горного источника.
Наутро вершину соседней горы озарили лучи восходящего солнца, потом его сияние, разгораясь все ярче, залило отшельнический приют. В эти минуты старый пустынник, прошептав имя Иисуса, вздохнул в последний раз.
В тот же день отец Нил и Беппо похоронили его на вершине скалы, возможно, — подумалось Нилу — похожей на те, что высятся над Кумраном. Когда они в молчании вернулись к осиротевшему приюту, Беппо взял руку неподвижно замершего отца Нила, склонил перед Ним голову и мягким движением положил ладонь монаха на свою макушку с копной кучерявых волос.
Дни текли за днями, ночи следовали своей чередой. Время остановилось и, казалось, перешло в иное измерение. Отец Нил еще не вполне оправился, но тревоги, осаждавшие его в те ужасные дни, когда он гонялся за иллюзорной истиной, мало-помалу отпускали.
Истины не было ни в послании тринадцатого апостола, ни в четвертом Евангелии. Она не содержалась ни в одном тексте, сколь бы священным он ни был. Истина жила по ту сторону слов, напечатанных ли на бумаге или звучащих из людских уст. Она таилась в тишине, и тишина постепенно овладевала сердцем отца Нила.
Беппо перенес на монаха все то обожание, которое питал к старому отшельнику. Когда он являлся, всегда без предупреждения, они садились на камни возле приюта или у очага, поближе к огню. Отец Нил тихо читал ему Евангелие и рассказывал об Иисусе, как некогда тринадцатый апостол Иоханану.
Однажды, движимый внезапным порывом, он начертал незримый крест на лбу, устах и сердце юноши. Непосредственный, как дитя, Беппо высунул язык, которого тоже коснулся этот знак жизни и смерти.
На следующее утро парень вернулся очень рано, сел на соломенный тюфяк, спокойными глазами посмотрел на отца Нила и неловко выговорил, запинаясь:
— Отец… отец Нил! Я… мне бы читать научиться. Чтобы мог Евангелия прочесть. Сам.
Беппо заговорил. И заговорил от полноты своего сердца.
С этого момента жизнь отца Нила немного изменилась. Беппо стал приходить к нему почти ежедневно. Они садились перед окном у крошечного столика и открывали книгу. Месяца через полтора Беппо уже читал, спотыкаясь лишь на сложных словах.
— Ты можешь пока взяться за Евангелие от Марка, — сказал ему Нил. — Оно самое простое, ясное и ближе всего к тому, что Иисус делал и говорил. Как-нибудь позже я обучу тебя греческому языку. Увидишь, это не так уж трудно, а читая вслух, ты услышишь то, что говорили об Иисусе его первые ученики.
Беппо серьезно посмотрел на него:
— Я сделаю все, что ты мне скажешь. Ты отец моей души.
Отец Нил улыбнулся. Тринадцатый апостол тоже, должно быть, был для назореев, бежавших от первой церкви, отцом души.
— У твоей души, Беппо, есть только один отец. Тот, кто не носит имени, кого не дано познать никому, и нам о нем ничего не ведомо, кроме того, что Иисус звал его авва — отец.
94
В то октябрьское утро площадь Святого Петра празднично преобразилась, папа должен был возвестить о канонизации Эскривы де Балагера, основателя «Опус Деи». На фасаде базилики, в самом центре христианского мира, на всеобщее обозрение был выставлен гигантский портрет нового святого. Его хитрые глаза, казалось, иронически взирали на благочестивую толпу.
Стоя справа от папы, кардинал Катцингер сиял. В его глазах эта канонизация была исполнена особенного значения. Во-первых, это была его персональная победа над членами «Опус Деи», которых он заставил годами таскаться к нему на поклон, пока тянулся процесс подготовки к канонизации их героя. Отныне они в долгу перед ним, что хоть немного, а все ж таки оградит его от их интриг, по крайней мере на какое-то время.
К тому же он избавил Антонио от преследования со стороны испанцев — наследников де Балагера. Для него важно, чтобы Союз Святого Пия V крепко стоял на ногах, иначе не избежать неприятностей вроде тех, какие доставил ему Кальфо.
И, наконец, была у него и еще одна радость. Папа, которому все труднее удавалось говорить внятно, доверил кардиналу произнести проповедь вместо него. Он воспользуется этим, чтобы перед телекамерами всего мира наметить в общих чертах свою программу управления.
Ибо настанет день, когда именно он поведет ладью Петра. Не направляя ее движение исподволь, как все последние годы, а открыто, на глазах у всех.
Машинально он поправил полу папской ризы, перекосившейся из-за дрожи, сотрясавшей тело верховного понтифика. А чтобы замаскировать этот несколько лакейский жест, улыбнулся нацеленной на них камере и приосанился. Его голубые глаза и седые волосы великолепно смотрятся на экране.
Церковь незыблема во веки веков.
Затерявшись среди толпы, молодой человек насмешливо наблюдал за роскошным церковным представлением. Кудрявая шевелюра парня блестела на солнце, а его куртка во вкусе поселян Абруцци не выделялась среди собравшихся здесь делегаций католиков с разных концов света. Фольклорная пестрота некоторых одеяний лишь еще больше оживляла картину, тут и там расцвечивая площадь Святого Петра яркими сочными мазками.
К груди он крепко прижимал кожаную пухлую сумку, которую ему вчера передал встревоженный отец Нил. Жители селения, где обычно сразу замечают любого чужака, видели человека, который задавал вопросы, и определили, что он наверняка не горец и даже не итальянец: чересчур мускулист, а пузат недостаточно. У поселян глаз наметанный, их не проведешь. Дальше мгновенно поползли слухи, которые достигли ушей Беппо. Он рассказал об этом отцу Нилу, и тот почувствовал, как тревога вновь просыпается в нем.
Возможно ли, что его найдут? Даже здесь?
На следующий же день он поручил свою сумку Беппо. В ней хранились результаты многолетних исследований. Но главное, там была копия послания тринадцатого апостола, сделанная самим отцом Нилом. Конечно, по памяти, но он был уверен, что она верно передает содержание оригинала, который он держал в руках всего несколько коротких минут — тогда, в секретном фонде Ватикана.
Его жизнь значения не имела, она больше не принадлежала ему. Может так случиться, что он, подобно тринадцатому апостолу и многим другим после него, умрет из-за того, что предпочел Иисуса божественному Христу. Он знал это и был готов принять свою участь.
Одно лишь сожаление томило его, один грех против Духа, в котором он не мог исповедаться никакому священнику; ему все-таки очень хотелось увидеть подлинную могилу Иисуса там, в пустыне. Он сознавал, что это желание — всего лишь опасная иллюзия, но никак не мог погасить его в себе. Он мечтал обшарить огромное песчаное пространство, что простирается между Израилем и Красным морем, найти курган на заброшенном, никому не ведомом ессейском некрополе, добраться туда, куда тринадцатый апостол с такой страстной решимостью не хотел никого допускать. Даже думать об этом и то грешно — видно, здешняя тишина еще не до конца очистила его душу. Он будет бороться, шаг за шагом вытесняя из своего сознания эти мечты, отлучающие его от Иисуса, обретаемого в ежедневной молитве.
Кардинал Эмиль Катцингер завершил свою проповедь, встреченную громом аплодисментов, и скромно уселся на свое место по правую руку от папы.
Беппо, склонив голову, на миг благоговейно коснулся губами доверенной ему сумки.
Истина не стерта с лица земли. Она передана ему. Настанет день, и мир узнает о ней.
Прячась под колоннадой Бернини, Моктар Аль-Корайш не сводил с парня глаз. Он уже вычислил то селение. Неверный, должно быть, прячется где-то в его окрестностях, скорее всего на горе.
Достаточно будет лишь проследить за этим парнем из Абруцци с таким наивным взглядом.
Он приведет его к добыче.
Моктар усмехнулся, этот Нил мог улизнуть от людей из Ватикана, но от него ему не уйти. От Пророка не скроешься, благословенно имя его.
Покидая приют отшельника, я не мог не задать еще один вопрос:
— Отец Нил, разве вы не боитесь того, кто ищет вас?
Он надолго задумался, потом ответил:
— Этот человек не из евреев. С тех пор как был разрушен храм, их надломило глубокое отчаяние: пророчество не сбылось, мессия не пришел. Но Бог остается для них живой реальностью. В то время как мусульмане не знают о Боге ничего, кроме того, что он един, превосходит все сущее своим величием, что он их судия. Им не ведома близость к Богу, которую испытывали пророки Израиля. Перед лицом Судии, безмерно великого, но и бесконечно далекого, отчаяние, по сути своей, то же, что у евреев, у мусульман обернулось непреодолимым страхом. Некоторые из них испытывают неутолимую потребность в насилии, чтобы изгнать ужас пустоты, которой их Бог не может заполнить. Я уверен, это мусульманин.
Помолчав, он с улыбкой продолжил:
— Близость к Богу, который есть любовь, полностью уничтожает страх. Может быть, этот человек и вправду крадется за мной по пятам? Он хочет увлечь меня в пустоту своего небытия, но ему не прогнать тревогу, что тайно гложет его.
Он взял меня за руки:
— Стремитесь познать Иисуса, это путь к тому, чтобы стать новым тринадцатым апостолом. Наследие этого человека всегда остается открытым. Вы причаститесь к нему?
С тех пор в своей родной Пикардии, краю лесов, тучных земель и молчаливых людей, я часто вспоминаю эти последние слова отца Нила.
И когда их эхо отзывается в душе, меня одолевает тоска о пустыне.