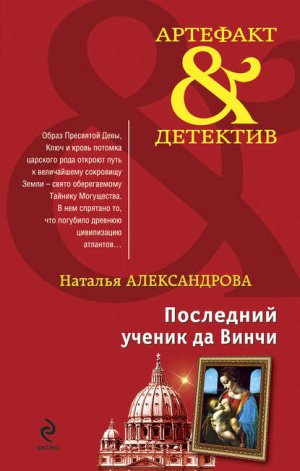
Высокий, необычайно худой человек поднимался по Иорданской лестнице Эрмитажа. Он не обращал внимания на блистающую позолотой лепнину стен, на белизну мраморных скульптур, на величественные гранитные колонны и стройные пилястры, на парящие высоко над головой, среди пышных облаков живописного плафона, фигуры античных богов. Незнакомца не трогала и не волновала вся эта бьющая в глаза роскошь. На лице его читалась одна страсть, одна мысль, одно непреодолимое волнение. Глаза его бесцельно скользили по окружающим людям, не замечая их, и только когда ему случалось столкнуться с кем-то, нечаянно дотронуться до кого-то рукой или плечом, в них пробегало мимолетное отвращение. Надо сказать, что глаза мужчины были разного цвета – один карий, точнее – густого и глубокого янтарного оттенка, другой зеленый, как морская вода в полдень. Впрочем, лицо его казалось скорее некрасивым, даже неприятным. Слишком узкое и худое, оно напоминало профиль на стертой от времени старинной монете.
Стремительно поднявшись по боковым маршам лестницы, мужчина свернул налево и через просторный Фельдмаршальский зал прошел в полутемный коридор, украшенный ткаными коврами-шпалерами. В несколько огромных шагов миновав этот коридор и снова свернув налево, высокий мужчина оказался в Павильонном зале. Миновав стройные ряды белых мраморных колонн, поддерживающих легкую галерею, равнодушно взглянув на «фонтаны слез» и пестрые мозаики пола, он пересек площадку Советской лестницы и вступил в здание Старого Эрмитажа. Не отвлекаясь на висящие по стенам картины, он переходил из комнаты в комнату, пока не оказался в завершающем анфиладу высоком и просторном зале.
Лицо посетителя переменилось. Словно короткая судорога прошла по нему. Казалось, он увидел что-то страшное, что-то ненавистное, что-то необычайное. Раздвинув толпящихся людей, он приблизился к щиту, на котором была укреплена единственная интересовавшая его картина. Сухощавый англичанин, которого странный посетитель задел плечом, что-то недовольно пробормотал, но тот и не подумал извиниться. Оператор с телевизионной камерой, сосредоточенно снимавший посетителей зала, навел объектив на незнакомца. Он же впился в картину своими разными глазами, прожигая ее взором, будто сам намеревался войти в нее, стать ее частью, сделаться крошечной деталью фона, легким облачком, проплывающим в синем проеме одного из полукруглых окон. Англичанин недоуменно пожал плечами и отошел.
Высокий худой мужчина с разными глазами застыл, как будто врос в паркетный пол зала. Посетители музея подходили и отходили, смотрели на картину, обменивались впечатлениями. Только он молчал и не шевелился. Когда прозвенел звонок, предупреждающий о скором закрытии музея, он даже не шелохнулся.
Зал постепенно пустел.
Служительница взглянула на часы и поднялась со своего стула.
Она подошла к застывшей напротив картины неподвижной фигуре, негромко кашлянула и проговорила:
– Музей закрывается.
Странный человек словно проснулся от глубокого, нездорового сна и, повернувшись к служительнице, уставился на нее своими разными глазами. И глаза эти неожиданно и удивительно изменились, став прозрачными и бесцветными, как талая вода. И такими же холодными.
Служительница, столкнувшись с этим прозрачным ледяным взглядом, побледнела и попятилась. Ей показалось, что ее сердце сковало январским холодом. Одними губами, не сводя глаз со странного посетителя, она проговорила:
– Музей закрывается.
Ничего не ответив, странный посетитель развернулся и быстрыми шагами покинул зал.
– А ты чего ждешь, Михаил? – взяв себя в руки, служительница обратилась к оператору. – Музей закрывается, все разошлись.
– Сейчас-сейчас, – полный молодой человек последний раз навел объектив на картину и зачехлил камеру. – Все равно освещение уже не то, пора закругляться, – с этими словами он, неуклюже переваливаясь, зашагал к выходу.
– Михаил, ты не забыл, что завтра у тебя занят весь день? – Маша говорила, прижимая мобильник подбородком, в то же время пытаясь объехать еле ползущий впереди «Фольксваген». – Ты обещал поснимать Новую Голландию для моей передачи…
– Да-да, – отозвался приятель таким тоном, будто его мысли занимало нечто совсем другое.
– Эй! – окликнула его Маша. – Ливанский, ты здесь? Я тебе что, не вовремя звоню? У тебя там что – дама сердца?
– Единственная моя дама сердца – это ты! Просто, Машка, я тут такое снял…
– Какое – такое? Высадку инопланетян?
– Я тебе покажу… то есть снимал-то я обычный материал, но сейчас стал его просматривать, и нашел…
Машу подрезал какой-то наглый «Опель», она выругалась, вывернула руль и сквозь зубы проговорила:
– Ливанский, я перезвоню тебе позже!
Александр Николаевич Лютостанский больше тридцати лет работал в Эрмитаже и уже пятнадцать лет являлся главным хранителем отдела итальянского искусства. И за все это время ни разу не нарушил собственного неписаного правила. Каждое утро он приезжал за полчаса до открытия и обходил свои сокровища. Прежде чем буйные толпы туристов заполнят залы, прежде чем в них зазвучат голоса на двунадесяти языках, он хотел один на один встретиться с каждой картиной, поздороваться с ней, как с близким человеком.
Александр Николаевич с достоинством поклонился невозмутимой мадонне Симоне Мартини, улыбнулся, как добрым старым знакомым, святым на двух маленьких нарядных картинах Бартолемео Капорали, дружески кивнул святому Доминику работы Боттичелли. Но самая главная встреча ждала его впереди. Хотя он видел эту картину каждый день, но до сих пор волновался перед встречей с ней, как юноша перед первым свиданием.
Толкнув высокие двери с бронзовым орнаментом, Александр Николаевич пересек просторный светлый зал… и замер, как громом пораженный.
Ничего более чудовищного он не мог себе представить. Такое не могло привидеться почтенному хранителю даже в ночном кошмаре.
Картина была на своем месте. По-прежнему голубело за полукруглыми окнами полуденное итальянское небо, по-прежнему пробегали по нему невесомые облака и темнели вершины невысоких холмов. Нежное лицо мадонны, озаренное мягким, глубоким светом, как всегда, было любовно склонено к младенцу.
К младенцу?
То, что покоилось на руках Мадонны, не поддавалось описанию. Это было слишком страшно, чтобы быть правдой. Слишком страшно, чтобы этому нашлось место в нашем мире. Александр Николаевич словно заглянул в ад.
Он закричал и попятился.
Закрыв глаза руками, медленно сосчитал до десяти, пытаясь успокоиться, взять себя в руки. Этого не может быть, просто не может быть… наверное, ему почудилось то, что держала на своих руках мадонна. Наверное, он болен… или переутомлен… или это просто странная игра света…
Хранитель отвел ладони от лица, осторожно, пугливо открыл глаза…
Ничего не изменилось. Перед ним было все то же адское видение.
За спиной хранителя послышались торопливые шаги.
– Кто-то кричал? – озабоченно спросила старая служительница. – Вам плохо, Александр Николаевич?
– По… посмотрите, Вера Львовна, – хранитель вытянул руку в направлении картины, – кажется, я схожу с ума…
Старушка надела очки, приблизилась и посмотрела на картину.
В следующую секунду она беззвучно упала в обморок.
Александр Николаевич и сам испытывал сильнейшее желание упасть в обморок. Это на какое-то время заслонило бы его от кошмара. Но он не мог себе позволить такой безответственности. Он должен был принимать решение, и делать это следовало очень быстро. Ведь совсем скоро музей откроется, сюда хлынут посетители и увидят это… такого хранитель никак не мог допустить.
В первую очередь он достал из связки нужный ключ и запер высокие резные двери. Затем похлопал бесчувственную служительницу по щекам, а когда та зашевелилась и застонала, встал так, чтобы загородить от нее картину.
– Что… что случилось? – спросила женщина слабым, дрожащим голосом.
– Вам стало плохо, – проговорил хранитель с нажимом. – Поезжайте домой, Вера Львовна, полежите. Вам засчитают сегодняшнее дежурство. Только очень вас прошу – ни с кем не обсуждайте то, что вам… привиделось.
Он помог женщине подняться и проводил ее до второй двери зала, при этом стараясь держаться так, чтобы закрыть от нее стенд с картиной.
– И по дороге зайдите к Евгению Ивановичу, попросите, чтобы он пришел сюда.
Евгений Иванович Легов являлся начальником службы безопасности музея. Именно о нем Лютостанский подумал в первую же минуту, когда прошло потрясение от увиденного. Конечно, никакой милиции. Только собственными силами можно разбираться в происшествии. Милиция сразу же распустит слухи о сенсационном событии, набегут журналисты, шум поднимется на весь мир… а отвечать за все придется ему, главному хранителю!
Впрочем, отвечать ему придется в любом случае.
Ведь это едва ли не главное сокровище Эрмитажа, одно из десяти сохранившихся во всем мире полотен Леонардо да Винчи, знаменитая Мадонна Литта! И это сокровище находилось в его отделе, значит – он отвечает за все с ним происходящее.
– Что у вас произошло? – вместо приветствия раздраженно спросил хранителя невысокий плотный человечек с круглой лысой головой, жизнерадостным румянцем на круглых щеках и маленькими детскими ручками.
Лютостанский не обиделся. Не в его положении обижаться. Он молча подвел Легова к стенду с картиной и показал на нее.
– Что… – начал Евгений Иванович, по профессиональной привычке осмотрев в первую очередь крепления стенда и стекло и увидев, что они в порядке. Но затем он перевел взгляд на картину, и румянец сбежал с его лица.
– Что это? – тихо спросил он, не сводя взгляда с картины.
– Если бы я знал… – очень тихо ответил ему Лютостанский.
Он тоже пристально смотрел на холст, и с каждой секундой в его душе крепло убеждение: перед ним был подлинник. Конечно, нужно вынуть картину из стенда, тщательно исследовать ее в лабораторных условиях, но он своим безошибочным чутьем профессионала, специалиста, всю жизнь отдавшего изучению и сохранению старинной живописи, чувствовал, что на стенде – не копия, не жалкая подделка, а подлинник, настоящее произведение искусства. Больше того, он мог поклясться, что это – творение великого Леонардо.
– Если бы я знал… – повторил он почти беззвучно.
Безобидная внешность Евгения Ивановича Легова не могла обмануть тех, кто его хорошо знал. Это был настоящий профессионал, мастер своего дела, жесткий и решительный. Полковник ФСБ, он и на новой работе не утратил связей с этой организацией, что очень часто помогало ему в сложных и щекотливых ситуациях. Впрочем, не только ему, но и руководству Эрмитажа.
Через десять минут в зале Леонардо работали трое наиболее доверенных специалистов. Они проверяли контуры сигнализации, искали отпечатки пальцев на стенде и на стекле. И вся эта работа оказалась безрезультатной. Казалось, что в зале побывал призрак.
Закончив осмотр стенда, Легов открыл его и достал картину.
Лютостанский, до этой минуты молча стоявший в стороне, быстро подошел к Евгению Ивановичу и протянул руки:
– Отдайте это мне.
– Это вещественное доказательство, – сухо проговорил Легов.
– Это картина, – твердо ответил хранитель. – Мы обследуем ее в своей лаборатории и сообщим вам все, что удастся выяснить.
– Наша лаборатория лучше технически оснащена! – попробовал возразить Евгений Иванович.
– Зато у нас – специалисты более высокого класса.
Хотя Легов мог настоять на своем, воспользоваться правами, которые давала ему должность, однако он внимательно посмотрел в глаза хранителя и отдал ему картину.
Лютостанский бережно взял ее в руки и почувствовал, что первое впечатление не обмануло его. Тот же холст, те же краски, тот же неповторимый мазок… это был подлинник. А самое главное – прикоснувшись к картине, Александр Николаевич почувствовал знакомое покалывание в кончиках пальцев. Такое он испытывал, только прикасаясь к подлинным шедеврам.
– Слушай, легче второго пришествия дождаться, чем тебя! – Маша раздраженно выглядывала из машины. – Договаривались же на десять! А сейчас уже почти одиннадцать!
– Маня, ты вьешь из меня веревки! – картинно вздохнул Михаил. – Если бы кто-нибудь раньше, до знакомства с тобой, сказал мне, что найдется такая женщина, которая сумеет вытащить меня из постели раньше двух часов дня, я бы плюнул ему в лицо! Но вот, ты есть… Только ради твоих прекрасных зеленых глаз я встал сегодня в такую рань…
Маша хотела обругать его, но поглядела на забавную Мишкину фигуру и рассмеялась. Мишка, старинный приятель, удивительно походил на Винни-Пуха. Круглая голова без шеи покоилась прямо на плечах, при ходьбе Мишка пытался горделиво выпятить грудь, плавно переходящую во внушительное брюшко. Все это держалось на коротких ножках. Джинсы у Мишки вечно норовили сползти ниже приличий, и он поддерживал их голубыми подтяжками. Вдобавок сегодня по случаю жаркой погоды на нем была панама в наивных голубых цветочках, что довершало сходство с плюшевым медведем.
– Куда едем? – Мишка взгромоздился на заднее сиденье машины и снял панаму. – Чего снимать будем?
– Новую Голландию, – бросила Маша, внимательно глядя в зеркало заднего вида.
– Ну, Маня, ну ты меня просто удивляешь… – огорчился Мишка, – ну что ты еще надумала? Да про Новую Голландию только ленивый репортажа не сделал! Особенно после пожара!
Новая Голландия – остров в историческом центре города, омываемый рекой Мойкой и двумя каналами – Крюковым и Адмиралтейским. По преданиям, этот остров стал любимым местом отдыха царя Петра Первого. Позже остров отдали Адмиралтейству. Там устроили склады корабельного леса, а потом – разных военно-морских принадлежностей. Со временем склады стали не нужны, а поскольку подобраться к острову можно было лишь водным путем, то остров понемногу приходил в запустение. Но, будучи подвластным военному ведомству, по-прежнему тщательно охранялся. До тех пор, пока городская администрация не решила, что грех пропадать такому красивому уголку в центре и вежливо не попросила оттуда военных. Те уступили с большой неохотой – никто не любит отдавать даром то, что принадлежит тебе очень давно. Даже если это что-то тебе совершенно не нужно. Тем не менее, повинуясь приказу свыше, стали освобождать склады и вывозить имущество, а что не вывозилось, то сжигали. Минувшей зимой там вспыхнул сильный пожар. Наверное, кто-то нарочно поджег, а скорее всего случайный человек бросил окурок, а военные охранять вверенный объект уже перестали.
Все это Маша прекрасно знала, и Мишка, конечно, прав, потому что писали в свое время о Новой Голландии много, и снимали тоже.
– У меня совершенно новая идея! – заявила Маша. – Так что поторапливайся, а то начнешь потом ныть, что освещение не то…
– Просто не женщина, а генератор идей, – ворчал Мишка, когда они остановились на набережной Мойки.
Пожар не тронул великолепных огромных ворот из темно-красного старого кирпича. Пока Михаил устанавливал камеру, Маша отошла в сторону и закурила. Не нужно лезть к Мишке с неквалифицированными советами, он отличный мастер своего дела, это все признают.
– Гонорар беру только натурой! – заявил Мишка, собирая свою аппаратуру.
Это значило, что его непременно нужно накормить обедом. Они нашли кафе неподалеку, где стояли столики прямо на улице и можно было видеть реку.
– Так что ты вчера откопал там, в Эрмитаже? – вспомнила Маша за едой.
Мишка в это время в упоении оглядывал огромную свиную отбивную на тарелке, держа в руках стакан с пивом.
– Да, одна удивительная вещь! – откликнулся он. – Но я тебе не скажу, чтобы не портить впечатление. Я тебе один кадр по почте послал, вечерком мне позвони, хочу узнать, что ты об этом думаешь… может быть, у тебя возникнет очередная гениальная идея…
Маша вспомнила, что у нее сломан компьютер и она не получает сейчас электронную почту, но предпочла промолчать, чтобы Мишка не ругался.
Мишка настроился посидеть в кафе со вкусом, у нее же нашлись неотложные дела, поэтому они мило распростились, договорившись созвониться.
Мобильный, как всегда, истошно завизжал на трудном перекрестке.
– Машка! – орал ее непосредственный начальник Виталий Борисович. – Ты где находишься? Немедленно езжай в Эрмитаж, у них там что-то случилось, зал с мадоннами Леонардо закрыт! Вроде говорят – трубы лопнули!
– Ну и что? – по инерции спросила Маша.
– Как это – что? – удивился начальник. – Наша передача как называется? «Новости культуры». Шутка ли сказать – две мадонны самого Леонардо! А вдруг мировые шедевры повреждены? Езжай и не спорь, оттуда мне позвонишь!
– Скажите, какие новости, – ворчала Маша вполголоса, стараясь вписаться между задрипанной «Газелью» и синей «Тойотой», – подумаешь, культурное событие – в Эрмитаже трубы лопнули! Да если каждую аварию в передачах освещать, то мы все в сантехников превратимся! Или в электриков…
Виталий Борисович, конечно, перестраховщик. Но что делать, с начальством спорить – себе дороже, это все знают…
Водитель «Газели» крикнул вслед что-то обидное, но Маша сделала вид, что не поняла. Настроение у нее было плохое. Снова начальник использует ее для всяких мелких заданий, как будто она девочка на побегушках. Обещал же дать ей свой собственный раздел в передаче. У Маши была такая замечательная идея – сделать нечто вроде трехминутного клипа либо на стихи, либо на классическую музыку… В качестве иллюстрации снимать город, его улицы, дворцы, музеи, фонтаны, решетки… Иногда людей, только не очень много. Хорошо, что не рассказала об этом Мишке. Он-то бы конечно понял, но вот, судя по всему, работа опять срывается. Вечно начальник затыкает ею все дыры!
Маша оставила машину в переулке и перебежала Дворцовую площадь. Через весь двор тянулся внушительный хвост из посетителей. Еще бы – лето, самое время для туристов. Жители города редко ходят в Эрмитаж, как, впрочем, и французы – в Лувр, разве что сопровождают приехавших родственников и знакомых.
Маша вихрем промчалась мимо очереди, смешалась с толпой входящих и показала охраннику свое удостоверение. Парень окинул притворно-равнодушным взглядом стройную молодую женщину в белых брюках и зеленой маечке, под цвет глаз. Маша улыбнулась ему открыто и дружелюбно. Взгляд охранника потеплел, но Маша уже проскочила магнитный контур и схватила свою сумочку. Радуясь, что сегодня на ней босоножки на платформе, а не на высоких цокающих каблуках, Маша устремилась к главной лестнице. Мама рассказывала, что когда-то давно служительницы коршунами набрасывались на женщин в туфлях с каблуками-«гвоздиками» и заставляли надевать специальные войлочные тапочки, чтобы не портить бесценный паркет. Потом этот обычай упразднили, но до сих пор еще служительницы, кто постарше, смотрели волком, услышав стук каблуков по паркету.
Поднявшись на второй этаж, туристы шли прямо, разглядывая помпезный Фельдмаршальский зал и громко удивляясь. Маша пролетела его, не поворачивая головы, свернула в темную Шпалерную галерею, где действительно все стены были увешаны ткаными шпалерами, прошла Павильонный зал, где толпа осаждала часы «Павлин». В детстве, когда мама водила в Эрмитаж, это был ее любимый зал, хотя часы тогда не работали. Все равно казалось ужасно интересно рассматривать механического павлина, и сову, и грибочки…
Сейчас Маша даже не взглянула в ту сторону, она торопилась. Миновав лестницу, она вошла в первый из залов итальянского искусства эпохи Возрождения. Все выглядело как обычно, только посетителей больше, чем в другие дни. Маша немного замедлила шаг, чтобы не привлекать к себе внимание, и двигалась теперь в общем потоке. Идти было неудобно, потому что навстречу стремился почти такой же поток. Вот наконец последний зал, Маша еще с порога увидела, что двери в зал Леонардо закрыты. Люди растерянно топтались рядом, некоторые возмущенно гудели. У закрытой двери стояла монументальная дама, немолодая, но крепкая с виду и вещала звучным контральто:
– Граждане! Зал Леонардо да Винчи закрыт по техническим причинам! Просьба не скапливаться у дверей!
– А когда откроют? – раздавались выкрики.
– Сегодня точно не откроют! – отрубила дама.
– Да что там случилось-то?
Маша, которая стояла близко, увидела, что у служительницы в глазах мелькнула некоторая растерянность.
– Сказано – по техническим причинам! – она решительно тряхнула завитыми волосами. – Мало ли что может быть!
– Безобразие! – завела мамаша с толстым ребенком непонятного пола. – Такие деньги берут за вход…
«Так-так, – подумала Маша, незаметно пятясь, чтобы выбраться из толпы, – тетя у входа сама не знает, что там стряслось. Если бы трубы лопнули, ей бы уж сказали…»
Она вернулась назад, свернула в боковые залы и прошла параллельно, мимо залов Джорджоне и Тициана. Вот она, кающаяся Мария Магдалина. Глаза подняты к небу, руки прижаты к сердцу, губы шевелятся в молитве.
«Не верю, – подумала Маша мимоходом, – то есть настоящая Мария Магдалина, может, и раскаялась, да только натурщица Тициана явно думает не о том, и губы не молитву шепчут… Впрочем, сейчас меня волнует не это…»
Она пробежала залы, боковой вход в зал Леонардо оказался тоже закрыт. Но он, кажется, всегда заперт. Маша, не останавливаясь, прошла дальше мимо лестницы, повернула налево, потом направо. Вот он, зал Рафаэля, который с другой стороны граничит с залом Леонардо. Этот зал открыт, только посетителей поменьше – просто не все знают, что можно попасть сюда с другой стороны. Рафаэль в наличии – вот она, Мадонна, вот Святое семейство. У запертых дверей, ведущих в зал Леонардо, никто не стоял, просто висела табличка, в которой администрация музея просила извинения у уважаемых посетителей из-за того, что зал закрыт опять-таки по техническим причинам.
«И что я скажу Виталию Борисычу? – приуныла Маша. – Что везде поцеловала замок и ушла несолоно хлебавши? Самое интересное – что он скажет мне в ответ. Хотя я это и так знаю».
Начальник вечно твердит им, что для репортера нет ничего невозможного и не существует никаких преград.
«Что значит – люди не хотят говорить? А ты спроси получше, найди верный подход, где-то подслушай, где-то подсмотри. Нам деньги платят за то, что мы даем людям информацию!»
Маша в задумчивости вернулась к боковой двери, той, которая всегда закрыта. Посетителей в этом зале было мало, служительница тихо сидела в углу и, кажется, дремала с открытыми глазами. Маша поболталась немного у двери, и ее ожидание оказалось вознаграждено. Дверь неожиданно открылась, оттуда вышла группа людей.
Первым, настороженно озираясь, выбрался небольшого роста человечек с круглой лысой головой и маленькими детскими ручками. Выглядел он совершенно безобидно, пока Маша не столкнулась с ним взглядом. Эти глаза, несомненно, принадлежали человеку жесткому и твердо знающему, чего он хочет. Дальше из зала вывалился высокий плечистый парень в форме охранника. В руке он держал переговорное устройство, а карман его оттопыривался самым недвусмысленным образом. В нем явно просматривался пистолет. Парень вполголоса бубнил что-то в переговорник. Следом из двери вышли еще два охранника, которые несли плоский деревянный ящик. Ящик был небольшой и, судя по всему, не тяжелый, но охранники несли его так бережно, что ребенок сообразил бы: там находится картина.
Маша мысленно сделала стойку, как охотничья собака.
Самым последним протиснулся немолодой человек с аккуратной профессорской бородкой. Он хотел запереть двери, но тот плотный и маленький, что выскочил первым, вырвал у него ключи и сделал это сам. Маша успела заглянуть через его плечо в зал и увидела, что, в общем-то, там ничего не изменилось. Нет никакой воды на полу, нет оголенных проводов… Картину явно эвакуировали. Но почему одну? Да потому, что именно с ней, с одной из мадонн, что-то случилось, поняла Маша. И трубы тут ни при чем.
Процессия двинулась налево, через зал, где выставлено венецианское стекло. Все двигались в полном молчании, только первый охранник все еще напряженно говорил что-то в переговорник. Маша снова столкнулась взглядом с тем полноватым и лысым, кто явно был в процессии главным. Он так зыркнул, что ей захотелось немедленно очутиться где-нибудь в другом месте. Однако она не могла себе такого позволить. В Эрмитаже творилось что-то из ряда вон выходящее, это Маша теперь знала точно. Чувствовала своим репортерским носом. Вынесли одну картину, вторая осталась в зале. Вот интересно, с которой из двух мадонн приключилась беда? Мадонна Бенуа, та, где молодая женщина держит на коленях крупного лысого младенца и играет с ним, улыбаясь? Маше с детства больше нравилась другая мадонна – та, что кормит сына грудью. Кудрявый золотоволосый младенец, чуть отвернувшись от матери, серьезно смотрит с картины на людей. Ребенок на этой картине очаровательный, и краски такие яркие, сочные…
Краем глаза наблюдая за процессией, Маша заметила, что она пересекла фойе и скрылась за дверью с надписью «Служебное помещение».
– Александр Николаевич! – окликнула озабоченная служительница пожилого мужчину с бородкой клинышком, который шел последним. – А как же…
– Потом, все потом! – отмахнулся он, причем Маша заметила, что лицо его было совершенно опустошенным, опрокинутым, как будто с его близкими случилось несчастье, да такое страшное и неожиданное, что человек и осознать-то его толком не может, даже к мысли самой никак не привыкнет.
– А кто это – Александр Николаевич? – вполголоса спросила Маша служительницу.
– Лютостанский, хранитель отдела итальянского искусства, – ответила та, находясь в прострации.
– А вот этот – такой полноватый дядечка с лысиной? – не отставала Маша.
– А что это вы все спрашиваете? – очнулась от тяжких дум музейная дама и поглядела неприветливо.
– А почему зал закрыт? Это ведь картину сейчас понесли? Которую? – напирала Маша.
– И сама не знаю, – пригорюнилась старушка, и Маша поняла, что ничего она больше не узнает. Служебная дверь, как она и думала, оказалась заперта.
«Ой-ой-ой, – подумала Маша, – не повторился ли, не дай Бог, случай с «Данаей» Рембрандта? Тогда понятно, отчего этот хранитель выглядит так, как будто у него внезапно умерли все близкие родственники, и любимая собака в придачу…»
Это случилось в 1985 году. Маша была тогда первоклассницей, так что хорошо помнила, как всколыхнулся весь город после ужасной истории с картиной. Какой-то ненормальный, кажется, литовец по фамилии Маголис, вылил на шедевр Рембрандта едва ли не литр соляной кислоты. Думали, что картина погибнет, но реставраторам удалось все же ее спасти. Реставрация продолжалась почти двадцать лет, и только совсем недавно возрожденную «Данаю» вернули в Эрмитаж. Маголиса долгое время держали в сумасшедшем доме. Рассказывали, что многим неуравновешенным типам не дает покоя комплекс Герострата. Так, в 1913 году какой-то псих изрезал ножом картину Репина «Иван Грозный убивает своего сына», и реставраторы до сих пор пытаются устранить повреждения.
Однако такого не может быть, рассудила Маша. «Даная» – большая картина, доступ к ней был открыт. А мадонны Леонардо закрыты прочным стеклом.
В расстроенных чувствах Маша спустилась на первый этаж. Похоже, что сегодня у нее неудачный день. Тут ее обогнали две музейные дамы, одну Машу узнала сразу. Это была та самая, что стояла у входа в зал Леонардо и отгоняла посетителей.
– Вы только подумайте! – возмущалась дама звучным контральто. – Вы только послушайте! У меня законный выходной, и вдруг звонит утром сам Лютостанский и говорит, мол, Аглая Степановна, срочно выходите на работу! На вас вся надежда! Я: что случилось, что за пожар? Не пожар, говорит, а хуже, пожар потушить можно, а с этим уж и не знаю, что делать. Я говорю – сегодня же Птицына дежурит в зале Леонардо. А он мне – Вере, говорит, Львовне внезапно стало плохо, я ее отпустил, так что будьте любезны… Пользуется тем, что я близко живу! И тем, что характер у меня безотказный!
– Ужас! – поддакнула сослуживица.
Дамы скрылись за дверью туалета, а Маша вышла на улицу и повернула на набережную. У нее созрел план.
Стало быть, служительнице Вере Львовне Птицыной внезапно стало плохо. Отчего? Да оттого, что она увидела, что случилось с одной из картин. Если бы не видела, не заболела бы. Не зря говорят, что все болезни от стресса. Стало быть, у нее можно узнать, что же там случилось. Нужно только выяснить адрес старушки. Но с этим проблем не будет. Тут Маша в своей стихии. Недаром даже Виталий Борисыч признает, что в таких случаях с Машей трудно тягаться.
Маша быстро добежала до служебного входа. Там висела большая доска с объявлениями. Государственному Эрмитажу, как и всякой большой конторе, срочно требовались уборщицы, ночные дежурные, электрики, слесарь-сантехник и дворник на неполный рабочий день. Ниже было написано, чтобы желающие обращались в отдел кадров по такому-то телефону.
Маша аккуратно списала номер и побежала к своей машине. Там она набрала номер отдела кадров и представилась работником налоговой инспекции. Ей срочно требовались координаты сотрудницы Птицыной В. Л., потому что у нее в налоговой декларации за прошедший год обнаружился непорядок. Не прошло и пяти минут, как ей дали адрес. Вера Львовна жила рядом, на Миллионной. Маша решила не звонить, а нагрянуть прямо домой. Вряд ли Вера Львовна проговорится по телефону, а при встрече, вполне возможно, Маше удастся из нее кое-что вытянуть.
Объехав площадь стороной, она остановила машину на Миллионной. Нужный дом находился почти напротив знаменитых атлантов. Полюбовавшись на мускулистых гигантов из черного камня, поддерживающих своды Нового Эрмитажа, Маша свернула в подворотню. Красота тут же кончилась. Перед Машей был обычный, до предела запущенный петербургский двор. Она поднялась по выщербленным ступеням и нажала кнопку одного из звонков нужной квартиры. Разумеется, Вера Львовна жила в коммуналке. Открыл Маше мальчик лет десяти и махнул рукой куда-то влево – дома, дескать, стучите громче.
Маша постучала и осторожно повернула ручку, поскольку никто не отозвался. Комната оказалась большая и светлая, с высокими потолками и красивым полукруглым окном. На широком подоконнике теснились комнатные цветы. В остальном обстановка была бедноватая. Но чисто и нет особого хлама.
– Вера Львовна! – окликнула Маша, не найдя хозяйки в обозримом пространстве. – Вы дома?
В ответ раздался приглушенный стон. Маша огляделась и обнаружила в углу старую шелковую ширму. Когда-то на ней были вышиты райские птицы и диковинные цветы, теперь же все просматривалось с трудом. За ширмой стояла кровать с никелированными шарами. На кровати прямо поверх кружевного покрывала лежала маленькая старушка. Пахло лекарствами.
Почувствовав рядом чужого человека, старушка пошевелилась и открыла воспаленные глаза.
– Вера Львовна, вы меня слышите? – наклонилась к ней Маша. – Что с вами случилось? Вам плохо?
Впрочем, и так было ясно, что старухе плохо. Волосы ее разметались по подушке, щеки пылали.
– Монстр… – бормотала она. – Ужасный монстр… чудовище…
«Бредит», – поняла Маша.
– Вера Львовна, очнитесь! – Она осмелилась потрясти старуху за плечо, потом обтерла покрытое испариной лицо тут же валявшимся полотенцем. Старуха шире открыла глаза, в них появилось осознанное выражение.
– Там пузырек… – прошелестела она, – тридцать капель…
Маша нашла на тумбочке пузырек и накапала лекарство. Вера Львовна выпила и немного пришла в себя.
– Вы кто? – спросила она вполне нормальным голосом.
– Я из собеса, – брякнула Маша, чувствуя себя последней скотиной.
Никак не отреагировав на Машину ложь, старуха откинулась на подушки и прикрыла глаза.
– Что произошло сегодня утром в Эрмитаже? – едва слышно спросила Маша.
Она сильно трусила. Следовало вызывать старухе врача и срочно уносить ноги из квартиры. А то как бы соседи милицию не вызвали. А вдруг бабушка при смерти? Но какой-то чертик внутри Маши подсказывал, что сейчас ей повезет.
– Ужасно… – неожиданно проговорила старуха, не открывая глаз. – Что теперь будет? Неужели мадонна погибла?
– Какая мадонна? – не удержалась Маша. – Которая?
– Мадонна Литта… Чудовище… Монстр… – старуха снова впала в беспамятство.
В коридоре Маша встретила женщину с хозяйственной сумкой, как видно, та вернулась из магазина.
– Вы что тут делаете? – вытаращила глаза женщина.
– Что ж это такое, вы бы хоть изредка соседку проведывали, – строго сказала Маша, – человеку плохо, а вы и в ус не дуете! «Скорую» вызывать нужно!
Женщина охнула и опрометью бросилась в комнату Веры Львовны.
В машине Маша подвела итоги. С картиной случилось что-то ужасное, иначе Вера Львовна не впала бы в такое состояние. Очевидно, у нее психологический шок. Случилось это именно с Мадонной Литта, это ее так аккуратно выносили охранники. Куда же ее понесли? Очевидно, в лабораторию, к экспертам, чтобы исследовать там с помощью специальной аппаратуры.
Тут возможны два варианта: либо картину исследуют прямо в Эрмитаже, своими силами, либо повезут куда-нибудь. Но зоркие Машины глаза успели заметить, что возле картины вертелась только охрана музея, а не милиция. Милиции вообще не было в обозримом пространстве. И эта скользкая формулировка – «по техническим причинам». Не хотят выносить сор из избы, стараются справиться своими силами. Стало быть, и экспертов возьмут своих.
Маша еще не успела додумать до конца эту мысль, а рука уже сама нажимала кнопки мобильного телефона. Вот она, записная книжка.
Не так давно, прошлой осенью, в Манеже проходила выставка работ российских реставраторов. И кто-то из их отдела ее освещал. Угу, Светка Воробьева, она еще жаловалась, что пришлось несколько дней толкаться в Манеже и вникать в реставраторские нюансы. Зато репортаж получился отличный, Маша даже сейчас почувствовала легкий укол профессиональной зависти.
Светка ответила быстро и продиктовала Маше три фамилии самых известных в городе реставраторов – Старыгин, Половцев и Вейсберг. Все трое числились в Эрмитаже.
Однако все равно пришлось ехать в отдел за «Желтыми страницами», потом Маша долго висела на телефоне, пытаясь найти нужных людей. И, наконец, получила вполне исчерпывающие сведения, что Половцев Виктор Сергеевич находится в отпуске, Вейсберг Павел Фридрихович уже полгода в творческой командировке в Германии, в Дюссельдорфе, а Дмитрий Алексеевич Старыгин в принципе здесь, но подойти не может, потому что очень занят.
«Наверное, ему-то и поручили разобраться с картиной», – сообразила Маша.
А потом ее закрутила текучка, и Старыгина она так и не поймала.
– Завтра заедешь за мной в половине девятого.
Плотный, представительный мужчина захлопнул дверцу машины и шагнул к подъезду. Мотор «Мерседеса» тихо рыкнул, и машина скрылась за поворотом.
И в ту же секунду из глубокой тени возле подъезда показалась необыкновенно худая и высокая фигура.
Сердце бизнесмена тревожно забилось.
Неужели это именно то, чего он так боялся, в то же время легкомысленно думая, что уж с ним-то такое не произойдет? Неужели сейчас его убьют – по заказу конкурентов или просто из-за содержимого бумажника? Почему он не попросил шофера подождать, пока откроет дверь подъезда!
Рука сама потянулась к внутреннему карману, в котором лежал пистолет.
Но из темноты донесся холодный, безжизненный голос:
– Жизнь нашу создаем мы смертью других.
Бизнесмен вздрогнул и ответил:
– В мертвой вещи остается бессознательная жизнь.
Оказалось, это совсем не то, что он подумал. Впрочем, может быть, в глубине души он боялся этой встречи еще больше.
Он расстегнул манжет рубашки и закатал рукав, освободив запястье, на котором стала видна удивительная татуировка: ящерица с человеческими глазами, маленькое чудовище, уютно свернувшееся, как ребенок на руках матери.
И человек, вышедший из темноты, точно так же закатал рукав, обнажив точно такой же рисунок.
– Здравствуй, брат!
Двое людей соприкоснулись запястьями, так что чудовища на их коже на мгновение прижались друг к другу.
– Каждая часть хочет быть в своем целом!
Закончив этой ритуальной фразой церемонию, незнакомец понизил голос и проговорил:
– Мне нужен кров и новые документы.
– Нет проблем.
– Я не один.
Бизнесмен удивленно огляделся: никого больше поблизости не было. Тогда незнакомец вынул из-под полы темный сверток.
– Это именно то, что я думаю? – во рту бизнесмена стало сухо и горько от волнения.
– Да, это Образ.
Луна вышла из-за облаков, на мгновение осветив лицо, узкое и худое, как профиль на стертой от времени старинной монете.
Рано утром Машу осенило. Нужно ехать к этому реставратору домой, причем как можно раньше, пока он не ушел на работу. Там, в служебном кабинете, он ей ничего не скажет, а если огорошить его дома… Из базы данных она знала уже, что Дмитрий Алексеевич Старыгин живет один. И это очень хорошо, им никто не помешает.
Стоя перед шкафом, Маша ненадолго задумалась, что бы такое надеть. Короткую юбку нельзя – это может сразу же оттолкнуть старичка. То есть некоторые, конечно, как раз от этого балдеют, но этот Старыгин, скорее всего, не такой – серьезный человек, Светка Воробьева говорила: очень талантливый и востребованный реставратор.
Так, джинсы тоже несолидно. В конце концов, выглянув в окно, Маша остановилась на зеленом брючном костюме. Жакет имел весьма смелый вырез, так что пришлось замаскировать его кулоном.
Перед выходом Маша тронула губы неяркой помадой и сказала сама себе в зеркало:
– Я – самая умная и талантливая. Я сделаю множество интересных передач, стану знаменитой. Сейчас я встречусь со Старыгиным и вытащу из него всю информацию.
Обретя таким образом уверенность в себе, Маша поехала по указанному адресу.
Когда она позвонила в квартиру Старыгина, часы показывали восемь утра. Маша вообще была ранняя пташка.
– Кто здесь? – раздался из-за двери недовольный, заспанный голос.
– Откройте, Дмитрий Алексеевич! – проговорила Маша. – Я к вам из Эрмитажа…
– От кого? – буркнул голос.
– От Александра Николаевича Лютостанского! – не моргнув глазом, соврала Маша.
Недаром вчера выяснила фамилию хранителя у служительницы. Шеф Виталий Борисович учил их, что лишняя информация никогда не помешает. Вот и пригодилась!
Ее ложь сработала, засовы заскрежетали, дверь открылась. На пороге появился неопрятный пожилой человек в мешковатом свитере и растянутых на коленях спортивных штанах.
– Ну что еще такое! – простонал он, щурясь от света. – Я же сказал вашему Лютостанскому… Можно дать человеку выспаться?
– Вы так и будете держать меня на пороге? – Маша протиснулась мимо него в темную прихожую. – Вообще-то Лютостанский не мой, он скорее ваш… я – корреспондент канала «Твой город»…
– Ах, значит, корреспондент! – Мужчина мгновенно разъярился и двинулся на Машу с самым угрожающим видом. – А ну прочь из моего дома! Только корреспондентов мне не хватало! Врать еще, понимаешь, вздумала!
– Я не врала! – вскрикнула Маша, ловко увернувшись. – Мы друг друга не поняли! Я действительно была вчера в Эрмитаже, там мне дали ваш адрес!
– Шустрая какая! Снова все врешь! – возмущенно пропыхтел хозяин, безуспешно пытаясь поймать Машу и вытолкать ее из квартиры. – Эрмитаж не справочное бюро, адресов своих сотрудников не дает! А ну выметайся!
– Вы всегда так обращаетесь с женщинами? – Маша снова отскочила в сторону, ушиблась об какую-то скамейку и скривилась от боли. – Да уйду, уйду я! Старый зануда!
Последние слова она добавила шепотом, но хозяин квартиры их расслышал и возмущенно выкрикнул:
– А ты – юная интриганка! Судя по замашкам, далеко пойдешь! Ты что – сломала петровскую скамью?
С этими словами он щелкнул выключателем.
Прихожую залил свет нескольких бронзовых бра, и Маша замерла в удивлении. Помещение было заставлено старинными креслами, скамьями, резными шкафами, как склад антикварного салона. Из угла выглядывала бронзовая статуя необыкновенной красоты. По стенам висели картины и гравюры. Маша не слишком хорошо разбиралась в таких вещах, но все это производило впечатление подлинности и одновременно избыточности. Всего было слишком много, казалось, что в этом доме практически не осталось места для людей, даже для одного человека.
– Сейчас… уйду… – повторила Маша, справившись с растерянностью, и только тогда заметила, что хозяин дома застыл с каким-то странным выражением на лице. Кстати, при ярком свете она заметила, что он не так стар, как ей показалось в первый момент. Может быть, ему только чуть за сорок. Правда, в коротко остриженных волосах густо пробивалась седина, но она его не слишком портила.
– Ничего вашей скамейке не сделалось, – проговорила девушка, демонстративно потирая лодыжку.
– Откуда это у вас? – мужчина протянул к Маше руку. Она невольно попятилась.
– Что… о чем вы?
– Вот это. – Он догнал ее, мрачно сверкнув глазами, и по-хозяйски взял в руку кулон, висевший на цепочке.
– Что вы себе позволяете! – Маша вспыхнула и попыталась еще отступить, но натянувшаяся цепочка не пускала ее. – Что у вас за манеры – при первой встрече заглядывать женщине за вырез?
Однако тут же она поняла, что хозяин квартиры совершенно ее не слушает. И пожирает взглядом кулон, а вовсе не ее прелести.
– Давайте договоримся, – голос Дмитрия Алексеевича стал совершенно другим, из него пропало прежнее раздражение, вместо него теперь звучал неподдельный интерес, – я отвечу на ваши вопросы, а вы расскажете мне, откуда у вас пентагондодекаэдр… ведь вы о чем-то хотели меня расспросить? Не просто так притащились в несусветную рань и подняли меня с постели?
– Пента… что? – растерянно переспросила Маша.
– Вот эта штука называется пентагондодекаэдр, – мужчина все еще сжимал кулон в своей руке, и из-за этого Маша чувствовала себя, как собака на поводке.
– Ну что мы стоим в коридоре, – он наконец-то выпустил кулон, – пойдемте, выпьем чаю.
«Похоже, товарищ со странностями, – подумала Маша, – говорит, что с постели его подняла, а сам в свитере. И кто же с утра пораньше чай пьет?»
Она уже хотела вежливо отказаться и уйти – слишком уж странным был этот человек, но ее остановил инстинкт репортера. Она чувствовала запах сенсации и не могла свернуть, как охотничья собака не может сойти со свежего следа.
– Сюда, проходите сюда! – хозяин махнул ей в сторону открытой двери. – А я сейчас… вы чай какой любите?
– Чай? – Маша задумалась. – А какой у вас есть?
– Любой, – в голосе хозяина прозвучала гордость. – Зеленый, жасминовый и простой, черный – десятка полтора сортов, красный, белый, желтый…
– Ну, давайте черный с бергамотом!
Хозяин скрылся в глубине квартиры, лавируя между своими антикварными табуретками, а Маша вошла в комнату.
Здесь оказалось ничуть не свободнее, чем в прихожей. Все пространство было заполнено столиками, шкафчиками, креслами в разной степени разрушения, между ними стояли большие напольные вазы из китайского фарфора и какие-то предметы неизвестного назначения. С трудом найдя свободный диван относительно современного вида, застеленный пушистым оранжевым пледом, Маша попыталась сесть на него, но тут же вскочила, потому что плед под ней неожиданно шевельнулся и издал раздраженное шипение. В ужасе обернувшись, девушка увидела огромного рыжего кота, который открыл один глаз и смотрел на нее с явным неодобрением.
– Вы уже познакомились с Василием? – проговорил хозяин, появляясь в дверях с серебряным подносом. – Правда ведь, красавец? Один недостаток – очень линяет, поэтому на всем – рыжая шерсть. Ну, я и подобрал плед такого же оттенка…
Маша еще раз оглядела хозяина. Он успел переодеться в приличные брюки и домашнюю шелковую куртку и выглядел теперь вполне респектабельно. И почему это он сперва показался ей неопрятным стариком?
– С Василием мы познакомились, – ответила она кокетливо. – А вот с вами… то есть, конечно, я знаю, что вас зовут Дмитрий Алексеевич, а меня – Маша. Я репортер телеканала…
– Бог с ним, с вашим каналом, – прервал ее хозяин, выставляя на низкий инкрустированный столик две чашки тонкого розового фарфора, такой же чайник, вазочку с печеньем и темным сахаром. – Вы лучше расскажите, откуда у вас эта вещь.
– Почему вас так заинтересовал мой кулон? – проговорила Маша. – Мне подарил его дедушка, отец моего отца… я почти не помню его, родители давно развелись, и мы жили с мамой. Он приехал к нам совершенно неожиданно, мама тогда очень удивилась… мне было лет пять, но я это хорошо помню. Он подарил мне кулон и что-то такое сказал про четыре семерки… и про то, что эта вещь должна принести мне счастье. Я ничего не поняла и спрашивала потом у мамы, но она отмахнулась и ответила, что старик совершенно выжил из ума и лучше бы подарил что-нибудь нужное или хоть пару серебряных ложек, а не эту совершенно бесполезную вещь.
Маша отцепила кулон от цепочки и протянула его хозяину квартиры:
– Как вы это назвали?
Дмитрий Алексеевич бережно взял легкий светло-желтый шарик, составленный из двенадцати пятиугольников, некоторые из которых имели отверстия разной формы.
– Это – так называемый пентагондодекаэдр, самая загадочная вещь, попадавшая в руки археологов. Никто не знает, для чего он был предназначен. Их находили несколько раз в предгорьях Альп, но все известные – бронзовые, а ваш сделан из слоновой кости. Кто был ваш дедушка?
– Его фамилия была Магницкий, а больше я ничего не знаю… и не видела его с тех самых пор…
– Арсений Иванович Магницкий! – воскликнул мужчина. – Выдающийся специалист по античному искусству, таинственно погибший в восемьдесят втором году!
– В восемьдесят втором? – переспросила Маша. – Но как раз тогда он подарил мне эту вещь… а что значит – таинственно погибший? Что еще за тайны мадридского двора?
– Как-нибудь потом, – отмахнулся Дмитрий Алексеевич. – Почему вы не пьете чай?
– Бог с ним, с вашим чаем. – Маша поставила чашку на стол. – Вы обещали мне ответить на несколько вопросов.
– Какие вопросы? – Дмитрий Алексеевич принялся переставлять предметы на столике, пряча глаза от своей собеседницы. – Василий, ты слышал, чтобы я что-нибудь такое обещал?
Кот мурлыкнул, показывая всем своим видом, что он ничего подобного не слышал.
– Вот видите, Василий говорит, что не слышал…
– Прекратите! – Маша наклонилась вперед, пристально уставившись на реставратора. – И не вмешивайте сюда своего кота! У вас с ним явно имелся предварительный сговор! Вы обещали мне ответить – и будьте любезны держать слово!
– Ну что еще за вопросы?
– Что случилось с «Мадонной Литта»?
– Ничего не случилось, – Дмитрий Алексеевич снова спрятал глаза. – Кто вам сказал, что с ней что-то случилось? Висит себе в зале на радость толпам туристов…
– Вы не умеете врать, – Маша откинулась на спинку дивана и глубоко вздохнула, – и учиться этому вам уже поздно. Вас выдает ваше лицо.
Она сделала небольшую паузу и продолжила:
– Во-первых, со вчерашнего утра закрыт зал Леонардо.
– Трубы лопнули, – поспешно сообщил мужчина. – Вы же знаете, эти вечные проблемы с трубами…
– Ага, и по этому поводу туда согнали всю эрмитажную охрану, чуть ли не выставили у дверей часовых с автоматами!
– А что вы думаете? В зале находятся такие ценности…
– Я уже говорила – вы не умеете врать! Я видела, как картину унесли в служебное помещение…
– Ну да, ее готовят к выставке в Италии…
– Хватит юлить! Что с ней случилось? Что там за монстр?
– Монстр? – Старыгин побледнел. – Что вы об этом знаете? И откуда? Кто вам наболтал?
– Ага! – воскликнула Маша победно. – Попались! А ну выкладывайте, что там такое!
– Маша, клянусь вам – я не могу. С меня взяли подписку о неразглашении…
– Если вы ничего мне не расскажете, я буду вынуждена использовать грязные методы. Я ведь журналистка, а про нас чего только не болтают! У нас ведь нет ни чести, ни совести. Я расскажу в своей передаче совершенный бред со ссылкой на вас, а вы потом сколько угодно оправдывайтесь перед своим начальством…
– Маша, если бы вы знали… – тихо проговорил Дмитрий Алексеевич, сцепив руки. – Никакой бред не сравнится с тем… ладно, давайте договоримся так: вы будете молчать, по крайней мере пока, а я потом, позже, расскажу все вам, и только вам. Как там у вас называется – эксклюзивное интервью!
– Ну да, – недоверчиво покосилась на него Маша. – А как дойдет до дела, опять начнете юлить, призывать кота в свидетели…
– Я вам обещаю!
Маша хотела что-то возразить, но в это время тревожно зазвонил ее мобильный.
Звонила Светлана Воробьева.
– Машка! – проговорила она торопливым растерянным голосом. – Ты где сейчас?
– Да так… работаю…
– Приезжай скорее на студию!
– А что случилось?
– Мишку убили!
– Кого? – недоверчиво переспросила Маша. – Какого Мишку?
– Да Мишку же! Ливанского!
– Это что – такой прикол?
– О чем ты говоришь! Его убили, убили, ты понимаешь? Нам только сейчас сообщили, а я дежурю-ю… – Похоже, Светка ревела.
Маша побледнела и уставилась в стену перед собой.
Мишка Ливанский, старый друг, вместе с которым она сделала столько репортажей, выпила столько кофе и пива, болтливый, прожорливый, веселый Мишка… может быть, это его очередной розыгрыш? Но нет, на такое даже он не способен!
– Что случилось? – озабоченно спросил Старыгин. – На вас просто лица нет!
– Случилось? – переспросила Маша, уставившись на Дмитрия Алексеевича, как будто удивляясь, что он тут делает. – Да, случилось… извините, я пойду… спасибо за чай… Вот вам моя визитка, если вы все же захотите мне что-то рассказать…
Старыгин закрыл за гостьей дверь и облегченно вздохнул. Слава богу, она ничего из него не вытянула…
Тут же он почувствовал укол совести: у девушки случилось какое-то несчастье, только поэтому она неожиданно сорвалась и уехала. Девушка ему безумно интересна, то есть не она, а предмет, используемый ею в качестве украшения. Нужно обязательно познакомиться с ней поближе, только потом, потому что в ближайшее время он будет очень занят.
Он бросил взгляд на бронзовые ампирные часы и заторопился: ему давно уже пора было на работу.
В отделе творился форменный бедлам. Светка оповестила всех, кто знал Михаила, а знакомых у него имелось великое множество. И сейчас все толкались в тесном помещении, и телефон раскалился от звонков. Было душно и пахло валерианкой, которую Светка пила сама и предлагала всем вновь приходящим.
– Ты можешь толком объяснить, что случилось? – набросилась на нее Маша, отводя противно воняющий стаканчик.
– Шел вечером, да и не поздно даже, – всхлипывала Светлана, – напали, ограбили и убили. На камеру, наверное, польстились…
Маша опустилась на стул. Ну да, вчера они расстались на набережной Мойки, Мишка сидел в кафе, потом, видно, поехал еще куда-то… И камера, как всегда, при нем, он с ней почти не расставался. Маша так ясно увидела Мишкину неуклюжую фигуру в панаме и эти голубые подтяжки…
– Выпей валерианочки, – участливо предложила Светка.
– Хватит рыдать! – сердито сказал Виталий Борисович, вешая трубку. – Мишкина жена звонила.
– Какая еще жена? – хором удивился коллектив.
– Бывшая! Говорит, пришла утром в квартиру, а там форменный разгром. И дверь открыта.
– Значит, они ключи у Мишки взяли и решили чем-нибудь в квартире поживиться! – догадалась Светка.
– Да нет, говорит, ничего не взяли, только разворотили все и побили. Кассеты еще пропали, а компьютер разломали.
По инерции Маша вспомнила, что ее собственный компьютер сломан. И что Мишка послал ей какой-то файл с фотографией. И вообще, как-то очень странно, что на него напали. То есть это-то как раз не странно, таких случаев множество. Мишка небось выпивши был, легкая добыча для бандитов. Но вот чтобы еще и квартиру ограбили! То есть не ограбили, а все разломали. И кассеты пропали.
«Они что-то искали, – поняла Маша, – и это наверняка связано с работой Мишки в Эрмитаже. Что же он там такое снимал? Нужно выяснить».
Она не слышала изумленных и негодующих возгласов коллег, потому что неслась по коридору к выходу.
Умелец из фирмы, вызванный Машей, возился с компьютером минут сорок. В ответ на ее вопрос, что случилось, он пренебрежительно бросил: «Вирус» и больше не произнес ни слова. Закончив работу, он поглядел на Машу с плохо скрытым презрением и прошелся, глядя в сторону, насчет некоторых безграмотных тетек, которые по полгода не меняют антивирусные программы и цепляют из Интернета всякую дрянь, а потом еще удивляются, когда компьютер перестает работать. Маша едва дождалась, когда он уйдет, и проверила электронную почту. От Мишки пришла фотография.
Очень худой мужчина весь в черном стоял против картины. Маша вертела снимок так и так, увеличила его и поняла, что картина – «Мадонна Литта». Виднелся лик самой Мадонны и золотые кудри младенца. С картиной, судя по всему, все было в порядке. Но вот с мужчиной… Был он болезненно худ, лицо мрачно, щеки ввалились, и профиль его напоминал профиль со старинной полустертой монеты. Маше был виден один глаз – карий, вернее не карий, а янтарно-желтый.
Мужчина стоял перед картиной, застыв, как бронзовое изваяние. Чувствовалось, что стоит он так уже давно и может стоять сколь угодно долго. Маша еще увеличила некоторые фрагменты и убедилась, что янтарный глаз мужчины полыхал ненавистью. И еще одна пугающая странность: на снимке было отчетливо видно, как от мужчины в сторону картины надвигалось темное зловещее облако, которое грозило поглотить мадонну с ее младенцем, и не было им спасения.
– Что за чушь! – Маша потрясла головой. – Это просто игра света. Мишка большой мастер… был.
Однако Маша вспомнила, что приятель вчера сам удивлялся, что же такое у него получилось, стало быть, он вовсе не добивался такого эффекта. Он даже послал Маше снимок, чтобы она оценила его непредвзято.
«Этот тип в черном несомненно причинил вред картине. Может быть, это его имела в виду бедная Вера Львовна, говоря про монстра? Какое неприятное лицо… зловещее…»
Внезапно Машу осенило. Мишку убили из-за этого снимка. Он торчал позавчера целый день в Эрмитаже и снимал зал Леонардо, а злобный тип испугался, что попадет на снимок… Так оно и вышло.
Маша вытерла слезы. Было очень жалко Мишку.
Немецкий композитор Йозеф Гайдн перед тем, как приступить к сочинению музыки, надевал свой лучший камзол, пудреный парик и только тогда приближался к инструменту. Он считал, что музыка требует к себе не меньшего уважения, чем царственные особы.
Реставратор Дмитрий Алексеевич Старыгин не меньше уважал свою работу. Тем более что сегодня ему предстояло прикоснуться к одному из величайших шедевров в истории живописи. Если бы на то была его воля, он надел бы свой лучший костюм. Однако работа реставратора, как и живописца, очень грязная, поэтому он снял пиджак и надел серый халат, перемазанный красками и растворителями, опустил на окнах лаборатории плотные светонепроницаемые шторы и благоговейно взял в руки драгоценный холст.
Всякий настоящий мастер своего дела больше, чем современным инструментам и приборам, доверяет своим рукам и глазам. Это касается и врачей, и реставраторов, и экспертов в других областях. Рассказывают про знаменитого хирурга, которому было уже больше восьмидесяти лет, он почти совершенно утратил зрение, но каждый день его привозили в больницу, и он своими гениальными руками прощупывал самых сложных больных и ставил диагноз точнее любого прибора.
Как всякий настоящий мастер, Дмитрий Алексеевич Старыгин тоже доверял собственным рукам и глазам. Он включил яркую лампу, перевернул картину кверху изнанкой и наклонился над ней. Долго и внимательно он рассматривал структуру ткани и прикасался пальцами к ее волокнам. Сомнений не осталось: это был подлинный холст. Точнее, холст, вполне соответствующий по возрасту и характеру плетения холсту подлинника. Только после этого реставратор перевернул картину и оглядел ее лицевую сторону. На этот раз увиденное не так потрясло его, как при первой встрече. Хотя взгляд маленького монстра по-прежнему вызывал легкий озноб…
Кто же рассказал той журналистке про монстра на картине? Ведь она употребила именно это слово – монстр…
Вспомнив о журналистке, он снова почувствовал легкий укол совести. Все-таки он обошелся с ней отвратительно… а девушка хорошая, не чета большинству своих коллег. Надо же – внучка Арсения Магницкого…
Посторонние мысли не мешали рукам и глазам реставратора делать привычную работу. Он тщательно, сантиметр за сантиметром обследовал красочный слой, характер мазка… они были одинаковыми по всей поверхности картины. То есть, по крайней мере, на данном этапе исследования можно было сделать вывод, что чудовище написано тогда же и тем же мастером, что и сама Мадонна. Впрочем, вывод этот предварительный, впереди еще предстоит долгая и кропотливая работа, исследование химического состава красок, лака и холста, обследование картины современными приборами…
Старыгин включил ультрафиолетовую лампу и взглянул на картину при ее свете.
И удивленно отстранился.
Это еще что такое?
В правой верхней части картины крупно, отчетливо написано число, состоящее из четырех семерок.
Цифры выведены на холсте специальными невидимыми чернилами, поэтому они стали видны только при ультрафиолетовом свете.
Четыре семерки… что-то такое говорила про четыре семерки эта журналистка, Маша Магницкая…
Реставратор наморщил лоб, припоминая.
Кажется, ее дед, знаменитый археолог Магницкий, упомянул четыре семерки, когда дарил ей пентагондодекаэдр. Надо же, такую уникальную, единственную в своем роде вещь он подарил маленькой девочке, которая просто не могла оценить такой подарок! И почему именно ей?
Старыгин еще раз посмотрел на четырехзначное число и вдруг решился. Он достал из кармана визитку журналистки и набрал номер ее мобильного телефона.
– Это Старыгин, – проговорил он голосом, невежливым от неловкости. – Я хотел бы кое-что вам показать. Приезжайте в Эрмитаж. Прямо сейчас. Или вы не можете?
Он вспомнил, что у нее что-то стряслось, какое-то несчастье, и чувство неловкости еще больше усугубилось.
Девушка помолчала несколько секунд, но потом решительно проговорила:
– Да, я приеду. Примерно через полчаса.
Старыгин встретил Машу у служебного входа музея. Он подвел ее к посту охраны и внушительным тоном проговорил:
– Это ко мне, консультант.
– Паспорт, – безразличным тоном проговорил молодой охранник.
Маша достала книжечку паспорта и протянула ее дежурному. Тот раскрыл ее и принялся старательно записывать паспортные данные в толстую прошнурованную книгу.
«Все переведено на компьютеры, – подумал Старыгин, рассеянно наблюдая за дежурным, – и только книги регистрации посетителей остались такими же, как пятьдесят лет назад…»
Он случайно бросил взгляд на раскрытый паспорт и вдруг замер, как будто увидел там вместо Машиной фотографии изображение такого же монстра, как на картине Леонардо.
– Что с вами? – спросила Маша, спрятав документ в сумочку. – Мы идем?
– Идем, – задумчиво проговорил Старыгин.
Так вот о чем говорил Магницкий! Так вот почему он подарил бесценный раритет именно этой девочке!
Он с новым интересом посмотрел на Машу.
– Идем, – повторил он и направился к лестнице.
– Никогда не была в этой части Эрмитажа, – призналась Маша, едва поспевая за реставратором.
– Мы могли бы пройти через общий вход и подняться по Советской лестнице, но так немного короче…
– По Советской? – переспросила Маша. – А разве ей не вернули прежнее название?
– Какое – прежнее? – Старыгин удивленно покосился на девушку.
– Ну, прежнее, дореволюционное…
– Дореволюционное? – реставратор рассмеялся. – Но это и есть дореволюционное название! Эта лестница называлась Советской потому, что по ней поднимались на свои заседания члены Государственного совета. Того самого, который в полном составе изобразил на своей картине Репин. А Иорданская лестница долгое время называлась Посольской, потому что по ней поднимались послы иностранных государств, направляясь на аудиенцию к государю. Поэтому ее и сделали такой величественной и пышной, чтобы представители держав сразу, едва войдя во дворец, проникались величием Российской империи…
– Да? – недоверчиво переспросила Маша. – А нам учительница в школе говорила, что Советская лестница так названа после революции потому, что по ней поднимались революционные массы, чтобы арестовать Временное правительство.
– Много чего говорили наши учителя, не всему можно верить. А мы, кстати, уже пришли.
Старыгин толкнул массивную дверь и пропустил девушку в свою лабораторию.
Она быстро привыкла к царящей внутри полутьме и шагнула к столу, на котором находилась картина.
Тщательно выписанный фон, свободно ниспадающие складки одежды, нежное лицо мадонны, ее ласковый взгляд, обращенный к тому, кого она держала на руках…
Маша опустила глаза ниже и издала изумленный, испуганный возглас.
На руках мадонны удобно расположилось маленькое чудовище, крошечный монстр. И так же, как божественное дитя на картине каждый день, век за веком, повернув кудрявую головку, смотрело на восхищенных зрителей своим полусонным, мечтательным взором – так и этот маленький монстр смотрел прямо в глаза потрясенным людям. Но в этом взгляде читался весь ужас, вся ненависть, весь цинизм мира.
Маша словно заглянула в ад.
– Что это?
– Хотел бы я это знать! – отозвался Старыгин. – Присядьте, я вижу, что вы едва держитесь на ногах. Только осторожнее с этим креслом…
Маша придвинула к себе старинное резное кресло и без сил опустилась в него. В комнате внезапно погас свет.
– Я же говорил вам… – пробормотал Старыгин, что-то переставляя в темноте. – У нас ужасная проводка, и когда резко переставляешь это кресло, провод выпадает из гнезда, и свет гаснет…
Он чем-то щелкнул, и в лаборатории снова стало светло.
– Извините… – Маша на секунду прикрыла глаза. – Честно говоря, я была в шоке…
– Я вас понимаю, – Старыгин кивнул. – Когда я это первый раз увидел, я сам был в шоке…
– Но… но как это возможно? Кто мог пририсовать это чудовище? И когда успел? Ведь оно выписано очень тщательно… по крайней мере, насколько я могу судить… или картину подменили? А где подлинник? Он пропал?
– Слишком много вопросов, – поморщился Старыгин, – пока я могу сказать только одно: вы правы, чудовище выписано очень тщательно, мастерски. Более того, оно написано той же рукой, тем же мастером, что и лицо Мадонны.
– Значит, картину заменили копией, фальшивкой?
– В этом еще нужно разбираться. Во всяком случае, холст такого же качества, как подлинный, и такого же возраста, ему тоже примерно сто пятьдесят лет…
– Как – сто пятьдесят? – удивленно переспросила Маша. – Вы хотели сказать – пятьсот? Ведь «Мадонна Литта» создана примерно в тысяча четыреста девяносто первом году…
– Браво, – усмехнулся Старыгин. – Ставлю вам пятерку, вы хорошо подготовились. По большинству предположений картина действительно создана в тысяча четыреста девяносто первом, но Леонардо писал ее на деревянной доске. Когда в тысяча восемьсот шестьдесят пятом году она была куплена у герцога Литта в Милане, состояние ее было таким плохим, что ее пришлось немедленно перенести с дерева на холст. Для этого эрмитажный столяр Сидоров придумал специальную технологию, за это его наградили медалью… но я, честно говоря, хотел поговорить с вами о другом. Когда вы родились?
– Что? При чем тут это? – Маша недоуменно уставилась на собеседника. – Ну, седьмого июля. А почему это вас так интересует?
– А какого года?
– Семьдесят седьмого. Я пока что не делаю тайны из своего возраста. Но все-таки, почему вас так заинтересовали мои биографические данные?
– Я случайно взглянул на ваш паспорт, – признался Старыгин, – и хотел проверить, не ошибся ли я. Не показалось ли мне. Ведь такое удивительное совпадение…
– Да какое совпадение? О чем вы говорите?
– Подумайте сами. Седьмое число седьмого месяца семьдесят седьмого года. Четыре семерки.
– Ну и что в этом такого? – Маша пожала плечами.
– Вы помните – ваш дед, когда подарил вам пентагондодекаэдр, тоже говорил о четырех семерках! И не случайно он подарил такой редкий предмет именно вам, тогда совсем маленькой девочке! И, кстати, он сделал это совсем незадолго до своей смерти!
– Все равно я ничего не понимаю. Почему вас так взволновали эти четыре семерки?
– По двум причинам.
Старыгин шагнул к столу с картиной и включил ультрафиолетовую лампу.
– Вот одна из этих причин.
Маша наклонилась над холстом и увидела четырехзначное число. Это число, связанное непонятным образом с датой ее рождения, а еще больше – волнение реставратора заставили ее сердце биться чаще, внушили ощущение серьезности происходящего.
– А… вторая причина? – проговорила девушка, распрямившись и невольно понизив голос.
– Сейчас я вам покажу эту вторую причину. Пойдемте.
Ничего не объясняя, он вышел из лаборатории, запер дверь и повел Машу по коридорам здания. Эти служебные коридоры мало напоминали великолепные анфилады музея. Плохо освещенные, довольно узкие. Маша с трудом верила, что находится в Эрмитаже. Несколько раз свернув и поднявшись по лестнице, они оказались перед дверью с медной табличкой «Кабинет рукописей».
– Сейчас перед вами откроется самый красивый вид в нашем городе, – с явной гордостью сообщил Дмитрий Алексеевич своей спутнице.
– Ну уж и самый красивый…
– Вот увидите!
Старыгин нажал на кнопку звонка, и почти тотчас дверь открыла невысокая сутулая женщина лет сорока с приятным улыбчивым лицом.
– Дима! – радостно проговорила она при виде Старыгина. – Ты к нам? Заходи, мы тебя угостим печеньем… а кто эта девушка?
– Консультант из института прикладной химии, – не моргнув глазом, соврал Старыгин. – А мы к тебе буквально на одну минуту, нам нужно взглянуть на трактат «О происхождении сущего и числах, его объясняющих».
– Ты имеешь в виду малый трактат Николая Аретинского? А какое отношение он имеет к прикладной химии?
– Самое прямое!
– Только здесь! – озабоченно ответила женщина. – Выносить нельзя, даже тебе!
– Понятное дело! Я знаю, как у вас все строго! Нам нужно только прочесть один абзац.
Женщина развернулась и, слегка прихрамывая, пошла по узкому коридору между двумя рядами высоченных стеллажей, до самого потолка уставленных картонными папками и коробками. Маша перехватила мимолетный ревнивый взгляд хранительницы рукописей и усмехнулась: похоже, та явно питала к Дмитрию Алексеевичу не вполне служебный интерес.
Коридор кончился, и они оказались в просторном кабинете с двумя огромными окнами.
Маша ахнула: она действительно никогда не видела ничего подобного. Одно окно выходило на Неву, ослепительно сверкающую под щедрым июльским солнцем, второе – на Зимнюю канавку и здание Эрмитажного театра. На другом берегу Невы виднелась Петропавловская крепость.
– Я вам говорил, – вполголоса промолвил Старыгин, заметив Машин восторг. – Правда ведь, замечательно?
В его голосе звучала такая гордость, как будто это он сам так расставил здания и провел реки, чтобы создать этот неповторимый вид.
Хранительница кабинета уселась за компьютер и защелкала клавишами.
– Малый трактат Николая Аретинского… – пробормотала она, вглядываясь в колонки цифр на экране монитора. – Вот он, единица хранения номер… тридцать четвертый шкаф, седьмая полка…
Она встала из-за стола и своей неровной, будто ныряющей походкой прошла к одному из стеллажей.
– Дима, помоги мне, пожалуйста…
Старыгин приподнялся на цыпочки и достал с одной из верхних полок большую картонную коробку.
– Только для тебя, – вздохнула хранительница и снова бросила на Машу недовольный взгляд.
Маше вдруг захотелось совершить какой-нибудь хулиганский поступок: показать зануде-хранительнице язык или разбить графин с водой, стоящий на подоконнике, либо же разбросать листочки из многочисленных папок, лежащих на письменном столе. Хотя за листочки, пожалуй, могут и побить, они тут все на бумажках повернутые… Маша ограничилась тем, что поглядела на хранительницу очень холодно и высокомерно.
– Вот оно! – победно проговорил Дмитрий Алексеевич, не обратив ни малейшего внимания на обмен женскими взглядами. Он открыл коробку и осторожно выложил на стол темный от времени манускрипт, каждый лист которого был аккуратно упакован в прозрачную пленку.
Маша взглянула через плечо реставратора и разочарованно вздохнула: документ был написан от руки почти совершенно выцветшими коричневатыми чернилами и каким-то удивительным почерком, очень красивым, но неразборчивым. Самое же главное – он был написан на совершенно незнакомом Маше языке.
– Какой это язык? – спросила Маша, искоса взглянув на реставратора.
– Латынь, разумеется.
– И вы можете это прочесть?
– Конечно, – он даже, кажется, удивился ее вопросу, как будто каждый современный человек просто обязан понимать латынь.
Маша почувствовала легкое раздражение: эти эрмитажные работники, похоже, смотрят на всех остальных людей свысока, как на полуграмотных.
Старыгин осторожно перевернул несколько хрупких страниц манускрипта, достал из кармана старинную лупу в красивой бронзовой оправе и начал медленно читать, на ходу переводя текст с латыни:
– Если ты встретил число, составленное из трех шестерок, знай, что это есть число Зверя, число Врага, и проистекает из этого числа многий грех, и гнев, и многие несчастья, и число это любезно Отцу Лжи, хозяину порока, врагу рода человеческого. Посему избегай всячески этого числа и всего, под ним рожденного. Если же ты встретишь число, составленное из четырех семерок, знай, что это есть число Света, и проистекает из этого числа свет, радость и прощение, ибо семь есть число, угодное Создателю, семь есть благое, священное число, а четыре семерки четырежды священны и четырежды угодны Господу нашему. Число это приносит благоденствие и благость, и человек, родившийся под этим числом, имеет большую силу и крепость противостоять греху и одолеть козни Отца Лжи. Да будет благословение на этом человеке, и да преодолеет он преграды и препоны на пути своем…
Старыгин тщательно сложил старинную рукопись и убрал трактат обратно в коробку.
– Вот она, вторая причина, о которой я вам говорил.
Маша моргнула, и в ту же секунду развеялся странный гипноз, в который она впала под влиянием слов средневекового автора. Она встряхнула головой, чтобы окончательно отогнать наваждение, и проговорила:
– Дмитрий Алексеевич, неужели вы всерьез относитесь к этой средневековой ахинее?
– Во всяком случае, тот, кто написал на картине число из четырех семерок, относился к этому достаточно серьезно. И так же серьезно относился к этому ваш дед, всемирно известный археолог, когда подарил вам эту бесценную безделицу. – Дмитрий Алексеевич задумчиво посмотрел на кулон из слоновой кости.
Маша собиралась снять кулон, но, когда была дома, это совершенно вылетело у нее из головы. Старыгин подошел ближе и взял костяной кулон в руки. Совсем рядом с Машиным лицом оказались его глаза – очень серьезные. Пахло от него краской, скипидаром и еще какой-то химией.
– Кстати, – добавил Старыгин, – на вашем месте я не носил бы пентагондодекаэдр так на виду. Кроме того, что он имеет вполне реальную и очень высокую цену, мне кажется, есть человек, для которого его цена гораздо выше всех денег мира.
– Что еще за человек?
– Тот, кто подменил картину. Тот, кто написал на второй картине число из четырех семерок. Тот, кто, на мой взгляд, еще не считает свою миссию законченной.
– Дима, – напомнила о себе хранительница кабинета, – ты закончил с трактатом? Может быть, все же сварить тебе кофе? И твоей спутнице из… гм… химического института?
– Спасибо, Танечка, – рассеянно отозвался Дмитрий Алексеевич, не отводя глаз от кулона, – мы пойдем. Очень много работы.
С непонятным злорадством Маша заметила искру разочарования, промелькнувшую в глазах хранительницы. Подумать только – «Танечка!». В таком-то возрасте! Да столько не живут!
– А почему вы отказались от кофе с печеньем? – не утерпела Маша, когда они шли назад длинными коридорами.
– А? – Старыгин очнулся от задумчивости и улыбнулся. – Я вам скажу. Танечка, конечно, чудесная женщина и отличный специалист в своем деле, но кофе варить она абсолютно не умеет. А если вы хотите кофе, то я вас угощу в мастерской. Только… – он воровато оглянулся по сторонам, – это большая тайна. Если наш пожарник узнает, что я храню в мастерской кофеварку, он съест меня живьем!
– Ценю ваше доверие, – заметила Маша без улыбки.
– Когда мне было лет десять, – начал Дмитрий Алексеевич, разлив кофе, – я был ужасным авантюристом.
– Не похоже! – Маша насмешливо посмотрела на него поверх своей чашки.
– Внешность обманчива. Впрочем, в десятилетнем возрасте все дети имеют склонность к приключениям. Кто-то убегает из дому, чтобы бороться за свободу Африки, кто-то мечтает записаться юнгой на корабль, а мы с друзьями решили остаться на ночь в Эрмитаже.
– В наше время у подростков несколько иные интересы, – проговорила Маша.
– Может быть, – Дмитрий Алексеевич пожал плечами. – С современными подростками я не сталкиваюсь.
– Ваше счастье! – вздохнула Маша, вспомнив, чем закончилось ее общение с племянниками десяти и тринадцати лет. Кажется, потом их родителям пришлось делать незапланированный ремонт в квартире.
– Короче, мы решили таким образом проверить свою храбрость, а заодно посмотреть, как тут все выглядит ночью. Нас было трое – двое мальчишек и одна девочка, Лена… – Старыгин на мгновение замолчал, и Маша неожиданно для самой себя испытала что-то вроде ревности.
– Может быть, именно ее присутствие и повлияло на наше решение, – продолжил Старыгин, улыбнувшись своим воспоминаниям. – В общем, перед самым закрытием музея мы спрятались за одну из витрин. Тогда ни о какой электронной сигнализации еще и не слышали, тетки-служительницы обошли залы, осмотрели их довольно-таки поверхностно и ушли по домам. Ну, а мы выбрались из своего укрытия и отправились в путешествие по ночному Эрмитажу. Признаюсь, это стало одним из самых сильных впечатлений в моей жизни. Весь музей оказался в нашем распоряжении, он был наш, только наш!
Старыгин мечтательно прикрыл глаза, казалось, уйдя в свои воспоминания.
– Картинами мы тогда не очень интересовались, они казались нам скучными, непонятными, а вот старинное оружие, часы-павлин и всякие другие музейные диковины поразительно действовали на наше воображение. Но тут случилась одна из тех встреч, которые бывают раз в жизни, да и то, наверное, не у всех. Мы вошли в очередной зал, и я увидел эту картину… она была почти спрятана в тени, и вдруг на нее упал лунный луч, и я увидел нежное лицо матери, ее полузакрытые глаза, устремленные на младенца, и его самого, скосившего глаза и глядевшего, кажется, прямо на меня. Я не знал тогда, что она называется «Мадонна Литта», не знал даже имени Леонардо, но я не мог отвести от этой картины глаз. Не знаю, что со мной случилось, но я замер перед ней, словно врос в пол, и очнулся, только когда меня окликнул Борька, мой приятель:
– Что ты там застрял перед этой теткой? Бежим, там такое!
Мы двинулись дальше в это удивительное путешествие. Все той ночью казалось необыкновенным и волнующим…
– Опять же, присутствие Лены… – не удержалась Маша.
– И это тоже, – спокойно кивнул Старыгин. – В общем, мы переходили из зала в зал и не подозревали, что нас уже ищут.
– Значит, все-таки сработала сигнализация?
– Какая там сигнализация! – отмахнулся Старыгин. – Просто мы не учли одного существенного момента. Дело было зимой, мы, естественно, пришли в пальто и сдали эти самые пальто в гардероб. И представьте себе ужас гардеробщицы, когда после закрытия музея у нее на вешалке остались висеть три детских пальтишка! Что она могла подумать? Трое детей потерялись в музее, с ними произошло какое-то несчастье! Она позвала свою знакомую, работавшую ночной дежурной, и рассказала ей о происшествии. Та, понятное дело, тоже перепугалась, но только уже больше из-за того, что в музее находятся посторонние люди. Время было суровое, и ей, среди прочих, могло за такое нарушение здорово попасть. В общем, несколько ночных дежурных посовещались и решили, не сообщая ничего начальству, своими силами изловить злоумышленников и выдворить из музея. Тем более что размеры пальто явственно говорили о малом возрасте этих самых злоумышленников и о том, что справиться с ними легко.
А мы в это время добрались до самого интересного места, по крайней мере, как нам тогда казалось, – до Рыцарского зала. Старинное разукрашенное оружие, рыцари в настоящих сверкающих доспехах, огромные кони, совершенно как живые… Я попытался вытащить рыцарский меч из ножен, к счастью, сил на это не хватило. Тогда Борька, чтобы не уступить мне в лихачестве и молодечестве, решил взобраться на лошадь. И только было он приступил к исполнению этой задачи, как из соседнего зала донеслись приближающиеся шаги и голоса дежурных. Мы, понятное дело, ужасно перепугались, решили, что нас тут же арестуют, и спрятались в самый укромный уголок – за ту самую лошадь, которую так и не успел покорить Борька.
Старыгин снова на мгновение замолчал, как будто перед его глазами ожили те давние воспоминания.
– В зал вошли несколько женщин, они громко переговаривались и заглядывали во все углы. И тут Ленка от страха громко заревела… в общем, нас вытащили из укрытия и с позором выпроводили из Эрмитажа. Пообещали сообщить в школу, но дальше обещания дело, разумеется, не пошло – ведь дежурным самим совершенно ни к чему был скандал.
– В общем, та ночная встреча определила весь ваш дальнейший жизненный путь, – насмешливо подытожила рассказ Маша. – Именно тогда вы решили стать реставратором.
– Нет, не тогда, – возразил Дмитрий Алексеевич, – гораздо позднее. Впрочем, вы совершенно правы, я слишком увлекся своими детскими воспоминаниями.
Кофе был выпит, Маша посидела еще немного, глядя, как Старыгин склонился над картиной, и решила, что пора уходить. Вряд ли она еще что-нибудь выяснит, сидя в лаборатории рядом со Старыгиным. Конечно, насчет четырех семерок и пентагондодекаэдра все очень таинственно и интересно, но ни на миллиметр не приближает ее к решению задачи. А задача перед всеми сейчас стоит только одна: определить, что случилось с «Мадонной Литта». Куда делась картина, что с ней случилось и как ее вернуть? То есть поисками пусть озаботятся другие, а Машино дело – осветить происходящее, сделать шикарный репортаж. Очень скоро пропажа «Мадонны» Леонардо станет достоянием гласности. И тогда по горячим следам нужно быстро сообщить людям информацию, причем как можно более подробную.
Пока она знает одно: картину заменили на точно такую же, только вместо младенца на этом холсте мадонна держит на руках маленькое чудовище. И еще Старыгин показал ей на картине надпись – четыре семерки. Надпись эта как-то связана с ней, с Машей, потому что покойный дед тоже что-то бормотал про четыре семерки. Маша была не настолько мала, чтобы это не запомнить.
Возвращаться сейчас на работу Маша не хотела – там все в растрепанных чувствах, переживают из-за Мишки, готовятся к похоронам. Мишке все равно уже ничем не поможешь, а коллеги прекрасно управятся и без нее.
Настал момент узнать, что же дед имел в виду, когда подарил ей кулон. И единственный человек, который может пролить на это свет, – это Машин отец.
– Дмитрий Алексеевич, мне пора, – сказала Маша в спину, обтянутую запачканным рабочим халатом.
– Да-да, – рассеянно отозвался Старыгин, – разумеется…
Маша обиделась: мог бы хотя бы из вежливости ее удержать – мол, посидите еще, куда же вы так быстро… Сам, между прочим, ее вызвал, а сам не желает знаться!
Но Старыгин так глубоко погрузился в работу, что флюиды Машиной обиды отскочили от него, как теннисный мячик.
– Если я вам понадоблюсь… – язвительно начала Маша, – или захотите полюбоваться на пентагондодекаэдр, звоните!
– Всенепременнейше! – Он оторвался от картины и смотрел вежливо, но в глубине глаз просвечивало нетерпение – уходи, мол, скорее, не мешай заниматься любимым делом. Сарказма в Машином голосе он совершенно не уловил.
Маша пожала плечами и вышла.
На улице она тяжко вздохнула. Очень не хотелось звонить отцу. Но не такой Маша была человек, чтобы из-за своих личных отношений пренебрегать работой. Раз надо – значит, надо. И сделать это нужно поскорее.
К телефону подошла его жена. Маша мысленно посетовала на свое невезение. Отцу явно не везло в семейной жизни. После Машиной матери у него было еще две жены. Судя по тому, как мама отзывалась о своем бывшем муже, расстались они очень плохо. Маша совершенно не хотела разбираться, кто уж там был виноват. Но в детстве они с отцом виделись крайне редко, раза два в год. Потом Маше стало неинтересно – жила без отца в детстве, а уж во взрослом состоянии и подавно прожить можно. Отец тоже не очень настаивал – он разводился со своей второй женой и женился на третьей. И уж эта, последняя, оказалась такой уникальной стервой, каких поискать. Машу она на дух не переносила, причем непонятно за что. Виделись они с отцом очень редко, Маша никогда не просила у него ни денег, ни другой помощи.
Отец оказался дома, но был болен и не расположен говорить по телефону. Однако Маша заявила, что у нее очень срочный разговор, дело не терпит отлагательств.
– Что случилось? – послышался в трубке встревоженный голос. – Что-нибудь с мамой?
– Успокойся, – ответила Маша, – с мамой все в порядке, она отдыхает в Турции. Мне нужно поговорить с тобой насчет… дедушки.
– Дедушки? – изумился отец.
– Ну да, профессора Магницкого, а почему ты так удивился? – раздраженно спросила Маша. – В конце концов, я имею право знать, как он умер и чем занимался при жизни.
В трубке долго молчали, очевидно, отец переваривал услышанное.
– Так я могу приехать? – осведомилась Маша, не дождавшись вразумительного ответа.
Отец понял, что она не оставит его в покое, и неохотно согласился. Маша удовлетворенно поглядела на телефон. Любое дело, хотя бы самое пустяковое, нужно доводить до конца. А если встреча неприятная, то тем более нужно устроить ее как можно быстрее.
Когда Маша решила, что станет журналистом, она выработала для себя ряд правил, которым неуклонно следовала в работе и в жизни. Покойный Мишка слегка подсмеивался над ней, называл не женщиной, а машиной…
«Не думать больше о Мишке! – приказала себе Маша. – А то у меня ничего не получится при встрече с отцом!»
Закончив работу в зале Леонардо, обследовав в нем каждый сантиметр стены, каждый фрагмент паркетного пола, подчиненные Евгения Ивановича Легова расширили зону поиска и перешли в соседние помещения. Здесь работать оказалось не в пример сложнее, потому что залы были полны посетителями. Чтобы не порождать распространение ненужных слухов, музейным служительницам сказали, что проходит плановая проверка электропроводки, и сотрудники службы безопасности усиленно изображали электриков. Правда, получалось это у них не очень похоже.
Сам Евгений Иванович опрашивал одного за другим вахтеров и дежурных, находившихся в музее ночью. Тех, чья смена уже закончилась, попросили задержаться и перед уходом зайти в кабинет начальника службы безопасности.
Уже третий человек, явившийся в кабинет Легова, отставной военный, дежуривший ночью возле служебного выхода, расположенного непосредственно рядом с дирекцией, сообщил, что во втором часу ночи из музея вышел мужчина.
– Что за мужчина? – с плохо скрытым раздражением спросил отставника Евгений Иванович. – Почему он не записан в журнале посещений?
– Потому что предъявил постоянный пропуск, – преданно вытаращив на начальство блекло-голубые глаза, отчеканил дежурный. – Которые посетители, тех положено непременно записывать в журнал, когда пришел, когда ушел, а которые сотрудники, тех не положено. Я инструкцию досконально соблюдаю! Я в войсках связи двадцать лет отслужил, порядок знаю!
– А фамилию, фамилию его вы не запомнили?
– Никак нет! – ответил отставник с легким сожалением. – Память уже не та! Вот в молодости я устав строевой и караульной службы целыми страницами мог…
– Не надо про устав! – прервал его Легов. – Но хоть как он выглядел-то, вы можете сказать?
– Обыкновенно выглядел. Молодой такой, высокий… волосы немножко седоватые…
– Молодой – а волосы седоватые? – недоверчиво переспросил Евгений Иванович.
– Ну да, а что такого?
– Ну, молодой – это сколько примерно лет? Двадцать? Двадцать пять? Тридцать?
– Ну, допустим, примерно как вы… лет, может, сорок или чуть побольше…
– Ясно, – протянул Легов, не понять, то ли одобрительно, то ли насмешливо. – А опознать его в случае чего сможете?
– А как же! – радостно воскликнул отставник. – Я и фоторобот могу составить, в милиции один раз приходилось… когда к соседям в квартиру злоумышленник влез…
– Привлечем, – кивнул Легов.
Дверь кабинета приоткрылась, в щелку заглянул помощник Легова Севастьянов.
– Никита, я же, кажется, просил не мешать! – недовольно поморщился Легов.
– Евгений Иванович, ребята там кое-что нашли, вы бы взглянули! Может, это важно…
– Ладно. – Легов повернулся к дежурному. – Если еще что-то вспомните, непременно сообщите, а пока можете быть свободны. Спасибо за помощь.
– А как же насчет фоторобота? – огорчился отставник, почувствовав угасание интереса к своей особе.
– Ладно, пройдите в соседний кабинет, к Николаеву, скажете – я прислал!
Быстро пройдя вслед за Никитой по полупустым служебным коридорам, Легов через неприметную дверцу вышел в один из самых популярных залов Эрмитажа – Рыцарский зал. Перед закованными в сверкающую броню рыцарями на огромных конях, как всегда, толпились восхищенные мальчишки. Чуть в стороне стояли двое сотрудников службы безопасности.
– Евгений Иванович, – вполголоса сообщил один из них, шагнув навстречу начальнику, – мы это вот там нашли, в уголке… может, конечно, кто-то из посетителей обронил, а может, и нет… вещица необычная…
Он протянул Легову на ладони небольшой темный предмет, упакованный в прозрачный пластиковый пакетик, чтобы сохранить отпечатки пальцев. Евгений Иванович поднес пакетик к свету и рассмотрел его содержимое.
Это был старинный футляр из тисненой темной кожи с кое-где сохранившимися следами позолоты.
– Что за футляр такой? – поинтересовался Никита, заглядывая через плечо шефа. – От ручки, что ли?
– Нет, не от ручки. Где, говоришь, вы это нашли? – Легов снова повернулся к дожидающемуся приказа секьюрити.
– Вот там, в уголке, за лошадью…
– Ну-ка, встань на то место!
Парень послушно нырнул за мощный лошадиный круп и замер, мгновенно слившись с темнотой. Легов прошел через зал от двери до двери, то и дело взглядывая в сторону лошади. Спрятавшийся за ней парень не был виден.
– Вот где он прятался… – задумчиво протянул Евгений Иванович. – При вечернем обходе его и не заметили.
– Кто – он? – вполголоса поинтересовался Никита.
– Если бы я знал!
Он снова достал из кармана пакетик с вещественным доказательством и проговорил:
– Где-то я такой футлярчик уже видел! У кого-то из здешних корифеев! Вспомнить бы только, у кого!
Евгений Иванович чувствовал себя двойственно.
Как сотрудник Эрмитажа, он всячески хотел избежать скандала, сохранить незапятнанным имя музея и решить проблему собственными силами, не вынося сор из избы. Но как офицер ФСБ, он должен был держать в курсе свое непосредственное начальство и сообщать ему обо всех деталях расследования.
Дверь Маше открыл отец. Он очень постарел за те полтора года, что они не виделись, заметно прибавилось седых волос, лицо осунулось, глаза запали.
– Ты серьезно болен? – испугалась Маша.
– Да пустое! Простыл, понимаешь, в такую жару… – отмахнулся отец, – ты проходи, а то тут сквозняк…
Послышался стук каблуков, и в прихожей возникла его жена – эффектная брюнетка в красном открытом платье. Маша мгновенно определила и стоимость платья, и то, что маникюр и укладка совсем свежие, только что из салона красоты.
«Лучше бы за мужем поухаживала, – подумала она, – человек с температурой сам на звонки бегает…»
Маша знала, что третья жена моложе отца лет на пятнадцать. Видно было, что она тщательно поддерживает это временное расстояние и даже пытается его увеличить. Что-то буркнув в ответ на Машино приветствие, она зверем глянула на торт, который Маша купила в последний момент, вспомнив, что нехорошо приходить в дом с пустыми руками.
«На диете, наверное, – сообразила Маша, – вот и злится…»
– Что ты хочешь узнать о своем деде? – спросил отец. – Это нужно для очередного репортажа?
– Нет, это нужно лично мне, – твердо ответила Маша. – Чем он занимался и как погиб? Ведь он трагически погиб? Где это случилось? В экспедиции?
Они прошли в комнату, где, как Маша поняла, отец проводил время, когда болел. В комнате было душновато и не прибрано, пахло пылью. Отец торопливо убрал в ящик какие-то лекарства.
– Твой дед был крупным археологом, специалистом по древним религиям, – сказал он, сев на диван и обтерев лоб платком. – Даже в то время, когда с выездом было очень сложно, он много ездил, потому что его работы стали известны за границей.
– Как он погиб и где?
– В Риме, в восемьдесят втором году. Это была нелепая случайность, автокатастрофа. Грузовик потерял управление и врезался в такси, на котором твой дед ехал в аэропорт.
Маша быстро подсчитала в уме: в восемьдесят втором ей как раз было пять лет, стало быть, дед подарил ей пентагондодекаэдр накануне своей смерти.
– Больше ты ничего не знаешь?
Отец, не отвечая, рылся в ящиках письменного стола. Открылась дверь, и его жена внесла поднос, на котором стояли две кружки с чаем и два неправдоподобно больших куска торта на простых фаянсовых тарелках. Она молча плюхнула поднос на письменный стол и вышла. Маша мгновенно озверела.
«Чашки нарочно самые простые, чуть не с отбитыми краями, ложки тоже из нержавейки, как будто серебряных в доме нету. И кусище торта такой, что ни за что не съесть. А больше ничего, хоть бы конфет поставила! Это она хочет показать, что я для нее не гостья. Сама, мол, торт принесла, сама его и ешь, а нам твоего ничего не надо!»
Отец пытался делать вид, что ничего не случилось. Маша улыбнулась ему и подумала, что его семейная жизнь ее совершенно не касается. Она пришла сюда по делу, сейчас быстренько выяснит все про деда и уйдет.
Отец отставил чашку и снова углубился в ящики письменного стола. Наконец он с торжествующим возгласом достал оттуда потертую кожаную папочку. В ней лежала вырезка из газеты.
– Это по-итальянски, – сказал отец, – в свое время я сделал перевод, – он протянул Маше машинописный листочек.
В заметке сообщалось про аварию на шоссе, ведущем от Рима к аэропорту. Шофер грузовика не справился с управлением, грузовик занесло на повороте, и он столкнулся с такси. Водитель такси выжил, а пассажир – профессор из России погиб на месте.
– Это не все, – отец смотрел очень серьезно, – раз уж ты проявила такой интерес… Вот у меня есть письмо. Его прислал вместе с вырезкой коллега твоего деда, профессор Дамиано Манчини.
Профессор писал по-английски, так что перевода не потребовалось. Профессор выражал синьору Магницкому глубокие соболезнования в связи со смертью его отца, известного и глубоко им почитаемого ученого из старинного рода Бодуэн де Куртенэ, и далее в очень осторожных выражениях сообщал, что насчет аварии все не так просто, у властей и полиции есть некоторые сомнения, возможно, авария подстроена. Ведется расследование, и он, профессор Манчини, обещает держать синьора Магницкого в курсе дела.
– Больше писем не было, – сказал отец, когда Маша поглядела на него после чтения, – очевидно, расследование ничего не показало. Но я, как ты понимаешь, не очень ждал, да и не мог вступать в переписку. Тогда было такое время… не то, что сейчас. Тем более что моего отца, твоего деда, все равно не вернуть.
– А почему он пишет – дед из старинного рода Бодуэн де Куртенэ? Это еще при чем?
– А ты не знала? – отец грустно улыбнулся. – Это настоящая фамилия твоего деда – Бодуэн де Куртенэ. Очень старинный род, их предок, герцог Болдуин, участвовал в Крестовых походах и в двенадцатом веке был королем Иерусалима.
– Какое в Иерусалиме могло быть королевство? – фыркнула Маша. – Ты ничего не путаешь? Это звучит, как новоржевская империя!
– Это у тебя в голове сплошная путаница! – рассердился отец. – Я всегда говорил, что нынешнее журналистское образование ничего не стоит. Чему вас там учат? Ты хоть слышала что-нибудь о Крестовых походах?
– Конечно! – Маша тоже повысила голос. – Рыцари Западной Европы вдруг подхватились и решили освобождать христианские святыни от мусульман! В двенадцатом веке!
– Ну так вот, возглавлял их Годфрид Бульонский, а герцог Фландрии Болдуин – это его родной брат. Сколько, по-твоему, было всего Крестовых походов?
– Ну… три.
– Гораздо больше! И четвертый возглавлял Болдуин, потому что Годфрид Бульонский к тому времени уже умер. Они таки завоевали Иерусалим, и тогда образовалось христианское Иерусалимское королевство, которое продержалось больше ста лет, потом мусульмане окончательно разбили христиан и прочно утвердились на Святой земле.
– Теперь ясно. Неясно только, какое отношение к этому имеет мой дед, – насмешливо сказала Маша.
– Потомки короля Болдуина разбрелись по свету. Как уж они дошли до России – понятия не имею. В девятнадцатом веке в университете работал известный профессор с такой фамилией, потом – еще один, филолог, наверное, его сын.
– Тоже наши родственники? – усмехнулась Маша.
– Про это ничего не знаю, – отец был серьезен, – знаю только, что твой дед много претерпел в молодости из-за своей чересчур звучной фамилии и когда женился, то решил взять фамилию жены – Магницкий. В то время, сама понимаешь, так было спокойнее. С такими аристократическими предками у него просто не было шансов чего-либо достичь в науке!
Дверь распахнулась резко, как будто пнули ногой. Вошла жена, собрала чашки с недопитым чаем.
– Тоже мне, родовая аристократия! – прошипела она сквозь зубы, так, чтобы слышала Маша.
– Жаль, что ты так мало знаешь о деде, – грустно сказал отец.
– А ты мне рассказывал? – вскипела Маша. – Что-то я не помню, чтобы ты со мной часто общался в детстве.
Она тут же пожалела о своих словах, потому что отец сгорбился и сразу постарел лет на десять.
– Ну ладно, – примирительно сказала она, – вряд ли происхождение моего деда имеет отношение к его смерти. А ты веришь, что гибель его не случайна?
– Это было так давно… – отец склонил голову, – знаешь, вот ты спросила, и теперь я вспоминаю… перед той поездкой он вел себя… не то чтобы странно, но он прощался со мной так, будто не надеялся увидеться снова. Тогда я подумал, что отец предчувствовал свою смерть – ну, он все-таки был немолод…
– Возможно, этому есть более реальное объяснение? – прервала его Маша.
– Ты рассуждаешь, как репортер, – грустно сказал отец, – все нужно выяснить до конца, во все внести ясность… – Он закашлялся, и Маша отметила, что кашель у него нехороший, такого не бывает при обычной простуде.
– Я не знаю, чем конкретно он занимался перед своей поездкой в Рим, зачем он вообще туда ездил, – сказал отец, отдышавшись, – он не рассказывал мне подробно. Откровенно говоря, у нас с ним тогда складывались не самые лучшие отношения. Он не одобрял моего развода с твоей матерью и то, что я совсем с тобой не вижусь… Но, понимаешь, твоя мама…
– Не будем об этом, – решительно прервала Маша, испугавшись, что сейчас ее втянут в какие-нибудь прошлые семейные дрязги и разбирательства.
– Да, я вспомнил! – оживился отец. – Он спрашивал тогда ваш адрес, хотел тебя навестить…
– Не помню, – как можно равнодушнее сказала Маша и порадовалась, что перед тем, как позвонить в квартиру отца, она сняла кулон и убрала его в сумочку.
Сейчас ее все время не оставляла мысль, что жена отца стоит под дверью и слушает их разговор. Вряд ли она поймет, что пентагондодекаэдр – очень ценная вещь, но может заподозрить, что дед оставил Маше какие-нибудь старинные драгоценности или монеты. И тогда она станет настраивать отца против нее.
– Он оставил мне свои записи, – послушно вспоминал отец, – рукопись неоконченной книги, какие-то заметки для статей, переписку. Все это после его смерти забрали люди из института. Сказали, что сдадут в архив. Остались только личные дневники, у отца был такой почерк, что никто его не мог разобрать…
– Да что ты? – оживилась Маша. – А можно мне посмотреть?
Отец в задумчивости уставился на ящики, потом вышел в коридор. Послышался грохот, скрип дверцы шкафа, что-то упало со звоном. Маша в это время аккуратно переписала адрес с конверта, в котором находилось письмо профессора Дамиано Манчини. Начальник Виталий Борисович учил, что репортер не должен пренебрегать никакой, даже самой малой крупицей информации.
– Алина! – послышался голос отца. – Куда делась с антресолей коробка с бумагами?
Маша не разобрала слов, но, судя по интонации, Алина отозвалась хамски. Она приоткрыла дверь и прислушалась.
– Ты что – выбросила ее? – судя по голосу, отец разозлился.
– Кому нужно твое старье! – заорала жена. – Всю квартиру к черту захламил! На дачу я отвезла твои бумажки, может, хоть на растопку пригодятся!
– На растопку? – ахнул отец и снова закашлялся.
Он стоял в прихожей, согнувшись, и никак не мог унять приступ. Маша провела его в комнату и помогла сесть на диван, а сама полетела за водой. На кухне Алина, как ни в чем не бывало, выщипывала брови перед настольным зеркалом.
– Ты, зараза! – не выдержала Маша. – Отца в могилу свести хочешь? Ценные бумаги на растопку пустила!
– Тебе-то какое дело! – прошипела та. – Что ты приперлась в чужой дом?
Маша отнесла отцу воды и решила, что ей здесь больше нечего делать.
Дмитрий Алексеевич отложил скальпель, которым он осторожно соскребал краску для лабораторного анализа, и снова, который уже раз вгляделся в изображение маленького чудовища на руках Мадонны. Этот монстр невольно притягивал взгляд реставратора, то и дело заставлял возвращаться к себе его мысли.
Старыгин достал свою любимую лупу в бронзовой оправе и принялся рассматривать уродливое создание – его маленькие скрюченные лапки, его плоскую отвратительную морду, изогнутый хвост… Отдельные части чудовища казались Дмитрию Алексеевичу удивительно знакомыми, он где-то видел похожие существа. Наверняка в каком-то из средневековых бестиариев, старинных книг, посвященных описанию существующих в далеких краях или вымышленных зверей. На страницах этих манускриптов гиппопотам соседствовал с крылатым быком, крокодил – с двухголовой змеей, якобы обитающей в долине Нила, верблюд – со сказочной птицей рох. И действительно, с точки зрения человека Средневековья, полосатая африканская лошадь казалась нисколько не менее удивительной, чем грифон или мантикора.
Если он видел подобное существо в каком-то бестиарии, то нужно обратиться к Антонио Сорди, коллеге из библиотеки Ватикана, который как никто другой знает подобную средневековую литературу.
В очередной раз порадовавшись чудесам прогресса, Старыгин отсканировал чудовище с картины, ввел изображение в компьютер и тут же отослал его по электронной почте в Рим, сопроводив коротким письмом к Антонио. Затем он снова занялся исследованием красочного слоя картины.
Однако не прошло и часа, как почтовая программа известила его о получении нового письма.
Это был ответ от Антонио.
«Дорогой друг, – писал итальянец, – сообщите скорее, где Вы отыскали такое удивительное изображение? Насколько я могу судить, это помесь василиска и амфисбены, причем выполненная рукой великого мастера. Как Вам, несомненно, известно, оба эти существа подробно описаны Леонардо да Винчи в одной из его записных книжек, так называемом манускрипте «Н». Возможно ли, что присланное Вами изображение принадлежит руке Леонардо? Если это так, то Вы совершили открытие, которое обессмертит Ваше Имя! Могу поздравить Вас с такой удивительной находкой! Надеюсь в ближайшее время увидеть Вас в Риме. С глубоким уважением, Антонио Сорди».
Василиск и амфисбена! Два мифических существа, описанных Леонардо да Винчи!
Старыгин вскочил и заходил по мастерской, в волнении сжимая руки.
Как написал Антонио? Манускрипт «Н»? К сожалению, в Эрмитаже нет рукописей Леонардо, но в кабинете рукописей ему могут дать подробную консультацию.
Дмитрий Алексеевич снял измазанный краской рабочий халат, надел пиджак и поспешил хорошо знакомой дорогой в кабинет рукописей.
Танечка встретила его с неизменной радостью:
– Дима! Заходи, я как раз заварила кофе! А где же твоя… химическая консультантка?
– После, после! – Старыгин замахал руками. – Все после! Расскажи, пожалуйста, что ты знаешь о так называемом манускрипте «Н» Леонардо да Винчи?
– Манускрипт «Н»? – Таня на секунду задумалась. – Ну как же! Как ты, конечно, знаешь, большую часть рукописей Леонардо унаследовал его друг и ученик Франческо Мельци. За десять дней до смерти, 23 апреля 1519 года, в замке Клу близ Амбуаза, во Франции, Леонардо написал завещание, по которому Франческо, совсем тогда молодой человек, получил в наследство все бывшие тогда при нем рисунки, портреты и инструменты. Франческо Мельци был верным учеником Леонардо. Он бережно хранил его рукописи, делал из них выписки и составил первый сборник, так называемый Ватиканский кодекс. Ни одного документа, написанного рукой учителя, Мельци не продал, несмотря на то, что ему делали чрезвычайно щедрые предложения.
После смерти Франческо Мельци в 1570 году сын его, доктор Орацио Мельци, не имевший никакого представления о ценности рукописей Леонардо, свалил их на чердак и позабыл. Началось расхищение манускриптов, которые становятся объектом спекуляции. Большая часть попала в руки книготорговца Помпео Леони, который из части листов составил так называемый Атлантический Кодекс, переплетя его в красную кожу и сделав на обложке надпись «Рисунки машин и тайных искусств». У того же Помпео Леони два тома манускриптов приобрел английский посланник граф Арондель, впоследствии оба эти тома перешли в собственность английской короны и хранятся сейчас в Британском музее и Виндзорской библиотеке. После смерти Помпео Леони находившиеся у него рукописи Леонардо достались его наследнику, Клеодоре Кальки, от которого после еще одного владельца они перешли в Амброзианскую библиотеку в Милане. Здесь оказались Атлантический Кодекс и еще десять рукописей, которые с тех пор известны под названием манускриптов A, B, E, F, G, H, I, L и M.
– Ага! – воскликнул Старыгин. – Вот, наконец, и возник мой манускрипт «H»! Значит, он находится в Милане?
– Не спеши, Дима! Превратности европейской истории еще раз нарушили целостность этого собрания рукописей. Когда в 1796 году Бонапарт завоевал Ломбардию, то из Милана все манускрипты Леонардо, вместе со многими другими культурными ценностями, якобы для сохранности были отправлены в Париж. Атлантический Кодекс попал в Национальную библиотеку, а двенадцать отдельных рукописей – в библиотеку Французского института. В 1797 году Вентури, профессор университета в Модене, находился по служебным делам в Париже, изучил эти рукописи и опубликовал выдержки из них.
– Так что – все эти рукописи так и остались во Франции?
– Нет, после Реставрации вывезенные из Италии сокровища искусства по мирному договору должны были быть возвращены, однако в Милан возвратили только Атлантический Кодекс, а остальные рукописи Леонардо так и остались в библиотеке Французского института. Кстати, если тебе интересно, у меня есть хороший экземпляр издания профессора Вентури…
– Танечка! Ты просто ангел! – Старыгин молитвенно сложил руки. – Я об этом даже не мечтал! Я тебя обожаю!
– Запишу этот комплимент в отдельную книжечку, которую буду в старости перечитывать долгими зимними вечерами! – с этими словами Татьяна вскарабкалась по лесенке и достала с верхней полки стеллажа толстый том, переплетенный в телячью кожу, с золотым тиснением на корешке.
– Вот он, твой манускрипт «Н», – проговорила она, протягивая раскрытую на середине книгу.
Дмитрий Алексеевич бережно взял книгу в руки и начал читать, на ходу переводя на русский:
«Василиск. Он родится в провинции Киренаике и величиной не больше 12 дюймов, и на голове у него белое пятно наподобие диадемы; со свистом гонит он всех змей, вид имеет змеи, но движется не извиваясь, а наполовину поднявшись прямо перед собой. Говорят, что когда один из них был убит палкой неким человеком на коне, то яд его распространился по палке и умер не только человек, но и конь. Губит он нивы, и не те только, к которым прикасается, но и те, на которые дышит…»
– Замечательное создание! – с чувством проговорил Старыгин. – Просто не животное, а оружие массового поражения! Ну-ка, а вот что пишет Леонардо про амфисбену:
«Амфисбена. У нее две головы, одна – на своем месте, а другая на хвосте, как будто не довольно…»
Дмитрий Алексеевич перевернул страницу книги и вдруг удивленно замолк.
– Что там, Дима? – окликнула его Татьяна. – Почему ты замолчал?
– Посмотри сюда, ты поймешь, – Старыгин протянул ей книгу, – насколько я понимаю, это – не твои пометки! Вряд ли вы наносите библиографические знаки таким грубым способом!
Татьяна взяла у него том, взглянула на раскрытую страницу и ахнула. На полях книги по желтоватой старинной бумаге тянулась непонятная надпись, сделанная красным фломастером. Длинная цепочка отчетливых, крупно написанных цифр.
– Какой ужас! – проговорила наконец женщина, положив открытую книгу на стол. – Какое варварство! Так испортить редчайшее издание!
– Хорошо, что я был у тебя на глазах и ты не подумаешь на меня! – с вымученной усмешкой промолвил Старыгин.
– Как ты можешь, Дима! – отмахнулась Татьяна. – Я прекрасно знаю, что ты на такое не способен!
– Кто брал у тебя в последнее время эту книгу?
– В том-то и дело, Дима, что никто! С ней уже несколько лет никто не работал! Да если бы кто-то и брал, неужели ты думаешь, что наш сотрудник мог бы так варварски обойтись с таким редким изданием?
– Позволь-ка… – Старыгин наклонился над книгой и принялся разглядывать надпись через свою любимую лупу.
– Почему ты носишь лупу без футляра? – недоуменно спросила его Татьяна. – Ведь она может поцарапаться или разбиться, а вещь старинная, очень красивая…
– Где-то потерял футляр… – равнодушно проговорил Старыгин. – Надо будет подобрать новый… Хочу тебе сказать, что эта надпись совсем свежая, сделана не больше чем два-три дня назад…
– Ничего не понимаю! – Татьяна недоуменно пожала плечами. – У нас в эти дни вообще не было посторонних! Но, по крайней мере, свежую надпись намного легче свести.
– Это точно, – подтвердил Дмитрий Алексеевич. – Я принесу тебе подходящий растворитель, который не повредит старинную бумагу. А ты позволишь мне скопировать эту надпись?
– Конечно, – кивнула Татьяна. – Не понимаю, зачем тебе это понадобилось, но делай с ней все, что хочешь.
Старыгин не стал объяснять своей подруге, чем заинтересовала его надпись на странице старинного кодекса. Он не хотел пугать ее, не хотел втягивать в непонятные, необъяснимые события, разворачивающиеся вокруг картины Леонардо да Винчи.
Странная надпись приковала к себе его внимание тем, что цифра «7» в ней была написана в точности так же, как каждая из четырех невидимых семерок на таинственном холсте из зала Леонардо. Точно тем же почерком, точно той же рукой. Дмитрий Алексеевич нисколько не сомневался в этом. При его опыте реставратора отличить один почерк от другого не составляло ни малейшего труда.
Кроме того, само место, где была найдена надпись, говорило о ее важности и о том, что цепочка цифр имеет прямое отношение к таинственной картине. На эту книгу, на эту страницу в ней указало страшное создание на руках Мадонны…
Старыгин рассеянно простился с Татьяной и поспешил к себе в лабораторию, не утешив расстроенную женщину. Ему не терпелось попытаться прочесть загадочное послание.
Положив сделанный в кабинете рукописей список на стол, Старыгин задумался. Он не был специалистом по шифрам и кодам, не имел даже математического образования, однако что-то подсказывало ему, что этот код он сумеет прочесть. Ведь тот, кто написал цепочку цифр на странице старинной книги, явно хотел, чтобы его послание прочли и поняли. Причем он адресовал свое письмо, скорее всего, именно ему. То есть не конкретно Дмитрию Старыгину, а тому человеку, который будет изучать загадочную картину и у которого при этом достанет знаний и сообразительности, чтобы узнать, из частей каких мифических созданий составлен маленький монстр на руках Мадонны.
Старыгин предполагал, что каждая цифра в цепочке обозначает какую-то букву. Но какую?
Для начала он выписал в столбик все буквы русского алфавита и заменил каждую цифру соответствующей по порядку буквой.
В результате у него получился бессмысленный набор букв.
Он повторил то же самое, написав алфавит в обратном порядке, от «Я» до «А», и снова проделал подмену.
Результат получился таким же бессвязным.
Может быть, нужно выписать буквы не в одну колонку, а в несколько? Но во сколько – в две, в три, в четыре?
Старыгин бросил карандаш и выпрямился. Так можно гадать сколько угодно, нисколько не приближаясь к истине! А она, может быть, где-то совсем близко, совсем рядом! Истина… Veritas – по латыни…
Дмитрий Алексеевич подскочил, как от удара. Почему он выписывал буквы русского алфавита? Ведь все записи, с которыми ему приходилось иметь дело в ходе работы, были сделаны на итальянском, латинском, французском языках, то есть буквами латинского алфавита!
Он торопливо выписал в столбик латинские буквы и принялся одну за другой заменять ими цифры из таинственной надписи.
И очень скоро на листке перед ним появилась фраза, которую он без труда перевел с латыни на русский:
«Найдешь ее в Госпоже катакомб».
Ее? Старыгин почти не сомневался, что речь идет о пропавшей картине, о «Мадонне Литта» кисти Леонардо. Но что значит окончание надписи? Где искать исчезнувшую картину? И что такое Госпожа катакомб?
Катакомбы в первую очередь ассоциировались у него с первыми христианами, которые вынуждены были, скрываясь от преследований, совершать свои богослужения под землей, в темноте и сырости подземелий, катакомбах Вечного города.
В очередной раз порадовавшись достижениям технического прогресса, Старыгин вышел в Интернет и сделал запрос по теме «Достопримечательности Рима».
Тут же ему выдали несколько рекламных текстов, предлагавших отправиться в путешествие и ознакомиться с красотами и древностями итальянской столицы.
Дмитрий Алексеевич быстро пробежал взглядом несколько страниц и наконец нашел то, что надо.
«На Виа Салариа находятся катакомбы Святой Присциллы. Это место в древних источниках называли «госпожой катакомб», поскольку в ней находятся захоронения многих первых христиан, в первую очередь – первых семи римских пап, в том числе святого Марцеллина и его преемника Марцелла…»
Вот оно! Вот куда ведет найденная на странице старинной книги подсказка! В Рим, в катакомбы Святой Присциллы! Не случайно всего какой-нибудь час назад Антонио Сорди написал, что надеется вскоре увидеть его в Риме!
Старыгин перевел дыхание и остановил полет своей фантазии.
С чего он взял, что анониму, который испортил красными чернилами ценную старинную книгу, можно верить? Скорее всего, это обман, хитрая уловка. Его хотят направить по ложному следу…
Но что-то, какой-то внутренний голос продолжал повторять: Рим, Виа Салариа…
Высокий, необыкновенно худой человек опустился на ковер и легко принял позу лотоса. Он был необычайно гибок и мускулист и без труда мог принять самую трудную позу йоги. Чиркнув спичкой, он зажег тонкую ароматическую свечу на медной подставке и втянул сладковатый, пряный дым. Мужчина скосил глаза на свое запястье. Ящерица, изображенная на смуглой коже, казалось, ожила, ее маленькие глазки загорелись угрожающим красным огнем.
– Час нашего торжества близок, – прошептал мужчина, обращаясь то ли к этому странному созданию, то ли к кому-то невидимому, чье присутствие он ощущал в любой миг дня и ночи.
Особенно ночи.
Давно уже худой мужчина не мог заснуть, и ночные часы были заполнены мучительными, беспокойными мыслями. Правда, теперь он был на полпути к осуществлению главной цели своей жизни, он уже сделал много, очень много, и Повелитель должен быть им доволен… но многое еще предстояло завершить.
Ароматный дым заполнил его легкие, и мужчина почувствовал приближение знакомого головокружения, приближение того удивительного, не поддающегося описанию состояния, которое в последнее время заменяло ему сон.
Ему показалось, что ящерица на запястье шевельнулась и шире открыла глаза. Мужчина устремил в эти глаза свой собственный взгляд, встретился с горящими глазами маленького чудовища, полностью растворился в них. Перед его разноцветными глазами, как обычно в часы медитации, поплыли цветные облака, не те легкие, блекло-голубые, которые проплывали в окнах на заднем плане Картины, а яркие, розовые, как цветы шиповника, с густой багровой подкладкой… розовые облака проплыли и постепенно растворились в пылающем дымно-красном свете, и на смену им пришли вращающиеся круги, кольца, спирали, прерывистые, беспорядочно пересекающиеся линии. Это было предвестием приближающегося Видения.
Мужчина расслабился, открывая Иной Силе свое сознание, все самые потаенные его уголки. Он ждал и надеялся.
И вот сквозь густые клубы ароматного дыма, как проявляющийся фотоснимок, постепенно показался темный, сырой коридор, неверное, колеблющееся пламя свечи, неровная стена в потеках сырости и явственно проступающее на ней изображение. Знакомое, очень знакомое место.
Из-за поворота коридора появились двое, мужчина и женщина. То ли из-за темноты, то ли по какой-то другой причине никак не удавалось разглядеть женское лицо. Впрочем, это было не так уж важно. Важно было другое: это именно она, та самая женщина, которая поможет ему завершить самое главное дело жизни…
Значит, его план удастся, у него получится все, что задумано. Он, как паук, застывший в центре огромной паутины, дождался своего часа, и теперь останется только потянуть за нужную ниточку и завершить начатое. Они попались в расставленную им ловушку. Они сами придут туда, куда он их направил. Ему останется только ждать их там.
Но вдруг в душе медитирующего человека зазвучала какая-то тревожная нота, в ней проснулось неясное беспокойство. И причина этого неосознанного беспокойства заключалась именно в ней, в этой женщине. Она что-то делала не так, как нужно… или что-то знала, чего не должна была знать… или у нее было то, что могло помешать выполнению великой миссии…
Разноглазый человек втянул расширенными ноздрями сладковатый дым, сосредоточился, пытаясь понять, откуда исходит это смутное беспокойство… это было важно, очень важно…
Но вдруг в его сознание вторгся посторонний звук, посторонний голос.
– Брат, я принес то, что ты просил…
Видение разрушилось, растаяло, исчезло, как ноздреватый снег под яркими лучами весеннего солнца. Без следа пропал темный коридор и те два человека, которые шли по нему, приближаясь к священному изображению.
Раскрыв свои разноцветные глаза, худой человек увидел перед собой того самодовольного, вальяжного мужчину, который предоставил ему кров. Как его зовут? Кажется, Николай… конечно, он его брат по вере, он служит Повелителю, но что-то подсказывало разноглазому, что служение это – неискреннее, что Николай ненадежен.
И то, что он так не вовремя появился, разрушив видение, помешав найти причину нарастающего беспокойства, вызывало бесконечное раздражение.
– Я помешал тебе? – спросил Николай. – Прости меня, брат. Я принес тебе новые документы. И я хотел спросить – долго ли ты еще здесь пробудешь?
Голос Николая прозвучал спокойно, даже равнодушно, но разноглазый человек своими обостренными от бессонницы и нервного напряжения чувствами уловил таящийся в глубине его души страх. Он интересуется, долго ли я здесь пробуду. Он не просто интересуется. Он беспокоится. Он боится.
Страх несовместим с искренним служением Повелителю. Страх – удел слабых, удел тех, кто ничего не видит за тусклой оболочкой обыденного, тех, кому не дана высокая сущность видений… больше того – страх опасен… не потому ли он так боится, что готов предать?
– Спасибо, брат, – вполголоса проговорил худой мужчина и поднял на Николая свои глаза: один карий, точнее – янтарно-желтый, второй густо-зеленый, как полуденное море.
– Спасибо, брат, – повторил он, мягко и легко поднимаясь на ноги. – Повелитель воздаст тебе сторицей за твое верное служение.
– Я служу Ему не за награду, – Николай смущенно потупился. – Я служу Ему по зову сердца…
«Как бы не так! – раздраженно подумал разноглазый. – Он слишком многим обязан нам… когда у них в стране все разваливалось, когда одни люди создавали на руинах огромные состояния, а другие разорялись и гибли, мы помогли ему. Именно нам он обязан своим сегодняшним благополучием… по зову сердца, надо же…»
Он шагнул навстречу Николаю, осторожно взял из его руки прозрачную папку с документами, положил ее на стол. Встретился с ним глазами, словно притягивая, впитывая его взгляд.
И прочитал в этом взгляде готовность предать. Предать от страха, от бессилия.
Николай вздрогнул, попятился. С его беспокойным гостем происходило что-то странное, что-то удивительное: его разноцветные глаза вдруг утратили свой цвет, стали прозрачными, как талая вода… и такими же холодными…
Николай еще немного отступил и почувствовал спиной стену.
– Почему… за что… – пробормотал он трясущимися от страха губами. – Ведь я служил вам… верно служил…
– Ты служил нам, – повторил гость, – и поэтому тебе ниспослана великая милость. Самая великая милость, которая может быть дарована смертному: легкая, безболезненная смерть.
Он протянул вперед свою легкую, сухую, как ветка высохшего дерева, руку и едва коснулся горла своего гостеприимного хозяина. Тот тихо ахнул и мешком рухнул на мягкий ковер. Глаза его подернулись бесцветной пленкой забвения и уставились в потолок, будто Николай прочел там какие-то пылающие письмена.