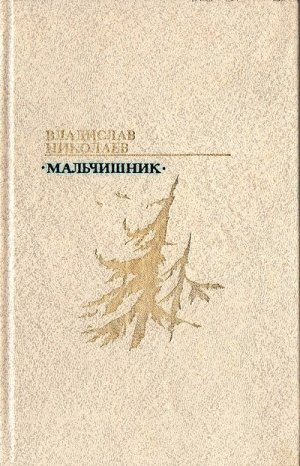
Мальчишник
© Журнал «Урал», 1981
Без посошка на дорогу — не проводины.
Из приготовленных в поход запасов спирта был организован в пузатом графинчике посошок, а к нему соответствующие зрелой летней поре закуски: грибы, ягоды, огурцы, помидоры. Стол собирался в складчину и потому ломился от разносолов, порой редких по нынешним временам — вроде янтарной волжской осетринки.
В прошлые годы совершившие с мужьями не один многотрудный поход, жены в этот раз оставались дома: у той сын поступал в институт и надлежало быть при нем, у другой уже заканчивал, третья откровенно ссылалась на возраст — сединами да морщинами зверей смешить в тайге?
Да, в возрастном отношении наша группа была тяжеленькой на подъем: каждому за сорок с гаком. Подстарки. А мой друг детства и одноклассник Геннадий Максимович Глотов собирался отметить в походе свое пятидесятилетие. Вот как!
Было бы логичнее, ежели бы под Полярный круг сегодня отправлялся не он, а сидевший рядом со мной сын его Евгений — тренированный крепкий паренек в спортивной куртке и зауженных джинсах с иностранной этикеткой на заднем кармане. Для диких троп экипировка подходила больше, нежели для застолья. Но Женя в эти дни как раз готовился поступать в горный институт и к тому же на лихой Север его вовсе не тянуло. С иронической улыбкой на опушенных молодой темной порослью мальчишеских губах он ерничал мне на ухо:
— Надо в ишака превратиться, чтобы тащить на себе сорокакилограммовый рюк… И достойно ли человека заживо отдавать себя на съедение комарам и гнусу? Нет, не позавидуешь вам.
Отцы запели. Пели песни залихватской давности:
Тридцать лет назад слова эти звенели в наших устах, как заверение и клятва: так и будет! Непреложно верилось в вечную молодость и бесконечное обновление. Многие ли сдержали клятву? Многие ли в пятьдесят с подтвержденным правом и юношеским пылом выдыхают эти слова — «не покажется»?
За столом полнозвучными голосами пели хваченные седыми стужами люди, сдержавшие клятву.
В давнем детстве меня, корявого на ухо, прямо-таки поражали певческие способности моего дружка. Выйдем из кинотеатра, в который, бывало, прорвешься-влезешь буквально по головам и шапкам, и он уже насвистывает все подряд прозвучавшие там мелодии. Его несколько сладковатый, сентиментальный — будто в Италии проходил выучку — голос и сейчас ведет за собой весь застольный хор:
Прощальная песня звучит особенно ладно и задушевно, ибо полностью выражает настроения и чувства как уезжающих, так и остающихся. Там, где мужчины поют «нам», жены переиначивают на «вам» — вам идти — и наоборот. Женщины хорошо знают суровый и завораживающий край, куда отправляются мужья, и немножко грустят оттого, что нынче там, в горах, не сольются их голоса у ночного костра вот в таком же славном хоре:
Таежная железная дорога, пароход-подкидыш, перебрасывающий путешественников с одного берега Оби на другой, «Метеор» на подводных крыльях, станции и полустанки, пристани и причалы, ночевки вповалку на расстеленных по полу дебаркадеров палатках — пьянящая свободой походная жизнь.
Приготовляясь к одной из ночевок, укладывая в изголовье литые резиновые сапоги, Максимыч вдруг спросил:
— А чересседельник помнишь?
— Какой чересседельник?
— Ужели запамятовал?
И я расхохотался.
Прочитав одновременно «Тараса Бульбу», мы были захвачены детски простодушной и потому особенно заразительной поэзией казацкой вольности. Размах и удаль во всем, рыцарские подвиги во славу товарищества, отдохновение на нагой земле с казацким седлом в изголовье — это ли, черт возьми, не жизнь!
Увы, казацкое седло, как ни старались, добыть нигде не смогли, но среди всякого хозяйственного хлама в темной, без окошек, амбарушке я разыскал потрепанное крысами седелко, сохранившееся с тех незапамятных времен, когда мой отец держал лошадь. Седелко, конечно, не седло: и маленькое, и слишком много железа в нем — железные полудуги, железные ушки, через которые продергивался сыромятный ремень-чересседельник для подхвата и притягивания тележных или санных оглобель. Но ведь нам не верхом скакать.
Затащили мы седелко на чердак, где умели жить нездешней жизнью. Уноситься в иные края и иные миры помогали нам собранные на свалках железного лома продырявленные немецкие каски с рожками, помятые фляжки, противогазы, патронные и снарядные гильзы, самодельные поджиги и кинжалы, помогали истрепанные книжки, валявшиеся среди боевых трофеев: «Тарас Бульба», «Айвенго», «Спартак», «Тимур и его команда».
Ежели распахнуть чердачную дверь, откроется в майский день вид на густые и пышные, дымящиеся белой кашей черемухи, далее вниз по склону пойменной крутизны — на темные и неохватные, как дождевые тучи, вековые тополя, и еще дальше, за жердяными пряслами огородов — на сверкание и блеск струй тогда еще чистой и многорыбной реки Тагил.
Перед распахнутой, дышащей свежестью и волей дверью мы и устроили на ночь казацкое ложе. Набитый сеном матрац — прочь! Вместо него на уложенные поверх чердачного праха занозистые доски кинули телячью шкуру. В изголовье — конечно, седелко. Чтобы пуще походить на выносливых неприхотливых запорожских удальцов, мы и одежонку с себя стянули, без ничего разлеглись на шкуре.
Промучившись кое-как ночь и совсем разбуженные колючим уральским утренником, мы вдруг не нашли возле себя ни портков, ни рубашек.
Шутница-мама, видать, решила позабавиться над нами. Поднялась спозаранок на чердак, увидела нас такими, без ничего, и упрятала одежонку. Подшутила же она однажды над отцом настолько дерзко, что потом, вспоминая, оба всю жизнь смеялись.
Отец был отчаянным смолокуром — дымил не переставая. Перед едой он загодя сворачивал козью ножку, туго набивал ее ярым самосадом и клал за бровку притолоки, чтобы сразу же из-за стола выйти во двор и потешить душу дымком. Мама ворчала, так и этак отговаривала от табака, но какой мужик внемлет подобным увещеваниям, покуда не клюнет его жареный петух. Тогда она решила воздействовать иными средствами. Во время ужина, усадив отца за стол спиною к двери, сама будто бы по делу выскочила в сени, неслышно выхватив по пути из-за бровки заготовленную цигарку; в сенях она отбавила из нее табаку и вместо него подсыпала охотничьего черного пороху. Вернувшись в избу, незаметно сунула закрутку на прежнее место. Управившись с немудреным ужином, отец целеустремленно вышел из-за стола, похлопал себя по карманам, в одном из которых разговорчиво отозвались спички, нашарил за притолокой козью ножку, сунул в рот и вышел во двор, где прямиком направился в тесовую будочку на одного человека. Предвкушая два удовольствия, устроился над очком и чиркнул спичкой. Перед глазами с электрическим треском взорвалась шаровая молния. Может, и пострашнее что померещилось, ибо в избу он вскочил, путаясь в спущенных до колен штанах, и лицо его выражало не только гнев, но и еще не преодоленный испуг. Ну, а мама, держась рукою за угол печки, чтобы не свалиться от смеха на пол, хохотала на весь дом…
— Мама! — блажным голосом заорал я вниз. — Что за штучки-дрючки такие? Верни нам штаны и рубахи!
— Какие штаны? Какие рубахи? — не понимала и удивлялась мама.
— Сама знаешь какие. Не притворяйся.
Но мама ничего не знала и не притворялась. Куда же в таком случае подевалось бельишко? Свесив через чердачную дверь голову, я глянул вниз, на грядки, и меж лопушистых стеблей табака-самосада углядел нашу пропажу — ворочаясь во сне от холода и запорожских неудобств, знать, сами столкнули.
Проскочить незамеченным через сенки, куда спускалась чердачная лестница, мимо залюбопытствовавшей мамы не удалось. Голые ягодицы вызвали у нее не смех, а негодование, и она успела достать их по разу сыромятным чересседельником, который, вытащив вечером из седелка, я, как на грех, бросил в сенках.
— Ах вы бесстыдники! Басурманы! Еще что выдумали! Мало пальбы-стрельбы — штаны сняли!. Ужо я вам!..
Вот о чем неожиданным вопросом напомнил Максимыч, приготавливаясь ко сну на полу дебаркадера в меншиковском Березове. Не мерещились ли ему литые резиновые бахилы в изголовье снова прекрасным, с изогнутыми луками и хрустящей толстой кожей казацким седлом, тем седлом, в какое на утре нашей жизни преображалось на сквозном чердаке набивающее синяки и шишки рабочее железное седелко?
С Максимычем мы не виделись много лет. Он безвыездно живет в Нижнем Тагиле. Я же немало помотался по белу свету, пока наконец тоже не осел близ отчих мест. Поговорить нам есть о чем, поэтому то и дело слышится вопрос: «А помнишь?»
Помню, помню! Все помню!
Семь классов мы закончили на самой дальней городской окраине в неполной средней школе, вздымавшейся белым двухпалубным кораблем средь серо-зеленых волн бревенчатых изб, обширных пустырей и огородов. Продолжать учение перешли в другую школу, поближе к центру.
Те, кто переходил из школы в школу, должны знать, как тяжело и мучительно дается ребячьей душе привыкание к новым учителям, новым товарищам, настроенным к тому же пристрастно и недоверчиво, даже к пахнущим по-иному коридорам, классам и раздевалкам. Замораживает лютая скованность. Никогда, кажется, не стряхнуть ее.
Посыпались на нас колы и двойки. Заколодило у Максимыча по математике. Как ни бьется, ни потеет, ни одной задачки покорить не может. Устроимся вечером рядышком, раз десять обскажу со всех сторон решение.
— Понял?
Посмотрит на меня блестящими карими глазами, заволоченными сонной пеленой непонимания, и мотнет головой:
— Нет.
Вскоре он не выдержал — ушел из школы. Поработал для навара на разборке гнилой картошки в овощехранилище, а на следующий год неожиданно поступил в горно-металлургический техникум.
— Удивительно! — радовался он, и в его блестящих глазах уже не было сонной пелены. — Как орехи щелкаю задачки. Все схватываю догадкой. Что тогда со мной происходило — в толк не возьму.
Наведываясь на отцовщину из сибирских краев, где мотался по громким стройкам, медвежьим углам и писал в газеты, я непременно заворачивал к другу.
Сначала ходил в сбитую из досок земляную насыпуху, сгоношенную на моих глазах в лютые военные дни его отцом и матерью на необжитом берегу реки Тагил, потом — в ветхую захилившуюся хибару, окошки которой вырастали прямо из земли. Чтобы не разбить лба о притолоку при входе в жилище, надо было низко наклонить голову, а долговязому согнуть еще и ноги в коленях. Но вот уже лет двадцать он живет в светлой, высоко вознесенной над землей квартире, угнездившейся в двух шагах и от драмтеатра, и от кинотеатра, и от многокнижной публичной библиотеки, и от освежающе-раздольного Тагильского пруда, дальние берега которого все еще летом заманчиво зелены, а осенью пестры и огнисты нетронутыми лесами.
Бывало, по каким-либо причинам не завернешь сразу к Максимычу, идешь-бредешь по долгой улице, и вдруг сзади бешеной погоней догоняет мотоцикл с коляской, позже — машина. Встав на дыбы и с визгом тормозов останавливается впритирку — распахивается дверца, и из нее красным солнышком высовывается сияющее лицо друга.
— Садись, подброшу.
— Может, не по пути нам?
— С тобой всегда по пути. Не ломайся, садись. А покататься для удовольствия не хошь? Ну, не сейчас, вечерком. У меня сегодня выходной. Можно в лес нацелиться, можно в горы. Можно прихватить кого-нибудь для услады. Поди, не всех перезабыл в городе?
И прихватывали для услады, и гоняли в лес, в горы…
При встречах Максимыч всякий раз угощал меня каким-нибудь новым своим увлечением, высвечивающим его с совершенно неожиданной стороны.
Еще когда в техникуме учился, повлек меня смотреть треневскую «Любовь Яровую», поставленную на самодеятельной сцене. В колоритной роли матроса Шванди увидел его самого. В лихо заломленной, сидящей черт знает на чем, чуть не на одном ухе, бескозырке, в широченных клешах и тельняшке с голубыми волнами, брызжущий озорством и весельем — честное слово, был он лучше всех на подмостках. Рискованное коленце с перевертыванием через голову на хлипком стуле сорвало ему персональные аплодисменты.
В другой раз провожал его в альпинистский лагерь на Тянь-Шань, куда он снарядился с группой скалолазов из техникума. И тоже хорош был с ледорубом в руке, придавленный неохватным рюкзаком, шнуровка на котором от поклажи не затягивалась, а сверху рюк венчался еще и белым мотком-кренделем крепчайшей связующей веревки.
Как-то застал его в толстом мохнатом свитере, в вязаной шапочке с наушниками и фланелевых шароварах.
— Вот ведь какая досада! — опечалился он. — Не посидеть сегодня. На Долгую гору собрался на лыжах кататься. Если бы один, мог бы еще притормозить. С ребятами из цеха сговорились. Всякий выходной там казакуем. А впрочем, айда-ка с нами.
— Куда я без лыж?
— Лыжи найдем. Была бы только охотка.
На широком, расчищенном склоне крутой горы скелетами вымерших динозавров громоздились два трамплина: один — гигантский, другой — поменьше. Их недоразвитые головки — площадки на выгнутых и сужающихся кверху шеях — вздымались над вершиной, будто опасливо оглядывали противоположный склон, и оттуда время от времени отрывались каплями маленькие черные фигурки и падали вниз. Убыстряя падение, они увеличивались в размерах, а потом, оторвавшись, опасно парили над больнично-белыми снегами, над рукоплескавшими ветвями и лапами взъерошенными лесами. То летали мастера.
Любители гоняли с другой горы, не обжитой еще динозаврами. Сложенный из снежных блоков трамплин катапультой выбрасывал метров на двадцать. Боишься прыгать — спускайся вихрем по разбитой лыжне рядом.
А вот и они — дружки Максимыча, цеховые ребята, — в промасленных телогрейках, толстобрезентовых спецовочных штанах, в суконно-войлочных сталеварских куртках и рукавицах, однако на первоклассных прогибистых лыжах с ротофелловскими креплениями: слесари, монтажники, сварщики, ремонтники, прокатчики, и в самой гуще — свой среди своих, такая же рабочая косточка, как и все, — атаманил старший оператор стана «650» Максимыч.
Отдельные лица я узнаю: тагильских окраин парни, выйская да гальянская вольница, погуливавшая в злые военные годы с ножичками за голенищами собранных в гармошку сапог и в продолжение традиции отцов и дедов ходившая порой стенкою улица на улицу. На войне не успели испытать себя, однако тела и лица — в боевых отметинах. Коли уж такие парни встали на спортивные лыжи — дрожите олимпийские и мировые рекорды!
Сердце обмирает глядеть с вершины горы вниз. Уносящиеся туда на крыльях распахнутых ватников скоро скрываются из виду и лишь через минуту-другую, уменьшившись в размерах до болотной кочки, объявляются — выныривают в долине. Максимыч крепко держится в седле. Ни нырки, ни кочки не валят его. Закачается, потеряв опору одной ногой, но тотчас выправится и утвердится в присадистой стойке. Но вот кто-то не удержался. Лыжи — в щепки, дюралевые палки — в дугу, а сам, рискуя сломать шею, обронить голову, в снежных клубах катится, перевертываясь, до края склона. Но за свои головы тут не боятся.
Летом я пришел к Максимычу, чтобы поздравить его с новосельем, но вместо праздничного убранства застал в хоромах полный развал. На полу и стульях, на столе и диване — рюкзаки, сапоги, штормовки, консервные банки, закопченные котелки, удочки. Среди этого развала Максимыч и цыганистой яркости молодая жена его, дипломированный инженер-агломератчик, стоящая на служебной лестнице несколькими ступеньками выше своего супруга-рабочего, складывали на весу оранжевую палатку, чтобы свернуть ее в скатку и вложить в чехол.
— Вот незадача! — рассердился на себя хозяин. — Опять ни посидеть, ни поговорить. В поход отваливаем на Северный Урал. По восточному склону поднимемся, перевалим на западный, а там по Велсу и Вишере сплавимся на плоту. Иду командиром группы, так что даже ради встречи выпить никак нельзя — ответственность.
— Как это тебя отпускает молодая жена?
— И она со мной. О, ты ее еще не знаешь. Любит полю, как породистая охотничья собака. Услышит только слово «лес» — сразу уши торчком, глаза засияют. Бросает кастрюли, стирку и — бегом по квартире собирать шмутки.
— Так, так, Гена! — светло и радостно отозвалась Рая. — Почаще произноси слово «лес».
А то еще каленым зимним деньком чуть не силой приволок меня в клуб моржей на берегу Тагильского пруда… В прогретой калориферами, сверкающей пластиком, кафелем и эмалями раздевалке Максимыч разболочился и, в плавках, резиновых купальных тапочках, в матерчатой, завязывающейся на затылке тесемками шапочке, выскочил на обледеневшую тропинку, ведущую к дымящейся купели, и с разгона — вниз головой. Отфыркиваясь, смачно крякая и выплескивая на лед брызги, от которых края проруби покрылись аквамариновой глазурью, энергичным, сильным махом прошел он двадцатиметровую прорубь туда и обратно.
Растирая в раздевалке ошпаренное, мясисто-красное плотное тело, он говорил с неостывшим возбуждением:
— Думаешь, и мне шибко охота вниз головой в этот огонь? Дома силой принуждаешь себя собраться. Да если еще вот такой денек, какой сегодня, — за тридцать. Лучше бы на печи сидеть да рассказывать сыну сказки. А когда выкупаешься — душа поет. Радехонек, что пересилил себя. Помнишь, ты в школе читал: «жизнь прекрасна и удивительна!»? Вот когда жизнь прекрасна и удивительна — после огненной купели!
Еще угощал он меня жаркой русской баней: плеснешь ковшичек кипятка на сложенную из белых глыбастых кварцитов каменку, и взрывается сухой пар в десятки атмосфер: всласть понежили мы друг друга пушистыми и мягкими, как шелковые женские руки, березовыми вениками.
В первом давнем походе Максимыча обязали вести дневник; каково же было его изумление, когда по возвращении домой перепечатанные на машинке страницы вызвали нелицемерное восхищение друзей: «О, да ты настоящий летописец!» С тех пор, запасшись надежной тетрадкой, в поход он отправляется в неизменной роли летописца. В сокровенном ящике стола накопилась гора дневников — целое собрание сочинений, и мне понадобился длинный вечер, чтобы изучить его.
С завидной раскованностью Летописец закрепляет увиденное на бумаге, не упустит ни одного события, ежели есть в нем хоть искорка смешного. Там и сям звездятся детали и подробности, достойные более широкого круга читателей.
Но обязанность фиксировать события изо дня в день, писать без выбора обо всем подряд, о каждом шаге своих спутников портит дело: рядом с существенным и интересным много всякого мусора, к тому же ни в одном из дневников поденные записи не схватываются, не объединяются в единое целое какой-либо сквозной мирообъемлющей мыслью. Однако стоит ли упрекать в этом Максимыча, если нынче и писатели, бывает, так пописывают — без никакого выбора.
Не спится Максимычу-Летописцу на литых сапогах под головой, не освоилось еще избалованное за долгую зиму тело с казацким ложем, а может, иное беспокоит мужика на пороге пятидесятилетия, — ворочается с боку на бок, вздыхает, крякает, наконец и вовсе поднимается с полу.
— Захотелось горло дымком просквозить, — обращается он ко мне. — Не составишь ли компанию?
— Можно составить.
По всему дебаркадеру валяются пассажиры нашего «Метеора» — на полу, на столах и скамейках; даже на буфетной стойке лежат валетом две девушки в защитного цвета стройотрядовских костюмах.
Из опасения наскочить впотьмах на мель либо на оброненное из сплавного плота полузатонувшее бревно «Метеор» по ночам не ходит, отдыхает. Такое бревно, упершись утопленным затяжелевшим концом в речное дно, при бешеной скорости крылатого судна может прошить его, как иголка. В наступившей сутеми нас выпроводили на ночевку, а уже на рассвете, в пять утра, позовут снова на посадку.
Максимыч уверенно шагает через скрюченные тела спящих. Под тельняшкой на руках и плечах бугрятся литые мускулы, широкая и выпуклая грудь — вечевым колоколом, а голова, мало сказать, держится прямо — откинута с особенным достоинством чуть назад. И в давние годы он был таким же — не гнул головы, глядел глаза в глаза, и грудь выпирала если не колоколом, то колокольцем, звонким и певучим. Переменился он мало. Я уже давно заметил, что люди, помнящие детство, преданные его дерзким загадам и началам, не спешат стареть и меняться, а ежели чуточку все же меняются, то в лучшую сторону — хорошеют, светлеют, добреют душой и телом. Тех, чья память засыпана, как Помпея, пеплом разочарований и отречений, бывает не узнать и через десяток лет…
Разумеется, и Максимыч уже не мальчик. Погрузнел, раздался, без малого шесть пудов тянет. Стародавней моды короткий чубчик и стриженый затылок хвачены морозцем. Но еще — казак, казак! Шашку в пудовую руку — махнет, хватит — и надвое, до седла! Недаром в детских играх он был Богданом Хмельницким, могучим казаком, а я, помнится… ну, да не обо мне речь.
Всполоснутую дождем палубу дебаркадера осыпали желтым дробным светом, похожим под ногами на опилки, слабосильные электрические фонари; под боком дебаркадера, внизу, дремал на привязи белоспинной рыбой-китом наш «Метеор», и со всех сторон предосенним холодом дышала вода, черная, густая и неслышная, как мазут.
— О сыне все думаю, — раскурив сигарету и положив руки на забрызганный металлический леер, опоясывающий палубу дебаркадера, проговорил Максимыч. — Сегодня у него первый экзамен. Сдал — не сдал? Поступит — не поступит? Ежели не поступит, шибко горевать не стану. Сходит в армию и — к нам, на завод, в рабочий класс. Ныне, сам знаешь, рабочий человек живет не хуже вашего брата. Сколько, к примеру, твоя пенсия потянет? Сто двадцать? Может, и меньше, в зависимости от гонорара? Вот даже как! А у меня сто шестьдесят. За горячий стаж. Через три недели стукнет полета и будут милую приносить каждый месяц на блюдечке с голубой каемочкой прямо на дом. К тому же думаю еще поработать. Не на печи же лежать теперь. По новому постановлению нам не только повышается пенсия, но и сохраняется полная зарплата, ежели остаешься на прежнем горячем месте. Она у меня — сам-триста. Теперь еще пенсия. Чем не директорский оклад? Во всяком случае, на комбинате руководители производства столько не получают… Но, черт подери, хочется, чтобы он там не провалился, сдал все честь по чести, поступил в институт. В моем роду-племени никто еще не прорастал в высшее образование. Далеко не вся радость жизни в деньгах.
— Чуть впросак я не попал с пенсией, — помолчав немного, продолжал Максимыч. — За полгода до выхода постановления о повышении пенсии по горячему стажу вот так же, как с тобой сейчас, разговорился с начальником цеха. Невзначай пожаловался: тридцать лет вкалываю и все никак не могу привыкнуть к ночной смене. Час-другой так страдаю, что умри — лучше станет. Начальник с ходу предложил место старшего мастера по ремонту. Работа человеческая, светоденная. Правда, оклад чуть ли не в полтора раза меньше, но пообещал добиться в верхах, чтобы сохранили за мной прежний, прокатческий.
Стал я стажироваться в новой роли. Как говорят, навел кое-какой порядок, дисциплину среди ремонтников подкрутил, запчастей отовсюду натаскал на год вперед. Я ведь теперь далеко не тот, давний, которым ты крутил-вертел, как хотел. Твердости и жесткости обучился. Тут, как снег на голову, — постановление. Я и заметал икру. Что же это такое — без повышенной пенсии останусь, хотя имею на нее полное право, горячий стаж выработал с самым большим гаком. Закавыка заключалась в том, что мало одного горячего стажа, надо еще последние два года работать на горячем деле. Взмолился перед начальником: отпусти меня, старче, верни на прежнее место. Облегчало мое положение то, что приказом еще не был переведен и считался пока стажером. Не знаю, что он хотел от меня, наверно, жертвы во имя производства. Обиделся, рассердился. Ну, а мне ведь еще и сына обучать, ставить на ноги, ежели, конечно, поступит, старая мать на иждивении. Вопрос щепетильный. Романтизм, идеализм, — это я все понимаю, но твердо рассудил: теперь не тот необходимый случай, когда я должен руководствоваться романтическими ожиданиями своего начальника… Если будешь писать обо мне — поближе к правде. Не наводи тумана и лаку на мою персону. Иначе в глаза людям не посмотришь. Про моего кореша, Сашку Долгих, из благих намерений такое наворотили в многотиражке, что уши вяли читать. Вышел он на пенсию за два месяца до постановления. Хоть локти кусай — не поможет, потерял право на надбавку. Он и воротился на стан. Встретили с распростертыми объятиями. Не хватает многоопытных кадров, пенсионные льготы как раз и рассчитаны на то, чтобы подоле удерживать их у дела. По поводу его возвращения многотиражка разразилась восторженной заметкой. Оторвала факт от реальной жизни, и получилось, что воротился он на комбинат, ни много ни мало, горя желанием стать наставником, передать молодым свой многомудрый опыт. Месяц прятал Сашка глаза от мужиков.
— Рад за тебя, — от избытка чувств к другу произнес я. — Однако, по совести говоря, какой, к черту, ты пенсионер? Казак! На тебе еще пахать и воду возить.
— Уж не думаешь ли ты, что пенсия зазря дается? Э-э, нет! Одна сменная чересполосица чего стоит! Четыре Дня с восьми ноль-ноль, следующие четыре — с шестнадцати ноль-ноль и, наконец, — с двадцати четырех ноль-ноль. И так крутится-вертится, как шар голубой, уже тридцать лет. Идешь к двадцати четырем ноль-ноль, особенно в зимнюю стужу, в темноночную пору, когда на улицах ни души, окна повсюду погашены, и такая тоска-усталость навалится — хоть волком вой средь промороженных домов. Теплая постелька раем представляется. И на работе тоже всякую ночь сгущается час, когда мочи нет — не то что спать хочется, а весь раскисаешь, будто без костей, отупеваешь физически и умственно. Того и гляди — запорешь прокат. И крепкий чаек не помогает, которым мы приноровились взбадриваться. Но переломишь себя и, слава богу, снова чувствуешь костяк в теле.
— В трагические ситуации иной раз попадаешь на посту, — продолжал Максимыч. — И смех и грех! Приспичит — а нельзя сорваться с места: весь стан — тысячетонная махина пойдет под откос. На посту управления нас четверо операторов сидит, у каждого свои рычаги, рукоятки, кнопки, всяк своим узлом управляет. Есть и подменный оператор, который в подобном аварийном случае должен тебя выручить. Но представь себе такую картину: подменный уже сидит на чьем-то месте, а тот ушел в комнату отдыха, чтобы съесть свой законный ночной обед — никаких перерывов у нас ни на обед, ни на перекур… Жена иной раз обзывает меня придатком к машине: механическая, мол, работа, и давно пора заменить вас всех автоматикой. Может, это и так, но сам я только в том смысле согласен с женой, что машина железная и тебе подле нее тоже надо быть железным: что бы ни случилось, стой, держи руку на рычагах, терпи, кровь из носу — терпи.
— Сон после ночной смены тоже немного приносит отдохновения и радости. Одним ухом спишь, а другим слышишь, как под окошками взбрякивают шаги, сучат шинами легковушки, позванивает в отдалении трамвай, забивают козла отпускники или пенсионеры, иной так ударит по обитому жестью столу, что за взрыв принимаешь, выскакиваешь с перепугу из постели. А от дневного света ни за какими шторами не спрячешься — давит на веки, щекочет ресницы, томит и раздражает. И во сне охватывает тоскливо-горестное ощущение: жизнь проносится мимо! Другие работают, учатся, ходят, ездят, играют, наконец, в домино — творят бытие, вершат мировые дела, а ты в эти часы, как какой-нибудь распоследний ленивец, дрыхнешь за обожженными солнцем просвечивающими шторами. Вот так-то, дружище! А теперь рассуди — зазря или не зазря дадена мне пенсия в пятьдесят лет?
На металлургическом комбинате, где тридцать лет из пятидесяти работает Максимыч, бывал я не единожды, с пристрастным интересом изучал-оглядывал и цех крупносортного проката, в котором стоит его могучий стан «650» в связке со станом «800».
Сначала до солнечного жара раскаленные в методических печах стальные чушки прокатывают — удлиняют и утончают на восьмисотом, затем, побагровев слегка в обработке, они попадают на тот, которым управляет Максимыч, и в конце пути преобразуются в померкшие сизо-голубые, в точечных жаринках рудничные рельсы, двутавровые балки, швеллер, вагонную стойку, уголки.
Грохочут, лязгают, скрежещут обжимные катки, гремит и звякает переворачиваемый рельс. Металл схватился с металлом. Борьба — грудь в грудь! Кто кого? Хвостатыми кометами разлетаются по сторонам огненные брызги окалины. Сквозь одежду облучает термоядерным жаром, того и гляди — сам рассыплешься в абстрактную материю; как в ведьминой преисподней угарно и ядно пахнет растворенным в воздухе самоуничтожившимся железом. Над головой, по подпотолочным рельсам, взад-вперед двигаются мостовые краны, грозя зашибить насмерть свисающими на цепях многопудовыми крюками. Уши забило пробкой, не слышно, что кричат рядом. И давят, давят на сознание громоподобные горы заряженного нечеловеческой силой и энергией металла. Кажется, вовек не привыкнуть тут — скорее бы под живое небо, в тишину, в деревья, умеющие врачевать и успокаивать своими мудрыми разговорами.
Неподалеку у стены, против главных узлов стана, в высоко приподнятой над бетонным полом кабине, называемой постом управления, за двойными стеклами в безжизненном корабельном свете люминесцентных ламп стоят они, операторы, строгие, сосредоточенные, с отрешенными от всех мирских интересов глазами. Не видят они и тебя, постороннего в цехе, испуганно жмущегося к бетонно-слоновым стопам остекленной кабины, подальше от изрыгающего громы молоха.
Вспомнив, как в кругу друзей на моих глазах Максимыч непреклонно отказывался от подносимой рюмки, ссылаясь на то, что днем либо в ночь заступать на пост, я спросил его нарочито суровым исповедующим голосом:
— Отвечай как на духу: приходил на смену выпивши?
— Никогда, — подхватив игру, четко отрапортовал он.
— Прогулы были?
— Ни единого.
— Опоздания?
— По вине мотоцикла дважды опаздывал. Раз цепь порвалась, вдругорядь, искра потерялась. Не бросать же козла посередь улицы, надо было откатить в сохранное место, а потом ноги в руки — и на комбинат.
— Какую веру исповедуешь?
— Рабочую…
Может, кто-то и по-иному оценит жизнь Максимыча, но мне она, честное слово, нравится, особенно в сравнении с тем, как реализуют себя на земле другие наши одноклассники. Среди них есть инженеры, ученые, руководители производств; возможностей у них, понятно, поболе, да и горизонты пошире, однако не намного превзошли они рабочего Максимыча в богатстве жизни.
Спрашиваю у него про общего друга, с коим грызли вместе грамоту еще по букварю. Как Саня? Уравновешенный и добрый малый, тот легко закончил институт, не без блеска показал себя в конструкторской мастерской и вдруг, ни с того ни с сего схлестнувшись с бутылкой, которую так и не смог обороть, покатился вниз под гору.
— Как он? Как Саня?
— Когда пьяный — заходит стрельнуть пятерку. Трезвый даже не замечает. Глаза в сторону либо в землю и — мимо. Порой и вовсе не вижу: лечится в больнице за городом.
Вот еще в каком качестве пребывают на земле хорошие люди. Не грустно ли?
Успехи и неуспехи в деятельности, поступки, увлечения и пристрастия, через которые реализуется личность в жизни, определяются как полученными в молодой поре воспитанием и образованием, так и собственной животворной природой, многосложной неусыпной биологией, унаследованной от отца-матери, от дедов и прадедов. Здоровый ты духом и телом или, напротив, хилый и слабый; решительный, смелый или вялый и робкий; живой, бойкий или же флегматичный неповоротливый увалень — все это имеет значение, и все наглядно и рельефно выявляется в ведущейся вседневно кладке чудеснейшего здания, именуемого человеческой жизнью! Выше головы не прыгнешь. Хотя отдельные люди и прыгают. Твой характер — твоя судьба.
В полета лет, когда здание вознеслось под крышу либо под купола, можно оценить замысел творца и качество каждодневной кладки. Иногда постройка бывает горестно безобразной — отворачиваешься, чтобы не глядеть, чаще — простой, скромной и традиционно надежной, как русская изба, иногда — невиданным доселе и неповторимым шедевром — любуешься, восхищаешься и впитываешь.
Пусть читатель оценит постройку, возведенную под стропила Максимычем. Я же думаю о другом. Какие природные особенности создали его таким, каков он есть?
Здоров? Несомненно. Прокопченный жаропышущим металлом, теперь он кажется еще здоровее, чем был в зеленые лета. Твердый, неуступчивый? Тоже верно. Ни за что не своротишь на чуждое его пониманию и душе дело. Но мало ли здоровых и твердых погрязают в суете сует, засушивают себя в постылой и непостылой работе и, кроме стен, ничего вокруг не видят?
Оба мы знаем мужика, отличающегося завидным здоровьем и твердостью, непьющего и некурящего, вот уже четверть века не вылезающего по субботам и воскресеньям из-под собственной машины. В эти дни все выводят из гаражей машины и разъезжаются в разные концы. Он тоже выводит свою на солнышко, расстилает на земле брезент и — под нее на весь божий день. Вечером оботрет лакированный верх тряпочкой и обратно в гараж.
— Я как музыкальный настройщик, — объясняет он. — Не играть-ездить люблю, а настраивать. Да и то сказать — деньги вложены, жалеть надо.
Вон еще какое одухотворенное сравнение придумал для прикрытия своей полной неодухотворенности: музыкальный настройщик, надо же!
Остро чувствую: есть в натуре Максимыча некая изначальная изюминка, влияющая на все его жизнетворчество. Но что это за изюминка — сразу никак не могу схватить, определить и назвать.
На помощь приходит воспоминание.
Директором семилетней школы на зареченской окраине в наше время работал Александр Николаевич Кравченко — редкой души человек. Тагильчане помнят его и поныне.
Немолодой уже тогда, седовласый, в толстых очках, с надтреснутым голосом, одевался он в неизменную темносуконную толстовку, подпоясанную широкотесемочным узорным пояском, или, несколько реже, в теплую пору, — в толстовку холстинковую, серую, художническую, оставляя опояску прежней.
Никогда позже не встречал я директоров школ, кои бы делали внушение шалунам, присев перед ними на корточки. Предержащие верховную власть директора в таких случаях высятся прямо, грозно с жестоко-каменным выражением на лице. Александр Николаевич приседал или склонялся к шалуну и лицом к лицу добрым дребезжащим голосом внушал, что мальчик он хороший, с благонравными задатками, не надо лишь забывать о них, а ежели мальчик был не больно хорош, внушал, что отец-мать или, на худой конец, дед у него хорошие и ему не следует отклоняться от родовой наследственной линии. Не грозой и бранью вразумлял — похвалой и лаской учил уму-разуму. Зато уж любили, уважали его и слушались, как отца родного.
Школа отапливалась дровами. Из доброго десятка облупившихся труб в зимние стужи клубились черные дымы. Снесенные ветром, они сплетались в струистый хвост в полнеба, и тогда школа походила на застрявший во льдах ледокол, напрягающий в работе все свои силы.
До конца зимы почти всякий раз дров не хватало, и за партами сидели в шубенках, ватниках, ушанках, учителя стояли у доски одетые в пальто, однако без головных уборов. Как сейчас помню Александра Николаевича, седоватого впрожелть, в расстегнутом, обглоданном молью черном пальто с потертым каракулевым воротником. Перед доской он что есть мочи дышал на посеревшие скрюченные руки, отказывавшиеся держать мел. Преподавал Александр Николаевич все математические дисциплины: алгебру, геометрию и тригонометрию.
А мы для согрева устраивали на переменах кавалерийские бои. Один из двоих — конь ретивый, другой — лихой наездник. Надо было вышибить противника из седла или свалить наземь вместе с конем. Распаривались в схватках до пота, но вот беда — приступал такой лютый голод, что руки-ноги дрожали.
В кармане Александра Николаевича уже давно лежал выписанный в лесничестве билет на дрова, но отправиться на заготовку долгое время мешали стужи. В конце концов морозы отпустили, и в одно из воскресений тринадцатилетние подлетки, навалив на санки прихваченные из дома топоры и пилы, во главе с подпоясанным пеньковой веревкой директором спозаранок отправились гурьбою в лес, утопавший в непроходимых снегах.
Мы с Максимычем работали в паре. Проваливаясь по уши в рыхлых заметях, валили сухарины, обрубали топором звонкие сучья и распиливали на долготье — двухметровые чурки. Путавшийся и застревавший в расквашенном снежном месиве Александр Николаевич пытался нам помогать: то на дерево плечом надавит, чтобы падало в нужную сторону, то поверженный ствол, поднатужась, приподнимет, чтобы пилу не зажимало, и с душевным восторгом расхваливает нас:
— Вот это мальчики! Как работают! Как пилят! Не мальчики, а чистое золото! Вся жизнь ваша будет. Только таким она и покоряется.
Воодушевленные похвалами, мы старались еще пуще. Пила пела в руках. Сушины падали с весенним громом. Нежным парным дождичком казались оседавшие и таявшие на разгоряченных лицах снежинки, взбитые в пушистое облако упавшим деревом. Прежде непосильные бревна потеряли вес. Сладко слышались мускулы во всем теле и не слышалась насквозь промокшая от пота и расплавленного снега одежонка… Лишь годы спустя я узнал, что душевное состояние, охватившее нас с Максимычем в лесу, называется вдохновением.
Мы не замечали, что насквозь промокли, но Александр Николаевич углядел и остановил работу. Шабаш! Напиленное долготье уложили в санки, увязали в возы и, впрягшись в постромки, потащили в город — целый саночный обоз. Александр Николаевич опять помогал нам с Максимычем, подталкивая санки сзади. Наутро в школе был настоящий Ташкент.
Добрейший Александр Николаевич всю жизнь занимался живописью. Не оттого ли и был он таким добрым? В его квартире, расположенной в торце школы, на первом этаже, стоял мольберт-треножник с какой-нибудь незаконченной картиной, на письменном столе неизменно пребывали тюбики с красками, многоцветный подносик-палитра с круглым вырезом для большого пальца и срезанная снарядная гильза, из которой полевым букетом торчали разномастные кисти.
Одна из работ Александра Николаевича висела в Нижнетагильском краеведческом музее; если не выставлена и теперь, то наверняка хранится где-нибудь в музейных запасниках, — «Старик с кружкой».
Запала в память кружка, которую старик держит у пояса, — стародавняя, медная, хваченная патиной, с солнечными бликами на помятом боку, но еще больше помнится сам старик в дырявом балахоне, с гривой седых впрозелень волос на обнаженной голове, с добрыми-предобрыми светло-ясными глазами и с такой же доброй, пронизанной насквозь солнечным ветерком, облачно-легкой бородой. Казалось, не подаяние просит, а с любовью обнимает ясным взором весь мир и благословляет его на счастливую жизнь и вечную молодость. Чудилось в картине что-то личное, щемящее, пророческое.
Однажды Александр Николаевич, прервав на середине урок, не дописав мелом задачки на доске, поворотился к нам широким лицом, в крупных, не в один ряд морщинах вокруг рта, и повел странные речи:
— Не одни дрова, не один огонь, в который они претворяются, способны согревать человека. Согревает любовь. Но об этом еще рано с вами беседовать. Согревает искусство: живопись, стихи, книги. Поверьте пожилому человеку: перед замечательной картиной можно забыть о холоде и голоде. Обогреет и насытит. Вот я и надумал: чтобы нам потеплее да повеселее жилось, расписать красками нашу школу. Для начала пускай не всю — хотя бы коридор на втором этаже, а дальше посмотрим. Смоем побелку со штукатурки, загрунтуем ее, подготовим под масляные краски и перенесем самые красивые картины, какие есть на белом свете. Для одного — долгий труд, а с помощниками я управлюсь быстро. Найдутся среди вас помощники — добровольцы? Найдутся желающие учиться рисовать и писать красками?
Вызвались пятеро мальчиков, в том числе — Максимыч. Меня тоже подмывало назваться, но я свежо помнил суровый приговор, вынесенный по поводу моих изобразительных способностей всего лишь несколько дней назад.
Давно уже мы с Максимычем пробовали себя на этом поприще. Завели цветные карандаши, акварельные краски, альбомы, куда перерисовывали и раскрашивали картинки из полюбившихся книг. Все там были, в кого играли: голоногий Спартак на вздыбленном коне с широким и коротким гладиаторским мечом в правой руке; Тарас Бульба в шароварах шириною с Черное море и длинным оселедцем, спускающимся с темени бритой головы по-за ухом до самого плеча; рыцари в шлемах с забралами и пером, в кольчугах и латах, в кольчужных остроносых ноговицах, с пиками наперевес, с поднятыми в воинственном замахе мечами, тоже на конях, покрытых длинными попонами… И красавицы, красавицы, красавицы. И проклятая полька, помрачившая разум и ослепившая Тарасова сына Андрия, тоже тут была.
Прижимая под мышками альбомы, пришли мы записаться в изокружок в Дом пионеров. Изукрашенный лепкой демидовской постройки двухэтажный особняк на центральной улице был самым теплым зданием во всем городе. Мы и прежде с морозу заскакивали погреться в него и одновременно полистать в читалке журналы с картинками, книжки Дюма и Фенимора Купера, которые в ином месте не достать.
В обширной с паркетным полом комнате на стенах висели карандашные и акварельные рисунки, на тумбах и подоконниках торчали гипсовые торсы и головы, тонкими тростниковыми ногами мерили пространство многочисленные мольберты, и перед одним из них близ непривычно сияющих необмороженных окон стоял Мэтр. Так с большой буквы сразу и определился немолодой исхудавший мужчина с пронзительно-черными запавшими глазами, в коричневой бархатной куртке и завязанной петлями плетеной тесемке вместо галстука; на ногах не валенки, как у всех, а легонькие полуботиночки.
В первые месяцы войны явились перед нами такие люди, поражавшие воображение своей немыслимой элегантностью — будто с иностранных кинолент сошли на булыжные мостовые, запестрели среди лопотин. Это были эвакуированные из Киева, Харькова, Ленинграда и многих других городов, которые терзал фашист.
Мэтр — ленинградец. Стоя перед окном, он внимательно и строго перелистывал наши альбомы, и у меня обмирало сердце от ожидания. Я ждал восторгов, но согласен был и на скромную похвалу. Каждый мой рисунок представлялся мне шедевром хотя бы потому, что перенес его на чистую бумагу собственной рукой. Это ведь чудо — из ничего создавать что-то. К тому же все мои рисунки — точь-в-точь как в книгах, никаких отклонений. А вот у Максимыча отклонения. Оселедец свисает не по-за тем ухом.
Перевернув последнюю страницу, Мэтр сказал, обращаясь к Максимычу:
— Твою руку можно расписать. Приходи по вторникам и воскресеньям к трем часам дня. Впрочем, если хочешь, являйся каждый день. Я всегда тут. Вместе будем работать. Ну, а тебя, — оборотил он в мою сторону провалившиеся мученические глаза, — совсем нет в твоем альбоме. Под копирку все. Вон и следы ее под карандашной раскраской видны. Это, мой друг, очень плохо, когда в твоей работе нет тебя.
Благородный Максимыч ни тогда, ни после ни разу не вознесся надо мной, торжествуя свой успех. Огорченный за меня, он даже не догадывался, что можно торжествовать.
— Ну его к черту, — говорил он на улице. — Я тоже ходить не стану. Ахинею какую-то нес — не поймешь ни черта. Как это нет тебя, когда ты есть и идешь рядом со мной?
Помогать Александру Николаевичу я не вызвался, но после уроков каждый день оставался поглядеть, как они работают, художники и его подмастерья.
В коридоре второго этажа со стремянок они смыли в простенках между широкими окнами известку, втерли в обнажившуюся штукатурку какую-то сырую смесь, а когда штукатурка высохла, Александр Николаевич, заглядывая в цветную, величиной с ладонь, открытку, набросал углем на одном простенке трех богатырей — Илью Муромца, Алешу Поповича и Добрыню, на другом — скорбно склонившуюся над озером-омутом, горюющую по братцу Иванушке сестрицу Аленушку, на третьем — еще одну сестричку и одного братца, убегающих по мостику через ручей от страшной грозы, гнущей и ломающей позади огромные, под самую тучу, деревья; братцу не очень-то боязно, ибо он надежно устроился на закорках сестрички, а вот она перепугана насмерть — и за себя и за младшенького.
Потом вся бригада, вооружившись подносиками-палитрами с выдавленными на них красками и свеженькими обмытыми кистями, расположилась на стремянках против трех богатырей, и Александр Николаевич стал показывать, куда и какие краски наносить и в каком направлении растягивать мазками. Максимычу он скоро перестал давать советы и лишь поглядывал на него с нескрываемым удивлением. На следующий день перед началом работы он подозвал мальчика к себе и, склонившись к его лицу, заглядывая в глаза, произнес отечески ласковым голосом:
— Дай-ка я посмотрю в твои глазенки… Вишь, какие горяченькие. Понимают краски. Передвинь-ка свою стремянку к сестричке с братцем на закорках и попробуй расписать их самостоятельно, ежели что не так, я подправлю.
Ободренный доверием, перестав замечать все вокруг себя, кроме возникающей из небытия на стене картины, Максимыч целый месяц не слезал со стремянки. Я на это время потерял друга, а Александр Николаевич, помнится, ничего даже не подправил на его простенке.
По завершении всей работы в школе действительно стало и светлее, и теплее, и просторнее, будто опали стены и загремели на нас летние грозы, запахло омутами, травой, листвой и внятно заговорили с нами живыми голосами все они — из дальнепрожитой, но бесконечно родной и понятной жизни, заговорили «о подвигах, о доблестях, о славе», о любви, страданиях и никогда не оставлявших надеждах.
Надо досказать об Александре Николаевиче. В последний раз Максимыч видел его лет десять назад, был еще живой.
Перед ним стоял немощный старик, неухоженный, наброшенный, в ином, не военной поры, но таком же обглоданном молью зимнем пальто, напоминавшем балахон, хотя встреча произошла в жаркий летний день, и разительно походил он на старика с кружкой, написанного в давние горы им самим, молодым и крепким, только вместо кружки держал в руке кривой батожок; его светлоясные глаза сквозь толстые стекла очков смотрели на Максимыча и на весь мир с любовью и нежностью, благословляя на счастливую жизнь и вечную молодость.
— Геннадий? Как же, помню, помню. Помогал мне расписывать стены в школе, а в другой раз еще замечательно пилил со своим другом дрова. Хорошие были мальчики. Вы никогда не забывайте, что были хорошими мальчиками…
Наконец-то я нащупал, осознал и определил природную особинку Максимыча, изюминку его простой натуры, выделявшую его в кругу друзей, рабочих и нерабочих, — врожденная артистичность. Именно она, артистичность, влечет его к песне и лыжам, ведет в горы и тайгу, притягивает к хорошей книге и стихотворению.
Разговорившись о бессребренике Александре Николаевиче, он впервые признался, что, уйдя в середине учебного года из восьмого класса, собирался поступить в художественно-промышленное училище, да отговорили родные и близкие: ненадежны, мол, перспективы, на хлеб с квасом не заробить.
Но неудовлетворенность Максимыча редко гложет, потому что не заглушил в себе артистические потребности.
Когда по возвращении из Сибири некоторое время я жил в родном городе, он перечитал из моей библиотеки всех поэтов: Блока, Есенина, Багрицкого, Пастернака. Полюбившиеся стихотворения заучивал наизусть, а потом с заразительным запалом декламировал их красивым девушкам:
Не этими ли стихами приворожил смуглолицую молоденькую инженершу, только что приехавшую по распределению в наш город после окончания горного института? Взяв за белы руки, он княгиней ввел ее в «низкие хоромы», бревенчатую избушку с банной величины окошками, упиравшимися летом в землю, зимой — в снежные заносы.
Через несколько месяцев и мне стукнет полета. Словно взобрались мы с Максимычем на вершину некой горы, с которой далеко и широко видно, что осталось позади, а также открылись новые просторы и дали, кои надо еще осилить. Позади узнаются дебри и чащи, где я сбивался с пути, блуждал и, обессиленный, на карачках выбирался на дорогу.
Вспоминается, как я последний раз повстречался с давним другом и наставником, красноярским писателем Николаем Устиновичем, с которым четверть века назад простился навсегда. Поверженный необоримой болезнью, он умирал в своей квартире. При моем появлении выпростался из-под одеяла и встал в пижаме во весь рост — живой скелет, обтянутый сухой, пергаментной кожей. На стуле перед кроватью в толстых пачках лежала верстка двухтомника, выпускаемого к его пятидесятилетию, верхние страницы замусорены карандашными исправлениями. Это был мужественный человек — обожженный тридцать седьмым годом.
Стоя, как солдат, прямо и строго, он произнес:
— Ни крупицы прошлого не стыжусь. Ни о чем не жалею. Ничего не жаль, кроме понапрасну потерянного времени. Терял его в застольях. Прощай. Не поминай лихом.
Спустя два дня его не стало.
Не внял я завету друга-наставника. В неизведанных дебрях и чащах много порастерял времени, сбиваясь с тропы, блуждая, падая и выползая вновь.
Впереди сквозь солнечную дымку просматривается оставшийся путь; увы, в данном случае приближение цели не радует, а до нее теперь не так уж и далеко. Как-то пройдем мы с Максимычем новые версты?
В последний раз мы плывем на перекладных — моторных лодках-казанках, нанятых в хантыйском поселке Усть-Войкар, чтобы пройти через Войкарский сор — обширнейшее поймище, затопленное водой верст на двадцать вглубь и верст на пять вширь, с гнилыми топкими берегами.
В путь отправились ночью, когда стих ветер и улеглись в сору волны, гулявшие и пенившиеся днем, как на море.
Когда обжег уши встречный воздух, полетели в лицо холодные брызги, меня охватило сладкое чувство свободы и новизны, словно впервые я встретился с земными просторами.
Уже миновали те дни, про какие на Севере говорят: в одном кармане смеркается, в другом заря занимается. В положенную пору царствовала ночь. В куполообразном небе, как в бальном зале, танцевали, кружились голубые, зеленые и алмазные звезды, полузабытые под урезанно-узким городским небом, не звезды — юные и прекрасные девы.
Над далеким и приподнятым горами ломаным окоемом разлилась разноцветными полосами немыслимая заря. Оранжевые, алые, розовые, багряные, опаловые и жемчужные пряди шевелились, переплетались, снова вытягивались, как в распущенных женских волосах, и в левом углу окоема я разглядел ту, которой принадлежали эти волосы, — высвеченный зарей, сотворенный сгрудившимися облаками строгий нежный лик.
Лодку ведет хант Николай. Если бы сам не назвался хантом, его уверенно можно было бы принять за русского парня, переходящего в мужской возраст: на голове лохматая папаха русокудрых нечесаных волос, глаза — светлые и озорные, говорит чисто и бойко, за словом в карман не лезет. Одет он в рыбацкий бушлат, туго стянутый широким ремнем, с замысловатой медной пряжкой и болтающимся на медной цепочке медвежьим клыком величиною с добрый палец.
Впереди проступили под звездами очертания мыса, глубоко вклинившегося в водные просторы. Подавшись в мою сторону, перекрывая рев мотора, Николай прокричал:
— Лиственничный мыс. Сплошь одна лиственница на нем растет, потому так и зовется. Сейчас мы подвернем к нему, и я тебе кое-что покажу.
Разминая ноги, по шумящему галечнику мы дошли до леса, углубились в него метров на десять, и перед нами открылось спящее безмолвное озеро удлиненной формы.
— Святое озеро, — благочестивым голосом произнес Николай.
— Почему святое?
— Так с незапамятных времен прозывается.
— А не знаешь почему?
— Как не знать. Рассказывают люди, и посейчас живет где-то в нашем народе богатырь по имени Огаль. Радетель за честь и правду. Только его никто не видит. Спит много. Веками не пробуждается. А как пробудится да пойдет по земле — будто от урагана деревья валятся на стороны, горы рушатся. А где ступит ногой — глубокий след продавливается, наливается тотчас святой водой, и возникает озеро.
По форме Святое озеро действительно напоминало огромный человеческий след, что скорее всего и послужило поводом для легенды.
— Испей, коли хочешь, — предложил Николай. — А нам отсюда нельзя.
Мне почему-то тоже не хочется пробовать воды, которую нельзя пить Николаю. Покуда нас снова не заглушают рев мотора и плеск воды, я его расспрашиваю про болтающийся на цепочке медвежий клык и про замысловатую медную пряжку на ремне, отлитую в форме двух зверей, схватившихся в смертной схватке; при застегивании один зверь сцепляется с другим.
— Сам медведя убил?
— А то как же. От чужого зуб не повесишь — засмеют.
— Маловато — один-то.
— Хватит и одного, — с несеверным жаром возразил Николай. — Это тебе не куропатка, а медведь. Костоправ. Как он поднялся тучей в трех шагах из-за колодины — наживой стал. Слава богу, ружье само выстрелило из обоих стволов. Очухался — опять, думаю, неживой. Тьма, полный мрак, и сверху давит, дышать нет мочи. Уж не в могиле ли? Не земля ли давит? А это он лежит, упал на меня и придавил, мертвый… Повесь-ка себе на ремень медвежий клык и тогда будешь знать, маловато это или не маловато.
— Ну, а пряжка? Никогда такой не видывал. Где раздобыл?
— Отец передал, — уже знакомым благочестивым тоном ответил Николай. — А отцу передал его отец. И мне терять ее нельзя. Надо сыну передать.
У этого человека есть святое за душой. Чтит заветы отцов и имеет свои твердые табу. И хотя знаю его не более трех часов, мне надежно с ним и тут, в ночном лесу, и в лодке, под которой чудятся во мгле верстовые глубины.
За полночь у зимника Егангорт мы расстались с провожатыми — Николаем и его напарниками. Переночевали на нарах в нежилой избе, предварительно протопив ее. Наутро, еще раз перебрав рюкзаки, приноровив и пригнав их к спинам, чтоб не били и не давили, своим ходом двинулись по берегу Войкара вверх, в горы, изломанная кромка которых в солнечное утро подпирала на окоеме прозрачное голубое небо.
Берег был низкий, сырой, заросший узловатыми, седыми с изнанки тальниками, в отдельных местах превращался в кочкастое чвакающее болото. Уже через несколько минут рубашка на мне взмокла и прилипла к спине. Тяжелый что валун рюкзак на кочках водил и мотал из стороны в сторону, грозя свалить в мочажину. Хотя изо всех сил я старался не отставать, ничего из этого не получалось. Путешественники один за другим обходили меня, и наконец я оказался вовсе в хвосте. Прыти в ногах не было.
Прежде я ходил первым. Помню, путешествовал по Приполярному Уралу с москвичом Юрием Коринцом. По реке Народе с востока поднялись мы к хребту. У подножия Манараги, в переводе — Медвежьей лапы, в самом деле похожей пятипалой вершиной на поднятую в угрозе медвежью пясть, перевалили на западный склон и по реке Косью сплавились до железной дороги. Пешком брести пришлось очень много, и поэт Коринец сочинил двустишье:
Значит, умел ходить, была прыть. И вот сплыла.
К первому привалу я притащился, когда остальные, сбросив рюкзаки, уже сидели на сухих моховых кочках в зарослях дурманящего багульника, и — кто обтирал платком либо рукавом пот со лба, кто, отлепив щепотью от тела мокрую рубашку, встряхивал ее, стараясь просушить сквознячком, кто блаженно дымил табаком. С непривычки всем жарко, не мне одному.
В недвижном воздухе блескучим маревом колыхались одуряющие болотные испарения, томило усердное солнце — самая благодать для плодовитого комариного племени. И не успели мы сесть, как оно с криками и воплями валом навалилось на нас… Мал-малышок, буян на носок, вина в рот не берет, век песни орет. Не только песни орет, но и жалит, жигает, кровь пьет.
Мужики повытаскивали из карманов сетки, накинули их на головы, приспустив на лица. Оказывается, предусмотрительный Максимыч прихватил из дома и для меня сетку, с которой в прежние годы ходила в походы его жена.
Накомарник я взял, но надевать не стал, сунул в карман.
— Пускай попьет крови. Это полезно. В старину почти от любой болезни лечили кровопусканием. Чуть что — пиявочки на тело или ножичком по жилке. Теперь пиявок нет, перевелись, пусть комар заменит. К тому же нутром чувствую: не всякую кровь отсасывает комар, а только дурную, никуда не годную, отравленную никотином либо «посошком». Слышите, как захмелели и загалдели с нашего посошка. Так что вы совершенно зря спрятались от них.
Сам я наполовину верил своей выдумке, но спутники дружно подняли меня на смех и пропитанных ядохимикатами сеток с лиц не убрали.
Вскоре берег стал потверже и можно было идти у самой кромки воды, где по песочку, где по камням, где по тинистой няше. Долговязый и, как удилище, гнуткий сорокапятилетний механик Акимов вытащил из чехла и оснастил спиннинг.
В дневнике Летописца я подглядел о механике замечательную фразу: «Директор сидел на палубе, прислонившись спиной к мачте, и его вытянутые худые ноги были длиннее тени, отбрасываемой мачтою». Вот еще как может Летописец: весь невозмутимый и жердистый механик тут, в этой фразе.
Ну, а Директором Летописец окрестил его за непревзойденные распорядительские и хозяйственные дарования: непременный закоперщик всех вылазок за город, маршрутов выходного дня, празднования дней рождения, а в походах — всегдашний завхоз. Это он, Директор, собрал, со всех нас перед отъездом в общую кассу по полтораста рублей, покупал продукты, недостающее снаряжение, билеты на поезд, а в канун отбытия при укладке рюкзаков распределял общие грузы, взвешивая на безмене буквально все: мешки с сухарями и крупами, банки с консервами, котелки, палатки, чашки, ложки и тутти кванти. Рюкзаки у всех альпинистские, со шнуровкой по бокам, распустив которую, можно затолкать в них все домашнее имущество вместе с женами и детьми; лишь у меня иной, без шнуровки, и поэтому мне досталась неемкая, зато самая увесистая поклажа: с полсотни банок мясной тушенки, колбасного фарша и сгущенки. Напоследок Директор попытался каждый рюкзак взвесить на руках, отрывая их от пола, и выразил удовлетворение своей раскладкой: все одинаково не отрывались, словно были прибиты гвоздями к половицам. Значит, никто потаенно в обиде не будет.
Взмахнув над головой спиннингом, Директор запустил сверкнувшую на солнце блесну за середину реки. Не успел он смотать и двух метров лески, как стрекочущая катушка осеклась, на реке раздался громкий всплеск. Щука! Только она, живоглот, схватившись длинной пастью за крючок, с перепугу сразу же выскакивает на поверхность и, лишившись надежной опоры, теряет всякую способность к сопротивлению и борьбе — тащи, как щепку. Большую, полупудовую поленом волочишь по поверхности. Шкодлива, но труслива. Другое дело благородные рыбы: лосось, хариус, форель. Те держатся за воду до последнего мгновения, пока на берег не вытянешь, сопротивляются, бьются не на живот, а на смерть — тут и ты борец и охотник.
Прогонистым, в поперечных зеленых полосах бруском щука влеклась за леской к берегу на плаву… Неожиданно на авансцене объявился еще один участник экспедиции. Пожалуй, «объявился» слишком слабо сказано. Он выскочил, вылетел…
Это был почтенный Эдуард Авенирович, грузноватый для прыжков, в очках, с густой изморозью в волосах и на подбородке, но тем не менее, стряхнув в один миг наземь рюкзак, он именно по-рысьи прыгнул на щуку, упал на нее плашмя, подмял под себя. Стекла очков брызгали азартными искрами.
— Во дает! — с восхищением присвистнул Максимыч. — Настоящий Щукодав.
Летописец творит на ходу. Сегодня же вечером он непременно запишет новое прозвище в дневник, и оно прилипнет к человеку навсегда… Уже прилипло, уже полетело из уст в уста, обретая привычность и законную силу — Щукодав!
Не сходя с места, Щукодав выпотрошил рыбину, соскоблил с нее серебрящуюся изнанкой чешую, а Директор тем временем подволок к берегу другую; Щукодав и на нее бросился с азартом впервые выведенной в поле молодой охотничьей собаки.
С выражением снисходительного превосходства, появляющимся на лицах рыбаков и охотников при яркой удаче, Директор возвышался во весь свой жердяной рост, а Эдуард Авенирович ползал в его ногах и порывисто и страстно хватал еще шевелящихся прохладно-влажных рыб. Тут, на берегу, они, эти два человека, как бы поменялись ролями, исполняемыми в жизни.
Эдуард Авенирович — главный механик аглофабрики. Персональный кабинет, стол с телефоном, кресло с подлокотниками, под началом — двести рабочих и дюжина участковых механиков, один из которых — сам Директор. Там Директор часто у него на подхвате, здесь он на подхвате у Директора… Тем хороша и обольстительна чаровница и чудесница жизнь, что предоставляет человеку возможность побывать во всех ролях, в скромных и в самых высоких.
В дальний поход Эдуард Авенирович шел впервые. Наверно, потому он с горячечным пылом бросался на всякое новое дело: рубить ли дрова, разжигать ли костер, палатку ли ставить. А к улову, кем бы он ни был пойман, вообще никого не подпускал.
Бывало, мы не могли дождаться, когда настанет его очередь дежурить, то есть, главным образом, готовить завтрак, обед, ужин, ибо и в это не мужское деяние он вкладывал чисто мужские достоинства: изобретательность, рвение и честолюбивое желание заслужить всеобщее одобрение. И дикого лучку с малиновыми шапочками надергает среди камней по берегу, и не только в общий котел для приправы подкрошит, но и в очищенном и ополоснутом виде по пучочку перед каждым положит — витаминьтесь; в черный заваристый чай для пущего аромату смородинового либо брусничного листа кинет, во время перекуров ягод насобирает, кисель сварит. Первое и второе блюдо творит в нарушение расписанных завхозом и командиром продовольственных норм, руководствуясь принципом: победителя не судят. Ежели укажут сварить постную манную кашу на воде, он запамятует и бухнет в нее пару банок сгущенки. Укажут подсластить горстью сахара, он пять высыплет, приправить ложкой топленого масла — он поварешкой зачерпнет, зато уж вкуснота! Сладость! И восторги! Больше всех восторгался я, потому что мой рюкзак сразу легчал на две банки. Насколько душеприятны повару похвалы, можно было догадаться по горящим, точно маков цвет, ушам и брызжущим сквозь стекла очков искрами вдохновения шальным мальчишеским глазам.
Так мы шли вдоль берега под рюкзаками и день, и два, и три. Сорокаминутная ходка, или, как еще называли, урок, десятиминутный перекур и дальше в путь. За семь-восемь уроков наматывалось в течение дня не менее двадцати километров.
В середине пути река делала многоверстную петлю, похожую на карте на увесистую грушу. Обходить грушу — дня мало, срезать по прямой — двух часов хватит.
Долго не раздумывая, завернули в лес. Обступили нас со всех сторон узловатые лиственницы, кривые и черные, в редких белых пятнышках березы. Ноги путались в свежезеленом еловом сланце, проваливались на замшелых истлевших колодинах.
Придавленный стужами лес растет на полярных широтах узкими лентами вдоль ручьев и речек. Мы даже вспотеть не успели, как пересекли лесную полосу. Взорам явилась в многоцветных ковровых мхах тундра. Там, где мхов не было, пестрели мелкими звездочками невзрачные стелющиеся цветы. Но до чего же они хороши, когда их много — целые россыпи.
В тундре всегда весна. Поздно освобождаясь от снега, она и цветет до нового снега.
Мхи качались, глубоко проминались и продавливались, и путешественники чуть ли не вдвое сократились в росте — будто на коленях ползли. На тверди ощетинились навстречу заросли багульника и мелколистной карликовой березки-дерезы, через которые легче было бы не брести, а скакать козой.
Барахтаясь во мхах, с надсадой пластаясь среди багульника и березки, мы не заметили, как настигла нас черная хвостатая туча. Она сначала хлестнула ветряным мокрым хвостом по лицам, будто предупредив, а уж потом принялась за дело всерьез, окатывая нас густыми, упругими, как из-под душа, струями.
Ну, вот и начались подвиги! Сухой нитки не останется. Размокнут в рюкзаках продукты и вытекут сладким сиропом либо жидким тестом. Промокнут палатки, и тогда уж в них не поспать — хуже морозильной камеры. Тут уж держись! Проявляй находчивость и мужество!
Но у моих спутников настрой был совершенно другой. Они сбросили в мох рюкзаки, и в одно мгновение в их руках появились светло-матовые полотнища полиэтиленовой пленки, а в другое мгновение вместе с рюкзаками они уже сидели под ними.
Подскочил Максимыч, сунул в мои руки хрустящий сверток.
— Укрывайся. Райкина пленка.
Теперь и мне сам черт не брат. Дождь стучит и ярится по пленке, а мне — хоть бы хны. Привалился спиной к рюкзаку, вытянул гудящие ноги и растроганно думаю о Максимыче, о его рюкзаке — что там еще припасено для меня? Специально дожидается момента, чтобы сюрприз был еще приятнее. Вот в такие же подходящие моменты он уже одарил меня накомарником, толстыми стельками в сапоги и полосками кошмы, чтобы я подшил их для мягкости на рюкзачные ремни.
Да, подвигов и доблестей, видать, не будет. Не размокнут ни сухари, ни крупа, ни сахар, не вытекут из рюкзаков. Не промокнут палатки и не придется спать у костра на подстилке из хвои под звездным небом. Не придется в поте лица и с риском добывать в тайге пропитание. А ежели и грянет что-нибудь непредвиденное, врасплох моих спутников не застанет. Нет на земле рабочей профессии, какой бы не владел кто-то из них, нет ни единого несподручного им дела.
Наискось от меня под пленкой, как и все, сидит, притонув во мху, сорокашестилетний наш Командир. По-командирски он всегда подтянут, немногословен, видит и впереди и позади и в своей ярко-голубой рубашке и вязаной лыжной шапочке больше походит на интеллектуала, чем на рабочего. Тем не менее он плоть от плоти рабочий: слесарь по ремонту оборудования на уже упомянутой аглофабрике. Имея соответствующие дипломы, Владимир мог бы еще работать сварщиком, токарем, резчиком по металлу, встать за любой станок, какие есть на фабрике. Овальные разноразмерные котелки, чтобы входили один в другой и удобно, плоско умещались в рюкзаке, — котелки, в которых мы варим уху и каши, кипятим чай, а также плоская фляжка с запасом воды, пайвы-набирухи под рыбу — все это сковано из нержавейки его руками.
Где-то достаточно институтского диплома либо других корочек, чтобы стать начальником, получить власть над людьми. А чтобы удостоиться чести быть выбранным в таежные вожаки — этого мало, надо обладать целым рядом более существенных достоинств: жизненным опытом, мужеством, сметкой, способностью безошибочно ориентироваться в экстремальных условиях и, наконец, просто быть надежным и хорошим человеком.
А вот еще один мастер на все руки — электрик Паша. Небольшого роста, поджарый, умеющий хохотать неожиданным раскатистым басом, он преисполнен неистощимой доброжелательности ко всем и вся. Вроде бы друзья рядом помогутнее и покрепче, а глядишь, то одному, то другому пособляет. В сорок восемь лет для всех он Паша. Боюсь, неисправимый добряк так и останется им до скончания века.
Впрочем, Летописец и его не обошел своим вниманием, тоже перекрестил — в Многостаночника.
Поначалу я думал, на нескольких станках в заводе работает, потому и Многостаночник. Ан нет. В прошлый поход Паша отправился с собственной конструкции станковым рюкзаком да прихватил еще с собой бритвенный прибор-станочек и пачку лезвий, в то время как дали зарок не бриться до возвращения; на это вероломство Летописец немедленно и среагировал своим острым языком.
В рюкзаке у Многостаночника целая мастерская: плоскогубцы, молоточек, рашпиль, шильце, ножницы, точильный камень, гвозди, проволока, пенопласт… Какая бы поломка ни случилась, разом устранит.
Увы, где есть мастерство, хладнокровие и расчет, там, похоже, нет места подвигам.
Вчера Многостаночник сделал кораблик на хариуса. Скрепленные в катамаран две пенопластовые дощечки, одна пошире, другая поуже, утяжеленные по нижним ребрам килем из свинцового жгута, являли собою изящную конструкцию, способную служить игрушкой даже для взрослого человека. К широкой дощечке на трех поводках — по принципу бумажного змея — подвязали леску, пока еще без крючков, и запустили кораблик на испытания. Он ходко пошел по кипящему перекату к противоположному берегу, пересек пенящийся и бурлящий кипятком стрежень, как вдруг леска, на которой он, как змей, парил в реке, ослабла, а сам кораблик, потеряв управление, беспомощно заболтался и закрутился на частых волнах и покатился вниз по течению. Подвела леска — оборвалась либо отвязалась. Но доискиваться до причины некогда, надо спасать кораблик, на который возлагались определенные рыбацкие надежды.
— А ну-ка, Летописец! — нашелся Командир. — Не зря же ходил к моржам. Достанешь кораблик — получишь в качестве «полотенца» сто граммов наичистейшего.
— Двести! — азартно потребовал Максимыч.
— Сто!
— Э-э, была не была! — согласился Максимыч и, плюхнувшись на камни, нога за ногу и помогая руками, стал торопливо стягивать сапоги.
Еще вчера бывшая льдом или снегом в горах вода обдавала холодом на расстоянии, грохотала переворачиваемыми на перекате валунами, ревела и ярилась меж камней, расшибаясь в кипень и брызги, и ринуться в нее, схватиться с ней в единоборстве, несомненно, было смелым лихим подвигом, все мы с волнением дожидались этого деяния. Но тут в события встрял Директор:
— Подожди, Летописец. Дай-ка сначала мне попробовать отличиться.
Он поднял валявшийся на камнях спиннинг, вытянул его на одной руке перед глазами, прищурился, прицелился, как прицеливаются из ружья.
Кораблик жалкой скорлупкой болтался метрах в сорока от берега, а может, и того дальше. Сам Директор потом уверял, что до него было не меньше ста метров — раскрутилась-де с катушки вся леска… Безнадежное дело! Только время зря тянет!
Тщательно прицелившись, Директор взмахнул через плечо спиннингом, и блесна, со свистом рассекая воздух и увлекая за собою светлую леску, по параболе полетела вслед удаляющемуся кораблику и — надо же! — вонзилась в воду меж двух его дощечек и меж двух растяжек. Все ахнули. Вот это прицел! Вот это бросок! Не на Полярном Урале теперь надо быть Директору, а на Олимпийских играх. Жаль, не включены в игры соревнования по спиннингу. Непременно наш Директор стал бы олимпийским чемпионом.
С невозмутимым видом, будто для него плевое дело попасть блесной за сто метров и рыбе в глаз, Директор вытянул кораблик на берег и лишь после этого оборотил озаренное победительным светом лицо к Командиру.
— Если я не ошибаюсь, мне что-то причитается, Командир?
— Как раз ошибаешься.
— Ну, это уже несолидно, — потерял невозмутимость Директор. — Пообещать, а потом кукиш показать.
— Я русским языком говорил: в качестве «полотенца». А ты ведь в воду не лазал, растираться не надо, — неумолимо и твердо стоял на своем Командир.
— Вот так всегда, — со вздохом смирился Директор. — Заробишь премию, а начальство непременно найдет отговорку, чтобы не выплатить ее. Ну, да ладно, не привыкать.
Ворчал и Летописец, успевший снять не только сапоги, но и штаны, и прыгавший на одной ноге, влезая другой в штанину, ворчал не на Командира, а на Директора.
— Собака на сене. Ни себе, ни другим. А я бы, может, с тобой поделился.
— Кто знал, что так обернется, — утешал его и себя Директор. — В следующий раз умнее будем.
Утянув за собою седые хвосты, лохматая туча ушла на восток.
Вслед за ней наполз дымный морок, из которого пылил и сыпался ситничек. Его не переждать, может не на один день зарядить. Стоянка в тундре невозможна — сырь, топь и никаких дров вокруг, даже двух колышков не срубить для палатки. Встали и по чавкающим и брызгающим мхам и ерникам двинулись дальше.
Закутанные вместе с рюкзаками с ног до головы в матовые, взблескивающие дождевыми каплями полиэтиленовые полотнища, неуязвимые пилигримы походили на спустившихся в гиблое место мирных инопланетян.
Много ли, мало ли прошло времени — тундра кончилась. В лесу воды прибавилось: сыпалась не только с морочного неба, но и с жидколистных берез, елок, лиственниц, а высокие и густые тальники окатывали как из ведра. К счастью, и тут лес простирался узкой полоской, и вскоре услышалась, а потом и увиделась река.
Место для бивака искать не пришлось. На берегу сразу же вышли на полянку, где некогда уже кто-то стоял лагерем: в траве чернело глубоко выгоревшее костровище, по краям его торчали рогульки с задымленной палкой, и вокруг валялись опорные колья для палаток — не надо рубить свежие.
Распалили сразу два огня: один на старом костровище — кухонный, другой рядышком — для сушки промокшей одежды.
Дождь не переставал, и палатки разворачивались под пленкой. Под ней же подняли их на колья и натянули на растяжках. Ни одна капля не упала на брезент.
Без звезд, без луны и закатного зарева к ужину сгустилась несеверная тьма. Близ костра виднелись лишь выхваченные пламенем отдельные ветки невидимых дерев. Будто сами по себе они висели в воздухе и шевелились в прошитых искрами столбах дыма.
Когда от палатки я оглянулся на расположенные рядышком костры, они поблазнились на миг ночными глазами, знакомыми, страстными.
В сухой палатке я расстилаю для комфорта меховую куртку: и мягко, и сырость и мерзлота не прошивают ее. Поверх разворачиваю спальный мешок, в котором есть еще простынный вкладыш. Весь этот комфорт я ношу на себе.
Рядом дергается во сне Эдуард Авенирович. Иной раз его так подбросит, что от пола отрывается. Проклятые щуки, наверно, не дают покоя, снятся прогонистые, зубастые, и он их не устает потрошить и чистить.
А может, и не щуки вовсе. Дергался и вздрагивал он и раньше, еще до того, как Директор впервые расчехлил свой спиннинг. Могут сниться ночные телефонные звонки, от которых хочется запрятать голову под подушку. Опять авария! Опять в ночной смене пустяка без него не решат.
Может сниться канун прошлого Нового года. Не подали порожняк. Пришлось остановить часть агломерационных машин, что само по себе грозило фабрике остыванием, да тут еще Дед Мороз преподнес новогодний подарочек — сорокаградусный мороз, и фабрика замерзла. Зазвенели, заскрежетали распираемые льдом калориферы и трубы. Не выдерживали и взрывались, как фугасы. Стальные осколки выбивали из неоштукатуренных стен красную кирпичную пыль. В углах под крышей наросли белые бороды куржака.
Где-то друзья и родные поднимали тосты, стукались дымящимися и пенящимися фужерами — за успехи и счастье в новом году, за тех, кто в море, в шахте, на границе, на посту, значит, и за них тоже. А они кромсали электросваркой замороженные калориферы и трубы, таскали на себе новые, сваривали. По домам разошлись только четвертого января, разогрев и запустив фабрику.
Дневная усталость, шорох дождя, настоянный на всех летних запахах целительный воздух в конце концов успокоили и Щукодава, и он затих и мирно засопел носом.
А я слушал тишину. Плескалась река, потрескивали в затухающих кострах головешки, ласкался к палатке дождик. Но эти звуки не воспринимались как звуки или шумы. Они тоже составляли тишину, глубокую и всеобъемлющую, царящую над миром. И если как следует вслушаться в нее, можно уловить шорохи человеческих биотоков.
Я напрягся, сосредоточился, собрал все свое внимание, и вскоре с новой надеждой услышал ее нежную волну: не спит и она, думает, гадает… Так в урочный час мы слушаем друг друга. И ни телефона, ни рации нам не надо.
В темноте мое наклоненное лицо освещали и обжигали искрами ночные костры — ее глаза.
Ночные костры, ночные костры…
В сухой палатке, сухом спальнике и на меховой куртке я не почувствовал, как под утро расчистилось небо, вызвездило и крепко подморозило. Когда, проснувшись, вышел наружу, не узнал бивачной поляны: то, что вчера было дождевыми каплями, стало бусинками льда или снега, что бежало ручейками по стволам, стало сосульками. Трава и листья на деревьях поседели, сморщились, сникли. При каждом шаге раздавался звон и хруст, и в голые щиколотки вонзались иголки. Над головой стекленело высокое, льдисто-светлое небо, не верилось, что еще вечером оно было затянуто толстыми мокрыми облаками. За деревьями рябило пустое ленивое солнце, пронизывавшее безжалостным холодным светом до костей.
Скопившаяся в котелках дождевая вода покрылась льдом. Попробовал продавить пальцем — не продавливается. В кружках вода промерзла до дна и вспучилась буграми.
С неодолимой силой влекло обратно в палатку, в нагретый спальник. Но Командир, как и в теплые утра, перекинул через плечо полотенце, прихватил полиэтиленовый мешочек с умывальными принадлежностями и сбежал по уклону к реке. Это означало, что и остальным надо делать то же самое.
Почистив зубы, Командир разделся донага и с вскриком плюхнулся в дымящуюся воду. В другую минуту в реке была вся команда. Ахали, охали, крякали и подвывали — никто не мог удержаться от воплей.
Любо посмотреть на стройные, подбористые фигуры мужиков, скульптурно облепленные эластичными свежими мускулами. Многостаночник, в походном обмундировании и громоздких для его роста сапогах, производивший впечатление слабака, выглядел у воды античным атлетом: мускулы округлыми речными плитками лежали на груди, плечах, лопатках, руках и ногах, капли на них не держались и тотчас скатывались.
Растираясь махровым полотенцем, он философствовал:
— Купайтесь в талой воде, пейте ее побольше, сырую и непотревоженную. Еще вчера она была льдом или снегом — вот такую и надо пить. Телята с нее растут в два раза скорее, курицы несут по два яичка в день! Зачем птицы прилетают гнездиться к полярным льдам? Талая вода прибавляет им отцовских и материнских сил. Видели, как они толкутся под тающими на солнце снежинками? Проще было бы напиться из ручейка или лужицы, которые у самых ног, а они запрокинут головки клювами вверх и ловят обрывающиеся капли. Зачем? Тут что-то есть. Я верю в силу талой воды. И не потому, что пишут о ней ученые, а потому, что сам видел, как ловят ее птицы повернутыми вверх клювами. Скажите, зачем летом выманивает медведь из тайги медведицу и приводит на горные снежники, где и поживиться-то нечем? Зачем олень завлекает сюда важенку? Бродят они по голым камням, на которых и мох не растет. Зато меж камней журчит талая вода. И птицы прилетают, и звери приходят, и рыба приплывает, чтобы испить любовного напитка, прибавить сил для нежных игр.
— Сказки на салазках, — скептически отозвался Директор.
— Не скажи, — со смешком возразил Максимыч. — По себе замечал: прибавляется тут игривости. По возвращении с Полярного Урала всякий раз бегаешь за женой вокруг стола, точно олень за важенкой.
— А как было, когда вместе сюда ходили? — полюбопытствовал Директор.
— Вроде бы не приходилось бегать… Точно, не бегал. Сама льнула. Ну, Многостаночник, уговорил. В следующий раз, хотите вы или не хотите, снова беру с собой жену.
В дорогу надели на себя все теплое, что несли в рюкзаках: свитера, шапки, даже рукавицы — без них скрючивало от холода пальцы. Однако ближе к полудню солнце сбросило сонливую утреннюю лень, раздухарилось, задышало угольным жаром, на траве и листьях враз отопрела наморозь и каплями скатилась в землю. Закапало и с нас, одетых по-зимнему. Но долго ли снять шапки, рукавицы, стянуть свитера и спрятать обратно в рюкзаки? И вот уже Командир снова в голубой веселой рубашке ведет отряд дальше.
Солнце на ели, а мы еще не ели. Перед обедом искупались. Вода по-утреннему щипалась и кололась, но, разогретому ходьбой и рюкзаком, снедаемому собственной солью, необыкновенно приятно было вытянуться по хрящеватому дну и чувствовать, как омывают тебя быстрые родниковые струи. Еще приятнее выскочить после этого на горячие камни, подставить спину солнцу и согревать кожу сухим махровым полотенцем.
Перед ужином опять лезли в реку.
По дороге наловили низанку рыбы, и Щукодав, оттеснив от костра кашевара-дежурного, изжарил ее в панировочных сухарях. В золотистых хрустких корочках куски сами летели в рот. Была еще свежая мелкозернистая икра, тщательно очищенная все тем же Щукодавом от пленки, приправленная перчиком и мелко покрошенным диким луком. Хороша закуска! Ничего не скажешь!
Но к «посошку» не тянуло. Без него хмельны. Хмельны от усталости, недавнего освежающего купания, новизны впечатлений и сдержанной мужской дружбы, втянувшей в свое магнитное поле всех. Под аккомпанемент играющей реки, присоединяя в хор окрестный лес, молодо и сокровенно взлетела костровая:
Потом вспоминали о том, как добывали перец. Ни в одном доме, тем более в магазинах, его не оказалось: давно уже числится в дефицитных товарах. А какая без перца уха в тайге? Побежали в ресторан, где проворная официантка быстренько исполнила заказ — принесла на блюдце тощенький пакетик, а поверх него счет, в котором черным по белому значилось: семь пятьдесят.
— Что сие означает? — не поняли заказчики.
— Цена, — удивившись наивности вопроса, пожала плечами официантка. — Семь рублей пятьдесят копеек. У нас все с ресторанной наценкой. Хотите берите, хотите не берите.
Опять же: какая без перцу уха у студеной реки на Полярном Урале. Пол-ухи. И то лишку. Четверть ухи. Делать нечего — взяли. Но с того часа слово «перец» исчезло из обихода и заменило его «семь пятьдесят». Надо кому-то поперчить уху, протягивает руку и просит:
— Подайте-ка «семь пятьдесят».
— Возьми, — отвечают ему. — Только не забывай: семь пятьдесят, поэкономнее сыпь.
В первую ночь мы разместились в двух палатках, кто с кем пожелал, но уже в следующую Командир перетасовал всех по признаку: храпит — не храпит. Так появилась палатка «дизелей», и когда жильцы в ней засыпали, в другой палатке комментировали:
— Пускачи запустили, вишь, как стрекочут!
— А вот и дизеля включились. Будто тягачи в болоте завязли — надсажаются!
Шагастый Директор при первом же переходе натер весьма деликатное место. Друзья отнеслись с пониманием и сочувствием к его несчастью:
— Подшипник загорелся. Что ж, случается.
Бывали шутки покрепче, посолонее, по-своему тоже хороши и остроумны, но, к сожалению, и документальная проза не все терпит, требует отбора.
В разговорах у вечернего костра я часто слышал фамилию Базилевича, но долго пропускал ее мимо ушей: мало ли о ком говорят. В этот раз я вслушался, вник в то, что рассказывал Командир.
— Ходил он всегда напрямик. Болото так болото. Валежник так валежник. Кручи так кручи. Не признавал никаких петлястых троп и обходных путей, пускай и очень удобных. Идет впереди, плечистый, высокий, и ни разу не оглянется, как бы громко за спиной ни роптали. Роптал и я. Какого черта затащил нас в чащину, где, того и гляди, ногу сломаешь? Все мнилось за его спиной: сбились с направления, надо принять вправо или влево. Орешь ему, а он и ухом не поведет. Прет дуроломом — что лось. И вдруг раньше ожидаемого выскакиваешь к цели. Ни на полшага не ошибется, точка в точку выведет. Ориентировался в лесу, что в собственной квартире. С завязанными глазами не заблудился бы.
— А кто он, этот Базилевич? — наконец спросил я.
И наперебой поведали мне о человеке, оказавшем неизгладимое влияние на моих спутников.
Был он из породы сеятелей, щедрою рукой разбрасывающих вокруг себя семена разумного и вечного. После окончания Свердловского горного института приехал в Тагил на Высокогорский железный рудник с желанием не только приложить инженерные знания, но и отдать людям весь свой душевный жар и опыт. Молодой маркшейдер пошел по цехам, по шахтам и рабочим общежитиям, собирая вокруг себя бойких тагильских парней и рассказывая им о неизведанных краях, звериных тропах и ночных кострах.
Натаскивал подопечных с малого — с маршрутов выходного дня. Заленится кто-нибудь — на своем мотоцикле вывезет в лес. Бывало, два-три рейса сделает, доставляя на стоянку неохочих и нерадивых. А там учил расторопно и проворно ставить палатки, укладывать рюкзаки, ходить и бегать по компасу, учил взаимовыручке и дружбе. Потом он вывел ребят на соревнования по спортивному ориентированию, организованные по его инициативе впервые в Тагиле. Выиграв состязание, они отправились в свой первый дальний маршрут на красивейшую реку Приполярного Урала — порожистый Щугор.
Лет десять назад Владимира Базилевича направили на работу в Алжир, и там он погиб в шахте, раздавленный обвалившимся заколом. Хоронили его в Тагиле, за цинковым гробом шла тысячная скорбная процессия: друзья, ученики, последователи. Ныне каждый год в Тагиле разыгрывается по спортивному ориентированию приз имени Базилевича, а память о нем несут по таежным тропам в своих сердцах тагильские рабочие-туристы.
Вот они какие, современные витязи — с бескорыстной и жаркой душой, умеющие силой своего характера и обаяния увлечь людей к благородным целям.
До скончания века заразил Базилевич спортивностью своих подопечных. Летом кто на велосипеде, кто на веслах, зимой — на коньках и на лыжах. Все мои спутники — рьяные, заядлые лыжники. Какая бы стужа ни была на дворе, ни один выходной не пропустят, чтобы не пробежать «тридцатку». Детей, жен тащат за собой. Ревнители и непременные участники нижнетагильской «Снежинки». Но о «Снежинке» чуть позже. Ибо Максимыч вспомнил о другом тагильском витязе и с восхищением принялся о нем рассказывать:
— Николай Дмитриевич в недавнем прошлом — директор теплоэлектроцентрали, ныне — пенсионер. Основоположник клуба моржей. Ты ведь был в клубе, — не спросил, а подтвердил Максимыч. — Должен помнить: калориферы, кафель, эмаль, пластик, широкие светлые окна на воду, на синие леса на дальнем необжитом берегу пруда. Его рук дело. По инициативе Николая Дмитриевича построил город это замечательное здание для клуба моржей. А сам он — истый фанатик зимнего купания. Иначе не назовешь.
— Белым оленем зовут его в клубе. Волос на голове — первоснежный, поросль на груди — баскунчакская соль, тренированный, подобранный, легконогий — истинный красавец олень. Стоит ему самую малость поговорить с любым человеком, даже таким, который сроду холодной водой и не умывался, как тотчас обращает его в свою веру. Зайдет по делам к секретарю горкома либо директору комбината, увлечется, распалится, распропагандирует их, и назавтра, глядишь, и секретарь и директор трясутся от холода в одних плавочках на льду у проруби. Но трясись, не трясись: коли уж пришел, разделся — нырнешь в купель, примешь крещение. Самолюбие не позволит уйти от проруби «нехристем».
— Рассказывают, приедет зимой в Крым или Сочи, сразу же собирает полную аудиторию и выступает без никакой бумажки, на одном вдохновении с трехчасовым докладом о пользе закаливания, красоте спортивной жизни и вечной молодости. На следующий день, глядишь, за ним бегают по горным тронам человек сто, бросаются следом очертя голову в студеное зимнее море и вообще ни на шаг не отстают — куда он, туда и все, что он, то и они. Повсюду у него такие приверженцы — в огонь и воду за ним.
— В позапрошлом году он привел моржей фотографироваться к городской новогодней елке на театральной площади. Вокруг елки — сложенные из снега крепостные стены, башни, многометровые фигуры Деда Мороза и Снегурочки, ледяные горы, с которых толпами скользят вниз на ногах, на коленях, на мягком месте. Катальщики в шубах, дохах, дубленках, в меховых шапках и шарфах. Представляешь, что тут было, когда у елки вдруг появились мужчины и женщины в одних лишь плавках да купальниках. Движение на горках остановилось. Все вылупились на нептунов. Невидаль! Сгрудились они под елкой. Кто сел на снег, кто опустился на колени, кто остался на ногах. И ни один не дрогнул, покуда фотограф не исщелкал на них всю пленку…
А вот и «Снежинка» — традиционный лыжный пробег тагильчан по маршруту Азия — Европа.
В один из мартовских дней, в ясное солнечное воскресенье, утренним часом собираются у подножия Долгой горы на обширной лесной прогалине стар и млад. Приезжают на автобусах, грузовиках, в легковых машинах, подходят с лыжами на плече пешком… Подкатил Максимыч со всей семьей — женой и сыном, которых под грудой разноцветных лыж в машине не сразу разглядишь. Командир привел жену, Многостаночник — сына.
Мелькают иные знакомые лица. С тем учился в одной школе, с другим бок о бок жил в палаточном пионерском лагере, с третьим состязался на беговых дорожках стадионов. Махнув красной варежкой, приветствует меня из толпы Ильда Шамина, подруга и соученица моей сестры. Смуглая, высокая и стройная, она и теперь хороша. Как-то пройдет дистанцию? В свое время ее никто не мог обойти.
Я не единственный гость на празднике. Тряхнуть стариной приехали лыжники из Перми, Челябинска, Кургана и иных недальних городов.
В городе снегу почти не осталось. Асфальт сух и сер от осевшей пыли. И если в затененных уголках кое-где сохранились смерзшиеся остатки, то в это солнечное утро они вовсю тают, исходят ручьями и звонкой капелью.
А в лесу снег лежит нетронутым, искристо-белым, сахарным, и на его фоне особенно ярки и нарядны одежды лыжников: голубые, оранжевые, лиловые, бордовые, сиреневые нейлоновые куртки и парки. Пестрят полевыми цветами вязаные шапочки с кисточками и бомбошками; радугами колышутся и вьются на ветру шарфы.
Уложенные в ряд на белом снегу черные лыжи напоминают мне клавиши, и льющийся из усилителей ноктюрн Шопена будто рождается из звучных уральских снетов.
Прикрепленные к девичьим ботинкам лыжи своими круто загнутыми носками походят на лебедей с их чудными изгибистыми шеями. А лыжи, в снежных вихрях несущие с горы мальчишку, чудятся конями, вытянувшимися в полете в одну линию.
Омывающее душу вселюдное празднество. Хоровод смелых и ликующих кустодиевских красок. Еще пестрей и краше, чем на запечатленной художником стародавней масленице.
А собравшиеся вокруг Ильды Шаминой женщины и сама она — разрумянившиеся, стройные и крепкие, в вязаных собственными руками шапочках-цветах, свитерах-букетах — ярче малявинских девок. В прошлом году Ильда на полпути до финиша в кровь стерла ногу. Но разве могла она, первая лыжница послевоенной поры, из рода-племени спортсменов — отец, мать, дяди, тети, брат — все бегали либо прыгали, — разве могла сойти с лыжни, уступить ее молодой сопернице? Никогда!
И она сняла грудью шелковую ленту, натянутую на финише. И тут же упала на руки мужа — Юры Иванова, геолога и моего одноклассника.
Как и положено на празднике, повсюду лотки под белыми скатертями и лотошницы в белых халатах поверх толстых зимних одежд. Дымятся медные самовары. Из бидонов пахнет кофе. Горы пирожков, бубликов и бутербродов.
Столики с яствами развезены по всей трассе. Лыжники бесплатно там могут выпить стакан чаю или кофе, съесть бутерброд.
И никаких горячительных напитков. Даже шампанское нигде не блеснет осеребренной головкой. Некий оборотистый малый, в дубленке и черной ухоженной бородке, решил воспользоваться этим обстоятельством, привез на «Волге» целый ящик водки. Хочешь — полной бутылкой бери, хочешь — сто граммов нальет, прихватил с собой и мерный стаканчик, цена божеская — ресторанная: червонец бутылка, два рубля — стопарь… Не женщины — мужчины взъярились. Оборотистого шинкаря чуть не вытащили из машины на правеж, да вовремя успел нажать на газ.
Женщины с лыжами погрузились в теплые автобусы, и их повезли в Европу, в Синегорье, расположенное в тридцати пяти километрах от города. Старт у них там, финиш — у подножия Долгой горы.
Мужчины стартуют от Долгой горы, в пути встретятся с женщинами, добегут до Синегорья и поворотят обратно. Дистанция у них в два раза длиннее — семьдесят километров.
Лыжня стелется по старой, демидовских времен, узкой вырубке, по которой подвозили некогда к тагильским домнам выжженный в лесных ямах древесный уголь. Она то взбегает на увалы и горы, то спускается в долины, на елани; громоздятся по сторонам вековые шатровые ели-терема, способные укрыть в непогоду по сотне людей, возносятся до небес медностволые колонны сосен.
До поры струйка воздуха не колыхнется над лыжней, огороженной от ветра двумя лесными заплотами. В солнечном сиянии день парит и нежится.
Но вот на крылатых лыжах пролетел первый, второй, третий, и застоявшийся воздух затрепетал, зашелестел, запосвистывал вихрями.
Прежде на тройках-птицах, в казацких седлах неслась и летела Русь, ныне на лыжах-птицах. Как встарь, мелькают, задевая глаз, версты и деревья, долы и горы, а впереди, в неоглядной дали — новое великое и непостижимое будущее.
В этот час я держу руку на пульсе нации. Слушаю, считаю удары. Бьется ровно, сильно и молодо. Здоровье — молодецкое, богатырское.
Я пропадал. За неполных три земных кругооборота семь раз лежал в больнице по полтора-два месяца, выпадавших на зиму и на лето, на весну и на осень, в общей сложности около года.
Казарменного образца палата. Два десятка железных сухоребрых кроватей, расставленных попарно. Между парами узенькие проходы, куда можно протиснуться лишь боком, приставляя одну ногу к другой. В окнах меж двойных рам — облагороженные белилами металлические решетки. От покрытого бурым линолеумом пола шибает в нос хлоркой, с которой три раза в сутки освежают палату.
Это теперь так четко и последовательно я восстанавливаю обстановку. В те же времена были часы, когда черная немочь и страдание мутным колеблющимся туманом застилали сознание, и я ни зги не видел вокруг или видел отрывочно, смутно и отрешенно.
Вот сосед справа, чья койка примкнута к моей, бессвязно размахивает руками, и я беспокоюсь, как бы он не зацепил меня. Вот санитар, опахивая мое лицо полами нечистого халата, елозит лентяйкой по проходу, и в голову ударяет казенный запах хлорки — запах неволи. Вот присела рядом со мной молоденькая сестрица и кормит с ложки манной кашей. По небритому подбородку каша стекает на подвязанное вокруг шеи грубое вафельное полотенце, и я от этого не испытываю никакой душевной неловкости. Только совершенно не хочется есть. Мотаю головой, увожу испачканный рот от ложки, но девушка проявляет поистине материнское терпение и скармливает всю кашу. Напоследок она промахнулась и ткнула ложкой в нос, но тут же исправилась — отвязала полотенце и оборотной, чистой стороной обиходила все мое лицо.
Она же три раза в день, утром, в обед и вечером, приносит таблетки и из промытой ладошки высыпает прямо в мой рот. По целой горсти. Прежде она просила подставить ладонь и шла дальше. Улучив момент, я прятал таблетки под простыню либо в карман больничной пижамы, чтобы при удобном случае вышвырнуть их в форточку или спустить в унитаз. Перед форточкой с поднятой в замахе рукой, сжимавшей горсть таблеток, поймал меня врач, и с тех пор начались строгости.
Другим лекарства, может, и помогают, мне от них только хуже: сковывают, связывают в движениях, ни ногой, ни рукой шевельнуть или, наоборот, настолько взвинчивают двигательную систему, что как угорелый сутками носишься по палате.
Когда страдания оставляют и туман выходит из головы, я всматриваюсь в лица соседей, прислушиваюсь к их редким немногословным разговорам. А с ними что? Какая беда их настигла?
Сосед справа — в неблизком прошлом летчик-реактивщик. Решившись спасти аварийный самолет, он не катапультировался, как было велено командованием, а потянул его к посадочной полосе и не дотянул всего лишь какие-то двести пятьдесят метров. С того времени голова у него скошена набок и сильно вытянута на шее вперед, правая рука в полусогнутом виде поднята вверх и бессвязно размахивает, левая — откинута назад и тоже без устали двигается. Похож он на темпераментного оратора, произносящего с трибуны затянувшуюся на годы страстную речь… Правая рука рубит воздух, убеждает, внушает.
Навещают его жена и дочь. Дочь появляется почти каждый день. И в положенные для свиданий часы, и рано утром, и поздно вечером, когда больница заперта — ей отпирают.
Но весенней поре она в клетчатом полупальто с капюшоном, на который широко стекают густые ореховые волосы. Такие же ореховые глаза смотрят на отца с тревогой и обожанием. На свежих щеках вспыхивают и гаснут треугольные ямочки.
Если бы можно было на минуту остановить летчика, выпрямить шею, успокоить перекошенные губы, то сходство с дочерью стало бы очевидным: такие же ореховые глаза, такие же густые каштановые волосы, прошитые, однако, проседью.
С помощью дочери заправив за резинку пижамных брюк непослушные руки, он сидит на скамейке вполоборота к ней, любуется, восхищается, страдает глазами и ведет ясные речи:
— Немалое для меня утешение, что хоть материально не в обузу вам. Не проедаю всей пенсии, и вам еще остается.
— Я тебе запрещаю вести такие разговоры.
— Вы с мамой не жалейте на себя. Сколько надо, столько и берите с книжки. Ходишь в сберкассу, берешь?
— Нет, не хожу. Ты, пожалуйста, не беспокойся. Мамина зарплата плюс моя стипендия — куда еще больше? Есть еще один источник. Мы с мамой договорились ничего тебе о нем не говорить, чтобы не переживал зря. Но если пообещаешь, что не будешь переживать, скажу.
— Не могу такого обещать, — посуровел отец. — Но ты все равно обязана сказать.
— Вот уже месяц я работаю на полставки на кафедре. Конечно, после лекций.
По лицу отца судорогой пробегает страдание, руки выскакивают из-под резинки, левая откидывается за спину, правая в негодующем размахе взлетает над головой.
— Нет, нет! — мотает он скошенной головой.
Дочь привычно и ласково вправляет руки обратно, обнимает отца за плечи, гладит по волосам и переводит разговор на другое.
— Я натаскала целую гору книг. Есть просто замечательные. Дожидаюсь тебя, чтобы вместе читать. Будешь слушать? Начнем с Монтеня. Знаешь, с чем его едят?.. Нет? Тем интересней будет. Философ, у которого все понятно, все доходит не только до ума, но и до сердца. Дух захватывает от его рассуждений… Последние испытания, схватка с самой смертью, — говорит он, — окончательная проверка, пробный камень всего того, что совершено нами в жизни. Эта схватка — верховный судья всех остальных наших дней. Пускай честно и достойно человек прожил многие годы, но перед лицом смерти сплоховал, смалодушничал, унизился — значит, перечеркнул и опозорил всю свою жизнь.
— Это святая правда, доченька, — грустно подтвердил отец. — Самолично проверил. Но с работы все-таки должна уйти.
— Нет, папа. Дело даже не в деньгах, хотя и они не помешают, а в том, что работаю я по будущей своей специальности. И интересно.
— Не то, не то, — страдает отец глазами. — Когда ты была маленькой, я мечтал не о своем — о твоем будущем, собирался подарить тебе моря, океаны, горы, реки, Северный и Южный полюсы — все, над чем сам летал на своем самолете. Мечтал, когда станешь такая, какая теперь, отправиться вдвоем на Урал или в Саяны, за плечами байдарка, а потом спуститься на ней сквозь пороги и камни по какой-нибудь прекрасной реке…
— Знаешь, папа, — перебила дочь, — у меня есть хорошие друзья, которые каждое лето ходят по горным рекам на байдарках. Если хочешь, я напрошусь к ним.
— Действительно хорошие друзья?
— Очень хорошие.
— Рад буду за тебя.
— Ты у меня самый замечательный из всех пап.
Сосед слева, чья койка отделена от моей узким проходом, — после автомобильной катастрофы. Ничего не помнит. Помнит только оранжевое. Оранжевый КрАЗ — самосвал со стальным козырьком над кабиной — внезапно выкатился по проселку на кромку шоссе. То ли они в него врезались, то ли он их смял. Перед глазами одно оранжевое, оранжевое.
Из четверых, сидевших в машине, не умер он. Остальные трое — самые дорогие для него люди: сынишка, брат, жена — даже не замутили слабым дыханием зеркальца, поднесенного прибывшим доктором к их еще теплым губам.
Врачи и сестры не один раз на дню называют нас по фамилии, а то и по имени-отчеству, но они пролетают мимо сознания, погруженного в собственные страдания, не оседают в памяти. Я и теперь не могу вспомнить, как звали летчика, как звали другого изувеченного. Назову его по последней должности, в которой сокрушила катастрофа, — прорабом.
В течение двух месяцев, не приходя в себя, прораб на волоске висел между бытием и небытием. За это время хирурги разобрали его и вновь собрали: косточка к косточке, осколок к осколку. Склеили в наилучшем виде: даже не хромает. Когда он раздевается для сна, я вижу на руках и ногах многочисленные ниточки разрезов, перетянутые на равном расстоянии узелками швов, и они кажутся совершенно безобидными царапинами.
Кости хирурги срастили, но раненую душу и раскалывающуюся от боли голову не вылечили. Целый день сухопарый, грачиного оперения прораб ходит по коридору, сжимая рукой затылок. Навещать его приезжают из другого города. Два раза выписывали домой, но уже через несколько дней он просился обратно в недужницу-больницу.
Я понимаю его. Дома и комфорта поболе, и воздух чище, и кормят вкуснее, но к физическим мукам там прибавляются еще и душевные: стыдишься своей беспомощности, полной непригодности даже к маломальскому, пустяковому делу, переживаешь, глядя на девочек-дочерей, подавленных твоим недугом, и рвешься обратно в пропахшую невыветриваемой хлоркой, казарменной тесноты и суровости палату. Тут не один ты плачешь невидимыми миру слезами — это утешает и уравнивает с людьми.
Ворочаясь, прораб долго приноравливает измученное тело к тюфяку, стараясь найти положение, в котором боль отпустила бы его, позволила заснуть. Бывает, находит. Но сегодня не получается. Устав от бесплодных усилий, он садится на кровати и в отчаянии обхватывает обеими руками голову.
— Дома в кладовке крюк облюбовал, — ни к кому не обращаясь, произносит он отвыкшим от речей каркающим голосом. — Раскладушка на нем висела. Прочный крюк. Но не смог…
По другую сторону от меня вскакивает летчик. Рискуя рассыпаться на части, бессвязно машет руками, дергает вкось головой, топает босыми ногами.
— Позор! Не сметь! Нести крест! — в негодовании потеряв способность связывать слова, выплескивает их по отдельности.
Говорят: на смерть, что на солнышко, во все глаза не глянешь. Здесь не только смотрят, не моргнув, но и обсуждают ее со всех сторон, словно близкую соседку. Между прорабом и летчиком завязывается спор. Я прислушиваюсь к ним и испытываю такое чувство, будто это не они, а я сам с собой спорю.
Немочь наваливается отовсюду. В особицу ничто не страждет: ни голова, ни грудь, ни нош — страждет все вместе, каждая фибра, каждая клетка, словно придавлен, превращен в червя многотонной могильной плитой, и сохранилась лишь единственная способность — впитывать эту тяжесть и вызываемую ею муку. Накатывает апокалипсический страх. Глаза застилает сыпучим туманом. Остатки сознания устремлены на то, чтобы не потерять достоинства: не закричать, не унизиться как-нибудь по-другому. Остатками сознания ищу я в пыльном тумане мерцающее окно и еще раз взвешиваю свои возможности. Смогу ли одним махом вырвать решетку? Не ошибусь ли окном? Их несколько, но только под средним на улице острыми углами скалится груда камней, которые поспособствуют осуществить замышленное наверняка… Это отчаивается во Мне прораб. Его запальчиво урезонивает летчик. Падет позор не на одну твою голову. Вспомни Монтеня, Сплоховал в схватке со смертью — осрамил всю жизнь. Хоть, и всесильна смерть, но и перед ней не надо шапку ломать. Легко биться с равными, побейся с ней, неравной самодержицей, авось зауважает.
Но где взять силы, чтобы не сдаваться и биться до конца? Они уже истончились в ниточку, на живульке держатся.
Из зги, из тумана наплывают чьи-то слова: забыть себя. Кто-то что-то сказал по этому поводу очень важное. Напрягшись, сначала вытягиваю имя: Лев Толстой, а потом и всю его мысль: в человека вложена бесконечная, не только моральная, но и физическая сила, но вместе с тем на эту силу наложен ужасный тормоз — любовь к себе или, скорее, память о себе, которая производит бессилие…
Но как перестать любить себя? Свою физическую суть не любить просто. Случалось, я не любил ее, будучи совершенно здоровым. Но как не любить то, что ее наполняет, — дочерей и маму, работу и самую любовь, леса и воздух, реки и горы? Одно предположение, что никогда больше не напишу ни строчки, повергает в горестную кручину. Значит, надо забыть и то, что собирался написать и не написал…
Однако толстовская мысль малым краешком мною уже пережита. Во время болезни я похоронил маму. Ту маму, которая в упомянутое здесь утро моей жизни сладко обласкала меня по голым ягодицам сыромятным чересседельником. Теперь век бы не устал от таких ласк. Я горько скорбел над ее гробом и горько радовался тому, что больше не увидит моей немощи, лишившей ее последних надежд. Она унесла с собой часть моей живой любви и тем самым сделала меня чуть сильнее и свободнее в выборе.
Но такой силы и свободы выбора я больше не хочу. Не хочу беспамятства. Пусть все мое остается при мне. Надо вырываться по-другому.
В жизни я не раз был одарен дружбой людей, старше меня на целое поколение — дружбой хлебнувших лиха фронтовиков. Иных уж нет. Пали от старых ран. Похоронил. Другие — дай бог им сто лет веку — живы. Я верю их смертному опыту.
Друзья, как и отец-мать, не умирают вовсе. С ними советуешься, споришь, беседуешь. В лихой час они тут как тут. И взываешь к их помощи: не для вас смерть, что солнышко, на которое во все глаза не глянешь. Вы-то смотрели. Подскажите, научите.
И вот из дальней дали, из двадцатилетней давности всколыхивается и звучит басовитый голос друга, умершего четверть века спустя после окончания войны, с семью крупповскими осколками в теле — голос писателя Ивана Ермакова:
— Тысячи пулеметных и автоматных очередей вонзаются в реку. Незамутненная течением, тишайшая из тишайших, став рубежом, она кипит, как на огне, — бурлит, и клокочет, и вздувается пузырями, будто грешников собираются варить в ней на страшном суде. Ни единого непробитого дюйма на воде. Стена свинца, сквозь которую и увертливой птице не пролететь. А приказ — пройти, форсировать реку вброд, закрепиться на другом берегу. Сил нет оторваться от земли. Твердо знаешь: через миг тебя не станет, захлебнет, поглотит река. А не оторваться, не встать — того хуже. Тогда я говорю себе: тебя уже нет, Ваня, ты убит, умер. И, поверишь, перестал чувствовать себя, потерял мысль о жизни и вместе с ней весь страх. В таком состоянии поднялся на ноги и, волоча за ремень винтовку, во весь рост, не кланяясь пулям, да и не слыша их, забрел в воду. До сих пор остается загадкой, почему не зацепила меня ни одна пуля. Оживать стал лишь на другом берегу, лежа за камнем, от которого во все стороны рикошетил и брызгал свинец.
…Умирать я обучился быстро. Раздавленный многотонной плитой, внушал себе: меня уже нет, и все мне безразлично. Не жребий долго жить и много написать. И приходило потустороннее терпение и смирение перед судьбой, приходило даже некоторое удовлетворение тем, что умер и никого не обеспокоил.
В один из апрельских дней летчика выписали. Как раз в этот день пришел внучек по дедушку — выпал на зимние остатки вешний рыхлый отзимок.
Встречать явились жена и дочь, в искрящихся капельках растаявших снежинок на волосах, придававших им праздничный вид.
Одежду они привезли с собой: пальто и костюм в чехлах, рубашку и галстук в целлофановом пакете, сапоги в матерчатом мешке, затянутом шнурком.
Дочь надела на отца белоснежную, в складках от утюга рубашку, повязала серый в голубой горошек галстук, а после, присев, задернула крупнозахватные «молнии» на чудо-сапогах коричневого цвета. Жена с усталым бледным лицом, на котором теплилась, однако, добрая смиренная улыбка, вдела болтающиеся руки мужа сначала в рукава пиджака, потом в рукава пальто. И ладный костюм, и драповое с черным каракулевым воротником пальто были с иголочки, будто принесли они их не из дома, а прямо из мастерской, от высококлассного портного.
Когда дочь нахлобучила на отца кожаную, с черной, под воротник, каракулевой отделкой шапку, летчика было не узнать, хотя по-прежнему ораторствовал и руками и головой.
Отступив на шаг, дочь с лукавым прищуром оглядела отца и, вновь подойдя, поправила шапку — приподняла со лба и слегка сдвинула набок. Теперь он был таким, каким она хотела его видеть. Ухватив отца за поднятую руку, она склонила ее вниз, прижала к своему боку, жена взяла под другую руку, и напутствуемые добрыми пожеланиями больных, врачей, сестер и санитаров, они вышли на белый незаслеженный снег, где их поджидала успевшая одеться в пуховый чехол машина.
Проводы летчика — самое отрадное больничное впечатление. Я подошел к окну в коридоре, долго глядел на оставленный машиной рубчатый след и вдруг почувствовал, как в груди толкнулось упование.
В полдень вешнее по-молодому голодное солнце слизало весь отзимок, не оставив и пятнышка.
Последний раз выписали меня из недужницы в начале лета. Измотанный непосильными борениями, угнетенный лекарствами, которые в меня не только горстями всыпали в виде разнообразных таблеток, но и вливали ведерными шприцами, я пластом лежал на дачной веранде и не мог понудить себя ни к какому действию. Даже сигарету в рот вкладывала жена и после подносила к ней зажженную спичку. Поднимался лишь, чтобы пожевать что-нибудь нехотя вместе со всеми за обеденным столом.
За стеклами веранды с раннего утра кипела молодая свежая жизнь: во весь охват глаз буйно полыхала зелень, ломилась удлиняющимися из года в год ветвями в окна; по застрехам страстно возились и гомонили воробьи, в лесу, начинающемся сразу за огородом, на все лады пели, звенели, тренькали, цокали и стрекотали зорянки, дрозды, синицы и сороки — лучший в мире оркестр из птичьих голосов, исполняющий ликующие хоралы во славу вечной жизни. Поблизости не менее шумно и бойко гомонили и щебетали мои дочери и их многочисленные подружки, боязливо обходившие меня, лежебоку, стороной.
Надо что-то делать, надо с чего-то начинать — твердил я себе, пробудившись утром на веранде, — и целый день ничего не делал, валялся в полном отупении, без никаких желаний.
Тридцать минут еще полежу — говорил я себе на следующее утро — и немедленно встану, пройдусь хотя бы по огороду.
Спустя тридцать минут я набавлял еще столько, потом целый час — и все без толку, будто прирос к лежанке.
Большинству людей незнакомо подобное состояние, когда, точно воздух из мяча, выходит из тебя воля и ты уже не звенишь, не прыгаешь, не катишься, а тряпкой валяешься, где бросят. Какой без воли человек?! И полчеловека нет. Завидуешь пасущейся за околицей на выгоне скотине, которая щиплет траву и пьет из дождевой лужи, ни с того ни с сего резвится и бегает и творит продолжение самой себя. У тебя же никаких позывов. Не смирилось только сознание. Оно терзается от безнадежности и горечи.
Однажды, разбуженный на рассвете знобким холодком и опередившими птичий оркестр горластыми деревенскими петухами, я вспомнил другое утро — благоухающее умытыми ночной росой цветами и, несмотря на ранний час, уже прогретое теплым дыханием моря. Сорокалетняя женщина в белой кофточке и синих трикотажных брюках, тоненькая и невесомая, завязывала свое каучуково-бескостное тело в немыслимые узлы: откинется назад, согнется, сложится вдвое и, держась на ногах, опустится грудью на гальку. Поднимет ногу над головой — прямая линия с другой.
Когда женщина закончила упражнения, пот бежал по ее лицу и шее дождевыми струйками, а потемневшую кофточку можно было выжимать.
— Вы молодец, Надя! — с восхищением сказал я. — Никогда бы не подумал, что такие упражнения под силу и немолодым.
— Если хочешь жить, все под силу.
Надя Малыгина — писательница из Волгограда. Родом она с Урала и во время войны в составе Уральского добровольческого танкового корпуса прошла санинструктором весь его боевой путь. Мы подружились с ней с первого знакомства, оказавшись под одной крышей в Ялте, в писательском Доме творчества: в столовой сидим за одним столом, вместе делаем зарядку.
— Мой будущий муж после войны привез меня к себе домой в разобранном виде. Из поезда в поезд, с машины на машину переносил на носилках. Изрешечена осколками, контужена, с перебитыми сухожилиями и нервами. Живой труп. Способна была лишь удивляться, зачем я ему нужна, когда даже сама себе не нужна. Только ради него и принялась выкарабкиваться. Сначала научилась двигать пальцами, сжимать их в кулаки, потом потихоньку освоила руки и ноги. Каждый день прибавляла нагрузки. Пришел час — освободилась от кровати. В конце концов довела себя до тех кондиций, в каких видишь теперь. Если хоть на один день прерву занятия, тотчас начинаю слабеть, хиреть и слышать свои многочисленные раны.
Спасибо, Надя.
И мне надо начинать с малого. Согреваясь от усилий, целое утро я сжимал и разжимал кулаки. Пальцы были достаточно крепкие, не растеряли силенок, трудно давалось лишь принуждение. Спустя сколько-то дней вышел в огород. Ноги пьяно заплетались, на лбу выступил холодный пот, неодолимо хотелось пасть в траву и лежать, лежать, не мучить себя боле.
Победы представлялись ничтожными, не приносили удовлетворения, скоро все мои потуги стали раздражать и томить меня своей малостью. Надо замахиваться на большее. На глаза попался тяжелый, с золотым тиснением том, отпечатанный на нестареющей веленевой бумаге. Помнится, что-то там было созвучное моему аховому положению. Снял том с полки и раскрыл посередке, где покоилась шелковая тесемочная закладка.
Великий натуралист Карл Линней в третьем лице повествовал о себе. На сорок четвертом году жизни он побывал в когтях смерти. Излечился земляникой. Ел ее каждое лето так долго, как она длилась, и так много, сколько мог достать и съесть, посредством чего он не только полностью излечился, но получил от этого и пользу большую, нежели от водолечений, а также победил и цингу, которой страдал каждую весну с молодых лет…
В когти смерти я попал тоже на сорок четвертом году. Совпадение утешало и обнадеживало. Оставалось поверить в землянику да добраться до нее.
В светозарную пору жена вывела меня за ворота, развернула лицом к лесу, клубившемуся долгокругим зеленым пожаром посередь дымных полей, и подтолкнула рукою в спину, чтобы я смог набрать инерцию.
Долго ли, коротко ли брел, наконец, вступил в лес.
На грациозно изогнутой цветоножке в спелой тяжести склонилась до земли между листьев-тройчаток кисть сочно-зернистых бордовых ягод. Они манили и просились в рот, однако недостаточно властно, чтобы я мог легко и свободно нагнуться и сорвать. Для этого пришлось собрать все имеющиеся в наличности силенки. В пояснице натянулось, хрустнуло, а принужденная воля отозвалась неожиданной болью. Но мысль о том, что в землянике — живая вода, воскрешающая к жизни, не позволяла сдаться, отступить.
Вкруг изножия буростволой сосны, на приподнятости, рясная и лучистая земляника лежала коралловым ожерельем. Хорошо бы снять его, принести домой и надеть на шею дочери. Впервые за многие годы собирал я землянику не в кружку либо корзинку. Впервые не срывал ее вместе с ножками и тройными зазубренными листьями и не складывал в букетик, чтобы принести благоухающую на всю избу радость своим девочкам, — впервые отправлял ягоды прямо в рот.
У изножия сосны я изнемог, свалился набок, но и в таком положении продолжал обирать ягоды вокруг себя, покуда не наелся вволю. Домой возвращался несколько живее, чем уходил. Наметившаяся бодрость приоткрывала какие-то новые возможности.
В первые дни на попадавшиеся тут и там грибы я глядел совершенно равнодушно, даже обходил их стороной, чтобы лишний раз не приневоливать себя и не нагибаться, но уже через недельку, отправляясь в лес, прихватил с собой корзину и, пока завтракал земляникой, с горой наполнил ее ядреными красноголовиками и пузатыми боровиками.
Ежедневными прогулками и свежими ягодами к концу лета я настолько расшевелил себя, что мог притворяться здоровым и полноценным человеком. Но едва мы перебрались на зимние квартиры в город, где не было уже ни прогулок, ни ягод, я стремительно покатился вниз и скоро снова прочно залег, как медведь зимой.
Однако опыт преодоления земного притяжения у меня уже был, и по первоснежью я встал на тропу пенсионеров, протоптанную в загородном лесопарке. С розового утра до синих сумерек ходят по ней напористо и целеустремленно старички и старушки, забредая верст на пять в глубь соснового бора. Иного пенсионера, одетого в легкую куртку и кеды с шерстяными носками, издали примешь за готовящегося к рекорду спортсмена и, лишь поравнявшись с ним и узрев пропаханные долгой и трудной жизнью морщины, понимаешь — рекорда не будет. Большинство же облачены по-стариковски: в стародавние боты «прощай молодость», валенки, пальто на вате либо полушубки, на женщинах — жаркие пуховые платки. Некоторые старички о трех ногах — с костыликом.
То ли потому, что день и ночь бор овевают заводские дымы, то ли потому, что проходит через него слишком много народу, тут и там глаз натыкается на суховерхие сосны. Нет, они еще не умерли вовсе. Ниже костлявой голой макушки раскинулись вечнозеленые живые ветви, усаженные ребристыми шишками, и по подкорью бродят соки, натекая янтарными наростами на раны. Деревьев уже коснулось старение, но они не сдаются. Костяно побрякивая на ветру усохшими макушками, они выгоняют заряженные потомством шишки еще многие десятилетия.
Не сдаются и пенсионеры на тропе. Заинтересованный однажды тем, что чуть ли не все они — не менее пятидесяти человек — сбились у беседки в кучу, я подошел послушать, о чем так дружно шумят и спорят. Оказалось: горячо и азартно обсуждали готовящуюся свадьбу. Семидесятидвухлетний Иван Емельянович сделал предложение шестидесятилетней Наталье Владимировне, и, подумавши двое суток, она ответила согласием. Жених и невеста познакомились на тропе, несколько лет гуляли по ней бок о бок под ручку, и вот — свадьба! Все приглашены. Шумели и горячились, какой подарок купить «молодоженам» на собранные деньги, одни предлагали цветной телевизор, другие — появившийся в универмаге сервиз на двенадцать персон, третьи-афганский ковер, который кто-то мог добыть по знакомству.
До последнего часу у человека не облетает листва желаний, устремлений и надежд. Да и не листва это. Нельзя, наверно, не принижая, уподобить человека березе, или клену, или даже могучему дубу. Нет у него такой листвы, которая бы опадала надолго каждую осень Человек вечнозеленое естество на земле. Вечнозеленая язь.
Со смертного одра, вперив в меня озаренные последним светом запавшие глаза, глухим голосом, будто бы даже не от своего имени, а от имени тех, к кому уходила, мама внушала мне, угнетенному и жалкому:
— На ладан дышу, последние глотки воздуха считаю, давно больная-пребольная, а все равно умирать не хочу. Еще бы сто лет прожила больной-пребольной. Жизнь и без того коротка, чтобы обрывать ее собственной рукой. Через кого я продолжусь после себя на земле?.. Терпеть надо и жить.
По весне я снова на даче. Помирать собрался, а пашенку вспаши — требует народная мудрость. И я пашу — копаю гряды. После обеда брожу по лесам, лугам, болотам, взбираюсь на прогретые солнцем увалы в тайной надежде — покуда нет земляники — найти некую травинку или некий корешок, способные исцелить меня навсегда. Зверь инстинктом знает такую травинку и такой корешок, а человеку, к сожалению, не дано сие знание. И я срываю и выкапываю все подряд, старательно жую, сглатываю то желтый, то зеленый сок, оделяя рот сладким и горьким, пахучим и безвкусным. Как знать, какая-нибудь травка, может, и помогла, только я не почуял и не осознал ее.
Под вечер я выбрался из леса на черную торфяную дорожку, ведущую из нашей деревни к железной дороге, выбрался как раз в тот момент, когда мимо проходила не спеша незнакомая старушка в просторном светлом плаще, именуемом некогда пыльником, в старомодной фетровой шляпке и с хозяйственной сумкой, освещенной снопом горевших маленькими солнышками купавок.
Чтобы не испугалась моего лесного растеребленного вида, я поспешил заговорить с ней:
— Если на электричку, то надо поторапливаться. Минут через десять зашумит.
— Мне не к спеху. Опоздаю — на другой уеду, — ничуть не испугавшись, словоохотливо откликнулась старушка.
— Давайте-ка поднесу вашу сумку.
— Руки у меня еще не отсохли, и свое добро ношу пока сама.
— В гости к кому-нибудь приезжали?
— Да, в гости. Но не к кому-нибудь, а к самой себе — в лес.
— И не боялись одна в лесу?
— Чего бояться? К тому же не одна была. С товарками. Они помоложе и еще в полдень убежали от меня. Не счесть, сколько товарок уже сменилось… Самых давних похоронила. Теперешние — сущие стрекозы. А я люблю в лесу полежать на теплой травке, послушать птичьи голоса, поглядеть на вершины дерев и на облака, поискать там давнезнакомые лица. Любое облако, если вглядываться в него долго и внимательно, — чье-то лицо, памятное и дорогое.
— Так-таки любое? — усомнился я.
— Любое, — убежденно подтвердила старушка.
— Простите, сколько вам лет?
— А сколько вы думаете? — не без лукавства ответила она встречным вопросом.
— Извините, но возраст пенсионный, шестьдесят, поди, уже есть.
— Вы мне льстите. Впрочем, и другие ошибаются на мой счет. Вы же ошиблись на целую четверть века. Восемьдесят пять не хотите?
Жадно и по-новому вгляделся я в собеседницу: на хваченных загаром гладких скулах — румянец, в серых глазах не только светится мысль, но и играет лукавство, рот, правда, окольцован морщинами, но редкими и крупными — не в старушечью мелкую сборку. И право, называя ее возраст, я не руководствовался галантностью, чистосердечно старался быть точным.
— Никогда бы не поверил! — с восторгом воскликнул я. — Как вы так жили, что целая четверть века следочка на вас не оставила?
— Отец у меня был лесничим. В лесу я родилась и выросла. Да и позже во все времена не упускала возможности, чтобы пожить в лесу или хотя бы побродить по нему. Это еще не все. Лесничество наше стояло у двух ключей. Ни реки, ни озера поблизости — вода только в ключах. Они были углублены и забраны в широкие срубы. Из верхнего носили питьевую воду, в нижнем поили скотину и, случалось, полоскали белье. В нижнем я лет с пяти приспособилась купаться. Палящее солнце, застойный зной, оводы — спасу нет. Ну и, спасаясь, лезла в ледяную воду. Сначала украдкой купалась, а позже — с благословения родителей. В юные годы часами могла плескаться в срубе. Не хуже, чем в ванной. И теперь еще без холодной воды дня не могу прожить. Чтоб холодная-прехолодная. Конечно, лучше зимняя. Из-под душа.
— Без подогрева?
— Без никакого.
И бодрый голос с переливчатыми модуляциями, и весь ее просвеженный солнцем и лесом облик внушали мысль о душевном здоровье, чистой совести, врожденной внутренней ясности и опрятности — не существеннее ли это воды и леса? Но все же, все же…
Мы подошли к речке, за которой светлела на горке бетонная пассажирская платформа. Старому человеку переброшенный через речку мостик мог показаться сложенным из спичек — горбатый, кривоколенный, где в три, а где и в две доски, и они, точно спички, дыбились и играли под ногами.
— Дайте руку. Проведу, — предложил я, уверенный, что на этот раз от моей помощи она не откажется.
— Нет, нет. Сама, — строго ответила женщина. — Вы идите вперед и не оглядывайтесь. И не обращайте внимания, ежели разок-другой вскрикну: «Ой». Это мой помощник. Позову: «Ой», и он тут как тут, пособит.
С восхищением слушал я женщину, в ее голосе чудилось что-то давнее, прелестное, в кружевном белом гимназическом переднике.
Так и хочется написать: по крутым, высоким ступенькам я пособил ей взойти в электричку. Не позволила. Поднялась, взошла сама. Искал глазами в окне, чтобы помахать ей рукой, — не нашел и помахал полупустому вагону, в котором она уезжала.
Оставшись один на платформе, я ощутил внутри толчок такой силы, что действовать надо было немедленно. Сбежав с горки, взошел на мостик. Вода под ним струилась прозрачная и стылая, в новом сезоне ее не разогрело еще ни одно мальчишеское тело. Стянул я с себя одежонку. Плавок, конечно, не было. Черт с ними. Без ничего. Не привыкать… С двухметровой высоты я столкнул себя вниз головой в воду и тотчас полез — не на стенку — на столб, поддерживающий мостик; казалось, до берега не вынесет ошпаренное сердце.
Воротившись на дачу, я прежде всего обследовал на огороде колодец: отпахнул наклонную дверцу тесовой крыши, возведенной по старинке домиком, и заглянул и сумрачную зябкую глубь. Не просквоженный воздухом зеленый лед оковывал сруб изнутри толстым монолитным валом. Водичка должна быть не слабее родниковой. Наутро поднял я ее с осколками льда, отдающую холодом даже на расстоянии, и с отчаянной решимостью принялся плескать пригоршнями на грудь, лицо и шею. Лед ли, пода ли яростно кололись, щипались, обжигали огнем, и, чтобы не спасовать, надо было бороться с ними с неменьшей яростью. Напоследок одно за другим я вылил на себя два ведра усмиренной воды. И черт подери, охая и ахая, сразу же запрыгал и забегал, как не прыгал и не бегал уже много лет. Вот, оказывается, где таится моя прыть и бодрость — не в яйце, что в утке, и не в утке, что в зайце, и не в зайце, что в ящике, и не в ящике, что под дубом с мощными узловатыми корнями на вершине занебесной горы — не Джомолунгмы ли? — а таится под двускатной крышей-домиком, сколоченной собственными руками, в глубоком оледенелом колодце, куда сам и упрятал, углубляя его в свое время до родниковых хрустальных вод.
Зимою на тропу пенсионеров я не пошел — встал на лыжи и бродил близ города по лесам. Однажды выкатился на лыжню, убегающую по узкой визирной просеке бог весть куда, и решил: проведаю, куда же она заманивает, в какие дали. В сутеми, еле стоявший на ногах, я выбрался на лед просторного, в щербатых лесистых берегах озера, где лыжня, словно на сортировочной станции, разбегалась на много путей. Домой воротился уже за полночь.
То было Чусовское озеро. От последних домов на улице Амундсена, где я вставал на лыжи, считается до него двадцать пять километров. Туда и обратно — все пятьдесят. Хотя позже я без особого напряжения укладывался в световой день, меня то и дело обгоняли молодые и старые — проносились мимо, с хлопаньем и треском разрывая остуженный ситцевый воздух. Я охотно уступал лыжню, и было странно и ново не слышать в себе никаких самолюбивых волнений и позывов. С особенным удовольствием пропускал вперед обнаженного до пояса старика с мощным сократовским черепом, голым, желтым и лучистым, будто осиянным нимбом. Прихваченный на всякий случай свитер болтался передником на бедрах, вязаная шапочка торчала из-под пояса. Но чудак старик не был вовсе неприкрыт. Защищая от встречного ветра, во всю грудь до пупа, свисала седая впрозелень, мшистая борода-дебрь. Мне бы так! Но покуда кишка тонка. Тоже вот отращу до пупа во всю грудь бороду и тогда дерзну.
Всю зиму на письменном столе лежала стопа чистой бумаги, а рядом — ручка, и всякий день я подсаживался к столу, брал ручку, страдал и неволил себя, но ни единого слова не оборвалось с пера. У иных — счастливцев — творчество льется, как из наклоненного кувшина, — легко, свободно и весело. Мне же и в здоровое время необходим был волевой напор в сотни атмосфер. А теперь и тысячи атмосфер было мало, чтобы стронуться с места, к коему примерз, как примерзают в стужу сани к мокрому льду, — ни одна лошадь не сдернет. Где их взять, эти атмосферы?.. Стоит ли, однако, откровенничать о том, что я пережил перед белым листом, слушая в себе безмолвную глухоту и бессилие?
Первый весенний ветерок принес с родины известие, от которого горячее побежала в жилах кровь: Максимыч собирается в новый поход и зовет меня с собой.
В названии реки Войкар слышатся грохот водопадов, гул и рев пенистых порогов, глухие раскатистые громы переворачиваемых мускулистым течением валунов. Однако в начале пути река явилась пред очами спокойной и тихой, в отдельных местах не угадывалось даже струи. Мы удрученно качали головами, ибо в обратную сторону намеревались сплавиться на плоту. Но как сплавиться, ежели не несет?
Берега по обе стороны лежали низкие и топкие, изрезанные заквашенными илом старицами, рукавами, протоками. Редко нога ступала на твердь. Ни гор, ни горок, ни моренных гряд, хотя сам Уральский хребет, голый и обветренный, в оснеженных морщинах — вот он, перед глазами, рукой подать, но это только кажется.
«Вой» в переводе с хантыйского одновременно означает и ночь и север. Оно и понятно. Ночь, особливо полярная, надвигается тут с севера, с ледяной макушки планеты. Некогда и в русском языке эти слова несли такую же синонимическую нагрузку. И теперь еще в уральской глубинке из уст чуткого на ухо мужика можно услышать выражения: река на ночь течет, то есть на север; или на полдень течет, значит, на юг.
Генеральным направлением Войкара был восток, однако в своем пути он заметно уклонялся на юг, и его начало оказалось значительно севернее устья, что давало все основания назвать реку Северной и Полуночной тож. Русский человек скорее всего окрестил бы наоборот — Полуденной: из ночи на полдень течет. На Урале их много, полуденок.
На пятый день пешего хода мы подошли к месту, где Войкар раздваивался вилкой. Тут он и заканчивался, а точнее начинался. Многие ли реки так зарождаются — без своего болотца-губки, без намороженного веками ледника, без громового колодца — неиссякаемого родничка, выбитого, по поверью, в камнях ударом грозы… Войкар зачинали, сливаясь в бурных любовных объятиях, две реки: Ворчатоиз и Лагорта. Первая где-то верстах в двадцати вытекает из набитого зелеными щуками и огромными, коричневыми с краснинкой окунями озера Ворчато. Собственно, это даже не озеро, а река с широко раздвинутыми берегами и малым течением, которое создает своим напором вливающаяся в него Танью. Та же, в свою очередь, возникает на обозримом пятачке в греховном многобрачии сразу из пяти речек — пяти дочерей Хозяина гор — Пайера: Бур-Хойлы, Левой Пайеры, Правой Пайеры, Малой Хойлы и Лагорты-Ю. Лишь у этих девок под сенью горы-отца имеются свои изначальные ледники и снежники.
Зачаровывающей музыкой звучат на слух хантыйские названия рек и гор. Не менее завораживают они и в переводе. Бур — хороший. Хойла — бедная невеста, бесприданница. Бур-Хойла — хорошая бедная невеста, хорошая бесприданница. Лучшая из невест. Встретится такая — смело женитесь, не обманетесь. Лагорта — бойкая, дерзкая. Можно перевести и как Лихая, что мне более по душе. В горах, близ истоков, все реки лихие и не потому ли на небольшом пространстве тут целых четыре Лагорты: Лагорта-Ю, сама Лагорта и образующие ее Большая и Малая Лагорты.
Давние люди, впервые увидевшие эти горы и реки, были околдованы их величием и мощью, их незамутненной чистотой и суровой подлинностью и в сорвавшихся с губ словах с поэтической силой выразили то, что чувствовали в тот миг: Хозяин гор, Лихая река, Полуночная… Закрепленные на картах и в справочниках названия содержат в себе завет ныне живущим: в своей ретивой преобразующей деятельности не проглядите первозданной красоты Севера, не оскверните ее.
В Пятиречье в свое время я провел около месяца и в одном из своих рассказов выразил дань восхищения его редкостными красотами. А вот какова Лагорта, предстояло еще посмотреть.
Едва двинулись вдоль нее, в ушах сразу же прибавилось шуму и грохоту. Один перекат сменялся другим. Под ногами звонко зацокала каменистая твердь, редко поросшая короткой щетинистой травкой, смягчающей поступь. «Уроки» удлинились. Втянувшись в рюкзаки и сбросив лишний жирок, теперь проходили мы за упряжь чуть ли не вдвое больше прежнего.
На следующий день за одним из поворотов вдруг возникли горы — не те голые и оснеженные, доступные взору даже с Оби, а другие — сопкообразные и олесенные, отошедшие полукольцом-ожерельем от Главного Уральского хребта. Это был Малый Урал. Сопки сплошь поросли лиственницей, что само по себе уже необыкновенно, ибо лиственница предпочитает жить вразброс среди иных хвойных пород. И какая прелесть, когда она растет только своей семьей. Иголки на ней светло-зеленые, нежные — цыплячий пух, в какой березы обряжаются лишь по весне, чтобы через недельку-другую принять совершенно зрелый образ. Лиственница же все лето пребывает в девичестве, радуя глаз свежими юными красками.
Точно озаренным изнутри зеленым дымом окутывались сопки, и из этого дыма, на их склонах и вершинах, тут и там проступали каменные останцы, напоминавшие где одинокую башню, где полуразрушенный замок, какие и посейчас можно увидеть в Западной Европе — тоже среди дерев, тоже на горах, порой на невообразимых кручах, будто в свое время не для обитания воздвигались, а единственно — для погляденья будущих туристов.
Удалая Лагорта, взрябленная стремительным бегом, отряхивающая клочки мыльной пены на берега, продолжала путь вдоль Малого Урала. Мы же своротили на ее приток Кокпелу, исхитрившуюся между двух сопок рассечь горы. Но не этот отчаянный прорыв сквозь скалы был отражен в названии притока, другую особенность выделили первопроходцы. Незадолго до того, как слиться с Лагортой, приток выкидывает замысловатое коленце — складывается почти вдвое в крутом изгибе. Не менее часа обходишь излучину, а вперед продвигаешься лишь на воробьиный скок. Как тут не подосадовать? И с досады, верно, нарекли речку Кокпелой — Кривоногой то есть.
На сухом плоском убережье в звонкую солнечную нору под руководством Главного конструктора мы строили плот. Да, был в нашей компании человек и в таком звании. В повседневном обиходе его величали просто Главным.
«Главный» — не правда ли? — звучит весомо, возвышает даже над командирским чином.
Плот — его любимое детище. В зависимости от того, кто и как расположен к разработанному еще дома проекту плота (признается лишь безоговорочное восхищение) и кто какое рвение вкладывает в его натурализацию из дерева и жердей, — строит Главный свои отношения с членами команды.
Облаченный в чудо-тельняшку, Максимыч горит нетерпением снова перевоплотиться в матроса. Швандя далеких школьных лет не забыт. Топором Максимыч орудует не хуже, чем рычагами заводского молоха. Рубит, скоблит, примеряет, ворочает неподъемные бревна. Понятное дело, Главный души в нем не чает, осыпает бесконечными милостями:
— Ты бы, Летописец, передохнул чуток. Хошь — возьми уду и порыбачь. Али искупайся, охладись.
При ознакомлении с проектом я имел неосторожность высказать пустяковое замечание и сразу же впал в крутую немилость. К плоту Главный меня даже не подпускает — разве что поддержать какое-нибудь бревно, подкатить под него для равновесия камень.
К середине второго дня строительные работы на верфи подходят к концу. Что-то еще надо подвязать, подогнать, но это уже мелочи, которые Главный оставляет за собой, а остальным разрешает перекурить.
— А ты, Летописец, — распоряжается он, — достань-ка свою тетрадь да опиши все как следует. Корабль получился что надо, и потомство должно знать о мастерах, которые сотворили его без единого гвоздика.
Увы, разрешение перекурить на меня не распространяется. Удовлетворенный тем, что его подвиги будут увековечены, Главный поворотился в мою сторону и из-под полей толстой фетровой шляпы вцепился в меня глазами, придумывая, чем бы еще наказать.
Максимыч между тем стянул тельняшку и, подставив солнышку широкую спину и свесив ноги, взмостился на край берегового обрыва; на носу появились очки с треснутым стеклом, в руках — толстая, в надежной коленкоровой обложке тетрадь и ручка.
Меня занимает вопрос, как и что расскажет Максимыч в своей тетради о нашей жизни. К сожалению, мало кому дано закрепить реальность такой, какая она есть, выявить ее объективную суть и подлинность. Как правило, на бумаге появляется другая жизнь, обусловленная миропониманием автора, его предшествующей деятельностью, жизненным опытом — всем поведением. «Бесценные вещи и бесценные области реального бытия проходят мимо наших ушей и наших глаз, если не подготовлены уши, чтобы слышать, и не подготовлены глаза, чтобы видеть»… Человек видит в мире и в людях предопределенное своей деятельностью, то есть так или иначе самого себя. И не оттого ли среди пишущих столь много самодовольных натур и непризнанных гениев? Не оттого ли, что, замкнутые на самих себе, ограниченные и убогие, по сравнению с вселенским миром, они не умеют или не находят мужества бесстрашно взглянуть на него помимо себя, взглянуть, снять шляпу и низко склонить голову перед могущественной реальностью?
«Реальность, милая, болезненная, любимая, режущая, радующая, как никто, — и вместе убивающая, бесконечно дорогая и в то же время страшная — в сущности всегда такая, какою мы ее себе заслужили, то есть какова наша деятельность в ней, наше участие в ней».
Привилегиям Максимыча я смертельно завидую. Мне бы тоже взмоститься на обрыве, подставить солнышку спину, вытащить из кармана тетрадочку и записать кое-что для памяти — руки чешутся, или просто отвлечься и подумать хотя бы о том же чудаке — Главном — как его показать поближе к правде, если возьмусь писать, но чудак уже придумал для меня новое заделье:
— А ты сбегай на стоянку и принеси киперную ленту.
Для обид я теперь неуязвим. Что это — обретенная в борении новая сила или бескрылое равнодушие? Благодарный за возможность размяться, тренировочной трусцой бегу я за триста метров на стоянку и с киперной лентой возвращаюсь обратно. Но Главный в полной мере еще не удовлетворен. Царапнув меня взглядом, отдает новое распоряжение:
— Проволоку не догадался принести? Она там же. Валяй за проволокой.
Когда я воротился на верфь в другой раз, Главный, смяв шляпу, стирал пот со лба, перетянутого будто лентой красной рубчатой полосой. Взопревшие под фетром волосы дымились паром. Бегал я, а упарился он. Нелегко держать марку. В его рюкзаке еще хранятся тщательно проутюженные мышиного цвета цивильные брюки, и как только мы выломимся из тайги, он наденет их, и тогда обозначатся все излишки веса, пока скрытые от глаз просторным штормовочным костюмом. Спит он в палатке «дизелей», самой просторной, у которой есть и другое название: палатка для толстых.
Рассказывают, были времена, когда он не стремился возноситься над другими и постоянно держать марку. Был парень как парень. Зарабатывал на хлеб насущный в горе́, на руднике, тяжелым физическим трудом. Однажды его вызвали в командное помещение и вручили путевку, гарантирующую поступление по разнарядке в Московский горный институт, вручили, конечно, с тем, чтобы по окончании института, с дипломом в руках, он воротился обратно на рудник. Но там только его и видели. С горняцким дипломом он устроился начальником маленькой заводской типографии, печатающей всевозможные канцелярские формы и бланки и те многочисленные плакаты по технике безопасности, коими густо оклеены закопченные стены всех цехов, и теперь вместо слов горняцких, увесистых и глыбастых, как сама тагильская руда, с его губ сыплются слова малопонятные, чужетипографские: шмуцы, кегли, гарт, петит. Только что в цицеро-мать не ругается, как ругался знакомый мне директор сибирской типографии. Работа на солнечном свете и не пыльная. Персональный кабинетик, телефон и желанный престиж, который Главный ставит в жизни превыше всего — свой престиж, чужой престиж…
Свою командную роль наш Командир согласился принять с оговоркой — чтобы в походе поперед батьки никто не лез, а в критические моменты добровольно, целиком и полностью подчинялись его воле. Оговорку единодушно приняли. Принял ее и Главный, однако все время, что мы вместе, ищет любого повода, чтобы начальственно вмешаться в ход событий. Со своими указками он частенько опережает Командира — поперед батьки лезет. Слова его жестки, круты. Выпалив их, он всякий раз ставит точку куражливой фразой:
— А я такой!
На верфи, где Командир передоверил ему власть, Главный отводит душу, сладострастно наслаждается жизнью.
Сам я тоже хорош. Мое критическое замечание было вызвано не столько интересами дела, сколько суетным желанием показать, что и я не лыком шит — смыслю кое-что в плотах.
За время моей болезни техническая мысль в конструировании плотов ушагала далеко вперед. Я безбожно отстал. В золотую пору я строил плоты из одних еловых стволов, скреплял их загнанным в глухой захватистый паз трехгранно заточенным березовым стержнем или принесенными на себе металлическими скобами и гвоздями, связывал веревками и даже тальниковыми прутьями — и так бывало.
Теперь бревна устраняются из конструкции. Повсюду торжествует экономия. Повсюду тяжелые и дорогостоящие материалы заменяются легкими и дешевыми, упрощающими к тому же и работу. Ныне плоты делаются из малогрузных надувных средств, затаскиваемых в рюкзаках в вершины рек. Из уст Максимыча я узнал, что отчаянные головы сплавляются по самым лихим рекам даже на детских воздушных шариках, тех самых, что верещат «уйди, уйди!», когда приставишь к ним пищалку. Несколько шариков вкладываются один в другой, вправляются в заранее сшитый матерчатый чехол… Пара десятков таких баллонов держат жердяную площадку, на которую может сесть и вертолет.
Наш плот смонтирован на двух баллонах, склеенных из детской прорезиненной клеенки.
На свои деньги покупал клеенку в аптеке, расчерчивал ее по линейке и лекалу, раскраивал и клеил, конечно, он, Главный конструктор — целую зиму посвятил этой работе, одаряющей радостными предвкушениями и ожиданиями. Склеивал так, чтобы концы баллонов круто сошли на конус. В конуса намертво впаяны резиновые пробки с короткими пипетками, через которые накачивается воздух. Из хлопчатобумажной черной спецовочной ткани Главный стачал на швейной машине чехлы для баллонов, ровные и гладкие, без единой морщинки. Убежден: в пошивочной мастерской не исполнили бы с таким блеском нестандартный заказ.
Похожим на лягушку насосом-помпой накачали баллоны воздухом, и они явились нашим взорам во всем своем конструктивном и техническом совершенстве: четырехметровой длины, до полуметра в диаметре, соразмерные во всех частях, напоминающие одновременно и грозные торпеды и небесные гондолы, и легкие-прелегкие, как пушинки, — одним пальцем отрывались от земли, и казалось, подтолкни их посильнее вверх и, подхваченные воздушным потоком, они понесут нас домой через леса и горы, через реки и озерные разливы по небу.
В строчную линию через равные расстояния на чехлах пришиты петли, к которым привязываются неошкуренные березовые жерди, и уже за эти жерди баллоны исподнизу пристегиваются к деревянной раме.
Рама сотворена не менее искусно. В самом деле, без единого гвоздика. Вынесли из лесу две еловых сушины, очистили их от сучков, ошкурили, вырубили на каждой по три глухих паза в форме ласточкиного хвоста и загнали в них три сухих поперечины — и рама готова. Сверху настелили из тонких сухостойных жердочек палубу.
В продольных бревнах вырублено еще по паре вертикальных пазов, в которые вставлены крепкие березовые рогатки — уключины для гребей. Вытесаны и сами греби.
И вот плот на воде. Для испытания его ходовых качеств и грузоподъемности все, как один, забрались на палубу и радуемся тому, что баллоны под нами заглубились не более чем на вершок и между водой и палубой воздушная подушка в целых три пясти. Через любые перекаты пронесет нас вместе с рюкзаками, не застрянет и не обсохнет на мели.
Еще больше радуемся и удивляемся ходовым качествам плота: поддается гребям, точно лодка. В считанные минуты сгоняли с одного берега на другой и обратно. Значит, и на тихой воде можно будет его пришпорить как следует. В сущности, это и были две лодки, соединенные рамой в катамаран.
Забегая вперед, скажу, что и в деле он показал себя хоть куда: легко протаскивался через хрящеватые перекаты и снимался с подводных корг, а когда налегали на греби, убыстрял свой бег настолько, что вокруг заостренных гондол завивались струистые усы. Облаченные в матерчатые чехлы баллоны с блеском выдержали испытания на прочность — ни одного прокола, пореза или иного повреждения. В Усть-Войкаре мы смыли с них собранные по дну реки ил и тину, просушили на солнышке и, не снимая чехлов, свернули в две небольшие скатки, весившие по восемь килограммов каждая. Не замечательно ли — шестнадцать килограммов несли на себе не менее тонны? И еще понесут, еще послужат верой и правдой. Что с ними сделается, спрятанными на зиму где-нибудь в стенном шкафу или на антресолях?
Когда плот был пришвартован к родному берегу, все бросились поздравлять Главного с окончанием строительства, успешным завершением испытаний. Обнимали, целовали, жали руку. Выпятив живот и вознеся украшенную шляпой голову, он горделиво ответствовал:
— А я такой!
Пожал ему руку и я, и мне он сказал внушительно:
— Я такой!
Черт возьми, я и сам такой! Захваченный делом, терпеть не могу, когда другие не захвачены и суются под руку с дурацкими советами и замечаниями; напротив, люблю, когда другие крутятся в работе еще скорее меня, а поперечного и безучастного, бывало, до седьмого пота загоняю туда-сюда, чтобы научить его единодушию в общем деле.
Но все же об этом человеке надо еще подумать.
Прежде чем погрузиться на плот и двинуться в обратный путь, мы порешили подняться на одну из вершин Главного Уральского хребта. Сумрачной трещиноватой стеной замыкал он под небесами горизонт в десяти верстах от лагеря. По вечерам каменная громада укрывала от наших взоров торжественные северные закаты. Лишь малой закраиной растекалась заря расплавленным тагильским металлом над выветренными вершинами да еще будто в изложницах клокотала багровокипящим огненным варевом в разломах и седловинах.
Зачем подниматься на вершину? — может, спросит кто-то. — А незачем! — отвечу.
Но не есть ли лучшая из целей — подвигать себя на трудности и лишения, не имея в виду никакой корысти. Часто в таких случаях бываешь нечаянно сторицей вознагражден, открывая в себе на вымотавшей силы вершине новые возможности и драгоценные клады, о коих даже не подозревал.
Человек беспредельно богат и неисчерпаем. Сколько ни живи, до последнего часа хватит что открывать в себе, ибо многие наши дары упрятаны так глубоко, как не сокрыты алмазы.
Прежде ищите ценности в себе, тем больше потом найдете их вокруг.
Потратив утро на купание, завтрак и сборы, из лагеря мы вышли в одиннадцатом часу. Отправились налегке, прихватив в рюкзаки лишь двухдневный запас продуктов да спальные мешки. Остальное снаряжение запрятали под густой шатровой елью, упиравшейся в землю не только толстой шершавой ногой, но и кривыми нижними лапами. Плот разобрали по частям и тоже перенесли в лес.
День к этому часу разошелся уже вовсю. Млели от зноя деревья, истекали сквозь кожу янтарной слезкой, источали эфирный хвойный настой.
В низинках смачно хрустели под ногами пустотелые безлистные елочки хвоща.
На лесных еланях проламывались сквозь дебри кряжистых лопушистых пиканов, увенчанных тугими белыми кочанами соцветий. В детстве с молодых дудок пикапа мы снимали волосистый покров и не без пользы и удовольствия набивали ими пустое брюхо. Из старых дудок делали сопелки и брызгалки. Помнишь, Максимыч, как, набрав дождевой воды, гонялись друг за другом с зелеными брызгалками, соревнуясь — кто кого первым промочит до нитки?
Пикан зовут еще медвежьей дудкой, потому что не одни ребятишки любят полакомиться его сочной мясистой плотью — любят и таежные мишки. Я невольно оглядывался по сторонам, не испытывая никакого желания встретить лесного хозяина. Одного мы уже видели накануне. Всего-то в ста метрах от стоянки невозмутимо перешел он по мелководью речку, точно определенно знал: взят под охрану и теперь его не тронь. Интересно, сам-то он как настроен: так же дружелюбно-опасливо или по-другому?
Наверное, шагающий впереди Максимыч тоже думает о медведях, потому что вдруг на весь лес заиграл своим сладкозвучным голосом:
Переплетенная густая трава-некось путалась, шуршала, скрипела в ногах, рвалась, ломалась, окропляла лицо и руки зелеными брызгами, пахнущими истомно и пряно покосной свежей кошениной. Когда на следующий день в такой же знойный час по проложенной накануне тропе мы возвращались обратно, потоптанная и сломанная трава, высушенная солнцем и ветром, еще слаще и духовитее пахла уже русским многоцветным сеном.
То с того берега, то с другого реку прижимали отвесные скалы. Невысокие и плоскогорбые мы преодолевали по их замшелому залесенному верху, те же, перед коими шапки спадывали, когда запрокидывали головы, чтобы взглянуть на их граненые скальные пики, обходили по противоположному пойменному берегу, преодолев мелким перекатом речку вброд.
Поначалу речка была знакома: прибегали сюда рыбачить. Вот на этом косом перекате, под осыпающимся обрывистым яром поймал своего первого хариуса Щукодав. Что тут было! Не веря своей удаче, он изо всех сил вознес рыбину ввысь на всю длину удилища и лески, чуть не под небеса, забросил в траву на яру и следом полез на четвереньках сам. Карминного цвета галька с хрустом осыпалась под его ногами и руками, и вместе с нею он несколько раз скатывался в воду. Наверх вскарабкался весь мокрый, оставив за собой влажную вспаханную дорожку, и сразу же из густой травы раздались вопли и шум яростной борьбы, точно не с хариусом там схватился, а по меньшей мере со львом. Рыбачивший рядом Максимыч положил на камни удочку и поспешил на помощь. Барахтающийся на рыбине Щукодав, завидев его, заорал в гневе:
— Сам! Сам! Прочь!
И правда, своими руками в конце концов он сиял с крючка хариуса, усмирил его и затолкал в рюкзак, но вот беда — в пылу борьбы потерял очки, и теперь дальше носа ничего вокруг не видел. Белые, не тронутые загаром окологлазницы сообщали его лицу вовсе сумасшедшее выражение. Шаря в траве руками, он, как в бреду, повторял:
— Сам! Сам! Прочь! Убью!
Максимыч плюнул и спустился к своей удочке. Найдя очки и водрузив их на глаза, Щукодав в нетерпении скатился мягким местом по гальке к реке и лихорадочно принялся насаживать на крючок свежего червяка. Руки его не слушались, ходили ходуном. А рыба под перекатом кипела, будоража в новичке небывалые страсти. Подбирая с поверхности жужелиц, она показывала то лиловый хвост, то зеленое крыло плавника, то и всю себя, пеструю и нарядную, и Щукодав не выдержал захватывающего зрелища и гаркнул Максимычу:
— Ну, чо ты там торчишь, как пень! Беги скорее и пособи.
Насаживая червяка, Максимыч с улыбкой увещевал напарника:
— Ты бы сдерживал свои эмоции. Так и инфаркт может хватить. Не мальчик ведь уже. Поди, давление подскочило. Не чувствуешь?
— Черт с ним, с инфарктом! Пускай хватает. За такие эмоции и всей жизни не жалко!
На следующем перекате, образованном крутолобыми осклизлыми валунами, притащенными потоком с гор, рыбачил я. В ямине под перекатом зеленая вода была разделена светлыми переплетенными косами бешеных струй, прорывавшихся меж камней.
Из дома я взял с собой один только спиннинг-полумерку. Тагильчане же привезли и спиннинги и удочки, длинные, многоколенные, специально рассчитанные на сторожкого увертливого хариуса, который на виду ни в жисть не схватит даже самую лакомую приманку, напротив, отбежит от нее на невидимое расстояние. Накануне отбытия из города Максимыч целый день на своей машине возил по окраинам Главного, взявшегося заготовить червей. Дело оказалось непростым. Перевелись в Тагиле коровки, которые, бывало, еще после войны лавами вытекали на утренней зорьке изо всех улиц в окрестные леса, а по вечерам, пыля выше домов, лавами втекали обратно. Перевелись коровки, перевелись и черви, будь они неладны! Только в соседней деревушке, не совсем еще обескоровленной, удалось напасть на них.
Червей везли в плоском фанерном ящике с выдвижной крышкой, в которой для вентиляции были просверлены дырки. Почти на каждой станции выносили их из вагона прогулять и проветрить, в пути подкармливали калорийным остуженным бульоном из ресторана, на «Метеоре» тоже не томили в закрытой духоте — держали на палубе, неся возле них дежурство. Главный расточал на червей столько душевной нежности, что обрати он ее на людей, не было бы приятнее человека на всем белом свете.
— Без удочки и червячка не видать тебе хариуса как своих ушей, — отнюдь не соболезнующе подначивал он меня. — И не вырежешь хорошей удочки в тех местах: лес заморенный, придавленный стужей.
Я помалкивал, а про себя думал: посмотрим, посмотрим… По пути в верховье я довольно успешно ловил спиннингом щук, уверенно шел даже в лидерах, покуда Многостаночник из черной омутины, подарившей мне уже несколько маломерок, не вытянул раз за разом не щук даже, а трех мшеголовых, с разверстыми пастями страшных крокодилов, каждый из которых за метр в длину вымахал. Вот так Многостаночник! Дотоле не поймавший ни одной рыбины, враз перекрыл все мои рекорды. Одному ему добыча была не под силу; через жаберные крышки мы вздели крокодилов на толстую палку и, взвалив концы палки на плечи, потащили вдвоем. От собственной тяжести звери удлинились еще боле и влачились хвостами по траве, по пересыпающейся хрустящей гальке и серому платиновому песочку.
На Кокпеле я переоснастил спиннинг на хариуса. Вместо толстой, канатодюжей лески намотал на катушку тоненькую, малозаметную. В полутора метрах от конца лески привязал к ней вырезанную из белого пенопласта и залитую для утяжеления свинцом грушевидной формы закидушку, а к самому концу — трехжальный якорек-мушку из собственного волоса, красных и синих ниток мулине и тоненькой полоски воздушно-пористого пенопласта, предназначенного держать мушку на плаву, как бы она ни намокла. Закидушка одновременно служила и грузом, не хуже блесны увлекавшим при броске леску на любое посильное расстояние, и опознавательным знаком на воде, указывавшим, где надо искать глазами мушку, где ждать своего хариуса.
Чтобы сколько-то взять из прибрежной рыбы до того, как распугаю ее, первый заброс сделал не далее, чем сделал бы удочкой.
Тотчас рука, державшая спиннинг, услышала сильный удар. Натянувшись струной, леска заходила вправо и влево, со звоном рассекая белопенные космы.
Как лев, бился хариус — бесстрашно и самоотверженно. Круто изогнувшись, выбрасывался в воздух, надеясь, верно, таким способом освободиться от коварного крючка, заныривал вглубь, вставал поперек струи, чтобы удесятерить сопротивление. Но силы были неравные.
Вытащенный на сырой низкий берег, он продолжал борьбу еще яростнее. Спиною вверх, будто на проворных лапах, стремительно и изворотливо метался между каменюг по лужам и никак не давался в руки. Крючок вдруг отцепился, отпал, и по проточной родниковой струйке хариус сиганул к шумевшей рядом реке. Еще миг, и мог бы праздновать в ямине освобождение. Но у самой кромки речной воды струйку перегораживал широкий необкатанный камень, и пленник с разбегу ударился в него головой. Потеряв остатки разума, он не вильнул вправо или влево, где ждало спасение, а сделал еще одну безнадежную попытку пробиться напролом. Тут-то я и схватил его в руки, прохладного, запаленно дышавшего, с выпученными от страха глазами — даже белки выкатились. Подобный страх прежде я видел только в человеческих глазах. Я поспешно сунул хариуса в рюкзак и больше в глаза рыбам уже не заглядывал.
Как и ожидал, напуганная шумом боя рыба вскоре отошла от переката на широкий спокойный плес. Однако увлекаемая утяжеленной закидушкой яркая зазывная мушка доставала их и там — в тридцати и сорока метрах.
Из разных мест и хариусы вытаскивались разные, не похожие друг на друга. Те, что извлекал из-под замшелых камней на перекате, были с темно-зелеными, цвета водорослей, спинами и смуглыми золотистыми брюшками, а те, что брал со светлого плеса, спины имели серые, а брюшки белые, бока — в сиреневых продольных полосах. В свое время, едва познакомившись с хариусом, эту неединообразную расцветку я объяснял принадлежностью к разным стаям. И только позже открыл в хариусе удивительную способность в считанные минуты менять окраску, в зависимости от цвета воды и цвета камней, песков, над которыми он стоит либо плавает. Даже окраска берегов отбрасывает свой отблеск на его кольчужное одеяние. Однажды, не имея при себе ни мешка, ни кукана, пойманных рыб я отпускал, как в садок, в маленькую лужу на берегу, жемчужно осветленную со дна кварцевым песком, отпускал их с темными спинами и дымно-серыми боками, а через полчаса извлек неузнаваемо белыми — что тебе гренландские альбиносы.
Подойдя к рюкзаку с очередной добычей, я увидел: парочка измазанных пузырившейся окровавленной пеной рыбин выскользнула из него и, шевеля из последних сил хвостами и жабрами, пыталась упрыгать по камням в воду. Я их, конечно, водворил обратно. Потом ухватился за зев рюкзака, чтобы утряхнуть всю рыбу поглубже на дно, и понял: довольно!
На червячка мужики наловили в среднем по десятку на брата, Максимыч чуть поболе, я же выложил в общую кучу для разделки сорок два хариуса. Так стоило ли вкладывать столько заботы и нежности в полудохлых червячков?
Как-то в больнице в часы просветления прочитал я книжку, по которой не оставалось уже на земле никакой живости: ни рыб, ни птицы, ни зверя, оставались только люди-добытчики, алчные и неразумные. Отправляясь на Полярный Урал, я верил и не верил ей. Мало ли что могло произойти за долгие годы недужья. Не требовавшая особых усилий, в микроскопических дозах усваиваемая житейская информация тоже была неутешительной. Вздорожали меха. Вовсе перевелась в магазинах пресноводная рыбка. Знать, исчезла она в озерах, исчезла в Оби, где некогда своими глазами впитывал я настоящие рыбьи пиршества — многокилометровые сети, в каждой ячее которых, серебрясь на солнце драгоценными слитками, трепетали нельмы, муксуны, щокуры, сырки…
Познакомившись в Усть-Войкаре с бойким на язык Николаем, на поясе которого болтался эмалевый клык убитого им медведя, я набросился на него с расспросами: есть ли в Оби рыба? И какая? И сколько? И почему он дома, а не в лодке-казанке? Ведь путина идет.
— Куда она подевается, рыба-то? — удивившись моим вопросам, снисходительно, как несмышленому ребенку, отвечал-растолковывал Николай. — Все есть. И голубая нельма. И золотоперый муксун, и светлобокий щокур. И сырок — ни то ни се. А от щуки спасу нет. Щука — не рыба. Выбрасываем ее из сетей обратно в воду… С водой вам повезло. Большая вода в сору стоит, и можно перебросить вас через него на лодках. Но только вода спадет и войдет в законное русло — на лодке и не сунься туда. Сразу куски рыбы полетят из-под винта, точно из мясорубки. Как в бочке в ту пору ее в сору: одна на другой, одна на другой… Почему, спрашиваешь, дома я? Третий день стоят сетки в реке, переполненные рыбой, а приемка с рыбозавода — будь она неладная! — не появляется. На берег ведь не вытащишь улов — враз протухнет, а в холодной воде какое-то время терпит.
Мало услышать — надо было увидеть, и я попросил рыбака свозить меня на лодке к сетям. Как и в давние времена, в каждой ячее бились, трепетали или уже снуло висели нагулявшие на тучных обских пастбищах жир и вес большие рыбы. Не рыбы — бело-розовые поросята. Показывая сети, Николай попутно высвобождал заусившихся полосатых щук и отшвыривал их подальше от тони.
Видать, не в магазины — по другим адресам нынче идет эта рыбка. Ну, да не жаль! Лишь бы не переводилась она в русских реках.
Поднимаясь пешком по берегу Войкара в предгорья, с радостным волнением зрил и внимал я, как жорко плескался на плесах сырок, как в охотничьем броске стреляла из осоки щука, как пушечно бил хвостом в омутине под перекатом таймень, как с ветряным шумом выбрасывались из-под ног большесемейные утиные выводки и как растревоженная мать, упрятав неподалеку своих чад, потом долго и безбоязненно ширяла над нашими головами, отвлекая на себя внимание; во всякой старице, во всякой проточке, под каждым свесившимся над водой таловым кустом — свой выводок; те утки, что поспешили со свадьбами, уже уверенно поднимали молодое племя на крыло, сбивались в предотлетные стаи; однажды, задрав головы, мы зачарованно наблюдали за многотысячной станицей, охватившей полнеба; на минуту-другую она заслонила собою светило, и стало темно и тревожно, как при солнечном затмении.
Разбросанные на звериной тропе тут и там лосиные кучи веселили, как найденный клад. Вот эти сухие, крупные и продолговатые орехи ржавого цвета рассыпал бык, а те, помельче и круглее, наложила в аккуратную кучку корова.
Отпечаток медвежьей лапы в сыром песке либо вязкой глине чудился доброприветным знаком хозяина урочища: проходите, завсегда рад гостям… Я вставал в широкопятый след и дивился его объему — вмещались оба сапога сорок первого размера.
Свежие чувства возбудил налим, стоявший в прозрачной воде близ берега. Серовато-зеленый, в бурых пятнах, метровой длины, свившийся долларовым знаком, он, как некий подводный сфинкс, угрюмо разглядывал нас своими маленькими глазками, а мы, в свою очередь, разглядывали его, любовались, хотя любоваться, собственно, было нечем: широкая и приплюснутая, как у лягушки, голова, под подбородком — похожий на картофельный отросток — мясистый белый ус… Где же твой другой ус, дружище? Оборвал в камнях, средь которых ползаешь по дну, или природа тебя обделила им, одноусого?
Налима можно было бы поймать безо всяких снастей. Вряд ли бы дурак ушел вглубь, а по привычке ткнулся бы головою в камень либо берег, полагая, что надежно укрыт, — тут и бери его голыми руками, осклизлого и бескостного, как ужа. Однако связываться с ним никто не захотел, и остался он жив-здоров в холодной воде.
…Выросшие вдвое и втрое, горы торчали перед самым носом. Если издали они порой представлялись насыпанными из мелкого песка, то теперь каждая песчинка обернулась глыбастым камнем либо останцем.
Лес остался позади. Обмелевшая и сузившаяся до размеров ручья Кокпела открылась взору вплоть до самых истоков. К сожалению, они были далеко в стороне. Отвернув от берега, мы нацелились на самую высокую вершину. Под ноги легли мелкие увалы с ровным, срезанным ледниками верхом. Кое-где плоскости были обнажены — глинисты и щебнисты, кое-где покрыты сухими лишайниками, а где-то густо заросли голубичником, на древовидных стеблях которого виноградными гроздьями висели дымчато-сизые крупные ягоды.
На обширной деляне, приобретшей от спелых ягод небесно-голубой цвет, Командир распорядился сбросить рюкзаки и попастись.
Я недолго лакомился голубикой. Набредя на сброшенный дикой молодой важенкой рожок, кудряво изогнутый и, как девичьи зубы, сверкающий белизной, я пустился в новые поиски и вскоре на дне ложбинки подобрал еще один замечательный рог, раскидистый и по-боевому заостренный, принадлежащий некогда самцу-хору.
Рога диких оленей ни в какое сравнение не идут с теми дряблыми кустами, что растут на головах домашних. Дрябь никуда не годится, ни на какие поделки. Брошенная на землю, она в одни сутки изгладывается собаками и леммингами. Нехороши рога домашних оленей и в интерьере — слишком декоративны и рождают воспоминания и эмоции не высшего порядка: что ни говори, как и коровьи, вырублены они из черепа домашнего животного.
То ли дело рога дикого оленя! Лемминг зубы обломает, а хант вырежет рукоятку для охотничьего ножа, пряжку для оленьей упряжи. Со стены в квартире они будут напоминать о северных просторах, студеных реках и горных кручах, по веснам — о любовных битвах, какие об эту пору разыгрываются на звериных тропах.
Переваливая с увала на увал, по сизо-голубым ягодникам шли мы дальше и вдруг с заколотившимися сердцами остолбенели как вкопанные. Внизу, в такой же сизо-голубой долинке, всего в каких-то ста шагах, паслись два медведя — с не меньшим удовольствием, чем мы полчаса назад, обирали и обсасывали ягоды. Их широколобые головы под гривастыми воротниками беспрерывно двигались вверх и вниз, и будто слышались даже причмокивающие и всасывающие звуки.
Один был однотонно-бурый, зато другой — на диво пестрый: с золотисто-седым, как у льва, загривком и светлым зеркальцем вокруг несолидного хвостика.
Укрывшись за бугорками и затаив дыхание, минут десять наблюдали мы за медведями. Благодушные и уверенные, увлеченные вкусной ягодой, они не слышали и не чуяли нас. Как тут быть? Надо двигаться дальше, а они заступили дорогу. Командир поднялся в рост и, рупором приложив ко рту ладони, ухнул что есть мочи.
Медведи оборотились, пересчитали всех нас взглядом, измерили с ног до головы и, не теряя достоинства, покатились легким скоком, вскидывая зады, в сторону леса, зеленым поясом протянувшегося вдоль подножия хребта. Ни дать ни взять — пушистые меховые шары, подпрыгивающие на неровностях. А светлое зеркальце вокруг хвоста львастого, казалось, пускало в наши глаза солнечные зайчики.
В достопамятные дни, когда олимпийский Мишка веселился в праздничных Лужниках, два его таежных собрата, помахивая короткими хвостами-пуховками, приветствовали нас на Полярном Урале.
— Хороши студенты! — с восхищением причмокнул губами Командир.
— Почему студенты? — тотчас взлюбопытствовал кто-то.
— За способность к выучке в старину их кое-где студентами называли.
Мое поколение возросло еще на старых представлениях о матушке-природе. В оправдание можно лишь заметить, что воззрения наши имели многовековые традиции в народной жизни.
«Лес всегда был тяжел для русского человека, — писал в „Курсе русской истории“ В. О. Ключевский. — В старое время, когда его было слишком много, он своей чащей прерывал пути-дороги, назойливыми зарослями оспаривал с трудом расчищенные поля, медведем и волком грозил самому и домашнему скоту. По лесам свивались и гнезда разбоя. Тяжелая работа топором и огнивом, какою заводилось лесное хлебопашество на пали, расчищенной из-под срубленного и спаленного леса, утомляла, досаждала, этим можно объяснить недружелюбное или небрежное отношение русского человека к лесу: он никогда не любил своего леса. Безотчетная робость овладевала им, когда он вступал под его сумрачную сень. Сонная, дремучая тишина пугала, в глухом, беззвучном шуме вековых вершин чудилось что-то зловещее; ежеминутное ожидание неожиданной, непредвиденной опасности напрягало нервы, будоражило воображение. И древнерусский человек населил лес всевозможными страхами. Лес — это темное царство лешего одноглазого, злого духа-озорника, который любит дурачиться над путником, забредшим в его владения».
И еще, помню, в лес вступали со счастливым простодушным убеждением — всего там не просто много, а в избыточном количестве: и самого лесу, и зверей-птиц, и грибов-ягод, а в задальних озерах и реках — рыбы всевозможной. В этом счастливом убеждении-неведении поддерживали нас и школьные учебники, в коих, пожалуй, самым распространенным эпитетом был «неисчерпаемый»: «неисчерпаемые лесные богатства», «неисчерпаемые рыбные»… «неисчерпаемые кладовые угля, руды» и т. д. и т. п.
Как было не настроиться на то, чтобы решительно подбирать в лесу все, что попадется под руки или на глаза… Бери, сколь хошь, — не убудет. Всем хватит. Бери поболе да побыстрее — не то пропадет. Неубитая птица, незакапканенный зверь, невыуженная рыба, необорванная ягода представлялись сгинувшими зазря, не исполнившими своего предназначения на земле.
Помню, как четверть века назад, когда вместе с геологами я впервые пришел на Приполярный Урал, меня томили и снедали всякого рода «государственные соображения», кои для краткости можно выразить в трех словах: сколь добра пропадает! В долинах рек и на альпийских лугах в человеческий рост дыбилась некось. Ежели бы скосить всю, хватило бы сена не на одну тысячу коров, и я жалел о том, что не слышал вокруг делового стрекота сенокосилок. Перед просвеченной насквозь яминой, где слоями в несколько этажей сновали быстрые, как тени, голубые хариусы, я мечтал о бригаде рыбаков с сетками и мережами, которая бы за одну тоню извлекла всю эту деликатесную рыбу и отправила на прилавки магазинов.
Увы, на хариуса не надо ни сеток, ни мереж, простой удочкой можно очистить любой водоем. На берегу ямины два образованных дурака схлестнулись в азартном соревновании, стараясь доказать друг другу свое превосходство, и через несколько часов в ней не осталось ни одной рыбины. Дурни вытащили по полтораста штук, так и не выявив победителя. Рыбу разделали, подсолили, пытались завялить, но ее тотчас усидели мухи, оставив колонии личинок, превратившихся на следующие сутки в червей, и всю пришлось свалить обратно в воду.
В конце прошлого столетия, когда природа, казалось, еще не подавала никаких знаков о грозящих ей бедствиях, В. О. Ключевский в том же «Курсе русской истории» пророчески предупреждал: «Культурная обработка природы человеком для удовлетворения потребностей имеет свои пределы и требует известной осмотрительности».
Теперь эта мысль стала общим местом. С теми или иными вариациями развивают ее ученые, писатели, публицисты. Эпитет «неисчерпаемый» исчез напрочь. Напротив, пишут о близкой перспективе острой нехватки многих минеральных ресурсов, являющихся невозобновимыми.
Но доходят ли наши аргументы до тех, к кому обращены — кто живет, трудится, отдыхает среди природы, кто в стекольно-бетонных башнях принимает по долгу службы многоохватные решения, порою взрывающиеся где-нибудь на дальних расстояниях Тунгусским метеоритом, в один миг сокрушившим ударной волной все растущее на двух тысячах квадратных километров зеленой планеты? Производят ли наши горячие речи преобразующее действие на сознание и душу современного человека?
Пойманных хариусов мы подсолили, завялили, оберегая от мух, на солнце и разделили поровну, чтобы привезти в гостинец детям. Пусть дети попробуют. Пришлось по два десятка на брата — небольшой сверток в несколько килограммов. Наш Командир-рабочий строго распорядился:
— Больше никаких соревнований! Никаких запасов впрок! Ловить исключительно на уху.
Дежурный два раза в день брал в руки удочку, спускался к реке и через несколько минут, будто от собственного аквариума, возвращался с пятком рыбин. Бывало, у другого зачешется рука, раззудится плечо — тоже со спиннингом или удочкой шел на берег, однако выуженных рыб не усыплял и не вздевал на кукан, а бережно снимал с крючка и отпускал обратно в воду. Душа потешена — и ладно.
Прошлые натуралисты советовали из гигиенических соображений биваки разбивать на нетронутых полянах, палатки натягивать на свежесрубленные колья — чтобы глаз радовали и источали благоухающий аромат. Наш Командир не признавал подобных рекомендаций, считая их пережитками прошлого, и в девственном безлюдном краю почти всякий раз исхитрялся найти площадку, на которой до нас уже останавливались. Как малое дитя радовался брошенным там кольям и рогаткам для костра — не надо рубить свежие, не надо губить молодые деревца. Раму для плота связали исключительно из сушняка, который в сырых мхах через несколько лет превратился бы в труху.
На возвратном пути мы познакомились с молодыми туристами из Латвии — студентами Рижского университета. Не подрассчитав с продуктами, они выбирались из гор на байдарках впроголодь, даже рыбы ели вполсыта, с трудом добывая ее в низовьях. У старшего я осведомился: почему не запасли хариуса в верховьях — теперь бы горюшка не знали.
— Девушки запрещали ловить про запас, — объяснил он. — Разрешали только на уху. Да и совестно ловить про запас такую бесхитростную рыбу.
Не спорю, примеров враждебного, бессовестного, скудоумного отношения к природе и теперь хватает, но в то же время все больше и больше появляется просветленных людей, проникнутых сыновне-сердечным, мудрым и деятельным попечением о ней. В умах русского человека происходит великий переворот, все глубже и сокровеннее осознается личная, кровно-родственная связь нашего бытия с матерью-природой, истинно по-матерински и равно оделяющей каждого из нас не только пищей и здоровьем, но и самой жизнью, неутомимо пестующей в наших душах добрые, благородные побуждения и чувства. Человек тоже природа. Связь нерасторжима… Осознается — не беспредельна она в своих богатствах и щедротах. Увы, со всех сторон уже четко обозначились пределы. Всем пора браться за ум.
Новое сознание так или иначе входит во все слои общества; живут по нему не только пишущие книги ученые и публицисты, но и внимающие им рабочие и крестьяне, учителя и школьники — старый и малый.
Пусть будут еще появляться в газетах заметки о том, что ради десятка шишек повален вековой кедр, ради единых рогов пристрелен и брошен на сгниение лось, упал и взорвался где-то еще один метеорит — не все миллионы прониклись новым миропониманием, но оно, как закон природы, неумолимо и властно рано или поздно должно войти в душу и ум каждого; надежда только на это — на самих себя. Чтобы не опускались руки, должна быть надежда…
Пройдя разреженную полоску альпийского леса, чарующего глаз парковой чистотой и причудливыми формами скрученных, вывернутых, пригнутых берез, лиственниц, елей, ольхи, мы полезли на гору. С камня на камень, с камня на камень — как по лестнице. Все они некогда образовывали на вершине остроконечные скалы, но еще в доисторическую пору оборвались, скатились вниз, где окоростели в накипевших лишайниках.
Снизу видна только часть склона, и кажется: одолеешь ее — там и будет вершина, но, поднявшись, видишь усыпанную окоростевшими курунами террасу, упирающуюся в новую крутизну. Вот там-то уж обязательно вершина. Однако там опять терраса, похожая каменными развалами на оставшуюся внизу.
Не менее десятка террас и новых круч преодолели мы, прежде чем взорам открылись неокоемные просторы и невиданно огромное небо, которое было и вверху, и внизу, и со всех сторон.
Окаменевшими волнами вздымались повсюду горы, в долинах, распадках, ущельях прерывисто сверкали ручьи, реки и озера, в солнечной сиреневой дымке дали лежали как на ландкарте: смотри, изучай и сверяй, где был и где не был. В полуночной стороне горбатился старый Пайер — Хозяин гор, и у его подножия расплетали светло-струйные косы пять его дочерей, одну из которых он почему-то обделил приданым.
Воздух — живая вода! Бодрит, веселит, кружит голову — молодит!
Воскрешает юные мечтания и надежды. Мои спутники, то и дело указывая пальцем в разные направления, с мальчишеским жаром и пылом обсуждают новые маршруты, которых им по меньшей мере хватит на сто лет.
Хорош плот, остойчив и подъемен, но, загруженный наполовину громоздкими рюкзаками, недостаточно поместителен, чтобы, не мешая друг другу, вольно расположиться на нем всем да еще орудовать длинными гребями. Разделились на две группы. Одна плывет на плоту, другая в это время налегке идет по берегу. На перекатах судно убегает вперед, на тиховодье обгоняют его пешеходы, так что в конце концов никто не отстает и никто никого не обгоняет. Понятно, меняемся местами. Я на палубу почти не всхожу, всякий раз уступаю это право любителям покататься. Мне надо ходить и ходить. Только остановлюсь, присяду или прилягу передохнуть, парализует мускульное и волевое оцепенение и потом требуются немалые усилия, чтобы выкарабкаться из него. А разойдусь — появляется физическая легкость и свобода.
Когда Максимыч впервые обсказывал маршрут похода, меня глубоко огорчило то обстоятельство, что горы мы не пересечем и домой будем выбираться не новым, а уже пройденным путем, Но по мере того, как я удалялся от усыпанной желтыми стружками судоверфи, где был построен плот, огорчение проходило, а потом исчезло и вовсе.
Да таким ли уж знакомым был протоптанный путь? Кое-что, конечно, помнил, но многое словно видел впервые. Пригнутый тяжелым рюкзаком, в свое время я больше смотрел в землю, под ноги, чем окрест.
Расправив высокие голенища резиновых сапог, перехожу вброд впадающие в Войкар ручьи и речки. Перед прорывшим глубокое русло в рыхлом коричневом торфянике притоком понадобилось раздеться. Вздев над головой одежду, перешел его по уши в воде.
Уютные сопки Малого Урала местами все так же светло и девственно зеленели сплошною лиственницей, местами, опаленные дыханием недалекого полюса, оделись в златотканую парчу и стали еще краше и приманчивее.
Лето на Полярном Урале сходило на нет. В любой день и час на голову мог пасть снег. Вперемежку с холодным дождичком изредка уже появлялись реденькие, покуда еще неживучие белые мухи: сядут на хранящий летнее тепло камень, и нет их, растаяли, оставив влажные птичьи следки.
Люди спешили выбраться из пустынных, лишенных топлива гор, торопились убраться с голых речных верховий. Ниже Ворчотоиз наш плот то и дело обходили эскадры байдарок, шествовавших строгим кильватерным строем. Приветствуя их, я махал с берега рукой, мне отвечали вздетыми вверх легкокрылыми веслами.
На галечной косе красной косынкой плескался колеблемый ветром костер; в висевших над ним разноразмерных закопченных котелках зазывно клокотали и фыркали суп, каша и чай, а вокруг расположились немолодые байдарочники: четверо мужчин и три женщины. Копошившийся у костра мальчик лет десяти внушал мысль об их опытности и испытанности — новички в поход ребенка не возьмут.
Седины в женских прическах, глубокие морщины на загорелых мужских лицах заинтересовали меня больше всего; я присел к костру, представился. Облысевший мужчина, утепленный под штормовкой стариковским меховым жилетом, протянул руку:
— Олег Сергеевич. Руководитель группы, а в миру — ведущий конструктор Московского института электромеханики. Чем могу быть полезным?
Несомненно, передо мной был стародавний родовой москвич, открытый и простой. Из иного новоиспеченного москвича, преисполненного одновременно высокомерия, недоверия и своекорыстного расчета, приветливого слова и клещами не вытащишь…
— Завязывать с походами не собираетесь? — спросил я. — На вид вам уже под пятьдесят.
— Я не женщина, чтобы преуменьшать свой возраст. Далеко за пятьдесят. А ходить в походы можно всю жизнь. Хоть до ста лет. Была бы охота. Мы с женой так и порешили: до ста. Кстати, кашеварит у костра моя жена, Валентина Васильевна, а помогает ей наш сынишка Сережа, удалой рыбак.
— Такой маленький сын?! О, тогда, конечно, и сто лет для вас не предел.
— Есть у меня и постарше. Институт закончил. Но тот сам теперь группу водит. Сейчас где-то в Саянах. А Сережа — впервые. Трех щук поймал на дорожку. Все еще в шоковом состоянии. По ночам выскакивает из спальника и кричит с закрытыми глазами: «Щука, щука! Держи ее!»
— Сказываются ли летние походы на качестве вашей жизни? — поинтересовался я.
— О, да! — живо отозвался собеседник. — К качеству жизни они имеют прямое отношение. Самое замечательное, пожалуй, то, что после похода помнишь потом всю зиму себя — каким был сильным, смелым, решительным или каким усталым и голодным, как мерз в палатке, заваленной снегом, как нещадно терзали комары, гнус, оводы… Не так давно побывал я за границей. Припоминаю теперь какие-то соборы, замки, монастыри, дворцы, какие-то памятники и картины, а также большие и малые магазины, по коим носились как угорелые, чтобы реализовать скудную валюту, а вот самого себя совершенно не помню. Убей бог, не помню! Хорошо было или плохо, со вкусом ел, спал или без оного — теперь и не скажу. Будто и не ездил никуда, а по телевизору посмотрел на все те монастыри, замки, дворцы, соборы… Вы замечали: есть люди, напрочь забывшие себя, свою первородную самость — этакие механические функции, начиненные не хуже электронной машины всевозможной информацией, выдаваемой за собственный ум и даже за природные способности. Те заграницу любят. Я не из их числа. Воротился я оттуда усталый, разбитый, перегруженный ненужной информацией, потерянный — хоть снова выпрашивай отпуск и отправляйся на север искать себя, да кто отпустит во второй-то раз… Из трудного же похода возвращаешься с жаждой творить, действовать, бороться. Всякое дело горит в руках, и мысль не влачится жалко по земле, а высоко парит на быстрых крыльях. Так вот, я считаю: добротное качество жизни придают прежде всего любимый труд и борьба. В условиях городского комфорта подлинной борьбы стало маловато. То, что принимаешь за борьбу, частенько на поверку — суета сует. Дрябнешь духом и телом. Ну, а тут хватает и того и другого — и борьбы и труда. До того, как сесть на байдарки, мы, считай, каждый километр прошли по три раза. В два приема переносили груз. Оттащишь часть — вернешься за другой — челноком сновали туда и обратно.
Собеседника позвали обедать. Приглашали и меня отведать московского борща и московской каши, но впереди ждал свой обед, и я отправился дальше.
По реке, по кипящему стрежню-быстрине, обгоняя меня, снова пролетали журавлиными клиньями крылатые байдарки. Я махал им рукой и кричал с берега:
— Откуда?
— Из Питера! — подняв в приветствии серебристо-взблескивающие весла, отзывались с байдарок.
— Откуда?
— Из Новгорода!
— Откуда?
— Из Владимира!
— Откуда?
— Из Ярославля!
— Откуда?
— Из Киева, праматери русских городов! А вы откуда?
— Мы ниоткуда. Мы здешние. Уральцы!
Вот еще на чем ныне летит и несется в неукротимом стремлении — вперед, вперед — Русь: на байдарках-птицах, на плотах-самолетах, несется по взъяренным в бешеной скачке рекам, и, как в давние времена, свистит в ушах ветер быстрой езды, мелькают версты и берега, русские сосны и березы, а впереди — все еще недоступная возможностям отдельного человека, неоглядная даль — сибирские просторы, где и Обь, и Енисей, и Лена, и Байкал, а за Байкалом — о-го-го! — еще сколько всего впереди — солнечные восходы!
И опять я держу руку на пульсе нации. Удары ровные, сильные, молодые!
На одной из последних стоянок Директор неожиданно выразил неудовольствие:
— Не нахлебался досыта трудностей. Что это за поход, ежели ни разу не вымокли под дождем, ни разу не поголодали как следует? А с перекладными так везло, аж скулы сводило от скуки. Не успеешь высадиться на неизвестный берег, как тут же тебе и лодка, и катер, и прочие виды передвижения. Выбирай и гони дальше. Словно по щучьему велению.
«Щучье веленье» беспокоило и меня. В чем оно заключалось, я долго, однако, не мог уразуметь, покуда не познакомился с молодыми латышами, о коих ранее уже упоминал.
Они остановились пополдничать на Лиственничном мысу у Святого озера. Перевернутые вверх обшарпанными, в многочисленных заплатах днищами байдарки были брошены на берегу сора, сами латыши расположились близ озера среди узловатых лиственниц, укрывавших их от промозглого колючего сиверка. Пылали два костра. На одном кипел чай и взбулькивала жидкая просяная каша. У другого мальчики и девочки, всего лишь год назад расставшиеся со школьной формой — синими костюмчиками и белыми фартуками, просушивали прямо на себе вымокшие одежды, поворачиваясь к огню то спиною, то боком, то передом. Как в бане, клубился вокруг них пар. Сколько-либо серьезного дождика давненько не было, а они промокли до нитки. Вот она, безрасчетная молодость! Всегда найдет на свою голову и трудности, и опасности, и невзгоды!
В мелководных бурных верховьях им бы спустить байдарки на бечеве, но не терпелось обмочить весла. И они враз побили о камни прорезиненные днища и дальше плыли чуть не по пояс в воде. Сухари подмокли, и пошло их вдвое против нормы. Макароны превратились в кусок теста, из которого напекли лепешек и съели их вне раскладки, как даровые. В результате пятый день спускались впроголодь. Одно настроение не пострадало. Все были оживлены, веселы. Казалось, напасти только обостряют их молодую радость жизни. Завораживающей музыкой звучали непривычные для русского уха девичьи имена: Зигрида, Иветта, Инта, Гунта, Ария, Зина… Но ведь Зина — русское имя. Не совсем так. В русском языке оно производное от Зинаиды, а сероглазая, темноволосая и проворная красавица и в паспорте обозначена Зиной. А как с русским именем девушку по отчеству величать?
— По отчеству у нас не принято, — объяснила Гунта, похожая легкой фигуркой, узкими бедрами и дочерна загорелым светлоглазым личиком под ярко-красной шапочкой на мальчишку-подростка. — Разве что иногда. В таком случае после имени надо поставить слова «дочь» или «сын» и назвать отца. Я, например, Гунта дочь Алдиса. Она — Зина дочь Айвараса.
Гунта дочь Алдиса оказалась девушкой на редкость словоохотливой, доверчивой и открытой, какими бывают только дети, и без наводящих вопросов рассказала мне все, что я хотел узнать о новых знакомых.
Все они — студенты Рижского университета, все — с биофака, закончили кто первый, кто второй курс. Гунта перешла на второй курс, самая младшая в группе. В горах и тундре собрала замечательный гербарий северных мхов и лишайников, сдаст его профессору в качестве курсовой работы. Не одна она — все в походе занимались наукой. Например, Биллс, их командир, изучал рыб.
— Вообще-то он не Биллс, — лукаво и одновременно нежно улыбнулась Гунта. — Так мы его прозвали в честь джеклондоновского Билла из «Белого клыка». Там Билл — благородный и бесстрашный сын лесов. И наш Биллс точно такой же. Нигде не заблудится, ничего не испугается, все знает и всем поможет. Зато в большом городе нет человека беспомощнее его. Как ребенка, надо водить за руку, чтобы не заблудился, не пошел на красный свет и вообще шагал там, где положено. То и дело в последний момент выдергиваешь его из-под носа разогнавшейся машины… Он сын пчеловода, и про пчел может говорить часами. В вагоне поезда по дороге на север шесть часов и семнадцать минут рассказывал о них незнакомому попутчику. Я специально засекла время. А в походе рыбами занимался: замерял, взвешивал, потрошил желудки и сквозь лупу разглядывал содержимое. Толстую-претолстую тетрадь исписал наблюдениями. Он уже точно решил: после окончания университета будет работать где-нибудь здесь, на Урале или в Сибири, где разводят рыб.
Сам Биллс, просушив у огня брезентовые брюки, пристроился на обожженном бревне рядом с Гунтой и с невозмутимым видом, точно речь шла вовсе не о нем, принялся подшивать проволокой подошву на разбитом ботинке. Крепкий, плечистый, с буграми мускулов на обнаженных руках, с добрым деревенским лицом, обросшим клочковатой незаматерелой порослью, он совсем не походил на говоруна, способного произносить шестичасовые монологи. Но ведь страсть преображает любого человека.
Подшив ботинок, примерив его на ногу и оставшись довольным своей работой, он поворотился ко мне:
— В Усть-Войкаре есть какой-нибудь магазинчик?
— Именно какой-нибудь: хлеб да сахар, да еще соль. Больше там, пожалуй, ничего не купишь.
— Больше нам ничего и не надо. Были бы хлеб да сахар. На деньги в нем продают?
— Конечно. Что же их может заменить?
— Есть в этих краях заменитель. В Егангорте мы хотели у зимовщика сухарей купить, так он за деньги отказался продать. Спрашивал «винку». Не пожалеем «винки» — не пожалеет он и сухарей. А у нас она не водится, не берем с собой.
Когда я прощался с Биллсом и со всей его командой, Гунта дочь Алдиса с детским любопытством спросила меня:
— Это вы на «пауке» плывете?
— Почему на «пауке»? — насторожился я.
— На катамаране то есть… На плоту, я хотела сказать, — смутившись, торопливо поправилась она.
— Мы.
С приподнятой над водой на черных баллонах палубой, почти квадратный, с четырьмя длинными гребями, которые вместе с высокими рогатками-уключинами могли напоминать колченогие конечности, плот наш в самом деле походил издали на огромного жирного паука. Но отчего все-таки простодушная Гунта смутилась от своей смелой метафоры и поспешила поправиться? Неужто и сами мы, плотоводы, толстые и благополучные в своих теплых одеждах и длинных резиновых сапогах, тоже ассоциировались в ее сознании с пауками?
К сожалению, «винка» действительно была всемогущим «щучьим веленьем», и мы, увы, этим пользовались. Только что на русской печи по щучьему веленью не передвигались.
Прибыв по Оби на «Метеоре» в Мужи, мы и десяти минут не искали ездового человека, который согласился бы на катере ли, на большой ли лодке-бударке перебросить нас в Усть-Войкар, стоящий в стороне от магистральных путей, куда по этой причине не заглядывал никакой пассажирский транспорт. Ездовых сыскалось сразу двое. Один был капитаном почтового катера, другой — капитаном буксира; обоим, правда, не с руки было заворачивать в Усть-Войкар, но и тот и другой выразили готовность свернуть, куда угодно, если заплатят спиртом. Бывший уже навеселе капитан буксира вообще предлагал доставить нас с ветерком до самых гор — хоть к черту на кулички, как выразился он бесшабашно. Мы выбрали другого, трезвого капитана, но когда расставались с ним в Усть-Войкаре, он мотался в тесной рубке, как в десятибалльный шторм.
Войкарский сор, вытянувшийся вглубь на двадцать пять верст, можно было с грехом пополам обойти по вязкому берегу пешком, но решили попытать счастья и нанять у рыбаков плавучие средства. Главный отправился на разведку в поселение, пестревшее на высоком голом юру беспорядочно разбросанными рублеными юртами. Вернувшись, он дал команду варить уху.
Едва успели сварить ее из свежевыловленных сырков, как вокруг нас собрались гости мужского пола, пожилые и молодые. Наметанным взглядом выбрав подходящие лица, Главный поднес им жестом хлебосольного и щедрого человека по чарочке. Тех же, с коих по его прикидке, нельзя было и нитки взять, он как бы не видел, словно их место заполнял пустой воздух. Потом осторожно завел деловой разговор:
— Неплохо бы через сор на лодках перебраться. А мы их, как видите, на себе не приволокли. Зато народ мы — щедрый и веселый. Сами поем и все вокруг нас поют, — и он, как по барабану, пошлепал ладонями по пластмассовой канистре, из которой наполнял поднесенные чарки.
После его слов именно те, кого он не обнес, оживились, разгорячились лицами и, обособившись в кружок, стали что-то обсуждать. Среди них был и лохматый Николай, перетянутый поверх бушлата широким ремнем с диковинной пряжкой и болтающимся на цепочке медвежьим клыком. В этой группе еще обращал на себя внимание молодой хант по имени Cepera. Смуглое пригожее лицо с широко распахнутыми горячими глазами делало его похожим на серба или албанца. Всего лишь месяц назад он вернулся с действительной и весь был переполнен впечатлениями от заграницы, где довелось служить. Вот они да еще двое неженатых парней и взялись переправить нас через сор и доставить к зимнику Егангорт на Войкаре. Плату обговорили божескую: четвертную на всех деньгами и литровую фляжку спирта. Выходить наметили под ночь, когда смирится ветер и в разлившемся морем-океаном сору уляжется волна.
В сумерки мы грузили в металлические лодки-казанки с подвесными моторами рюкзаки. Провожатые пробовали моторы. Вдруг на берегу появились две женщины в длинных цветастых оборчатых подолах: жена Николая и сестра холостого Сереги. С ходу они принялись браниться: жена — по-хантыйски, а сестра — по-русски. Сестра кричала, что завтра Сереге чуть свет надо плыть к сетям выбирать рыбу, а если он не выспится, какой из него работник? «Дурья голова, — убеждала она его, — поразмысли, что выгоднее: вовремя сдать рыбу и получить за нее сто-двести рублей или за рюмку винки промаяться с туристами всю ночь?» В том же духе, наверно, бранила и убеждала непутевого мужа жена Николая. А наши провожатые даже глаз не скосили в сторону костеривших их на чем свет благоразумных женщин.
Глухою ночью мы были на месте — на левом берегу Войкара, где за темными купинами тальников смутно угадывались остроконечные крыши двух-трех чумов и несколько изб. Главный по уговору рассчитался с провожатыми. Ближайшая изба оказалась пустующей. Мы растопили печку и стали готовиться ко сну. Кое-кто уже залез в спальники, расстеленные на нарах, а моторы на реке все еще молчали. Знать, парни тоже развели у воды огонь и обогревались возле него живым теплом и спиртом.
На потолке и стенах плясали красные отсветы, пробивавшиеся сквозь щели в печке. Вдруг дверь со стуком распахнулась, и в избу заполошно влетели Николай и Cepera, словно невесть что с ними приключилось. Найдя глазами Главного, который не успел еще забраться в мешок, Николай кинулся к нему и, приложив руки к груди, взмолился:
— Уважь, начальник. Никак не согрелись. Руки-ноги свело от холода. Даже моторы завести не можем — пальцы не слушаются.
За его спиной тяжело дышал недавний солдат.
Выпятив грудь, Главный решительно попер на них, оттесняя к двери.
— Рассчитался я с вами сполна. Больше не просите. Ни капли не добавлю. Я такой! Вот ежели ден через двадцать встретите нас тут же да рыбки еще доброй припасете: муксунчика, нельмушки, тогда…
— Встретим, припасем. Только сей минут налей. В счет будущего. А потом не надо. Дорого яичко ко Христову дню. Так ведь по-вашему? Должен понять.
— За кого ты меня принимаешь? Встретишь через двадцать ден — сладимся. Не встретишь — твое дело. Вот и весь мой сказ! Я такой! А теперь не мешай честным людям отдыхать.
И он грудью выдавил гостей наружу, захлопнул дверь и пошарил по ней рукой, ища крючок либо задвижку, но запора никакого не оказалось.
Чертовски обидно было за Николая. Еще два часа назад с неподдельным достоинством он выказывал уважение заветам предков, мужественно вспоминал о своей схватке с медведем, чудом не задравшим его, и вдруг на глазах в считанные минуты, хлебнув «винки», растерял все свои многославные качества.
Не прошло и десяти минут — Николай снова ворвался в избу и со стуком пришлепнул на приколоченный к передней стене завощенный грязью столик четвертную бумажку.
— Вот, начальник, все твои деньги. Возьми их себе, а дай нам еще одну фляжку. Поди, не дороже денег фляжка?
Увидев, что Главный грудью попер на него, Николай заторопился со словами:
— Хоть полфляжки! Хоть чекушку малую. Пальцы не слушаются — моторы не завести.
— Сейчас же забери свою четвертную. Чо я, выжига тебе? Нет, не выжига! Я не такой! А вот какой! — И Главный, схватив Николая за меховой воротник бушлата, вытолкнул его за порог в темную ночь.
Подобрав с полу полено, Главный устроился на чурбаке перед порогом.
— Ведь не даст выспаться, — горел он негодованием. — До утра не успокоится, покуда хмель не выморозится из башки. Но если еще раз сунет нос, уважу так, что дорожку к избе больше не найдет. Я такой!
И Николай сунул нос. Словно чуя угрозу, за порог он не переступил, а лишь приоткрыл дверь и крикнул из темноты смешанным со слезою голосом:
— Хоть палец дай обмакнуть, проклятый! Много ли пальцем у тебя высосу?
— Пошел прочь!
В последующие дни Главный не уставал мусолить этот палец, обыгрывая его так и сяк на все лады. «Ребята, дайте палец обмакнуть!» — пробудившись, кричал он по утрам из палатки. А когда Директора, вынимавшего из пасти оглушенной насмерть щуки блесну, уснулая рыба по пословице — щука умерла, да зубы остались — хватанула за палец и незадачливый рыбак его толсто, с ваткой, перевязал бинтом, Главный смеялся:
— Директору не давать макать палец. Сразу полфляжки засосет.
Спустившись через двадцать дней с верховий обратно в Егангорт, мы, конечно, не увидели там ни Николая, ни его помощников. Главный праведно возмущался:
— А ведь обещал! Клялся и божился! И лодки пригнать навстречу, и рыбки припасти. Вот и верь после этого людям! Хорошо, тогда устоял и не добавил ему ни грамма. Теперь бы локти кусал от досады, ежели бы не устоял.
Стоячий Войкарский сор в полдня прошли на гребях. Взмокли, но не переломились. Вот и он, Усть-Войкар — десяток серых приземистых бревенчатых юрт, беспорядочно разбросанных на высоком юру. На песчаной косе под глинистым яром, сбившись в кучу, рыбаки перебирали и чинили сети; непокрытой лохматой светло-русой головой сразу узнался среди них Николай. Не мог не признать и он нас, однако не подал никакого вида, не выпустил из рук сетки, не подошел предложить свои услуги, на что все еще рассчитывал Главный.
Как же добраться до Мужей, где были всякие пароходы и «Метеоры», как добраться хотя бы до расположенной на полпути деревушки Васюховы, куда раз в сутки заглядывал на минутку почтовый катерок? Туда, к этому катеру, обогнав нас, ушли на веслах сначала латыши, а следом — и знакомые москвичи. На нашем же плоту против сильного обского течения, как ни греби, как ни выкладывайся, и шагу не сделать; может даже в противоположную сторону утащить.
Плот отслужил свое. Мы его разобрали, баллоны спустили. Главный с жестким прищуром поглядел в сторону занятого делом Николая и произнес сакраментальную фразу:
— Ну что ж, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе.
Меня занимал вопрос, помнит ли рыбак нанесенную ему обиду, воротилось ли к нему чувство собственного достоинства, и я пошел следом за Главным послушать их разговор. Сдержанная речь Николая порадовала меня:
— Не могу. Работы по горло. Да и бензин для лова надо беречь. Нынче экономия на бензин, из тютельки в тютельку наливают. Поспрашивай других. Может, и согласится кто.
Договорился Главный с пожилым костляво-рослым хантом по имени Саня, у которого была большая лодка-бударка, способная взять на борт всех нас сразу.
— Срядились за две бутылки спирта, — радуясь удаче, докладывал Главный Командиру. — Но сам знаешь, спирту у нас в обрез, и я его сейчас речной водичкой разбавлю…
Мы все протестующе загудели, а Максимыч сурово заключил:
— Побойся бога, Главный. Это уже ни в какие ворота…
— Ну, черт с вами! — нехотя сдался плотоводец.
Перед отплытием повторилась уже знакомая картина: прибежала на берег из поселка старая женщина в длинном цветастом подоле и, возмущенно размахивая руками, принялась бранить на своем языке мосластого Саню, а заодно и нас; лодка уже отчалила от берега, а она все махала руками и выкрикивала, судя по гневному голосу, все те бранные слова, какие кричат в таких случаях жены на всех языках мира.
В Васюховы мы прибыли в сутеми. Москвичи в отдалении от реки, на пригорке, уже разбили лагерь и готовили на экономном костерке ужин; молодые латыши распалили большой огонь на голых камнях у самой воды и привычно жались к нему со всех сторон. Я подошел к ним. Опять вымокли, опять от их растеребленных одежд, как в бане, клубился пар. На этот раз промочили и палатки и решили их не ставить, не залезать в простудную сырую нежиль, а прокантовать ночь в жилье, покрытом небом и огороженном ветром.
Над головою звенели яркие льдистые звезды. Может, и не они звенели — клацал голодными зубами выползший вместе с ночью разбойный морозец. Биллс озабоченно разъяснил обстановку:
— Катер берет не более десяти пассажиров. А на берегу собрались все тридцать. Как быть?
— Ребята, вам беспокоиться нечего, — твердо заверил я. — Вы сюда первыми прибыли? Вы! Значит, первыми и на катер сядете. В порядке живой очереди, и никто, конечно, поперек дороги вам не встанет.
Катер задымил у дальней излучины, едва рассвело. Угретые в двойных теплых палатках, москвичи еще не показывались. Не распаковывавшие своих рюкзаков латыши были в полной готовности. Тотчас прибежали на берег и мы, сносно проведшие ночь в натопленном предбаннике поселковой мыльни.
Голыми ястребиными глазами вцепился Главный в приближающийся катер.
— Никак тот самый, на котором мы уже ехали? Тогда он наш!
— Послушай, — сказал я. — Мы же самые последние появились тут, последними и уехать должны. Черт возьми, нельзя же по головам лезть. Пусть отправляются студенты.
— Ты так считаешь?
— Да, так считаю.
— Вот и оставайся. Жди у моря погоды. Тебя никто не неволит. А у меня на это нет ни желания, ни времени, — взъярился Главный. Возможно, он еще что-нибудь добавил бы в мой адрес, но именно в этот момент наконец полностью уверился, что и катер «наш», и стоявший в остекленной рубке за штурвалом небритый чернявый капитан тоже «наш».
— Наш! Наш! — забыв обо мне, ликовал Главный. — В прошлый раз он славно у нас угостился. Должен помнить.
У самой кромки воды, поджидая катер, с командирской планшеткой в руках стоял Биллс; с лица его сошла вчерашняя озабоченность, в глазах светилась радостная уверенность в том, что он посадит измученную недремной холодной ночью свою команду на борт.
Катер ткнулся носом в песчаный берег. Парнишка-матрос спустил с борта доску с набитыми деревянными брусочками ступенек, и Биллс во весь рост, бесстрашно и не хватаясь за воздух, пошагал по ним наверх. Следом полез, придерживаясь руками за доску — на четвереньках, собственно, — Главный.
С захламленным и опухшим со сна лицом чернявый капитан в угрюмом ожидании стоял у распахнутой двери рубки, но когда Главный взобрался на палубу, распрямился, он просиял сквозь щетину и через плечо Биллса первому протянул руку. Биллс заговорил, кивком головы показывая на сбившихся у воды в утиный выводок студентов, но капитан слушать его не стал, дружески втянул Главного в рубку и захлопнул перед носом растерявшегося сына лесов дверь.
Спустя минуту Главный махал нам рукой и, торжествуя голосом, зычно кричал:
— Чо вы там чешетесь? Не мне же втаскивать ваши рюкзаки! Кажись, хватит и того, что договорился. Волоките и мой.
Ничего не поделаешь, надо подыматься и мне. Негоже отбиваться от стада. На палубе я Пристыженно спрятался за стенкой рубки, обращенной к реке. Пришел сюда и Максимыч, будто бы воспалить в заветрии сигарету, хотя промозглый речной ветер тянул именно вдоль этой стенки. Замутив воду у берега, катер стронулся задом, развернулся и бойко побежал по широкому обскому раздолью в недальние теперь уже Мужи.
Ухватившись обеими руками за опоясывающий палубу металлический леер, Главный окидывал из-под шляпы победительным взором уплывающий вспять покоренный им берег: убогие закосившиеся на вечной мерзлоте избы и бараки, лабазы и пакгаузы на сваях, под один уровень окрашенные в зеленое тиной большой воды, только что выбиравшихся из палаток нерасторопных засонь-москвичей и прятавших руки — рукав в рукав — растерянных и жалких мальчишек и девчонок, обутых кто в перетянутые проволокой ботинки, кто в разбитые кеды, а кто и вовсе чуть не в домашние тапочки — в легкие вельветовые туфельки.
Заносчиво вскинутая голова, расправленные плечи, выпяченная грудь, широко и твердо расставленные ноги в высоких сапогах — все в Главном выражало непоколебимую правоту и уверенность, все дышало силою и непреклонностью и как бы кричало на весь оставляемый берег: «А я такой!»
А нам неловко было смотреть друг другу в глаза…
В заключительной главе, думаю, уместно вернуться вспять и еще кое-что вспомнить.
В Усть-Войкаре за околицей меж седых узколистных тальников бродил гнедой жеребец, и на его шее, издавая дребезжащий евнушеский бряк, болтался вместо колокольчика ведерный светло-алюминиевый ширпотребовский рукомойник. Когда гнедой пытался щипать траву, рукомойник, встав раструбом на землю, упирался днищем в шею, мешая есть, и конь раздраженно мотал головой, а то и вовсе попускался кормежкой. В его чернильно-лиловых глазах слезною влагою мерцали оскорбленное чувство и страдание; раз заглянув в эти глаза, я осознал всю меру надругательства, что учинили над прекрасной природой.
Увы, не обрадовали меня и настоящие валдайские колокольчики, тускло-медные, сладкозвучные, на одном из которых даже было выгравировано старинной вязью: «Со мной ездить веселей!», ибо висели они не на крутых конских шеях — висели на прямых и коротких шеях одомашненных оленей, сбившихся в кучу на песчаной косе под крутояром, куда пришли из тундры спасаться от комаров, гнуса и овода. Колокольчики, пускай валдайские, были на них так же нелепы, как ширпотребовский рукомойник на сильном и стройном жеребце. Но они, видно, заслужили сие рабское ожерелье. Сколько я ни присматривался к покрытым черным и бурым ворсом многоветвистым рогам хоров, напоминавшим оголенные кусты, нигде не углядел на них кровоточащих царапин, вмятин или болтающихся лоскутьев кожи — тех боевых отметин, получаемых в любовных схватках, что украшают их диких собратьев. Позволив надеть на себя колокольчики, смирившись с ними, они забыли про любовь, страсть и ревность… Вот три хора: один сед и похожими на выворотень рогами необыкновенно величествен, другой, напротив, едва возмужал своими вилообразными рожками, третий — в срединном возрасте; в полном согласии обступили они сзади красивую мухтарую важенку, облизывали ее, и с губ их срывалась в песок сладострастная пена.
На задах юрты в брошенных до снега нартах черноглазая голоногая девочка лет пяти играла в «дом». Навесив на палки старые рыбацкие сети, она выгородила крохотную комнатку, пол застлала лоскутом оленьей шкуры, другим лоскутом прикрыла кроватку для куклы. Но голубоглазая, с льняными волосами и краснощеким лицом кукла, одетая в мини-сарафанчик, чувствовала себя явно неуютно на этой суровой кроватке, зябла, страдала и тосковала по южной благодати. Девочка что-то шила из обрезков шкур. На моих глазах она закончила работу и надела ее на куклу. Это была малица с беличьим капюшоном и красными узорами по подолу. Кукла враз повеселела, и ее голубые глазенки засияли из-под меха всей радостью жизни.
Тянувший с Оби знобкий ветер, казалось, отгибал в сторону и относил куда-то вдаль солнечные лучи, без их подогрева меня выручала только меховая куртка, а голые руки и ноги девочки не покрылись даже гусиной кожей-мурашками. Во множестве бегавшие по поселку дети были одеты ничуть не теплее маленькой кукольницы: ситцевые платьица, короткие штанишки — будто сотворены были совершенно из другого материала, нежели мы, грешные.
Растущие на севере деревья отличаются тонкими годовыми слоями, придающими им особую плотность и крепость, ценимые во всем мире; особой крепостью отмечены сызмала и люди здесь.
Заставив детей забыть про свои игры, будто с неба свалилась девушка в голубом пальто, красных модных сапожках, с распущенными по спине густыми черными волосами. Надя Тырлина. На каникулы приехала к отцу-рыбаку из Ленинграда, где учится в герценовском институте. Какой, однако, контраст она, юная, должна чувствовать! Тут — корявые, бедные, разбросанные как попало жердяные юрты, зеленая и голубая пустынь вокруг и воздух, напоенный одной только студеной свежестью; там — вытянувшиеся в линии белокаменные дворцы, повисшие над широкими водами волшебные мосты, которые то сводятся, то разводятся, и воздух, напитанный бессмертной мыслью и бессмертным искусством. Какими жадными глазами глядит она на мир и тут и там!
На зимнике Егангорт живет безвыездно рыбак Ефремыч. Каждое утро вывешивает он на протянувшееся вдоль берега прясло оленьи шкуры, рога, завяленную рыбу, вывешивает так, чтобы его товар хорошо был виден с реки, по которой проходят плоты и байдарки туристов — авось заинтересуются, купят.
На пристани в Мужах — настоящий базар, где одетые в плюшевые жакеты и длинные сборчатые подолы женщины продают пассажирам теплоходов все те же рога и рыбу, а также сшитые из неноских оленьих шкур, разукрашенные стеклярусом и вышивкой детские и взрослые унты, шапки, рукавицы; нынче к традиционным товарам еще добавился меховой олимпийский Мишка.
Всякий бы хотел привезти в качестве сувенира женскую шапочку или детские унты, но далеко не всякий покупает: кусаются цены. В последние годы они неколебимо держатся на уровне мировых. Старинная пословица: за морем телушка — полушка, да рубль перевоз, — потеряла свой смысл. И перевоз рубль, и телушка — рубль.
Мир стал маленьким, доступным и слышным во все концы. Где-то, быть может в Америке, аукнется — у нас откликнется, у нас аукнется — в Америке откликнется. Только мы попусту не аукаем, с младых ногтей помним толстовскую притчу о том, как попусту аукал некий озорник, а когда приспел настоящий страх, его крику никто не поверил.
Прихваченные попутным буксиром, спустя полтора часа после нас прибыли в Мужи молодые латыши и немолодые москвичи. Моя совесть почувствовала некоторое облегчение.
Через Мужи в этот день проходило два «Метеора»: один — на север, в Салехард, до которого рукой подать, — час быстрой езды, другой — на юг, в нашем направлении.
Латышам, конечно, во всех отношениях было удобнее и выгоднее возвращаться домой вместе с москвичами через Салехард, где поспевали на московский поезд, а они вдруг стали расспрашивать про южное направление: какие города встретятся там и что в них примечательного.
Главный с яростью набросился на студентов, словно за билеты платить они собирались из его кармана:
— Ничего сногсшибательного. Только денег вдвое ухлопаете. До Салехарда билет стоит два рубля, а до станции Приобье — десятка. Правила сложения и вычитания кто-нибудь из вас знает? Вот вычтите и сложите, и полученная сумма будет составлять ваш первый убыток. Если хотите, я за вас сосчитаю: восемьдесят восемь рублей на одиннадцать человек. А потом еще один убыток понесете на железной дороге, ибо та дорога подлиннее северной, значит, и билеты подороже. Набитыми дураками надо быть, чтобы не уразуметь этого.
Поблагодарив за исчерпывающую информацию, Биллс обещал еще раз обо всем подумать и все взвесить, однако, когда к пристани подлетел следовавший в верховья «Метеор», латыши со своими байдарками погрузились в него вместе с нами.
На следующий день под вечер мы были на железнодорожной станции. Здесь мне предстояло расстаться с тагильчанами. На Тагил ходил отдельный поезд. Меня он не устраивал по той причине, что прибывал туда ночью, значит до утра я не смог бы продолжить путь дальше. Я нацелился на свердловский поезд, ходивший, правда, кружным путем, зато избавлявший от пересадки.
Нам с Максимычем поручили взять билеты. Около часа мы томились в очереди. За нами стояли Зина дочь Айвараса и Гунта дочь Алдиса. Когда наша очередь подходила к окошку, из разговоров девушек я понял, что они собираются покупать билеты не до Риги, а пока только до Свердловска.
— Почему? — удивился я и в духе Главного стал наставлять их уму-разуму: — Дорога обойдется чуть ли не в полтора раза дороже. Да и в Свердловске новые билеты приобрести труднее, чем закомпостировать старые.
— Мы так решили, — неопределенно ответила Зина.
— Может быть, у вас денег не хватает? — смекнул я.
— В том-то и дело, — откровенно призналась Зина. — Из Свердловска мы позвоним домой, и нам срочно вышлют.
Деньги у меня оставались, и я обрадовался возможности хоть сколько-то сгладить впечатление о «пауках».
— Я вам дам, Потом вышлете.
Я вытащил из кармана бумажник, полез за своим и Максимыч, говоря при этом:
— Если у тебя не хватит, добавлю.
— Должно хватить, Гена.
Девушки смущенно зарделись, отказывались брать деньги, отмахивались, но на них дружно насела вся очередь, убеждая в том, что все мы — люди советские, одна семья и что всегда надо помогать друг другу и от такой помощи не следует отказываться, и девушки в конце концов сдались, уступили общему нажиму.
До отхода поездов времени оставалось вполне достаточно, чтобы с толком и чувством отметить долгожданное и важное событие, пришедшееся на этот день — пятидесятилетие Максимыча, а заодно и мне по-хорошему, под чарочку, расстаться с моими земляками, вместе с которыми чуть не целый месяц сушил на одном солнце портянки.
В привокзальной столовой сдвинули столы, заказали все лучшее, что варилось, жарилось и томилось на кухне: оленье мясо, рыбу, грибы, морошку. Командир преподнес смущенному всеобщим вниманием имениннику фляжку собственной работы, наполненную всклень живой водой. Я подарил спиннинг вместе со всей оснасткой, пожелав юбиляру ловить на него щук и хариусов так же удачливо, как ловил сам на Войкаре и Кокпеле.
За праздничным столом разыскало Максимыча известие, что пока он путешествовал по северам, сын его стал студентом горного института. Это был подарок из подарков!
На восточный манер был произнесен тост:
— Говорят: если хочешь счастья на один день — напейся, на месяц — женись, на год — купи машину… Все эти счастья тобой уже испытаны. Если же хочешь счастья на всю жизнь — будь здоров! Теперешнего богатырского здоровья и желаю тебе на последующие полета!.. Чересседельник помнишь? — сгустил я голос до зычного баса.
— Помню! — раскатистым эхом откликнулся именинник.
— Есть ли еще порох в пороховницах?
— Есть еще, батько, порох в пороховницах!
— Крепка ли еще казацкая сила?
— Еще крепка казацкая сила!
— Не гнутся ли еще казаки?
— Не гнутся казаки, батько!
— Ну, еще раз будь здоров во славу товарищества!
С боевым звоном соединились над столом русские граненые стаканы.
Едва поезд тронулся, Биллс вытащил из запятнанного сажей кухонного рюкзака керогаз, котелок и удалился в туалет кипятить чай. Девушки извлекли из того же рюкзака зеленый прорезиненный мешок с продуктами и принялись накрывать на стол. На станции они тоже времени зря не теряли, и теперь их мешок являл всякие яства щедрее скатерти-самобранки: краснощекие помидоры и белоносые огурцы, ноздреватый сыр и сливочное масло, печенье, конфеты.
Вдруг запахло чадом и керосином, и по проходу тревожно потянуло дымом. Он валил по-за краям туалетной двери, окаймив ее пышной, изукрашенной замысловатыми виньетками серой рамой. Что там стряслось у Биллса? Заглох керогаз и задушил его дымом? Или не смог окно открыть для вентиляции?
Всполошилась немолодая с широким дряблым лицом проводница.
— Ой, батюшки-светы! Опять вагон горит! Да есть ли там кто-нибудь? — в отчаянии дергала она дверную ручку. — Раз закрыта изнутри, значит, кто-то есть. Заперся, поджогец. Немедленно выходи!
Биллс не отзывался. Ахая и охая, проводница побежала в соседний вагон и спустя минуту, еще более перепуганная и запыхавшаяся, воротилась в сопровождении высокого, хмурого, решительного милиционера, неумолимый вид которого не предвещал Биллсу ничего доброго.
— А ну, кто там есть, немедленно отопри! Милиция! — сурово и громогласно потребовал страж порядка.
Дверь наконец отпахнулась. В чадном дыму явился Биллс, растерянный, с красными слезящимися глазами и подпаленными рыжинами на клочковатой бороде. Керогаз не горел, однако с шипением и фырканьем продолжал дымить и чадить. Стекло в окне закоптилось и стало непроницаемым. Так и есть, не смог опустить раму.
Милиционер схватил Биллса за руку, заученным движением завернул ее сильно за спину, отчего парень косо перегнулся, и как опасного преступника-рецидивиста повел его в противоположный конец вагона, где находилась конурка проводников. Проводница выплеснула в унитаз кипяток из котелка, залила холодной водой чадящий керогаз и, захватив вещественные улики в обе руки, побежала следом.
Сидя за столиком, на котором был положен белый листок с единственным словом «Акт», милиционер допрашивал стоявшего на ногах Биллса:
— В прошлом месяце на нашей дороге сгорел вагон. До сих пор не можем найти преступника. Ты, наверно, и поджег его? Признавайся!.. На следующей большой станции высадим тебя и всыплем по первое число — судить будем. А пока предъяви документы и отвечай без утайки: кто ты есть, откуда, с какой целью едешь?
Акцента в речи Биллса добавилось. Пристроившаяся рядом с милиционером проводница озадаченно и удивленно вслушивалась в его голос, а когда милиционер занялся изучением документов, продолжила допрос с неожиданным пристрастным участием:
— Откуда вы свалились на мою шею, соколики?
— Из Риги мы.
— То-то и слышу, что не по-нашему вроде калякаешь. Каким ветром занесло?
— Много всяких ветров. Месяц назад, например, мы были в Воркуте. Оттуда пешком поднялись в горы, а спустились с них в Обь уже на лодках-байдарках. Сейчас домой правим.
— В прошлом месяце по нашей дороге не ездили?
— Нет, тетенька. В прошлом месяце вы по другой дороге ехали.
— Выходит, вы эстонцы?
— Нет, латыши. Эстонцы — это Таллин, а мы Рига.
— Ну, пускай латыши. Никогда я у вас не бывала и не больно разбираюсь, кто и где там живет… Послушай-ка, — обратилась проводница к милиционеру, сурово-отрешенно переписывавшему данные из документов Биллса в свой акт. — Ладно ли мы делаем? Когда сгорел вагон, их и в помине тут не было. А сегодня ущерба нет. Только дым один, и тот уже выветрился. Латыши они. Понимаешь — латыши? Вроде как гости наши. Гости России. А мы с тобой не очень-то гостеприимно обходимся с ними.
Милиционер писать перестал, слушал, не поднимая склоненной над бумагой головы и не показывая глаз.
— Попросили бы кипятку у меня, — участливым голосом продолжала проводница. — Я бы уж расстаралась. Все бы вагоны обошла, либо на станции сбегала б за ним.
Милиционер встал во весь свой саженный рост, молча подал Биллсу документы, разорвал на мелкие клочки акт и строго приказал проводнице:
— Керогаз отдать. Керосин из него вылить. Весь, до последней капли! Кипятком обеспечить. Безобразие, что нет у тебя кипятка. Может, из-за вашей нерасторопности и горят вагоны.
— Во всех общих вагонах нет его, — защищалась женщина.
— Должен быть!
И отстранив с пути Биллса, ушел — суровый, неподкупный, благородный.
— Ну, пронесло грозу, — облегченно улыбнулась Биллсу проводница. — Поди, сердце в пятки ускакало? Забирай свой керогаз. И керосин я не вылью. Сгодится еще где-нибудь под открытым небом. Только в вагоне — ни-ни. Ну, иди к своим. А я сбегаю в купейный, кипяточку вам расстараюсь.
Вернувшегося целым и невредимым, к тому же с злополучным керогазом в руках командира притихшие друзья встретили преданными улыбками и ликующими возгласами. Радости ничуть не поубавило и то обстоятельство, что котелок был пуст.
— Ничего! Обойдемся без чая, всухомятку перекусим, — решительно сказала Зина дочь Айвараса и принялась нарезать хлеб.
Гунта дочь Алдиса намазывала на куски масло, а поверх — ржавый рыбный паштет. Затем куски переходили в руки Иветты, яркощекой, полногрудой и пышной девушки, которую не обстругали ни горы, ни урезанный паек, а если и обстругали самую малость, то постороннему взгляду это было незаметно. Иветта добавляла на куски тоненькие листочки сыра и напоследок увенчивала их сочными кружками красноспелых помидоров.
Пыхтя, принесла полное эмалированное ведро чая улыбающаяся всем своим широким лицом проводница.
— Спасибо, спасибо! — обрушились на нее со всех сторон молодые голоса.
— Можно было только кипяток принести, заварка своя есть, — смущенно бормотал Биллс.
— Вы гости, и я угощаю, — возразила проводница. — Чем богаты, тем и рады. Где-то у меня еще яички имеются, печеньице. Сейчас принесу, ежели, конечно, не поморгуете.
— Ничего не надо! У нас все есть! — дружно отвечали гости. — Садитесь рядом, и угощать будем мы вас.
— Я сыта, только что перехватила, однако не откажусь, попробую, что и как готовят в Эстонии.
— В Латвии.
— Ну да, в Латвии. Тьфу, опять оговорилась.
— К сожалению, латышских блюд нам не из чего приготовить… Уж для вас бы постарались.
— А это что? — указала проводница на многослойный бутерброд.
— Это просто-напросто туристский бутерброд, — со смехом отвечала Гунта.
— Все равно попробую, — проводница надкусила бутерброд, прожевала с чувством и похвалила. — Вкусно-то как! Теперь сама буду готовить такие. Давно уже купила несколько банок рыбного паштета и никак не могу стравить его своим огольцам. А вот так-то — с маслицем, сыром и помидорами слопают за милую душу… Спасибо, угостилась. Налегайте на чаек. Не хватит — еще принесу.
Поезд-тихоход приволок нас в Свердловск на рассвете.
Попрощавшись с проводницей, полусонные, мы выгрузились на желто освещенный фонарями перрон и стали обсуждать: дожидаться ли рижского экспресса на рюкзаках или сдать их в камеру хранения. Чтобы принять окончательное решение, Биллс отправился в справочное бюро уточнить, нет ли каких перемен в расписании. Я тем временем заскочил в стоявшую на перроне телефонную будку и позвонил домой. Трубку там не поднимали. Значит, жена с младшей дочерью на даче. А старшая, знал, на окрепших и подросших крыльях ширяла в эти дни где-то над Карелией.
Воротившись от справочного бюро, Биллс удрученным голосом поведал: поезд на Ригу ходит уже не по летнему расписанию, а по зимнему, то есть через сутки, и сегодня как раз пустой день.
Ну что ж, настал мой черед привечать молодых латышей от имени России.
Благодаря раннему часу они безо всяких хлопот отделались в камере хранения от заспинных рюкзаков и грузоемких тюков с байдарками, которые, оказывается, можно было катить по асфальту на приставных колесиках, как тачки. С собой прихватили один зеленый прорезиненный мешок с продуктами.
Месяц назад квартиру я оставил в разгар ремонта, откровенно говоря, сбежал от него, и перед дверью я предупредил студентов, что их ожидает великий развал и неразбериха. Однако в квартире мы застали полный и свежий порядок: медовым лаком блестели полы, обновленно сияли стены и все было расставлено, развешано, расстелено, словно, предугадывая, меня дожидались тут именно не одного, а с гостями.
Девушки тотчас включились в привычные для себя хлопоты: кто начал готовить ванную, кто встал у плиты, кто, прихватив бидон, побежал в ранний магазин, чтобы купить молока и сварить на нем какао, о котором всю дорогу пели возбуждающую аппетит туристскую песню: «О какао на сгущенном молоке!» Верных своих парней, заодно и меня, вооружив мочалками и мылом, отправили сдирать грязь в коммунальную баню.
Русский пар всем по душе, и крепкогрудые голенастые латыши своим азартом и терпением не только никому не уступили на полке, но и превзошли многих завсегдатаев. Пританцовывая, лиховал по спинам веник. Истерзанное комарами тело наслаждалось его жгучими прикосновениями, и только ради одного этого блаженства стоило травить себя на севере гнусом.
Разрумянившиеся, похорошевшие после ванны, принаряженные — в зеленом мешке несли не только продукты, но и туфельки, косынки, разноцветные нейлоновые парки, — девушки ожидали нас за накрытым столом, в центре которого дымилась шоколадным какао самая большая из имевшихся в хозяйстве кастрюль.
За завтраком я изложил план развлечений: посетить геологический музей — один из самых примечательных в городе, погулять по улицам и поехать обедать на дачу. Так, глядишь, и день промелькнет.
При виде драгоценных и полудрагоценных камней в остекленных витринах музея молодые латыши, особенно девушки, исторгали детски непосредственные, восторженные ахи и охи. На меня посыпались вопросы: что, где, откуда и как используется? Увы, на многие из них ответить я был не в состоянии. Неожиданно на помощь пришел одинокий посетитель, сутуло бродивший по залам музея с заложенными за спину руками. Дикая борода изобличала в нем геолога либо молодого ученого из того благородного роду-племени, что не от мира сего; в пользу последнего предположения склоняли и очки в массивной черной оправе.
— Простите, — не очень уверенно и, пожалуй, даже робко обратился он к компании разноцветных парок и косынок. — По вашему выговору можно заключить — вы из Прибалтики?
— Да, мы из Риги, — как бы пресекая дальнейшие приставания, холодно ответила гордоликая Зина дочь Айвараса.
— В таком случае позвольте быть вашим гидом. Я несколько причастен к выставленным здесь сокровищам. Как-никак — геолог и считаю своим долгом познакомить с ними таких приятных посетителей.
— О, пожалуйста! — обрадовалась распахнутая всей новизне мира несторожкая Гунта.
Заговорив о камнях, дикобраз буквально на глазах преобразился в совершенно другого человека: куда-то вдруг пропала сутулость, плечи расправились, дотоле скучные глаза засверкали за стеклами очков алмазным блеском, а голос налился уверенностью и силой, голос упивался самоцветными названиями камней, вызывая у слушателей трепетный холодок приобщения к чуду.
…Литотека, зеркало скольжения, оспенная руда, яшма сургучная, яшма сажистая, яшма мясная, вишнево-красный родонит-орлец, турмалиновое солнце, молочный опал, смарагд, лазурит, топаз, сапфир, гранат, исландский шпат, горный хрусталь… Черный горный хрусталь — это марион, фиолетовый — аметист, а желтый — цитрион. Хрусталь с волосяными вкраплениями рутила — волосатик, или, еще лучше, — волосы Венеры. Слоистый халцедон — агат, а красный — сердолик. Боже мой, какие слова! Стихи! Музыка! Аккорды, аккорды!
— Скажите, — спросил Биллс, — можно где-нибудь посмотреть здания, отделанные уральским камнем?
— Далеко ходить не надо. Выйдете из музея и сразу упретесь глазами в новое здание цирка. Там есть камни.
Слово «латыши», как «сезам», открывало все двери. Тотчас сами собой распахнулись они перед нами и в цирке. Стлались мраморные полы, тут и там зеркалами вставали простенки, выложенные яшмами, в больших полотнах представлялись они еще краше и заманчивее, чем в отдельных музейных образцах…
Перед калиткой дачи, несколько заробев оттого, что на этот раз привез гостей больше обычного, я круто притормозил и обернулся к следовавшим за мной разноцветным паркам и косынкам.
— Вот что, мальчики и девочки. Чтобы жену не хватил удар при виде такой большой толпы, мы на минутку разделимся на две группы. Конечно, сначала ей следовало бы представить девушек, но они все, как на подбор, раскрасавицы. Поэтому пусть сначала предстанут перед ней мальчики. Это ее успокоит и подготовит, а через минуту заходите и вы, девчата.
На задах огорода, на нежных мотыльковых крылышках, порхала над травой среди деревьев младшая дочь Ксения. Когда я занедужил, она еще в школу не ходила и скрывалась в траве с головою, а нынче уже перешла в шестой класс, и над метелками и головками соцветий не только мелькала ее русоволосая головка, но и золотились на солнце загорелые плечики. Обряженная в джинсы и с подобранными под косынку волосами, жена обирала в малиннике ягоды.
— Здорово, мать! — окликнул я ее. — Принимай гостей и не пугайся.
Когда она вышла из малинника, я представил ей гостей и коротко объяснил, откуда они и кто такие.
— Спешили к обеду. Про аппетиты таежных бродяг рассказывать тебе не надо. Сама бывала на Полярном Урале.
— Очень рада познакомиться, — протянула она руку.
— Но это еще не все, мать. Только цветочки — в порядке, так сказать, психологической подготовки. А ягодки сейчас явятся.
Самообладание не изменило ей и при появлении шестерых красавиц.
— Так даже лучше, — рассмеялась она. — Одна бы долго провозилась с обедом. Надеюсь, вы мне поможете?
— Обязательно, — с готовностью откликнулась Гунта, походившая без шапочки и с распущенными по спине переливчатыми светлыми волосами на сверстницу моей дочери-шестиклассницы; и сама Ксеня, верно, тоже принимала ее за свою сверстницу, ибо только на нее одну и смотрела влюбленными глазами.
— Тогда за дело! — скомандовала жена.
И вот уже кто-то копает на грядке картошку, кто-то моет и счищает с нее молодую нежную кожицу в тазу у колодца, кто-то срывает в парнике бородавчатые огурцы и краснобокие развалистые помидоры, кто-то дергает лук, чеснок, свеклу, морковь, щиплет салат, щавель, петрушку, укроп, кто-то малыми оберемками подтаскивает все это к кухонному столу, где, засучив рукава и вооружившись тяжелым секачом, утвердилась плотная дебелая Иветта; кто-то беремями выше головы таскает дрова и растапливает печку…
С сумкой в руке с нерешительным видом замялась возле меня Ксеня, потом, привстав на цыпочки и дотянувшись до уха, спросила шепотом:
— Можно, чтобы Гунта со мной за хлебом пошла?
— Сейчас спросим ее. Гунта! Ксеня тебя в магазин приглашает.
— О, я польщена!
Со счастливыми лицами, будто давно не видевшиеся подружки, они взялись за руки и тут же хотели удрать, но я остановил их.
— Хлеб у нас вкусный — особой деревенской выпечки. Идет вдвое против городского. Так что сразу берите буханок десять.
— Мы так много хлеба не едим, — ужаснулась Гунта.
— Съедите.
Сварили ведро молодой картошки, из свежей зелени намешали со сметаной двухведерный эмалированный таз салата. В мое отсутствие жена и Ксеня напасли соленых и маринованных грибов, наварили из лесных и садовых ягод варенья, и сейчас все это тоже стояло на столе, накрытом на веранде. Лишь Гунта с Ксеней подкачали, принесли не десять буханок, как я им заказывал, а только половину. Корка еще дышала теплом и пахла дразнящим духом.
— Испугались, что не донесете? — не сдержал я укоризны.
— Я хотела все десять взять, — оправдывалась Ксеня, — но Гунта не велела.
— Ну, Гунта дочь Алдиса, если твоим друзьям хлеба не хватит, тебе несдобровать. Растерзают, узнав, что это ты их подвела.
— Ксеня меня защитит.
Давненько уже за длинным столом на веранде не собиралось столь много народу, давненько за ним не ели и не пили с таким воодушевлением, с каким ели и пили в этот день. Поначалу слышались лишь стук ножей да вилок, потом ручейками зажурчали свежеструйные речи. Когда гости, забывшись, переговаривались на своем языке, сидевший рядом с моей женой Биллс переводил:
— Говорят: чувствуют себя как дома, как у мамы с папой за пазухой. Спорят, у кого вы остановитесь, когда приедете в Ригу. Договорились: по очереди поживете у каждого, а по вечерам за таким же столом будем собираться все вместе.
Пышногрудая Иветта сказала что-то такое, от чего зазвенели от хохота стекла веранды, а у нее самой на широких щеках солнечными зайчиками заиграли смешливые треугольные умилки. Биллс перевел:
— В детстве Иветте бабушка всегда говорила: кто много ест, тот хороший человек.
О, в таком случае за столом собрались не просто хорошие, а сверхзамечательные люди. Как я и предполагал, хлеба не хватило. Узнав, что маху дала Гунта, друзья потянулись руками к ее ушам, но моя дочь заслонила ее собой.
Наутро мы с Ксеней проводили гостей на вокзал.
Мальчишник закончился.
Спасибо, мои земляки, спасибо, юные латыши, спасибо, люди!
Шестеро
Глава первая
Их было шестеро. Николай Коркин — начальник партии, Герман Дичаров — техник, Маша — геолог, Лева — повар, Вениамин — рабочий и, наконец, Александр Григорьевич — проводник и конюх в одном лице.
Они без тропы брели вверх по приполярной уральской речке Малая Тыкотлова.
Была светлая северная ночь. В молочно-белесых сумерках завороженно-тихо спали деревья — ни один листочек не дрогнет, ни одна иголка не упадет, никакая ветка не шевельнется, словно и ветер тоже спал, свернувшись где-то под мохнатой елью на прелой теплой хвое. Спали птицы, спали рыбы. Немотою и недвижностью отличается летняя ночь близ вершины нашей планеты и от вечера, и от раннего утра.
Над речкой неслышно поднимался волокнистый туман, по низинам заползал на берег и жемчужными капельками росы оседал на траве. К середине ночи высокая пойменная трава вся стала сизой от росы.
Шагавший впереди Коркин вымок по грудь, хлопчатобумажные спецовочные штаны тяжело обвисли и шлепали по коленям, в складки сапог набились красновато-рыжие семена мятлицы.
В затылок Коркину храпела лошадь — дышала тепло и влажно. С ее раскачивающейся морды срывались клочья пены и шлепались в мокрую траву.
Лошади умаялись. Гнедой широкогрудый мерин, которого вел в поводу Александр Григорьевич, ложился в каждом болотце. Проводник изо всех сил дергал его за повод и кричал возмущенной скороговоркой:
— Жирать первый, а ходить ленивый! Чужая спина любишь! Я из тебя выбью эту дурь!
Александр Григорьевич — зырянин. У него легонькое, сухое тельце, совершенно потерявшееся в широкой малице; под капюшоном прячется лишенное растительности, изрытое крупными рябинами — с копейку величиной — широкое бабье лицо; если бы не знать, что он недавно оженил последнего из семерых сыновей, его бы и за мужика не принять, а между тем он настоящий мужик., воевал в финскую и Отечественную. Рассказывает: в финскую командование разрешило ему перейти линию фронта, и он четыре месяца охотился в одиночку по заснеженным лесам, расстреливая сидевших на деревьях неприятельских «кукушек».
Вот такой проводник у Коркина. Старик еще скор на ногу и проворен. Да и как быть другим, ежели всю жизнь дышать целительным воздухом, есть свежую медвежатину, заедать нежнейшими хариусами, запивать не вином — холодной родниковой водой.
Мерин лежит в осокистой мочажине, враждебно косится на проводника разноцветными глазами — один фиолетовый, другой желтый, бельмастый, — старый мерин. И когда Александр Григорьевич оказывается совсем близко от его морды, конь вдруг раздвигает дряблые, в белых пигментных пятнах губы и хряскает зубами.
— Ах ты, чужеяд! — вконец выходит из себя проводник. — Закусить вздумал! На вот тебе! На! — и он пинает мерина в бок. Слишком сильно ударить боится, потому что ноги обуты в легкие брезентовые бродни — как бы пальцы не зашибить.
Мерин не шевелится, только после каждого пинка волной прокатывается под кожей ознобная дрожь.
Александр Григорьевич прибегает к крайнему средству. Берет обеими руками мерина за храп и, напружив все свое легонькое тело, вдавливает лошадиную морду в воду, по глаза вдавливает, и сам чуть не по плечи уходит в гнилую болотную жижу. Бока мерина вспучиваются, тяжело ходят, мерин задыхается. Не вынеся муки, с неожиданной легкостью он вскидывает круп и вскакивает сначала на задние, потом на передние ноги. Проводник бегом выводит его на сухое место.
Оглядев и подправив подмоченные вьюки, Александр Григорьевич закидывает полу перешитой из серой солдатской шинели малицы и достает из кармана штанов плоскую деревянную коробочку — табакерку. В коробочке — истолченный в порошок, пропитанный одеколоном табак. Старик прихватывает заволновавшимися пальцами щепотку черного порошка и, закатив глаза и запрокинув голову так, что капюшон сползает на спину, закладывает поочередно в обе ноздри. По рябому широкому лицу пробегает блаженная судорога, глаза счастливо влажнеют, нос набухает красным, и точно выстрелы по спящему лесу прокатываются дуплетом: «Ах-чи! Ах-чи!»
Пока проводник поднимал мерина да заправлялся понюшкой, подтянулся весь караван. В той стороне, откуда шли, пролегла в дымчато-голубой траве глубокая темная тропа.
Поискав глазами, Коркин разглядел Машу. Она стояла неподалеку, прислонившись спиной к пятнистому стволу березы, передыхала, ждала, когда караван двинется дальше. Руки бессильно висели вдоль тела. За черной сеткой накомарника сумрачно блестели измученные глаза. Коркину в них почудились слезы, и у него от жалости заныло тоскливо сердце. Ну чем он может ей помочь? Отобрать рюкзак, взвалить себе на плечи или развьючить одну из лошадей и посадить верхом. Но ведь слезы выдавила из нее совсем не усталость — другое, другое…
Маша упорно смотрела в его сторону, будто звала из-за черной сетки мерцающими глазами — подойди, спроси.
Коркин стиснул зубы, повернулся и пошагал по высокой мокрой траве вперед.
На оконных стеклах лежит ворсистая пыль, дневной свет цедится в квартиру будто сквозь частое сито, мутно и вяло.
На крашеном полу, на полированных шкафах и столах седая домашняя пыль походит на снежную порошу: тронь слегка, дыхни посильнее — и взовьются белые вихри.
В переднем углу свалена зимняя одежда, пахнет от нее нафталином. Кристалликами нафталина, словно зернистой солью, посыпаны и свернуты в трубку ковры.
Бесшумно летает моль. Под потолком в углах висит гамаками паутина, и в ней качаются засохшие останки мух. От стен тянет нежилым холодом.
Так бывает каждой осенью, когда они возвращаются домой.
Тишина, сумрак, мертвые запахи нафталина и пыли оглушают со страшной силой. Подавленные, они с минуту немо стоят посреди комнаты, потом бросаются в кухню за ведрами и тряпками. Скорее, скорее! — спешат, торопятся, словно спасают свою жизнь…
В последний раз Машины нервы не выдержали. Она покачнулась, пала на рюкзак:
— Господи! Как все надоело! Сил моих нет! Надоели сапоги, надоела мошкара! Камни таскать надоело! Хочу быть обыкновенной бабой. Сидеть дома и ждать мужа. Ждать писем от него… Разве это так уж много?
Тонкое Машино лицо, покрытое густым загаром, сразу же распухло от слез и стало некрасивым, старым, верхняя губа завернулась к носу.
Коркин потрясенно молчал, ждал с ужасом, что сейчас Маша назовет то, что было истинной причиной ее слез, что глодало и мучило обоих вот уже много лет. Но она вдруг замолкла, словно сама испугалась тех слов, какие в отчаянии могли сорваться с губ.
…Дня через три Маша привела с собой маленького мальчика.
— Посмотри, Коля, какой мужичок с ноготок пришел к нам в гости, — весело выговаривала она, снимая с мальчика пальтишко и пряча от Коркина смущенный взгляд. — Это удивительно, как он на тебя похож! Присмотрись-ка. Такой же скуластенький. И глаза голубые. И волосы светлые, такие же непослушные, растут только вперед, назад не зачешешь…
Маша исподлобья взглянула на мужа. У Коркина заныло сердце. «Больше надеяться не на что, — безнадежно подумал он. — Если бы оставалась какая-то надежда, не привела бы чужого!»
Маша раздела мальчика и провела в комнату. Ему было года три-четыре, не больше.
— Ну, знакомьтесь, мужчины! — приказала Маша. — Это дядя Коля. А ты представься сам.
Мальчик протянул Коркину ручонку и произнес серьезно:
— Вова.
— Вот какой самостоятельный мужичок с ноготок! — умилилась Маша. — Вы поиграйте без меня. Я обед приготовлю.
Она ушла в кухню. Коркин остался с глазу на глаз с маленьким человечком и никак не мог перебороть в себе горестное смятение.
У мальчика было широкоскулое бледное личико, тонка и шея и комариные ножки. Голубые глаза смотрели диковато, настороженно. Нет, не таким представлял себе Коркин сына — представлял розовощеким бутузом с крепкими ножками и веселыми доверчивыми глазами.
— Дядя Коля, почему ты со мной не играешь? — строго спросил Вова.
Коркин поспешно взял его за руку и повел по комнате.
— Это книги, — принужденно говорил он, показывая на книжные полки. — Это приемник. Нажмешь белую клавишу, и заиграет музыка. Это диван. Если устанешь, можешь отдохнуть на нем.
Коркин машинально называл все, что попадалось на глаза, а сам думал о теплой маленькой ручонке, которую держал в своей ладони. Ручонка шевелилась и трепетала, как птенец, казалось, сожми ее посильнее, и она задохнется. Коркину вдруг захотелось по-настоящему развлечь неожиданного гостя, и он сказал ему:
— Впрочем, все это ерунда: приемник, диван, табуретки. Сейчас я покажу тебе кое-что поинтереснее. — И он распахнул шкаф и стал выкладывать с желтых тесовых полок камни — зеленые, красные, голубые, черные, совсем прозрачные, полосатые…
— Это малахит, — воодушевляясь при виде своих сокровищ, перечислял он. — А это друза хрусталя… Яшма, аметист, опал, лазурит. Вот эта волокнистая прожилка в камне — асбест.
В глазах мальчика зажглись любопытные огоньки. Он опустился на ковер и стал перебирать камни. А Коркин вываливал к его ногам все новые и новые сокровища.
В дверях с подносом в руке появилась Маша, остановилась на пороге и, склонив набок голову, долго смотрела, прищурившись, точно примеривалась, точно собиралась их срисовать.
Потом сели за стол, Вова рядом с Машей, Коркин — напротив.
— А у нас и вино кстати оказалось, — весело произнесла Маша. — И лимонад. Вове мы лимонаду нальем, а сами вина выпьем.
— Не помню, чтоб сегодня праздник был, — усмехнулся Коркин и сразу же пожалел об этом, потому что верхняя губа Маши стала заворачиваться и подниматься к носу — вот-вот хлынет поток, как третьего дня. — Конечно, праздник, — виновато заторопился он. — Каждый гость праздник! А такой славный — вдвойне. Ух и напьемся мы сейчас!
Маша взяла себя в руки, принужденно улыбнулась. Коркин наполнил рюмки, выпили.
Вова отхлебнул лимонаду, сладко сощурился и признался:
— Вкусно.
— Приходи к нам почаще, я тебя всегда буду угощать лимонадом.
— А еще я люблю мороженое.
— И мороженое будет!
Вову они оставили ночевать у себя. Постель ему устроили на диване.
Коркин всю ночь лежал без сна. Прислушивался к дыханию мальчика, боялся поворотиться в постели, боялся пройти в кухню напиться из-под крана.
Маша тоже не спала. Стоило мальчику пошевелиться во сне, как она вскакивала и бежала в длинной ночной сорочке к дивану, поправляла одеяло, сбитую простынь.
В следующую субботу Вова их ждал. Он одиноко стоял посреди холодного каменного вестибюля, заставленного вдоль стен казенными деревянными скамейками, и с напряженным беспокойством смотрел на входную дверь. Потом он признал Машу, и в глазах его вспыхнули одновременно испуг, радость и сомнение. В следующий миг, будто поскользнувшись на льду, неловко взмахнул руками, поворотился и убежал на своих комариных ножках за перегородку, и оттуда донесся его взволнованный шепот: «Пришли, пришли! И мама Маша, и дядя Коля!..» Через минуту он воротился, неся в руках детдомовскую одежонку.
Пока Маша одевала мальчика, Коркин разыскал директора детского дома. Оказывается, он уже знал эту женщину, вернее, много раз встречал ее на улице и запомнил. Не запомнить ее было нельзя — такая она была огромная и к тому же стриглась по-мужски, носила под сарафаном с широкими проймами мужскую нейлоновую рубаху с галстуком, а на ногах — башмаки на низком каблуке сорок непомерного размера.
Директор привыкшим повелевать густым командирским голосом похвалила намерение Коркиных усыновить чужого мальчика и обстоятельно разъяснила, как это делается. Нужно заявление. А к нему — общественные характеристики обоих супругов. Справки о состоянии здоровья. Справки о зарплате. Справку из домоуправления о наличии жилплощади. А то как же? Дело серьезное! А директор, в свою очередь, подготовит Вовины документы. Потом пригласят представителя из загса, и в торжественной обстановке состоится акт усыновления.
Целую неделю Коркин бегал по учреждениям, добывая нужные справки.
Маша носилась по магазинам, притаскивая домой то детскую кроватку, то ночной горшок, то ящик игрушек — дух сына уже царствовал в квартире.
В назначенный день и час с кипой бумаг в руках, с цветами, разодетые, как под венец, стояли они перед директором детского дома, а та, такая большая, такая мужественная в своих башмаках сорок непомерного размера, отводила глаза, глотала воздух и не знала, куда девать огромные руки. Наконец она собралась с духом и призналась досадливо-хриплым голосом, не потерявшим, однако, командирской властности:
— У Вовы есть мать. Мы посылали к ней нарочного, чтобы получить согласие… Не дает. Ее тоже надо понять. Мать родная. Но вы не расстраивайтесь. У нас их много, мальчиков-то, выбирайте любого.
— Нет! — вскрикнула Маша.
— А почему? — обиделась директриса. — У нас есть мальчики и получше Вовы. И в таком же возрасте, в каком вам надо.
— Нет! — прошептала Маша и, вскочив со стула, выбежала из директорского кабинета.
— Может, это к лучшему, — провожая Коркина, успокаивала директор. — Может, у вас еще свой будет. Вы ведь молодые. Поди, только-только за тридцать. Я вот знаю случай…
И опять, как в прошлом году, как в позапрошлом, как все эти десять лет подряд, бредут они одной тропой: Коркин — впереди, Маша — где-то сзади.
Справа в молочном тумане журчит по камням река, изредка всплескивает просыпающаяся рыба, слева громоздятся мокрые от росы замшелые скалы, хлещет по ногам змеистая влажная трава… Проходит еще некоторое время, и за рекой над белым туманным валом меж угольно-черных стволов деревьев прорезается тонкой полоской нежно-зеленая заря. И в ту же секунду подает свой ликующий голос зарянка.
«Ах, как прекрасна была бы жизнь! — вздыхает Коркин. — И за что это несчастье?» А может, сами его выдумали? Существуют десятки, сотни семей, в которых нет детей, — и никто еще не сошел с ума по этой причине. «Откажись от неосуществимого желания — и ты будешь счастлив!» — вспомнил он восточную мудрость. Легко сказать: откажись. А Маша уже смеяться разучилась, и уходит от него все дальше и дальше. Скоро чужими станут друг другу. Что делать?
«Не думать! — приказывает он себе. — Думать о другом!»
Вот он опять в горах. А мог бы сидеть в камералке, писать отчет и разрисовывать детскими разноцветными карандашами «Спартак» геологическую карту.
В послевоенные годы весь Приполярный Урал отснял на крупномасштабную карту профессор Карпов из Ленинграда. А теперь многочисленные партии из Свердловска, Воркуты и Тюмени вели более подробную съемку: стотысячную и пятидесятитысячную.
Карпов в основание Урала положил докембрийские мраморы, выше у него шли кембрийские породы, а еще выше — мраморы ордовикские.
Коркин на своей площади нашел и докембрийские, и ордовикские мраморы, но даже при беглом сопоставлении они, как две капли воды, походили друг на друга. Лабораторный анализ подтвердил догадку Коркина, возникшую еще в горах: это один и тот же мрамор, а именно — ордовикский. Потом пришла из Ленинграда расшифровка собранной фауны: вся она была отнесена к ордовику.
Закипели в голове дерзостные мысли. Выходит, в основании Урала лежат не докембрийские породы, а ордовикские. Выходит, Урал родился не в докембрийский период, а в ордовикский, то есть на десятки миллионов лет позже, чем принято считать. Не такой уж он и дряхлый старик!
Что же это получается — ошибся Карпов?.. Ну а почему бы ему и не ошибиться? Ведь сразу после войны, когда велась съемка, он еще не был профессором, и лет ему было примерно столько же, сколько сейчас Коркину — немногим более тридцати.
В распоряжении Карпова находилось два сотрудника, несколько рабочих, и за три года он отснял весь Приполярный Урал — десятки тысяч квадратных километров.
У Коркина — партия в двадцать человек, и за такое же время он сделал только один планшет в триста квадратных километров.
Так кто же должен быть ближе к истине?
И к кому идти со своими сомнениями? Наверное, все-таки к начальнику экспедиции Степану Мордасову, однокашнику Коркина и, считай, почти приятелю: пятнадцать лет на глазах друг у друга отираются, пять — в институте да десять — на производстве.
Помнит Коркин, как перед самой первой лекцией в институте подтолкнул его под руку Ленька Шималис, насмешник и прорицатель, показал подбородком на солдата с невыгоревшими следами погон на застиранной гимнастерке, маршировавшего строевым шагом взад-вперед по длинному коридору, и изрек громко, так что солдат мог слышать:
— А вот этот, помяни меня, немедленно факультетским начальством станет. Дня через три, помяни меня, секретарем комсомольского бюро выберем.
Было, было в первокурснике Мордасове что-то особенное, поднимавшее его над толпой наивных желторотых птенцов, — застегнут на все пуговицы, туго перетянут ремнем с солнечно-медной пряжкой, вышагивает, словно аршин проглотил, коричневые глаза навыкате, горят жарким огнем, неколебимая уверенность чудится и в пламенной рыжине на квадратной голове.
Помянул через несколько дней Коркин прорицателя Леньку Шималиса, и в последующие годы не раз вспоминал: выбрали-таки сержанта Мордасова в факультетское бюро, правда, не в комсомольское, а профсоюзное, но все равно — начальство И потом, куда бы ни посылали Степана — на субботник ли по озеленению, на уборку урожая в колхоз, на практику или, наконец, на работу — всюду его немедленно назначали командиром, на худой конец — старшим в паре, точно какое клеймо у него на лбу от рождения имелось, свидетельствовавшее о его принадлежности к руководящей элите. Однако надо отдать должное Степану: руководить он не только любил, но и умел. С тех пор как он возглавил экспедицию, она из года в год забирала все знамена, какие только возможно было: управления, главка, министерства, обкома профсоюза… Планы выполнялись и перевыполнялись. По всем показателям выкраивалась немыслимая экономия — по зарплате, на горючем, в собственном и наемном транспорте, на строительстве, на бурении и т. д. Премии сотрудникам сыпались каждый квартал; самую большую, разумеется, получал начальник экспедиции.
Пообмяк, пооблинял за пятнадцать лет Степан. Аршин выплюнул, выправку военную порастерял: двубортный пиджак в полоску едва сходится на расплывшейся груди. Пожар на голове подзасыпало серым пеплом. Погас и жаркий блеск в больших глазах, однако в глубине зрачков нет-нет да и сверкнет некая искорка — будто волчий огонек из мрака, и вздрогнет тогда собеседник, подумает про себя: не дай бог раздуть эту искорку в пламень — все окрест испепелит.
Начальник экспедиции, склонив набок квадратную голову, с благожелательным вниманием выслушал Коркина — все-таки однокашники, приятели почти, почмокал толстыми губами и ласково заметил:
— Фантазер ты, Колька, выдумщик! Вот ты кто!
— Фантазии тут и не ночевало, — грубовато возразил Коркин. — А выложил я тебе одни факты. Голые факты.
— Довольно странно получается: на карповской площади еще восемь партий работает и ни одна из них подобных фактов не добыла.
— Как сказать…
— Ну и чего же ты хочешь?
— Пока не рассеются сомнения, очень трудно составлять карту по карповской периодизации.
— Ага, понятно! Новую периодизацию предлагаешь? Хочешь свою фамилию в историю геологии вписать? А не кажется ли, что доказательств-то у тебя с гулькин нос?
— Не кажется, а именно так и есть. Поэтому и заговорил с тобой… Перенеси на год сдачу моего отчета. Христом-богом молю. Еще раз съезжу в горы и постараюсь привезти все, что нужно для доказательства моей гипотезы, или хотя бы себе докажу, что не прав.
— Ежели за три лета не собрал, за одно нечего и мечтать.
— Три лета я работал вслепую. А сейчас появилась идея. Только сейчас и начинается настоящая наука.
— У нас черная работа, а не наука.
— Наука! Ты сам знаешь: любая карта — это наука.
— Ну, пускай. А как прикажешь остальным партиям составлять карты? По карповской периодизации или по твоей?
— Сообщи им мои данные, и пусть думают, сопоставляют. У них время есть — по году, по два еще осталось работать на планшетах.
— Так… Еще один вопросик. Знаешь ли ты, кто теперь Карпов?
— Как не знать. Профессор. Главный редактор картографического комитета.
— И ты полагаешь, он пропустит твои карты?
— А куда денется, если они будут обоснованы.
— Не пропустит. Голову на отсечение — не пойдет против себя. Против всей своей жизни. И наша работа полетит в брак. Сотни тысяч рублей — в трубу! Нет, не выйдет.
— За истину платят и дороже.
— Кому нужна твоя истина?
— И это говоришь ты, образованный геолог?
— На арапа берешь? Это ты брось! — Степан сжал на столе в кулак руку, и во мраке его выпуклых глаз сверкнули две волчьи искорки. — Не из пугливых! И не делай, пожалуйста, из меня консерватора. Я, может, лучше твоего понимаю, что означает твоя идея. Окажись ты прав, надо менять всю стратегию поисков на Урале и в Зауралье. Но как доказать, что ты прав? Нужна партия, нужно отодвинуть сроки сдачи отчета… Хорошо, я согласен. Пойдем к бухгалтеру. Послушаем, что он скажет: «И не помышляйте! Коркинская партия свои деньги съела. Других раздевать не имею права. Только через мой труп». А теперь пойдем к начальнику управления. «У меня нефть, газ, а вы с такой ерундой. Что, денег?! А я, наоборот, собирался еще со съемщиков снять малую толику на бурение».
— Выходит, стена?
— Стена!
— Не пробить?
— Не пробить. А перелезть можно.
— Как? Посоветуй.
— Напиши статью в геологический журнал. Может, кто и поддержит тебя. Чем черт не шутит? И честолюбие твое будет удовлетворено.
«Можно было заранее предвидеть: воспротивится Мордасов, — размышлял Коркин, выйдя из кабинета начальника. — Ведь за поиск истины не дают премий… А внеплановый выезд Коркина в поле пусть даже с небольшой партией грозил съесть всю экономию в экспедиции. Разве мог допустить такое начальник?»
Осени Коркина подобная идея несколько лет назад, он ломился бы во все двери — и к главбуху, и к начальнику управления! В Москву в главк съездил бы. И, черт побери, добился бы в конце концов своего! А нынче с ним что-то случилось. Тоска жены перелилась и в его душу, пригасила в ней огонь, и уже ничего не хотелось ему от жизни — ни открытий, ни славы. «А зачем? Для кого?» Коркин презирал свое состояние, но ничего не мог с собой поделать. И после Мордасова он не побежал ни к главбуху, ни к начальнику управления, а тихо поплелся в камералку, сел за стол и стал продолжать писать отчет, в котором, правда, упорно оспаривал идеи профессора Карпова.
В конце рабочего дня, перед самым звонком, зашел в камералку уже в шляпе и пальто Мордасов, остановился у порога и, посмеиваясь, сообщил:
— Пришла телеграмма из Свердловска. На будущей неделе там собирается координационное совещание по геологической съемке Урала. Вот и поезжай. Выступи со своей идеей. Полно будет профессоров. Вправят тебе мозги.
И по насмешливому тону Мордасова, и по его улыбочке чувствовалось: идею Коркина он считает зряшной, безнадежной, заранее убежден в провале, но, чтобы не мешать однокашнику, не выглядеть консерватором, готов пойти на жертву — разориться на командировочные.
…Слово ему дали на второй день совещания. Слушали с вниманием, заинтересованно. Это раззадорило Коркина, и закончил он свою речь так:
— Считайте все, что я сказал, моим особым мнением. Прошу записать в резолюцию. Вот оно! — Коркин потряс листками и положил их на стол президиума.
Как и предсказывал Степан, ученые мужи стали вправлять ему мозги. Каждый выходящий на трибуну считал своим долгом коснуться выступления Коркина. Одни мягко иронизировали над легкомыслием молодежи, пытающейся с наскока решать сложные научные проблемы, другие, не вдаваясь в дипломатию, называли идею Коркина бредовой.
Коркин уже хотел плюнуть на все и, не дожидаясь конца совещания, бежать с поля брани, как вдруг получил неожиданную поддержку, да не от кого-нибудь, а от самого профессора Карпова.
На трибуну взошел еще крепкий старик с одутловатым лицом и голо поблескивающей куполообразной головой. И живот у него выпирал из-под мешковатого немодного пиджака тоже куполом. Во всем облике профессора было что-то простое, мужичье. Такой мог обойти пешком не только Урал, но и всю землю.
— Мои коллеги слишком поспешно предали анафеме идею Коркина, — по-мужичьи окая, медлительно заговорил Карпов. — Однако вполне допустимо, что в свое время мог ошибиться и я. И это очень хорошо, что со мной спорят. Без споров наука стоит на месте. Без споров спит наша мысль. Коркин сам признался, что у него пока мало доказательств. Что ж, дадим ему возможность поискать их. Это в наших силах. Но смотрите, молодой человек, я сложа руки тоже сидеть не буду. Сам приеду на место. Ходок из меня уже никудышный. Но сяду верхом на лошадку и прокачусь по знакомым маршрутам. Думаете — старик, так и защититься не сможет. Защищусь, да еще как!
И вот Коркин с партией снова в горах. Партия маленькая, вместе с ним всего шесть человек, но во всяком случае — не один.
Месяц они хорошо поработали на восточном склоне Урала. Но самая главная работа еще впереди — на западном склоне, на реках Кожим и Каталомба. По Кожимским и Каталомбским разрезам снимал Карпов свою карту. Это его главные козыри. И Коркин должен был побить именно их или сдаться.
Они шли весь день и всю ночь. Шли почти без остановок, чтобы успеть наутро выйти к горе Ялпинг-Кер близ перевала. Еще с весны на базе экспедиции в Саранпауле оставлена заявка на вертолет; в ней указано место посадки — подножие горы Ялпинг-Кер и дни, в которые его будут ожидать, — 25–26 июля.
Вертолет привезет продукты и перебросит партию через Уральский хребет на Кожим.
Герман Дичаров, согнувшись, тащит на спине немыслимо тяжелый, будто камнями набитый, рюкзак.
У Германа смуглое лицо, тонкий с горбинкой нос и отросшая в горах черная курчавая бородка. В длинной клетчатой ковбойке с краснинкой он походит на продувного цыгана. Ему бы еще войлочную шляпу, трубку да бархатный жилет — совсем бы от цыгана не отличить. Впрочем, жилет на меховой подкладке у него имеется — подарок невесты. Затолкан где-то в спальнике. А в рюкзаке никаких тряпок. В помине нет и камней. Объемистый рюкзак с распущенной шнуровкой по бокам набит одними книжками.
Внешность Германа удивительно точно соответствовала его плутовскому характеру: не карманы, не кошельки с мелочью, а домашние библиотеки приходилось постоянно оберегать от него. Частную собственность на книги он совершенно не признавал: понравилась которая — в карман или за пазуху, или еще подальше — в штанину, и был таков!
Друзья, приглашая его в гости, запирали на ключ книжные шкафы. У Коркиных шкафов не было, книги стояли на тесовых полках, поэтому, когда заявлялся Герман, Маша грозила ему пальцем и умоляюще просила:
— Только, пожалуйста, не таскай без спросу, а?
— За кого ты меня принимаешь? — с ангельской улыбкой разводил руками Герман. — И не посмотрю на твои книжки, своих хватает.
Выпроваживая поздно вечером засидевшегося гостя, Маша недоверчиво ощупывала глазами его худощавую фигуру и, не углядев ничего подозрительного, хвалила извиняющимся голосом:
— Сегодня ты паинька, Гера. Всегда будь таким.
Маше ни разу не удавалось уличить Германа, но когда они выбирались в тайгу и младший техник раскрывал заветный рюкзак, она ахала от удивления — почти все книжки были знакомые, а многие даже надписаны ее рукой: зеленые тома Пришвина, голубые — Аксакова, белые — Короленко, красные — Лескова. Маша качала головой и возмущенно восклицала:
— Ох, плут, ох, цыган!
Однако возмущение ее не было вполне искренним, в глубине души она даже благодарна была Герману за то, что притащил эти книжки в тайгу. Дома прочитать недосуг — хозяйственные заботы одолевают. А здесь свободного времени поболе — и вечерами после маршрутов, и в ненастные дни.
Книги читали все. Приползали на очередную стоянку, и рюкзак Германа сразу опадал: растаскивали ношу по палаткам. Готовились сниматься с места, и книжки одна за другой возвращались обратно.
Герман орал во все горло, не особенно стесняясь в выражениях:
— Задрыги кривоногие! Черти ленивые! Побойтесь бога! Хоть по одной затолкните в свое барахло. Что я — ишак, за всех таскать?
В этом сезоне лошадей мало, грузу на каждой — сверх нормы, поэтому Коркин распорядился нести личные рюкзаки на себе.
Книги острыми углами отбили всю спину. Герман болезненно морщится и ворчит в цыганисто-черную бороду:
— Почитают они у меня! Как бы не так! Ни странички не получат!
Лева бредет в хвосте каравана, в обязанность ему вменено следить за тем, чтобы не растряслись по дороге вьюки. Бывает, зацепится вьюк за дерево, и в один миг все содержимое в траве или в гнилом болоте. Проморгаешь — ищи ветра в поле, гадай, где растерял добро.
Повару тридцать лет. На нем невылинявший черный спецовочный костюм и новенькие, не успевшие порыжеть кирзовые сапоги. Светлая легкая кепка сбита на затылок, и из-под нее торчит пышный русоволосый чуб. Худощавое лицо чисто выбрито. В уголке рта поблескивает золотая фикса.
И в опрятной внешности повара, и в его развинченной походке есть что-то праздное, легкое, независимое, будто не по тайге идет, а прогуливается по городскому бульвару. Он один не несет рюкзака — вопреки запрету начальника пристроил на лошадь.
Лева вдруг останавливается, крутит головой, прислушивается. Слева, из темного елового леса, доносится жалобное повизгивание. Повар щелкает ивовым прутом по голенищу и зовет приветливым голосом:
— Захар, Захар! Сюда!
Захар — щенок. Совсем еще молоденький — ни слуха, ни нюха. Сбился с проторенной тропы и уже ничего не видит и не слышит, верещит от страха и отчаяния.
— Ко мне, Захар! — кричит Лева и звонко бьет прутом по сапогу.
Захар наконец выбирается из высокой травы. Дымчатая шерстка на нем вымокла, прилипла к тельцу, и оттого щенок кажется худым и облезлым, как ободранный кролик.
Лева, прибавив шагу, догоняет лошадей. Задняя с упруго поднятым хвостом остановилась в кустах, и в брюхе ее зловеще перекатываются громы, исходя наружу газами.
Перекосив лицо, Лева матерится и кричит вперед:
— Начальник! Убери меня с этой проклятой должности! Угорел совсем! Голову уже обносит — вот-вот упаду!
Начальник или не слышит, или не считает нужным ответить; на шутку реагирует робким смешком один Вениамин, вынырнувший откуда-то из кустов.
Вениамин на целую голову длиннее Левы. Энцефалитный костюм, отличающийся от обычного тем, что весь на резинках да еще с капюшоном, сидит на парне, как на переростке: штаны туго обтягивают острые коленки, готовы вот-вот лопнуть, а рукава едва прикрывают угловатые локти.
Несмотря на утомительный многочасовой переход, сил у Вениамина еще предостаточно. Он то и дело сворачивает с тропы и, высоко вскидывая длинные ноги, бежит к реке. Там непролазными душными куртинами растет смородина. Наломав охапку рясных веток, он догоняет караван и со стеснительной улыбкой угощает Леву. Эта улыбка прочно отпечаталась на вытянутом лошадином лице парня; ею он как бы заранее признает всех людей умнее, значительнее себя и выражает готовность подчиняться кому угодно.
Вениамин и Лева из той довольно еще многочисленной категории рабочих, которые зовутся сезонниками, бичами. Ранней весной они, точно перелетные птицы, со всех концов страны слетаются в Тюмень, запруживают коридоры геологического управления. Кого тут только нет! И шахтер из Донбасса, которому врачи насоветовали прочистить таежным воздухом легкие от угольной пыли, и алиментщик из-под Ленинграда, радующийся тому, что не скоро теперь разыщет его исполнительный лист, и алкоголик, уходящий в леса, точно в скит, спасать свою грешную душу, и будущий десятиклассник, захотевший раньше времени узнать, почем пуд соли, и положительный семьянин, мечтающий о собственном домике, для покупки или строительства которого нужен некий капиталец, и заурядные летуны — перекати-поле — любители длинного рубля.
На север летят перелетные птицы. На север плывут весной теплоходы. По Туре, Тоболу, Иртышу, Оби. У Березова, известного меншиковской ссылкой, один из теплоходов поворачивает на запад, в Сосьву, и еще через сутки пути пристает на реке Ляпин к поселку Саранпауль.
Всю дорогу за окнами кают зеленеют однообразные низкие берега, на палубах гремит музыка — развеселые песенки про любовь и туманы, причем уже на второй день песенки, как и берега, начинают повторяться, набивают оскомину; а в каютах — мягкие диваны, зазывные столики, сверкающие умывальники с горячей и холодной водой, все располагает к праздности и веселью.
На всем теплоходе один Вениамин не берет в рот ни капли хмельного, упрятал деньги за подкладку куцего Пиджачишка и вытаскивает по рублику только на еду — не от скупости жмется парень, не от жадности, не потому, что Плюшкин, а потому, что боится остаться без копейки; как перст один Веня на всем белом свете, ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер, ни родни маломальской, дальней; вырос в детдоме и, как многие детдомовские ребятишки, родства не помнящие, фамилию получил Непомнящий. Постоянной бережливостью страхует себя Вениамин от всевозможных превратностей судьбы.
…Чем бесшабашнее веселье на теплоходе, тем сильнее оглушает берег. Не отошедшая после зимних стуж земля гремит под ногами, как чугунная. От ветхих домов с провалившимися крышами пахнет тленом. Поселок, некогда стоявший на бойком тракте, по которому на тройках с малиновым звоном вывозили в столицы пушнину со всей Сибири, теперь затих, и несколько новых домов — контора, мастерские, склады, магазин, столовая — не в состоянии пока возродить его к жизни. Поселок ждет открытий.
На западе над черными лесами висят горы, на них еще лежит снег, и днем они кажутся легкими и прозрачными, как облака, а вечером, когда обливаются закатным заревом, горят жарко, точно груды раскаленных углей, но днем и вечером от них одинаково тянет холодом, и недавние пассажиры стараются не смотреть на горы, потому что не сегодня-завтра сами там будут…
Вымокший, со сбитыми лапами Захар прыгает вокруг хозяина, скулит, просится на руки. Хозяин на жалобы щенка не обращает никакого внимания. Он думает о своем. Думает о том, что нынче ему крайне не повезло. Партия крохотная. Продуктов кот наплакал. Не разбежишься шибко. И с женщинами бедно. Одна геологиня. Он бы не прочь и с ней побаловаться, но такую не возьмешь голыми руками. Да и муж под боком. Зачем только жены шатаются вместе с мужьями. Тоска! Как тут не вспомнить прошлое лето.
Прошлым летом Лева работал в топографической партии в Саянах. В партии были одни девушки, если не считать самого Леву да конюха хакаса Захара. Этот Захар в счет не шел. Есть да спать только и умел, на другое ума не хватало. Да и страшноват был: глаза-щелочки, нос сплюснут, зубы выбиты. Рядом с ним Лева выглядел лучше некуда — да еще золотая фикса во рту!
В горах было много змей. Начальница предупредила: перед тем как ложиться спать, тщательно проверять спальные мешки.
Вечером Лева намочил веревку и засунул в Захаров спальник. Девчата сидели вокруг костра, когда из мужской палатки донесся истошный вопль, а секундой позже, крутясь волчком, выскочил на одной ноге Захар — откуда только и прыть взялась в сонливом, вялом хакасе.
— Ай-ай-ай! — благим матом причитал он. — Кусил!! Ай-ай-ай! Везите к врачу!
Девчата тоже всполошились, но Лева шепнул им про мокрую веревку, и они, глядя на прыгающего Захара, так и покатились со смеху. А Захар совсем обезумел. Пришлось и ему рассказать про веревку. Куда там — не поверил!
— Какой веревка! Какой веревка! Настоящий змея!! Зубы чувствовал! Жало кусил! Везите к врачу!
Долго Леве не забыть Захара — вот и щенка в честь его назвал.
А с девчатами вытворял еще и не такое. Заспятся утром — подгонит к их палатке лошадь, привяжет веревкой к седлу спальные мешки и выволакивает на середину поляны. Девчата визжат, выпрыгивают из мешков в одних рубашонках. Загляденье! Потеха на весь лес! Леве все с рук сходит, все прощается — потому как единственный настоящий мужчина… И в еде — хоть и девки — ни черта не понимали. Что ни сварит, то и сойдет. Еще нахваливают, без спасибо от костра не отойдут… Умора! Все лето чагой поил вместо чая, а чай в пачках потом в городе на шампанское променял. Житуха была! Не то что теперь. Теперь, того и гляди, сам с голоду подохнешь.
А Вениамин задумывает-загадывает о том, как осенью, по окончании сезона, поедет он в Брянскую область, будет ходить из деревни в деревню, от дома к дому, будет во все глаза вглядываться в лица прохожих. Одно только и известно Вене из собственной родословной: родился в последний год войны на Брянщине. А вдруг найдет отца или мать или брата с сестрой — счастливее Вени человека не будет на свете!
Кроме рюкзака каждый несет на себе еще всю свою жизнь: у одного эта ноша легче, у другого — тяжелее…
— Эге-ге-ге! Начальник! — кричит Лева. — Иди сюда! С женой плохо!
Коркин вздрагивает, бросает повод и, обегая лошадей, идущих по тропе, спешит в конец каравана.
Маша, перегнувшись пополам, держится левой рукой за корявую березку, а правой утирает платком рот. Белопанамный накомарник валяется в траве. Смятые волосы упали на щеки, открыв по-девичьи тонкую незагорелую шею.
Поодаль со смущенным видом переминаются Вениамин и Лева.
— Почти сутки тащимся, — ворчит Лева. — Тут и мужика стошнит, не то что бабу.
— Устала? — беря за локоть жену, спрашивает Коркин.
Маша отрицательно мотает опущенной головой.
— Я велю с одной лошади сбросить вьюки. Поедешь верхом.
— Не надо. Сама дойду.
— Что хоть с тобой?
— Ничего страшного. Может, ягод зеленых пожевала — оттого…
Маша подняла голову, лицо было бледным и мокрым от слез, но блестящие мокрые глаза, как ни странно, светились радостью.
Коркин недоуменно пожал плечами. Пробормотал:
— Может, все-таки высвободить лошадь? Александр потом съездит за вьюками.
— Не надо, — повторила Маша. — Скоро ведь придем на место?
— Скоро, — согласился Коркин.
Речка, вдоль которой они шли, давно превратилась в узенький ручеек. Остались позади большие деревья. Вокруг росли высокогорные приземистые елки, сосенки, лиственницы, извивистые, с черными стволами, будто обугленные березы. Туман рассеялся. Рассвело. С берез на лиственницы, с лиственниц на березы перепархивали стаями чечетки, щебетали, звенели, чокали, приветствуя новый день.
Маша подобрала с земли накомарник, подняв обе руки, надела его на голову, расправила марлевую сетку и ступила на тропу.
Глава вторая
— Пришли! — сказал Коркин и, высвободив из лямок натруженные плечи, сбросил на землю рюкзак.
Они остановились на безлесном плато. Справа в седых зарослях тальника, в сырой уремине протекал ручей, а метрах в пятистах по другую руку вздымался Ялпинг-Кер Ближе к подножию склон горы был завален огромными ребристыми камнями — корумником. На голой далекой вершине, как сторожевые башни с зубцами, чернели два останца. Гора была так массивна и так высока, что, приблизившись к ней, и люди, и лошади стали как бы вдвое меньше.
На плато необрубленными сучковатыми деревьями — сосной, лиственницей, березой огорожен олений загон — кораль; деревья в изгороди высохли, покраснели, далеко видны на фоне сочной альпийской зелени.
Судя по всему, последний раз оленеводы стояли здесь совсем недавно: трава вокруг вытолчена, в кустах валяются дочиста обглоданные, не успевшие еще вылинять розовые кости, а в самом центре плато возвышается остов чума-времянки — корявые березовые жерди, поставленные конусом и связанные сверху сыромятным ремнем.
— Вот и посадочная площадка готова, — сказал Коркин, оглядываясь, — надо только жерди уронить да натаскать побольше свежей хвои для сигнального костра. Давай, Веня, займись-ка этим.
По блеклому небу ползли рваные, как ветошь, унылые облака, взошедшее солнце пряталось где-то за горой, и было совершенно непонятно, какой наступает день — светлый, ясный или пасмурный, ненастный, то есть летный или нелетный.
В партии каждый знал свои обязанности, и вот уже Александр Григорьевич и Герман развьючивают лошадей (проводник плечом подпирает вьюки, а Герман снимает их с седельных крючков и сбрасывает на землю), повар оттаскивает в сторону мешки с посудой, а Вениамин вооружается топором.
Маша вытащила из рюкзака полиэтиленовый мешок с умывальными принадлежностями, перекинула полотенце через плечо и направилась к ручью. «Сказать или не сказать? — в смятении думала она, осторожно раздвигая мокрые кусты. — Как он воспримет новость? Лет пять уже и не заговариваем на эту тему…»
В прошлый раз, когда она привела домой чужого мальчика, он так перепугался — руки задрожали, кровь от лица отхлынула, — страшно и больно было на него смотреть. Она не хочет, чтобы ей снова было так же больно. «Господи! — упрекнула себя Маша. — Да разве можно не доверять Кольке? Кому же тогда и довериться? Вспомни свою первую встречу с ним, вспомни!»
…Была какая-то студенческая вечеринка. Незнакомые еще, они сидели друг против друга. Машу чем-то поразило его лицо, скуластое, грубоватое, но необыкновенно правдивое и серьезное. Все вокруг смеялись над какой-то остротой, один он не смеялся — не хотел притворяться. Почувствовав на себе чужой настойчивый взгляд, он поднял глаза, и она не отвела свои в сторону, не потупила, а все глядела и глядела на него, упрямо, смело, вызывающе. Уже становилось неловко. Он бог знает что мог подумать… «Вот ему бы я могла рассказать все про себя, — думала она. — Все, о чем не говорила даже самым близким подругам, о чем только раз в жизни и сказала за обитой оцинкованным железом дверью, когда поступала в институт… Сейчас все вылезут из-за стола, — не спуская с Коркина глаз, твердила она, как заклинание, — и ты подойдешь ко мне, подойдешь, подойдешь!..»
Вода в ручье была такой холодной, что пальцы свело судорогой.
За спиной прошумело в кустах, хрустнула сухая ветка, и на берег спустился Коркин. На ходу стягивая через голову свитер, он забрел на середину ручья. Тело у него было не по-летнему белое и чистое, загар совершенно не приставал к нему. При движении рук эластично растягивались на груди упругие мускулы. От ледяной воды, как от ожогов, вспыхивали на коже красные пятна.
Маша вспомнила, как однажды — чуть ли не в первый месяц их совместной жизни — Коркин привел ее в институтский спортзал. Он должен был бороться с осетином. Осетин с ног до головы зарос черными густыми волосами, и белотелый Коркин рядом с ним казался болезненно хрупким и слабым. Волосатый соперник свирепо хватал его за плечи и шею, и на них набухали вот такие же красные, словно ожоги, пятна. Машу затрясло от ужаса, ей казалось, что кожа на шее не выдержит, лопнет, и брызнет кровь. К счастью, уже на второй минуте Коркин положил осетина на обе лопатки, и Маша больше никогда не ходила смотреть, как он борется.
Маша потопталась на берегу ручья и неожиданно для самой себя сказала:
— Коль, а у нас ребенок будет.
Коркин медленно распрямился. По его груди стекала за штаны мыльная вода. Сощуренные глаза залепило пузырившейся пеной. Еле слышно он прошептал:
— Что ты такое сказала?
— А то, что слышал, — рассмеялась Маша — до того забавный вид был у мужа.
— Повтори, что ты сказала! — вдруг дико заорал Коркин. — Повтори, повтори!
— Он уже большой. Месяца три, четвертый, — испуганно пролепетала Маша.
Коркин, снова согнувшись над потоком, стал яростно плескать себе на грудь и в лицо, потом, прозревший, мокрый, выскочил на берег, схватил Машу за плечи и что есть мочи принялся трясти ее:
— Нет, ты меня разыгрываешь!
— Правда, Коль, честное слово.
— Поклянись.
— Не умею.
— Скажи: ей-бо!
— Ей-бо!
— А что же ты раньше мне ничего не говорила?
— Боялась ошибиться.
— Может, и сейчас ошибаешься? — насторожился Коркин.
— Нет, здесь он… Вон и молния на брюках уже не сходится.
— В дороге тебя по этой причине и тошнило?
— Ага.
— Черт побери! Ах, черт побери! Что же нам делать? — отпустив Машу, бестолково топтался вокруг нее муж.
— Да ничего не надо делать!
— Как не надо? Надо что-то делать!
— Ну, тогда хоть поцелуй меня.
Ткнувшись носом в ее щеку, Коркин таинственно спросил:
— Кто там? Парень или девка?
— Откуда мне знать? — улыбнулась Маша.
— Конечно, парень! Разве девчонке под силу такое — сухари, горы, палатки, переходы многодневные? Ей подавай пирожное, пуховую постельку… Помнишь английскую песенку? «Из чего только сделаны девочки? — Из конфет и пирожных, из сластей всевозможных — вот из этого сделаны девочки. Из чего только сделаны мальчики? — Из камней и лягушек, всевозможных ракушек — вот из этого сделаны мальчики». Нет, парень, парень у нас! Но, хоть и парень, хоть из камней и ракушек, вам с ним все равно надо выбираться домой. Сегодня и улетите.
— Не хочу я никуда улетать. Хочу быть с тобой.
— Надо, Машенька, надо. Больше рисковать мы не имеем права.
— С тоски дома помру.
— Не умрешь — пеленки-распашонки будешь шить. Или поезжай к моим.
— Ребятам только ничего не говори.
— С какой стати?..
Они продрались сквозь прибрежные тальники и вышли на плато.
По траве тянул утренний ветерок. Облака в небе растаяли, разбежались. Из-за восточного склона Ялпинг-Кера, как из-за занавеса, выкатилось огромное игластое солнце, и весь склон засиял, запереливался, будто сложенный из драгоценных камней, в то время как другой, западный, находящийся в тени, был темен и мрачен. Светло-зеленое небо поднялось над горой в беспредельную высь, и там черной точкой медленно парил орел.
В кустах на все лады щелкали и свистели чечетки. В высохшей траве знойно звенели кузнечики, прыскали из-под ног в разные стороны. Прогретые камни запахли серой.
Еще час назад казалось, что сил остается только-только дойти до места и упасть: Но вот дошли, и никто не упал, и каждый еще что-то делал, не вынеживался.
Александр Григорьевич, свернув калачиком ноги, устроился на подседельном войлоке и чинил конскую сбрую; в зубах у него тонко чернела просмоленная дратва. Герман рылся в рюкзаке с книгами. Вениамин посреди лагеря развел костер и теперь с двух сторон огня вбивал в землю рогатины. Повар Лева, скрестив на груди руки, с поощрительной улыбкой следил за его работой. Впрочем, это уже была Левина работа, но за миску добавки он позволял ее выполнять вечно голодному Вениамину.
Кони тоже будто забыли о долгой дороге и, гремя боталами, резво прыгали на спутанных ногах к ручью на водопой.
И Захар метался в траве, уже не боясь заблудиться. Его волновали непривычные запахи. Они были близко-близко. Вот сейчас он набежит на них, наскочит… Из-под самого носа вдруг с шумом выбрызнул — поднялся выводок куропаток и, громко хлопая пестрыми крыльями, полетел к горе. Захар с перепугу взвизгнул, перевернулся через голову и во все лопатки побежал в противоположную сторону, к лагерю.
Коркин рассмеялся, глядя на щенка. После умывания, взбодренный неожиданной новостью, он тоже чувствовал себя свежим и сильным — хоть еще один переход давай.
Вениамин вбил рогатины и положил на них сырую березовую палку.
— Хорош! — одобрил Лева. — Завтрак заробил.
Увидев Коркина, Вениамин виновато заулыбался своим длинным лицом и сказал:
— Сейчас побегу за хвоей.
— Ничего, успеется. Иди сначала умойся.
— Николай Петрович, что будем варить? — спросил повар. — Первое или второе?
— И первое, и второе. У нас еще как будто и компот оставался?
— Есть на одно варево.
— Свари и компот.
— А ежели вертолет не прилетит? Что тогда жевать будем?
— Прилетит, Левушка. Погодка-то, смотри, лучше некуда. Ни единого облачка. Самая что ни на есть летная.
— Оптимист ты, начальник. Но мое дело маленькое. Приказано — сделано.
Маша расстелила на траве спальник и повесила над ним на колышках марлевый полог, весь серый и в красных искорках от раздавленных комаров. Перед тем как залезть под полог, она окликнула Германа:
— Дай что-нибудь почитать.
— Не дам! — отрезал Герман.
— Почему?
— А потому… Любишь кататься, люби и саночки возить.
— Ну, Герка, это совсем бессовестно. В рюкзаке половина моих книжек.
— Ни одной твоей! В тайге книжки принадлежат тому, кто их таскает на своем горбу.
— Ладно, Гера, согласна. Только, пожалуйста, дай мне что-нибудь. Честное слово, теперь я понесу сама.
— Вот это другой разговор. Тогда я тебе дам самую толстую.
— А какая у тебя самая толстая?
— Врем.
— Ну что ж, давай.
Герман запустил по плечо руку в рюкзак, вытащил растрепанный толстый том без передней обложки и передал его Маше.
Не от ручья, а откуда-то совсем с другой стороны воротился к костру Вениамин. Однако волосы у него были влажные, свисали тоненькими косичками по вискам, пятнами промокла энцефалитка на спине, ясно: где-то выкупался. Он всегда купался на отшибе, подальше от людских глаз: стеснялся своего нескладного длинного тела и пестрых от разноцветных заплат единственных трусов.
Лева, мутовкой помешивающий в ведре фыркающую пшенную кашу, скосил на Вениамина разбойные свои глаза, и по лицу его скользнула мстительная ухмылка:
— Ага, американский шпиен явился! Что, уже сделал свое дело?
Вениамин виновато улыбнулся, как бы умолял насмешника: ну, хватит, перестань, я же к тебе не пристаю, и ты не приставай.
Но Лева продолжал:
— Ты ведь не купаться ходил в одиночку. Знаю я тебя. Прячешься, чтобы на передатчике поработать. А косички для маскировки слюной мочишь… Ну, что сегодня выстукал своим хозяевам? Пришли, мол, на новую стоянку. Координаты такие-то и такие-то. Построили аэродром. Немедленно присылайте реактивный самолет за образцами. Условный сигнал — три костра в линию.
На лице Вениамина застыла вымученная улыбка, глаза смотрели грустно, покорно.
— Какой тебе валютой платят? — не унимался повар, и в уголке его рта торжествующе блестел золотой зуб. — Долларами или рублями? Наверно, долларами. Ну, смотри, пощекочу! Все до монеты заберу. Думаешь, я забыл, как ты меня на теплоходе угощал?
Лева кинул быстрый взгляд на Коркина, потом на Германа — слушают ли? — и продолжал с еще большим воодушевлением:
— На теплоходе известная обстановочка: как ни бьешься, к вечеру все равно напьешься. На третий день обшарил карманы, а там вошь на аркане. Опохмелиться жутко охота. Ну, я к Вене. Он-то всю дорогу прижимал денежку. «Дорогой ты мой, разлюбезный. Может, пока мы с тобой не друзья, но обязательно таковыми станем. Ведь портянки на одном солнце сушить едем. Выручай!..» Вот такое произнес я золотое слово, со слезою смешанное. И вроде проняло оно Веню. Повел он меня в ресторан. Но опохмелил, думаете? Как бы не так! Купил мне какой-то гуляш. Не выдержал Веня испытания на дружбу. Ведь не тот друг, говорят, который накормит, напоит, а тот, который опохмелит… А теперь, американский шпиен, ты в моих руках. Захочу — голодом заморю! Но пока еще рановато, не дознался, где доллары прячешь.
— Хватит, Лева, трепаться, — оборвал повара Герман. — Жрать охота. Живот подвело.
— А у меня все готово, — отозвался Лева и, сложив ладони рупором, прокричал на всю долину:
— Па-адъем!
Перебрался с подседельной кошмой поближе к костру Александр Григорьевич; Маша вылезла из-под полога и присела рядом с Коркиным; Герман вооружился миской и ложкой — словом, все настроились на серьезный лад, один Вениамин — вместо ложки взял в руки топор и направился в лиственничный лес рубить для сигнальных костров хвою. Обедал он каждый раз последним, подбирал прямо из кухонных ведер остатки, так ему больше доставалось.
Лева восседал верхом на вьючном седле и черпаком разливал по мискам дымящийся борщ. Во всей его позе — подбородок кверху вскинут, грудь выпячена, плечи расправлены — выражалось сознание собственной значимости. И черпаком он поводил так, будто одаривал людей не борщом из консервированных продуктов, а счастьем на всю жизнь.
— Ну и ну! — заглянув поочередно во все ведра, подивился Александр Григорьевич. — И борщ, и каша с маслом, и компот. Праздник, что ли, седни по календарю? Али Лев Наумыч именинник?
— До моих именин далеко, вот, может, у начальника какой праздник: он приказал накормить вас на полную катушку.
Маша украдкой взглянула на Коркина и уткнулась вспыхнувшим лицом почти в самую тарелку.
— Очень вкусно, Левочка! — с преувеличенным восторгом похвалила она. — У тебя настоящий талант!
— Спасибо, — с достоинством поклонившись, поблагодарил Лева. — Ты бы это папе моему сказала. Возможно, сразу бы переменил мнение о моих способностях. Папа у меня большой чудак. Считает, что я совершенно никчемный человечишка. Впрочем, по двум пунктам он оказался прав. Говаривал мне в детстве: «Ну, быть тебе, Левка, летчиком, летать с работы на работу!» И точно! Как в воду глядел старик, — разводя руками, подивился Лева. — И еще предсказывал: жить мне недоучкой с четырьмя классами образования. И тоже в точку попал! Сколько я ни пытался, никак не мог в пятый перелезть. Последнюю попытку делал уже в восемнадцать лет, в армии. Начальных классов в тамошней вечерней школе не было, и меня по сему поводу послали в общеобразовательную. Сел — пристроился на заднюю парту, а ноги чуть не из-под передней высовываются. Кругом малышня. Таращат удивленно глазенки. Пришла учительница. Раз-два — встала малышня. И я должен был подняться. Поднатужился, вытянул ноги, чуть парту не развалил. Учительница командует: «А сейчас, дети, положите свои руки на парты. Проверим чистоту». И пошла по рядам. Добралась по меня, остановилась. «А у тебя, мальчик, под ногтями грязь. Выйди-ка за дверь. Там в конце коридора умывальник есть». Ребятня гогочет. Я вышел и больше не вернулся. А еще папа наставлял: ученье — свет, а неученье — тьма. Так оно и есть, — с притворной грустью вздохнул Лева. — Ученье — свет неоновых огней, а неученье — тьма полярной ночи.
Маша давно уже поставила тарелку на землю и раскачивалась всем телом в неудержимом смехе.
— Ой, Лева, — простонала она. — До полусмерти уморил. И напридумывает же!
Улыбался и Коркин. Тоненько хихикал Александр Григорьевич.
Только на Германа Левин рассказ словно бы не произвел никакого впечатления — сурово молчал техник, даже хмурился недовольно.
Вскоре воротился в лагерь Вениамин, принеся на спине целую копну зеленых лиственничных лап.
— Иди, подбирай в ведрах, — позвал его повар.
Стряхнув на землю ношу, Вениамин подошел к костру, обтер о штаны руки и робко посмотрел на Леву:
— Все уже, что ли, поели?
— Все. Теперь твоя очередь. Да смотри, чтобы дно в ведрах блестело. Ясно?
— Ясно.
Набрав в карманы сухарей и прихватив закопченные ведра с остатками борща и каши, Вениамин отошел в сторонку, к куче хвои. Там он сел на землю, раздвинул широко длинные ноги, утвердил между ними понадежнее ведро с борщом, вытащил из-за голенища ложку, обтер ее полой куртки и неторопливо, основательно принялся за еду.
— Посуду потом перемоешь в ручье! — крикнул Лева.
— Угу, — промычал в ответ Вениамин.
— А я заберусь в холодок и сосну минуток шестьсот. Надо и трудящемуся человеку отдохнуть. Вертолет прилетит, не забудьте разбудить.
— А ты бы все-таки собрал продукты и посуду в сумы, — сказал Коркин. — Прилетит, некогда будет.
— Веня! — позвал Лева. — Посуду и продукты сложи во вьючные сумы. И чтоб ни черепка не потерялось!
— Угу.
Лева надвинул на глаза захватанную руками белую копку, посмотрел, жмурясь, на солнышко, потом лениво поднялся на ноги, подхватил под мышку спальный мешок и побрел своим праздным развинченным шагом к ручью, в прохладные тенистые тальники, напевая на ходу:
Когда Лева скрылся в тальниках, Маша промолвила:
— Интересный парень. Откуда что и берется.
— Все тунеядцы — интересные болтуны, — буркнул Герман.
— Какой же он тунеядец? — удивилась Маша. — Тунеядец — это тот, кто не работает. А Лева ведь работает.
— Кем? Поваром! С его-то силой надо шурфы бить.
— Кто-то и готовить должен.
— А он готовит? Сама, поди, видишь: Веня все за него делает. И дров нарубит, и костер разведет, и посуду перемоет. А Лева только в ведре помешивает мутовкой, которую, если не ошибаюсь, вырезал ему тоже Веня… Вот именно: не сеет и не пашет… А Вене по его росту надо давать две порции, чтобы Лева не покупал его за одонки. Это я серьезно предлагаю, начальник.
— Тебя не переспоришь, — махнула рукой Маша.
— Не переспоришь, — согласился Герман. — Потому что прав.
— Все равно, кроме Левы, никто из вас и развеселить не умеет.
— Вот она, женская логика! Перед ней я пас!
Двадцать пятого вертолет не прилетел.
Целый день в остекленело-прозрачном небе парил орел. На одном из останцев, в камнях, находилось орлиное гнездо, и хозяин беспокоился за него, не спускал острых глаз с долины, куда рано утром пришли незнакомые люди.
А там, в долине, вскоре будто все повымерло. Спрятались под белыми пологами люди. Погас костер. Долго шаяла сучковатая головня, испуская тоненькой струйкой голубой дымок, но и она в конце концов истлела, изнемогла. В теплой золе заснул щенок, положив морду на побитые распухшие лапы. А на берегу ручья в высокой траве легли кони; попритихли медные ботала на их шеях.
Орел видел, как под одним из пологов то и дело поднималась с изголовья лохматая голова. Это тревожился Коркин. Во сне ему чудилось — слышит металлический рокот мотора, но, проснувшись, убеждался, что это или вокруг куют кузнечики, или гудит над ухом запутавшийся в марлевом пологе овод, или журчит в уреме меж камней вода. Да и сам орел, висевший высоко-высоко, походил на вертолет, находящийся в таком отдалении, что едва глазом различался.
На другой день с утра люди сидели на собранных вьюках. В полдень Коркину стало ясно: вертолет не прилетит.
А ну-ка, вспомни, не напутал ли что-нибудь в рапортичке, оставленной начальнику экспедиции Степану Мордасову? Коркин напряг память и представил неровно оторванный тетрадный листок в клетку, наполовину исписанный его рукой: Ялпинг-Кер, оленеводческий кораль — 25–26 июля; река Кожим — 15–16 августа; река Каталомба — 12 сентября.
Он протянул тогда листок Мордасову и предупредил:
— Такой же я оставил диспетчеру.
— Хватило бы одного, — бегло взглянув на исписанную страничку, поморщился Степан.
— Беспокоюсь, — оправдывающимся тоном произнес Коркин. — Сам знаешь, партия маленькая, уходим без рации, продуктов едва на месяц берем с собой, больше с моим тяглом не поднять.
— Недоволен? Скажи спасибо, что еще такую партию дали. По совести говоря, я считаю, всю твою затею зряшной. Путаешь только наше дело… А может, ты диссертацию задумал писать? Там любые идеи в ход идут, пустые даже дороже ценятся.
— Нет, не задумал.
— То-то. Слишком много развелось охотников на производственные денежки диссертации делать.
— Так не забудешь про вертолет?
— За кого ты меня принимаешь? Будто мы с тобой только сегодня знакомы, а не из одной альма-матер, не с одного курса. Эх, Колька, Колька!..
Степан вдруг с шумом отодвинул из-под себя кресло, встал на ноги, невысокий, квадратный, отяжелевший, в Полой спортивной куртке, которая вопреки своему назначению делала его располневшую фигуру еще более массивной. Коркин понял это шумное вставание как знак окончания аудиенции и тоже поднялся на ноги, но Мордасов, обойдя широкий начальнический стол, приблизился к Коркину вплотную, обнял его за плечи и повторил растроганным голосом.
— Эх, Колька, Колька! Выходит, мы с тобой чуть не полжизни в одной упряжке воз тащим. Сам посчитай. Десять лет по Уралу вместе ползаем, пять лет бок о бок в институте просидели. Да ведь не только сидели там. Помнишь практику в Казахстане? Тоже в один отряд попали. А кто хлопотал о твоем семейном счастье, кто сватом был?.. Нет, Колька, нам надо дорожить нашими отношениями, беречь их, а мы, бессовестные, за все годы ни разу даже семьями не встретились, не посидели, не выпили, песен студенческих не попели. Нельзя так, нельзя. И вот запомни: в первый же день, как только вернетесь осенью из тайги, добро пожаловать ко мне, да не один, а с Марьей свет Сергеевной, она тоже наша, институтская… Поднимем бокалы, содвинем их разом… Ну, а теперь, как говорится, с богом! Сегодня, наверно, уже в палатке ночуешь? Эх, друг Колька, если бы знал, как я тебе завидую! Каждое лето в горах. Ходишь-бродишь, молоточком постукиваешь, и ни черта-то с тобой не делается — все такой же скуластый, крепкий, легкий, ни жиринки не прибавилось, будто в институтском виде законсервировали тебя на сто лет. А я рядом с тобой уже старик. Он, он в гроб меня вгоняет! — оторвавшись на секунду от Коркина, постучал Мордасов козанками пальцев по столу. — Из-за него уже и согнуться не могу, ботинки зашнуровываю сидя… Но ведь, дружище, вашу работу в горах кто-то должен обеспечивать с тыла. Я, может, тут ночи не сплю, думая о вас: как бы вертолет вовремя послать, продукты отправить, больного вывезти срочно… Ну, хватит умствовать. Отправляйся с богом!
Слушая начальника экспедиции, Коркин на короткое время проникся доверием к его словам и сам растрогался от институтских воспоминаний, так растрогался, что невольно всем телом подался к однокашнику, почувствовав плечом его мягкую, как подушка, ожиревшую грудь. И то ли эта грудь, то ли что другое вмиг отрезвило Коркина. Отпрянул назад и горько подумал: «Опять Степан лицедействует, будто на подмостках. В кого он только не перевоплощался в своей жизни? На этот раз изображает усталого сердечного начальника, отца родного для своих подчиненных: рад бы посидеть с однокашником, да государственные заботы мешают… Только бы доиграл свою роль до конца, прислал в назначенное время вертолет…»
На том они и распрощались.
Нет, Коркин ничего не напутал, память не обманывала его. На неровно оторванном тетрадном листке в клетку черным по белому было написано: Ялпинг-Кер, оленеводческий кораль — 25–26 июля, именно это было написано, а не другое. Но чего боялся Коркин, то и случилось: не доиграл Степан роли до конца. Эх, однокашник, однокашник…
До Кожима около шестидесяти километров. В общем-то не так уж и далеко, ежели бы не надо было переваливать через хребет. Хребет страшил.
Коркин позвал Леву и велел перебрать продукты. Повар справился с заданием в одну минуту, ибо продуктов оставалось всего ничего: полмешка манки, початый мешок сухарей, полтора ящика банок с консервированным борщом, пяток банок с сосисочным фаршем и полтора килограмма сахару. Хватит дня на три, не больше. Если до переучета Коркин намеревался двинуться в дорогу только на следующий день, спозаранку, то сейчас понял: делать это надо немедленно, нельзя терять ни одной минуты. Пока есть продукты, нужно идти. Голодных ноги не понесут, да еще через перевал. А вертолета уже наверняка не будет. После трех часов пополудни они не вылетают с аэродрома, а в четыре летчики расходятся по домам.
Коркин поднялся с вьюка и озабоченным взглядом окинул лагерь. Немного времени требуется геологам, чтобы обжить любое место, самое дикое и пустынное, — у костра, уже бог весть откуда, появились чурбашки для сиденья, тут и там белела щепа, в красивом беспорядке стояли туго натянутые, не успевшие обвиснуть палатки, а в кустах хлопало на ветру выстиранное Машей белье.
Сама Маша сидела возле палатки с книгой на коленях. В белой кофточке, умытая, отдохнувшая, с выгоревшими волосами походила жена на школьницу-десятиклассницу. «А как же она? — дрогнуло у Коркина сердце, но он тут же поспешил успокоить себя: — Дойдет не спеша. Да и я все время рядом буду».
Герман, задрав босые ноги, лежал на животе в траве и что-то записывал в дневник. Александр Григорьевич, как всегда, занимался починкой — на этот раз зашивал свои брезентовые бродни, которые повар почему-то называл «конями».
— Будем собираться! — громко произнес Коркин.
— Да! — не скрывая радости, воскликнула Маша и пружинисто вскочила на ноги. — Герман, забери свою книжку!
— Ага, теперь забери! — возмутился Герман. — Так и знал! А где твое честное слово?
— Сегодня твой рюкзак можно во вьюк пристроить, — сказал технику Коркин. — Потому как образцы оставим здесь. После сгоняем за ними вертолет.
— Вот видишь, — лукаво улыбнулась Маша, сунула Герману книжку и легкой поступью направилась к кустам снимать пересохшее белье.
Александр Григорьевич натянул на ноги подшитые бродни, нанизал на руку все шесть уздечек и пошел искать лошадей.
Герман, не поднимаясь с земли, протянул Коркину свой дневник.
— Прочитай-ка последнюю страницу. Я тут кой-какие расчеты произвел.
В дневнике Коркин вычитал следующее:
«Интересно подсчитать стоимость этого изнурительного дедовского способа передвижения.
Рабочим в день приходится по 6 рублей:
6×3 = 18 рублей.;
ИТР — по 12 рублей:
12×3 = 36 рублей.
Лошади: арендная плата — 3 рубля за голову в сутки:
3×6=18 рублей.
Суточная порция овса на всех — 20 рублей.
Значит, день партии обходится в 92 рубля.
Два дня тащились до посадочной площадки, два дня ждали, два дня пройдем до Кожима — итого шесть дней:
92×6 = 552 рубля.
И никакой работы. А вертолет нас с прежней стоянки, с Парус-Шор, перебросил бы на Кожим за 45 минут. Час вертолета стоит 220 рублей, с накладными — 270. Экономия по-мордасовски. В век завоевания космоса рубашка геолога по-прежнему соленая».
— Америки открываешь, — сказал Коркин. — Все это я знаю.
— Знать-то ты знаешь — десять лет начальником партии. А этими цифрами надо бить по башке Мордасова, чтобы из года в год не повторялось одно и то же!
Часа через полтора кони были оседланы и завьючены. Коркин неторопливо обошел всю лагерную площадку, шаря глазами по примятой траве — не обронили ли что? Нет, вроде все подобрано. Можно трогаться. Но тут вдруг сорвался с места Вениамин и, запустив в карман руку, побежал на своих длинных ногах-ходулях к наваленной им накануне куче хвои. Перед кучей он упал на колени, вытащил из кармана руку со спичками, чиркнул…
Из-под зеленых веток тут и там поползли в разные стороны струйки дыма, через минуту-другую они слились, заволокли всю кучу и встали над ней огромным белым столбом. В основании столба что-то потрескивало, пощелкивало, стреляло, шипело, и вверх по нему побежали золотистыми змейками огненные искры. Змеек становилось все больше и больше, взвиваясь ввысь, они, как живые, переплетались друг с другом, пока, наконец, весь дымный столб не охватился сплошным жарким пламенем. Раздвоенное жало пламени едва не сравнялось с останцами на вершине Ялпинг-Кера и видно было издалека.
Глава третья
Коркин замер на месте: в пяти шагах от него из размытого глинистого холмика, осыпанного сверху бутылочным стеклом, произрастал намогильный крест. Не стоял, а именно произрастал: коренастая зеленая лиственница с двумя поперечинами, заделанными в паз. Длинная верхняя поперечина простиралась параллельно земле, нижняя, покороче, — наискось, обе давно уже затекли в пазах смолой и срослись с живым столбом, став его ветвями, обе, как и верхушка столба, зеленели и распускали во все стороны мягкие пушистые ветки.
Коркин с побледневшими скулами смотрел на невиданное дерево и гадал, в самом ли деле это рукотворный крест или очередное чудо природы. Через минуту к Коркину подошел проводник и положил конец его сомнениям.
Александр Григорьевич выпустил из рук повод, откинул с головы капюшон и, сложив древлий двуперстный крест, трижды с поклоном осенил себя им.
— Могила тута, — после продолжительного молчания произнес он. — Сродственники схоронены. Сам и погребал их. Лиственницу с корнями вместо столба врыл, чтобы ветром не уронило, а она, вишь, и принялась…
— Как они попали сюда, твои родственники-то?
— Оленеводами были. Муж с женой, две девочки да мальчик. Со стадом шли. Об эту же пору перегоняли его через хребет на западный склон. Да и попали в буран…
— Буран? Среди лета?! — удивился Коркин.
— В этой долине зимой и летом держи ухо настороже. Недаром она по-нашему, по-зырянски, Долиной Смерти называется — Хабе-Ю. А тогда буран нагрянул внезапно, да еще с тридцатиградусным морозом, и буйствовал чуть ли не целую неделю, ну, и полегло все стадо, и люди, вишь, погибли.
Коркин оторвал взгляд от креста и оглянулся по сторонам: повсюду, куда доставал глаз, белели в траве вылинявшие под дождем и солнцем оленьи рога. Ветвистые и высокие, походили они на засохшие сучковатые кусты, и меж этих мертвых кустов валялись в разных местах четверо нарт, перевернутых вверх истонченными разбитыми полозьями.
Могильное поле пересекалось посредине пенистой шумливой речкой, вдоль речки в отдалении поднимались справа и слева выветренные обнаженные горы, к востоку они, расширяясь раструбом, становились положе склонами, опадали, покрывались лесом и густо зеленели; к западу, сужаясь узким горлышком, вздымались все выше и круче, и не росло уже там ничего, кроме мхов, — там, на западе, и был перевал.
«Естественная аэродинамическая труба, — подумал Коркин. — Ворвется в нее какой-нибудь циклон или антициклон и — берегись, на ногах не устоять — сшибет!»
От этой мысли стало вовсе не по себе. Припомнилось народное наименование долины — Хабе-Ю. А в горах ни одно название зря не дается. Значит, те оленеводы — не первая жертва, и раньше гибли тут люди, следов только не осталось.
Партия уже вся подтянулась. Держа в поводу лошадей, геологи обступили могилу и глазели на нее с немым удивлением.
— Здесь и поминки справлялись! — неожиданно хохотнул повар. — Вон сколько посуды набито!
Левин смешок никто не поддержал.
— Вот что, ребята, — тихо произнес Коркин. — Сейчас всем потеплее одеться, а в пути шибко не растягиваться, держаться кучнее. Места тут серьезные.
Парни на ходу принимали солнечные ванны, загорали. Лева шел по пояс обнаженным, Вениамин — в истлевшей майке, а Герман — вообще в одних трусах да кедах на босу ногу. И хотя в лазоревом небе меж гребенчатых вершин нельзя было найти подозрительного пятнышка, хотя вовсю сияло растекающееся расплавленным стеклом полуденное солнце, а от прогретых камней, как в бане, так и пыхало жаром, парни безоговорочно подчинились, повытаскивали из рюкзаков и вьюков куртки, сапоги, портянки, ватники.
— А тебя не касается мое распоряжение? — спросил жену Коркин.
Маша была одета в зеленую энцефалитку с откинутым на спину капюшоном и старенькие вылинявшие джинсы с двойной красной стежкой по швам; штанины от многочисленных стирок сбежались и, как чулки, обтягивали икры; на ногах — кеды, из которых высовывались связанные в резинку белые шерстяные носки.
— Не мешало бы переодеться да накинуть на плечи ватник. Может, погода и не переменится, но ледник на перевале нам никак не миновать.
— Ой, Коля, в сапогах тяжело. А ватник даже не знаю, куда и затолкала.
— Неладно получается, — покачал головой Коркин.
— Да ты не беспокойся, Коль. Лучше лучшего все будет. В кедах я сейчас, как птичка-ласточка, перепорхну через Урал.
— Порхать я тебе никуда не советую, а держись все время возле меня.
— Хорошо, Коль, ни на шаг не отстану.
Лишь проводник с самого начала был одет как надо: в брезентовые бродни и толстую суконную малицу с глубоким капюшоном, который Александр Григорьевич снова натянул на седую голову. Это облачение спасало проводника от гнуса, дождя и зноя, в случае нужды спасет и от холода.
Двинулись дальше.
В самом конце долины глазам геологов явилось редкое зрелище: три озера, расположенные цепочкой одно над другим; вода между ними переливалась изогнутыми серебристыми дугами-водопадами высотою в два-три метра; из ближнего озера такой же дугой истекала и сама речка; над водопадом радужными облачками клубилась водяная пыль.
Озера были совершенно правильной округлой формы и походили на гигантские — диаметром чуть ли не в двести метров — каменные блюдца, наполненные до краев водой, а вокруг каждого из них цирками вставали высокие отвесные горы, рассеченные с запада на восток узкими, как горлышки, проходами. Даже неискушенный в геологии человек мог догадаться, что здесь некогда, в отдаленнейшие геологические эпохи, действовали рядышком три мощных вулкана: озерные блюдца и окольцевавшие их каменные цирки — остатки кратеров.
Вода в озерах была зеленовато-бирюзовой, будто из моря завезенной, однако цвет, как и в море, нисколько не мешал оставаться ей совершенно прозрачной: сквозь десятиметровую толщу просматривалось бугристое, яминой, дно, покрытое серой ворсистой тиной, а стайки стреловидных быстрых хариусов виделись даже у противоположного берега.
Как сюда попали хариусы? Ведь озера и от речки и друг от друга отделены высокими стремительными водопадами, которым впору турбины электростанций крутить. Или правду рассказывают легенды: тучи разносят рыбу по водоемам, в одном месте они ее всасывают в себя, в другом рассеивают одновременно с дождичком?
Через перевал Коркин шел впервые, а каменные цирки и озера-блюдца в геологическом отношении были настолько интересны, что не зарисовать и не описать их было просто грех. И, пропустив мимо себя весь караван, он присел на камень, вытащил из сумки пикетажную книжку и коробку с разноцветными карандашами.
Он устроился против водопада, низвергающегося из верхнего озера в среднее. Уши сразу же заложило от шума, будто ватой, а в лицо полетели микроскопические брызги, не оставлявшие никаких следов и ощущавшиеся лишь как прохлада.
Коркин зеленым и синим карандашами раскрасил озера, коричневым и черным заштриховал горы и принялся было описывать их, как вдруг почувствовал нечто странное: будто время от времени мелькает перед глазами что-то серенькое и быстрое, как мошка. Он поднял голову и огляделся — никакой мошки. Ни одного даже комарика. Ни одного овода. День стоял сухой, знойный, и всякая нечисть попряталась до вечерней прохлады. Коркин продолжил работу. И тотчас перед глазами снова что-то промелькнуло. И снова он не увидел это, а как бы почувствовал только.
Чертовщина какая-то! Отложив в сторону карандаши и книжку и остро вглядываясь вперед, стал терпеливо ждать. И вдруг увидел! Ах, что он увидел — глазам не поверишь! Внутри прозрачной хрустальной струи, дугой низвергающейся из одного озера в другое, поднимался снизу вверх голубой хариус. Поднимался, стоя вертикально и быстро-быстро шевеля вправо и влево хвостом — будто лез, карабкался по невидимой веревочке. Секунда-другая, и рыбина уже на самом гребне прозрачной струи… Переходит из вертикального положения в горизонтальное, еще один толчок хвоста, и она заныривает в зеленую озерную глубь, отходит на метр от водопада и недвижно застывает на месте, отдыхает — этакую работу проделала! А снизу карабкается по струе уже другой хариус. Этот добирается только до середины водопада, где внезапно перевертывается и неживой щепкой летит в пенистый водоворот… Однако тотчас упавший хариус, а может, и совсем другой, хватается за невидимую веревку и снова ползет вверх.
Коркин с замершим сердцем следил за рыбами и восхищенно думал: «Кто говорит, что нельзя прыгнуть выше своей головы? Вон что делают хариусы, на какую высоту взбираются, да еще против стремнины, которая и человека опрокинет! Ах, черт побери! Вот она, сверхзадача! Так и надо жить — все время выше головы прыгать…»
«Но почему рыбы устремились вверх, что заставляет их карабкаться по крутым водопадам?» — задумался вдруг Коркин и вспомнил, как Александр Григорьевич, проводник, объяснял ему однажды: хариусы забираются в верховья перед обильными ливнями и продолжительными дождями, то есть перед тем, как в низовьях речкам взбухнуть и помутнеть: не любит рыба-хариус мутной воды.
Коркин запрокинул голову и озабоченно оглядел небо, однако в безбрежной синеве по-прежнему не было ни пятнышка, ни пушиночки беленькой.
Коркин догнал караван перед головокружительной кручею, заваленной ребристыми глыбами — корумником.
От горы Ялпинг-Кер два дня люди неуклонно шли в горы, неуклонно восходили на перевал, и вот наконец перед ними сам перевал — каменистая круча, увенчанная сверху алмазно-сверкающим ледником. Взобраться по камням, перебежать через ледник, от которого холодит и ломит глаза даже на расстоянии, миновать ровную, как стадион, седловину меж двух заоблачных вершин с вертикальными оснеженными морщинами, — и перевал пройден, далее тропа до самого Кожима побежит вниз, вниз — хоть бегом катись. Часов через пять, к вечеру, они будут на месте.
Глубоко под камнями журчала вода — сочилась из ледника, наполняя озера и рождая речку. Крутизна была такая сильная, что лошади то и дело тыкались мордами в камни. Достанется тут животным. Меж камней — бездонные черные щели. Оступись — и нога распорота или сломана. Но кони каким-то образом ухитрялись не оступаться. Людям было легче: они прыгали по ребристым глыбам, как по ступеням.
Коркин снова шел первым. Рядом с ним скакала по корумнику в легких кедах Маша.
Минут через двадцать, тяжело дыша, они поднялись к леднику. В полутораметровой толще льда тут и там зияли темнотой глубокие подмой, в которых глухо капала и журчала снеговица, и тянуло из этих дыр сырым холодом. Коркин подсадил Машу наверх, и она тотчас замахала руками, пытаясь хотя бы на шаг отодвинуться от опасной кромки: стертые подметки кед совсем не держали на льду, запорошенному талым игольчатым снежком. Тогда Коркин сам взобрался на ледник и протянул Маше руку.
— Держись!
— Только давай быстрее, — переступая с ноги на ногу, сказала Маша. — Будто иголки сквозь подошвы втыкаются. И глазам больно от белизны…
Оскальзываясь на каждом шагу, падая и вновь поднимаясь, они побежали, а когда наконец снова вступили на каменную твердь, их руки были в кровь исцарапаны об игольчатый снег, а веки ломило от излучавшегося из-под ног сияния.
Сильно посвежело. Сначала Коркин объяснил это близостью ледника и высотой, но вскоре заметил: не стало солнца, и над самой головой появился серый туман. Растрепанными космами он летел навстречу из-за перевала. Обвисшие пряди касались камней, и на их шершавой поверхности вспыхивали бисеринки влаги. «Да никакой это не туман! — догадался Коркин. — А облака несутся в Долину Смерти!» И сразу припомнил зловещий зеленый крест внизу и карабкающихся по водопадам хариусов, и на сердце стало тревожно, боязно, нехорошо… Так вот что гнало рыб в каменные верховья!
На самом перевале, через плоскую седловину, облака волоклись-струились уже совсем по земле — вроде снежной поземки. Лицо и руки обдало холодной мокрой пылью, вмиг заволгла одежда. Редкая жесткая трава пригнулась к земле, вытянулась по ветру, который креп и набирал силы прямо-таки по-богатырски: не по часам даже, а по минутам. И вот уже ветер валит с ног, грозно трубит в развалах камней, громоздящихся по обе стороны седловины.
По неписаному закону на перевальном хребте люди должны остановиться ненадолго — передохнуть, отдышаться после крутых подъемов и, конечно же, посмотреть, полюбоваться окрест. Какие дали открываются с подоблачных высот! На юг и на север, куда достает глаз, остроязыкими грядами волн разметались нагие каменные горы, будто море разбушевалось в яростный шторм; к востоку и западу горы на далях снижаются, опадают, круглеют, и в долинах между ними, как за пазухой, уже темнеют шерстистые клочки леса… Хорошо, вольно под облаками. Век бы не уходил! Но манит, манит дорога, зовет и волнует извечная мысль: а что дальше? Что там, за хребтом?
А там совершенно иная страна. Оказывается, протянутая по главному Уральскому хребту граница между Европой и Азией совсем не условна, существует не только на картах и в головах людей — существует она и в природе. В начале лета на восточных склонах там и сям лежит серыми островками снег, сочится и жулькает под ногами вода, трава на оттаявшей земле только-только проклевывается бледными росточками, а на западном склоне, за перевалом, всего в двадцати минутах ходьбы снега уже давно растаяли, земля просохла, и вовсю прут из нее трава и пестрые цветы, где они по колена, а где уже и по пояс; спускаясь дальше, замечаешь: звериные следы тут гуще, и птиц больше, а рыба так и кишит в прозрачных речках… Иная, иная страна — Европа.
Но теперь ни впереди, ни позади ничего не видно, все закрыто серой водянистой мглой.
Выскочили на перевал кони. Разноглазый мерин, которого держал в поводу Александр Григорьевич, был завьючен с одного бока надувной резиновой лодкой и разборными дюралевыми веслами, упакованными в зеленый брезентовый мешок. Соединительные трубки весел высовывались из мешка наружу. На перевале в них тотчас засвистал по-разбойничьи ветер. Будто сирена взвыла. Разноглазый с перепугу взвился на дыбы. Падая, чуть не подмял под себя проводника, а тот, выворачиваясь из-под копыт, выпустил нерасчетливо повод, и мерин, громыхая вьюками, вскачь понесся против ветра, в следующую секунду исчез в седой мгле. Встревожились и остальные лошади: задирали головы, ржали уныло, кружились на месте. Прижимаясь к ногам повара, трясся в ознобе щенок.
— Вперед! — изо всей мочи крикнул Коркин и за воем ветра не услышал своего голоса. — Вперед! — повторил он и махнул рукой в ту сторону, куда ускакал ошалевший мерин. — Не разбегаться! Держаться на глазах друг друга!
И лишь на конях поослаб повод, как они сами рванулись вслед за мерином; рабочие, придерживаясь за вьюки, побежали рядом.
«Лошади в такой ситуации лучше чуют, где спасение», — подумал Коркин, испытывая удовлетворение от того, что отдал правильное распоряжение.
И вот они снова остались вдвоем, Коркин и Маша. Завихряясь вокруг их тел, летели стремительно мглистые облака, больно секли водяными плетями обнаженные лица.
Маша подняла капюшон и, нагнув голову, попыталась сдвинуться с места. Но куда там! В грудь уперся ветер, а за спиной держала, как на привязи, надутая энцефалитка. Тогда Маша просто легла на встречный поток воздуха и лишь таким образом сделала маленький шажок вперед.
Подтянув до бедер голенища болотных сапог, Коркин обошел Машу и пристроился перед ней, стараясь прикрыть ее от ветра.
Из Машиных кед со свистом разбрызгивались по сторонам мутные фонтанчики. Легонькая одежда насквозь промокла. Коркин проклинал себя за то, что полтора часа назад не настоял на своем, не заставил жену переобуться и надеть ватник. Как будто не было предупредительных знаков — и креста, и рыб. Будто сам ни разу не переходил через перевал и не знал, что это такое. Идиот! Тряпка! Дурак безмозглый, а не начальник!
И как бы мощно ни ревел ветер, как бы быстро ни бежали они, Коркин все время слышал за спиной (может, это только мерещилось ему) частое, прерывистое дыхание Маши и жульканье, посвистывание в ее кедах. От этих звуков Коркин мрачнел.
А укрыться было негде. Ни кустика, ни деревца — голый седлообразный склон, по бокам которого угрюмо вздымались горы. И чем ниже уходила долина, тем выше становились горы. Глухие, недвижные, усыпанные мертвыми холодными камнями, они отвергали всякую мысль о тепле и приюте.
Вскоре повалил снег. Он летел невиданно большими хлопьями. Каждая снежинка величиной с ладонь. И сразу седые глыбастые горы словно бы раздвинулись вширь, стали призрачно-плоскими и ровными, будто оштукатуренные стены, — не различить ни складок, ни выступов, ни камней.
Первое время хлопья, соприкоснувшись с землей, тотчас таяли, однако в мертвых камнях, устилавших долину, хранилось так мало тепла, что оно было исчерпано в считанные минуты, и долина стала быстро одеваться белой пеленой.
В снежной кутерьме Коркин вдруг наскочил на лошадей, осатанело крутящихся вокруг рабочих.
— Погибаем, начальник! — прячась от ветра за крупом коня, прокричал Лева. — Давай схоронимся в камнях!
— Ни в коем случае! — яростно замотал головой Коркин. — В камнях замерзнем! Надо скорее в лес.
— А где он, лес-то?
— Дальше.
— Не добежим.
— Не разводи панику. Шевелись!
Не имея больше сил сдерживать взбесившихся коней, рабочие выпустили из рук поводья, и кони галопом понеслись вниз; животный инстинкт гнал их из мертвой ледяной пустыни в лесной оазис, где среди деревьев они надеялись найти затишье, тепло и зеленую траву. Следом бросились рабочие, скрылись за непроницаемой мутной завесой.
Теперь и на Коркине не было сухой нитки. Под вымокшей брезентовой штормовкой, гремящей, как железный панцирь, меж лопаток и по груди струились холодные ручьи, залили доверху сапоги — каждый стал весом с пуд. Сводило пальцы… «А каково Маше? Одета совсем легко».
Маша тащилась боком, засунув рукав в рукав; обнаженные полоски на запястьях горели словно кровоточащие раны, зато в лице не было ни кровинки, посинело, покрылось пупырышками, а в мокрых глазах застыли боль и отчаяние.
«Только бы хватило сил! Только бы не упала!» — молил про себя Коркин.
Но Маша внезапно зашаталась и, как подрубленная, осела на колени. Коркин схватил ее под мышки, оттащил в сторону, посадил на камень.
— Не могу, — еле двигая посиневшими губами, выдавила Маша. По запавшим щекам бежали ручьи — то ли снег таял, то ли слезы из глаз.
У Коркина внутри все захолодело от горя, и мысли полезли в голову самые страшные: «Господи, что же это такое? Неужели?..»
— Машенька, родненькая, надо идти. Во что бы то ни стало надо…
— Ой, поясница. Распрямиться нет мочи.
— Я тебя понесу. Только сидеть нельзя.
— Разобьемся оба. Подожди, может, отойду.
— Нельзя ждать. В сосульку превратишься! Вставай!
Коркин протянул руку. Маша оперлась на нее и с перекошенным от боли лицом поднялась на ноги.
Пронизанный страхом за Машу и за ту, другую жизнь, которую она несла в себе, Коркин вел жену под руку и нарочито громким голосом подбадривал:
— Продержись вон до той горы, и все будет в порядке, — и он показывал на смутные очертания сопки, проступающие впереди сквозь снежную завесу.
Он твердо знал, да и Маша тоже знала, что за сопкой все такая же голая долина, по какой плетутся, и что дремучий лес, который даст им огонь и тепло и укроет их от метели, далеко-далеко, почти перед самым Кожимом; однако близкая, хоть и неверная цель — эта сопка вселяла некоторую надежду: а вдруг за ней в самом деле что-то есть. Маша даже находила силы, чтобы прибавить шагу.
Но за сопкой ничего не было. В отдалении угадывалась другая куполообразная сопка, и Коркин, обманывая себя и Машу, опять манил бодряцким голосом:
— А теперь добежим до той горы!
Наконец Коркин с радостью заметил: бредут уже вдоль ручья, скачущего по камням, а на его берегах тут и там стоят белыми барашками облепленные снегом кусты ивняка; лозы жиденькие, гнуткие, не толще карандаша, а все-таки дрова, при необходимости уже здесь можно распалить костерок и обогреться.
Кусты попадались все чаще и чаще, а вскоре слились они в сплошные две полосы, протянувшиеся по берегам набухавшего на глазах ручья. И с каждой сотней метров ивняк густел, поднимался выше, сквозь заваленную снегом листву уже проглядывали голубоватые стволы толщиною в руку, некоторые из них не выдерживали тяжести мокрого снега и ломались.
Маша тащилась из последних сил, и Коркин начал высматривать местечко посуше да побогаче дровами, как вдруг заметил впереди над кустами желтую прядку дыма.
— Ага, ребята костер развели! — обрадовался он. — Сейчас чаю вскипятим, переоденешься в сухое, и все будет хорошо.
В похожей на взрывную воронку впадине сбилась вся партия — и кони, и люди. Ветра тут не было. А снег, казалось, валил еще гуще. Проводник снимал с лошадей вьюки. Вениамин и Лева тряслись от холода. Герман стоял на четвереньках посреди впадины и, вытянув хоботком губы и надувая заросшие щеки, дул что есть мочи на кучу сырых ивовых сучьев. Из-под сучьев выползал дым, огня не было.
Коркин разыскал Машин рюкзак, вынул из него сапога, портянки, теплый свитер и, усадив жену в сторонке на вьюк, быстренько переодел-переобул ее. Натянув сапог, строго сказал:
— А про кеды забудь теперь. Даже по лагерю не разрешу в них ходить.
— Забуду, — смиренно произнесла Маша.
С костром не получалось. Шипел снег, стреляли сучья, дым выел все глаза истопнику, а огонь никак не разгорался.
Наконец Герман ожесточенно плюнул на сучья, поднялся с колен и направился к вьюкам. Там он взвалил на спину свой рюкзак и подтащил его к костру.
— На перевале надо было выбросить все твои книжки, — ворчливо произнес Лева. — А вместо них человека посадить на лошадь.
— Тебя, что ли?
— А хоть и меня.
— Да ты самой плохонькой книжки моей не стоишь.
— Ишь, нашел что жалеть. А люди погибают…
Не отвечая, Герман развязал рюкзак и принялся одну за другой перебирать книжки, и по глазам его было видно — каждую жалко; наконец он выбрал какую-то, снова опустился перед костром на колени и, вырывая по листочку, стал засовывать их под задымленные сучья. Тотчас занялся огонек, запрыгал по палкам, а когда меж обложек не осталось ни одного листа, сырые дрова уже горели самостоятельно. В костер полетела и обложка.
К огню со всех сторон потянулись красные трясущиеся руки. Подошли и лошади, сунули головы в полосу дыма и блаженно заморгали слезящимися глазами. Невесть откуда появился щенок и, скуля, подполз к самому огню.
— Вот так вот, Лева, — отряхивая сор с колен, произнес Герман. — Книжки, между прочим, второй раз спасают меня почти от верной гибели. В позапрошлом году я на зиму в Саранпауле оставался. Послали меня верст за двадцать на буровую керны описывать. До весны я собирался там пробыть, поэтому захватил с собой все свое добро. Потяжелее еще рюкзак волок. К буровой уже подходил. Ночь спустилась, звезды высыпали. Вдруг слышу — волки сзади воют, по следу несутся. Ружья нет! Что делать? Как спасаться? И вспомнил я про книжки. Вытряхнул их все на снег. Поджег. Сушняку с ближней елки наломал. А когда волки набежали на меня, давай их тыкать горящими книжками в носы. Отскакивают, боятся. А потом с буровой и с ружьями прибежали. Но книжки — с косточками бы сожрали.
— А я и не знал, что ты их для растопки таскаешь, — осклабился Лева. — Это совсем другое дело. Тогда и лошади для них не жалко.
От промокшей одежды валил пар. Вениамина сотрясала такая сильная дрожь, что он весь ходил над костром, как на шарнирах.
— Вот дает, — снова развеселился Лева. — Теперь-то я доподлинно знаю, где он прячет свой передатчик, наш Веня. В коленках. Вон ведь как выстукивают, аж искры сыплются! Спасайте, мол! Попал в переплет. Люди в партии до полусмерти замучились, любого голыми руками возьмете. Но спасать-то они не подумают. Таких, как ты, у них много. Да и остальные их не интересуют: мелко плаваем. Так вот, Веня, утихомирь свои коленки…
Левин треп вызвал улыбку и на Машиных посиневших губах. У Коркина немножко отлегло от сердца: авось обойдется…
Костер весело потрескивал. Шипели в огне падающие снежные хлопья.
— Ну, Мордасов! — злобно произнес Герман. — Вернусь в Саранпауль, обязательно морду начищу.
— До Саранпауля еще далеко, — сказал Коркин. — А сейчас — ставить палатки и переодеться в сухое. Лева, вскипяти чай покрепче. Переждем непогоду тут. Дровишки есть.
Шесть дней тащились по долине брюхатые мглистые облака. Тащились так низко, что ни одной вершины вокруг не было видно, отдельно стоящие горы и сопки представлялись усеченными пирамидами.
Из обвисшего чрева облаков днем и ночью валил хлопьями снег. Не переставал ни на минуту. Навалило в метр толщиной. Под тяжестью снега полегли, сломались все тальники.
Ночами подмораживало. Снег сверху схватывался ледяной коркой и стеклянно звенел, оседая. С таким же стеклянным звоном скреблись друг о друга оледеневшие листья кустов и торчащие кое-где из-под снега травинки.
Выморочной и пустынной выглядела по ночам долина, точно на безжизненной планете стояли палатки.
Днем было повеселее: костер потрескивал, люди переговаривались, тропинки по свежему снегу прокладывались.
А однажды на короткое мгновение разошлись над головой облака и явилась в солнечном голубом небе заснеженная вершина, обрушив на долину нестерпимое белое сияние — враз глаза заболели.
Буран не обошелся даром: простудился, закашлял Герман, с температурой, в жару слег Вениамин. Остальные пока держались на ногах и всем им хватало работы с утра до вечера.
Заготовляли дрова. Надо было срубить целые заросли ивовых кустов, чтобы набрать охапку сырых корявых сучьев. Берега ручья обнажились на сотни метров вверх и вниз от лагеря, и каждый раз за дровами приходилось отправляться все дальше и дальше. Стук топора уже не доносился до палаток.
Разжигали костер… Чтобы из мокрых веток извлечь огонь, нужно было нечеловеческое терпение. Весь измажешься в жидкой золе, ползая вокруг кострища на локтях и коленках, наглотаешься чаду, надорвешь легкие, дым глаза выест, а огонька все нет и нет… Шипят палки. Коробятся листья. А Герман книжек на растопку больше не дает. Мы, говорит, не фашисты, чтобы сжигать на кострах книжки… Но рано или поздно терпение будет вознаграждено: вспыхнет где-нибудь огонек, высунет бледненький язычок — тут уж береги его, лелей, взращивай!
И, наконец, следовало приготовить пищу. Раз в сутки. Это было самое трудное дело. Что сварить? Из чего? Из каких продуктов? Картошки нет. Масла нет. И манна небесная не сыплется.
Был консервированный борщ в стеклянных банках. В прежние благополучные дни его не особенно почитали, поэтому он сохранился. Лева заваривал сразу два ведра борща. На весь день. Сдабривал его мелко накрошенным сосисочным фаршем, взятым из неприкосновенного запаса. Половину пятисотграммовой банки на ведро. Это было так ничтожно мало, что фарш бесследно растворялся в жидком водянистом вареве, даже запаха его не чувствовалось. Зато уж борщ хлебали вволю. Даже не хлебали, а пили прямо из мисок, отложив в сторону ложки. На мгновение приходило теплое сытое опьянение, но стоило вареву поостыть в желудке, как снова хотелось есть. Эх, по сухарику бы еще к борщу! Но и сухари съедены.
Коркин разносил горячие миски с борщом больным. Вениамин лежал под грудой тряпья и все никак не мог согреться, зубы его громко клацали о край алюминиевой миски. От одиночной палатки Германа уже на расстоянии пахло табаком, внутри вообще нечем было дышать, а сам он, закутавшись в спальник, предавался любимому занятию — чтению. И вокруг него враз лежало пять или шесть раскрытых книжек.
Приносил Коркин еду и Маше, хотя она была, слава богу, здорова. Здорова и деятельна… Ни минутки не сидела в палатке без дела. То перетряхивала рюкзаки с бельем, то принималась за штопку носков, то вдруг перестилала постель: один спальник на пол вместо матраса, другим — накрываться, спать вместе, так будет теплее, чем врозь по одиночным спальникам.
Это было неожиданно и прекрасно: несмотря на голод и холод, в их засыпанной снегом палатке поселилось счастье. Стоило Коркину застегнуть за собой заледеневший полог, увидеть вновь Машу, движения ее рук, ставшие необыкновенно плавными и мягкими, услышать радостный голос, ощутить чистое дыхание, как тотчас вылетали из головы все хозяйственные заботы и начинал он думать и мечтать черт знает о чем.
Коркин пытался гнать непрошеные мысли, корил себя бранными словами: партия в бедственном положении, спасать надо, а он, слюнтяй этакий, возле жены разомлел, в эфирах парит… Но никакие слова не помогали. Пока он был в палатке, возле жены, все, что находилось за брезентовыми стенами, представлялось незначительным, пустячным: и снегопад, и сырые дрова, и отсутствие продуктов, и мерзнущие по своим норам голодные люди — все это было Временным, преходящим по сравнению с тем, что он чувствовал теперь в себе.
Совсем еще недавно, до полета первого спутника вокруг Земли, философы смотрели на будущее человечества весьма пессимистически. Рано или поздно остынет могучее светило — солнышко, иссякнет его энергия, и заледенеет наша планета, погибнет на ней всякая жизнь, какого бы расцвета она ни достигла — все пожрет космический мрак и холод. Спутник породил высокий оптимизм: еще раньше, чем начнет затухать солнце, люди научатся летать в межзвездных мирах, найдут для себя не одну цветущую планету, и не перевестись роду человеческому во веки веков!
Схожая перемена произошла теперь в судьбе Коркина. Не спутник запустил — новую жизнь завязал, и родился в нем светлый оптимизм на многие-многие годы вперед: и его коркинскому роду не быть переводу, и его некая малая частица, кровиночка росная через века, через тысячелетия поселится на неведомой планете. Разве ради этого не стоит жить и работать изо всех сил?
И Коркину немедленно хотелось что-то делать, куда-то идти, бежать, открывать, писать научные труды Когда перед отправкой в тайгу Мордасов спросил о диссертации, Коркин даже удивился, и мысли о ней в голове не держал. А сейчас он пылко думал: а почему бы нет? Почему бы не написать диссертацию? Материала у него не то что на кандидатскую — на докторскую хватит. Надо уметь прыгать выше головы, как хариусы. Не задачи надо ставить перед собой, сверхзадачи — тогда только чего-то добьешься. И надо жадно, ненасытно чего-то желать. Отсутствие желаний — болезнь. Сейчас он здоров, впервые за многие годы с надеждой и верой глядит в будущее и ему хочется всего: открытий, почестей, славы…
В палатке было сумрачно, промозгло. За стенками с шуршанием осыпался снег. Скреблись и позванивали листья.
Коркин вглядывался в Машино лицо и признавал и не признавал его. С минуту-другую оно виделось точно таким, каким было десять лет назад: так же удивленно и радостно блестели глаза, так же вокруг головы разметались по изголовью мягкие пышные волосы, на припухших губах блуждала точно такая же зовущая улыбка, и самому ему с прежней страстью хотелось обладать этой женщиной. Это тоже было неожиданно и прекрасно.
Подстриженная в скобку, русоволосая, круглолицая девушка сидела за столом напротив и неотрывно смотрела прямо ему в глаза. Сначала он недоумевал, сердился — что ей, чертовке, надо? Потом засмущался — может, не так ест, пьет, вилку не так держит, может, в одежде непорядок? Из ее серых лучистых глаз лились и лились неведомые токи, проникали в Коркина, и закружилась у него голова, сладостно заныло сердце. И враз отодвинулись куда-то вдаль звон рюмок и чашек, бренчание вилок, тосты, шутки, смех, и за огромным праздничным столом остались они будто только вдвоем… Он уже не испытывал больше неловкости, не сердился, напротив, упал бы духом, обиделся, если б девушка вдруг отвернулась и забыла о нем. Но она не отворачивалась. И, склонясь над тарелкой, Коркин напрягся, затаил дыхание — кожей, всем существом своим впитывал ее непонятный волнующий взгляд.
Кончилось застолье, заиграла музыка, начались танцы. Коркин сразу подошел к глазастой смутительнице. Звали ее Машей. Училась она тоже в горном институте, только двумя курсами младше. Одета была в похожее на школьную форму коричневое платье с кружевным белым воротничком вокруг стеблистой высокой шеи. Ведя ее в танце, Коркин нащупал на остром локотке штопку, и это почему-то умилило и разволновало его чуть не до слез.
Ах, боже мой! Что же это такое происходит? Маша смотрит на него сияющими, откровенно счастливыми глазами. И голос ее поет и переливается. Коркину кажется: спроси о чем угодно, и она без утайки расскажет. Она ему как сестра родная… Нет, не сестра, но он знает эту прекрасную девушку давным-давно, с тех пор, как сам себя сознает… А теперь глаз с нее не спускай, карауль, смотри, чтоб в полночь не убежала, как Золушка. Другой такой во всю жизнь не найдешь.
Но Маша в полночь не убежала. На улицу вышли вместе. Под фонарями кружились мягкие хлопья. Деревья на бульварах стояли в пуху, а дорога была белой-белой, и ни одного следочка на ней не виднелось.
Еще не зная, что он сейчас скажет, чувствуя только безрассудную решимость, Коркин вдруг остановился, придержал Машу за руку. В глазах потемнело. И с веселым отчаянием он бросился в бездонную пропасть:
— Маша, знаешь что?
— Что? — беззаботно переспросила она.
— Давай поженимся!
— Ой! — вскрикнула Маша и, пошатнувшись точно от слабости, припала на мгновение к плечу Коркина. — У меня прямо сердце оборвалось!
Коркин с удивлением чувствовал: жив, не разбился в пропасти. Только вот задыхался от головокружительного полета.
— У меня тоже сердце оборвалось, — сказал он.
— Я чуть не упала от неожиданности.
— Чуть не считается.
Так они еще о чем-то переговаривались. Но самое главное уже было сказано.
Недалеко уже было Машино общежитие — четырехэтажное кирпичное здание казенного облика, без балконов, без иных украшений, одиноко стоявшее среди приземистых деревянных изб с палисадниками и заснеженными огородами на задах. Вдруг поблизости скрипнула-отворилась калитка, и вышла из двора женщина в валенках на босу ногу, ватнике поверх бумазейного халата и с широким коромыслом на плечах. А на коромысле, раскачиваясь, звенели и брякали белые оцинкованные ведра. Женщина направилась к водоразборной колонке, черневшей на противоположной стороне улицы. Коркин рассеянно подумал: что ей, этой бабе, дня мало, среди ночи по воду взыскалась? А Маша вдруг остановилась, круглое лицо ее побледнело. Даже при том скудном свете, который излучался от снега, увиделось, как оно мгновенно потухло и побледнело. Вслед за этим Маша бросилась к Коркину, прильнула к нему всем телом и проговорила в страхе, почти простонала:
— Вот пустые ведра пересекли дорогу! Как это ужасно! Ничего у нас не получится!
И в этих словах Коркин услышал желанный ответ. Он целовал Машу в соленые дрожащие губы и успокаивал:
— Дурацкая примета! И ты веришь в нее! Брось, пожалуйста! Забудь про ведра!
— Надо же! Словно она нарочно целую ночь нас караулила с этими ведрами.
— Хочешь, я ее сейчас догоню и ворочу домой? Как бы она и не переходила никакой дороги.
— Не надо, Коля. Будь что будет.
Пустые ведра встретились им все-таки не зря. Дней через пять, в течение которых они не расставались друг с другом, в перерыве между лекциями к Коркину подошел председатель факультетского профбюро Степан Мордасов и попросил уделить ему минуточку внимания. Коркин согласно кивнул головой, приготовился слушать. Но Степан не торопился с разговором — огляделся вокруг, обнюхался и, не найдя укромного безлюдного уголка, пошагал строевым шагом в конец коридора. Как и на первом курсе, он все еще носил перетянутую ремнем солдатскую гимнастерку, старую ли донашивал, новую ли сшил — не поймешь, ну и, соответственно, сапоги со звонкими подковками, галифе… Рыжие волосы с затылка горели еще пламеннее и ярче.
В конце коридора зашли они в пустую аудиторию. Коркин по студенческой привычке взобрался на стол, сел, поставив ноги на скамейку. Степан остановился перед ним — недобрые глаза прищурены, ладони по большой палец за ремень всунуты.
— Слышал, жениться собрался?
Коркин был так ошарашен вопросом, что его даже со стола подбросило. Откуда Степану стало известно о его намерениях? Сам он не рассказывал ни одной душе. Да еще толком ничего не решено. Наверно, Маша проговорилась кому-нибудь из подружек, и они, как сороки, разнесли по всему институту. Да и другими путями Степан мог пронюхать: считает своим долгом знать все о сокурсниках.
— Ну, что молчишь? Отвечай.
— Вроде бы.
— Машка — девушка хорошая, — не вынимая ладони из-за ремня и раскачиваясь на носках, произнес Степан. — Но видишь ли, какая история, — он на секунду задумался, как бы подыскивая слова. — Я с тобой говорю как давний добрый товарищ. И только добра тебе желаю. За Машкой нехороший хвост. Слухи разные о происхождении и прочем. Кто ее родители, где они, ты знаешь? Не знаешь! Ну, то-то. А дыма без огня не бывает. Уж поверь мне. Я-то в этих вещах кумекаю… Маша росла в детдоме. Мы против нее ничего не имеем. Пусть учится, раз поступила. Но тебе-то зачем такая обуза? Подумай, посоветуйся с отцом. Насколько мне известно, он старый большевик, красный партизан. Не захочет, наверно, таким родством пятнать свою фамилию.
Из обиняков и темных намеков Мордасова Коркин понял одно: Маша в опасности. Раз на нее упал Степанов взгляд, ничего хорошего теперь не жди… И вспомнилось в ту же минуту…
В просторном, как храм, институтском вестибюле, меж мраморных колонн, размещался остекленный книжный прилавок. Долгие годы стоял за ним тихий невзрачный старичок, одевавшийся зимой в коричневую вельветовую толстовку до колен, а летом — в такой же длины парусиновую блузу. Этот музейный экспонат, сам страстный библиофил, знал абсолютно всех книжников в городе, и поэтому, какую бы книгу ему ни заказали, старинную ли, иностранную, он всегда ее добывал. Среди его клиентов Пыли профессора, преподаватели, аспиранты, студенты. Студентам он доверял книжки в долг, до стипендии, выручал их полтинниками на обед. Словом, в пределах института известной личностью был продавец книг. Все его почитали и любили. В такой благожелательной атмосфере он мог простоять за прилавком еще долгие годы, если бы однажды на него не упал подозрительный взгляд Степана. С час или более проторчал Степан в вестибюле, наблюдая за бойкой книжной торговлей, а через несколько дней выступил на ответственном собрании: поглядел, говорит, чем этот старик-офеня из-под полы в вестибюле торгует: книжки в основном старые, ветхие, дореволюционные, не переиздающиеся, как видно, по причине своей вредности; не торговля, говорит, это, а самая настоящая идеологическая диверсия… И не стало за прилавком старомодного старичка, угрюмая девушка в очках его заменила. На пенсию ли отправили, дома ли сидит, за другим ли прилавком — никто не ведал.
— Ну, ты мне что-нибудь все-таки скажешь? — раскачиваясь на носках, спросил после долгого ожидания Степан.
— А вот что я тебе скажу! — ответил Коркин и выкинул к Степанову носу кулак с кукишем, потом спрыгнул со стола и, не оглядываясь, пошел прочь из аудитории.
Предупреждение Степана возымело на Коркина обратное действие: теперь-то уж он наверняка женится на Маше, и немедленно, сегодня же. Тогда попробуй, поговори о ней в таком духе!
Коркин бросился было разыскивать Машу, но, вспомнив, что у нее в этот день занятия по физкультуре, которые проводили за городом, на лыжной базе, оделся, выбежал из института, поймал на улице такси и полетел домой.
Старый у Коркина отец. Седая борода во всю грудь, глаза ввалились. Он сидел в высоком кресле с подлокотниками перед письменным столом, по левую руку стоял костыль с матерчатой подушечкой, по правую — батожок: из-за старых ран слабели, отказывали ноги.
Не разболокаясь, Коркин присел против отца на стуле и без утайки рассказал ему и про Машу все, что знал, и про недавний разговор с Мордасовым. Слушая, отец хмурился и оглаживал рукой бороду. Сыну знаком был этот жест, выражавший скрытое волнение. После минутного молчания отец усмехнулся и промолвил:
— Хорош у тебя сваток, ничего не скажешь. Ты его не послал подальше?
— Я ему кукиш показал.
— Ну и правильно.
— Спасибо, батя. — Коркин положил руку на отцовское плечо.
— Погоди спасибо говорить. Лет сорок с ней проживешь, как мы с матерью, тогда и говори… И вот что еще, дружок. Что это нынче за мода такая: после венца невест родителям показывать? Не мешало бы нам пораньше на нее взглянуть.
— Ну, это можно. Хоть сегодня.
— Сделай одолжение.
— Договорились. Сегодня вечером я ее привожу, а вы тут тоже соответственно приготовьтесь.
Когда вечером Коркин и Маша пришли, в доме вовсю еще шла стряпня. У матери руки были по локоть в муке. Она раскатывала скалкой сочни. А отец, пропустив под бороду передник и держа на коленях корыто с мясным фаршем, щипал пельмени. Борода его произвела на Машу сильное впечатление. Уже поздоровались, познакомились, а гостья нет-нет да все на нее взглядывала.
— Можно вам помочь? — первой заговорила Маша.
— А почему бы нет? — кивнул головой отец. — Пристраивайся рядышком. В четыре руки быстро налепим. Умеешь ли только? Мой-то — мастер лишь уписывать за обе щеки.
Коркин обеспокоился: а вдруг у нее ничего не получится, и она только осрамится. Но Маша уверенно взяла мучной сочень, чайной ложечкой положила на него из корытца фаршу, положила ровно столько, сколько надо, перегнула сочень, пробежала по краям, кончиками пальцев — и пельмень готов, аккуратненький, хорошенький, не хуже, чем у отца, признанного мастера пельменного дела. Коркин облегченно вздохнул. Отец удовлетворенно крякнул:
— Вот это так, по-нашему.
Все это припомнилось, увиделось Коркину в холодной палатке с провисшей под тяжестью снега намокшей крышей… Он склонялся над Машей, и ему мерещилось, что не было никаких десяти лет, что они только что вошли после полуночи в его комнату — тем давним счастливым изумлением светились ее глаза, с той давней нежностью перебирала она его волосы.
— Знаешь, — прошептала Маша ему на ухо, — я необыкновенно рада, что вертолет не прилетел.
— Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Неизвестно, как еще дело обернется.
— Теперь все будет хорошо.
Среди ночи разбудили их непонятные шорохи и бормотанье.
— Ты думал, я такой же? Да? За кого ты меня принимаешь, сволочь? А-а-а! — сипел близко придушенный голос, и нельзя было разобрать, кому он принадлежит.
Потом возникли движения, матерки, заглушенные стоны, и прежний голос прохрипел:
— Я тебе подушу! Я тебе подушу! Убери свои руки, ворюга!
— Замолчи, падло! — это был уже другой голос, и принадлежал он как будто Леве.
Коркин сунул босые ноги в сапоги и выбросился из палатки.
Земля, кусты, камни сияли первозданной белизной. Было глухо. Мягкие снега, как вата, вобрали в себя все звуки, существовавшие в природе, и тем неправдоподобней казались крики, доносившиеся из палатки рабочих, Сама палатка ходила ходуном — вот-вот сорвется с кольев и упадет. Вдруг на ней с треском оторвались петли, отскочили застежки, и к ногам Коркина выкатились клубком Вениамин и Лева. Вместо рубах — длинные лоскутья, Левина — аж без рукавов. Казалось, снег шипит от разгоряченных тел.
— А ну, прекратить! — рявкнул Коркин.
Ему не вняли. Тогда он схватил обоих петухов за отросшие патлы и, растащив в разные стороны, поставил на ноги. Но и на ногах они все еще порывались клюнуть друг друга.
— Выкладывайте, что произошло!
— А вот что! — Вениамин на секунду запрыгнул в палатку и извлек оттуда за наплечную лямку пузатый рюкзачок. — Смотрите! — он на весу перевернул рюкзак вверх дном, и на белый снег вывалились черные сухари. Покоробленные жаром, ноздреватые, большие, отборные сухари.
— Мы четвертый день пустую баланду трескаем, — негодовал Вениамин, размахивая пустым рюкзаком, — а он сухарями брюхо набивает! С головой залезет в спальник и, как мышь, шуршит там… А сегодня мне подсовывает. Думал — не откажусь. На-кось, выкуси! Я лучше сто раз с голоду подохну, чем на ворованное брошусь. Ошибся адресом! Не за того принял!
Вениамина не узнать было. Вроде бы все в нем оставалось прежним — выпирающие мослы, худоба, некрасивое длинное лицо, руки до колен, и в то же время буквально все в нем переменилось. Стан распрямился, плечи раздвинулись, с лица стерся последний следочек кривой заискивающей улыбки…
А Лева, скрестив на груди руки, с саркастической ухмылкой смотрел на беснующегося Вениамина, и в уголке рта его высокомерно и нагло взблескивал золотой зуб.
— Заткнись, падло! — с наигранным презрением произнес он. — Подумай лучше о будущем!
— Что? Угрожать? — вышел из себя Коркин и схватил Леву за рубаху. — Посмей только тронуть!
По Левиному лицу легкой рябью пробежал испуг. Он спятился на несколько шагов назад и торопливо пробормотал:
— Усек, начальник. Усек. При тебе не трону.
Весь лагерь уже был на ногах — Маша, Герман, Александр Григорьевич. Они стояли за спиной Коркина и молча смотрели на рассыпанные по снегу сухари. На Леву не смотрели. Герман, прибежавший на крик в одних трусах и босиком, перепрыгивал в снегу с ноги на ногу. Будто перебрасывал с ладони на ладонь горячую лепешку. Коркин поворотился к ним и сказал:
— Глядите: повар украл ваш хлеб. Вам и судить его. Как скажете, так и будет.
Воцарилось тягостное молчание. Никто не решался взглянуть в глаза друг другу, точно каждый тут был вором. Опустил голову и Лева. Герман замер, как аист, на одной ноге и сказал:
— Тут каждый гриб, каждую ягодку в лагерь тащишь, чтобы вместе съесть, а он… Теперь понятно, почему фаршем в борще не пахло: он просто не попадал туда… Э-э! Да что тут много рассусоливать! Выгнать! К чертовой матери! Вот и весь мой сказ. Больше ноги не терпят, — и побежал в палатку.
Проводив взглядом Германа и как бы возражая ему, Александр Григорьевич с сомнением покачал головой:
— Однако, дорогу не найдет. Замерзнет в камнях. Живой человек. Как же можно выгнать?
— Конечно, в теперешних условиях мы не имеем права гнать его от себя, — сказала Маша. — Ну а как жить рядом? Даже в глаза ему стыдно глядеть. Эх, Лева, Лева, смотри, никто ведь из нас не умер на голодном пайке. И с тобой бы ничего не случилось. Десять лет я работаю в партиях, не в такой переплет попадали. Всякое бывало. Но чтоб красть хлеб у своих — этого не бывало. Не припомню.
— Теперь будет что припомнить, — вскинув голову, усмехнулся Лева.
— Ни черта ты не понимаешь, — махнула рукой Маша и, поворотившись, расстроенная, побрела в палатку.
Первый гнев отхлынул от сердца, и Коркин мог трезво подумать о случившемся. Маша права: гнать Леву они не имеют права — пропадет. Да и бессмысленно гнать. Даже если не пропадет и выйдет за двести верст в Саранпауль, ничего хорошего из этого не получится. Устроится в другую партию и снова залезет в общественный мешок — такие уж руки! И выходит, выгнать — все равно что щуку выбросить в реку. Нет уж, пускай поработает здесь. Пускай показнится на наших глазах. Это ему полезно. Да к тому же в партии каждый человек на счету.
— Ну а сам что скажешь? — хмуро спросил Коркин.
— Виноват, никуда не попрешь. Факт налицо, — и кивнул на рассыпанные в снегу сухари.
— А впредь как будет?
— Впредь? Брать-то нечего — все съели, — прежним шутовским тоном произнес Лева, но тут же горячо поправился: — Руки отрубите — больше ничего не возьму!
— Оставайся, — сквозь зубы процедил Коркин. — А сухари собери и раздели всем поровну. И завтрак чтоб был вовремя.
Только через шесть дней черные тучи наконец опростались и, облегченные, посветлевшие, поднялись над долиной. Взору открылись пестрые от снега вершины гор. И уже не казались они, как во время снегопада, ни головокружительно высокими, ни таинственными, ни ослепительными — обыкновенные сопкообразные каменистые нагромождения, каких на старом Урале тысячи.
Вверху, на просторе, за высвободившиеся из плена облака принялся ветер и в полчаса растеребил, разбросал их, как пух. И вот уже в треугольной промоине сверкнул осколок чистого неба такой немыслимой голубизны, что у людей в долине от избытка чувств навернулись на глаза слезы. Запрокинув головы, они смотрели и смотрели в небо, и их грязные, голодные, хмурые лица постепенно разглаживались.
А промоина между тем размывалась все шире и шире, превратилась в полынью, и через нее сначала хлынул поток золотых лучей, провис над долиной прозрачным парчовым занавесом, а потом вылетело на огненной колеснице и само солнце в царственных одеждах, хмельное, буйное, косматое. И приветствуя его, зажглись гигантскими драгоценными корундами близкие горы. А дальние еще осеняла промозглая тень.
Солнце сразу же взялось за работу.
Над крышами палаток закурились испарения. Стряхнула комок снега ивовая ветка и отдохновенно закачалась, расправляя жилочки после тяжелой ноши. Выскользнул из-под снега, приподнялся с земли стрельчатый листок осоки и тут же поворотился во всю свою ширину к солнышку — обогреться побыстрее.
Первым освободился от снега и обсох большой серый валун, лежавший близ берега, и на нем тотчас радостно запрыгала на длинных тоненьких, будто составленных из спичек ножках такая же серенькая, как валун, трясогузка, запрыгала, застрекотала, затряслась. А через некоторое время под валуном вытаяли две мертвые трясогузки, валявшиеся кверху лапками — погибли в снегопад. У этих ножки походили уже не на ломкие спички, а на скрюченную крепкую проволоку. Кто была им живая — подруга, сестра, мать? Она прыгала и прыгала, тряслась, стрекотала, и в голосе ее звучала печаль.
Вздулся, разыгрался, с громом заворчал по дну камнями ручей.
Выздоровевший Вениамин ошалел от тепла. Вместе со щенком носился по песчаной косе, прыгал, взвизгивал, размахивал длинными руками. На нем были одни трусы с неумело нашитыми вкривь и вкось заплатами — сам починял. А остальное барахлишко сушилось на камнях и кольях: портянки, носки, рубашка, майка, энцефалитный костюм, простынный вкладыш из спальника, сам спальник — каждая вещь лежала или висела в отдельности.
Примеру Вениамина последовали и остальные обитатели лагеря — повытаскивали свое добро на солнышко, и лагерь сразу стал походить на толкучку, где можно купить все, что душе угодно: седла, уздечки, палатки, сапоги, ружья, фотоаппараты, книжки, тетрадки, меховой жилет и даже резиновую лодку. Все это лежало и висело на пространстве не менее чем в гектар.
Александр Григорьевич собрал с земли уздечки, вздел на руку и пошел разыскивать лошадей, которых все шесть дней никто не видел и не слышал. Кони — не люди. Хоть и стреноженные, наверно, сразу же ускакали в лес, в заветрие.
И только проводник скрылся из виду, как на противоположном берегу гремящего ручья невесть откуда появился чужой человек — парень в изжеванном сером плаще, в шапке с оторванным ухом; из-за плеча торчал покрасневший от ржавчины ствол облегченной малокалиберной винтовки.
Это походило на чудо — неожиданное появление незнакомца Коркин был убежден: в долине они одни. И как на всякое чудо, из лагеря смотрели на пришельца с недоверием и опаской.
Парень расправил высокие голенища и зашел в ручей. Бешеный поток чуть не сбил его с ног. Тогда он снял с плеча винтовку и стал ею пользоваться как посохом. Выбравшись на берег, он снова загнул голенища и опустился возле костра на ящик из-под банок с консервированным борщом. Вокруг запавших щек курчавилась реденькая нематерая бородка, зубы были желтые, а светлые глаза какие-то неживые, будто застывшие.
— Закурить не найдется? — передернувшись, словно от холода, понуро спросил гость.
Коркин достал из кармана пачку «Беломора». Дрожащими пальцами с трудом вытянул парень папироску, раскурил ее от уголька и, жадно затянувшись, задал еще один вопрос:
— Рация есть?
— Нету.
— Значит, мне о другой партии говорили, не о вашей.
— А что говорили?
— Мол, рация имеется… Кореша обезножили, обморозились в буран.
— Где они? — поглядел за ручей Коркин.
— Да тут, недалече. В оленеводческом чуме вон за той горой, — махнул рукой парень. — А обморозились в камнях. Геодезисты мы. Буран застиг на вершине. Репер выкладывали. Никак не предполагали, что разыграется на неделю. Знать бы — по первому сигналу кубарем катиться вниз! А мы думали: часок-другой покрутит и успокоится — лето все-таки, и укрылись в камнях. А снег валит и валит. День, второй, третий. Ветер свищет… Да вы сами все знаете. Сухари кончились. Малюсенький костерик не из чего разжечь: палочки не сыщешь в камнях. На третий день решили спускаться вниз, а у напарников моих уже и силов нету: руки-ноги поотнимались. Обморозились, значит. Я-то сидел между ними в середке, и со мной ничего не сделалось, а они с краев — вот и померзли, как овощ. А сегодня ночью оленеводы на нас набрели — собака ихняя унюхала. Ребят на нарты — и в чум, а я на Кожим подался. Оленеводы говорят: где-то там партия геологов стоит. И, мол, рация у них имеется. Вертолет надо звать на выручку.
«И сам намерзся так, что до сих пор отогреться не может, — подумал Коркин. — Вон и руки дрожат, и глаза, как заиндевелые льдинки в ведре». А вслух сказал:
— До Кожима еще восемь километров.
— За полтора часа дойду.
— А не объяснили тебе оленеводы, где та партия стоит?
— Пониже устья этого ручья. Километрах в пяти, что ли.
— Спасибо. Она нам тоже может понадобиться. Лева! Накорми-ка гостя!
— А чем прикажете? — сидевший перед гостем на корточках повар удивленно вскинул брови. — Борщ и тот весь съели.
— Дай банку сосисочного фарша.
— Она у меня последняя, энзэ.
— Бог с ней. Отдай.
Поджав губы, Лева порылся в мешке, вытащил банку, жалеючи, несколько раз подкинул в воздух и сунул нехотя гостю в руки.
— Подогрейте прямо в банке, — облизнув губы, посоветовала Маша.
— Сойдет и так! — сказал парень и, вытащив из-за голенища нож, круговым движением вскрыл банку. Маша собралась было подать гостю ложку, но не успела и с места двинуться, как ложка была уже не нужна. Лева прищелкнул языком. А парень еще раз заглянул внутрь банки и, окончательно удостоверившись, что пуста, швырнул ее через плечо в ручей.
— Часа через два, как только приведут лошадей, мы тоже двинемся на Кожим. Может, с нами пойдешь? — предложил Коркин.
— Нет, надо спешить, — парень поднялся с ящика, подобрал с земли винтовку и протянул Коркину руку: — Спасибо за хлеб-соль… А вас, случаем, выручать не надо?.. Нет? Ну, и слава богу. Бывайте.
Пользуясь винтовкой, как посохом, парень снова перешел на противоположный берег — там пролегала тропа на Кожим. Провожая его взглядом, Коркин подумал: значит, им еще повезло, ежели все живы-здоровы.
Перед вечером, когда партия подходила к Кожиму, над ней пролетел похожий ярким цветом на божью коровку пожарный вертолет. Курс он держал прямо на восток, в горы. Металлический гул мотора, усиленный каменным эхом, прокатился по долине, как обвал.
Вертолет был чужой. В Саранпауле таких красных не было, и летел он с чужой стороны. Значит, парень уже дошел до цели и дал радиограмму, молодец!
Придя на берег Кожима, Коркин первым делом отправился разыскивать геологическую партию, у которой имелась палочка-выручалочка, то бишь рация. Он лелеял надежду не только связаться со своей экспедицией, но и разжиться кой-какими продуктами: бывает, рачительные хозяева столько их завозят — напасают на полевой сезон, что по осени хоть распродажу устраивай. Но вот на что только покупать — ни копейки в наличности… Помощь пришла с неожиданной стороны — от Вениамина. Услышав у костра про коркинское безденежье, тот, ни слова не говоря, надпорол подкладку куртки и извлек из-под нее скатанные жгутами три красненькие десятки. Не жирно, конечно, для голодной оравы в шесть ртов, но и то ладно — не совсем с пустыми руками заявится к незнакомым соседям. Коркин позвал с собой Германа. Александр Григорьевич оседлал для них самых проворных коней.
Оказалось, соседи — из Воркуты, тоже съемщики. Отмерили они Коркину на тридцатку припасов, а потом безо всякой расписки, под честное слово добавили в долг еще почти на полета рублей — сухарей два непочатых мешка, из ушастых углов которых серьгами свисали фанерные фабричные бирки с указанием сорта и веса содержимого, так что взвешивать не было нужды, два плоских ящика мясной тушенки, манки пуд, сгущенки, сахару, соли, полтора десятка пачек чаю, папирос, спичек. Про спички неловко было даже заикаться, но не пропадать же без огня в тундре — свои-то размочили во время снегопадов. Радист поискал в эфире связи с Саранпаулем, но не нашел сразу, и тогда Коркин оставил ему для передачи текст радиограммы, в которой заклинал Мордасова прислать на Кожим вертолет, не мешкая ни дня.
Были и новости: сдержал все-таки слово профессор Карпов и явился на Приполярный Урал, явился с молодым помощником на пяти лошадках — на двух сами разъезжают по горам и речным долинам, а на трех возят во вьюках провиант и снаряжение. Чудак старик таскает с собой медный самовар — никакого иного кипячения, окромя самоварного, не признает. И блюдце с добрую миску, чуть не литровое. Нальет, говорят, полное, поставит на широкую ладонь и швыркает-втягивает на весь лес — усь, усь! Сквозь желтоблестящую кожу на лысине пот проступает — ровно из сыра вытапливается… Коркин не знал, радоваться ему этим новостям либо, наоборот, печалиться. Старик принял вызов, притащился из Ленинграда в горы, на Север, а сам Коркин, вместо того чтобы в поте лица вкалывать, готовиться к продолжению спора, черт знает чем занимается — с нищенской сумой по миру бродит…
Обратно от воркутинцев они двигались не по берегу Кожима, прошивавшего каменную землю кружевными петлями, а напрямик через холмы и невысокие горы.
Лошади были привязаны одна к другой. Переднюю Герман вел в поводу. Скрипели кожаные седла, размеренно постукивали по бокам вьюки с продуктами.
Издали пологие склоны холмов казались голыми и ровными, точно катушка, но когда геологи брели по ним, их ноги по колени, а то и выше утопали в зарослях карликовой березки, можжевельника и ивы, а под перепутанной растительностью, как старые шрамы, прятались многочисленные бугры, камни, вмятины.
Заросли были такие густые и упругие и так тесно переплетались друг с другом, что ноги не раздвигали их — разрывали, снизу слышался треск ломающихся веток и, как в бане, пахло березовым листом. И лист-то жалкий, величиною с грош, а запах настоящий, березовый.
На зеленых склонах тут и там росли маленькие, в рост человека, густохвойные елки. Росли семьями: по пять-шесть, а то и целыми десятками вместе — темные малюсенькие островки среди разливанного моря светлой карликовой березки.
Впереди, касаясь краешком вершины увала, катилось плоским белым диском полуденное светило. Стеклянный блеск струился по мелкой листве, слепил глаза.
— Ты видел, какие у них кони? — с непонятным раздражением вдруг заговорил Герман. — Сытые, круглые! Битюги! По полтора центнера волокут. А наши от пятидесяти килограммов с ног валятся. Мы своих коней под гору силой тащим, а у них в гору — в поводу не сдержать. Продуктов навалом. У каждого в партии по надувному матрасу. Даже у рабочих… Никакой посторонней заботушки — знай вкалывай на благо отечества! Право, я будто в другой стране побывал. А страна-то одна. Так в чем же дело? У нас ведь в магазинах тоже есть эти матрасы, и я Мордасова не раз просил: «Купите». — «Не положено», — отвечает. Значит, спи на вечной мерзлоте, как знаешь, а потом досрочно на пенсию с радикулитом или ревматизмом. У-у-у! За такие дела судить надо Мордасова. Будь моя воля, я бы его давно…
— Ты недооцениваешь его, — усмехнулся Коркин. — Скорее он нас с тобой посадит.
— Черта лысого!
— Уж поверь мне. Я-то его побольше знаю. Если говорить откровенно, однажды чуть не закуковал по его милости.
— Вот даже как? — присвистнул Герман.
— Давай-ка передохнем, — предложил Коркин.
Они отпустили лошадей, а сами устроились на сухом глинистом бугорке, лысо вспучившемся меж березок. Коркин вытащил из кармана свежую пачку «Беломора», одну из тех, что добыли у воркутинцев, угостил Германа, сам закурил.
— После четвертого курса мы с ним на практике вместе были. Знаю его чуть не с пеленок и не упомню случая, чтобы хоть раз в рядовых походил. И там, на практике, его сразу в начальство возвели, командиром отряда поставили. У него рабочие карты, деньги и все прочее. Помню, с неделю мы стояли на окраине какого-то пыльного улуса. В Казахстане дело было. Не улуса даже, а районного городка. По утрам Степан выдавал нам под расписку карты, а вечером, после маршрутов, отбирал их и запирал в железный сейф. Работали, как всегда, в поле, без выходных, и это случилось, на мое счастье, в воскресенье. С утра дул ветер, змеил по степи пыльную поземку. После завтрака я что-то замешкался у костра, а когда подошел к Степану получить свои карты, он мне вдруг заявил:
— Ты уж их получил, вот только расписаться забыл.
— Да ты что, Степан! Я и в руках их сегодня не держал!
— У меня в сейфе их тоже нету. Кроме тебя, некому взять.
— Не брал я.
— Брось дурочку валять! Ты только что был тут.
— Не был я у тебя.
— Хочешь под статью меня подвести? Не выйдет! Ставь свою роспись в книжке!
— С какой стати, ежели я не брал карты.
— Ах, так! Сделаем тогда по-другому. Акт составим, и рабочие подпишутся как свидетели.
И что ты думаешь? Написал акт, позвал рабочих.
— Дурень, опомнись! Что ты делаешь? Карты наверняка где-то здесь, в машине или у тебя в сумке. Не труса праздновать надо, а искать.
В распоряжении Степана находился обшарпанный «газик». Это ему так нравилось, что он и спал, и ел в машине. Сейф, разумеется, хранился там же. По утрам он выкладывал карты на сиденье, становился одной ногой на приступку «газика» и созывал геологов: получайте, расписывайтесь. Вручение карт напоминало своей торжественностью подъем флага. Трясу я Степана за грудки и чувствую: не послушается — пристукну, придушу, как щенка. И он, видно, почувствовал мою решимость, струхнул малость, даже под машину полез искать, но карт нет нигде, словно в воду канули. Снова пристает ко мне:
— Пиши расписку! Иначе и рукоприкладство тебе зачтется. Свидетели есть.
А я остыл тем временем, пораскинул мозгами. Карты лежали на сиденье. Дверцы в машине распахнуты, и продувает сквозь нее ветер, дверцы так и ходят взад-вперед. Ну, ясно, подхватило карты и унесло в степь. Но одному их там искать — все равно что иголку в стоге сена: ни конца, ни краю той степи, глазом не объять.
И со Степаном говорить о поисках бесполезно: перепугался до смерти, прет на меня с распиской и слушать ни о чем другом не хочет.
Махнул я на него рукой и направился в улус. На одном из домов красная вывеска: «Райком ВЛКСМ», дверь распахнута настежь. Обрадовался: несмотря на воскресенье, может, кто-то есть. Толкнулся в первый попавшийся кабинет. Сидит за столом лохматый парнишка. Выпялил глаза на мою грудь, рот раскрыл. Я ему про дело толкую, а он все таращится на грудь и ни черта не слушает.
— Значит, вы мастер спорта? — вдруг перебил он меня.
— При чем тут мастер! — рассердился я.
— Но у вас на груди значок мастера спорта СССР.
— Ну, мастер. Но это к делу не относится.
— Очень даже относится! — обрадовался парнишка. — Послушайте! Вы нам должны помочь.
— Вот так здорово! Я пришел за помощью, а ты, значит, сам ее хочешь получить.
— У нас сейчас футбольный матч. Играем с соседним районом. Во что бы то ни стало мы должны выиграть, и вы нам поможете! Бежимте быстрее на стадион. Надо успеть футболку надеть и бутсы.
Парнишка прыгал вокруг меня, дергал за рукав, умоляюще заглядывал в глаза.
— Да не футболист же я, всего-навсего борец.
— Это неважно. Все равно мастер спорта! И в футбол у вас должно получиться лучше, чем у других.
— Я бутсы ни разу в жизни не надевал.
— Ничего, наденете. Понравятся, я вас уверяю, А сейчас бегом на стадион. Опаздываем. После матча займемся и вашими картами.
Парнишка, оказывается, все понял, о чем я ему толковал. И я заколебался:
— Но их за сто километров унесет!
— А что делать? Люди пришли смотреть футбол.
— Ладно. Только с условием: плохо ли, хорошо ли сыграю, забью гол или не забью, вы мне непременно поможете.
— О чем речь! Честное комсомольское!
Ногам в бутсах было тесно и непривычно. Уже через десять минут не то что бегом — шагом передвигаться не мог. За весь матч только раз и подкатился ко мне мячик. Ударил со злости что есть мочи. На стадионе вдруг поднялся душераздирающий рев. Оказывается, мяч влетел в ворота.
А после матча на весь стадион по радио объявили: «Единственный гол забил геолог Николай Коркин. Он просит зрителей помочь ему отыскать в степи утерянные геологические карты». Не подвел, значит, комсомольский деятель, сдержал слово.
За околицу высыпало человек двести. Болельщики все. Первую карту нашли недалеко от нашей стоянки. Ее прижало ветром к кустам колючки. А вторая как сквозь землю провалилась. Каждую кочечку, каждую ямку километров за десять вокруг руками ощупали — нет и нет! Вечер опустился. Люди обратно в улус потянулись. Я тоже отчаялся найти, но не поворачиваю, иду все дальше и дальше. На горизонте муравьиной кучей юрта обозначилась. Загадал себе: вот дойду до нее и поверну.
В юрте горела плошка. На кошме, скрестив калачиком ноги, сидел старик-казах с узкой реденькой бородой, сидел, пил из поставленной на ладонь пиалы зеленый чай и, прищурив глаза, завороженно смотрел на стену, а там, на войлочной стене, висела приколотая моя карта. Старик любовался, глаз не мог оторвать, будто не карта была перед ним, а невесть какая картина. И чтобы не обижать пастуха, я выменял у него карту за охотничий складной нож. В придачу еще дал открытку, завалявшуюся в кармане, — пышный пейзаж с пальмами и морем, приколол ее вместо карты на стене, старик остался очень доволен сделкой…
— Чем же кончилась вся эта история? — мрачно спросил Герман.
— Тем и кончилось. Принес карты Степану. Он сделал вид, что ничего не произошло.
— Хоть извинился перед тобой?
— Не помню.
— Узнаю Коркина. Деликатнейший из деликатных! Благороднейший из благородных! Грубого слова никому не скажет. Пальцем никого не тронет. Все видит, все понимает — где подлость, где грязь, сам никогда не замарается и втайне гордится своей нравственной чистотой.
— Ты, как всегда, сгущаешь краски.
— Нисколько! — Герман с силой швырнул в кусты потухшую папиросу. — Насквозь вижу тебя! И убей, не могу понять, как ты после всего этого можешь с ним работать!
— Так уж обстоятельства сложились: направили в одно место.
— Обстоятельства! Жалкое слово!
— А что бы я мог сделать?
— Перейти в другую экспедицию! Нет, это тоже игра в благородство. Орать надо было во все горло, чтобы все слышали: шкурник, живодер, родную мать за полушку погубит, не то что какую-то там геологическую партию! И сейчас мы не тряслись бы от холода и голода, не выкручивали бы шеи, заглядывая в небо! Не побирались бы по чужим людям!.. Хочешь — обижайся, хочешь — нет, только я должен тебе сказать: в бедственном положении нашей партии больше всех повинен ты, ибо как облупленного знаешь Мордасова и тем не менее доверился ему.
Черные глаза Германа метали громы и молнии, на остро обозначенных скулах под курчавой бородкой проступили багровые пятна — как бы зашаяли раздутые ветром угольки под пеплом; борода стала казаться словно приклеенной, и за ней легко угадывалось совсем еще мальчишеское энергичное смуглое лицо.
Герман, конечно, максималист, никогда не знает золотой середины, но сегодня он прав на все сто: нельзя было доверяться Мордасову… Что-то новое, мужское, яростное прорастало в душе Коркина.
Покуда сидели на бугре, солнечный диск закатился краешком за холм, окрасился в предвечерний багряный цвет, и по листам березки потекла вниз уже не стеклянная река, а кровяная, красная. Лишь низкорослые елки остались все такими же темными, как и час назад.
Коркин припомнил, что такие елки растут в здешних местах всегда кучками — по пять-шесть, а то и по десятку вместе. За все годы работы на Приполярном Урале он не видел ни одной одинокой елки.
Коркин не поленился, свернул с прямого пути и вплотную подошел к ближайшему семейству.
Деревца стояли ствол к стволу, сцепившись наполовину усохшими колючими лапами. Елки будто крепко-накрепко держались за руки, и нельзя было свалить ни одной из них, не свалив всех остальных…
Здесь, на Приполярном Урале, только так и могут выстоять деревья, сцепившись за руки, обогревая друг друга дыханием, в родстве и дружбе не на жизнь, а на смерть. Выстоять против гиперборейских ветров, полярных стуж и сокрушительных снеголомов.
Это деревья! А люди? А людям, наверно, и этого мало. Им еще нужно каждый день, каждый час знать, верить, что где-то на Большой земле о них помнят и думают.
Глава четвертая
Новая стоянка была разбита на правом берегу Кожима, в устье ручья, по которому спустились с перевала.
По всему Кожиму торчали из воды скатившиеся с левобережной горы Росомахи огромные камни. Эти выворотни были самых разнообразных пород: белые, почти эллинские мраморы; красные, будто языки пламени, яшмы; серые булыжные габбро. Вокруг них, заворачиваясь в воронки, кипела кружевной пеной вода.
В горах все еще таял неурочный июльский снег, и речки, ручьи малые разъярились, как в водополье: сшевеливали с места замшелые глыбы, громыхая, тащили по дну многопудовые валуны. Этот подводный каменный грохот походил на отдаленные раскаты весеннего грома.
Берега ручья — в густых зарослях тальника и черемушника; стволы тут высокие и в оглоблю толщиной, есть из чего и опорные колья для палаток срубить, и дров запасти для костра. А подальше от ручья росли вразброс коренастые северные лиственницы с мягкими бледно-зелеными иголками.
Росомаха мрачной тяжелой громадой нависала над бурлящим Кожимом. Ребристые скалы — в серых, голубых, лиловых, кровянисто-красных лишайниках. И ни кустика, ни травинки. Разваленная вершина — в головокружительной выси. Казалось, ни дождь и ни снег не могли перевалить через нее с запада, однако, как ни странно, именно из-за этой горы и наползала все время непогода.
— Тута всю жизнь мокро, — безрадостно разъяснил Александр Григорьевич. — Потому и камень зовут Росомаха — зверь никогда не разорит охотничью избушку или лабаз без того, чтобы не намочить, не напрудить там.
Для сушки одежды Александр Григорьевич соорудил специальный костер, вокруг которого положил подтесанные сверху толстые бревна, чтобы сидеть. С наветренной стороны поставил навес, покрытый тальниковыми ветками, а близ самого огня понатыкал колышков — развешивать носки, портянки, обутки и прочее барахло.
…Поры в намокшей крыше — как булавочные проколы, и через них сочится в палатку серый, ненастный рассвет. За холодной стенкой громыхает камнями разыгравшийся ручей. И долгое время со сна, кроме этого грохота, ничего не слышно в палатке. Лишь навострив слух, Коркин стал различать понемногу и побрякивание посуды у костра, и сердитое шипение сырых дров в огне, и тихий шелест дождя по брезенту. Потом все эти звуки перекрыл зычный поварский голос:
— Па-адъем!
И забытые во сне заботы с удесятеренной тяжестью навалились на плечи начальника партии. Занятых у воркутинцев продуктов хватило на неделю, на семь маршрутных дней, сегодня на работу идти уже не с чем. Да еще этот проклятый дождик! Через полсотни шагов вымокнешь до последней нитки — какая уж тут работа! Камни скользкие, а ползать надо по кручам да обнажениям, того и гляди, сверзишься, голову сломишь. По правилам техники безопасности дождливые дни у полевиков актируются. Однако были бы в партии продукты, Коркин и сам бы в лагере не сидел и ребят бы разослал по маршрутам: лето проходит, а почти ничего еще не сделано.
Но не лежать же целый день в палатке, дрожа от холода в сыром спальнике! Ежели нельзя геологией заняться, надо побеспокоиться о хлебе насущном, поискать подножных кормов. Вперед, хариус! Прыгай выше головы!
Коркин сел на лежанке и стал натягивать через голову свитер. Тотчас рядом зашевелилась Маша, высунула из спальника покрасневший нос.
— Лежи, — сказал Коркин. — Завтрак я тебе в палатку принесу.
— Не надо. Приду к костру.
Коркин выбрался наружу. Росомахи за рекой как не бывало — скрылась в дымных облаках, повисших в нескольких метрах над землей. Облака забили всю долину, и сквозь их водянистую толщу не пробивался ни один лучик. На березку неслышно оседал холодный дождик.
Выползли из палаток Александр Григорьевич и Вениамин, вылез Герман, и тотчас густо засыпанную серыми каплями лагерную площадку пересекли темно-зеленые полосы — дорожки, все они направлялись к одной точке — к костру, возле которого в задубевшем мокром плаще кашеварил повар. Кухонный костер чадил в центре лагеря, и дорожки образовали на тускло искрящемся поле как бы звезду. За день дорожек больше не прибавится — все будут стараться ходить след в след, чтобы поменьше собирать на себя воды.
— Сегодня лепешки из манки, — объявил Лева. — По паре на нос. Ибо в маршрут вам не идти.
— А себе сколько? — спросил Герман.
— А себе досыта. На то я и повар, — осклабился желтым просверком Лева.
Герман в тапочках на босу ногу сидел на корточках перед костром и сушил над огнем покоробившуюся от сырости толстую книжку. Волосы у него со сна всклочены, борода смята, по щекам расползлись грязные потеки… После истории с сухарями Герман спуску не дает повару, но и тот за словом в карман не лезет.
— Ну, ну, набивай брюхо. Оно тебе заместо башки дано.
— А тебе бы лучше не языком трепать, — не оставался в долгу Лева, — а сходить на реку да смыть свой цыганский загар. Лопаешься уж от грязи и копоти.
На этот раз Лева попадает в точку, в самое яблочко — не жалует Герман водные процедуры. Не жалует многое из того, что любо почти всем геологам: купание, рыбалку, охоту, девушек, тем не менее геолог он толковый, прирожденный. Может по нескольку дней ползать на заинтересовавшем его обнажении, языком слизывать пыль с камней, булавкой расчищать трещинки, устанавливая контакты разных пород.
Поздней осенью все они возвратятся в город. Коркин с Машей пойдут к себе домой, а Герман в камералку. Маленький закуток в барачного типа доме заставлен вдоль стен грубыми стеллажами. Провисают под тяжестью камней с ярлычками из лейкопластыря неоструганные полки. Камней с каждым годом все больше и больше. Меж стеллажей — канцелярские с прожженной клеенкой столы, негде в камералке повернуться.
Герман составит в кучу столы, снимет с гвоздя на стене продавленную раскладушку, раздвинет ее на полу, потом вскипятит на электроплитке крепкий таежный чай, из листа ватмана выгнет пепельницу и — в постель.
К утру края бумажной пепельницы обгорят и все окурки будут на полу. А поверх них — раскрытые книжки. Четыре, пять, шесть… Странная способность — читать одновременно по нескольку книжек. Сам хозяин, позеленевший от табака и чифира, будет еще спать под дырявым одеялом. Коркин растормошит его, поможет поставить столы на место; Маша распахнет форточки и подметет пол.
Нынешней весной неделю или полторы по утрам в камералке царили чистота и порядок — и столы стояли на местах, и форточки открыты, и на полу ни порошинки, и сам Герман прохаживался по комнате в отглаженной белоснежной рубашке, умытый, расчесанный и крайне смущенный.
Коркин и Маша пожимали плечами, удивленно переглядывались и ничего не понимали. По догадкам, тут должна была крыться девушка. И однажды, случайно придя на работу пораньше, они застали ее: тоненькую, с огромными синими глазами и целым водопадом золотистых волос на узких плечах. Ее белые туфельки валялись у порога, а сама она с мокрой тряпкой в руках и босиком стояла посреди комнаты и смотрела на вошедших.
— Вот, захожу перед институтом, чтобы прибраться. А то ведь Герман выживет вас отсюда. И сам по уши зарастет в грязи. Он такой.
— Это вы совершенно правильно делаете! — безапелляционно поддержал Коркин.
— Но-но! — воспротивился Герман.
Сюда бы сейчас эту девушку…
На завтрак кроме лепешек из манки была еще уха, пустая, безо всякой приправы, с одной рыбой, да и той плавало в ведре не густо — только для навару.
После ссоры с Левой Вениамин уже не дожидался остатков, мужественно довольствовался своим паем. С ухой он расправился в одну секунду: сурпу выпил прямо из миски, а кусочек рыбы заглотил вместе с костями — только кадык дернулся на длинной шее. И по глазам, налившимся тоскливым голодным жаром, было видно: уха лишь раздразнила его молодой аппетит. Чтобы не слышать, как другие работают челюстями, Веня вскочил на ноги и убежал к другому костру, обтыканному вокруг колышками и с навесом, к сушильне убежал.
Александр Григорьевич хлебал персональной деревянной ложкой неторопливо, размеренно, смачно причмокивая губами, точно лучшей ухи никогда и не пробовал.
Коркин съел только первое, а лепешки свернул вчетверо и сунул в карман про запас.
— Ну как, Александр Григорьевич? — поворотился он к проводнику. — Нет ли у тебя желания пробежаться окрест с ружьишком? Может, повезет, и опять медведя встретишь? Помнишь, как в прошлом году?
— Как не помнить? Помню.
— Килограммов на двести, поди, был. Чуть не месяц ели. Сейчас бы такой нам не помешал.
— Чо и говорить, — согласился проводник.
В прошлом году он перегонял со стоянки на стоянку порожняком лошадей, партия и имущество были переброшены вертолетом. Перегонял, как и нынче, через перевал и там близ хребта и углядел бурого лохматого хозяина — по алмазному леднику встречь спускался, скатываясь на мягком месте. Ветерок тянул на Александра Григорьевича, и зверь не почуял его. Проводник завел лошадей за глухую скалу, надел на морду каждой по торбе, затянул потуже, чтобы не заржали в страхе, ружьишко пулей перезарядил.
Собачка была с ним чужая. Видит, трясется собачка, унюхала. И ее затолкал в мешок. Стал ждать. Хозяин вышел метрах в десяти от скалы. Полыхнул огонь, ахнул выстрел. Медведь круто поворотился и во все лопатки понесся обратно, добежал до ледника, взобрался на него, но тут лапы зверя вдруг разъехались в разные стороны, он упал на брюхо и уже больше не пошевелился… Потом ребята шутили: какой умный медведь попался! Чтобы не утруждать людей, сам забрался в холодильник. Чуть ли не целый месяц варили медвежатину, зараз по полному ведру, килограммовыми кусками — ешь, не хочу! Вот бы сейчас такой фарт подвалил!
— На медведя я тебя всерьез-то не настраиваю: рискованно с ним встречаться. Но, может, набредешь где на отбившегося от стада оленя или глухаря подстрелишь — тоже давай сюда. Впрочем, не мне тебя учить.
— Ладно, попытаю счастья, — кивнул Александр Григорьевич.
— А я с удочкой по берегу пройдусь. Ежели что добудем, завтра при любой погоде — в маршрут.
— Оцять переходим на подножный корм, — сморщился Герман.
— Ты останешься в лагере. Займетесь с Машей образцами. Много уже накопилось. Пронумеруйте, опишите, заверните в бумагу. Ясно?
— А мне что делать? — спросил подошедший от сушилки Вениамин.
— А тебе придется съездить к воркутинцам и узнать, не пришел ли ответ хотя бы на одну из наших радиограмм. Коли не пришел, попросишь переслать новую: продукты кончились, срывается работа, срочно высылайте вертолет. Запомнил?
— Так точно! Продукты кончились, срывается работа, срочно высылайте вертолет.
В палатке Коркин переложил лепешки из кармана в рюкзак, предварительно завернув их в полиэтиленовую пленку. Там у него уже лежали коробочка с солью, полпачки чая и жестяная банка из-под мармелада с рыболовной снастью — крючки, лески, мушки, поплавки. Снаружи пристегнул к рюкзаку закопченный котелок, сделанный из литровой консервной банки.
Маша следила за сборами мужа и покусывала припухшие губы.
— Ты что? — спросил Коркин.
Маша вдруг прижалась щекой к его плечу и прошептала:
— Не пропадай долго. Скучно без тебя.
— Вот так да! Всю жизнь без возражений отпускала куда угодно, а тут вдруг скучно стало! Что-то не похоже на тебя.
Они стояла на коленках друг против друга в низенькой палатке. По брезенту шелестел дождь, окропляя их лица прохладной пыльцой.
— Я быстренько, — заговорщицки подмигнул жене Коркин. — Одна нога здесь, другая там.
Выбравшись наружу, он надел рюкзак, вскинул на левое плечо малопульку, в правую руку взял прислоненное к палатке удилище и отправился в путь.
Настоящая рыбалка была далековато от лагеря, в верховьях Кожима, километрах в семи по прямой, а по реке и того дальше.
Коркин вброд перешел ручей и в нерешительности остановился перед густеющими зарослями тальника и черемушника. Топор истопников по ним еще не гуливал, разыгравшийся ручей спасал. На каждом листочке — вода. Удилищем он пошерудил впереди себя, обрушивая капли наземь, однако это мало помогло: когда выбрался на чистое место, сухой нитки на нем не осталось.
Дальше путь шел по старой оленеводческой дороге, которая то гладкими полированными следами нарт скользила по красным глинистым буграм, то заглубевшими колеями ныряла в мокрые ложки, то совсем терялась в гнилых болотцах, заросших ржавой жесткой травой.
Справа, под обрывом, глухо ворчал Кожим, а слева неторопливо набирали высоту бурые холмы. На их плоских вершинах лежали серые водянистые облака.
…В подобных одиноких походах обычно укладывались в порядок мысли, смирялись сомнения, проходила тревога, и на душе Коркина становилось легко, ясно. Но на этот раз успокоения не было. Тревожило и бесило не столько то, что партия снова осталась без пищи, сколько то, что на добывание этой пищи уходили поистине драгоценные дни, недели. С голоду-то они не погибнут. Коркин не представлял, как в этих местах можно погибнуть с голоду. Речки кипят рыбой. По лесным колкам бродят царственные лоси. В карликовой березке прячутся выводки куропаток. Нет, не погибнут. Но на работу времени уже не хватит. Середина августа, конец полевого сезона, а, считай, половины не сделано. К пятнадцатому сентября выпадет снег и — возвращайся домой! Нет, с пустыми руками домой он не вернется. Покуда не исполнит всего, что положено, никуда отсюда не уйдет.
Коркин пробирался через мокрый ложок, заросший все теми же узколистыми тальниками, когда из-под ног его с шумом сорвался выводок куропаток. Хлопая крыльями, как накрахмаленными салфетками, птицы перелетели через кусты и упали в ржавую траву.
Зимой куропатка и сверху вылиняет, станет белой-белой, в снегу с трех шагов не разглядеть ее, и удивишься вдруг, заприметив, как прыгают, передвигаются по белому насту нотные значки — черные блестящие кнопки с загнутыми хвостиками. Ах, это же глаза куропачьи!
Коркин снял с плеча винтовку, нашарил в кармане патрон, загнал в патронник и, не упуская из виду точеной пестрой головки, осторожно выдвинулся из кустов… Подбирая в траве еще теплых куропаток и складывая их в рюкзак, Коркин прикидывал: на два супа хватит, на ужин и завтрак; впрочем, в лагере есть эту королевскую дичь — непозволительная роскошь, он прикажет сварить ее для маршрутов, а на ужин и завтрак добудет рыбы.
Впереди уже слышался вихревой железный шум, точно где-то неподалеку, за ближайшим бугром, летел на всех парах тяжело груженный товарняк, чудилось даже: земля вздрагивает, трясется под его колесами.
Коркин нетерпеливым машистым шагом взлетел на бугор, и шум, грохот, рев оглушили его, а земля заходила под ногами, как качели — внизу, подобно в самом деле груженому товарняку, несся, гремел по звонкой каменной дороге неукротимый Кожим; под грязным пасмурным небом вода в нем была темно-синей, почти черной, и осевшая на прибрежном галечнике белая пышная пена походила на клочья пара, выпущенного локомотивом.
Сеялся дождик. Коркин давно уже привык к нему и не замечал, а сейчас вспомнил, увидев на реке белые гвоздики. Он приглядывался к воде. Два или три всплеска почудились ему не похожими ни на удары дождевых капель, ни на завихрения над подводными камнями. У него радостно запрыгало сердце — они, милые! Хариусы!
Он скинул на землю рюкзак с дичью, прислонил к стволу лиственницы винтовку и, на ходу разматывая леску на удилище, побежал с бугра вниз, туда, где кипела вода и плавились прекрасные рыбы. В устье ручья он забрел выше колен в стремнину, вода тотчас обжала резиновые сапоги вокруг ног. У Коркина славное удилище, легкое, длинное, гнуткое — трехсаженная березка, которую он срезал у самого корня в одном из маршрутов, выстругал, высушил, оборудовал крючочками для наматывания лески. Таким удилищем он может забросить леску за середину реки. На конце лески привязан трехжальный якорек, обмотанный красной тряпочкой, с сизым перышком посредине — мушка. Размахнувшись удилищем, Коркин заметнул мушку на самую быстрину, туда, где то и дело, переворачиваясь в воздухе, мелькали хвостами, сверкали белыми брюшками хариусы. Мушку в тот же миг подхватило течение, поволокло, закружило, покрыло пеной, а потом леска вдруг разом натянулась струной, и, как всегда бывает в начале рыбалки, Коркин подумал не о рыбе, а о том, что якорек зацепился за подводный камень или корягу. Он с досадой потянул удочку на себя и сразу почувствовал, будто уколы тока, живые сильные толчки. С перепугу ли, с радости ли Коркин так рванул удочку, что рыбина, описав высокую дугу, шлепнулась далеко за спиной в ручей, и там, полуживая, судорожно запрыгала меж камней. Коркин поймал ее руками. Это был заматерелый хариус в килограмм весом, с замшелой, темно-зеленой, как водоросли, хребтиной и голубоватыми боками.
В реке против устья ручья тут и там торчали из воды обкатанные валуны, прозываемые геологами «бараньими лбами», течение разбегалось возле них усатыми зелеными прядями, и в этих прядях тоже плескались, прыгали, кувыркались прыткие хариусы. Это был какой-то рыбий праздник.
Хариусы, опережая друг друга, выбрасывались на мушку в воздух, хватали ее на лету. Если один промахивался, то другой или третий обязательно попадали в цель. Коркин старался выкинуть трепещущую рыбину себе на грудь, иногда промахивался, рыбина пролетала мимо, падала в ручей, и, отшвырнув удилище, он ловил ее руками.
Рукава стали пудовыми от воды, и при каждом взмахе руки по спине и груди стекали за пояс противные холодные ручьи, уже набежало полные сапоги.
Хотя сильнее промокнуть уже было нельзя, Коркин перестал ловить хариусов в ручье руками, а начал их вытаскивать прямо на берег. Закинет удочку на плечо и без оглядки бежит по воде к песчаному мыску, а вслед тащится на длинной леске рыбина, плоская и безвольная, как щепка.
Хариусы лежали на малахитовой травке под большим камнем. Они были влажные, чистые, прохладные, пошевеливали слегка жабрами. Коркин влюбленно-счастливыми глазами смотрел на них и ни о чем другом в эту минуту не помнил, не думал — ни о работе, ни о Мордасове, ни о Маше; во всем мире существовали только он да эти прекрасные грациозные рыбы.
Клев вдруг ни с того, ни с сего прекратился. И погода не переменилась, и хариусы играли и плавились с прежним вдохновением, но сколько Коркин ни забрасывал мушку, сколько ни подводил ее к самым рыбьим ртам — не брали, и все тут! Будто ослепли или нажрались до отвала. Видать, кончился рыбий праздник…
Коркин вышел на берег, снял сапоги, вылил из них воду, отжал портянки, и сразу будто бы весь полегчал в несколько раз. По-прежнему накрапывал дождик. По часам уже близился вечер. Около пяти часов прошло с того момента, когда он размотал удочку и забежал в воду, а для него это время пролетело как одно мгновение, — что ни говори, любит он рыбалку и пришел сюда не только за пропитанием, но и для того, чтобы еще раз испытать этот высокий охотничий восторг.
Остановилось время, молчал и желудок. Но стоило оборваться клеву, сразу же засосало под ложечкой и запокруживало голову.
Коркин наломал с елки сухих сучьев, насобирал на берегу палок и разжег маленький костерок. Прежде чем приготовить обед, он еще раз полюбовался на добычу, пересчитал ее: тридцать семь штук. Славно! Ежели, в среднем, по восемьсот граммов, и то, считай, почти два пуда. А есть рыбины и поувесистее. Тяжеленько будет тащить, да и в рюкзак, пожалуй, не войдут. Ну, ничего, как-нибудь дотащит, в связку свяжет, было бы только что тащить!
А что он все-таки себе приготовит? Для настоящей ухи нет ни специй, ни приправы. Может, нерхол — любимое зырянское блюдо. Дело это минутное: выпотрошить, очистить рыбину, снять с костей мясо, нарезать тоненькими лоскутками, бросить в котелок с рассолом и почти сразу же можно есть. Но тогда будет занят котелок и не в чем вскипятить чай. А чайком побаловаться просто необходимо для согрева.
Как и всякий охотник, лучшую добычу Коркин стремился принести домой; для себя выбрал самую тощую и малорослую рыбину и в целехоньком виде, невыпотрошенной, неочищенной, бросил ее на угли в костер. Потом сходил на бугор, принес винтовку и рюкзак, отстегнул от него котелок, зачерпнул воды и поставил к огню.
Чешуя на хариусе спеклась в коричневый панцирь, и внутри его в собственном соку кипело мясо. Как только панцирь начал трескаться, Коркин вытащил из костра рыбину. Спекшаяся корка тотчас, вроде крышки, отстала от нее, и от белого слоистого мяса потянул ароматный парок. Коркин отламывал маленькие кусочки, посыпал их солью и клал в рот. При его теперешнем аппетите да еще с манными лепешками это было не просто вкусно, это было объедение. Дочиста обглодав мягкие разопревшие рыбьи косточки, он напился из котелка чаю, закурил, блаженствуя.
Уже смеркалось, надо было собираться домой. И в это время его окликнул с бугра веселый голос:
— Эге-гей, начальник!
Коркин пригляделся: на бугре стоял Александр Григорьевич, размахивал над головой дорожной палкой. Маленький, сухонький, в короткой широкополой малице, с пузатой котомкой за спиной, он походил на доброго лесного гнома.
«Ага, и старик кое-что добыл», — с удовлетворением подумал Коркин.
Однако, когда Александр Григорьевич спустился с бугра, Коркин разглядел, что в котомке у него была не охотничья добыча, а обыкновенная резиновая лодка.
— Молодец, догадался, — разочарованно похвалил Коркин. — А то я тут напластал — и вдвоем не унести.
— Твоя жинка послала. Иди, говорит, посмотри, что там муженек поделывает, да лодку захвати с собой, чтобы пешком обратно не идти, по реке сплавитесь. Заботливая она у тебя.
— А как поживает твой медведь?
— В полном здравии. Не вышел сегодня на дорогу. Без доброй собаки что за охота?
— Так ничего и не подстрелил?
— С десяток куропаток.
— И я столько же, да еще вот хариусов натаскал.
— Гли-ко, весь берег завалил! Как лиса с воза набросала — все по рыбке до по рыбке, все по рыбке да по рыбке! Воз и будет!
— Ну, воз не воз, а несколько дней живем. Давай-ка собираться домой.
— Пора уже.
Александр Григорьевич перевернул вверх дном рюкзак, и на песок вывалились лодка, складные весла, мех. С помощью шланга он соединил мех с лодкой, наступил на него правой ногой и, скособочившись, стал двигать ею вверх-вниз, в прорезиненный баллон толчками с шипением и свистом врывался воздух.
Минут через десять лодка была накачана, в резиновые литые проушины вставлены весла, втащены рюкзаки с рыбой, уложены винтовка, удочка, котелок… Александр Григорьевич извлек из-под малицы плоскую табакерку, заложил в ноздри по понюшке черного толченого табаку, несколько раз чихнул сладко — ну, теперь можно и отправляться в дорогу.
Вместе с грузом они перенесли лодку на воду, и, запряженная течением, она затрепетала, забилась, вырываясь из рук, как горячий конь за воротами. Они вскочили в лодку, и ее тотчас с бешеной скоростью — засвистело в ушах, зарябило в глазах — повлекло вдоль высоких каменистых берегов. Коркин упал за весла.
В считанные минуты они пролетели два или три бурливых переката, обогнули черную мрачную скалу с вечным льдом в глубоких трещинах и неожиданно вырвались на тихий широкий плес. От тишины даже заломило в ушах. А лодка, будто споткнувшись о что, сразу умерила прыть. У Коркина вдруг перехватило дыхание, глаза полезли на лоб: не далее чем в двадцати метрах, то есть совсем рядом, рукой подать, он увидел перед собой двух лосей, переправлявшихся через реку: серую комолую мать и красноголового, маленького, без году неделя, теленка. Лосиха, едва замочив брюхо, переходила реку вброд, а лосенок не доставал ногами дна и должен был плыть.
Лодку так неожиданно и тихо выбросило на плес, что чуткие звери какое-то время даже не замечали ее. Но вот мать вздрогнула, вскинула голову, с губ сорвался не то стон, не то вскрик и, высоко выкидывая узловатые в коленках ноги, понеслась к берегу — только брызги полетели во все стороны, только подводные камни зацокали под крепкими копытами! Растерявшийся лосенок остался один посреди реки. Течением его сносило на людей.
А Александр Григорьевич, закинув на спину полы малицы, уже раскручивал с себя длинную веревочную опояску, и вот она вся в его руках и на одном конце связана в петлю.
— На лосенка правь, — выдохнул он жарким шепотом.
Но об этом можно было и не просить, лодка сама летела на перепуганного теленка, и когда до него оставалось метра три, Александр Григорьевич взмахнул опояской, и петля захлестнулась вокруг тонкой шеи.
Оба они, Александр Григорьевич и Коркин, сильно накренив лодку, упали грудью на баллон и вытянули теленка из воды. А лосиха тем временем вымахала на берег, подбежала к густым зарослям тальника и, прежде чем вломиться в них, обернулась на свое дитя, на людей. Что было в ее взгляде — печаль ли, гнев ли — не разберешь. Затрещали тальники, и лосихи не стало.
Лосенок лежал на дне лодки, а проводник и Коркин держали его за тонкие стройные ножки, на которых коленки еще не успели разработаться в шарообразные мощные узлы, держали чуть повыше черных точеных копытец и чувствовали, как под ладонями конвульсивно ходит, содрогается покрытая молодой шелковистой шерсткой кожа — лосенок весь трясся от страха. В груди Коркина шевельнулось что-то вроде жалости, и он укоризненно пробормотал:
— Ну и мать, бросила дитя и убежала.
— Тут где-нибудь она, за нами следит сквозь кусты, — уверенно сказал Александр Григорьевич.
— Что же она дитя-то свое не защищала? Стукнула бы раз копытом по лодке, и мы оба с тобой в воде, тут уж нас бери голыми руками. Зря, наверно, возвеличивают лосиную ярость. На медведя, мол, идешь — приготавливай постель, а на лося — гроб готовь. Зачем же готовить, ежели убегает лось, даже когда детей у него умыкают.
— Но-но, не шибко зазнавайся. Выстрели-ка в него осенью не наверняка… Гроб сразу и понадобится.
— Сегодня, значит, досыта мяса наедимся.
— Наедимся… Ну, скажу, везет тебе, Петрович. Я вот всю жизнь по этим речкам сплавляюсь и ни разу еще на такую рыбину не наскакивал.
Лосенок время от времени вскидывал голову, взбрыкивал ножками, пытаясь вырваться из рук охотников, но где ему было сладить с двумя здоровыми мужиками.
— Да ты не волнуйся, малыш. Сейчас приедем на место и поставим тебя на ножки, — успокоительно произнес Коркин и тут же криво усмехнулся: — Поставим на ножки, а дальше что? Прибегут на берег ребята, возликуют, увидев лосенка — столько мяса! Повар засучит на ходу рукава, вытащит из-за голенища длинный кухонный нож — и песенка твоя спета, малыш. Не гулять тебе больше по Уралу, не переправляться через реки, не щипать траву, не обгладывать кору с тальников, не вырасти в царственного могучего лося с ветвистой короной на голове… Расхотелось что-то Коркину лосиного мяса.
Вскоре за очередным поворотом встала на левом берегу тяжелой темной громадой Росомаха. На этот раз она вся была на виду — от подножия до разваленной вершины. Облака не то чтобы ушли из долины, а как-то поредели, полегчали, поднялись выше, и впервые за много дней не сыпался из них ни дождик, ни снег. Посвежело в воздухе. А над изломанной кромкой дальних гор, заполняя зазубрины, расплавленным металлом растекалась огнистая заря — предвестница сухой ветреной погоды.
— А что, Григорьич, — сказал вдруг Коркин, — может, отпустим лосенка-то на волю? Какое сейчас из него мясо? А пропитанием мы и без него обеспечили себя на несколько дней, и погода, смотри, налаживается — вон какая заря разгорелась, не сегодня-завтра и вертолет прилетит, — довод за доводом приводил Коркин, и похоже было, что он уговаривал не столько Александра Григорьевича, сколько самого себя, ибо проводник уже с первых слов одобрительно закивал головой, а в заключение произнес набожно:
— Богоугодное дело сотворим, Петрович.
— Ежели мы тут его высадим на берег, не заблудится, поди, в лесу?
— Пошто заблудится? — успокоил проводник и стал подправлять лодку к левому берегу, по которому, по его предположению, должна была двигаться за кустами лосиха-мать.
Резина шабаркнула о камни, стукнуло по ногам, и лодка остановилась в двух шагах от берега. Коркин поднял лосенка на руки, поставил в воду. Одним прыжком лосенок выскочил на сухое и остановился. Обернувшись вполоборота к реке, озадаченно посмотрел на людей, точно вопрошал: что же это вы, куда? А мне теперь как быть?
А люди поплыли дальше. Когда они отплыли на безопасное для лосенка расстояние, к нему вышла из кустов мать. Она не обнюхивала, не облизывала малыша — внешне не проявляла никакой радости. Подтолкнула его мордой в бок, и оба они — крупная мышастая лосиха с ходившими из стороны в сторону, словно локаторы на вертлюгах, большими разверстыми ушами, и тонконогий лосенок — потрусили размашистым шагом в тальники, от греха подальше.
А лодка уже проплывала мимо Росомахи, справа на мысу показался лагерь — темные влажные крыши палаток, костер между ними и навес над костром, пронизанный в разных местах сизыми струйками дыма. Дым поднимался прямо вверх — тоже к погоде.
Увидели лодку из лагеря. Лева с Вениамином наперегонки бросились к берегу. Лева на бегу вытащил из-за голенища длинный кухонный нож и закричал во все горло:
— Ну, охотнички, показывай свою добычу! Мы ее сейчас в дело употребим!
К его ногам вывалили из рюкзаков хариусов.
— Вот это да! — ахнул повар и, присев рядом с лодкой, принялся потрошить и чистить над водой рыбу.
— Ну как, есть ответ на радиограмму? — спросил у Вениамина Коркин.
— Нет, — покачал головой тот.
Глава пятая
Вертолет прилетел через сорок дней после первого обусловленного срока, прилетел уже в сентябре.
Партия к тому времени перебралась на новую стоянку в междуречье Кожима и Каталомбы. Лагерь разбили на берегу крохотного ручейка, не имевшего из-за своей малости даже названия. Воду из него можно было черпать только кружкой. Зато тут вволю было дров: на правом берегу далеко разросся по мшаникам глухой еловый лес, на его опушке и поставили палатки. На левом же берегу было голо, светло, росли неприметные карликовые березки, которые замечались лишь тогда, когда приходилось брести по ним.
В горах уже многие дни хозяйничала осень — Приполярный Урал. По ночам выпадали заморозки. Утрами все березки были в серебряном иглистом инее. От холодного воздуха ломило зубы и, как наждаком, обдирало горло. Казалось, иней никогда не растает, превратится в снег. Но поднималось над холмами солнце, иголочки инея ломались, свертывались в сверкающие жемчужные зерна.
А к полудню и зерна скатывались с листа, и березка представала в роскошном своем осеннем убранстве — глаз не оторвешь: и красная-то она, и бордовая, и голубая, и лиловая, да тут и там вкраплены в нее свежая прозелень елочек, лимонная желтизна лиственниц. Разливанное море красок!
Но люди не шибко на них заглядывались. Люди не на шутку заголодали.
Один Александр Григорьевич не ослаб на ноги и неутомимо бегал с ружьишком по уремам и лесным колкам. Ежели ему удавалось настрелять с дюжину куропаток или при переправе через какую-нибудь речку натаскать с десяток хариусов, на другой день Коркин и Герман уползали в маршруты. А вот прожорливого Вениамина таким нерегулярным питанием, да еще без хлеба, на работу уже было не поднять, да и работа ему назначалась потяжелее, чем геологам, — бить шурфы до коренных, копать канавы на контактах.
В маршрутах, где-нибудь под береговой скалой, по которой опытный геолог мог читать, как по книге, Коркин частенько натыкался на груды свежих каменных обломков — словно мощная дробилка тут недавно поработала. Оглядевшись повнимательнее, обнаруживал и следы людей — либо окурок, либо консервную банку, либо остывшую золу в выгоревшей ямке. Ясно, здесь уже побывал Карпов. Колотили со своим помощником образцы.
В это утро все было так, как много дней подряд: игольчатый иней на березке, морозный воздух и низкое осеннее солнце. И который уже день подряд первым выбрался из палатки Вениамин. Кутаясь в прожженный ватник, он проковылял к остывшему костру, устроился на бревне и, будто восьмидесятилетний старик, выползший погреться на завалинку, поворотил лицо к солнышку. На голову нахлобучена теплая шапка с задранным наушником, и освобожденное ухо насторожено на левобережные холмы, из-за которых должен прилететь вертолет.
И вдруг по длинному исхудавшему лицу Вениамина пробежала судорога, глаза выкатились на лоб… Он вскочил с бревна, взметнул над головой руки, завопил:
— Вертолет! Вертолет!
В ту же секунду весь лагерь был на ногах: спят теперь в одежде, одеваться не надо. Сбились вокруг Вени, запрокинули головы. Через минуту-другую донесся приглушенный звук, похожий на гудение запутавшейся в паутине осы. Потом в этом гудении появилась металлическая нота и уже ни у кого не осталось сомнений: не оса, не пчела, вертолет летит.
У Вениамина откуда только и силы взялись — перемахнул через ручей, выбежал на посадочную площадку, расчищенную среди березок, и, упав на колени перед кучей хвои, зашаркал спичками. А вот вынырнул из-за холма и сам вертолет — большая зеленая стрекоза с голубым брюхом. Машина с ревом летела прямо на лагерь.
Над сигнальным костром встал белым столбом дым.
Вертолет был уже совсем близко, за стеклом кабины можно уже было рассмотреть черноволосую курчавую голову летчика, когда машина вдруг круто повернула и полетела над лесом вдоль ручья.
Коркин застыл с поднятой кепкой и недоуменно смотрел вслед вертолету. Вениамин заскочил на костер и принялся затаптывать его сапогами. Герман грозил кулаком и матерился:
— Гады! Куда прете? Разве не видите — площадка здесь! Александр Григорьевич, садани ты им в хвост дробью!
А вертолет между тем выписывал над лесом совершенно непонятные кренделя: то зависал на месте, то, как борзая, метался вправо-влево. Или вдруг спускался так низко, что чудилось: вот-вот зацепится раскоряченными лапами за острые макушки елей.
Можно было подумать, что машина потеряла управление или тот, кто сидел за штурвалом, был в дым пьян или же просто сошел с ума. Другие соображения и в голову не приходили.
Вертолет наконец перестал кружиться на месте, развернулся и полетел в обратную сторону — к вершине холма, из-за которого выскочил несколько минут назад. И геологам стало понятно, в чем дело: по карликовой березке, опередив слегка вертолет, бежал большой изжелта-бурый лось с горбоносой мордой и многоперстыми рогами на широких коричневых пластинах, бежал ровно, невозмутимо, будто и не было за ним никакой погони.
И только теперь Коркин разглядел, что правое стекло в кабине вертолета отодвинуто и в проем высовывается чья-то фигура в белом, и тут же услышал хлопки выстрелов, которые раньше, верно, перекрывались шумом мотора.
Запрокинув тяжелую корону на спину, зверь бесшумно стлался над багряными березками, и даже не было заметно, чтобы они вздрагивали, гнулись, ломались под его копытами, точно он и земли вовсе не касался. Зато позади зверя под бешено ревущим винтом вертолета березки ходили штормовыми волнами, валились набок, дыбились, обнажая еще зеленую подкладку листьев.
Вертолет походил на хищную птицу, преследующую дичь, и жутковато было смотреть на эту дикую погоню.
Уже на холме, перед самой вершиной, лось споткнулся, упал передними ногами на колени, но тут же снова вскочил, первый раз затравленно оглянулся на врага и побежал дальше, но уже значительно медленнее и тяжелее. В следующую секунду зверь и его преследователь скрылись за холмом.
— Сволочи! Собаки! — ругался Герман. — Хотел бы я знать, кто там сидит!
— Лихая охота! — одобрительно оценил Лева.
Вскоре гул мотора смолк, оборвался. Было похоже: вертолет за холмом приземлился.
— Я сбегаю посмотрю, — предложил Вениамин.
— Подожди, — сказал Коркин. — Если к нам, то сейчас прилетят. Подберут тушу и будут здесь… Ты бы, Маша, на всякий случай собиралась.
Маша послушно ушла в палатку. Вдруг ни с того, ни с сего засуетился, забегал по лагерю, разыскивая свои вещи, Лева… «Никак и он собрался удирать», — рассеянно подумал Коркин и тотчас забыл про него, так как за холмом снова металлическим голосом заревел мотор. А через минуту над вершиной показался и вертолет. В полутора метрах над землей, будто скатываясь по склону, спланировал он на лагерь и без прицелки опустился на расчищенную площадку. Вокруг ходуном заходили-зашумели кусты, полетели с них в разные стороны оборванные листья.
Остановившись, лопасти упруго изогнулись над землей, как пальмовые вайи. И стало тихо-тихо. Успокоилась и березка.
Геологи перебежали ручей, встали перед закрытой дверцей вертолета. Из высоко поднятой над землей кабины им белозубо улыбался смуглый носатый летчик-грузин. Другой летчик выглядывал через его плечо.
Овальная дверца с треском открылась внутрь, и первое, что увидели геологи в темной пустоте кабины, была горбоносая голова лося с неловко задранными коричневыми рогами. Через эту голову шагнула нога в болотном резиновом сапоге с загнутым в три ряда голенищем, и на землю спрыгнул Степан Мордасов. Он весь еще дышал непотухшим азартом недавней охоты — рукава светлой спортивной куртки высоко закатаны, зеленая велюровая шляпа лихо сбита на затылок, на лбу блестят капельки пота, на плече и на груди лаково блестит свежая кровь.
— Ну, здорово, робинзоны! — радостно возглашает Степан и, раскинув руки для объятий, идет к Коркину, говоря на ходу: — А тебя не сразу узнаешь, похудел, оброс. Будто после болезни перевернуло. Встретил бы на улице — не узнал, за бродягу бы принял.
Коркин отстранился от объятий и резко спросил:
— Почему не прислал вертолет ни к Ялпинг-Керу, ни на Кожим?
— Бог мой, ты у меня не один, — быстро и весело ответил Степан.
— Радиограммы получал?
— Засыпал, знаю…
— Почему ни на одну не откликнулся?
— Это что, допрос?..
— Если угодно, допрос…
— Послушай, Коркин, ты забываешься… Но я все-таки готов дать тебе объяснение, только, разумеется, не здесь, не на людях. А сейчас распорядись-ка, чтобы выгружали продукты. — Степан махнул рукой на машину, из окошка которой, выставив локоть, по-прежнему смотрел на них с белозубой улыбкой летчик-грузин.
— Нет, — упрямо мотнул головой Коркин. — Мы будем разговаривать здесь. И пусть они все послушают, — кивнул он на своих людей, обступивших начальство. — Они вместе со мной замерзали под снегом, вместе со мной в течение полутора месяцев ни разу не наелись досыта и имеют право знать, во имя чего все это было.
— Ну, хорошо, — неохотно и хмуро согласился Степан. — Что тебе от меня надо?
— Почему не прислал вертолет в обусловленные сроки? Сломался? Погоды не было?
— Можешь ты наконец понять, что кроме твоей у меня еще восемь партий. И все они выполняют производственную программу. План гонят. И за этот план нам денежки дают. А ты чем занимаешься? За химерами гоняешься, за «истиной», от которой никому ни холодно, ни горячо. Разве что самому выгода, коли диссертацию сварганишь.
— Вот демагог-то! — Коркин схватил Степана за отвороты обрызганной кровью куртки и подтянул вплотную к своей груди. — Поискать еще такого. Даже не демагог, а дымогог, как говорят в народе. Один дым от тебя, а огня нет. Я-то думал, вертолет вышел из строя… Или на профилактику отправили… Или непогода. Ведь ты же слово давал! Помнишь? Наплевал на свое слово, забыл про обещание. А может, не забыл, сознательно держал нас здесь в холоде и голоде, чтобы нельзя было сыскать ненавистную тебе истину?
Широкое лицо Степана налилось кровью, он дергался, пытаясь вырваться из рук Коркина, но у него ничего не получалось. Наконец, поймав взгляд Германа, он взмолился:
— А вы чего смотрите? Уберите этого сумасшедшего!
Ни Герман, ни рабочие даже не пошевелились. Летчик из окна пилотской кабины улыбался еще лучезарней. Только Маша смилостивилась:
— Оставь его, Коля.
Коркин оттолкнул Степана и, словно диктуя, с расстановкой проговорил:
— Не бойся, бить не буду. Себе дороже. Да и руки марать не хочется. А вот то, что скажу, постарайся зарубить на носу… Сейчас вернешься в Саранпауль и сразу же подавай заявление об уходе. Или в рядовые геологи. Руководить людьми ты не можешь. Не любишь их. А только любовь к людям дает право командовать… Если добровольно не уйдешь, приеду, сниму сам. Все управление переверну, но сниму. Да еще под суд отдам… Рыба гниет с головы…
Мордасов отбежал к дверце вертолета и крикнул:
— А чистят ее с хвоста… Руки коротки меня снимать! А я вот тебя сниму. И немедленно, сейчас же! Сдай дела Герману Дичарову, а сам залазь в вертолет. Дичаров, останешься за начальника партии. Всем ясно?
— Начальником партии я не хочу быть, — усмехнулся Герман. — Хочу сразу стать начальником экспедиции. Вот приеду в Саранпауль и займу твое место. Готовься…
— Отставить шутки! — рявкнул приободрившийся у вертолета Мордасов.
— А я пока не закончу работу, из гор не выйду, — сказал Коркин.
Мордасов одной ногой встал на скобу под дверью и произнес поспокойнее:
— А продукты что не выгружаете? Может, не нужны? Тогда я их обратно увезу.
Герман влез в вертолет и через рогатую голову лося стал подавать Александру Григорьевичу и Вениамину мешки с сухарями, фанерные ящики с макаронами и консервами.
Коркин вспомнил про Леву — куда запропастился? А тот — легок на помине — переходил со стороны лагеря ручей, и за спиной у него был разбухший рюкзак, а в руках бился, повизгивая, подросший за лето Захар.
— Куда собрался? — спросил Коркин, уже догадываясь о Левиных намерениях.
— В теплые края, — осклабился Лева. — Не климат мне здесь, начальник.
— Через месяц все вернемся.
— Фьюить! — присвистнул Лева. — За месяц тут копыта откинешь. Дуба дашь. В ящик сыграешь. Зима-то не сегодня-завтра грянет.
— Что ты его уговариваешь? — крикнул из кабины Герман. — Пусть катится. Чище воздух станет.
Маша тоже сходила за рюкзаком. Коркин сказал ей подчеркнуто громко, чтобы и Мордасов слышал:
— Прилетишь в Саранпауль, сразу же позвони участковому милиционеру. Пусть немедленно бежит на аэродром и составит акт на лося… В Саранпауле не задерживайся. Нечего тебе там делать. Первым же теплоходом — домой О нас не беспокойся. Все будет хорошо. Ну, давай! — И Коркин обнял Машу за плечи.
— Что, и Маша улетает? — выпрыгнув из вертолета, удивился Герман.
— Надо ей, — подтвердил Коркин.
— Тогда, Маша, маленькое порученьице тебе. Брось в городе в почтовый ящик. — И Герман вытащил из нагрудного кармана смятый замусоленный конверт, по его виду можно было предположить, что Герман таскал письмо не меньше полутора месяцев. — А если кто будет справляться обо мне, отвечай: жив, здоров и нос в табаке!
— Ладно, — невесело улыбнулась Маша.
Груз уже весь был на земле, а Мордасов и Лева — в вертолете. Подсадили туда и Машу с рюкзаком. Кто-то закрыл изнутри дверцу.
Коркин, окликнув летчика, попросил:
— Сделайте, пожалуйста, посадку у горы Ялпинг-Кер. Там у нас образцы. Забрать надо.
— Не могу, друг, — покачал головой летчик. — Горючего в обрез, едва до Саранпауля дотянем. В другой раз заберу.
Коркин ушел из-под винта. Взревел мотор. Закрутились лопасти, догоняя друг друга. Выпрямились. С каждой секундой лопастей становилось как бы больше и больше, пока, наконец, не слились они в сплошной круг, сотканный из прозрачной голубоватой дымки. Вертолет дрогнул, оторвался от земли и, косо набирая высоту, полетел в сторону холма — будто ветром относило. В круглом иллюминаторе мелькнуло лицо, но уже нельзя было разобрать, чье оно — то ли Машино, то ли Левино. А может, Мордасов выглядывал.
Вертолет скрылся за холмом, а четверо на земле все еще молча стояли среди разбросанных мешков и ящиков. О чем они думали?
С тысячеметровой высоты, на которой летел вертолет, горы представлялись невиданно прекрасными. Деревья, кусты, мхи, камни слились на их склонах в сплошной яркий ковер; от красок пестрило в глазах — алые, багряные, желтые, зеленые, сиреневые, фиолетовые; в глубоких складках сверкали голубым и белесым осколки озер, речек и ручьев.
Через полторы-две недели эту празднично-нарядную землю засыплет снегом, и уже до весны он больше не растает. Сколько Маша помнит, еще не было случая, чтобы снег здесь выпал позже двадцатого сентября.
Управятся ли к этому сроку там, внизу? Успеют ли?.. К чему задавать глупые вопросы? Ведь сама знает — не успеют! Их еще на Каталомбе ждет работа… Николай не уйдет из гор, пока не сделает все, не уйдет!
Маша смотрела через круглый иллюминатор на землю и уже не видела ни багряных березок, ни зеленых елей, ни голубых осколков воды — видела лишь один белый снег — белым-бело — и серыми точечками бредущих по нему людей в оледеневших одеждах… Идут, падают, снова поднимаются. Четверо их. Лица обметаны куржаком, руки скрючены от холода…
Недоброе предчувствие сдавило Машино сердце, и в ту же секунду она услышала в себе и другое — сильный толчок, такой сильный, что не выдержала, ойкнула, закусив губу, и предчувствие чего-то страшного и неожиданная боль, одарившая не испытанной доселе радостью, слились в одно чувство, в одно желание — жить, жить, любить и быть любимой и счастливой!
В вертолете стоял такой шум, будто сверху, как по железной бочке, колотили молотками. Сквозь этот шум Маша уловила за спиной какое-то движение и обернулась.
В дверях пилотской кабины стоял Мордасов и, размахивая руками, показывая на лося, что-то кричал на ухо летчику-грузину. Тот пожал плечами, отвернулся к окну и стал смотреть на землю. Вертолет круто пошел на снижение.
Маша ничего не понимала. «Садиться, что ли, собираются?» — подумала она.
Вертолет завис метрах в трех над какой-то речкой. Вихрь от лопастей взрябил холодную синюю воду.
Мордасов подскочил к наружной двери и, откинув защелку, распахнул ее. Потом от схватился за лосиные рога и попытался подтащить зверя к выходу, но куда там — остывшая тяжелая туша даже на сантиметр не сдвинулась с места. Мордасов поманил Леву. Они уперлись спинами в стенку вертолета, а ногами в лося, и огромная серая туша подалась, медленно поползла по гофрированному полу к двери.
Летчик-грузин, держась за штурвал, повернулся вполоборота назад и презрительно улыбался. Другой летчик укоризненно качал головой.
Наконец увенчанная тяжелыми рогами голова зверя вывалилась из кабины и потянула за собой всю тушу. Задние ноги сильно стукнули копытами по обшивке, и зверь оборвался в реку.
Маша прильнула к иллюминатору. Голова лося подвернулась, один рог ушел весь в песок, замутив воду. Однако муть скоро отнесло и стало видно, как длинная шерсть зверя вытянулась по течению.
Вертолет снова набрал высоту.
Когда Маша оторвалась от окна, Мордасов ползал на коленях по кабине и стирал тряпкой с полу кровь.
РАССКАЗЫ
На реке
Сашка еще не видел рыбины — на далеком конце лесы, упруго сопротивляясь, она маятником, из стороны в сторону, ходила под водой, но по тому, как струнно гудела леса и как больно врезалась в ладонь, он уже ликующе соображал — большая рыбина, заматерелая, такая, какую он еще никогда и не вылавливал. Потом вода разверзлась, и вся рыбина явилась взору. Прекрасная семга с женственно-белым сверкающим брюхом. Она поднялась на хвосте в воздух и, рванув на себя гудящую лесу, снова опрокинулась в воду. И Сашка вдруг не устоял в лодке, вылетел из нее будто легкое перышко.
Вода залила глаза, нос, уши, забила песком рот, а он все никак не мог высвободить запутавшуюся в леске руку и всплыть на поверхность. Его одолел слепой страх. Тонет, тонет! Сашка из последних сил судорожно дернул рукой и пробудился.
Он лежал на берегу, головой в воде, и мелкие волны заплескивали ему в лицо.
Сашка оперся руками о мокрую гальку и со стоном поднялся сначала на колени, потом на ноги. Его пошатнуло — по жилам все еще бродил хмель. Во рту было вязко от песка. Он вывернул язык и сплюнул. Плевок шлепнулся рядом с собакой, сидевшей в сторонке. Собака вдруг вскочила, ощерила зубы и угрожающе рыкнула.
— Ты что, Кукла? — удивленно просипел Сашка. — Аль не признаешь? Ну-ка иди сюда, иди! — и поманил ее негнущимся пальцем.
Но собака и с места не сдвинулась, настороженно следила за хозяином. В кольцо свернутый хвост над спиной замер, закостенел, как перед зверем. А когда Сашка сам шагнул ей навстречу, она, пятясь, снова ощерила клыкастые зубы и тявкнула.
Сашке стало не по себе: такого еще с ним не бывало, чтобы собственная собака, вскормленная, вспоенная ей щенячьих пор, не признавала его. Он поднял руку и ощупал лицо — огромное, рыхлое, чужое. Глаза упрятались под наплывом щек — пальцем не доберешься. В щетине — песок. Волосы на голове тоже все в песке — слиплись, свалялись.
— Ах, ты, мурцовка! — тоскливо пробормотал Сашка и, все еще пошатываясь, направился обратно к воде.
Слово это он слышал от проходивших мимо геологов, и называли они им сваренную из остатков какао, сухарных крошек и прогорклого масла густую тюрю. Но Сашке оно усвоилось как обозначение голодной, плохой, просто собачьей жизни.
— Мурцовка! — повторил Сашка, забредая в реку в своих резиновых сапогах с подвязанными к поясному ремню высокими голенищами. — Собачья жизнь! — И, наклонясь, окунул голову, а когда разогнулся, то увидел, что вода густо замутилась от смытых с волос и щетины песчинок.
Не закатав рукавов, Сашка глубоко запускал в воду руки, плескал себе в лицо, на грудь, шею, насквозь промочил пиджак и полосатый тельник, и ему наконец полегчало.
Он огляделся. По убережью среди камней меловой белизны там и сям валялись опрокинутые набок бочки с красными от ржавчины обручами; в маленькой бухточке, образованной двумя валунами, покачивалась на волне длинная просмоленная лодка с подвесным мотором; слышно было, как винт мотора скребся о донную гальку.
Воздух на реке дымился от испарений, тускло и жарко светило полуденное солнце, в спину из леса тянуло душным угарным теплом — парило на дождь…
Выходит, он провалялся весь вечер, всю ночь и еще утро. Кузьма наверняка уже побывал здесь, засолил улов, выспался и снова уехал… Даже от реки не оттащил пьяного. А вода прибывает, на Урале прошли дожди. Вон и лодка на плаву, а вчера, помнится, затаскивал ее на камни. Мог и в самом деле утонуть… Дал бог напарничка!
Как же это у него вышло? Сашка наморщил лоб, припомнил вертолет, парней в белых рубашках, рюкзак с водкой, и стало еще тошнее. Лучше бы уж не просыпаться, захлебнуться песком — не вспоминать!
— Мурцовка! — скрежетнул он зубами, выходя на берег.
Кукла уже не скалила зубы, не рычала, но еще и не решалась подойти поближе к хозяину, приласкаться.
Сбивая с камней насохшую меловую пленку, Сашка прошел мимо пустых опрокинутых бочек, мимо врытых в землю стола и скамеек, мимо низко натянутого тента, под которым висел на колышках грязный, в раздавленных комарах, марлевый полог, вступил в захламленный лес, спустился в ложбинку, некогда бывшую речной протокой, и влез в густые заросли узколистного тальника. В глубине этих зарослей, замаскированная со всех сторон нагнутыми и подвязанными сверху талинами, стояла точно такая же бочка, какие валялись на берегу, — побуревшая от времени, с ржавыми обручами. Сашка вытащил из кармана складень, разомкнул, поддел острым концом крышку и отвалил на землю.
Изнутри бочка была влажной, с желтыми крупинками соли на осклизлых стенках. Вчера она еще наполовину была забита рыбой, а сегодня три или четыре семги, распластанные с головы до хвоста и вывернутые розовато-грязным нутром вверх, едва прикрывали дно.
— Так, так, — произнес Сашка, повернулся и полез из кустов, даже крышку не приладил на место: пропадай все пропадом, протухай — не жалко!
…Вертолет летел низко вдоль реки. Он будто что-то выискивал, высматривал, как халей высматривает в воде рыбу. К стеклу кабины прильнуло молодое белое лицо. Сашку заметили, помахали за стеклом рукой, и тотчас же вертолет завис на месте, словно подвязанный за нитку, и стал тихо падать на песчаную косу.
Лопасти густо взрябили воду, и она сделалась черно-синей, как перед грозой. Вертолет плотно сел на свои короткие лапы, обутые резиной. Лопасти, еще недолго побегав друг за другом, замерли, провисли, стало тихо. Потом щелкнула дверца, распахнулась пустым темнеющим овалом, и на белые прогретые камни спрыгнули двое парней, один повыше, другой — пониже, но оба худощавые, узкобедрые, в синих обуженных брюках, в одинаково белоснежных просвечивающих рубашках, при галстуках, заносимых на сторону ветром, в одинаково синих фуражках с золотистыми крылышками на высоких тульях — такие ухари, такие молодчики, что Сашка даже заробел перед ними.
Они шли рядышком, нога в ногу, поскрипывали по камням лакированными ботиночками, проваливались в мелкий песок. Тот, что был поменьше, нес полупустой рюкзак, а другой, повыше, еще издали поднял руку, открыл в улыбке все свои молодые зубы и крикнул:
— Здорово, рыбак!
Почему-то все, кто появлялся на реке из другого мира, — геологи, туристы, да хотя бы эти самые вертолетчики, — разговаривали с Сашкой нарочито грубовато.;
— Здорово, коли не шутишь, — подлаживаясь под игривую интонацию вертолетчиков, ответил Сашка.
— Ну, как? Ловится рыбка?
— А куда ей подеваться?
— Большая или маленькая?
— Всякая-разная…
— И семга ловится?
— И семга.
— Мы вот тебе подарочек привезли, — высокий выдернул из рук товарища рюкзак, раскрыл его на весу и одну за другой выставил на облепленный чешуей стол три поллитровки. — Самая что ни на есть московская! Слезиночка-росиночка! Сам бы пил, да себе дороже. По семужке за штуку. Ну как — по рукам?
Сашка прикинул: поллитровка — пятерка, а семга по пятнадцать рублей за килограмм идет, да и нет у него килограммовых, на четыре, на пять да на восемь тянут, но и то сказать, сам он по пятнадцать рублей никогда не берет, а берет, кто сколько даст, и водку теперь не в магазине покупает, а прямо в лесу, прямо в руки — это тоже кое-чего стоит. Три поллитровки! Ого! Надолго хватит! Если по стаканчику в мокрые дни, почитай до самой осени.
— Ладно, — сказал Сашка.
Он провел вертолетчиков в заросли тальника и вскрыл перед ними потаенную бочку.
— О! — воскликнули враз вертолетчики, глаза у них алчно загорелись, и, оттеснив Сашку, оба завороженно нависли над бочкой. Потом, опомнившись, торопливо засучили рукава прозрачных сорочек и, запустив руки в бочку, принялись лихорадочно ворошить рыбу, ища покрупнее. Высокий вытащил со дна самую большую рыбину.
— Вот эта стоит пол-литры! В рюкзак!
Сашке не жалко было семги: коли уж сам привел в тайник, пусть себе выбирают, но смотреть на то, как жадничают парни, как теснятся головами и плечами над бочкой, было обидно и неприятно. Длинные концы галстуков намокли в тузлуке, и, когда парни на минуту распрямлялись, галстуки липли к белоснежным рубашкам, оставляя на них кровянисто-желтые пятна.
— Послушай, — сказал меньший. — Нечетное число. Делить неудобно. Возьмем-ка мы еще одну. Как раз по паре и придется. — И, не дожидаясь Сашкиного согласия, он затолкал в рюкзак четвертую рыбину.
— Это мы женам привезем, — сказал другой. — Пусть жены полакомятся красной рыбкой. А себе на дорожку еще бы надо.
«Разыгрался аппетит! Взять бы их за худые шеи да оттащить от бочки, может, и поунялись бы», — рассерженно подумал Сашка.
Однако он этого не сделал и не сказал ничего, только нахмурился и отвернулся, чтобы не глядеть на разгоряченные лица вертолетчиков; затылком чуял, как еще одна рыбина скользнула в рюкзак.
Потом парни ухватили рюкзак за ремни и поволокли его к реке. Со взмокших углов выжимались на траву мутные капли рассола.
Сашка закрыл бочку и тоже стал выбираться из кустов. Когда он вышел на берег, вертолетчики уже влезли в машину. В темном проеме коротко мелькнула белая рубашка, и тут же, металлически щелкнув, дверь захлопнулась.
Сашка чуть не взревел от обиды: нахватали, налапали целый мешок и ни спасибо тебе, ни доброго словечка, сигаретой даже не угостили, будто не человек он, а дерьмо какое-то.
А вертолет уже раскручивал лопасти. Сашка не стал дожидаться, пока он взлетит, повернулся и подошел к столу, на котором стояли бутылки с водкой, вскрыл одну, опорожнил в большую алюминиевую кружку и в тот момент, когда вертолет рвал и комкал над рекой воздух, запрокинул голову и одним духом выпил…
Что же было дальше? Сашка вспомнил, что вскорости он таким же манером разделался и со второй бутылкой, а вот куда подевалась третья, он уже не мог сообразить. Может, припрятал, приберег на похмелку?
Он обошел вокруг стола и разыскал сначала одну бутылку — в траве, потом вторую — в кустах, а потом и третью, валявшуюся с отбитым горлышком между камней у самой воды.
«Вот ведь дьявол! — мрачно подивился он. — Все вылакал! И не подох как-то!»
Парило еще сильнее. Даже от реки не тянуло прохладой. Насыщенный парами воздух блестел на солнце — больно было глазам. Сашку пробил пот. Дрожали руки, противно щекотало и покалывало под кожей, будто там не кровь двигалась вялыми толчками, а шишечки репья.
Подправить здоровье можно было только крепким чаем. Сашка насобирал хворосту, свалил на старое костровище, но тут до его слуха донесся посторонний нелесной шумок — точно где-то в отдалении снова стрекотал вертолет. Сашка вытянул шею: стрекот то пропадал, то снова возникал. Звук слишком медленно набирал силу, и Сашка наконец догадался, что никакой это не вертолет, а обыкновенная моторная лодка. Через минуту он уточнил: не лодка, а полуглиссер с десятисильным стационаром. Такой полуглиссер, цельносварной из дюраля и покрашенный в голубое, был один на всем Щугоре, и гонял на нем разлюбезный Сашкин дружок — ни дна ему, ни покрышки! — рыбнадзоровец Петька Дерябин.
«Как волка травит», — тоскливо подумал Сашка.
Сравнение с волком приходило на ум и раньше. В Сашкиной деревне все казенные дома — и клуб, и магазин, и правление колхоза, и пристанские постройки — оклеены пестрыми плакатами, призывающими к беспощадной борьбе с браконьерами. С одних кричат аршинные буквы: «Браконьер — враг природы!», с других таращит глаза и сам браконьер, насмерть перепуганный грязный мужичонка, поддетый на огромные зубастые вилы, олицетворяющие, верно, правосудие; на третьих, наконец, означена настигшая его кара — пятидесятирублевый штраф за каждую семужью голову. Плакаты были самых разных цветов — серые, желтые, голубые, зеленые, черные, но Сашке все они мерещились ярко-красными, будто флажки на снегу, которыми зимой обкладывают охотники выслеженного волка.
Позабыв о чае, Сашка напряженно слушал.
Шум мотора пропадал, когда лодка обходила береговые скалы, глушившие звук, и возникал снова, когда она выскакивала на широкие звонкие плесы.
По этим перепадам в звуке Сашка мог точно определить местонахождение полуглиссера. Сейчас он подкатывал к высокой горе, бесплотной тенью проглядывавшей сквозь сверкающее серебристое марево. По прямой до горы было около двух километров, и в ясные дни ее вершина, похожая на колокол, с прямоугольным камнем на куполке — ушком для подвески, была видна как на ладони.
«Неужели он и сегодня полезет? — сомневался Сашка. — Ведь ни черта не разглядеть. Даже в бинокль. Даже в подзорную трубу, если бы она у него была».
Однако под горой мотор смолк, наступила тишина, нарушаемая лишь плеском воды, с которым Сашка настолько свыкся, что в обычное время уже и не замечал.
В другие дни, опознав на слух полуглиссер, Сашка взбирался на стол, нахально выставлялся во весь рост и терпеливо ждал. Минут через двадцать на открытом буром склоне, близ макушки, показывалась черная точка, по-черепашьи медленно карабкающаяся вверх. На макушке, у камня, точка вытягивалась в черточку, в былинку, в которой, если приглядеться, можно было распознать человека, а если приглядеться еще и с загадом, то можно было представить, как человек этот тяжело отпыхивается после крутого подъема, как, сняв с головы форменную с зеленым околышем фуражку, отирает платком взмокший лоб, как потом берется за болтающийся на груди бинокль, подносит к глазам и наводит его в Сашкину сторону, и по тому, как Сашке вдруг хотелось сползти со стола, забиться куда-нибудь в кусты, он догадывался, что бинокль его нашарил… Волк загнан в тупик. У волка единственный шанс на спасение — броситься на охотника… И Сашка вскидывал над головой кулак, грозился, изрыгал страшные ругательства, от которых даже Кукла поджимала хвост и опускала уши.
Сегодня представления не будет. Не та видимость. Казалось бы, можно спокойно заняться своим делом — разжечь костер и поставить чай, но куда там… Тишина пугала. И мнилось Сашке, что Дерябин не полез в гору — не такой уж он дурень, чтобы попусту лазать по кручам, надсажать грудь, а крадется тишочком по берегу или по лесу, срезая путь, и вот-вот объявится тут… «Встанет передо мною, как лист перед травою». А у него и бочка по-настоящему не укрыта, и тропа к ней стала что торная дорога, — вертолетчики натоптали, перекатить бы в другое место, да где теперь успеть! И такая тоска вдруг взяла Сашку в оборот, какой он прежде и знать не знал. В руках громко прыгал коробок со спичками, ноги обмякли. Не с похмелья же это. Сломался, сломался!.. Ах, чертовы вертолетчики, вынули из него душу. Теперь, без души да без уверенности, проиграет он Дерябину. Выследит тот его, изловит, проглотит живьем и не поморщится.
— Та-та-та, — вдруг забил мотор.
Сашка обтер рукавом мокрый лоб и, перешагнув через костровище с хворостом, побрел на ватных ногах к тенту. Уже не хотелось никакого чаю, а хотелось упасть навзничь, вытянуть слабые ноги и забыть обо всем на свете — о вертолетчиках, о Дерябине, о своей незадавшейся жизни.
Постукивание мотора с каждой минутой слышалось все глуше и глуше и опять напоминало гудение вертолета. Сашка приподнял полог, залез с сапогами на вонючие свалявшиеся овчины, служившие ему постелью, вытянул ноги…
«Пока не поздно, мотать надо с реки», — думает он. Что его держит? Работа? Да какая же это к дьяволу работа — три месяца в году! — одна видимость, а не работа. В начале лета получает он от рыбзавода полтонны бензина, два куля соли, сухари, сахар, чай, крупы разные, макароны, молоко сгущенное — чего душа пожелает — и на своем моторе, разбитой «Москве», поднимается за двести верст по Щугору вверх, ловит на кораблик хариусов, засаливает в бочках, вытапливает из внутренностей жир, а осенью, подгоняемый снежком, скатывается обратно, рассчитывается добытым за сожженный бензин и съеденный харч: хариусы идут по тридцать копеек за килограмм, жир — по рубль с полтиной. Деньги! Кто видит их, так это Кузьма, который даже бензин ухитряется добывать где-то на стороне, задарма, а провиант весь возит домашнего изготовления: сухари из объедков, бруски свиного сала, масло, и так с ним жмется, что тошно смотреть… Зато осенью он уж и поплюет на пальцы, так и этак перебирая толстую пачку червонцев, а Сашке и счетом не потешить себя: почти весь заработок уходит за аванс. Вот и должен еще полагаться на семужку (хотя Кузьма тоже не промах: попадется — обратно в реку не выпустит). Летом семужка выручает, а зимой — лось. Зимой в их деревне и вовсе не заработаешь. В колхозе в эту пору своим делать нечего… Как-то пригнали из города тунеядца да тунеядку, так председательша Дуська Потоскуева наотрез отказалась их принять. «Своих хватает!» — заявила она, намекая и на Сашку, и на Кузьму, и еще на трех мужиков, промышлявших для рыбзавода.
Как ни крути, с какой стороны не взглядывай, а права председательша — тунеядец он, браконьер, волк, не по закону живет, оттого и нет в его жизни никакой твердости, а есть только одна шаткость да неуверенность. Давно бы пора расписаться с Катей, ввести в избу, жить вместе. И люба она ему, и жена уже, считай, а он все тянет, изворачивается, все боится — изловят, посадят, падет срам на Катину голову. Но он этого не может позволить. Лучше уж врозь. Пока врозь, все, что он делает, ее вроде бы не касается.
Нет, надо мотать, мотать! И есть куда. Старший брат приглашает в Воркуту: «С твоей-то силой по пятьсот будешь выколачивать в шахте». Средний зовет на нефтеразведки, тоже грозится большими деньгами. Оба они чуть ли не с малолетства разъезжают по стране, только он, меньший, все еще, как Иванушка-дурачок, сидит на отцовской печке. И отца уже нет, и матери нет, а он все сидит…
«Заколотить избу или продать на дрова, — наконец решает Сашка. — Катю с собой и айда. Куда глаза глядят. Хоть в шахту, хоть в разведку, хоть мешки таскать где-нибудь на пристани. Хуже не будет, а человеком станешь».
Напористо и слитно гремел по брезенту дождь. Влажный ветерок шевелил обсыпанные каплями марлевые стенки полога. Впервые за весь день легко дышалось.
Спать бы да спать в такую погоду, отлеживаться вволю со злого похмелья. Но сквозь сон Сашке показалось, будто он уловил вблизи чужие голоса. Тут и Кукла предостерегающе взлаяла на берегу. Значит, не ошибся, слышал-таки голоса. И Сашку точно кто в бок подтолкнул: неужели Дерябин?
Он проворно сел на овчинах, поднял полог и высунул наружу голову.
Нагоняя на землю сумеречь и холод, ворочались в небе тяжелые косматые тучи. Густо лил дождь. Потемнел лес на противоположном берегу. Потемнели камни. Только одна река светло и ясно кипела от дождевых струй.
А по реке, по вспененной быстрине, неслись, проплывали, стоя по щиколотку в воде, двое — насквозь промокшие парень и девка.
Сашка даже сразу не сообразил, на чем они плывут, на какой такой подводной лодке, и только вглядевшись получше, разобрал: да на плоту же, на малюсеньком салике, полностью затонувшем под их тяжестью. «Туристы, — успокаиваясь, подумал он. — И, видать, неопытные».
Те двое отчаянно махали короткими оструганными шестами, гребли, толкались о дно, пытаясь направить плот к берегу, но быстрина не выпускала его, протаскивала вместе с пеной мимо Сашкиной стоянки. Наконец девка выбилась из сил, швырнула шест в воду и, оборотив к Сашке наполовину скрытое под капюшоном бледное личико, крикнула обиженным слабым голосом:
— Ну что вы смотрите? Помогите же!
Сашка уже был на ногах. Он взял из лодки моток веревки и запрыгал по камням вслед за плотом. Кукла, перестав лаять, бежала впереди хозяина.
— Сейчас, милая, — бормотал на ходу Сашка, радуясь и тому, что это туристы, а не Дерябин, и тому, что целый вечер проведет среди людей, в разговорах, которые отвлекут его от самого себя.
Метрах в пятистах от стоянки река круто загибала вправо, течение било в левый берег, и плот так близко вынесло к камням, на которые успел выскочить Сашка, что ему даже не пришлось веревкой воспользоваться, — перехватил рукой. Туристы выбрели на берег. Плотик сразу же всплыл, показав все свои жалкие суковатые жердочки, связанные между собой чем попало — где гнилой веревкой, где ржавой проволокой, а в одном месте даже шелковой лентой; чудно было, что он еще держал, не рассыпался на перекатах; всплыли на поверхность и два тощих промокших рюкзака и подвязанная к ним сверху не то доска, не то что другое, плоское и широкое, тщательно завернутое в клеенку.
— Спасибо, друг! — парень торжественно протянул Сашке костлявую худую руку; сам он был тоже худ и костляв, и его можно было бы признать за подростка, еще неокрепшего, еще тянущегося вверх, если бы узкое лицо не обросло рыжей христосовской бородкой; да и весь он своей прозрачностью, худобой, длинными волосами и этой бородкой походил на Иисуса. Сашка тотчас подумал, что в деревне его так бы и прозвали — Исусик.
— Спасибо, спасибо, — с жаром тряс он Сашкину руку, будто тот сотворил сейчас невесть какое благодеяние. — Унесло бы черт-те куда — и до стоянки твоей не добрести. Совсем до ручки дошли. Сверху вода, снизу вода. Спички промокли, обогреться нечем. Да что обогреться! Третий день крошки во рту не было, с ног от голода валимся. Вся надежда на тебя, брат. В накладе не останешься. Я, понимаешь ли, художник. Из Москвы. А это моя жена, — кивнул он на девушку, стоявшую молча за его спиной с растопыренными руками. — В клеенке — мои работы. Перестанет дождик — покажу.
Несмотря на бедственное положение, в какое они попали, художник говорил веско, уверенно, с сознанием собственного достоинства, словно наперед знал, что ему не откажут, помогут, выручат. Впрочем, почти все, кто время от времени приставал к Сашкиной стоянке, вели себя подобным образом — уверенно, требовательно, покровительственно, точно по какому-то неписаному закону он от рождения должен был им служить — и только.
— Пойдемте, — сказал Сашка.
— Ну, что я говорил! — воскликнул художник, обернувшись к своей подруге, застывшей позади все в той же неуклюжей позе. — Добраться бы только до человека или до охотничьей избушки. И мы будем сыты и обогреты! Таков закон тайги! Говорил я тебе? А ты все сомневалась, не верила… Избушка нас тоже спасла бы. Охотники оставляют в них спички, продукты, дрова. На тот случай, если забредет кто-нибудь вроде нас с тобой, голодный и продрогший. Правильно я говорю? Кстати, как вас зовут? — повернулся он снова к Сашке.
— Александр. Можно Сашкой.
— А я — Феликс, она — Вера. Ну, вот и познакомились.
Феликс взошел на плотик, и тот снова затонул под ним.
— Поклажа у нас невелика, — проговорил он, отвязывая рюкзаки. — Все съели или растеряли.
Рюкзаки и в самом деле были легкими, если что и тянули, то от воды, и Сашка оба их подвесил на левую руку, а в правую взял под мышку завернутые в клеенку работы художника.
Вера сразу же отстала. Она и шла с растопыренными руками — не гнулась затвердевшая, как железо, брезентовая куртка.
Феликс не отставал, хлюпал раскисшими сапогами рядом, рассказывал по дороге о себе, изливал душу, как бы заранее платя своей откровенностью за будущие хлеб-соль.
Он, собственно, еще не настоящий художник — учится. Вера тоже пока никто, школу только успела закончить. Поженились всего полтора месяца назад, и этот поход у них вроде свадебного путешествия. А сам он должен еще написать серию таежных пейзажей для дипломной выставки в институте. Конечно, легкомысленно было отправляться с Печоры на Урал по крупномасштабной карте, но другую в наше время где найдешь? В первые дни все было хорошо. Вдоволь продуктов, чудесная тропа. Шли по берегу быстрой холодной речки. Часто делали стоянки… Ах, эти стоянки! Еще минуту назад какая-нибудь поляна на берегу была им совершенно чужда, безразлична, как и множество других, по которым тащились, согнувшись под тяжестью рюкзаков, но вот они решают остановиться, и глаз уже с радостью примечает цветы на поляне, а по краям ее — молодые пушистые елочки, лапник с которых пойдет на лежанку, в центре — раскидистую березу, которая по утрам будет затенять палатку и не даст ей прокалиться, и эта, еще минуту назад совсем чужая, поляна вдруг становится привычной, родной, особенной, будто с детства на ней вырос. Когда же они совсем освоятся тут — поставят палатку, разожгут костер, протопчут в высокой траве тропинку к речке, то кажется обоим: лучшего места и в мире не найти… Так они влюблялись в каждую свою стоянку. Но вот речка кончилась, пропала в ржавом болоте, и все вдруг стало плохо. Ни полянок, ни березок. Марь и топь. Да еще гнус — спасу нет. И гор не видно. Тут где-то должны быть, близко, а не видно. Вскоре и совсем ориентировку потеряли. Заблудились, значит. И в рюкзаках уже легко, животы подтягивает. Феликс струхнул изрядно. Не за себя, за жену. К счастью, снова вышли на какую-то реку. Рубить настоящий плот уже сил не было, кое-как связал вот этот… А что за река и куда течет, он и теперь не имеет представления. Хорошо бы в домашнюю сторону. Досыта напутешествовались…
— Щугор, — сказал Сашка. — Впадает в Печору. До Печоры еще двести километров. Дня четыре проплывете.
— А до жилья?
— Тоже двести. Первая деревня в устье Щугора.
— Далековато, но теперь не пропадем.
Пока они шли до стоянки, дождь прекратился. В разгоняемых верховым ветром тучах появились разрывы, над рекой заметно посветлело.
Сашка разжег костер и ушел за продуктами. Гости встали у огня, вытянули перед собой красные озябшие руки и простояли в таких позах, окутанные паром и дымом, до тех пор, пока он не позвал их к столу. Там были навалены сухари, сахар, малосольная рыба. Попыхивал через носок горячим паром чайник.
— В рай попали, — воскликнул Феликс, набрасываясь на еду.
Вера откинула с головы обмякший капюшон. Лицо у нее было совсем еще юное, с детскими ямочками на зарозовевших у огня щеках.
— Нам, наверно, опасно сейчас есть? — застенчиво улыбнувшись, подняла она на Сашку большие синие глаза.
— Ничего, — поторопился он успокоить девушку. — Сухари да чай — пища легкая.
Он смотрел на супругов, удивлялся их резкой непохожести и с непонятной для себя завистью думал: рисково живут, уверенно, на хлеб еще, поди, сами не зарабатывают, а уже поженились, в тайгу вот вдвоем не побоялись отправиться… Рисково.
Все трое сидели за столом, когда к стоянке подкатила желто-новенькая, изнутри только просмоленная лодка, и из нее вышел на берег легонький старик с козлиной седой бородкой на худом темном лице. Пиджак на нем был сухой — ливень, верно, пересидел где-нибудь в укрытии. Равнодушно глянув из глубоких черных впадин на гостей, он буркнул что-то вроде приветствия и тотчас занялся возле лодки своими делами.
— Кузьма. Мой напарник, — пояснил Сашка.
— Дедушка! — весело крикнул Феликс. — Рулите к столу. Пока чай не остыл.
Кузьма, пытавшийся вытащить из лодки тяжелую бочку с рыбой, даже головы не повернул.
Сашка спустился к реке помочь старику.
— Кто такие? — хмуро спросил тот.
— Художники, говорят. Из Москвы. Муж с женой.
— Врут, — убежденно прошипел Кузьма. — Он уже с бородищей, а ей, поди, и двадцати нет. Полюбовники. Жену свою он дома оставил.
«Вот ведь глазастый хрыч! — подивился Сашка. — Кажется, и не смотрел в ту сторону, а все разглядел».
— Ты, что ли, их потчуешь?
— Я. Свое в лесу поели.
— Наверно, у них деньжищ полные карманы?
— Откуда мне знать?
— А как не заплатят?
— Да перестань, Кузьма. Что мы, не люди с тобой?
— Ох, сердобольный! Ох, сердобольный! — в сердцах сплюнул старик. — У самого ни кола, ни двора, и все туда же — помогать. Ты о себе позаботься.
— Мне немного надо, — огрызнулся Сашка. — Я ведь на тот свет не коплю.
— Ладно, — примирительно буркнул старик. — Ты спроси-ка лучше, может, блесны у них есть али какая другая снасть. Променяю на рыбу.
— Сами наловят.
Пока они, переругиваясь, выкатывали на берег бочку, художник распаковал свои работы и приготовил их для обозрения.
— Я ведь тебе обещал, Александр. Ну вот, смотри, — показал он на подмокшие листы картона, расставленные вдоль скамеек.
На листах пенились меж камней голубые ручьи, пестрели яркими цветами лесные поляны, томились на жарком солнце пышные, с распущенными, как веера, хвойными лапами сосны; бывшему матросу-черноморцу чудно было, что сосны эти походили на южные пальмы.
— Ну, что скажешь? — теребил художник, и по голосу его слышалось, что он ждет похвалы.
Сашка не знал, что в таких случаях говорится, но художник все наседал, и он смущенно выдавил из себя — красиво, мол, потом, осмелясь, добавил критически, что сосны на листах походят на пальмы — как же это так?
— Да ты просто молодец! — радостно взмахнул руками художник и повернулся к сушившей перед костром мокрую палатку жене. — Вера, послушай, что он говорит. Мои сосны походят на пальмы. Точно! Я так их и вижу — северные пальмы. А тайга — джунгли… Вот что значит простой глаз!
Опасаясь, как бы художник не заставил его еще что-нибудь произнести, Сашка отошел к костру.
Вера клевала носом. От палатки валил пар. «Когда она еще просохнет, — подумал Сашка. — Девка с ног валится, да и время позднее, пусть-ка ночует под пологом. Сам я как-нибудь перебьюсь». Вера не заставила себя упрашивать, выпустила из рук палатку и поплелась под тент. Вскоре к ней присоединился и муж.
Воздух был крупитчато-серым, ночным. Река покрылась туманом. От мокрых камней тянуло промозглым холодом. Кузьма, забиравший по утрам в лодку все свое добро — и тент, и полог, и постель (как бы не разорили без догляда), теперь снова вытаскивал его на берег, готовясь ко сну.
Сашка подбросил в костер дров, завернулся в плащ и прилег рядом на землю. Потрескивали дрова. Плескалась вода. «Легко, рисково живут ребята, — снова думал он про гостей, спавших под пологом. — Пешком забрести в такую даль, без хлеба. А не встреться он им, что бы с ними было? Но зато хорошо вдвоем, тепло, не затоскуешь, как сам он каждую ночь тоскует по Кате». И, вспомнив про Катю, он уже ни о чем другом думать больше не мог.
Вот она стоит перед его глазами, рослая, сильная, под стать ему самому, такая, какой он увидел ее в первый раз среди деревенских девчат, столпившихся в ожидании танцев возле клубного крыльца. Он вернулся домой, угостился немножко, посидел у постели больной матери и, разодевшись в пух и прах — в клешах, матроске, тельняшке, в лентах с якорями, тоже явился в клуб. Окна в зале были завешены черным толем (накануне показывали кино), танцевали при электрическом свете, баянист, верно, ради Сашкиных ленточек заиграл вальс «Амурские волны», и Сашка через весь зал прошел к приглянувшейся девушке, и она нисколько не удивилась, будто даже ждала его приглашения, оттолкнулась от стены и доверчиво положила свою руку ему на плечо, а когда танец подходил к концу, лукаво блеснула глазами и сказала: «Я вас знаю». — «Откуда же? — обрадовался разговору Сашка. — Меня тут давненько не было. Пять лет почти». — «Мы в одной школе учились. Только вы в десятом классе, а я в пятом». Сашка тотчас представил школу в соседнем селе, в которую он ходил за семнадцать верст из деревни, представил пыльные классы, коридоры с выбитыми до ям полами, черный, без единой травинки школьный двор, все живо восстановил в памяти, только эту девушку никак не мог вспомнить. Ну да, догадался он, в те времена она была совсем еще пигалицей, от горшка два вершка, он и внимания на таких не обращал, где же теперь вспомнить…
После танцев они провожались до утра. «Ты не поверишь, — говорила Катя. — Я о тебе еще со школьных времен думаю. И когда в армию ушел, тоже вспоминала. Только не чаяла дождаться. Ведь все ваши разбежались из деревни… А ты вон и приехал».
Обогрела его Катя, на всю жизнь обогрела, и ему бы надо с ней по-хорошему, по-людски, но разве мог он позволить, чтобы и она вместе с ним чувствовала себя обложенной со всех сторон.
Вот теперь, когда он решил уехать, все будет по-другому, по-настоящему. Не хуже, чем у этих ребят.
«Дождаться бы только осени», — думал с надеждой Сашка, но на сердце отчего-то было смутно и неловко, может, оттого, что вот скоро уедет, а ни разу даже не свозил сюда Катю, не порыбачил с ней вместе, хотя она все время просила об этом.
На рассвете, разбуженный у остывшего костра холодом и сыростью, Сашка собрался на рыбалку. Перед тем как столкнуть лодку, он подошел к пологу и расшевелил Феликса.
— Продукты знаете где? В бочках. Ешьте вволю, не стесняйтесь. Если надумаете плыть дальше, то и на дорогу возьмите, сколько надо.
— На рыбалку? — заворочался под пологом художник. — Можно с тобой? Я никогда не видел, как ловят хариусов.
— Если охота… Только не мешкай…
Через десять минут оба уже были в лодке. Сашка сидел высоко на корме, управлял мотором, а художник, накрывшись с головой брезентовой курткой, забился в нос, дрожал всем своим худым телом, и под боком у него побрякивал плоский ящик с рисовальными принадлежностями — этюдник.
Лодка шла против течения. Над рекой стоял густой туман. То справа, то слева показывались похожие на грязные клубы дыма купины прибрежных кустов, но самих берегов не было видно. На обоих заволгла одежда, и от встречного воздуха, как от родниковой воды, поламывало зубы.
На перекатах туман не стоял на месте: подхваченный острым ознобным ветерком, который вздувала за собой разбежавшаяся вода, он тоже катился вниз… Они прошли один перекат, второй, а на третьем Сашка вывалил за борт стальное зубчатое колесо, заменявшее ему якорь, и остановил мотор. Лодка рванулась вспять, дернулась на привязи и, развернувшись носом в обратную сторону, вытянулась на туго натянутой веревке в струнку по течению.
Феликс, вспугнутый толчком, поднял голову.
— Приехали, — весело сказал Сашка. — Сейчас начнем…
Не хотелось Феликсу покидать свое уютное местечко в носу, но желание посмотреть на Сашкину работу вблизи взяло верх, и он переполз, держась за борт, на корму.
Сашка готовил к спуску свой кораблик. Это была полуметровая доска, темная, не новая, уже послужившая немало по другой части — либо тесиной в заборе, либо еще чем; один край у нее был скошен; в короткое ребро килем вделана железная скоба; Феликс тотчас догадался, что скоба эта предназначена для того, чтобы кораблик держался в воде стоймя; сбоку к кораблику за маленькие металлические ушки были подвязаны четыре коротких поводка, сходившихся, как у бумажного змея, в одном узелке; дальше от узелка шла крепкая миллиметровая леса — нить, на которой через каждые полтора-два метра висели на таких же крепких поводках трехжальные якорьки с пестрыми волосяными мушками, много якорьков, может, пятнадцать, может, двадцать, а может, и больше. Все они перепутались между собой, и сейчас Сашка с привычным терпением разбирал их и развешивал один к одному вдоль борта.
Когда эта работа была закончена, Сашка выкинул кораблик на воду. Тот всплыл вверх длинным ребром и, натянутый на леске, встал против лодки. Метр за метром отпускал Сашка лесу, одну за другой скидывал с борта мушки, и кораблик уходил против лодки все дальше и дальше — в туман, в таинственную неизвестность — точь-в-точь бумажный змей улетал в заоблачную высь.
Еще не все мушки были скинуты с борта, а в тумане уже послышались резкие короткие всплески, совсем не похожие на равномерные, шелестящие шлепки волн. Чак-чак-чак! — бил кто-то там, неведомый. Феликс удивленно и встревоженно посмотрел на Сашку, и тот, поняв его взгляд, сказал:
— Хариусы играют.
Феликс заволновался и не только забыл о холоде, но вроде бы даже почувствовал некоторый жар во всем теле.
Последняя мушка прыгала на волнах рядом с бортом. На глазах у Феликса на нее выскочил маленький харюзенок. Он захлопнул в воде узкий ротик и в тот же миг, поддетый за верхнюю губу, беспомощно завис над водой.
— Вытаскивай, вытаскивай! — при виде рыбы загорячился Феликс.
Сашка и сам чувствовал, что пора — леска напряглась в его руках, дергалась, ходила, и он потихоньку стал выбирать ее. Почти на каждой подвеске была рыбина. Первый харюзенок — самый маленький. Дальше пошли на полкилограмма и больше. Феликс упал на колени в мокреть и снимал с якорей хариусов. Прохладные скользкие рыбины холодили руки, но теперь ему все было нипочем — и туман, и холод, и сырость.
Впрочем, когда Феликс очувствовался от первой горячки, пришел в себя, тумана уже не было, исчез, растаял, точно по волшебству, над головою сияло чистое небо — ни вчерашних туч, ни дымки, сверкало солнце, высвечивая в полуметре под водой хрящеватое галечное дно (а каким глубоким оно казалось в тумане). Открылись берега: слева — низкий, песчаный, а справа — высокий, скалистый, и под самой скалой, глянцевито-влажной от осевшего тумана, качался их кораблик.
В берестяных коробках и по дну лодки, обдирая и разбрызгивая во все стороны серебристую чешую, прыгали хариусы. Феликс влюбленно смотрел на них и думал с восторгом: вот это работа, вот это жизнь, век бы не уезжать отсюда!
Но рыбы было так много, что она вскоре как будто даже надоела Феликсу, да и возбужденные нервы требовали отдыха, и он снова перебрался в нос судна, на сухое. Там выскреб из бороды чешую, обтер о штаны руки и, пристроив на коленях этюдник, попробовал запечатлеть в красках окружающее его бытие. Он писал трепещущуюся блестками реку, голубых хариусов, скалу, ставшую сиреневой на солнце, и счастливый душевный подъем, который охватил художника при виде маленького харюзенка, теперь сопутствовал его работе. Никогда еще он так остро не видел, никогда еще так верно и чисто не ложились мазки. Потом художник переключил свое внимание на Сашку, писал его крупную голову с выгоревшими и вьющимися, как стружка, волосами, писал прокаленное на воздухе лицо со светлыми, будто тоже выгоревшими, глазами, писал до пояса, писал во весь рост, и к полудню у него набралось порядочно Сашкиных портретов — Сашка с рыбой, Сашка за рулем, Сашка в профиль, Сашка в фас. Тут Феликса обожгла дерзкая идея: не пейзажи он представит на дипломную выставку, а целую картину «Рыбак» с монументальным Сашкой в центре композиции. Напишет такого рыбака, какого еще никогда и ни у кого не было. Так он и порешил.
В полдень, не выходя из лодки, они пообедали, высосали по банке сгущенки, пожевали сухарей, и хотели было уже снова разбрестись по своим местам, как вдруг услышали далеко внизу глухое урчание лодочного мотора. Кто бы это мог быть? Кузьма сейчас вверху, он прошел туда еще в тумане. И Феликс вопросительно посмотрел на Сашку.
— Один мой знакомец раскатывает, — принужденно усмехнулся тот. — Видишь гору? На колокол похожа. Сейчас он остановится под ней и полезет на вершину.
— Зачем?
— Ты у него спроси.
Теперь они уже не торопились вернуться к прерванным занятиям, сидели на скамейках посредине лодки, ждали. И через полчаса Феликс в самом деле различил на вершине горы, у квадратного камня, нечто вроде былинки, которой раньше там как будто не было.
— Что он все-таки делает? — недоумевал Феликс.
— В бинокль нас рассматривает.
— Вот чудак.
— Совсем не чудак, а рыбнадзоровец Петька Дерябин. Смотрит, не ловим ли мы с тобой семгу.
— Какую семгу?
— Есть такая рыба.
— Знаю, что есть. Когда водятся денежки, лакомлюсь в ресторане. Но я полагал, она в море живет.
— И в реке, и в море. Рождается в реке и первые лет пять тоже здесь живет, и зовут ее тогда не семгой, а тальмой, Чудно: почти у всех наших рыб по два имени, одно — для взрослых, другое — для поросли. Маленьких харюзов, вроде того, что ты первым снял с крючка, называют жиганами. Маленький осетр тоже не осетр, а лобарь… Тальма в пятилетнем возрасте в два пальца величиной. Такой она и скатывается в море, а там, говорят, всего лишь за три года вырастает в настоящую рыбу — метр длиною, полпуда весом. Приходит время нереститься, и она прет обратно. Тут уж для нее никаких преград нет, мели так мели, на брюхе проползет, всю чешую сдерет с себя, но не повернет обратно. Под самый Урал доходит… Тоже интересно, как икру они мечут. Разобьются на пары — самец и самка. Но сначала самцы передерутся между собой. Что ты, настоящая драка! За дорогу нижняя челюсть у них загибается в крутой крючок. Сцепятся этими крючками и давай таскать друг друга, пока который-нибудь из них не уступит. Шум, плеск, пальба по всей реке. Ну, а потом рыбы парами вырывают на быстрых перекатах в галечном дне ямки, выпрастывают в них икру и молоки и снова зарывают, да не только зарывают, но еще и бугры нагребают выше воды, далеко их видно — это чтоб другие рыбы не растащили раньше времени икринки… У самок еще хватает сил уйти обратно в море, а самцы, умаявшись в драках, почти все на месте и погибают; в конце лета плывет по реке мертвая рыба — лохвоина, как у нас называют. На нее много охотников: халеи всякие, орланы-белохвосты, сороки, вороны. Полуживую расклевывают…
— А живую, значит, нельзя ловить? — спросил Феликс, с интересом выслушавший про житие семги.
— Нельзя. Ни сетями, ни спиннингом, ни на дорожку. За голову — штраф пятьдесят рублей, а то и похуже… Здесь на каждого рыбака по охраннику.
— Как же она в ресторан-то попадает?
— Государство ловит. В низовьях вся Печора перегорожена сетями, там ее и вычерпывают, когда на нерест идет, а сюда, бают, по счету пускают.
— И всегда так было?
— Не. На моей памяти отец ловил еще свободно. Всю зиму, бывало, ели в пирогах да в ухе, а то и просто так, заместо закуски. Все мы тут на семужке выросли. А теперь — нельзя. Беречь, мол, надо рыбу…
— Мда-а, — потеребил бородку художник. — Грустно.
— Ну, и не держится народ на реке… Я вот тоже собрался рвать когти, на что уж, кажется, коренной-прекоренной. Даже деревня, в которой живу, по моей фамилии зовется — Гордеевка. Прадед мой основал ее — Гордей. Есть еще Гордеев перекат. Рассказывают, он потонул в нем. В тайге, под Уралом — Гордеев стан, где он охотился. Вон ведь как широко пустил мужик корни, а толку что — не держат они нас.
За разговором оба то и дело поглядывали на гору. Человека возле камня уже не было. Вскоре послышалось и урчание мотора — лодка уходила.
— Какая из себя она, эта семга? — спросил Феликс. — Я ее видел только в тонких ломтиках.
— Большая рыба.
— Красивая?
— У нас зовут ее красавкой.
— Вот бы посмотреть! — с заблестевшими глазами воскликнул художник.
Сашка вприщур посмотрел на него и ничего не сказал.
— Может, попытаемся поймать? — загорелся Феликс. — Всю ответственность беру на себя. Что он мне сделает, твой знакомый?
— Тебе-то ничего, вот мне…
— Да он и не увидит, вниз уплыл.
— Давайте-ка лучше займемся своими делами, — сказал Сашка, поднимаясь со скамейки.
После долгого сидения Феликс остыл к работе, да и не виделось уже вокруг ничего интересного, достойного изображения, и он снова принялся помогать Сашке — снимал с крючков хариусов, усыплял их ударом головы об лодку, чтобы не прыгали много, а сам все время раздумывал о семге-красавке, о том, как бы уговорить Сашку выловить одну; он не сомневался, что тот, несмотря на строгости, втихаря побалывается запрещенной рыбкой. «Может, меня остерегается? Надо бы показать как-то, что свой я человек».
Но показывать ему ничего не пришлось. Сашка вдруг распрямился, посмотрел на солнце, обошедшее с утра полнеба, на берестяные короба, доверху забитые хариусами, и сказал:
— Хватит на сегодня. Сейчас самая пора брать семгу.
Желание Феликса сбывалось. В предчувствии чего-то необычного у него быстрее заколотилось сердце.
Сашка между тем вынул из воды кораблик, смотал вокруг него лесу с поводками, сунул в ящик со снастью, а оттуда вытащил сухую рогатку с другой лесой, но уже без поводков и без мушек, зато с тяжелой, двухцветной блесной: сверху — золотистой, снизу — красной.
— Держи, — протянул он рогатку Феликсу. — Сядешь рядом со мной на корму. Когда я поведу лодку, распустишь всю леску. Походим с дорожкой.
Сашка поднял якорь, включил мотор, и лодка заскользила вниз по реке; Феликс, как и велено было, перебрался в корму, выкинул за борт блесну и стал распускать леску.
На тихом ходу лодка широкими кругами двигалась под перекатом. Сжав в обеих руках рогатку и затаив дыхание, Феликс ждал… Но чуда не было. Второй, третий, четвертый круг… Нет, не из удачливых он, не видать ему семги-красавки. Он устал ждать, нервное напряжение перешло в сонливость, потянуло на зевоту, и тут вдруг дернуло, дернуло с такой силой, что он чуть не перевернулся с раскрытым ртом за борт. «То-то бы нахлебался!» — мелькнуло в голове, а рогатка все рвалась из рук, обжигала ладонь. Феликс беспомощно оглянулся на Сашку. Тот выключил мотор и знаком потребовал рогатку себе, но Феликс теперь не расстался бы с ней ни за какие блага на свете.
Лодку несло по течению. Леска внезапно ослабла. «Неужели сорвалась, неужели ушла?» — в отчаянии думал Феликс, легко выбирая намокшую стилоновую нить. Он выбрал не меньше трети. И снова рвануло. В тот же миг показалась и сама рыба. Она встала на хвосте — большая, грозная и как бы разъяренная, ослепительно сверкнула на солнце белым брюхом — и опять бухнулась в воду, бухнулась с громовым, подобным пушечному выстрелу, звуком, и по воде во все стороны пошли крутые круги. И началось, и началось! Туго натянутая леса не ослабевала больше ни на секунду — струнно звенела, ходила из стороны в сторону, увлекая за собой лодку; рыба то заныривала вглубь, то показывалась у самой поверхности, переворачивалась вверх белым, будто эмалевым брюхом, и в воде представлялась совсем маленькой, не больше хариуса, и не верилось, что это она с такой силой и яростью рвет из рук крепкую стилоновую жилу.
Игра была древняя, первобытная, и первобытный восторг распалил художника, и сам он ощущал себя первобытным, готовым на все — хоть в воду… Однако полностью он не забылся, чувствовал под ложечкой неприятный холодок страха, умерявший его первобытность, — в самом ли деле сошел с горы Дерябин, не притаился ли там за камнем, не наводит ли сейчас на него бинокль? Может быть, прокрался по берегу и рассматривает в упор, фотографирует. Но что ему может сделать Дерябин, снасть-то не его — Сашкина, и сам он тут сбоку припека, проезжий, да и убрался Дерябин, убрался, они ведь оба слышали…
Феликс беспокойно оглядывался на Сашку, но тот не понимал его взгляда, ободряюще улыбался, кивал головой, как бы говоря, что все он делает правильно, и рыба никуда не уйдет от них.
Рыба умаялась вконец, уходилась, и последние метры дались легко. Сашка перегнулся через борт, схватил одной рукой за хвост, другую с привычной сноровкой запустил за жабры и тут же выхватил всю в лодку. Рыба даже и не билась, только водила тяжело сиреневыми в крапинку боками. Дальше было просто. Сашка вытащил из кармана складень, разомкнул, вонзил острие чуть пониже головы — одним взмахом развалил рыбину по брюху до хвоста. Брызнула алая кровь. Открылись в пленках два продолговатых жгута, плотно набитых золотисто-прозрачными зернами икры. Икра лежала в жгутах полукружьями, похожими на апельсиновые дольки.
Никогда еще у Феликса так высоко не взлетали чувства. Он во все глаза смотрел на мертвую, враз потускневшую и как бы завядшую рыбину, на крупную, как ягоды, икру в дольках, на Сашку, споласкивающего нож в реке, и воспламененно думал: вот о чем надо писать, вот о чем! К черту «Рыбака». Никакого рыбака он писать не станет — столько их писано-переписано, что и нового ничего не скажешь, — а напишет «Браконьера», и в нем будет все, что он сейчас увидел и пережил, — и красавица семга, и Сашка, и ощущение первобытности, и страх, звериный страх перед рекой, перед самой рыбиной, перед всем белым светом.
…Вечером Сашка, Феликс и Вера сидели на стану вокруг костра и хлебали из мисок очищенную от пленок свежую икру. Феликс еще не остыл после рыбалки, нервно дергался, закатывал глаза, тряс узкой христосовской бородкой, вспоминал:
— Ах, какая была рыбина! Как на хвост вставала! Как леску рвала! Чудом в лодке усидел! А если бы вывалился, если бы не удержал в руках рогатку — ушла бы. О, я бы не пережил этого, утопился!
— Далеко не ушла бы, — успокаивал разволновавшегося художника Сашка. — У нас иногда рогатку нарочно в воду бросают, дают рыбе самой умучиться.
Феликс, не вникая в Сашкины слова, уже перескакивал на другое:
— Ах, так и тает, так и тает! В Москве ведь не поверят, что мы ложками хлебали свежую икру. Да я и сам себе не поверю. Хоть не уезжай отсюда никуда.
— Живите до зимы. Мне повеселее будет, да и помощники из вас хорошие, — улыбнулся Сашка и кивнул головой на белопенный, без единого раздавленного комарика полог, висевший на молодой березке; рядом, на других березках, сушились его портки, рубашки, носки — все это перестирала в их отсутствие Вера; подле костра стоял в закопченных ведрах ею же приготовленный ужин — суп со свиной тушенкой и макаронами, компот из сухофруктов.
— Хозяйка! — похвалил Сашка.
— Это она харч отрабатывает, — подмигнул Феликс. — А дома не упросишь и носовой платок выстирать.
— Как тебе не стыдно! — вспыхнула Вера.
— Шучу, шучу… Я тоже время зря не терял. Не веришь? Сейчас покажу.
Он смахнул с колен вылизанную до блеска миску и убежал к лодке. Вернулся с этюдником.
— Теперь ты не скажешь, что мало работаю, — говорил он, вытаскивая из ящика толстую пачку этюдов. — Половину Александру, половину тебе. Смотрите.
— Да ведь это я! — удивился Сашка, разглядывая верхний картон.
— Узнаешь? — радостно отозвался художник.
— Ну, как не узнать… И это опять я, — уставился Сашка на другой рисунок.
— Ты, ты!
— Хм, — засмущался Сашка. — Разве я так уж интересен, чтобы столько трудов на меня положить.
— Еще как интересен! — загорячился Феликс. — Я, может, с тебя целую картину напишу.
— Да на нее и смотреть никто не будет!
— Будут смотреть. И радоваться будут, что живут еще на земле такие сильные, такие щедрые и душевно здоровые люди.
— Ну, какой же я душевно здоровый? — грустно усмехнулся Сашка. — Волк затравленный…
— Вот-вот! — обрадовался Феликс. — Тебя здесь затуркали, а я напишу человеком. Напишу так, чтобы у каждого, кто увидит картину, появилось желание помочь тебе.
— Не надо мне помогать, — недовольно буркнул Сашка.
Но Феликс, не обращая внимания на его слова, продолжал горячить свою мысль:
— В этом-то и наш долг художников — всеми силами поддерживать маленького человека.
«Ах ты, Исусик! — не понравилось Сашке, что его обозвали „маленьким человеком“, — тоже мне крупный человек!»
Вера же смотрела на мужа с ласковой гордостью, будто тот черпал свои умные речи не откуда-нибудь, а прямо из ее сердца.
Феликс уже развивал новую мысль, только что пришедшую в голову:
— Да и почему же ты браконьер? Ведь ты не делаешь ничего такого, что бы не делали в свое время твои отцы, деды, прадеды. Как и они, ловишь семгу. Но им никто не запрещал. Тебе же вдруг запретили. Допустим, причина известна: население растет, и люди слишком навалились на семгу, рыбы стало мало. Но твоя ли вина, что ее мало?
— На словах-то оно, может, и так, — сказал Сашка и поднялся. — Вы тут ешьте, а мне надо улов обработать, пока не испортился.
Он спустился к лодке, вытащил на берег короб с хариусами и, присев на корточки у воды, принялся потрошить их.
Солнце уже закатилось, река померкла, но было еще светло. Впрочем, по-настоящему тут летом и не темнеет. По ночам только как бы серые крупинки в воздухе появляются.
Художник своими речами снова разворошил Сашкины мысли…
Дед, прадед, отец… Это их кровь переливается в его жилах, их кровь волнуется при плеске хариусов, их кровь любит через его глаза весь здешний мир — и кипящую быстриной и перекатами реку, и темный лес по берегам, и белые туманы над водой, и беззвездное летнее небо… Сашке вдруг вспомнилось, как осенью плывут по реке с верховий, из-под Урала, плоты с сеном, десятки плотов, сено на них туго умято и придавлено, как в возах, тяжелыми березовыми бастрыками; на глубоких и тихих местах плоты тащат на буксире моторные лодки, на перекатах толкают шестами мужики, повыскакивавшие из лодок; пройдут плоты, а потом еще долго стоит над рекой, кружа голову, густой и сладкий сенной настой.
Вспомнил Сашка про плоты и вдруг понял: не сможет он жить иной жизнью, никуда ему отсюда не уехать. Не видеть родной реки, не дышать привычным воздухом — все равно что вынуть из него живую душу и вставить заместо нее другую, пластмассовую, как, говорят, вставляют пластмассовые клапаны в сердце. И никакие большие деньги уже не помогут ему.
Так как же тогда быть? Что делать?
Да ясно же что: оставить семгу в покое, забыть про нее, как будто ее и вовсе не существует в реке. Не обручен же он с ней. Да и не впрок она ему: или на пропой, как в случае с вертолетчиками, или совсем задарма. Краденое есть краденое…
То-то бы удивился художник, узнав, в какую сторону направил он своими речами ход Сашкиных мыслей, а сам Сашка впервые за последние дни почувствовал себя легко и уверенно и уже радостно прикидывал в уме, как он после промысла перекатает вместе с Катей свою избенку, как пойдет к председательше… Если с ней по-серьезному, без шуточек да прибауточек, то не откажет в работе, баба добрая, да и Кате теткой приходится. Надо бы и с Дерябиным поговорить по душам. Все, мол, завязал, брат. Да не поверит… Ну, теперь-то пусть половит.
Спустя два дня гости отбывали.
Под берегом наготове стоял плот. Не тот «подводный», на котором они приплыли четыре дня назад, а другой, только что срубленный Сашкой из сухих еловых бревен. На толстых комлях зеленел свежий лапник — чтобы посидеть на сухом либо полежать. Тут же были пристроены рюкзаки, значительно огрузневшие по сравнению с их первоначальным видом, — гостеприимный хозяин не поскупился, отвалил на дорогу и сухарей, и сахару, и круп разных для варева.
На постройку плота ушло все утро. Теперь уже начинался день, пронзительно ясный, свежий, какие бывают только на Севере. Солнце отбеливало последние камни, потемневшие от ночной росы. Распрямлялись подсыхающие травинки.
Супруги стояли перед снаряженным плотом, поджидали хозяина, запропавшего где-то в лесу.
Наконец появился и он, неся на вытянутых руках две большие, в крупинках соли и влажные от рассола рыбины.
— Есть во что-нибудь завернуть? — спросил он, отпыхиваясь.
— Это уж слишком, Саша! — запротестовала Вера. — Нам и того, что в рюкзаках, хватит.
— Ничего, съедим, — перебил Феликс. — Дорога до Москвы длинная. Давай сюда. Завернем во что-нибудь.
Взяв из Сашкиных рук рыбу, он взошел на плот, завернул ее в вытащенную из рюкзака измятую полиэтиленовую пленку.
— Под лапник ее, — посоветовал Сашка. — Рядом с водой лучше сохранится.
Феликс так и сделал, подтолкнул сверток под лапник, потом спрыгнул на берег и подошел с протянутой рукой к Сашке.
— А нам вот тебя отблагодарить нечем. Может, возьмешь наш московский адресок и в гости приедешь? Или напишешь? Вдруг понадобится что: запасные части к мотору, лески, блесны, крючки? У нас этого добра не выбрать. Сразу вышлю.
Не найдя в карманах пустой бумажки, Феликс поднял с земли желтую щепку, срубленную с плота, и нацарапал на ней свой адрес.
— Спасибо, — сказал Сашка.
— Еще спасибо будешь говорить, — возмутился Феликс. — Лучше скажи, сколько мы тебе должны.
— За что?
— За харч, за приют.
— Нисколько. Гостями жили.
— Какие же гости?
— Пустые разговоры, — отрезал Сашка и повернулся к Вере.
— Ну, милая девушка, прощай.
Вера спрятала правую руку за спину, приподнялась на цыпочках и, сама вся зардевшись и Сашку приведя в крайнее смущение, поцеловала его в щетинистый подбородок.
— Спасибо за все, — благодарно произнесла она. — И в самом деле приезжайте.
— Гора с горой лишь не сходятся, — пробормотал Сашка.
Вера и Феликс на плоту; Сашка забрел в воду, уперся руками в намокшие бревна и столкнул с прибрежных камней. Плот сразу же подхватило течение. Поплыли вспять щепки, кусты, деревья. Поплыли, быстро уменьшаясь в размерах, разбросанные меж белых камней ржавые бочки, лодка, тент, кострище, врытые в землю стол и скамейки. Уплывал, отдалялся сам Сашка, стоявший у воды с прощально поднятой рукой. Он еще узнавался по тельняшке, по взбитым, как стружка, волосам, но лица уже нельзя было распознать… Лишь одна Кукла никуда не уплывала — бежала по берегу за плотом.
Вера тоже махала и жалостливо думала: мы-то скоро будем среди друзей, а он до самой зимы один-одинешенек…
Река завернула вправо, и Сашка исчез из виду, скрылся за кустистым зеленым мысом. Потерялась и Кукла. Вера облегченно вздохнула, опустилась на лапник, и сразу же все то, чем она жила последние дни, ушло в прошлое, а настоящим стали мысли о доме, к которому теперь ее приближала каждая минута. Она представила, как залезет дома в горячую ванну, как переоденется во все чистое, легкое, красивое, как пойдет по подружкам, и на душе сразу стало легко, светло.
Феликс стоял в передней части плота, время от времени взмахивал шестом, не позволяя «судну» развернуться поперек течения, и предавался сладостным размышлениям о своей будущей картине. Он уже видел ее во всех подробностях: на переднем плане могучий исполин в обличии Сашки; он стоит во весь рост в длинной, похожей на пирогу, лодке, и остервенело борется с белотелой рыбиной; одна рука ушла глубоко под жабры, другая — сдавила хребет, лицо искажено первобытным азартом и… страхом, ибо он только что учуял близкую для себя опасность… А вдали, над черной кромкой леса, встает солнце, огромное, красное, словно раскаленная железная чушка; оно еще не светит и не греет, в воздухе крупинками держится ночной мрак, за приподнятый нос лодки прицепился клок тумана — ранний воровской час…
Художник наслаждался своим замыслом, смаковал подробности, и лишь одно его удручало — за все четыре дня, прожитые у Сашки, он ни разу не заприметил, не засек на его лице того выражения, какое ему хотелось изобразить — смешение еще не угасшей охотничьей страсти и внезапного животного страха перед тем, кто ему сейчас помешал. Через миг что-то произойдет! Схватка? Убийство? Кровавая трагедия? Ах, дорого бы дал Феликс, чтобы хоть разочек, хоть краешком глаза увидеть Сашкино лицо таким, каким оно смутно мерещилось в его сознании.
А без этого вся картина может не получиться… Гениальный Леонардо да Винчи обладал могучим воображением, но и он на целый год прервал работу над «Тайной вечерей» (почти завершенной, осталось лишь написать голову Иуды) по той же простой причине: никак не мог найти натуру — «злодейское лицо», соответствующее его замыслу. Художника торопили заказчики, он отвечал им: «Как только такое лицо мне встретится, я в один день закончу работу».
…«Социальная картина!» — продолжал Феликс раздумывать о своем, не подозревая, что замысел картины резко расходится с его недавними толками о назначении искусства — поддерживать «маленького» человека. Но не думать о том, что Сашка предстанет в его картине не совсем в благовидной роли, он, конечно, не мог. Так ли расплачиваются порядочные люди за гостеприимство и радушие? Так ли благодарят за спасение?
Феликс недолго мучил себя размышлениями о порядочности. Вспомнилось слышанное не раз: художник, изображая даже самых близких людей — отца своего, или мать, или жену, должен писать только правду, какой бы порой неприглядной она ни была…
«Что поделаешь? — вздохнул Феликс. — Чувству благодарности в нашей работе нет места».
А солнце между тем поднялось на самую высшую точку, разогрело воздух и насквозь просветило реку. Под плотом мелькали то желтый песок, то пестрая галька, то валуны, поросшие вытянутыми по течению изумрудными водорослями. Берега дымились зеленью. Река все время катилась под уклон, заметный даже простым глазом, и сухой легонький плот несся вместе с нею; на падучих перекатах он еще наддавал, и тогда его нос зарывался в воду, через бревна перекатывались пенистые валы, летели брызги, посвистывал в ушах ветер, и у путешественников замирало сердце и холодело под ложечкой.
К вечеру по сторонам прямо из воды поднялись высокие серые скалы — надо было задирать голову, чтобы увидеть их вершины, редко утыканные игрушечными елочками, — дно провалилось, скрылось в черных потемках, течение пало, наступила глухая тишина, нарушаемая по временам звонкими ударами капель, соскальзывающих с береговых камней. Вся река была в белых лепестках пены, принесенных с кипящих перекатов. У скал пена сбилась в большие пышные сугробы.
Потом и впереди встали скалы, заключили реку в каменное кольцо. За одной из скал укрылось солнце. Было страшновато и необыкновенно красиво — будто в вымершем средневековом городе. Плот почти не двигался. Путешественники взялись за шесты, лежавшие до того без дела. Дна не было. Можно было только подгребаться. Через полчаса работы в скалах прорезалась узкая вертикальная щель, и через нее косо пала на цветущую воду желтенькая полоска света. С каждым взмахом шеста щель становилась все шире и шире, а свету все больше и больше — словно ворота какие раздвигались в совершенно иной солнечный мир. Впрочем, вспоминал Феликс, именно воротами и называл Сашка подобные места на Щугоре: Верхние ворота, Средние ворота, Нижние. Это, вероятно, были Верхние, потому что никакие другие пока на пути не встречались.
Наконец гребцы миновали и сами ворота — узкий перехват между двумя одинаковыми розовато-серыми скалами с одинаково подмытыми боковинами внизу — и на них, как ливень, хлынул солнечный свет, а перед глазами снова открылись плоские зеленые берега, поросшие то травой, то кустами. За день они настолько свыклись со своей одинокостью, что, увидев вдруг на левом берегу, прямо под скалой, белую выцветшую палатку, дымок над костром, дюралевую лодку, над которой, склонясь, возились двое мужчин, от неожиданности даже шесты выронили из рук.
На скате палатки висели кожаная полевая сумка и старинный, в желто-медной оправе, морской бинокль. По этим предметам Феликс догадался, что повстречались они не с кем иным, как с самим Дерябиным, хозяином реки. Он тут же вспомнил про семгу под лапником и ощутил во рту нехороший привкус. Черт подери, вот ведь не повезло.
Те двое, заприметив плот, распрямились.
Который же из них Дерябин? Конечно, тот, что стоит ближе к воде, — высокий, плечистый, в линялой гимнастерке и сбитой на затылок форменной фуражке. А другой, по уши перемазанный в машинном масле и в болтающейся на узкой груди грязной майке, вероятно, всего-навсего моторист.
Плот, как на грех, тащило к берегу. Уже можно было разглядеть лицо Дерябина: широкоскулое, азиатское, с маленькими, далеко расставленными друг от друга глазами… Феликс стряхнул с себя оцепенение и снова взялся за шест, чтобы вытолкнуться на середину реки. Но тут Дерябин поднял руку и молча поманил его пальцем. И Феликс, вопреки своей воле, словно под гипнозом, стал покорно подталкиваться к берегу.
— Кто такие? — спросил Дерябин, когда плот шабаркнул о дно и остановился.
— Туристы, — торопливо ответил Феликс.
Дерябин ступил на плот, придавив его своей тяжестью к галечному дну.
— Умеючи сделан, — постучал он каблуком по бревнам; потом прошелся туда-сюда и словно бы невзначай зацепил носком сапога за лапник; из-под него забелел облепленный мелкой чешуей кусочек полиэтиленовой пленки.
— Да вы, никак, с рыбой едете, — весело подмигнул он косящим глазом. — Я уже хотел посочувствовать: с верховий спускаетесь, и без добычи. О, даже семга! — подивился он, разворачивая пленку. — Ну и ну! А бы разве не слышали, что ловить семгу на нашей реке запрещено? Нет? Странно. Где же у вас спиннинг или дорожка?
— Никакого спиннинга у нас нет, — с вызовом произнес Феликс, решив наконец показать, что он тоже не лыком шит и умеет постоять за себя. — Да и вообще это черт знает что! Взойти на чужой плот, рыться в чужих вещах…
— Да! Я же не представился, — ухмыльнулся Дерябин и, расстегнув нагрудный карман на гимнастерке, вытащил потертый бумажник, а из бумажника плоскую и зеленую, как околыш на его фуражке, книжечку. — Инспектор рыбнадзора… Прошу любить и жаловать.
— Все равно вы не имеете права, — повысил голос Феликс, отмахиваясь от книжечки.
— Права мои вы еще узнаете. Ну-ка, Федор, — кивнул Дерябин мотористу, откровенно наслаждавшемуся спектаклем, который сейчас разыгрывал его шеф. — Забери у них рыбу да принеси планшетку.
Худенький и, как оказалось вблизи, совсем еще молоденький моторист бегом бросился исполнять поручение.
— Рассчитываться когда будете? — приняв планшетку, снова заговорил Дерябин. — Сейчас или потом, через суд? По пятьдесят рублей за голову. Значит, всего сто рублей. Через суд подороже обойдется. Пошлину взыщут. Да и судебные издержки за ваш счет.
— Ничего я вам платить не буду. Ни сейчас, ни потом. Рыбу эту я не сам поймал. Купил.
— У кого же? — словно бы удивился Дерябин, хотя заранее предвидел подобный поворот в своем дознании.
Три дня назад, выслеживая в бинокль Сашку Гордеева, он разглядел на его стоянке какую-то женщину, а в лодке под перекатом незнакомого бородатого мужчину, занятого вместе с Сашкой рыбалкой. «Кто бы это могли быть?» — задумался Дерябин. — Деревенские вверх не поднимались. Значит, кто-то спускается вниз. Геологи или туристы. Скорее всего туристы. Геологи не стали бы заниматься праздными делами. Через день-два туристы поплывут дальше и, вполне возможно, с рыбой. Не сами, конечно, наловят. Сашка оделит на дорогу. Или продаст. Вот тут-то он их и прищучит… Дерябин прежде никогда не проверял туристов, а этих решил во что бы то ни стало укараулить и обыскать. Впрочем, сами они ему не нужны — ни этот высокомерный с рыжей бороденкой парень, ни перепуганная девчонка, не соизволившая даже подняться с лапника.
— Так у кого же все-таки купили? — переспросил Дерябин.
— У одного рыбака.
— Как его зовут?
— Не спрашивали.
— Ну, тогда я сам вам скажу. Сашкой его зовут, Сашка Гордеев.
— Нет, — замотал головой Феликс.
— Нет, нет, — дернулась Вера.
— Вот вы себя и выдали, — покосился в ее сторону Дерябин. — Все время молчали, молчали, а когда я назвал Сашку, вдруг подали голос. Да еще с таким сердцем.
— Ну и что? — грубо спросила Вера и тут же покраснела от своей дерзости.
— Ладно, хватит играть в прятки. Открою уж вам все свои карты. Я точно знаю, что вы прожили на Сашкиной стоянке не меньше четырех дней. Самолично наблюдал. И рыбу вы нигде не могли взять, кроме как у него. Да и по разделке видно, что не сами поймали. И снастей у вас никаких. Вот вам мой последний сказ: или вы сейчас свидетельствуете против Сашки, рассказываете, за сколько брали семгу и где она у него хранится, или сами выкладываете штраф. Без этого не отпущу. Мое слово железное.
— Никаких свидетельств, никакого штрафа! — злобно выкрикнул Феликс.
— Достаньте документы и приготовьте деньги.
— Ничего у нас при себе нет — ни документов, ни денег.
— Хорош-с. Хоть и не верю. В таком случае вас придется отвезти в деревню. Там — под замок, до выяснения личности.
— Послушайте! — взмолился Феликс. — Да это же произвол! Да это же… Знаете, с кем хоть имеете дело? Я — художник. Она — моя жена. Из Москвы приехали. Намучились в болотах. С голоду чуть не погибли. И все из-за того, чтобы запечатлеть ваши края на полотне. А вы с нами вон как — штраф, под замок… Сейчас сами убедитесь, что я не какой-нибудь с улицы, а художник, художник.
Феликс метнулся к клеенчатому пакету, суетливо раздергал намотанную вокруг него тесьму, и один за другим стал совать в руки Дерябина размалеванные листы.
— Вот, смотрите, смотрите! — бормотал он, вороша пакет. Потом вдруг осекся, побледнел, обмяк — вспомнил с ужасом, что на верхних листах был изображен один Сашка.
Дерябин, взволнованный удачей, тоже слегка побледнел широкими скулами. Наконец-то браконьер номер один в его руках!
Вот он во весь рост стоит в лодке, держит на весу поддетую за жабры большую белотелую рыбину… Рыбина написана резкими мазками, походит на семгу. Да это и есть семга, потому что другой такой большой рыбы в реке не водится. Вот Сашка рядом с раскрытой бочкой, у ног его в зеленой траве опять рыба, опять семга. Вот натюрморт с одной лишь рыбой — на досках лежат три вспоротые, нежно-розовые изнутри семги, а рядом в толстых жгутах, апельсиновыми дольками, такая же нежно-розовая и словно бы просвечивающая насквозь икра… Молодец художник, не хуже фотоаппарата сработал!
«Вот и конец тебе, Сашка», — устало подумал Дерябин и вдруг поймал себя на том, что не чувствует к нему никакой вражды. Да ее и не было никогда. Был долг, была уязвленная инспекторская гордость. Семгу полавливал не один Сашка. Не брезговали ею и тихий Кузьма, и другие рыбаки. Но все они таились, помалкивали в тряпочку. Лишь Сашка один бахвалился в открытую: если, мол, я семужки не добуду, то бабоньки в престольный праздник и пирожка не откушают… Добахвалился… Теперь против этих свидетельств никуда не попрешь.
— Я их должен конфисковать, — произнес он вслух.
— Не отдам! — крикнул художник.
— Я могу их и не забирать, если вы сейчас сядете со мной в лодку, поедете к Сашке и там будете делать все, что я велю.
— Никуда я с вами не поеду!
— Не горячитесь, молодой человек. Вы художник. Такой же государственный человек, как и я. И делаем мы одно с вами дело — оберегаем общество от разора и вредомыслия, вы одним способом, я — другим, несколько погрубее. Так надо ли артачиться?
Феликс, не слушая инспектора, лихорадочно соображал: что делать, как выкручиваться, как спасать этюды, без которых не будет никакой картины. Неужели придется ехать к Сашке и свидетельствовать против него? Нет, кет! После всего, что он для них сделал, предать?.. Ах, какая дурацкая история! Но Сашка все равно теперь пропал — поедет Феликс или не поедет, будет спасать эти этюды или не будет. Но если он поедет, то уж, конечно, увидит на Сашкином лице то выражение, какое ему нужно для своей картины. И не придется тогда, как Леонардо да Винчи, целый год искать новую натуру… Подленькая мысль! Но почему же подленькая? У творчества свои законы…
Колебания, смятение, растерянность, отразившиеся на лице Феликса, были замечены одновременно и Верой и Дерябиным.
— Феликс, Феликс! — вскочив с лапника, закричала Вера. — Не бойся его. Он ничего нам не сделает.
Дерябин ухватил Феликса за руку, чуть повыше локтя, и подтолкнул его с плота на берег, говоря ласково:
— Так-то лучше будет. Мы с вами делаем одно дело…
— Да куда же вы его повели? — рванулась следом Вера.
— Вы, девушка, посидите тут, — остановил ее Дерябин. — Мы его вам скоро вернем… Федор, быстро в лодку ружье, бинокль и заводи мотор.
— Феликс, понимаешь ли ты, на что они тебя толкают?
— Верочка, успокойся. — Феликс высвободил локоть из дерябинской руки. — Так, наверно, мы скорее выпутаемся из этой истории. Да и мне надо…
— Что тебе надо? — широко раскрыв глаза, изумилась Вера; Дерябин тоже покосился на него удивленно.
— Это я тебе потом объясню…
— Потом не потребуется никаких объяснений. Если сейчас сядешь в лодку, ты меня больше никогда не увидишь!
— Не дури, — по-хозяйски строго сказал Феликс. — Увяжи мои работы и жди здесь.
Моторист и Дерябин были в лодке. Едва Феликс перекинул через борт ногу, как моторка, круто взревев, рванула задом от берега. На середине реки моторист переключил ход, и лодка уже носом полетела в узкий, закрытый тенью перехват между скалами. В следующий миг она скрылась за ними.
— Подлец, подонок, — глотая слезы, кричала Вера, но ее уже никто не мог услышать.
По бревнам прокатилась волна, поднятая полуглиссером, смыла несколько этюдов, но Вера даже и не подумала их ловить. Она соскочила в воду и уперлась руками в бревна. Плот подался. Тогда она снова запрыгнула на него, схватила шест и изо всех сил стала толкаться — быстрее, быстрее, чтобы никто не догнал ее.
Пятиречье
На долгожданную базу — две десятиместные палатки, приспособленные под камералку и продуктовый склад, и одна четырехместная, шатром, в которой чуть ли не два месяца прожил в полном одиночестве завхоз партии по прозвищу пан Шершень, — прикатили поздно вечером. Старожилы партии уверяли, что база расположена в необыкновенно красивом месте, но убедиться в этом Андрей вчера не смог: во-первых, было уже темно, а во-вторых, за стоверстый путь так умаялся, так о железные стенки вездехода набил бока, что на ногах не стоял, валился кулем. В общей куче разыскал свой спальник, приплелся с ним в камералку и, раздвинув раскладушку, кое-как устроился на ней и тотчас провалился в молодой бездонный сон.
Утром пробудился без следочка усталости, лишь сладко ныли и зудели ушибы. Выбежав с полотенцем через плечо к гремящей по камням речке, в немом восхищении замер на берегу.
Место, где располагаясь база, называлось Пятиречьем В окружении сопкообразных гор, походило оно на гигантское блюдо диаметром километра в три либо четыре, причем один край у этого блюда был выщерблен — пролом в горах, и к этому пролому со всех сторон сбегались почти враз пять белогривых речек: Бур-Хойла, Левая Пайера, Правая Пайера, Малая Хойла и Лагорта-Ю, образуя широкую и уже неодолимую вброд реку Танью.
Оглядывал Андрей это место и с высоты птичьего полета, пролетая над ним в середине лета по пути в партию, и речки у слияния походили оттуда на человеческую пясть с растопыренными пальцами.
Горы по краям блюда — невысокие, уютные, с округлыми боками и плоскими вершинами, на которых все, что могло разрушиться — скалы, останцы, — уже разрушилось, сровнялось и заросло седым ягелем, толокнянкой, карликовой березкой; издали ничто в их облике не напоминало о грозном Заполярье, и можно было бы, наверно, напрочь забыть о нем, ежели бы на стыках кое-где не высовывались из-за них остро-граненые вершины главного Уральского хребта, уже сейчас, в конце августа, покрытые ослепительно белым снегом. И оттого, что внизу все еще было зелено — и березка, и мхи, и лиственница, — в той далекой белизне чудилось что-то неземное, инопланетное.
Вот уж не предполагал Андрей, что Заполярье когда-нибудь полонит его и что жизнь его тут будет полна и прекрасна.
Распределение в Воркуту он воспринял как величайшее несчастье. За что? За какие грехи? Дважды, после третьего и четвертого курса, он ездил на практику в Саяны, полюбил благодатный край, и начальник партии, в которой оба раза работал, обещал организовать через министерство вызов. То ли забыл он про свое обещание, то ли в одной из многочисленных инстанций затерялся вызов, и вот результат: Андрею выпал на распределении самый неблагоприятный вариант — Воркута.
Он не опоздал, явился в экспедицию первого июля, однако, увы, накануне его партия — кто вездеходом, кто на вертолете — отбыла в горы. «Догоните! — успокоили его в экспедиции. — Не сегодня-завтра туда снова полетит вертолет». А покуда велели связаться с инженером по авиации Морисом Дицманом, дни и ночи проводившим в аэропорту.
В замшевой куртке и модном широком галстуке, с побитой сединой бородкой артистичный Дицман объявил ему готовность номер один:
— С минуты на минуту!
Но минута растянулась в час, другой, а потом из тундры натянуло клубящуюся черную тучу, и хлынул невиданной силы ливень. Поистине, хлестало, как из трубы. Когда немножко поутихло, Морис посоветовал:
— Поезжайте на автобусе в гостиницу, снимите номер и ждите. Завтра или послезавтра погода наладится, и я за вами подскочу на пикапе.
Началось великое сидение. Облака тащились по-над самыми крышами, черные, лохматые, будто заводские дымы. Изредка где-нибудь они расходились, и высоко-высоко являлись другие облака, ослепительно белые, легкие, пушистые, надутыми парусами несущиеся по небесной голубизне, и тогда нижние, грязные, уже в яви представлялись дымами. Только где же в тундре трубы, из которых столько валит?
Однажды Андрей, бесцельно болтаясь по городу, забрел на рынок и глазам своим не поверил: все прилавки были завалены златоголовыми подосиновиками, разделенными на кучки в три-четыре гриба. Каждая кучка — рубль, и не разговаривай! В ногах продавцов стояли необычайные, ведер на пять, плетенные из неошкуренных ивовых прутьев корзины, с горой заполненные все теми же подосиновиками.
— Скажите, откуда завезены такие славные грибы? — спросил Андрей стоявшую за прилавком женщину, одетую в железнодорожную шинель; в ответ он надеялся услышать: из-под Вологды либо Кирова, куда женщина, верно, ездит проводницей. Но она, недоуменно взглянув на Андрея, пожала плечами:
— Из тундры. Откуда же еще?
— Неужто в тундре растут грибы?! — изумился Андрей.
— Как видишь. Только места, конечно, надо знать. Да ведь и в лесу не на каждой пяди они растут.
Нет, ни словечку проводницы не поверил Андрей. Разыгрывает его баба. Все тут на рынке привозное, из-под Кирова, Вологды и иных благословенных мест: гладиолусы, огурцы, помидоры, яблоки, груши, березовые веники и даже эти грибы. Ничего, даже поганок не родит студеная земля тундры.
Уже и не верилось, что в Заполярье может быть какая-то иная погода, но вот через две недели дымные облака растащило и солнечно засияли над головой беспредельные голубые небеса. Теперь полетим. Но не тут-то было. Вертолет оказался на профилактике. Снова томительное ожидание.
В любую погоду, хорошую ли, плохую, как на службу, ровно к восьми Андрей являлся в аэропорт и старался побыстрее попасть на глаза артистичному Морису.
— Сегодня ничего не светит, — обычно отвечал тот.
И вдруг на третий день после окончания ненастья пластинка переменилась:
— Завтра в восемь ноль-ноль быть здесь. Как штык!
Ни капельки не веря, что наконец улетит, притащился Андрей в аэропорт со всем своим имуществом: рюкзак, чемодан, полученный в экспедиции меховой спальник в чехле, спиннинг, удочки тоже в чехлах. Морис, к немалому удивлению Андрея, продолжал вчерашнюю песню:
— Будьте начеку. Сейчас полетим.
— Успею позавтракать в буфете? — не потому, что так уж хотелось есть, а чтобы еще раз испытать Мориса, спросил Андрей.
— Только-только!
Оставив без надзора в зале ожидания вещи, Андрей пошел в буфет и с хитрым видом — мол, знаю я эту авиацию — набрал всякой всячины: стакан сметаны, салат из помидоров, ломоть раннего арбуза, бутерброды с колбасой, сыром, кофе, и только было прицелился ложечкой к сметане, как в дверной раме нарисовался Морис и кивнул головой:
— На посадку!
Через несколько минут Андрей щипал себя за щеки, теребил за уши, чтобы удостовериться, не во сне ли все это происходит, в самом ли деле летит.
Внизу, испятнанная озерами, краснела тундра, и трудно было сказать, чего там больше: земли или воды. Слева по борту появились прозрачные, будто из дымки сотканные горы. Постепенно они делались материальнее, грубее, и рот уже осыпавшиеся вершины и пятнистые крутые склоны замелькали почти под самыми колесами вертолета. Потом земля снова ушла далеко вниз: перелетели через хребет. Впереди над реденьким лиственничным леском, прижавшимся к алюминиевой жилке реки, дневной звездой зажглась зеленая ракета, и сразу же на краю лесочка увиделись белые палатки, крохотный вездеходик и муравьиных размеров люди, бегущие на галечную косу, где белыми флажками была обозначена посадочная площадка.
Кое-что о своем непосредственном начальстве Андрей узнал еще в Воркуте. Руководили партией муж и жена Савельевы. Начальником партии — Александр Александрович Савельев, старшим геологом — Галина Николаевна Савельева. Пятнадцать лет назад, закончив геофак Московского университета, оба по распределению приехали в Воркуту, и все это время работали на одной и той же площади на Полярном Урале, проведя сначала крупномасштабную съемку, потом более детальную, выявили уникальное месторождение хромитов и последние годы только им и занимались, этим месторождением.
Пятнадцать лет — в представлении Андрея — срок огромный, чуть ли не целая жизнь. Из молодого можно превратиться в старика. Тем более в заполярных широтах. Однако он увидел перед собой людей почти студенческого облика: поджарые, стройные, с загорелыми молодыми лицами. Супруги чем-то неуловимым походили друг на друга, но вот глаза были совершенно разные: у Сан Саныча, как звали начальника в партии, серые, пытливые, серьезные, у Галины Николаевны — дегтярно-черные, блестящие, смеющиеся. И уж совсем не укладывалось в голове, что стоявший рядом с Савельевыми смуглолицый высокий юноша — их сын Сережа.
Вечером за ужином собралась вся партия. Стол на врытых в землю лиственничных столбиках парил над речным обрывом. Сидели в массивных креслах, выдолбленных из кедровых выворотней. Не кресла — царские троны, достойные занять место в историческом музее.
Днем Андрей долго любовался ими, пытаясь угадать, что за мастер их выдолбил и как они появились в лагере. Заметив его озадаченность, Галина Николаевна поведала следующую историю:
— Как-то весной пришел наниматься к нам в партию рабочий. Лицо землистое, одутловатое, руки ходуном ходят, карандаша удержать не могут. И вот такой говорит: не пожалеете, если возьмете. Только, мол, не трогайте три дня и вволю кормите тушенкой. Что-то в его облике еще внушало доверие, и мы, правда, не без колебаний, решили рискнуть: поверим! В этом ужасном виде вывезли его в поле. Три дня он спал. Изредка пробуждался, чтобы опорожнить очередную банку тушенки, и снова заваливался на жердяные нары в палатке. На четвертый день явился к общему столу, и ложка уже не дрожала в его руке. Потом взялся за топор. Мы и глазом не успели моргнуть, как лагерь был обустроен: столы, скамейки, переносные табуретки, кресла из пней, полочки, вешалки… А еще через неделю на берегу реки, перед глубокой ямой, чтобы можно было плавать, выросла рубленая баня, а в ней каменка, сложенная по-белому. В следующие годы он еще не одну баню поставил. Считай, на каждой новой базе. Мы их муравейниками зовем, так как фамилия рабочего Муравьев.
За столом кроме себя Андрей насчитал девять человек — вот и вся партия.
— А мы вас уже давно ждем, — смеясь черными глазами, говорила Галина Николаевна, сидевшая хозяйкой во главе застолья. — Все жданки съели! — и она вытащила из стоявшего в ногах рюкзака несколько бутылок шампанского. — Специально на этот случай взяли с собой.
— Если ради меня, то совсем ни к чему, — густо покраснел Андрей; смутила его не оказанная честь, а то, что сам должен был догадаться привезти шампанское, а он, олух царя небесного, даже помидоров или огурцов не захватил с собой из буфета, чтобы угостить истосковавшихся по свежим овощам геологов. Что ему стоило закатить в вертолет самый крупный арбуз? Как бы он тут, над речным обрывом, был хорош!
Не обратив никакого внимания на его возражения, Галина Николаевна продолжала:
— Андрей — новый член нашего коллектива. Геолог. Прошу любить и жаловать. А теперь вам, Андрей, представляю наших старожилов. Алексей Муравьев, — наклоном головы указала она на сидевшего по левую руку сорокалетнего мужчину с реденькими волосиками на загорелом черепе; Муравьев благожелательно, чуть даже заискивающе улыбнулся Андрею. — Ну, про него я вам все рассказала. Наш Коненков!
— Уж скажете, Галина Николаевна, — польщенно запротестовал Муравьев.
— Рядом с ним — не менее талантливый представитель другого рода деятельности, водитель вездехода Валерий Сбоев.
Сбоев был малого роста, с нулевой стрижкой и черной окладистой бородой, вид его, заключил про себя Андрей, должен был привлекать внимание милиции, и действительно, как выяснилось впоследствии, в аэропортах и на вокзалах к нему постоянно цеплялись люди в штатском и в форме, требуя предъявить документы.
— Терпеть не может Валера прохладной езды, со всякими там ночевками, привалами посреди дороги. Любое расстояние, сто ли, двести ли километров, ему надо проскочить одним махом. Вот и не вылезаем по двадцать пять — тридцать часов из машины. На всех уже живого места нет, а ему хоть бы хны.
— Зато осенью, — показал в простодушной улыбке крепкие молодые зубы Валера, — привозишь в экспедицию один номер от вездехода. За зиму по детальке насобираешь к нему все остальное, и, глядишь, следующим летом опять тащит.
Дальше за вездеходчиком сидел богатырского сложения краснощекий парень, опушенный русой курчавой бородкой, какие наклеиваются киноактерам, играющим в фильмах-сказках русских витязей вроде Руслана.
— А это Гена, — представила его Галина Николаевна. — Отличается тем, что не ест ни рыбы, ни грибов… Однако людей интереснее познавать самому, поэтому о других я ничего рассказывать не стану, только назову по порядку: Вася, Толя, Борис. С Александром Александровичем и Сережей вы уже знакомы. А теперь я предлагаю выпить за то, чтобы Андрею, как всем нам, полюбилась эта земля и прикипел бы он к ней на долгие-долгие годы.
— Ох, и тяжелое пожелание взвалили вы на меня, — вздохнул Андрей.
— Уверяю вас, легкое. Только не закрывайте глаза, смотрите, смотрите вокруг, и все будет так, как я сказала.
Шампанское ли было такое забористое, от хмельного ли отвыкли за полевой сезон — после первых же глотков за столом все враз заговорили, заспорили. А Галина Николаевна снова обратила свои смеющиеся глаза на Андрея и спросила:
— Скажите, Андрей… Только по-честному. Вы в Воркуте не плакали?
— Еле-еле сдержался, — рассмеялся Андрей.
— А мы все в голос ревели. Ну, и Воркута в те времена выглядела пострашнее. Выпала она на нас, как снег на голову. В группе все собирались кто в Сибирь, кто на Сахалин, кто на Камчатку, а перед самым распределением вдруг явился к нам обаятельный молодой мужчина из министерства и давай расписывать Воркуту, давай заговаривать зубы: работы, мол, завались, и вся интересная, перспективы неограниченные, через год каждый по меньшей мере начальником партии станет. Перед комиссией я должна была предстать первой. Спрашиваю у Саши: «Куда все-таки махнем, говори быстрее!» «Куда ты захочешь, туда и поедем». Э, была не была, и подписалась я под Воркутой. Кроме нас с Сашей еще восемнадцать душ ею соблазнились. Сразу же после «госов» Сашу забрали на военные сборы, и вот на меня одну со всех сторон навалились родственники, знакомые: заживо хоронишь себя и так далее. И смутилась моя душа. Что делать? Разоделась в пух и прах. Тогда в моде были «шпильки», платья «колоколом». И к мужу в Калининскую область. По дороге к части подобрал меня попутный «газик». Офицеры в нем ехали. «Куда барышня спешит?» — «К мужу». — «Не генерал ли ваш муж?» — «Нет, солдат!» Выплакалась я на Сашиной груди, а у него одни для меня слова: «Как решишь, так и будет». Воротилась я в Москву и, не заезжая домой, прямо с вокзала ринулась в министерство разыскивать того обаятельного мужчину. В этот раз менее сильное впечатление произвел он на меня. Разводит руками. Теперь, мол, не в его власти перерешить мою судьбу. Надо пройти в такой-то кабинет, к такому-то начальнику. Пробилась я в названный кабинет. Усталый-усталый дядька за столом сидит. Глаза умные, насквозь проницают. Я ему про годовалого Сережку, про маму больную. Слушал, слушал и покачал головой: «Не то вы, девушка, говорите. Выкладывайте начистоту: испугались задним числом и еще знакомые со всех сторон запугивают». Я расхохоталась: «Не хуже цыганки всю правду про меня сказали». Тоже смеется: «Я вам вот что посоветую: поезжайте и сами посмотрите на Воркуту, с чем ее едят. Не край света — всего-то двое суток на поезде, а самолетом и оглянуться не успеете, как будете там. Ежели край и в самом деле не под силу такой молодой и крепкой, возвращайтесь. Бог с вами! А ежели сможете работать — в добрый час! Я лично почему-то думаю: прирастете вы к Северу, да еще как — не оторвать!» И вот с подругой Нелькой с высоты крылечка Воркутинского аэродрома озираем мы заполярный город. И сейчас район аэропорта выглядит не ахти как, а тогда сплошь одни высокие колючие заборы. Сжалось сердце, подкатил к горлу комок, а Нелька ахнула, пала на чемодан и, как под ножом, давай рыдать. В университет она приехала из захудалой деревеньки на Вологодчине, возврата в Москву ей не было, и город, куда распределили, должен был стать ее домом на всю жизнь. Вот она и оплакивала свою судьбу. Нам с Сашей с этой стороны было легче. Московская жилплощадь бронировалась за нами, как уезжающими на Север. В любое время возвращайся и живи хоть у моей матери, хоть у Сашиной. Про нас так и говорили: «Савельевы на экскурсию едут. Посмотрят, посмотрят и айда обратно». Три часа рыдала Нелька в аэропорту. Еле унялась. Заодно и я несколько раз всплакнула. В конце рабочего дня добрались до экспедиции, представились начальнику, а он, поглядев озабоченно на Нелькино распухшее лицо, вызвал из отдела какого-то парня и послал в магазин за шампанским. После звонка в его кабинете собралась чуть ли не вся экспедиция приветствовать шампанским наш въезд в Воркуту. Ну, и отлегло от сердца. Тут же за шампанским вручили нам с Нелькой ключ от новенького коттеджа: живите! И зажили мы с ней в трех комнатах. Ни стола, ни стула, спали на полу. Из-за отсутствия внутреннего запора дверь на ночь припирали колом. Да и то сказать: было от кого запираться. Кто-то из нас с Нелькой — так мы и не разобрались, кто именно, — приглянулся парню из горняцкого поселка, и он то и дело, особенно по ночам, пытался проникнуть в нашу обитель. Мы терпели, терпели, а потом набрались духу и посмотрели на парня без страха: маленький, плюгавенький… Кого испугались? При очередном приступе сами распахнули дверь и двинулись в контратаку. Я схватила парня за одну руку, Нелька за другую и, не сговариваясь, потащили его… куда бы вы думали? В женскую уборную. На задах дома новенькая такая будочка стояла, с иголочки, для нас с Нелькой уже поставили. В нее и затолкали парня, а дверь на кол — привычное дело. Парень бугаем ревет, бьется о стенки, будка ходуном ходит, вот-вот упадет. Ничего, небось не расшибется… И ушли спать. Утром, едва пробудились, сразу бегом вокруг дома. Ура! Стоит кол. Прислушались. Вроде бы плач доносится. Но сердца наши не смягчились: не стали убирать кол. Соседи сжалились над парнем — выпустили вскоре, и он, размазывая слезы, побежал не куда-нибудь, а к реке топиться. Не переживу, мол, такого позора, в уборную закрыли, да еще в бабскую, да кто? — столичные фифочки! Однако на полпути к реке парень, видно, одумался: боком, боком — и к себе, в горняцкий поселок. Только мы его и видели! А вскоре съехались все наши, у Саши закончились сборы, стало нас ровно двадцать, и жизнь неожиданно наладилась лучше лучшего. Днем — интересная работа, вечером — споры, разговоры, капустники. Поглядеть на наши капустники сбегались со всего города. Однако уже через год наша двадцатка стала потихоньку редеть, и в конце концов в Заполярье остались одни Савельевы, которым все пророчили самый скорый побег. Работы тут хватит до пенсионного возраста, если не больше. От открытия месторождения до его сдачи в промышленную разработку в среднем проходит тридцать — сорок лет. Вот и считайте, сколько нам еще тут биться, чтобы довести все до ума. А дело пока движется через пень-колоду. То на дальнейшую разведку средств не отпускают, то отпускают, да распределяют совершенно неправильно. В прошлом году мы проводили буровые работы, а геофизику там поставили только нынче. Сами понимаете, надо наоборот. Выявленные геофизиками аномалии не совпадают с нашими скважинами, теперь аномалии разбуривать придется…
— Коли речь зашла о месторождении, — вмешался Сан Саныч, — теперь Галю не остановишь.
— А вот и остановлюсь! — рассмеялась Галина Николаевна.
Поздним вечером, перебирая в памяти впечатления минувшего дня, Андрей думал о том, что истинным руководителем партии, по всей вероятности, является не Сан Саныч, а его замечательная жена. Все решения принимает она, отчаянная головушка, а покладистый Сан Саныч только поддакивает.
Андрей радовался своей проницательности: не успел приехать и уже разобрался в обстановке! Однако, прожив в партии неделю-другую, он засомневался в своих первоначальных наблюдениях. Все в маленьком коллективе, начиная от повара мужского рода и кончая собственной женой, глубоко и прочно уважали Сан Саныча, все сломя голову летели выполнять его малейшее распоряжение. Только удивительное дело: распоряжений этих он почти никогда не давал. Работа от этого ничуть не страдала, шла без сучка, без задоринки, а жизнь в партии была организована, как в хорошей дружной семье. Лишь утром после завтрака, тут же, за столом, спросит, бывало, рабочих, кто чем сегодня занимается, рабочие тотчас четко ответят — и весь так называемый инструктаж.
Впрочем, нет, отдавал, отдавал распоряжения Сан Саныч, даже замечания делал, но в основном — в адрес собственного сына Сережи. Прибудут на новую стоянку, поставят палатки, а Сан Саныч уже командует:
— Возьми-ка, Серьга, лопату да прокопай вкруг палаток отводные канавки, чтобы в случае дождя вода внутрь не забегала. А потом натаскаешь плитняку и вымостишь дорожки перед входом.
И, глядишь, целый день Сергей то орудует штыковой лопатой, то носит в банном тазу плоские камни с реки, перекладывая на много раз у входа в палатку, чтобы ровнее лежали. Трудится мальчик наравне со старшими, но стоит ему слишком активно вмешаться в разговор взрослых, как отец тотчас одергивает:
— Не суй-ка, Cepera, нос не в свои дела. Помолчи лучше.
Многие начальники партий летом вывозят своих сыновей в поле, сплошь и рядом зачисляя их на должность рабочего. Бывает, под покровительством отца-начальника парнишка ничего не делает, откровенно баклуши бьет, однако зарплата ему идет. Андрей не сомневался, что пятнадцатилетний Сережа тоже числится в платежных ведомостях, поскольку работает не менее других, и был немало удивлен, когда узнал — не числится. Этот факт со знаком плюс тоже был отнесен к достоинствам Сан Саныча как руководителя.
…Перевернулось у Андрея представление о природе края. Какой он ее представлял, здешнюю природу, когда ехал сюда? Вечная мерзлота, топи, болота — гиблая, ничего не рожающая земля, куда зверь не забродит, птица не залетает, рыба не заплывает. В действительности же дня не проходило, чтобы не встречал он в маршруте оленя либо лося. Лоси бродили поодиночке, на глаза всегда попадались в тот момент, когда, хрустя клешневатыми копытами по гальке, переходили какую-нибудь речку. Олени небольшими табунками — в три-пять голов — гуляли по нагим вершинам, на которых, казалось, и щипать-то было нечего.
За вчерашние сутки, в течение которых неутомимый Валера-вездеходчик перебросил партию за сто двадцать километров на базу, настреляли ворох дичи, набили несколько мешков кедровых шишек. Но самое удивительное предстало уже на солнцезакате, в конце пути. Ехали по южному склону невысокой горушки, поросшему реденько по голубым мхам где лиственницей, где елкой, где березкой. Вдруг вездеход встал, из водительской кабины просунулась в кузов голова Сан Саныча:
— А теперь все по грибы! Наберем на жареху.
Выпрыгнув из вездехода, Андрей так и обмер: весь склон, сколько хватало глаз, был усыпан грибами! Да не какими-нибудь бросовыми сыроежками, а самыми настоящими подосиновиками да сырыми ельничными груздями. Ступить некуда — столько грибов! Подосиновики стояли многоглавыми кучами, среди которых были и едва высунувшиеся изо мха буравчики с неразвернувшимися шляпками, и огромные крестьянские хлебы на могучих, как дерева, ножках. В тех и других — ни червоточинки. Ельничные лежали на мху, как медали на подушках, и в вороночках у них скопилась прозрачная роса: на трубчатых ножках, только сломишь, выступало белое молочко.
Нет, не врала на воркутинском базаре железнодорожница: в самом деле в Заполярье растут грибы, да еще как!
…А теперь вот своей редкой красотой вошло в его сердце Пятиречье.
Окатив себя до пояса ледяной водой, растеревшись махровым полотенцем, Андрей отправился в лагерь. Он шагал через осенние заросли карликовой березки, и его намокшие после умывания сапоги будто разноцветным конфетти облепило мелкими березовыми листочками: бордовыми, фиолетовыми, синими, пурпурными, желтыми.
Перед шатровой палаткой пана Шершня под марлевым пологом стояла на столбиках четырехугольная деревянная рама, на которую рядов в десять была натянута бельевая веревка; прицепленные алюминиевыми крючками, тесно висели на ней завяленные хариусы. С полсотни метров такой веревки протянулось между деревьями в ближнем леске, и вся она тоже увешана хариусами. Разрезанные по-комяцки вдоль хребта со спины, с застывшими струйками золотистого жира, походили они на изящные модели древнерусских стругов с загнутыми вверх носами и кормой.
Андрей не утерпел и заглянул в палатку. Там над железной печкой тоже были натянуты веревки с распятыми рыбами. У дальней стенки возвышался топчан, а в его ногах на подставках, призванных предохранить от сырости, стояли два больших фанерных ящика из-под «Беломорканала», с горой заполненные уже готовой продукцией. Хариусы в них лежали без распорок, в расплюснутом виде.
«Да здесь запущена целая фабрика вяленой рыбы! — с удивлением покачал головой Андрей. — И все это наворотил один человек!»
У завхоза имелись и собственное имя и фамилия — Аркадий Бугров, однако все в партии, кроме Сан Саныча и Галины Николаевны, навеличивали его паном Шершнем.
Хотя пан Шершень с партией не кочевал, все лето просидел возле продуктов на базе, вспоминали о нем беспрерывно, особенно во вторую половину сезона, когда на него свалился неожиданный штраф. Дело было так. На базе имелась рация, и раз в сутки, чаще всего вечером, пан Шершень связывался по ней с Сан Санычем, докладывал о своем житье-бытье. Обычно его информация укладывалась в одно слово: «нормально», но однажды он разговорился вовсю:
— Мясо сегодня кушаю. Утром птицу подстрелил.
— Что за птица? — полюбопытствовал Сан Саныч.
— Да большая такая! Вкусная! Как ее?.. Фу, дьявол. Вертится на языке название, а вспомнить никак не могу. В общем, жена глухаря!
— Копалуха, что ли?
— Во, во! Именно копалуха! С выводком была.
— Ну, ты даешь, Аркадий! Сказанул же: «жена глухаря»! Ха-ха!
Надо же такому случиться: именно в это время, ни раньше, ни позже, по ошибке вышла на чужие частоты охотинспекция в Елецкой, разговор про жену глухаря инспекторов заинтересовал, и они записали его на магнитофонную ленту. С очередным рейсом вертолета на имя начальника партии Савельева пришло судебное постановление, требовавшее вычесть из зарплаты рабочего А. Г. Бугрова штраф в размере ста рублей за уничтожение копалухи в неположенное время. Ребята тут же окрестили этот штраф «птичьими алиментами».
И теперь, сидя за обеденным столом, пан Шершень находился в центре внимания. Это был мужчина лет тридцати семи, невысокого роста, с сухим чисто выбритым лицом, с которого не сходило насмешливое выражение; на человека, с коим разговаривал, взглядывал коротко, быстро, но остро и твердо, чувствовалось, что на все в жизни у него имеются свои понятия и за словом в карман не лазит. Заломленная на затылок фуражка с насаженными над козырьком цветными рыболовными мушками придавала ему чрезвычайно бравый вид. В ногах пана Шершня терлась рыженькая собачонка, не вышедшая еще полностью из щенячьей поры.
По случаю проливного дождя, хлынувшего под утро, с гол был накрыт в продуктовой палатке, и на нем чего только не было: и грибы, и дичь, и приправа к ней, и какао, и свежие пышные лепешки вместо осточертевших сухарей. Геологи после бани сидели вокруг стола розовые, просветленные, благостные. Сан Саныч с сочувственной улыбкой поворотился к пану Шершню:
— Говорить-то еще не разучился в одиночестве?
— Да нет вроде. Но вот гавкать рядом с нею выучился, — показал Аркадий на собачку под столом.
— Вид у тебя, пан Шершень, — заговорил похожий на сказочного русского витязя здоровяк Гена, — с этими цветными мушками на фуражке, как у первого парня на деревне. Не мушки будто наколоты, а ромашки или незабудки.
— Ты бы, Гена, лучше не отвлекался от еды, — в ответ вежливо посоветовал пан Шершень. — По твоей комплекции за двоих тебе надо за столом пахать.
— Ты-то уж, поди, не отказывался от рыбки, вволю поел за лето? — спросил Валера.
— Поверите ли: супу либо каши ни разу не варил. На одной рыбе жил. И до сих пор не приелась.
— Насквозь фосфором пропитался, — подытожил Сан Саныч. — Вернешься в город, можно на спички тебя пускать.
— Вот было бы хорошо пустить себя на распродажу хоть в качестве спичек. Из чего-то надо же платить «птичьи алименты», будь они неладны. Несколько мильенов головок из меня должно получиться. Ого-го, и на себе, оказывается, можно неплохо заробить.
— Как нынче ловилось? — поинтересовался кто-то.
— Ловить тут очень даже можно, пять все-таки речек под рукой, но турист проклятый одолел. Сказывают, из-за пожаров южнее по Уралу его нигде нынче не пускают, вот он весь и прикатил на Полярный. Прет и прет по Бур-Хойле. Каждый день не по одной группе. Из Москвы, Львова, Челябинска, Свердловска и черт знает еще откуда. Свердловчане в трехстах метрах отсюда посадили плот и никак не смогли снять, бросили на произвол судьбы. Можете сходить полюбоваться. Классное сооружение: с рулями, с палубой для рюкзаков… Вот и побаивался все лето развернуться по-настоящему с рыбалкой-то. Одно найдешь, другое потеряешь. Найдешь рюкзак рыбы, а потеряешь всю базу. За нее в десять лет не рассчитаться. Словом, далеко я не бегал, в ближних ямках шерудил… Никак не пойму этого туриста. Целый год упирается на производстве, собирает по копейке капитал, чтобы летом отправиться в отпуск не куда-нибудь на юг, а в наши забытые богом места. А здесь снова упираться, пахать, да еще пострашнее, чем на производстве. Думаете, он отдыхает в походе? Как бы не так! Понаблюдал я за ним. Встает ранехонько, словно по гудку. Не успеет позавтракать, ноги в руки — и полный вперед! А рюкзачище, как валун, его давит — аж землю носом клюет. Дождь ли, снег ли — шлепает в своих разбитых кедах. Попискивает только в них. Болотные сапоги редко у которого имеются. На ночлег останавливается уже в потемках. Дрожит, как каторжанин. Да и вообще на каторжанина шибко смахивает: оборванный, заросший, голодный. Все лето у меня попрошайничал: то ему крупки продай, то сухариков, то сахару. Ладно, Галина Николаевна разрешила продать часть продуктов, а не разрешила бы, что бы он делал?.. А уж как он ночь проводит, вовсе представить не могу. Без печки в палатке собачий холод. Правда, спальник у него почти всегда имеется, но уж больно несерьезный: узенький, тонюсенький, рассчитанный, видно, на черноморский климат. Нагляделся я на туриста и рассудил: ежели бы за такой отдых даже деньги платили, ни за что бы не согласился так отдыхать.
— Ведь врете, пожалуй, — вмешался Андрей, у которого рассказ завхоза вызвал недобрые чувства. — А вы что делаете?
— Кажись, в точку попал, — с любопытством поглядел пан Шершень на нового человека. — Действительно, я отдыхаю. И как раз за плату. Российская ставка у меня не шибко богатая: всего-то сотенка, но приплюсуйте к ней восемьдесят процентов коэффициента, семьдесят северных да сорок полевых, и ничего, вроде бы можно отдыхать за такую мзду. Но только отдыхать — не упираться. Да, самую-то главную статью дохода я и забыл упомянуть. Хариусы! Их тоже надо сюда прикинуть. Шестьсот штук уже завялил. За оставшиеся дни надеюсь еще полторы сотенки прибавить. Да бочку малосолом набью. В прошлом году в Воркуте я по полтора рубля за штуку пускал. Прямо на дому с руками отрывали. А нынче ввиду чрезвычайных обстоятельств — «птичьих алиментов» — придется поднять цену до двух рублей. Не пускать же в самом деле себя на спички.
— Надо бы пробу снять с твоей продукции. Может, никуда не годится, — хохотнул Валера-вездеходчик.
— Виноват, что сам не догадался угостить.
Выбравшись из-за стола, пан Шершень вышел из палатки и вскоре вернулся, неся беремя вяленых рыб. Высыпав их на стол, выбрал самого большого хариуса, с не вынутой еще распоркой, и, подняв его над головой, торжественно провозгласил:
— Хорош он бывает и в живом виде: сильный, проворный, холодный, но вот таким, высушенным на солнце, им просто не налюбуешься. По мне: это самый у него наилучший вид.
— Так, значит, пан Шершень, нынче тебе конкуренты сильно мешали? — высунулся из-за укрытия Гена.
— Это туристы, что ли? — откликнулся пан Шершень. — Не сказал бы, отшивал я их запросто. Ловлю как-то на кораблик. На противоположном берегу появляется турист, тоже с корабликом. Я снимаю с крючков одного хариуса за другим, а у него хоть бы для смеху раз дернуло. Турист и кричит мне: «Поделитесь, пожалуйста, опытом столь удачного лова. Кораблики рядышком плавают, а рыба на ваш цепляется, на мой — нет, В чем же дело?» «Могу поделиться, — отвечаю. — За полсуток до рыбалки я смазываю свои мушки медом. Вот на мед и прет рыба». «А ежели меду нет?» — с недоверием выпытывает турист. «Как раз теперь нахожусь в такой ситуации: кончились медовые запасы. Но голь на выдумки хитра: перешел на сахар. Варю из него густой сироп вроде как бы для варенья и палочкой намазываю его на мушки. И знаете, вполне заменяет мед. Клюет ничуть не хуже, чем раньше». — «Неужто?!» — «Какой мне смысл врать?» Гляжу, турист сматывает леску и быстрее, быстрее в лагерь… варить сахар. Ежели в его группе сыскался хоть один опытный человек, воображаю, сколь смеху было… А вообще-то я с ними много не разговариваю, стараюсь побыстрее спровадить с Пятиречья подальше. Спускайтесь, говорю, километров на пять ниже, там и хариусов больше, и таймени пудовые водятся. А там, понятно, ничего нет.
— За такие проделки вам еще никто морды не начистил? — хмуро осведомился Андрей.
— Нет, бог миловал. Да и деликатный народ этот турист. Коли быть справедливым, ни на копейку вреда мне не принес. Вот муха — другое дело. Попортила она мне крови за лето. Забралась как-то под полог, и всю партию хариусов пришлось выкинуть. Штук, поди, сто. Обнаружил муху, когда в рыбе уже черви копошились.
— Ох, парни, что вы делаете! — с горечью воскликнула Галина Николаевна. — Столько рыбы губите!
— До чего дошлая зверюга, эта муха! — продолжал пан Шершень. — Понаблюдал я однажды, как она свои палочки выкладывает, из которых потом черви произрастают — фантастика! Углядит трещинку на рыбе, устроится над ней, как над унитазом, выдвинет из зада хоботок сантиметровой длины, всунет его в трещинку и давай выстреливать палочки одну за другой. Не проходит и минуты, целые соты из них наросли. И что еще любопытно: во время этого акта муха теряет всякий страх. Шикай на нее, маши руками — не улетит. Ничего не остается делать, как только защипнуть пальцами да удавить мерзавку.
— Не сваливай, Аркадий, на муху. Исключительно по нашей вине гибнет рыба, — гнула свое Галина Николаевна. — Как дикари, удержу у реки не знаете. Вон на западном склоне не осталось уже ни одного хариуса.
— Как, не осталось? — удивился Андрей.
— Шаром покати — совершенно пусто, — с готовностью подтвердил пан Шершень. — В прошлом году всей партией за сезон десяти хариусов не поймали, исхлестав там не менее полусотни рек. Я уже хотел себя банкротом объявить, да вон Сан Саныч спас: отпустил на десять дней сюда, за хребет, порыбачить.
— Довольно странно все это слышать, — озадаченно проговорил Андрей. — В литературе я не раз читал о том, что западный склон Уральского хребта во всех отношениях богаче восточного: и растительностью, и рыбой, и зверем, и птицей.
— Как по-твоему, много рыбы в тех реках, на которых мы нынче работали? — спросил Сан Саныч.
— Очень даже много! Никогда столь не видывал! — воскликнул Андрей.
— Так вот, пятнадцать лет назад в реках той стороны ее было — Галя не даст соврать — раз в десять больше. Когда, бывало, осенью, перед снегом, она скатывалась с верховий, по ней, как по мосту, с сухими ногами можно было переходить с берега на берег. Помнишь, Галя, как обезумел Спирин, впервые увидевший это рыбье половодье? Заскочил в реку и давай в азарте ли, в безумии ли колотить металлическим спиннингом вокруг себя, вдребезги его разбил, после разразился истерическим хохотом.
— Так куда же она подевалась, рыба? — с болью спросил Андрей.
— Вдоль западного склона проходит железная дорога на Салехард. Здесь, на самом севере, она всего в сорока — пятидесяти километрах от хребта. Стоят на ней станции, поселки, а в них живут люди. В летние дни, едва в пятницу заканчивается работа, чуть ли не все устремляются к рыбным да охотным местам. Кто на моторке, кто на лошадке. А некоторые для этой цели имеют возможность использовать вездеходы и вертолеты. Вот и вычистили под гребенку…
Расстроенный разговорами о злой судьбе полярного хариуса, Андрей вышел из палатки. Голубым куполом небеса опирались на окружившие Пятиречье горы, с иголок лиственниц жемчужными сережками свешивались дождевые капли.
Андрей думал: тысячу раз прав Бунин, сказавший: «Всё и все, кого мы любим, есть наша мука — чего стоит один этот вечный страх потери любимого!»
Выходит, и он, Андрей, полюбил этот край преданно и тревожно.