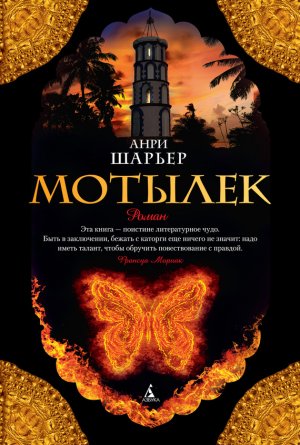
Народу Венесуэлы, простым рыбакам залива Пария, всем – интеллектуалам, военным и многим другим, – кто дал мне шанс начать новую жизнь
Рите, моей жене, моему лучшему другу
Тетрадь первая
Вниз по сточной канаве
Суд присяжных
Удар потряс. Его сокрушительная сила не давала мне прийти в себя долгих тринадцать лет. Это был не просто удар, а избиение. Били все разом, будто боялись, что не получу все сполна.
На календаре 26 октября 1931 года. Восемь утра. Меня выводят из тюремной камеры Консьержери́, – камеры, которую я «обживал» уже почти год. Я тщательно выбрит и безупречно одет. Предстал перед ними, словно с картинки: сшитый по мерке костюм, белоснежная рубашка, бледно-голубой галстук-бабочка в довершение портрета.
Мне исполнилось двадцать пять, но выглядел я на двадцать. Жандармы, явно под впечатлением моего шикарного костюма, вели себя учтиво. С меня даже сняли наручники. И вот все шестеро, я и пять жандармов, сидим на двух скамьях в пустой комнате. За окном мрачное небо. Дверь напротив ведет, должно быть, в зал заседаний, ведь мы находимся во Дворце правосудия департамента Сена в Париже.
Пройдет какое-то время – и мне предъявят обвинение в умышленном убийстве. Мой адвокат, мэтр Рэймон Юбер, вышел ко мне: «Против нас нет веских улик, надеюсь, нас полностью оправдают». Это «нас» заставило меня улыбнуться. Можно было подумать, что мэтр Юбер собирался сесть на скамью подсудимых вместе со мной и если суд признает меня виновным, то и ему придется отбывать свой срок.
При́став открыл дверь, приглашая всех войти. В окружении четырех жандармов и сержанта сбоку я вступил через широкий проем дверей в огромный зал суда. Присутственное место сплошь отделано красным, кроваво-красным цветом. Очевидно, для усиления удара, чтобы красные искры посыпались из глаз. Ковры красные, шторы на окнах красные, даже судьи в красных мантиях – это им предстоит через минуту-другую разделаться со мной.
– Господа, суд идет!
Из двери справа друг за другом появились шесть человек: председатель суда и пять судей – все, как один, в судейских шапочках. Председатель остановился у своего стула посередине, а его коллеги разобрались по бокам справа и слева. В зале воцарилась тягостная тишина. Все стояли, включая и меня. Суд занял свои места, все остальные тоже.
Председатель, полнолицый, розовощекий, с холодным взглядом человек, прямо смотрел на меня, но ничто не выдавало его чувств. Его звали Бевен. Пока все шло своим чередом, он вел процесс беспристрастно, ясно давая понять всем и каждому, что, как профессиональному юристу, ему не приходится полагаться на справедливость показаний свидетелей и честность полиции. Нет, это не его вина, что он вынужден отвесить мне оплеуху.
Имя прокурора – Прадель. Его боялись все адвокаты. За ним закрепилась дурная слава человека, больше всех отправившего людей на гильотину и в тюрьмы как в самой Франции, так и на заморских ее территориях.
Прадель стоял на защите интересов общества. Он был государственным обвинителем, в нем ничего не было просто от человека. Он представлял Закон, весы правосудия; именно он управлял этими весами, и именно он сделает все возможное, чтобы чаша весов склонилась в его сторону. Сквозь опущенные веки глаза стервятника, ощущающего свое превосходство, сверлили меня насквозь. С высоты кафедры и своего внушительного роста он, словно башня, нависал надо мной. Прокурор не снял красной мантии, но шапочку положил перед собой. Подавшись вперед, он перенес тяжесть тела на мощные мясистые руки. Прадель был женат, на что указывало золотое кольцо. Было и другое – на мизинце – из отшлифованного до блеска подковочного гвоздя.
Он подался еще немного вперед, чтобы уж полностью подавить меня. Весь его вид как бы говорил: «Если ты думаешь, что сможешь выпутаться, молодой петушок, то глубоко заблуждаешься. Мои руки, может, и не похожи на когти, но зато я вырастил когти в сердце, и они готовы растерзать тебя на куски. Почему меня боятся адвокаты? Почему у судей я прослыл роковым прокурором? Да потому, что я никогда не упускаю свою добычу. Меня не касается, виновен ты или нет: я здесь для того, чтобы обратить против тебя все – и твою скандальную, беспутную жизнь на Монмартре, и сфабрикованные полицией свидетельства, и показания самих полицейских. Моя задача – распорядиться всей этой отвратительной грязью, собранной следствием, и вымазать тебя так, чтобы у присяжных не оставалось другого желания, кроме как поскорее оградить от тебя общество». То ли мне это чудилось, то ли я действительно все отчетливо слышал, но этот людоед меня потряс. «Подсудимый, не возникай. И не пытайся защищаться. Будь уверен, я спущу тебя в сточную канаву. Может, ты веришь присяжным? Не будь ребенком. Что они знают, эти двенадцать человек, о твоей жизни? Ничего ровным счетом. Посмотри на них. Вон они сидят напротив. Двенадцать ублюдков, доставленных в Париж из какого-то захолустья; ты хорошо их видишь? Мелкие лавочники, пенсионеры, торговцы. Не стоит описывать их подробно. Неужели ты думаешь, что они поймут твою жизнь на Монмартре? Или что такое двадцать пять лет? Для них Пигаль и Плас-Бланш точно такие же естественные враги общества, как ад и „ночные бабочки“. Нет слов, они гордятся собой. Еще бы – заседают в суде присяжных Сены. Но более всего, поверь мне, они ненавидят свое низкое общественное положение – свою принадлежность к материально стесненному и отчаянно скучному среднему сословию. И вот ты перед ними в полном блеске, да еще молод и красив. Неужели ты не задумывался, хотя бы на миг, что я выставлю тебя перед ними донжуаном, хищником с ночного Монмартра? И они решительнейшим образом настроятся против тебя. Ну ты и разоделся! А ведь следовало бы как раз наоборот – поскромнее, даже очень скромно. Это твоя большая тактическая ошибка. Посмотри, как они завидуют твоему костюму. Ведь они одеваются с вешалки. Они даже и мечтать не могут о том, чтобы пошить костюм у портного».
Десять часов. Все готово для начала суда. Передо мной шесть официальных судей и среди них жестокий главный обвинитель, собравшийся употребить всю силу и профессиональную изощренность Макиавелли, чтобы убедить двенадцать простаков в том, что я прежде всего виновен, а следовательно, заслуживаю единственного приговора – каторжные работы или гильотина.
Я обвиняюсь в убийстве сводника, осведомителя полиции со «дна» Монмартра. Улик не было, но фараоны (им верят всякий раз, когда они находят преступника) твердо стояли на своем. Видя, что доказательств нет, они сослались на «конфиденциальную» информацию, чем устранили всякие сомнения. Козырной картой в руках обвинения был свидетель наподобие граммофонной пластинки, изготовленной и заигранной в полицейском участке по набережной Орфевр, 36. Этого парня звали Полен. Когда я снова и снова стал повторять, что не знаю этого человека, председатель очень спокойно спросил:
– Вы говорите, что свидетель лжет. Хорошо. Но зачем ему лгать?
– Месье председатель, я провел много бессонных ночей со дня ареста, но вовсе не из-за угрызений совести по поводу убийства Коротышки Ролана. Я его не убивал. А потому, что все пытался понять, что движет этим свидетелем, нападающим на меня с такой яростью и дающим в поддержку обвинения все новые и новые факты каждый раз, когда прежние оказываются недостаточно убедительными. Я пришел к заключению, месье председатель, что полиция прихватила его на серьезном преступлении и совершила с ним сделку, – дескать, мы тебе это спустим с рук, а ты уж постарайся очернить Папийона[1].
В то время я и не представлял, что был так близок к истине. Спустя несколько лет Полен, сейчас проходивший в суде свидетелем как честный человек без преступного прошлого, был арестован и осужден за торговлю наркотиками.
Мэтр Юбер пытался меня защищать. Но разве он мог тягаться с прокурором! Мэтр Буфе – единственный, кто с чистосердечным негодованием вступил в борьбу, но ненадолго. Искусство Праделя и здесь оказалось на высоте. Более того, он польстил присяжным, которых так и распирало от гордости: как же, эта внушающая страх личность обращалась к ним как к равным и как к коллегам.
К одиннадцати вечера шахматная партия закончилась. Мои защитники получили мат. А меня без вины признали виновным.
В лице Праделя, государственного обвинителя, общество пожизненно вычеркивало из своей среды двадцатипятилетнего молодого человека. Без всякого снисхождения, большое спасибо! Председатель суда Бевен угостил меня блюдом по первому разряду.
– Подсудимый, встаньте, – произнес он бесстрастно.
Я встал. В зале суда наступила полная тишина. Люди затаили дыхание, мое сердце забилось быстрее. Некоторые присяжные наблюдали за мной, другие наклонили головы и, казалось, испытывали чувство стыда.
– Подсудимый, поскольку суд присяжных согласился со всеми пунктами обвинения, за исключением преднамеренности, вы приговариваетесь к каторжным работам пожизненно. У вас есть что сказать?
Я не дрогнул, держался естественно, только крепче сжал поручень перегородки, за который ухватился.
– Да, месье председатель! Я хочу сказать одно – я действительно невиновен. Я жертва дела, сфабрикованного полицией.
До слуха донесся шепот из рядов для высокопоставленных особ. Там сидели несколько женщин, одетых со вкусом. Не повышая голоса, я сказал им:
– Заткнитесь, вы, дамы в жемчугах. Вам захотелось грязи, и душещипательной. Фарс окончен. Убийство состряпала ваша хитроумная полиция и ваша система правосудия. Вы должны быть довольны.
– Стража, – сказал председатель, – уведите осужденного.
Перед тем как исчезнуть со сцены, я услышал обращенный ко мне голос:
– Не печалься, милый! Я тебя найду!
Это кричала моя храбрая, великолепная Ненетта. Всю свою любовь она вложила в этот крик. В помещении суда раздались аплодисменты. Хлопали мои друзья из того мира, где я вращался. Они-то прекрасно знали, как расценивать это убийство, и таким вот образом выказывали мне свои чувства и уважение за то, что я ничего не выдал и ни на кого не перекладывал вины.
Как только мы снова оказались в маленькой комнате, в которой находились до суда, жандармы надели на меня наручники, а один из них соединил мое правое запястье со своим левым короткой цепью. Я попросил закурить. Сержант молча протянул мне сигарету и поднес огонь. Я стоял, время от времени поднимая и опуская руку, и жандарм вынужден был повторять мои движения.
И так, пока я не выкурил три четверти сигареты. Никто не проронил ни слова. Опять же я первый посмотрел на сержанта и сказал: «Пошли».
В окружении дюжины жандармов я спустился по лестнице во внутренний двор. «Черный ворон» уже ждал. В фургоне не было перегородок: человек десять расселись друг против друга. Сержант сказал: «Консьержери».
Консьержери
Подъехав к этому последнему замку королевы Марии-Антуанетты, жандармы передали меня старшему тюремному надзирателю. Тот подписал бумагу – расписку в получении. Жандармы удалились, не проронив ни слова, и только сержант на прощание потряс мне руки, заключенные в наручники. Поразительно!
Старший надзиратель обратился ко мне:
– Сколько дали?
– Пожизненно.
– Это правда? – Он посмотрел на жандармов и убедился, что правда. Пятидесятилетний надзиратель, многое повидавший на своем веку и подробно знавший о моем деле, счел уместным заметить:
– Ублюдки! Они, должно быть, все посходили с ума!
Осторожно сняв наручники, он выказал добросердечие к узнику, лично доставив меня в камеру, обитую войлоком. Такие камеры отводились специально для смертников, психбольных, очень опасных преступников и приговоренных к каторге.
– Не унывай, Папийон, – сказал он, закрывая за собой дверь. – Мы пришлем твои вещи и что-нибудь поесть. Держись!
– Спасибо, начальник. Со мной все в порядке, будьте уверены. Они еще подавятся своей долбаной пожизненной каторгой.
Через несколько минут за дверью послышалось царапанье.
– В чем дело? – спросил я.
– Ничего, – ответил голос за дверью. – Прикрепляю табличку.
– Зачем? Что на ней?
– «Пожизненная каторга. Особый надзор».
Сумасшедшие, подумалось мне, неужели они и в самом деле полагают, что этот камнепад, обрушившийся мне на голову, подведет меня к мысли о самоубийстве? Я не робкого десятка и таким останусь всегда. Я еще поборюсь со всеми и против всех. И начну с завтрашнего же дня.
На следующий день за кружкой тюремного кофе я стал размышлять о смысле подачи апелляции. Есть ли резон? Стоило ли рассчитывать на большее везение в новом судебном процессе? А сколько это может продлиться… и без толку? Год? Может быть, полтора? А результат – заменят пожизненный срок на двадцать лет?
Поскольку я настроился на побег, срок уже не имел значения: я вспомнил, как однажды один приговоренный к пожизненной каторге обратился к судье: «А скажите, месье, сколько лет во Франции длится пожизненная каторга?»
Я ходил взад и вперед по камере. Послал утешительную телеграмму жене, другую – сестре, она одна из всех вступилась за брата. Все кончено. Занавес опущен. Мои родные и близкие вынуждены страдать больше, чем я. И в далекой деревне отцу тяжело будет нести выпавший на его долю крест.
Вдруг я чуть не задохнулся от одной мысли: да я же невиновен! И в самом деле невиновен. Но для кого? Да, для кого я невиновен? И сам себе ответил: лучше спрятать язык в задницу, чем разглагольствовать о своей невиновности. Хочешь стать всеобщим посмешищем? Схлопотать пожизненную каторгу за какую-то «шестерку», а потом утверждать, что не ты его отправил на тот свет? Да это же курам на смех! Лучше помалкивай в тряпочку.
Все то время, пока я в ожидании судебного процесса находился в тюрьмах Сантé и Консьержери, мне ни разу не приходило в голову, что я могу получить такой приговор, поэтому я понятия не имел и даже не задумывался, что такое быть «спущенным в сточную канаву».
Ладно. Прежде всего надо связаться с теми, кто уже получил такой приговор и не прочь удариться в бега. Они могут составить мне компанию. Выбор пал на Дега, парня из Марселя. Конечно же, я встречу его в парикмахерской. Он ходит туда бриться каждый день. Я тоже попросился. И точно: когда я вошел, он уже стоял, повернувшись носом к стене.
Я видел, как он перепускает другого арестанта, чтобы самому подольше задержаться в очереди. Я тут же встал за ним, оттерев кого-то в сторону. Быстро прошептал:
– Как дела, Дега?
– Порядок, Папи. Пятнадцать лет. А у тебя? Слышал, намотали на полную катушку?
– Да. На всю жизнь.
– Собираешься обжаловать?
– Нет. Надо хорошо жрать да беречь здоровье. Копи силы, Дега. Нам еще пригодятся крепкие мускулы. Ты заряжен?
– Да. Десять «рябчиков»[2] в фунтах стерлингов. А ты?
– Нет.
– Советую: заряжайся, и побыстрее. У тебя адвокат кто, Юбер? Да он же, хрен собачий, никогда не решится пронести в камеру гильзу. Пошли жену изготовить ее у Данта. Да пусть хорошо набьет ее «пыжом». Потом пусть отнесет Доминику Богачу. Даю слово, что гильза до тебя дойдет.
– Тсс… Багор следит за нами.
– Итак, мы решили немножко поболтать? – вмешался надзиратель.
– Так, пустяки, – сказал Дега. – Он говорил, что плохо себя чувствует.
– А что с ним? Присяжные колики? – И толстозадый надзиратель чуть не задохнулся от хохота.
Такая вот наступила жизнь. Меня уже тащило вниз по сточной канаве. Я оказался в том месте, где воют от смеха, где могут отмачивать шуточки по адресу двадцатипятилетнего парня, приговоренного к пожизненному сроку.
Я получил гильзу. Это был прекрасно сработанный и отполированный алюминиевый цилиндр, развинчивавшийся точно посередине. Одна половина наворачивалась на другую. Внутри оказалось пять тысяч шестьсот новеньких франков. Когда он был передан мне, я поцеловал его. Да, поцеловал этот патрон длиной около шести сантиметров и толщиной с большой палец, прежде чем загнать в анальный проход. Сделал глубокий вдох, чтобы точно попасть в прямую кишку. Теперь это мой сейф и мои сбережения. Меня могут раздеть, заставят раздвинуть ягодицы, прикажут кашлять и перегибаться надвое, но никогда не узнают, что у меня внутри. Заряд сел глубоко в толстом кишечнике. Теперь он – часть меня самого. Это моя жизнь, и свобода, и тропинка к мести. Я решительно настроил себя на месть. Я ни о чем не думал, кроме мести.
За стенами тюрьмы темно. Я в камере-одиночке. Яркий свет под потолком позволяет надзирателю следить за мной через небольшой дверной глазок. Свет до боли режет глаза. Я накрываю их сложенным в несколько раз носовым платком. Лежу на матраце, на железной кровати без подушки. В голове проносятся ужасные подробности судебного процесса.
В этой части рассказа я буду, возможно, несколько утомителен, но иначе нельзя понять все остальное в этой длинной истории, нельзя досконально объяснить, что поддерживало меня в борьбе. Я должен именно сейчас рассказать о том, что творилось у меня в душе, какие мысли лезли в голову, каким образом разворачивались события в первые дни перед глазами человека, погребенного заживо.
Что буду делать после побега? Имея в распоряжении гильзу, я ни секунды не сомневался в его осуществлении. Прежде всего, и поскорее, надо вернуться в Париж. Первым убью лжесвидетеля Полена. Затем двух фараонов, состряпавших дело. Двумя полицейскими не обойдешься: следует прихлопнуть побольше. Всех к чертовой матери! Или как можно больше. О, появилась толковая идея! Как только вырвусь на свободу – сразу в Париж с чемоданом взрывчатки. Полным чемоданом – сколько влезет. Десять, пятнадцать, двадцать кило. Сколько же надо? Начинаю лихорадочно соображать, сколько потребуется взрывчатки, чтобы побольше прикончить.
Динамит? Нет, лучше шеддит. А почему не нитроглицерин? Верно. Надо посоветоваться со сведущим народом, разбирающимся лучше меня в этих вопросах. Но фараоны пусть не обольщаются: я им принесу столько, сколько надо.
Продолжаю лежать с закрытыми глазами, носовой платок помогает. Ясно вижу чемодан, с первого взгляда такой невинный, а на самом деле напичканный взрывчаткой. И часовой механизм, четко установленный на время, когда сработает детонатор. Внимание: взрыв произойдет в десять утра в зале совещаний криминальной полиции на втором этаже на набережной Орфевр, 36. В этот момент там соберется полтораста полицейских, не меньше, для инструктажа и получения нарядов. Сколько ступенек наверх надо пробежать? Тут нельзя ошибиться.
Следует четко определить время, достаточное, чтобы пронести чемодан с улицы к месту взрыва, – рассчитать все до секунды. А кто понесет чемодан? Придется их обвести вокруг пальца! Я подгоню машину прямо к двери здания криминальной полиции и скомандую двум шалопаям на часах у входа: «Отнесите этот чемодан в зал совещаний. Я скоро прибуду. Передайте комиссару Дюпону, что он от главного инспектора Дюбуа. Я поднимусь вслед за вами».
Но захотят ли они повиноваться? А что, если среди всех этих идиотов именно двое окажутся с мозгами? Не подходит. Надо придумать что-то другое. Снова и снова прокручиваю варианты. Где-то в глубине сознания я убежден, что удастся найти оптимальное решение.
Встал с кровати попить воды. От размышлений разболелась голова. Снова лег, уже не прикрывая глаза. Медленно тянулись минуты. Боже мой, этот проклятый свет! Смочил платок – и снова на глаза. Холодная вода успокаивала. Отяжелевший платок плотнее прикрывал веки. С сегодняшнего дня так и буду делать.
Те долгие размышления, когда я вынашивал план будущей мести, так живо запечатлелись в моей памяти, что, казалось, сама месть органично вплелась в реальную ткань событий и осуществлялась точно по задуманному сценарию. Все ночи напролет, а иногда и днем я носился по Парижу, будто мой побег действительно удался. Уже не было и тени сомнения, что побег может не удаться и я не вернусь в Париж. Разумеется, прежде всего я рассчитаюсь с Поленом, а за ним – с фараонами. А что делать с присяжными? Неужели оставить в покое этих ублюдков? Должно быть, они, эти безмозглые выродки, вернулись домой очень довольные от сознания выполненного долга – Долга с большой буквы «Д»! Поди ж как они важничают перед соседями и своими непричесанными женами, разогревающими для них суп!
Хорошо. Что же делать с присяжными заседателями? Да ничего. Это несчастные, забитые недоумки. Разве они годятся в судьи? Если один из них отставной жандарм или таможенник, так он и действует, соответственно, как жандарм или таможенник. А если молочник, так он и ведет себя как любой темный торгаш в мелочной лавке. Они были заодно с прокурором, а как же иначе? Разве ему трудно сбить их с толку? Они действительно не в ответе. Решено: им я не причиню никакого вреда.
По мере того как я записываю эти мысли, так живо рисовавшиеся мне в те далекие годы и сейчас вновь нахлынувшие с такой ужасающей ясностью, я вспоминаю, какой гнетуще непроницаемой должна быть тишина и каким полным одиночество, чтобы заставить жить воображением молодого человека, очутившегося в тюремной камере. Такая жизнь доводит до сумасшествия. Она раздваивает человека. Она дает ему крылья и заставляет блуждать в мире желаний. Дом, отец, мать, семья, детство – нет такого уголка в цепи лет, куда он не мог бы заглянуть. А еще воздушные замки, с такой невероятной живостью возникающие в его богатом воображении, что он начинает верить, что все это происходит не в мечтах, а наяву.
Тридцать шесть лет пролетело, но до сих пор мне не составляет труда восстановить все, что запечатлелось в моей памяти в тот момент.
Нет. Я и членам суда не причиню никакого вреда, продолжает писать перо. А как насчет главного обвинителя? Любой ценой его нельзя упустить. Во всяком случае, для него и рецепт готов, прямо из Александра Дюма. Точь-в-точь как в романе «Граф Монте-Кристо» о том парне, отправленном в подземелье подыхать с голоду.
Да, прокурор мне за все ответит. Стервятник в красной мантии. Я предам его самой ужасной смерти – он того заслуживает. Да, именно так и сделаю: после Полена и фараонов все свое время посвящу тому, чтобы разделаться с этим ползучим гадом. Сниму виллу. Надо, чтобы там обязательно был глубокий погреб с толстыми стенами и крепкой дверью. Если дверь окажется недостаточно толстой, я сделаю ее звуконепроницаемой с помощью матов и пакли. Заимев виллу, я буду следовать за ним как тень, а затем захвачу. В стене уже готовы кольца – и я тут же сажаю его на цепь. А теперь поглядим, у кого из нас будет повод повеселиться.
Вот он сидит прямо передо мной. Сквозь опущенные веки я вижу его с необычайной четкостью. Да, гляжу на него так же, как он смотрел на меня в суде. Сцена получалась натуральной: я чувствую, как он дышит мне в лицо, ощущаю даже тепло его дыхания. Мы сидим лицом к лицу, почти касаясь друг друга. В ястребиных глазах, ослепленных ярким, идущим сверху светом мощной лампы, затаился страх. Я делаю так, что он весь в фокусе бьющего луча. Крупные капли пота катятся по его красной и опухшей физиономии. Я слышу свои вопросы и слушаю его ответы. Я как будто снова переживаю тот момент.
– Узнаешь меня, сволочь? Я Папийон. Папийон – парень, которого ты с такой легкостью упек до конца дней за решетку. Ты годами корпел над своими книгами, чтобы стать высокообразованным; ночами просиживал над римским правом и прочей чепухой; учил латынь и греческий, себя не жалел, чтобы стать краснобаем. Стоило ли этим заниматься? Куда это тебя привело, жалкий ты выродок? Зачем все это было тебе? Для какой цели? Для новых, достойных человека законов? Для того, чтобы убеждать людей, что мир на земле – самая приятная штука? А может, для разрешения философских проблем, связанных с ужасными заблуждениями человечества на религиозной почве? Уж не для того ли, чтоб авторитетом высшего образования убедить людей стать лучше или хотя бы добрее? Скажи мне, как ты распорядился своими знаниями: во спасение утопающих или во имя их утопления? Ты не помог ни единой душе, тобой руководила только амбиция! Выше! Выше! Еще выше по ступенькам своей вшивой карьеры. Лучший поставщик каторжных поселений, превосходный фуражир палача и гильотины – вот твоя слава. Если бы Дейблер[3] имел чувство благодарности, он доставлял бы тебе каждый раз к Новому году ящик лучшего шампанского. Не из-за тебя ли, грязный сучий сын, он снес лишних пять-шесть голов в этом году? Но все-таки ты мне попался. Хорошо ли тебе на цепи у стены? Я даже помню твою усмешку и торжествующий взгляд, когда зачитывался приговор после твоей обвинительной речи. Словно все было вчера, а ведь прошли годы. Сколько? Десять лет? Двадцать?
Но что со мной? Почему десять лет? Почему двадцать? Возьми себя в руки, Папийон, ты молод, силен, у тебя пять тысяч шестьсот франков в заднем проходе. Два года – да. Два года из пожизненного срока – и не больше. Клянусь.
Хватит, Папийон, ты сходишь с ума. От тишины в камере-одиночке поневоле спятишь. Кончились сигареты. Вчера ты выкурил последнюю. Надо походить. Не все же время смотреть на мир закрытыми глазами, да к тому же через носовой платок. Верно. Я на ногах. Вся камера от двери до стенки неполных четыре метра – пять коротких шагов. Я хожу, заложив руки за спину. И продолжаю прерванный разговор.
Так вот, как было сказано, я хорошо вижу твою торжествующую улыбку и уж постараюсь, чтобы она сменилась жалкой гримасой. Все же тебе сейчас легче, чем было мне. Я не мог кричать, а ты можешь. Кричи, сколько тебе влезет. Кричи громче, если хочешь. Что мне с тобой делать? Помнишь, как у Дюма? Дать тебе сдохнуть с голоду? Нет! Этого мало. А как ты отнесешься, если для начала я выколю тебе глаза? Ты еще торжествуешь, не так ли? Ты полагаешь, что, если я выколю тебе глаза, ты окажешься в выигрыше. Вот как? Ты не будешь видеть меня, а я лишусь удовольствия видеть ужас в твоих глазах. Да, ты прав. Не буду выкалывать. По крайней мере, пока. Оставим на потом. Отрежу тебе язык, хоть и остер он у тебя, как нож, вернее, как бритва. Ты его превратил в проститутку ради блестящей карьеры. Как он нежно лепетал с женой, детишками, девочкой-подружкой! Девочкой? Мальчиком, скорее всего. Очень похоже. Кем тебе еще быть, как не потертой подстилкой? То-то! Начнем с языка, поскольку он наделал вреда ничуть не меньше, чем твоя башка. Ты понимаешь, о чем я говорю. Ты преуспел в том, что убедил судей поддакивать тебе. Ты так выгораживал фараонов, что те и взаправду поверили, будто преданно и неукоснительно следуют своему долгу. Ты проделал все так здорово, что те двенадцать выродков приняли меня за самого опасного человека в Париже. Не окажись у тебя этого лживого, искусного языка, поднаторевшего в искажении истины и передергивании фактов, я бы и теперь сидел себе на террасе «Гран-кафе» на Плас-Бланш и никуда бы не двинулся. Итак, решено: тебе следует вырвать язык немедленно. Но чем?
Хожу, хожу, хожу. Кружится голова, но мы так и остаемся лицом к лицу. Вдруг погас свет, и очень слабый луч зардевшегося дня скользнул в камеру через окно с деревянным переплетом.
Что? Уже утро? Неужто целую ночь провел я наедине со своей местью? Какие прекрасные часы! Как быстро пролетела эта долгая-долгая ночь!
Сидя на кровати, я стал прислушиваться. Ничего. Полная тишина. Только время от времени раздается легкий щелчок за дверью. Это надзиратель в тапочках, чтобы не делать шума, отодвигает небольшую металлическую пластинку и, приникая к глазку, наблюдает за мной. Я его не вижу.
Государственная машина, придуманная Французской республикой, собиралась отработать второй такт. Она шла великолепно: с первого захода напрочь стирала человека, который мог оказаться для нее досадной помехой. Но это еще не все. Человеку непозволительно умереть слишком быстро: самоубийство как средство спасения недопустимо. Он нужен машине. Где бы оказалась тюремная обслуга, не будь осужденных? В дерьме! Поэтому за человеком требуется надзор. Его следует отправить живым в места заключения, где за его счет будет жить еще больший штат государственных служащих. Снова слышу щелчок, вызывающий у меня улыбку.
Не волнуйся, милок, не убегу. Не бойся, не порешу себя. Мне бы только добраться живым до Французской Гвианы. Да поскорей бы! Господи, когда эти набитые дураки отправят меня туда!
Старый надзиратель с его вечным пощелкиванием пластинкой глазка мог бы сойти за крестную из сказки по сравнению с остальными баграми. Уж те ребята были точно не из церковного хора мальчиков. Я слышал, что, когда Наполеона, создавшего каторжные поселения, спросили, кто будет наблюдать за отъявленными негодяями, он ответил: «Еще более отъявленные!» Позднее я убедился, что изобретатель каторжных поселений не наврал.
Клак-клак – квадратное окно (двадцать на двадцать сантиметров посередине двери) открылось. Принесли кофе и пайку хлеба. Пайка – семьсот пятьдесят граммов. После вынесения приговора я лишен права заказывать еду из ресторана. Правда, при наличии денег я мог покупать сигареты и кое-что из еды в небольшом буфете. Так продлится еще несколько дней, а потом и этого не будет. Консьержери – это лишь преддверие настоящей тюрьмы. Я закурил «Лаки страйк» – какое удовольствие! Шесть франков и шестьдесят су за пачку. Купил две. Трачу деньги из своего кошелька, ведь скоро их конфискуют в счет судебных издержек.
Дега прислал в хлебе небольшую записку, из которой следовало, что мне необходимо попасть в дезинфекционную камеру. «В спичечном коробке три вши!» Вынул спички – и вот они, его крепенькие платяные вошки. Сразу понял, что это значило. Показал сударушек надзирателю, чтобы на следующий день меня вместе с моим барахлом и матрацем направили в паровую морилку, где прикончат всех паразитов, кроме нас разумеется. Там я и встретил Дега. Надзирателя в морилке не было. Мы оказались один на один.
– Спасибо, Дега. Благодаря тебе я получил гильзу.
– Беспокоит?
– Нет.
– Каждый раз, когда идешь в сортир, промывай ее хорошенько перед тем, как снова зарядиться.
– Да она совершенно водонепроницаема. Деньжата, гармошкой сложенные, лежат в ней как новенькие. А ведь я ношу ее в себе уже неделю.
– Порядок.
– Что ты намерен делать, Дега?
– Разыграю сумасшедшего. Не хочется отправляться в Гвиану. Прокантуюсь лет восемь-десять во Франции. У меня есть связи. Надеюсь, скостят лет пять.
– Сколько тебе лет?
– Сорок два.
– Тогда ты не в своем уме. Если ты отбарабанишь десять из пятнадцати, ты выйдешь стариком. Боишься каторги?
– Да. Мне не стыдно признаться в этом тебе, Папийон, но я боюсь. Гвиана – гиблое место. Годовая смертность – восемьдесят процентов. Конвой следует за конвоем, а между ними от тысячи восьмисот до двух тысяч покойников. Если не подхватишь проказу, подцепишь желтую лихорадку или дизентерию, которая не лечится. Там еще туберкулез или малярия. А если избежишь всех этих прелестей, то, вполне вероятно, убьют за гильзу или при попытке к бегству. Поверь, Папийон, я не пытаюсь тебя запугать. Но среди моих знакомых есть и такие, кто возвратился во Францию, отбыв небольшой срок – от пяти до семи лет. Я знаю, о чем говорю. Они полные развалины. Девять месяцев в году не вылезают из больниц. Побег с каторги, по их словам, – пустой разговор. Пустая затея.
– Я верю тебе, Дега. Но я верю и в себя. Я там долго не задержусь. Уж поверь мне. Я моряк и знаю море. Если я сказал, что убегу, так оно и будет. А как быть с тобой? Ты способен тянуть десять лет от звонка до звонка? Пусть даже сбросят пятерку, в чем нет полной уверенности, неужели ты рассчитываешь не спятить в одиночке? Представь себе: камера-одиночка, без книг, никуда не выйти – словом, не перемолвиться за сутки. И так каждый день. Да тебе вскоре покажется, что в часе не шестьдесят минут, а все шестьсот. И это еще не все.
– Может быть, но ты молод, а мне сорок два.
– Послушай, Дега, скажи прямо: чего ты больше всего боишься? Других зэков, не так ли?
– По правде говоря, Папи, да. Все знают, что я миллионер. А значит, что им мешает перерезать мне горло? Ведь они будут думать, что у меня при себе пятьдесят или сто тысяч.
– Послушай, давай договоримся! Обещай не терять голову, а я обещаю быть постоянно рядом с тобой. Каждый из нас может поддержать друг друга. Я ловок и силен. С детства приучен драться. Ножом владею, как дьявол. Что касается других зэков – успокойся. Нас будут уважать. Более того, будут бояться. А для побега никого нам не надо. У тебя есть деньги. У меня тоже. Я знаю, как обращаться с компасом, управлять лодкой. Что тебе еще надо?
Он жестко взглянул мне прямо в глаза… Мы обнялись. Уговор состоялся.
Открылась дверь. Прихватив свой узел, Дега отправился в одну сторону, а я – в противоположную. Наши камеры располагались недалеко друг от друга. Время от времени мы виделись то в парикмахерской, то у врача, то в тюремной церкви по воскресеньям.
Дега попался на махинациях, связанных с выпуском фальшивых облигаций Министерства обороны. Некий ловкий фальшивомонетчик поступал с ними крайне необычно: ценные бумаги достоинством в пятьсот франков безукоризненно переделывались в десятитысячные с помощью химических реактивов и новой гравировки. А поскольку бумагой и всем остальным облигации друг от друга ничуть не отличались, то охотно принимались банками и деловыми кругами. Так продолжалось несколько лет, и все это время государственные финансовые органы блуждали, как в темном лесу, пока не прихватили с поличным одного малого по имени Бриуле.
Луи Дега, владелец бара в Марселе, сидел себе спокойно в собственном заведении, где каждую ночь собирался цвет преступного мира – крутые ребята со всех концов земли обделывали там свои темные дела. И бар в Марселе был прекрасным местом для подобных международных встреч. Случилось это в 1929 году, когда Дега стал уже миллионером. Тогда-то и появилась перед ним как-то вечером хорошенькая, одетая по моде молодая особа. Она спросила месье Луи Дега.
– Это я, мадам. Чем могу служить? Пройдите в другую комнату.
– Видите ли, я жена Бриуле. Он в тюрьме в Париже за сбыт фальшивых облигаций. Я виделась с ним в комнате для свиданий в Санте, он дал адрес этого бара и попросил двадцать тысяч франков, чтобы оплатить услуги адвоката.
Тут-то, почуяв, какую опасность может представлять женщина, осведомленная в его причастности к делу, Дега, один из самых известных плутов Франции, и сделал замечание, которого ему не следовало бы делать никогда:
– Послушайте, мадам, я не знаю вашего мужа, а если вы нуждаетесь в деньгах, идите на панель. Вы молоды, хороши собой и заработаете больше, чем надо.
Бедняжка выбежала из бара в слезах, вне себя от гнева и все рассказала мужу. В ярости Бриуле потерял голову и выложил перед следствием все, что ему было известно, прямо обвинив Дега в изготовлении фальшивых облигаций. Команда из наиболее толковых сыщиков страны села Дега на хвост. Через месяц Дега, фальшивомонетчик-гравер и одиннадцать сообщников загремели за решетку. Их взяли сразу в разных местах. Они предстали перед судом присяжных департамента Сена, процесс длился четырнадцать дней. Обвиняемых защищали известные адвокаты. Бриуле не изменил своих показаний. В результате из-за каких-то жалких двадцати тысяч и дурацкой пошлой шутки великий обманщик Франции получил пятнадцать лет каторжных работ. Таким я его и встретил, постаревшим на десять лет и вконец разоренным. С этим человеком я заключил договор – союз на жизнь и на смерть.
Меня навестил мэтр Рэймон Юбер. Он был недоволен собой. Я его не винил.
Раз, два, три, четыре, пять, кру-гом… Раз, два, три, четыре, пять, кру-гом. Много часов я уже шагаю по камере от двери до окна. Закурил, почувствовал, что достаточно владею собой, появилась уверенность, что преодолею все на своем пути. Дал себе зарок не думать пока о мести. Пусть прокурор посидит на цепи, пропущенной через настенные кольца. Потом придумаем, как с ним поступить.
Внезапный крик, отчаянный, пронзительный, замирающий в страшных мучениях крик проник сквозь дверь моей камеры. Что это? Так мог кричать только человек под пыткой. Но здесь же не здание криминальной полиции. Нет возможности узнать, что произошло. Эти ночные крики выворачивали меня наизнанку. Какой силой должны они обладать, чтобы прорваться через войлочную обивку! Может, это сумасшедший? Так просто сойти с ума в этих камерах, куда ничего до тебя не долетает! Появилась привычка громко разговаривать с самим собой. «Какого черта, – говорю, – ты лезешь не в свои дела. Думай о себе, и только. Да еще о новом напарнике – Дега». Я наклонился, выпрямился и с силой ударил себя в грудь. Больно. Значит, все в порядке – мышцы рук работают превосходно. А как ноги, старина? Ты можешь себя поздравить. Ты уже более шестнадцати часов на ногах и не почувствовал усталости.
Китайцы придумали капать водой на голову. Французы придумали тишину. Лишают тебя всего, чем можно было бы заняться и отвлечься. Ни книг, ни бумаги, ни карандаша. Наглухо закрытое ставнем окно. И только слабый свет тихо льется через небольшие отверстия.
Тот душераздирающий крик меня действительно потряс. Я заметался по камере, как зверь в клетке. Нахлынуло тягостное чувство, что я забыт, оставлен всеми и заживо погребен. Одиночество, полное одиночество. И только крик, проникший в мою камеру, наедине со мной.
Дверь открылась. Появился старый кюре. Вот ты и не один: перед тобой стоит кюре.
– Вечер добрый, сын мой. Прости, что не пришел раньше. Был в отпуске. Ну, как ты здесь?
И добрый старый кюре вошел в камеру и сел на матрац.
– Откуда ты?
– Из Ардеша.
– А родители?
– Мать умерла, когда мне исполнилось одиннадцать. Отец был очень добр ко мне.
– Чем он занимался?
– Был школьным учителем.
– Он жив?
– Да.
– Почему ты говоришь о нем в прошедшем времени, если он жив?
– Он-то жив – я умер.
– Не говори так. Что ты сделал?
Сказать просто, что я невиновен, – значит ничего не сказать. И я ответил:
– Полиция говорит, что я убил человека. А если они так говорят, то это, должно быть, правда.
– Торговца?
– Нет, сутенера.
– А что это за история? Мне не совсем ясно. Преднамеренное убийство?
– Нет, не преднамеренное.
– Бедный мой мальчик, это невероятно. Что я могу для тебя сделать? Не желаешь ли помолиться со мной?
– Я ничего не смыслю в религии и не умею молиться.
– Это не имеет значения, сын мой. Я за тебя помолюсь. Господь любит всех чад своих, будь они крещеные или нет. Повторяй за мной каждое слово.
В его глазах была такая кроткая нежность, а округлое лицо светилось такой добротой, что мне было стыдно отказываться. И как только он встал на колени, я опустился рядом.
– Отче наш, иже еси на небеси…
Слезы навернулись у меня на глаза. Добрый кюре их заметил. Он снял своим пухлым пальцем крупную каплю, катившуюся по моей щеке, и отправил себе в рот.
– Сын мой, – сказал он, – эти слезы – величайшая награда, посланная мне сегодня через тебя Господом. Благодарю тебя.
Он поднялся с колен и поцеловал меня в лоб.
Мы снова сидели рядом на кровати.
– Давно ли ты плакал?
– Четырнадцать лет назад.
– Почему четырнадцать?
– В тот день умерла моя мать.
Он взял мою руку в свою и сказал:
– Прости тех, кто причинил тебе страдания.
Я вырвал руку и отпрыгнул на середину камеры. Сработал инстинкт.
– Ни за что на свете. Никогда их не прощу. И еще скажу вам, отче: нет дня, ночи, часа, минуты, когда бы я не думал, как с ними разделаться. Со всеми, кто засадил меня сюда. Я убью их, вопрос только как, когда и чем.
– Сын мой, ты веришь в то, что говоришь? Ты молод, слишком молод. С годами ты оставишь мысли о наказании и мести.
С тех пор минуло тридцать четыре года. И сейчас я разделяю его мнение.
– Сын мой, чем я могу тебе помочь? – снова спросил меня кюре.
– Преступлением, отче.
– Каким?
– Пойдите в камеру тридцать семь и скажите Дега, чтобы он связался со своим адвокатом. Пусть добивается перевода в центральную тюрьму в Кане. Я уже это сделал сегодня. Нам надо побыстрей выбираться из Консьержери и попасть в какую-нибудь центральную тюрьму, где формируется этап в Гвиану. Если пропустить первый корабль, то придется ждать следующего еще два года. Ждать в одиночке. Повидавшись с ним, вы вернетесь сюда, отче?
– Чем же мне объяснить возвращение?
– Скажите, что забыли требник. Я буду ждать вас с ответом.
– А почему ты спешишь попасть в такое ужасное место – на каторгу?
Бросив жесткий взгляд на этого великодушного коробейника доброго слова, я понял, что он не выдаст.
– Чтобы поскорее удрать, отче.
– Помоги тебе Господь, мой мальчик. Я уверен, я чувствую, что ты встанешь на путь истины. По глазам вижу, что ты порядочный молодой человек и сердце твое на месте. Я пойду в камеру тридцать семь. Сделаю это для тебя. Жди ответа.
Вскоре он вернулся. Дега дал согласие. Кюре оставил мне свой требник до следующего дня.
Благодаря добряку-кюре, моя камера наполнилась живым светом – вся озарилась его лучами. Если Бог существует, почему Он сделал людей такими разными? Прокурор, полиция, Полен, а затем кюре из Консьержери…
Визит поистине доброго человека подбодрил меня и вселил надежду. Ко всему прочему, он оказался полезен. Наши просьбы быстро прошли инстанции. Через неделю в четыре часа утра нас семерых построили в одну шеренгу в коридоре Консьержери. Багры тоже были тут как тут при полном параде.
– Одежду снять!
Мы медленно разделись. Было холодно. Тело покрылось гусиной кожей.
– Вещи положить. Шаг назад. Кру-гом!
Перед каждым из нас лежала груда арестантского барахла.
– Одеться!
Хорошая тонкая хлопчатобумажная рубашка, всего лишь несколько минут назад облегавшая тело, меняется на грубое некрасивое холщовое изделие. Элегантный костюм – на жесткую блузу и штаны. Нет больше кожаных ботинок – на ногах пара деревянных башмаков-сабо, и если до того момента я обладал какой-то индивидуальностью, то после переодевания произошла полнейшая метаморфоза. Посмотрел на остальных шестерых. Какой кошмар! Не отличить одного от другого: нас всех за какие-то две минуты превратили в каторжников.
– Напра-во! Ша-гом арш!
В сопровождении двадцати стражников нас вывели во двор, по очереди рассовали в «воронок» – каждого в отдельную ячейку в виде узкого шкафа. Погрузили и отправили в Болье. Болье – это тюрьма в Кане.
Тюрьма в Кане
По прибытии нас доставили в кабинет начальника тюрьмы. За столом в стиле ампир, установленном на помосте, который на метр возвышался над полом, восседала исполненная собственной значительности персона.
– Смирно! С вами будет говорить начальник!
– Осужденные, здесь вы на правах пересыльных, пока не придет время отправить вас по местам заключения. Это не обычная тюрьма. Разговоры запрещены круглосуточно. Никаких посещений, никаких писем от кого бы то ни было. Малейшее неповиновение – конец! Отсюда только два пути: на каторгу, при условии безупречного поведения, или на кладбище. Два слова о плохом поведении: малейший проступок – на шестьдесят суток в карцер на хлеб и воду. Не было случая, чтобы кто-то выдержал два раза подряд. Понятно?
Он обратился к Пьерро Придурку, выданному властями Испании:
– Кем был на воле?
– Тореадором, месье начальник.
Ответ привел начальника в ярость, и он заорал:
– Убрать! И всыпать как следует!
Мы и глазом не успели моргнуть, как «грозу быков» сбили с ног и начали обрабатывать дубинками четверо или пятеро надзирателей, быстро уволакивая его прочь. Слышно было, как он кричал:
– Ублюдки, пятеро на одного. Да еще с дубинками, трусливые паскуды.
Затем: «А-а-а!» – крик смертельно раненного животного. И все. Только звук, будто что-то волокут по бетонному полу.
Лишь круглые тупицы не усвоили бы предметного урока, только что преподанного нам начальником. Дега находился рядом. Движением пальца, одного лишь пальца, он дотронулся до моих штанов. Я понял намек: «Берегись, если хочешь живым добраться до каторги». Через десять минут нас всех отправили в изолятор, каждого в свою камеру. Всех, кроме Пьерро Придурка, брошенного в мрачный подвал карцера.
Нам с Дега повезло: камеры оказались рядом. Но перед этим нас «представили» одному типу – рыжему циклопу под два метра ростом. В его правой руке была зажата новенькая плетка, сплетенная из сыромятных ремней. Это был экзекутор из числа заключенных, игравший по приказу надзирателей роль мучителя. Какой ужас наводил он на узников! С таким подручным стражники могли пороть заключенных без устали, не опасаясь получить нарекание от начальства в случае смертельного исхода.
Уже позже, когда я попал на короткое время в больницу, я услышал историю этого зверя в человеческом образе. Начальника тюрьмы действительно следовало поздравить с хорошим выбором исполнителя своей воли. В прошлом парень работал в каменоломне. Жил в небольшом городишке во Фландрии. Однажды ему взбрело в голову покончить с собой, а заодно и с женой. Для этого дела он воспользовался тяжелой динамитной шашкой. Лег с женой спать в комнате на втором этаже шестиэтажного дома. Жена уснула. Он зажег сигарету и от нее подпалил бикфордов шнур. Шашку держал в левой руке между собственной головой и головой супруги. Прогремел страшный взрыв. Результат: жену собирали ложкой – она буквально превратилась в фарш. Часть дома рухнула, под завалом оказались трое детишек и семидесятилетняя старуха. Все так или иначе пострадали. Сам же Потрошитель, или сей молодец, лишился кисти левой руки (от нее остались мизинец да половина большого пальца), левого глаза и уха. Голову изрядно зацепило – потребовалась трепанация черепа. По осуждении его сделали экзекутором изолятора центральной тюрьмы. Этот-то полуманьяк и имел полную власть над несчастными, прибывшими сюда.
Раз, два, три, четыре, пять, кру-гом… Раз, два, три, четыре, пять, кру-гом… Началось бесконечное вышагивание между дверью и стенкой камеры.
Днем лежать не разрешалось. В пять часов утра пронзительный свисток будил каждого. Вставали, заправляли кровати, умывались, а затем – либо ходи по камере, либо сиди на откидном стуле, прикрепленном к стене. В течение всего дня нельзя было прилечь. Последний штрих исправительной системы заключался в том, что сама кровать, складываясь, приставлялась к стене и сажалась на крюк. Таким образом узник не мог растянуться на чем-либо и отдохнуть, но зато за ним было легче наблюдать.
Раз, два, три, четыре, пять… И так четырнадцать часов. Чтобы приноровиться к такому непрекращающемуся механическому ритму, надо научиться держать голову вниз, руки за спиной и ходить не быстро и не медленно, выдерживая длину шага, и, автоматически повернувшись, выступать вперед левой ногой в одном конце и правой в другом.
Раз, два, три, четыре, пять… В здешних камерах больше света, чем в Консьержери, и шум доносится до слуха – то наш из изолятора, то посторонний из села. По вечерам можно различить, как свистят и поют работники ферм, когда возвращаются домой, веселые от выпитого сидра.
Я получил рождественский подарок. В деревянных брусьях оконного переплета оказалась трещина, и через нее я увидел заснеженные поля и несколько высоких черных деревьев в свете полной луны. Никто бы не возразил против того, чтобы назвать этот вид рождественской открыткой. Деревья раскачивались на ветру, сбросив снежное покрывало, и вырисовывались передо мной совершенно четко. Они выступали большими темными островками на фоне всего остального.
Наступил и сам праздник Рождества. Рождество для каждого, даже для тех, кто оказался в тюрьме. Начальство расщедрилось для пересыльных: нам разрешили купить по две дольки шоколада. Именно две дольки, а не плитки. Мой праздничный ужин в год тысяча девятьсот тридцать первый от Рождества Христова состоял из этих двух долек шоколада марки «Эгебель».
Раз, два, три, четыре, пять… Карающий меч закона превратил меня в маятник: весь мой мир умещался в этом хождении взад и вперед по камере. Все было по науке. В камере ничего не разрешалось оставлять. Совершенно ничего. Более того, узнику не позволялось отвлекаться на посторонние предметы. Если бы меня застукали на том, что я смотрю через трещину оконного переплета, я понес бы суровое наказание. А в конце-то концов, разве они не правы? Ведь для них я был всего-навсего живым трупом, и не более. Какое я имел право любоваться пейзажем?
Откуда-то появился мотылек. Бледно-голубой мотылек с узкой черной каймой на крыльях летал рядом с оконным стеклом. Недалеко от мотылька жужжала пчела. Что они здесь искали?.. Казалось, они лишились рассудка при виде зимнего солнца, если хотели укрыться от холода в тюрьме. Мотылек зимой – это некий возврат к жизни. Как он не погиб? Как случилось, что пчела улетела из улья? Какая дерзость прилететь сюда, если бы они только знали! К счастью, у экзекутора не было крыльев, а то бы им недолго осталось жить.
У меня было сильное предчувствие, что я еще столкнусь с этим грязным садистом. К сожалению, так и случилось. В тот же день, когда эти милые насекомые посетили меня, я сказался больным. Я не выдержал. Одиночество действовало разрушительно. Увидеть хотя бы чье-то лицо, услышать хотя бы чей-то голос, пусть даже неприятный для меня. Но все-таки это был бы голос! Мне надо его слышать.
Стою нагишом в ледяном коридоре лицом к стене. От стенки до кончика носа не более восьми сантиметров. Стою предпоследним в шеренге из восьми человек в ожидании очереди к врачу. Хотелось видеть людей? Ну что ж, ты этого добился! Едва успел шепнуть несколько слов Жюло, по прозвищу Молотобоец, как тут же налетел экзекутор.
Реакция рыжеголового маньяка была страшной. Ударом в затылок он послал меня почти в нокаут, а поскольку я не ожидал удара, мой нос расквасился о стенку. Брызнула кровь. Поднявшись на ноги, встряхиваюсь и пытаюсь понять, что произошло. Слабо протестую. Этого только и требовалось скотине. Пинком в живот он снова распластал меня на полу и принялся нахлестывать бычьей плеткой. Жюло не выдержал – прыгнул на него, и завязалась рукопашная. А поскольку Жюло доставалось в ней больше, то стражники за всем этим делом наблюдали спокойно, ни во что не вмешиваясь. Никто не заметил, как я встал. Огляделся вокруг в поисках чего-либо, что можно было бы пустить в ход как оружие. Вдруг вижу, как врач в операционной перегибается через спинку кресла, пытаясь понять, что происходит в коридоре. Тут же замечаю, как на кастрюле под действием пара прыгает крышка. Большая эмалированная кастрюля стояла на плите, обогревая кабинет. Несомненно, пар еще был нужен и для очистки воздуха.
Метнулся к плите, схватил кастрюлю за ручки и, страшно обжигаясь, одним махом выплеснул кипящую воду в морду прохвоста. Тот был так занят Жюло, что не заметил, как я подскочил. Выродок заревел нечеловеческим голосом. Он получил по заслугам. Извиваясь на полу, как червяк, он пытался сорвать с себя три шерстяные жилетки, одну за другой. Когда добрался до третьей, то содрал ее вместе с кожей. Мешал глухой ворот. Кожа, пристав к шерсти, сошла с груди, частично с шеи и полностью со щек. Единственный глаз также обварился. Он ослеп. Он поднялся, страшный, окровавленный, только что освежеванный – без шкуры. Жюло воспользовался моментом и сильно ударил его ногой в пах.
Скотина рухнул, извергая блевотину и пену изо рта. С ним было покончено, а мы ничего не теряли: за плечами пожизненный срок, и больше нам не дадут. Двое надзирателей, наблюдавших за сценой, не осмелились подступиться к нам. Они вызвали подкрепление. Со всех сторон появились тюремщики, и град ударов обрушился на нас. Меня послали в нокаут почти сразу, поэтому я ничего не почувствовал.
Очнулся совершенно голый двумя этажами ниже, в притопленном водой карцере. Медленно приходил в себя. Ощупал руками зудящее от боли тело. На голове насчитал четырнадцать или пятнадцать шишек. О времени не имел понятия. Здесь между днем и ночью разницы никакой. Свет вообще не зажигают. Услышал постукивание в стенку. Стук доносился издалека.
Тук-тук-тук-тук-тук. Так перестукиваются арестанты, устанавливая связь друг с другом. Следует постучать дважды, если хочешь ответить. Постучать – но чем? В темноте не разберешься. Кулаки не годятся – удары кулаком нерезки и неотчетливы. Стал передвигаться, как мне казалось, по направлению к двери, там было чуть светлее. Наткнулся на решетку, не замеченную мной. Сообразил, что до двери оставался еще какой-то метр, а брусья решетки, за которые я держался, не давали к ней подойти. Понял, что нахожусь в карцерной клетке. Таким образом обеспечивается безопасность посетителя в случае покушения со стороны преступника: узник не может до него дотянуться. С узником можно вступить в разговор, подтопить его водой, бросить еду, как собаке, оскорбить без всякого риска. Но есть и преимущество для узника – его нельзя избить безнаказанно, ведь, чтобы его поколотить, надо открыть дверцу клетки.
Время от времени стук повторялся. Кто бы это мог вызывать меня? Парню следовало ответить, поскольку, нарушая порядок, он дьявольски рисковал. Я наступил на что-то твердое и круглое. Ощупал предмет – им оказалась деревянная ложка. Схватив ложку, приготовился отвечать. Жду, крепко прижавшись ухом к стене. Тук-тук-тук-тук – пауза, тук-тук. Тук-тук, ответил я. Этот удар дважды означал для человека на другом конце связи: продолжай – я принимаю. Стук возобновился: тук-тук-тук… Быстро пробегает алфавит – а, б, в, г, д… и стоп! Остановка на букве «п». Сильный удар в ответ – тук! Он теперь знает, что я принял букву. Затем последовали «а», «п» и так далее. Послание гласило: «Папи, порядок? Тебе досталось. У меня сломана рука». Это был Жюло.
Таким образом мы с ним переговаривались более двух часов, не беспокоясь, что нас поймают. Оба были в полном восторге от возможности обменяться посланиями. Поведал ему, что цел и невредим, ничего не сломано. Есть шишки на голове, но обошлось без серьезных ран.
Он сообщил мне, что видел, как меня тащили вниз за ногу и как я стукался головой о ступеньки. Он не терял сознания. Он полагал, что Потрошитель серьезно обварен, что шерсть только усугубила ожоги и что он не скоро очухается.
Три быстрых удара подряд означали: что-то произошло. Я прекратил стучать. И в самом деле, через несколько минут открылась дверь и раздался крик:
– Назад, сука! К задней стенке камеры и стоять по стойке смирно! – Появился новый прохвост-экзекутор. – Меня зовут Баттон[4], это мое настоящее имя. По работе и звание.
Он осветил карцер и меня, голого, большим корабельным фонарем.
– Вот барахло, одевайся. Не двигаться. Вода и хлеб. Не лопай зараз, сутки ничего не получишь.
Он зверем рычал на меня, но затем поднес фонарь к своему лицу, и я увидел, что он улыбается, но беззлобно. Приставив палец к губам, он им же указал на то, что принес для меня. За дверью в проходе, должно быть, находился надзиратель, а ему хотелось показать, что он не враг.
Действительно, вместе с пайкой хлеба я нашел большой кусок вареного мяса, а в кармане штанов – целое сокровище! – пачку сигарет и зажигалку. Подарки такого рода стоили здесь миллионы. Две рубашки вместо одной, шерстяные кальсоны, доходящие до лодыжек. Никогда не забуду этого Баттона. Он платил за устранение Потрошителя. До потасовки он был всего лишь помощником. Теперь же, благодаря мне, он сам дорос до большого человека. Короче, своим продвижением он был обязан мне и выражал свою благодарность. А поскольку с Баттоном я и Жюло были в безопасности, то слали друг другу телеграммы беспрерывно. От Баттона я узнал, что наш отъезд не за горами – через три или четыре месяца.
Через два дня нас вывели из карцера и доставили в кабинет начальника тюрьмы. При каждом из нас по два надзирателя. За столом напротив двери сидели три человека. Своего рода суд. Начальник – за председателя, его заместитель и старшие надзиратели – за заседателей.
– Ага, мои молодые друзья, вот вы и пожаловали! Что вы хотите сказать?
Жюло стоял бледный как полотно, глаза припухли: у него определенно поднялась температура. Три дня назад ему сломали руку. Наверняка было трудно переносить боль. Он тихо произнес:
– У меня сломана рука.
– Ты сам напросился. Будешь знать, как налетать на людей. Тебя покажут врачу при осмотре. Надеюсь, в течение недели. Тебе полезно подождать, ибо боль будет для тебя уроком. Не хватало еще специально вызывать врача из-за таких, как ты. Подождешь, пока тюремный врач будет делать обход, тогда и покажешься. Тем не менее я приговариваю вас обоих к карцеру до нового распоряжения.
Жюло взглянул мне прямо в глаза, как бы говоря: «Для этого господина жизнь человеческая – пустой звук».
Я повернулся и посмотрел на начальника тюрьмы. Он подумал, что я желаю что-то сказать.
– Теперь ты. Приговор, видно, пришелся не по вкусу. Хочешь возразить?
– Нисколько, месье начальник. Единственное, чего страшно хочется, так это плюнуть вам в глаза. Но я не буду этого делать – боюсь запачкать плевок.
Начальник пришел в замешательство, покраснел и с минуту не мог сообразить, что я сказал. Но до старшего надзирателя все дошло, как надо. Он заорал баграм:
– Убрать и отделать как следует. Хочу поглядеть на него снова здесь через час, когда он на четвереньках будет вымаливать прощение. Мы его укротим. Я его заставлю языком чистить мне сапоги и подметки. Не миндальничайте с ним – он ваш.
Справа и слева по двое надзирателей уже крутили мне руки. Я оказался прижатым лицом к полу с заведенными вверх руками аж до лопаток. Надели наручники с напальником, когда левый указательный палец подводится к правому большому в специальном зажиме. Старший надзиратель рывком за волосы поднял меня с пола.
Нет смысла рассказывать, что со мной сделали. Скажу только, что наручники не снимали одиннадцать дней. Своей жизнью я обязан Баттону. Каждый день он швырял положенную мне пайку хлеба в клетку, но я не мог есть без рук. Даже зажав ее между прутьями решетки, я не мог впиться в нее зубами. Тогда Баттон стал отламывать хлеб и бросать кусочками, как раз чтобы только взять в рот. Я собирал их в кучку ногами, ложился на живот и поедал, как собака, тщательно прожевывая каждый, чтобы ничего не пропало. Только так и выжил.
Когда на двенадцатый день наручники сняли, то оказалось, что сталь въелась в мясо, а в некоторых местах покрылась запекшейся кровью и гноем. Старший надзиратель перепугался, особенно когда я упал в обморок от боли. Меня привели в чувство и доставили в больницу, где промыли раны перекисью водорода. Санитар настоял на уколе против столбняка. Руки закостенели и никак не хотели принимать естественное положение. Больше получаса растирали камфорным маслом, прежде чем я смог опустить их по швам.
Снова отправили в карцер. Старший надзиратель, увидев одиннадцать паек хлеба, сказал:
– Да у тебя настоящий банкет. Странно, ты даже не похудел за одиннадцать дней голодовки.
– Я пил много воды, начальник.
– Ах так. Понял. Теперь ешь вволю и накапливай силы.
С этими словами он ушел.
Несчастный полудурок! Он ведь так сказал потому, что был убежден, что я ничего не ел в течение одиннадцати дней, и чтобы я нажрался до отвала и сдох. Хрена тебе! Ближе к вечеру Баттон прислал табаку и сигаретной бумаги. Я курил и курил, выпуская дым в вытяжную систему. Она, конечно, никогда не работала, но, по крайней мере, для курения сгодилась.
Связался с Жюло. Он тоже думал, что я не ел все одиннадцать дней и советовал проявить осторожность. Я не открывал ему правды, боясь, чтобы какая-нибудь сволочь не перехватила послание. На руку ему наложили гипс. Чувствовал он себя нормально; поздравил, что я с честью выдержал испытание. Он сообщил, что до отправления конвоя уже недолго. Дежурный санитар сказал ему, что в тюрьму завезены лекарства для прививок. Прививки сделают всем заключенным перед отправлением. Обычно лекарства привозят за месяц до отправки конвоя. Жюло проявил некоторую неосторожность, спросив меня про гильзу.
Я ответил, что все в порядке, но не стал объяснять, чего это мне стоило. В заднем проходе образовалась страшная язва.
Через три недели нас вывели из карцера. Что случилось? Нам разрешили хорошо помыться в душевой, снабдив порядочным куском мыла. Я почувствовал, что возвращаюсь к жизни. Жюло смеялся, как ребенок, а Пьерро Придурок весь светился от счастья.
Поскольку мы вышли прямо из карцера, то не знали никаких новостей. Парикмахер не ответил, когда я спросил шепотом, что происходит. Какой-то тип со злым лицом, которого я вовсе не знал, сказал:
– Полагаю, что нас амнистировали. Приезжает инспектор, и они напугались. Весь секрет в том, что нас надо предъявить живьем.
Всех отправили по обычным камерам. В полдень я впервые за сорок три дня съел миску горячего супа. На глаза попалась деревянная щепка с надписью: «Отправка через неделю. Завтра прививки».
Кто послал? Не знаю. Может, такой же зэк, проявивший к нам расположение и предупредивший об отправке. Он не сомневался в том, что, если узнает один, узнают и другие. Щепка могла попасть ко мне случайно. Я немедленно вызвал Жюло с просьбой передать дальше.
Ночью я слышал, как работает наш «телефон». Я обошелся только одним «звонком». Уютно было лежать в кровати. Рисковать больше не хотелось. Перспектива оказаться снова в карцере не привлекала. Сегодня меньше, чем когда-либо.
Тетрадь вторая
На каторгу
Сен-Мартен-де-Ре
В тот вечер Баттон прислал мне три сигареты и записку: «Папийон, я знаю, после отъезда ты вспомнишь меня добром. Я экзекутор, но стараюсь делать меньше зла заключенным. Я согласился работать потому, что у меня девять детей, а на помилование рассчитывать не приходится. Постараюсь его заслужить, не причиняя людям много вреда. Прощай. Счастливого пути! Конвой послезавтра».
И действительно, на следующий день нас собрали в коридоре изолятора, разбив на группы по тридцать человек. Санитары из Кана сделали нам прививки от тропических болезней. Всадили по три укола и дали по два литра молока на человека. Дега стоял рядом и был очень задумчив. Никто больше не обращал внимания на запрет разговаривать, мы твердо знали, что после прививок в карцер не посадят. Вполголоса болтали прямо на глазах у багров, а те помалкивали в присутствии городских санитаров.
Дега сказал мне:
– Как ты думаешь, хватит ли у них «воронков» с клетушками, чтобы забрать всех за один заезд?
– Думаю, что нет.
– До Сен-Мартен-де-Ре далековато. Если брать по шестьдесят, то управятся за десять дней. Нас здесь собралось почти шесть сотен.
– Нам сделали прививки – и это главное. Что это значит? А то, что ты уже в списках и скоро отправляемся. Выше голову, Дега. Для нас начинается новый жизненный этап. Положись на меня так же, как я рассчитываю на тебя.
Дега посмотрел на меня, и я заметил, что его глаза светятся от удовольствия. Его рука легла на мою, и он подтвердил: «На жизнь и на смерть».
О конвое много не расскажешь. Пожалуй, одна деталь достойна упоминания: в автоклетушке было так тесно, что любой мог спокойно задохнуться. Стражники лишили нас последнего глотка свежего воздуха, не позволяя даже чуть-чуть приоткрыть дверцу клетушки-одиночки. Когда мы прибыли в Ла-Рошель, в нашем фургоне оказалось два покойника – умерли от удушья.
На пристани стояли люди, направлявшиеся на остров Сен-Мартен-де-Ре. Они видели этих несчастных, но нельзя сказать, чтобы как-то посочувствовали им. На судно вместе с нами погрузили и трупы, поскольку жандармы обязаны были доставить в цитадель всех заключенных до единого – живых или мертвых.
Плыли по проливчику недолго, но настоящего морского воздуха успели вдохнуть.
– Пахнет побегом, – сказал я Дега.
Он улыбнулся. А Жюло, стоявший рядом, продолжил:
– Да, побегом пахнет. Меня везут туда, откуда я рванул пять лет назад. И сцапали, как последнего дурака, в тот момент, когда я уже готов был разнести всю малину одного Иуды, завалившего меня в небольшом дельце десятилетней давности. Давайте держаться вместе. В Сен-Мартене в камеру суют по десять человек в любом сложившемся ранее порядке, лишь бы ты оказался под рукой.
В одном ошибся Жюло. Когда мы прибыли на место, его и еще двоих первыми выкликнули из строя и отделили от остальных. Все трое в свое время бежали с каторги. Их возвращали обратно уже по второму разу.
Заключенных распределили по камерам по десять человек. Потекла жизнь, полная ожиданий. Разрешалось разговаривать и курить. Кормили хорошо. Приходилось опасаться только за гильзу. Без всяких видимых причин тебя вдруг вызывают, приказывают раздеться и начинают тщательно осматривать. Сначала все тело, даже подошвы ног. Затем команда: «Одеваться!» И снова отправляют туда, откуда ты явился.
Камеры, столовая, тюремный двор, где мы часами маршируем, построенные в одну колонну: «Левой, правой! Левой, правой! Левой, правой!» Маршировали группами по пятьсот узников. Получался длинный-предлинный крокодил, грохочущий деревянными башмаками: трак-трак, трак-так-так. Все разговоры абсолютно запрещены. Затем команда: «Разойдись!» Все садятся на землю, образуя группы по признакам социального происхождения или положения в обществе. Сначала идет настоящий преступный мир: тут, собственно, наплевать, откуда ты взялся – с Корсики, из Марселя, Тулузы, Бретани, Парижа и так далее. Один даже из Ардеша – это я. В отношении Ардеша должен заметить следующее: из тысячи девятисот узников в конвое только двое оказались из Ардеша. Одного вы знаете, а второго сейчас представим: охотничий инспектор, убивший собственную жену. Не правда ли, парни из Ардеша – прекрасные парни? Другие группы формировались более или менее произвольно, потому что на каторгу отправляется все-таки больше простофиль, чем жуликов, и больше обывателей, чем настоящих проходимцев. Те дни ожидания мы окрестили днями наблюдения. И правда, за нами наблюдали со всех сторон и под всевозможными геометрическими углами.
Однажды в полдень я грелся на солнышке. Ко мне подошел человек. Небольшого росточка тощий очкарик. Я хотел определить, при каких обстоятельствах мог его видеть, но в нашей одежде, когда все почти на одно лицо, сделать это крайне затруднительно.
– Тебя зовут Папийон? – Выговор с сильным корсиканским акцентом.
– Допустим. Что надо?
– Пройдем в сортир, – сказал он и двинулся к туалету.
– Это парень с Корсики, – сказал мне Дега. – Определенно бандит с гор. Что ему нужно?
– Собираюсь выяснить.
Я направился к туалетам, находившимся посередине тюремного двора. Вошел туда и сделал вид, что мочусь. Человек стоял рядом в той же позе. Не оборачиваясь, он произнес:
– Я шурин Паскаля Матрá. В комнате свиданий он сказал мне, чтобы я обратился к тебе, если потребуется, от его имени.
– Да, Паскаль мой друг. Что ты хочешь?
– Не могу больше хранить гильзу. У меня дизентерия. Не знаю, кому доверить. Боюсь, что украдут или найдут багры. Прошу тебя, Папийон, поноси несколько дней за меня.
Он показал мне гильзу гораздо больших размеров, чем моя. Я испугался: не устраивает ли он мне ловушку? Весь разговор он завел, положим, для того, чтобы выведать, заряжен ли я. Если я скажу, что вряд ли смогу носить два заряда, вдруг ему того и надо! Не выражая мыслей вслух, я спросил:
– Сколько там?
– Двадцать пять тысяч франков.
Не говоря больше ни слова, я взял гильзу (кстати, тоже очень чистую) и тут же у него на глазах всадил в себя, крайне любопытствуя при этом, смогу ли удержать две. Не было опыта. Я выпрямился, застегнул штаны… все в порядке. Нисколько не беспокоит.
– Меня зовут Игнас Гальгани́, – сказал он, перед тем как уйти. – Спасибо, Папийон.
Я пошел к Дега и наедине рассказал о том, что произошло.
– Не очень тяжело?
– Нет.
– Тогда ладно. Забудем.
Мы пытались по возможности связаться с дошлыми парнями, такими как Жюло или Гиттý, уже совершавшими побег и возвращавшимися обратно. Ужасно хотелось разузнать, как там, какое обхождение с заключенными, что нужно сделать, чтобы тебя не разлучали с приятелем, и прочее. На ловца и зверь бежит, и в данном случае на нас вышел весьма любопытный малый по собственной инициативе. Корсиканец, родился на каторге. Отец там служил надзирателем, проживал с матерью на островах Салю. Сам он родился на Руаяле, одном из трех островов. Название других – Сен-Жозеф и остров Дьявола. По иронии судьбы, он возвращался назад, но уже не в качестве сына надзирателя, а как преступник.
Он схлопотал двенадцать лет за кражу со взломом. Девятнадцатилетний парень – искренность в разговоре, открытое лицо. Мы с Дега сразу поняли, что парня заложили: он имел самое смутное представление о преступном мире. Но он мог оказаться полезным в том смысле, что от него мы могли узнать, что нас ждет впереди. Он расписал нам всю жизнь на островах, где провел четырнадцать лет. Например, рассказал о том, что у него в няньках ходил зэк, крутой мужик, осужденный за драку с соперником на Монмартре из-за белокурой красавицы. Соперника он, конечно, зарезал. Парень дал нам несколько ценных советов: бежать следует с материка, потому что с островов не убегают. И еще: нельзя попадать в списки особо опасных, ибо с этим ярлыком вряд ли удастся ступить на берег в Сен-Лоран-дю-Марони: прежде тебя упрячут – интернируют на несколько лет или пожизненно в соответствии с твоим «послужным списком». В общем, на островах отбывают срок не более пяти процентов заключенных. Другие остаются на материке. На островах здоровый климат, а материк (как уже говорил Дега) грозит большими неприятностями: всевозможные болезни, смерть в самых затейливых формах – убийство и тому подобное.
Мы с Дега надеялись не попасть на острова. Но у меня засосало под ложечкой: а что, если меня уже отнесли к разряду особо опасных? Пожизненный срок, история с Потрошителем и это дело с начальником тюрьмы. Лучше было бы не ввязываться.
Однажды по тюрьме пронесся слух: ни в коем случае не следует обращаться в лазарет – всех слабых и больных, не способных выдерживать морское плавание, отравляют. Конечно же, это была ерунда. Вскоре Франсис Лапасс, парижанин, нас всех успокоил. Да, там умер один тип от яда, но брат Франсиса, работавший в лазарете, объяснил, как это произошло.
Этот тип сам себя приговорил. Он был известнейшим медвежатником, специалистом по взлому сейфов. Говорят, во время войны он обокрал немецкое посольство в Женеве или Лозанне в интересах французской разведки. Оттуда прихватил с собой какие-то очень ценные бумаги и передал французским агентам. Он отбывал пятилетний срок. Полиция выпустила его из тюрьмы специально для этого задания. С тех пор, с 1920 года, он жил тихо, напоминая о себе раз или два в году. И каждый раз, когда его хватали за руку, он начинал свой маленький шантаж, после чего немедленно вмешивались люди из разведки, и дело прекращалось. Но в последнем случае ничего не сработало. Он получил двадцать лет и должен был отправляться с нами. Чтобы избежать погрузки на судно, он прикинулся больным и попал в больницу. По словам брата Франсиса Лапасса, таблетка цианистого калия положила конец его проказам. Содержимому сейфов и службе разведки теперь ничего не угрожало.
Тюремный двор был полон всяческих слухов и историй, правдивых и вымышленных. Мы слушали и то и другое, хоть как-то скрашивая жизнь.
Каждый раз, когда я шел в туалет, будь то во дворе или в камере, Дега следовал за мной из-за гильз. Он вставал спереди и прикрывал меня от излишне любопытных глаз. Гильза – неприятная вещь вообще, а тут еще сразу две: Гальгани не выздоравливал, ему становилось все хуже и хуже. В этом деле я столкнулся с какой-то нелепой загадкой: гильза, заряженная последней, выходила последней, а первая – всегда первой. Как они там переворачивались и менялись местами – ума не приложу. Но именно так и было.
Вчера в парикмахерской во время бритья кто-то пытался убить Клузио. Два удара ножом под самое сердце. Просто чудо, что он не отдал концы. Об этом я услышал от друга Клузио. Довольно-таки запутанная история, когда-нибудь о ней расскажу. Нападение произошло на почве сведения счетов. Сам нападавший, который чуть не убил Клузио, умер в страшных муках через шесть лет в Кайенне. Ему подсыпали в чечевичную кашу соль двухромистого калия. Санитар, помогавший патологоанатому при вскрытии, принес нам показать двенадцать сантиметров кишки. В ней насчитали семнадцать дырок. Через два месяца и его убийцу нашли удавленным на больничной койке. Кто это сделал – неизвестно.
Двенадцать дней, как мы в Сен-Мартен-де-Ре. Крепость набита узниками до отказа. По крепостному валу днем и ночью ходят часовые.
В душевой произошла драка между двумя братьями. Сцепились, как собаки. Одного, по имени Андре Бейяр, водворили в нашу камеру. Его не могут наказать, уверял он меня, потому что власти совершили ошибку: надзирателям было приказано ни под каким видом не позволять братьям встречаться. Когда вы познакомитесь с их историей, то поймете почему.
Андре убил одну старуху, у которой имелись деньжата, а Эмиль, его брат, спрятал краденое. Эмиля накрыли за воровство и дали три года. Однажды, сидя в карцере с другими зэками, он выболтал всю историю: так он разозлился на брата за то, что тот не присылает ему денег на сигареты. Он доберется до Андре, грозился Эмиль, и тут же выложил, как Андре убивал старуху и как он, Эмиль, прятал деньги. Более того, сказал Эмиль, когда он выберется из тюрьмы, то Андре не получит ни су. Один заключенный поспешил донести об услышанном начальнику тюрьмы. События развивались быстро. Андре арестовали, и обоих братьев приговорили к смерти. В блоке для смертников в тюрьме Санте их камеры находились через одну. Каждый подал прошение об отсрочке приведения в исполнение смертного приговора. Эмилю дали отсрочку на сорок три дня, а Андре отказали. Не задаваясь вопросом, какие чувства обуревали Андре при этом, начальство продолжало держать Эмиля в прежней камере по соседству. Более того, их вместе выводили на ежедневную прогулку. На прогулке братья шли друг за другом, позвякивая кандальными цепями.
На сорок шестые сутки в половине пятого утра дверь камеры Андре открылась. В нее вошли начальник тюрьмы, чиновник-регистратор и прокурор, требовавший для Андре высшей меры наказания. Да, это была казнь. Но в тот момент, когда начальник тюрьмы, выступив вперед, собирался заговорить, в камеру вбежал адвокат Андре в сопровождении человека, протянувшего прокурору какую-то бумагу. Горло Андре перехватил спазм, он даже не мог сглотнуть слюну. Возможно ли такое? Ведь казнь, коль она началась, уже не прерывается. И все же ее прервали. Лишь на следующий день, после долгих часов, проведенных в ужасных сомнениях, Андре узнал от адвоката, что непосредственно перед его казнью был убит президент Франции Поль Думер. Сделал это Горгулов. Но Думер умер не сразу. Всю ночь выстоял адвокат перед больницей, предупредив министра юстиции, что если президент умрет до момента казни (между половиной пятого и пятью утра), то он потребует отложить казнь на основании отсутствия главы государства. Думер умер в четыре часа две минуты. Времени как раз хватило, чтобы предупредить Министерство юстиции, вскочить в такси вместе с чиновником, имевшим на руках приказ об отмене казни, но не хватило трех минут, чтобы удержать указанных выше лиц от визита в камеру Андре. Приговоры братьям были смягчены и заменены пожизненной ссылкой на каторжные работы, поскольку в день выборов нового президента адвокат поехал в Версаль и, как только Альбер Лебрен стал президентом, подал ему прошение о замене приговора. Какой президент откажет в смягчении приговора по первому же поданному прошению?
– Лебрен подписал, – сказал Андре, – и вот я жив-здоров, ваш напарник и еду в Гвиану.
Я посмотрел на этого субъекта, сумевшего избежать гильотины, и подумал: «Он прошел через то, что мне и не снилось».
И все же я с ним не подружился. Сама мысль об убийстве несчастной пожилой женщины с целью ограбления переворачивала мне все нутро. Андре всегда везло. Позже он убил своего брата на острове Сен-Жозеф. Свидетелями убийства были несколько заключенных. Эмиль рыбачил и, стоя на скале, ни о чем, кроме своей удочки, не думал. Шум тяжелых волн заглушал остальные звуки. Андре подобрался сзади с толстым трехметровым бамбуковым шестом в руках и толчком в спину спихнул его в море. Место кишело акулами, что и говорить – Эмиль тут же попал им на завтрак. Когда вечером Эмиля не оказалось на вечерней перекличке, его занесли в список пропавших при попытке к бегству. Никто о нем больше не говорил и не вспоминал. Только четверо или пятеро каторжников, собиравших кокосовые орехи на верхнем плато острова, видели, что произошло. Потом, конечно, все узнали об этом, кроме багров. Андре Бейяр ни от кого не услышал об этом ни слова.
За «хорошее поведение» ему предоставили привилегированный статус в Сен-Лоран-дю-Марони. Он получил небольшую отдельную камеру. Однажды Андре что-то не поделил с другим каторжником. Он предательски заманил последнего в свою камеру и убил его, нанеся удар ножом прямо в сердце. Однако его оправдали на основании заявления, что он поступил так в целях самообороны. Позднее, когда каторжные поселения были отменены, он добился помилования, опять-таки по причине «хорошего поведения».
Тюрьма в Сен-Мартен-де-Ре была битком набита арестантами двух совершенно разных категорий: восемьсот или целая тысяча настоящих каторжников и девятьсот ссыльных. Быть каторжником означало совершить что-то серьезное или, по крайней мере, быть обвиненным в каком-то тяжком преступлении. Самое мягкое наказание за это – семь лет каторжных работ, затем срок возрастает и доходит до пожизненного заключения или, как еще говорят, вечного. Замена смертного приговора автоматически означает пожизненное заключение. Ссылка с содержанием под стражей – нечто другое. Если человек имеет три или семь судимостей, его могут выслать. Как правило, это неисправимые воры, и общество, естественно, должно от них защищаться. И все же следует считать постыдным для цивилизованной нации прибегать к такой мере, как ссылка. Все эти мелкие воришки, работающие топорно (уж больно часто попадаются), получившие высылку (а в мое время это было равнозначно пожизненному заключению), не украли за всю свою воровскую карьеру больше десяти тысяч франков каждый. Вот вам пример из набора величайших глупостей, который вам предлагает французская цивилизация: нация не имеет права ни мстить, ни выбрасывать из общества людей, оказавшихся помехой для наработанных поведенческих стереотипов. Их скорее надо перевоспитывать, чем наказывать таким нечеловеческим образом.
Уже семнадцать дней, как мы в Сен-Мартен-де-Ре. Уже известно название судна, которое повезет нас на каторгу, – «Мартиньер». На борт должны подняться тысяча восемьсот семьдесят узников. В то утро восемьсот или девятьсот зэков собрали во дворе крепости. Мы построены в колонны по десять человек и, заполнив все пространство двора, стоим уже час в ожидании. Открылись ворота, и вошли люди в форме, отличной от той, которую мы привыкли видеть на тюремных стражниках. На них были добротные небесно-голубые мундиры военного образца. Не жандармские и не солдатские. На каждом широкий ремень с кобурой и торчащей рукояткой револьвера. Всего человек восемьдесят. У некоторых – нашивки. Загорелые, в возрасте от тридцати пяти до пятидесяти. Те, что постарше, выглядели приветливее, те, что помоложе, ходили грудь колесом и важничали, держась высокомерно. С группой приезжих офицеров появились начальник тюрьмы Сен-Мартен-де-Ре в чине полковника жандармского корпуса, трое или четверо медработников в форме войск, расквартированных на заморских территориях, и два священника в белых сутанах. Жандармский полковник взял рупор и поднес к губам. Мы ожидали, что прозвучит команда «смирно!». Ничего подобного. Он произнес зычным голосом:
– Слушайте все внимательно. С этой минуты вы переходите в ведение Министерства юстиции в лице представителей администрации исправительных учреждений Французской Гвианы с административным центром в городе Кайенне. Майор Баррó, я передаю в ваше распоряжение восемьсот шестнадцать осужденных вместе с поименным списком. Будьте любезны провести проверку наличия состава.
Сразу началась перекличка. «Такой-то, такой-то». – «Здесь». – «Такой-то…» И так далее. Два часа продолжалась перекличка – все оказались на месте. Затем мы видели, как оба начальника обменялись подписями тут же на столике, специально принесенном для этого случая.
У майора Барро было столько же нашивок, сколько и у полковника, только у майора золотые, а у жандармского полковника – серебряные. Майор Барро в свою очередь взял рупор:
– Ссыльные, с этой минуты к вам будут обращаться только так: ссыльный такой-то или ссыльный номер такой-то – соответственно присвоенным номерам. Ссыльные, с сегодняшнего дня вы подпадаете под особую юрисдикцию и правовые нормы, действующие на территории исправительных поселений. Ваши дела будут рассматриваться в особых трибуналах, выносящих окончательное решение в зависимости от тяжести проступка. Все преступления, совершенные на территории поселения, проходят через эти трибуналы с вынесением приговора от тюремного заключения до смертной казни. Дисциплинарные меры воздействия, такие как тюрьма или одиночное заключение, осуществляются, само собой разумеется, в различных учреждениях, принадлежащих администрации. Офицеры, стоящие перед вами, называются надзирателями. При разговоре обращайтесь к ним «месье надзиратель». После приема пищи вам выдадут вещевые мешки, в которых лежит ваша одежда каторжан; кроме того, в вещмешках припасено все необходимое для вас – другого не понадобится. Завтра вы взойдете на борт «Мартиньера». Мы отправляемся вместе. Не падайте духом, покидая Францию: вам будет лучше в местах поселения, чем здесь в одиночке. Можете разговаривать, забавляться, петь и курить. Нет никаких оснований бояться грубого обращения с вами при условии безупречного поведения. Прошу вас оставить выяснение личных отношений до Гвианы. В море соблюдается строжайшая дисциплина. Надеюсь, вы меня поняли. Если среди вас есть такие, которые считают, что по состоянию здоровья не вынесут морского перехода, они могут обратиться в лазарет, где пройдут медицинское освидетельствование у нашего медицинского персонала, сопровождающего конвой. Желаю приятного путешествия.
Церемония закончилась.
– Ну, Дега, что скажешь?
– Папийон, я был прав, когда говорил, что главную опасность следует ожидать со стороны других осужденных, с которыми нам придется столкнуться. А этот пассаж из его речи – «оставить выяснение личных отношений до Гвианы» – говорит о многом. Боже, какие тайные и явные убийства, должно быть, там совершаются.
– Не беспокойся, рассчитывай на меня.
Я встретился с Франсисом Лапассом и спросил:
– Твой брат все еще санитар?
– Да, за ним не числится ничего серьезного. Он на высылке.
– Свяжись с ним побыстрее, попроси у него скальпель. Если надо денег, пусть скажет сколько – я заплачу.
Через два часа у меня уже был хороший стальной скальпель – грозное оружие. Великоват, правда, но это единственный недостаток.
Я направился в центр двора и сел поближе к туалетам. Послал отыскать Гальгани, чтобы возвратить ему гильзу. Но попробуйте отыскать его в кружащейся толпе среди восьми сотен человек, запрудивших двор. С тех пор как мы здесь, не удавалось встретиться ни с Жюло, ни с Гитту, ни с Сюзини.
Преимущество общинной жизни заключается в том, что ты принадлежишь новому обществу, если это только можно было назвать обществом. В нем ты живешь, разговариваешь и становишься частью его. Столько надо сказать, услышать и сделать, что на раздумья не остается ни капли времени. И мне казалось – по мере того как размывались очертания прошлого, постоянно теряя свою важность в сравнении с повседневной жизнью, – что по прибытии на место каторги нужно почти забыть, кем ты был, как и почему там оказался, а сосредоточить внимание на одном – на побеге. Я ошибался, потому что самым важным, всепоглощающим предметом, предметом превыше всего был предмет выживания.
Где они, эти фараоны, члены суда, присяжные заседатели, судьи, жена, отец, друзья? Они остались там же, живые и невредимые, каждый на своем месте в моем сердце; правда, по сравнению с тем огромным эмоциональным напряжением, которое я испытал при отплытии, перед прыжком в неизвестность, по сравнению с новыми дружескими связями и новыми гранями жизни они утратили для меня былое значение. Но это только казалось под воздействием впечатлений. Когда мне хотелось перелистать страницы жизни каждого из них, все они немедленно снова оживали передо мною.
А вот и Гальгани ведут ко мне. Несмотря на толстые, как галька, линзы очков, он едва ли что-нибудь видит. Выглядит лучше. Он подошел ко мне и потряс руку без слов.
– Я хочу вернуть гильзу. Теперь ты в порядке и можешь носить сам. Слишком большая для меня ответственность на предстоящий морской переход. А потом, кто знает, будем ли мы соприкасаться в колонии или даже видеть друг друга. Лучше тебе взять ее обратно.
Гальгани посмотрел на меня с грустью.
– Значит, так, идем в туалет, и я верну ее тебе.
– Нет. Не хочу брать. Держи ее сам – я отдаю ее. Она твоя.
– Почему?
– Не хочу быть убитым за гильзу. Лучше жить без денег, чем кончить с перерезанным горлом. Я отдаю ее тебе, ведь, в конце концов, какой смысл тебе рисковать из-за моих бабок? Уж если рисковать, так за свои.
– Ты напуган, Гальгани. Тебе уже угрожали? Кто-нибудь подозревает, что ты заряжен?
– Да. Трое арабов постоянно ходят за мной. Вот почему я не навещал тебя. Не хотел, чтобы они подозревали о нашей связи. Каждый раз, когда иду в туалет, днем или ночью, один из них идет следом и пристраивается рядом. Не так откровенно, но я дал ясно понять, что не заряжен. Все равно не отстают. Думают, что моя гильза у кого-то другого. Они не знают у кого, поэтому и преследуют, чтобы выведать, когда я получу ее обратно.
Я пристально глядел на Гальгани и видел, что он пребывает в паническом ужасе, действительно замордован преследованием. Я спросил:
– В какой части двора они держатся?
– Там, у кухни и прачечной, – ответил он.
– Ладно, подожди здесь. Я сейчас вернусь. Или нет. Я все обдумал, пойдешь со мной.
В сопровождении Гальгани я отправился к арабам. Вытащил из кепки скальпель и спрятал его в рукаве лезвием вверх, а ручку зажал в ладони. Пересекая двор, я их увидел. Четверых. Трое арабов и корсиканец по имени Жирандо. Оценил ситуацию на месте. Стало ясно, что корсиканец сидит на крючке у этих крутых мужиков и играет роль наводчика. Несомненно, он знает, что Гальгани является шурином Паскаля Матра и что было бы просто невероятным, если бы у него не оказалось гильзы.
– Эй, Мокран, как дела?
– В порядке, Папийон. У тебя тоже?
– Не совсем. Черт побери! Я пришел сказать вам, ребята, что Гальгани мой друг. Если с ним что случится, первым схлопочешь ты, Жирандо. А потом и все остальные. Как вы к этому отнесетесь – вам решать.
Мокран встал. Ростом с меня (метр семьдесят четыре) и в плечах не уступает. Мои слова его завели, и он уже двинулся было на меня выяснять отношения силой, как увидел перед собой блеск новенького скальпеля в моей руке.
– Еще шаг – и убью как собаку!
Его отбросило в сторону. В таком месте, где каждого постоянно обыскивают, а я вооружен! Он был потрясен моей решительностью и длиной лезвия.
– Я встал поговорить, а не драться, – сказал он.
Я знал, что это неправда, но мне было выгодно спасти его честь перед друзьями. Я помог ему выйти из положения.
– Тогда другое дело, если поговорить…
– Я не знал, что Гальгани твой друг. Я думал, что он просто шнырь. Ты же прекрасно знаешь, Папийон, что если у тебя нет ни шиша, то где-то надо раздобыть деньги для побега.
– Разумно. У тебя такое же право бороться за собственную жизнь, Мокран, как и у любого из нас. Только держись подальше от Гальгани, понял? Поищи в другом месте.
Он протянул руку, я ее пожал. Фу! Пронесло! По правде сказать, я бы никогда не выбрался отсюда, если бы пришил этого малого. Немного позже я сообразил, что совершил досадную ошибку. Уходя вместе с Гальгани, я бросил на прощание:
– Не говорите никому об этой шалости, а то старик Дега разнесет меня в пух и прах.
Я попытался убедить Гальгани в необходимости забрать гильзу. Он сказал, что сделает это завтра перед отъездом. На следующий день он так затаился, что мне пришлось отправляться в плавание с двумя гильзами «на борту».
В тот вечер никто из нас – в камере ютилось около одиннадцати человек – не проронил ни слова. У всех в голове крутилась одна и та же мысль: это последний день, который мы проводим на французской земле. У каждого в той или иной мере возникло чувство тоски по дому, по стране, которую мы покидаем навсегда. Впереди нас ждут неизвестная земля и незнакомый образ жизни.
Дега сидел молчаливо рядом с зарешеченной дверью в коридор, где воздух был чуточку посвежее. Я пребывал в полной растерянности. Поступавшая информация была настолько противоречивой, что никто не знал: то ли радоваться, то ли отчаиваться, то ли на все махнуть рукой.
Соседи по камере принадлежали исключительно к преступному миру. За исключением малыша-корсиканца, родившегося в колонии. Все эти люди пребывали в состоянии безразличия. Перед серьезностью и важностью момента они превратились почти в глухонемых. Сигаретный дым клубился и плыл из камеры в коридор, словно облако, а если ты не хотел, чтобы тебе выело глаза, то должен был сидеть ниже этого туманного едкого одеяла. Никто не спал, кроме Андре Бейяра, что для него было вполне естественным как для человека, уже раз почти потерявшего собственную жизнь. Что бы его ни ожидало впереди – это все равно нежданный подарок судьбы.
Перед глазами прошла вся моя жизнь, словно на киноленте: детство в любящей семье, привычный и милый сердцу порядок, мягкое и достойное человека отношение друг к другу, доброта, запах мимозы, расцветавшей каждую весну перед дверью дома, родительский дом, где собиралась семья, – все пронеслось перед глазами. Картина была озвученной. Слышался голос матери, нежный и любящий, голос отца – добрый и участливый, лай охотничьей собаки Клары, зовущей меня в сад поиграть. Мальчишки и девчонки, спутники детства, участники забав моих счастливейших дней. Я совсем не предполагал увидеть этот фильм, но по прихоти подсознания передо мной против моей воли зажегся волшебный фонарь и чудесные кадры заполнили ночь ожидания перед прыжком в великую неизвестность – кадры сладких воспоминаний и чувств.
Настало время разложить все по порядку и наметить схему действий. Итак, мне двадцать шесть, и я в хорошей форме. У меня пять тысяч шестьсот франков, моих собственных, и двадцать пять тысяч, принадлежавших Гальгани, Дега со мной – у него десять тысяч. Казалось, можно было располагать сорока тысячами франков. Сами посудите, если Гальгани не смог хранить свои бабки здесь, то уж на корабле или в Гвиане подавно не сумеет. Да он и сам это знает, поэтому и не спрашивает гильзу. Значит, можно рассчитывать на эти деньги – конечно, взяв Гальгани с собой. Он только выиграет – деньги-то его. Они же пойдут и ему на пользу, и мне хорошо. Сорок тысяч франков – большие деньги. С ними можно найти помощников среди каторжан, ссыльных, поселенцев, отбывших свой срок, и надзирателей.
Пришел к положительному выводу. Как только приедем в Гвиану, надо бежать вместе с Дега и Гальгани. Только на этом и надо сосредоточить внимание. Потрогал скальпель – холодная сталь вызвала приятное ощущение. Она придала мне уверенности. Грозное оружие не подведет. Оно себя уже показало в деле с арабами.
Около трех утра приговоренные к одиночному заключению сложили в кучу одиннадцать вещмешков у зарешеченного входа в камеру. Мешки были набиты битком, и на каждом висела большая бирка. Одну, оказавшуюся между прутьями решетки, удалось прочитать: «С…, Пьер, тридцать лет, рост метр семьдесят три, размер в поясе сорок один, обувь сорок два, номер…» Этим «Пьером С…» был Пьерро Придурок, парень из Бордо, получивший в Париже двадцать лет строгого режима за убийство.
Он, в общем-то, хороший малый, известный в преступном мире своей сдержанностью и прямотой. Я хорошо знал его. Бирка показала мне, насколько четко и организованно работают власти, ответственные за исправительные колонии. Не то что в армии, где обмундирование выдают на глазок. Здесь же – полная опись, и каждый получит вещи своего размера. Через чуть отогнутый верхний клапан вещмешка проглядывала униформа – белая с красными полосками. В такой одежде вряд ли проскочишь незамеченным.
Попробовал вызвать в памяти картинки суда: присяжные, судьи, прокурор. Ничего не получалось. Какие-то общие представления, смутные образы – вот и все. Я понял, что, если хочешь еще раз пережить все события так же ясно, как это было в Консьержери и Болье, ты должен быть совершенно один, наедине с собой. И, уловив это, я почувствовал облегчение и увидел, что предстоящая жизнь в коллективе предъявит другие требования, потребует других действий и других планов.
К решетке подошел Пьерро Придурок и сказал:
– Порядок, Папи?
– А как у тебя?
– Ну, что касается меня, то я всегда мечтал поехать в Америку, но я же играл по-крупному – так и не скопил на поездку. Фараонам взбрело в голову сделать мне подарок. Ты же не можешь это отрицать, Папийон.
Он говорил естественно, без всякого хвастовства. Чувствовалось, что он уверен в себе.
– Бесплатный проезд в Америку за счет фараонов – это, сам понимаешь, кому только рассказать. Лучше прокатиться в Гвиану, чем отстучать пятнадцать лет в одиночке во Франции.
– Сойти с ума в камере или отбросить концы в карцере во Франции даже хуже, чем сдохнуть от проказы или желтой лихорадки. Я так полагаю!
– Совершенно нечего добавить, Папийон.
– Посмотри, Пьерро, это твоя бирка.
Он наклонился и внимательно стал читать, потом медленно, членораздельно произнес каждое слово:
– Не терпится переодеться. Не вскрыть ли мешок – а кто чего скажет? В конце концов, они же для меня старались.
– Оставь мешок, – когда скажут, тогда и откроешь. Не время нарываться на неприятности, Пьер. Надо обдумать все тихо и спокойно.
Он понял, что я имел в виду, и отошел от решетки.
Луи Дега посмотрел на меня и сказал:
– Это наша последняя ночь, малыш. Завтра нас увезут из прекрасной Франции.
– Наша прекрасная страна, Дега, не имеет такой же прекрасной системы правосудия. Может, нам предстоит узнать страны не столь красивые, но такие, где обращаются несколько человечнее с людьми, которые поскользнулись.
Тогда я не думал, что был так недалек от истины. Будущее действительно показало, что я был сто раз прав. Снова наступила полная тишина.
Отъезд
Шесть часов утра – и все пришло в движение. Заключенным принесли кофе. Затем появились четверо надзирателей. Сегодня они в белой форме, при револьверах. Безукоризненно-белые кители и начищенные до золотого блеска пуговицы. У одного красовались три шеврона на левом рукаве, на плечах – ничего.
– Ссыльные, на выход в коридор! Строиться по двое. Разобрать вещмешки со своими бирками. Подойти к стене. Стоять спиной к стене, лицом к проходу. Вещмешки поставить перед собой.
Двадцать минут потребовалось на построение. Стоим шеренгой с вещмешками у ног.
– Раздеться! Скатать вещи, положить на блузы, перевязать рукавами – очень хорошо. Эй, ты там, взять узлы и перенести в камеру… Одеваться! Берите нижнюю рубашку, кальсоны, полосатые штаны, куртку, ботинки и носки. Оделись?..
– Да, месье надзиратель.
– Так. Шерстяной свитер вынимается из вещмешка только в случае холодной погоды или дождя. Мешки на левое плечо – взять! В две колонны становись! За мной – марш!
Небольшой отряд – с сержантом во главе, двумя стражниками по бокам и одним сзади – двинулся на выход. Через два часа во дворе тюрьмы стояли в строю восемьсот десять человек. От этой массы отделили сорок человек, в числе которых оказались мы с Дега и трое из бывших в бегах – Жюло, Гальгани и Сантини. Нас построили в колонны по десять человек, за каждой колонной – надзиратель. Ни цепей, ни наручников. На расстоянии трех метров спереди десять жандармов. У них винтовки, стволами направленные в нашу сторону. Жандармы идут пятясь и держа друг друга за портупею.
Большие ворота цитадели открылись, и мы медленно двинулись вперед. Как только первая шеренга вышла из крепости, появились еще жандармы для усиления охраны. У них винтовки и автоматы. Они держат шаг в двух метрах от первых конвоиров, другие жандармы оттесняют огромную толпу, собравшуюся проводить нас на каторгу. На полпути к пристани я услышал тихий свист, идущий из окна одного дома. Бросив взгляд в том направлении, я заметил в окне мою жену Ненетту и друга Антуана. В другом окне были жена Дега Пола и его приятель Антуан Жилетти́. Дега тоже их видел. Так мы и шли, задрав головы и уставившись на окна, пока это было возможно. Это был последний раз, когда мы виделись с женой и Антуаном. Мой друг погиб позже во время воздушного налета на Марсель. Никто не разговаривал. Полная тишина. Ни оставшиеся узники, ни надзиратели, ни жандармы – никто из толпы не решился нарушить безмолвие тягостного момента, душераздирающей минуты, когда каждый знал, что тысяча восемьсот человек вот-вот исчезнут навсегда из жизни.
Поднялись на борт. Первых сорок, то есть нас, водворили в нижний трюм – в клетку с толстыми железными прутьями. Клетка маркирована табличкой, на ней написано: «Помещение № 1. Сорок человек. Категория усиленного режима. Строжайшее круглосуточное наблюдение». Каждый из нас получил скатанную подвесную койку. На ней до черта колец для подвески. Кто-то схватил меня за руку – Жюло. Ему здесь все было знакомо, поскольку уже приходилось плавать десять лет назад. Он знал, как обустроиться.
– Сюда, быстро. Повесь мешок, где собираешься навесить койку. Вот местечко рядом с двумя задраенными иллюминаторами, но их откроют в море. Здесь дышать будет полегче, чем в другом месте.
Я представил ему Дега. Разговорились. В этот момент в нашу сторону направился один малый. Жюло рукой преградил ему дорогу:
– Не суйся сюда, если хочешь добраться живым до колонии. Усек?
– Да.
– Знаешь почему?
– Да.
– Вали отсюда.
Парень ушел. Дега просиял при виде такой демонстрации силы.
– С вами, ребята, я буду спать спокойно.
– Здесь ты в большей безопасности, чем на вилле, где открыто лишь одно окно, – ответил Жюло.
Морское плавание длилось восемнадцать суток. И только раз пришлось поволноваться. Среди ночи нас разбудил жуткий пронзительный крик. Убили одного чудака. Длинный нож торчал в спине между лопатками. Удар нанесли снизу вверх, нож прошил сначала койку, а потом человека. Страшное оружие. Лезвие ножа двадцать сантиметров. Немедленно двадцать пять или тридцать стражников направили на нас револьверы и винтовки. Раздалась команда:
– Всем раздеться! Живо!
Все разделись. Я понял, что будет обыск. Голой правой ногой наступил на скальпель, перенеся центр тяжести на левую, ибо скальпель впивался в подошву. В клетку вошли четыре стражника и стали наводить шмон, проверяя одежду и обувь. Перед тем как войти, они сняли с себя оружие. Дверь за ними закрыли, но другие, снаружи, смотрели в оба, держа нас на прицеле.
– Первый, кто шелохнется, – покойник! – раздался голос старшего надзирателя.
При обыске обнаружили три ножа, два длинных, остро заточенных стропильных гвоздя, штопор и золотую гильзу. Шестерых, голых, вывели на палубу. Появился начальник конвоя майор Барро в сопровождении двух врачей и капитана корабля. Когда багры вышли из клетки, мы оделись, не дожидаясь приказа. Скальпель я подобрал.
Стражники отошли к дальнему краю палубы. В центре стоял майор Барро, как бы среди дружеской компании офицеров. Перед ним навытяжку стояли шестеро в чем мать родила.
– Это его, – сказал проводивший обыск багор, держа нож и указывая на владельца.
– Точно. Мой.
– Так, – сказал Барро, – дальше поедет в камере над машинным отделением.
Каждый, на кого указывал надзиратель, подтверждал свою виновность за провоз то ли гвоздя, то ли штопора, то ли ножа. Их, голых, по одному уводили вверх по лестнице два стражника. На палубе остались лежать один нож и золотая гильза, против которых стоял один человек. Он был молод, лет двадцати трех или двадцати пяти, хорошего сложения. Рост под метр восемьдесят, атлет, голубоглазый.
– Твоя? – спросил надзиратель, показывая на золотую гильзу.
– Да, моя.
– Что в ней? – спросил майор Барро, взяв гильзу в руки.
– Триста фунтов стерлингов, двести долларов и два бриллианта по пять карат.
– Посмотрим.
Майор открыл гильзу. Его обступили другие, заслонив от нас. Мы не видели, что происходило, но слышали, как он сказал:
– Верно. Имя?
– Сальвидиа Ромео.
– Итальянец?
– Да, месье.
– За гильзу наказывать не будем – только за нож.
– Простите, но нож не мой.
– Не говори глупостей, – вмешался багор, – я нашел его в твоем ботинке.
– Я повторяю – нож не мой.
– Значит, я лгу?
– Нет. Вы просто ошибаетесь.
– В таком случае чей же? – спросил майор Барро. – Если не твой, то чей-то.
– Не мой, вот и все.
– Если не хочешь попасть в изолятор – а ты там изжаришься, потому что он над котлом, – то скажешь, чей это нож.
– Не знаю.
– Не делай из меня дурака! Нож нашли в твоем ботинке, а ты не знаешь, чей он? Не принимаешь ли ты меня за идиота? Либо он твой, либо ты знаешь чей. Говори.
– Не мой и не мне говорить, чей он. Я не доносчик. Я не давал вам повода думать о себе, что я такой же позорник, как какой-нибудь тюремный офицер, разве не так?
– Стража! Наручники! Ты дорого заплатишь за проявление недисциплинированности.
Два старших офицера, капитан корабля и начальник конвоя, поговорили между собой. Капитан отдал распоряжение старшине-рулевому, тот ушел. Через некоторое время появился здоровенный матрос-бретонец с деревянным ведром, полным морской воды, и канатом с руку толщиной. Осужденного поставили на колени у нижней ступеньки лестницы и привязали. Матрос смочил канат в ведре и изо всей мочи принялся пороть бедолагу по спине, почкам и ягодицам. Тот не издал ни звука. Человек на глазах превращался в кровавое месиво. Крик, раздавшийся в нашей клетке, оборвал кладбищенскую тишину:
– Погань! Шайка мерзавцев!
Все только того и ждали, чтобы подхватить и заорать:
– Убийцы! Свиньи! Ублюдки!
Чем больше нам угрожали открыть огонь, если не замолчим, тем сильнее мы драли глотки, пока вдруг капитан не крикнул:
– Пустить пар!
Матросы открыли вентили, и струи пара с силой ударили в нас. В доли секунды мы распластались, прижавшись животом к полу. Струи проходили на уровне груди. Вспыхнула паника. Ошпаренные не смели кричать. Все это продолжалось не более минуты, но страх успел пронять каждого до печенок.
– Надеюсь, скоты упрямые, вы поняли, что я имел в виду. Малейший беспорядок – и я включу пар. Дошло? Встать!
Серьезно обварились лишь трое. Их отправили в лазарет. Высеченного бедолагу снова водворили в нашу клетку. Шесть лет спустя он умер во время нашего совместного побега.
В продолжение всех восемнадцати дней плавания времени было предостаточно, чтобы уяснить себе, что нас ожидает, или хотя бы иметь некоторое представление о каторге. И все же, когда мы попали туда, ничего похожего не обнаружили, хотя Жюло делал все от него зависящее, чтобы передать нам свои знания.
Мы уже знали, что Сен-Лоран-дю-Марони – это деревня, расположенная в ста двадцати километрах от моря на реке Марони. Жюло рассказывал:
– В деревне тюрьма, это центр исправительной колонии. Там вас рассортировывают по категориям. Ссыльные прямиком направляются в исправительную тюрьму Сен-Жан в ста пятидесяти километрах от Сен-Лорана. Каторжники делятся на три группы. Первая – особо опасные; сразу же по прибытии их отделяют и рассовывают по камерам изолятора, пока не переведут на острова Салю. Там их интернируют до конца срока или пожизненно. Эти острова находятся в пятистах километрах от Сен-Лорана и в ста от Кайенны. Три острова: Руаяль, самый большой – Сен-Жозеф, где находится каторжная тюрьма с камерами-одиночками, и остров Дьявола – самый маленький. За редким исключением, каторжников на остров Дьявола не посылают. Там политические. Вторая группа – опасные. Они остаются в лагере Сен-Лоран, их используют на полевых работах и в огородничестве. Где потребуется рабочая сила, туда их и гонят. Живут в лагерях строгого режима: «Кам Форестье», «Шарвен», «Каскад», «Крик Руж» и «42-й километр». Этот последний называют еще лагерем смерти. Третья, обычная, группа используется на работах в конторах и на кухнях, убирает деревню и зону. Их посылают на такие работы, как столярные, малярные, кузнечные, работы по электрике, по изготовлению матрацев, портняжные, прачечные и прочие. Нулевой час начинается с момента прибытия. Если тебя отделяют и запирают в камере, это значит, что тебя интернируют на острова – и прощай все надежды на побег. Есть только один шанс – членовредительство. Быстро вскрой колено или живот, чтобы попасть в больницу и оттуда бежать. Делается все, чтобы не попасть на острова. Еще одна надежда: если судно, на котором интернированных везут на острова, не готово к отплытию, можно предложить деньги санитару. Он сделает укол скипидара в какой-нибудь сустав или протянет через порез пропитанный в моче волос, чтобы он загноился. А еще он может дать вдохнуть серу, а потом скажет врачу, что у тебя признаки лихорадки и температура сорок. За эти несколько дней надо любой ценой попасть в больницу.
Если тебя не отделят, но оставят с остальными в зоне в бараках, то надо подумать о работе. Если так случится, то не следует искать работу в зоне. Надо подмазать нарядчика, чтобы он определил тебя мусорщиком или уборщиком в деревню или за нее – на лесопилку. Выход на работу и возвращение каждый вечер в зону дает возможность вступать в контакт с зэками, уже отбывшими срок и проживающими в деревне, или с китайцами, чтобы они приготовили все для побега. Старайтесь не попадать в лагеря за деревней. В них быстро загнешься. Есть такие, где не выдерживают больше трех месяцев. Там, на лесных делянках, заставляют каждый день рубить кубометр древесины.
За время морского перехода Жюло постоянно выдавал нам эту ценную информацию. Сам он уже приготовился. Он знал, что его непременно отправят за побег в изолятор. Поэтому у него в гильзе было спрятано лезвие – не больше лезвия перочинного ножа. Он собирался по прибытии вскрыть себе колено. Спускаясь по сходням, он упадет у всех на виду, полагая, что сразу с причала его отправят в больницу. Действительно, так и произошло.
Сен-Лоран-дю-Марони
Стражники меняют форму. По очереди выходят и возвращаются в белой одежде, и вместо кепи на голове белый пробковый тропический шлем. Жюло сказал: «Подплываем». Стало невыносимо жарко: задраили иллюминаторы. Через стекла виднеется буш[5]. Значит, мы вошли в реку Марони. Вода мутная. Нетронутый девственный лес, зеленый и впечатляющий. Вспугнутые гудком судна, в небе летают птицы. Идем медленно, что позволяет разглядеть густую темно-зеленую пышную растительность. Увидели и первые деревянные дома под крышами из оцинкованного железа. Чернокожие мужчины и женщины стоят у дверей и наблюдают за проходящим судном. Они настолько привычны к перевозкам живого груза, что никогда не удосуживаются помахать вслед. Три гудка и характерный звук от торможения винтом указали на прибытие. Затем – стоп машина. Ни звука – слышно, как жужжит муха.
Никто не разговаривал. Жюло открыл нож и принялся за штаны у колена. Затем он разлохматил края разреза, и стало похоже, что штаны порваны. Само колено он решил вскрывать только на палубе, чтобы не оставить следов крови. Стражники открыли дверь клетки и построили нас по трое. Мы оказались в четвертой шеренге: я и Дега по бокам, Жюло между нами. Поднялись на палубу. Два часа пополудни. Раскаленное солнце обожгло остриженную голову и ослепило глаза. На палубе разобрались, подровнялись и двинулись к сходням. В тот момент, когда первый ступил на сходни, и произошла коротенькая заминка, я придержал вещмешок Жюло на его левом плече, не позволяя ему свалиться, а он в это время обеими руками растянул кожу на колене, вогнал туда нож и одним махом рассадил колено. Рана семь-восемь сантиметров. Он передал мне нож, уже сам придерживая мешок. Как только наши ноги коснулись трапа, он упал и покатился вниз до самого конца. Его подняли и, выяснив, что он поранился, вызвали людей с носилками. Все произошло так, как он и намечал: его положили на носилки и унесли.
Пестрая толпа наблюдала за нами с некоторым любопытством. Негры, мулаты, индейцы, китайцы, изредка белые (несомненно, бывшие каторжники) внимательно разглядывали каждого ступавшего на землю и пристраивавшегося к задним рядам. По другую сторону – надзиратели, люди в цивильной одежде, женщины в летних платьях и дети. На головах у всех защитные шлемы. Им тоже интересно поглядеть. Когда на берег сошло сотни две, колонна двинулась. Шагали минут десять, пока не подошли к высоким воротам из массивных балок, на которых было написано: «Исправительная тюрьма Сен-Лоран-дю-Марони. Вместимость 3000 человек». Ворота открылись, и мы вошли шеренгами по десять человек. «Раз-два! Раз-два!» Довольно много каторжников наблюдало за нашим появлением. Они прилипли к окнам или стояли на больших камнях, чтобы лучше разглядеть.
Когда мы были уже в центре двора, последовала громкая команда:
– Стой! Перед собой мешки сложить!
Нам выдали соломенные шляпы. Очень кстати: двое или трое уже свалились от солнечного удара. Мы с Дега переглянулись – перед нами стоял багор с нашивками, в руках он вертел список. Вспомнили, о чем говорил нам Жюло. Началась перекличка.
– Гитту!
– Здесь!
Два стражника отвели его в сторону. То же произошло с Сюзини и Джиразоло.
– Жюль Пинар!
– Жюль Пинар (это наш Жюло) получил травму. Отправлен в больницу.
– Хорошо.
Это «кадры» для отправки на острова. Надзиратель продолжал:
– Слушайте внимательно. Каждый, чье имя я назову, выходит из строя с вещмешком на плече и направляется на построение вон к тому желтому бараку номер один.
Перекличка продолжается. «Такой-то и такой-то». – «Здесь», – и так далее. Дега, Карье и я оказались в строю перед желтым бараком. Открылась дверь, и мы вошли в прямоугольную комнату длиной метров двадцать. Посередине по всей длине комнаты проход метра два шириной; с обеих сторон железная арматура, между ней и стенкой нацеплены подвесные койки, на койках сложены одеяла. Каждый выбрал себе место. Дега, Пьерро Придурок, Сантори, Гранде и я устроились рядом. Разбились все по небольшим группам. Я прошел в глубину комнаты: душевые справа, туалеты слева, воды нет.
Прибывали остальные, сходившие с судна последними, и мы наблюдали за ними, прильнув к зарешеченным окнам. Луи Дега, Пьерро Придурок и я были довольны, что оказались в обычном бараке. Это могло означать, что нас не собираются интернировать. Иначе нас сразу бы упрятали в камеры, как говорил Жюло. Так мы радовались до пяти часов. Но все кончается. Гранде заметил:
– Забавно, почему никого не интернировали? Странно. Хотя меня устраивает.
Гранде в свое время обчистил сейф в центральной тюрьме. Вся Франция помирала со смеху.
В тропиках день и ночь сменяются без сумерек. Был день – и сразу ночь. И так круглый год. Только было светло, как вдруг в половине шестого наступила ночь. В половине же шестого два каторжника принесли две керосиновые лампы и подвесили их на крюки в потолке. Комната тускло осветилась на четверть. Остальная ее часть так и оставалась в темноте. К девяти уже все спали. Возбуждение от приезда прошло, а жара сморила ко сну. Воздух спертый. Все раздеты до кальсон. Моя койка между Дега и Пьерро Придурком. Немного пошептались – и заснули.
Было еще темно, когда на следующее утро протрубил горн. Все встали, умылись, оделись. Принесли кофе и по пайке хлеба. На стене висела полка для хлеба, кружек и других принадлежностей. В девять в комнату вошли два надзирателя. Их сопровождал молодой зэк в белой форме без нашивок. Оба багра были корсиканцы и со своими разговаривали на родном языке.
Санитар обошел комнату. Когда он поравнялся со мной, то сказал:
– Привет, Папи. Не узнаешь?
– Нет.
– Сьеррá-алжирец. Встречались с тобой в Париже у Данта.
– О да. Узнаю. Но тебя выслали в двадцать девятом, а сейчас тридцать третий. Почему ты еще здесь?
– Да. Отсюда скоро не выберешься. Скажись больным. Кто этот парень?
– Дега, мой приятель.
– Я вас обоих запишу к врачу. Папи, у тебя дизентерия. А у тебя, отец, приступы астмы. Я вас встречу в медпункте в одиннадцать. У меня к вам разговор.
Он продолжил обход, выкрикивая: «Кто еще болен?» – и подходил к тем, кто поднимал руки, занося их в список. Когда он вернулся, с ним был надзиратель, пожилой загорелый мужчина.
– Папийон, позволь представить тебе моего начальника. Мединспектор Бартилони. Месье Бартилони, об этих приятелях я вам докладывал.
– Хорошо, Сьерра, увидимся в медпункте. Можете рассчитывать на меня.
В одиннадцать за нами пришли. Девять человек сказались больными. Шли через зону среди бараков к самому новому, единственному окрашенному в белый цвет зданию. На нем красовался красный крест. Когда вошли в приемную, там уже толпилось человек шестьдесят. В каждом углу по два надзирателя. Появился Сьерра в новеньком медицинском халате. Он сказал: «Ты, ты и ты. Входите». Мы вошли в комнату, вероятно кабинет врача. Сьерра заговорил с третьим, пожилым человеком, по-испански. Я сразу признал в нем Фернандеса-испанца. Это он убил трех аргентинцев в Париже в кафе «Мадрид». Перебросившись несколькими словами, Сьерра проводил его в комнату, сообщавшуюся с кабинетом, и вышел к нам.
– Папи, дай мне тебя обнять. Буду рад сделать для вас доброе дело. Вы оба в списке на интернирование… Подожди, дай закончить. Ты пожизненно, а Дега на пять лет. Деньги есть?
– Да.
– Тогда давай пятьсот франков одной купюрой, и завтра утром вас направят в больницу. У тебя дизентерия. А ты, Дега, постучи ночью в дверь, нет, лучше кто-то другой вызовет надзирателя и потребует санитара, потому что у тебя разыгрался острый приступ астмы. Остальное – моя забота. Только прошу тебя об одном, Папийон, дай знать, когда тебя прочистят: я буду там, где надо, в нужный момент. В больнице тебя смогут продержать месяц. Сто франков в неделю. Нельзя терять времени.
Фернандес вышел из туалета и на наших глазах передал Сьерра пятьсот франков. Пошел и я. Вернулся и отдал не тысячу, а полторы. Сьерра вернул мне пятьсот, а я не стал настаивать.
– Эти бабки для багра. Мне ничего не нужно от вас. Ведь мы друзья, не так ли?
На следующий день Дега, Фернандес и я оказались в огромной больничной камере. Дега увезли туда в полночь. Ответственным санитаром по комнате был тридцатипятилетний малый по имени Шаталь. Он все знал о нас троих от Сьерра. Перед обходом врача он профессионально объяснил мне, как нужно себя вести при явных симптомах поражения дизентерией. За десять минут до проверки он зажег небольшой кусочек серы и дал Дега подышать газом под полотенцем. У Фернандеса страшно распухло лицо: он проколол щеку изнутри и бил по ней так усердно в течение часа, что опухоль закрыла и глаз. Палата располагалась на втором этаже, в ней лежало около семидесяти пациентов, многие с дизентерией. Я спросил Шаталя о Жюло.
– В здании напротив. Надо что-то передать?
– Да. Скажи ему, что Папийон и Дега здесь. Попроси его показаться в окне.
Санитар мог прийти и уйти, когда ему заблагорассудится. Стоило только постучать в дверь палаты – и ее тут же открывали. Делал это один араб-тюремщик, сам заключенный, но служивший помощником надзирателей. У двери справа и слева стояли стулья, на которых сидели три стражника с винтовками на коленях. Брусья на окнах были сделаны из железнодорожного рельса. «Как через них проберешься?» – подумалось мне. Я сел на подоконник.
Между нашим зданием и зданием Жюло протянулся сад, в котором было полно прелестных цветов. Жюло появился в окне. В руке у него грифельная доска, на ней мелом выведено слово «БРАВО». Через час санитар принес от него записку: «Стараюсь перейти в вашу палату. Если не удастся, попробуйте перебраться в мою. Дело в том, что в вашей палате у вас есть враги. Похоже, вас интернируют. Не унывайте: мы их перехитрим».
Мы с Жюло были в очень близких отношениях с того случая в Болье, где оба и пострадали. Жюло выходил на дело с деревянным молотком, за что и получил прозвище Молотобойца. Бывало, средь бела дня он подъезжал на машине к ювелирному магазину, когда лучшие драгоценные изделия красовались на витрине в своих изящных коробочках. Кто-то оставался в машине за рулем, мотор не глушился. Жюло выскакивал из машины, одним ударом молотка разносил витрину, сгребал коробки с драгоценностями, сколько мог удержать, нырял в машину, и та срывалась с места под визг колес. Он проделал это в Лионе, Анжере, Туре, Гавре, затем совершил налет на большой парижский магазин в три пополудни и взял драгоценностей почти на миллион. Он никогда не рассказывал, как и почему его вычислили. Его приговорили к двадцати годам, но он бежал в конце четвертого. И как он рассказывал нам, его снова арестовали в Париже: он разыскивал скупщика краденого, чтобы убить его. Этот скупщик не отдавал сестре Жюло огромную сумму денег, которую задолжал последнему. Скупщик увидел, как Жюло крадется по улице, и дал знать полиции. Жюло схватили и снова отправили в Гвиану вместе с нами.
Уже неделя, как мы в больнице. Вчера я дал Шаталю двести франков – недельный взнос за двоих. В целях завоевания популярности мы делились табаком с теми, у кого нечего было курить. Некий Карорá, крутой шестидесятилетний малый из Марселя, подружился с Дега и стал его советчиком. Много раз в день он говорил ему, что, если у Дега порядочно денег и об этом узнают в деревне (французские газеты дают информацию о всех крупных аферах), тогда лучше не пускаться в бега, потому что освобожденные убьют его из-за гильзы. Дега поведал мне о разговоре с Карора. Тщетно пытался я доказать, что не стоит полагаться на старого чудака, он здесь отсидел двадцать лет и никуда не двинулся. Но Дега не обращал внимания на мои доводы. Он находился под большим впечатлением от рассказов Карора, и мне с трудом удавалось хоть как-то поддерживать его дух.
Я послал Сьерра записку с просьбой о встрече с Гальгани. Он не замедлил с ответом. На следующий день Гальгани оказался в больнице, но в палате без решеток. Надо было как-то решать вопрос о возвращении ему гильзы. Я сказал Шаталю, что для меня крайне необходимо поговорить с Гальгани, давая понять, что мы готовим побег. Он пообещал привести его ровно без пяти двенадцать. При смене караула он проведет его на веранду, и мы поговорим через окно. За это ему давать ничего не надо. В полдень Гальгани стоял у окна, и я тут же передал ему гильзу. Он стоял передо мной и рыдал. Через два дня мне переслали от него журнал с пятью банкнотами по тысяче франков и запиской с одним словом: «Спасибо».
Шаталь передал мне журнал. Он видел деньги, но ни о чем не напомнил. Я хотел дать ему определенную сумму. Он наотрез отказался. Я сказал:
– Мы собираемся рвать отсюда. Пойдешь с нами?
– Нет, Папийон. Я связан обязательством. В течение пяти месяцев и думать не могу о побеге, пока не освободится мой приятель. Будет время лучше подготовиться и больше шансов. Я понимаю, вам грозит интернирование, и вы должны спешить. Но выбраться отсюда из-за этих решеток будет чрезвычайно тяжело. На меня не рассчитывайте: не хочу рисковать работой. Здесь я смогу переждать спокойно, пока не освободится друг.
– Хорошо, Шаталь. Лучше сказать прямо. Я больше не буду говорить с тобой об этом.
– И все же, – сказал он, – я буду передавать твои записки и приносить ответы.
– Спасибо, Шаталь.
Ночью мы слышали пулеметные очереди. На следующий день узнали, что сбежал Молотобоец. Спаси его, Господь. Хороший был друг. Должно быть, подвернулся шанс, и он его не упустил. Тем лучше для него.
Через пятнадцать лет, в 1948 году, я попал на Гаити с одним миллионером из Венесуэлы. Мы собирались подписать контракт с владельцем казино на организацию игорного бизнеса в их краях. Однажды ночью я вышел из кабаре, где мы пили шампанское, и одна девушка, сопровождавшая нас, черная как смоль, но с хорошими манерами французской провинциалки, сказала:
– Моя бабушка, жрица водý[6], живет с одним старым французом. Он совершил побег из Кайенны. Живет с нами уже пятнадцать лет и почти всегда пьяный. Его зовут Жюль Молотобоец.
Я моментально протрезвел.
– А ну-ка, вези меня к бабушке, да поскорей.
Она переговорила с таксистом-гаитянцем на местном жаргоне, и он помчался. Проезжали мимо ночного бара, продолжавшего работать и светившегося огнями. Остановились. Я зашел в бар и купил бутылку перно, две шампанского и две рома местного производства. Двинулись дальше. Подъехали к небольшому опрятному белому домику под красной черепичной крышей. Прямо у моря. Море почти лизало ступени крыльца. Девушка постучала, потом еще раз, и к нам вышла крупная чернокожая женщина, совершенно седая. На ней был длинный, просторный, свободно запахивающийся халат. Обе женщины перебросились несколькими словами по-своему, и первая сказала:
– Входите, месье. Вы у себя дома.
Газовая лампа освещала опрятную комнату, полную птиц и рыбок.
– Вы к Жюло? Он сейчас выйдет. Жюль! Жюль! К тебе пришли.
Появился старик, босой и в голубой пижаме в полоску, напоминавшей мне тюремную униформу.
– Снежок, да кто же это ко мне в такой поздний час? Папийон! Нет! Ну просто не верится!
Он обхватил меня руками.
– Подвинь-ка лампу, Снежок. Дай хорошенько рассмотреть моего старого приятеля. Верно! Он! Кто, как не он! Проходи! Проходи! Добро пожаловать, добро пожаловать! Эта ночлежка, мои бабки, которых негусто, и внучка моей старухи – все твое. Скажи только слово.
Пили перно, пили шампанское и ром, и время от времени Жюло затягивал:
– А скажи, Папи, правда мы их надули в конце концов? Пришлось хлебнуть сполна. Возьми меня: прошел Колумбию, Панаму, Коста-Рику и Ямайку. И вот почти пятнадцать лет, как я здесь. Я счастлив со Снежком. Такую женщину надо поискать! Когда уезжаешь? Надолго сюда?
– Нет. На неделю.
– Что привело?
– Хочу взять казино по контракту с президентом.
– Брат, я был бы безумно рад, если бы ты остался со мной до конца своих дней. Оставайся. Здесь неплохая глушь, черт побери. Но если у тебя дела с президентом, то вот тебе мое слово: не связывайся с ним. Он подошлет к тебе убийц сразу же, как только увидит, что дела твоего предприятия пошли в гору.
– Спасибо за совет.
– Эй, Снежок! Станцуй-ка нам свой шаманский танец. Учти, для моего друга, а не для туристов. Чтоб настоящий, понимаешь?
При случае я расскажу об этом потрясающем танце не для туристов.
Итак, Жюло сбежал, а мы остались: Дега, Фернандес и я, грешный. То и дело украдкой поглядываю на окно. Решетка из настоящих рельсов – глухо, ничего не поделаешь. Остается одна возможность – через дверь. Днем и ночью у нее три вооруженных охранника. После побега Жюло режим охраны усилен. Обход патрульными нарядами стал проводиться чаще. Врач уже не так дружелюбен. Шаталь появляется в палате два раза в день, чтобы сделать уколы и измерить температуру. Прошла вторая неделя, я заплатил еще двести франков. Дега говорил о чем угодно, только не о побеге. Вчера он увидел мой скальпель и сказал:
– Все еще хранишь? Зачем?
– Да чтоб спасти свою шкуру и твою тоже, если понадобится, – сердито ответил я.
Фернандес оказался не испанцем, а аргентинцем. Малый он был что надо, но болтовня старого Карора отразилась и на нем. Однажды я услышал, как он говорит Дега:
– На островах климат лучше, не то что здесь. И не так жарко. Тут ты можешь подцепить дизентерию прямо в палате. Пойдешь в сортир – и там микробы.
Из семидесяти пациентов, лежавших в нашей палате, один-двое ежедневно умирали от дизентерии. И что интересно: умирали они во время отливов – в полдень или вечером. Ни один не умер утром. Причина? Одна из загадок природы.
Вечером у меня с Дега состоялся крупный разговор. Я сказал ему, что иногда араб-тюремщик совершает глупость: ночью входит в палату и принимается стаскивать простыни с тяжелобольных, укрывшихся с головой. Мы могли бы вырубить его и воспользоваться одеждой (у нас были только рубашки и сандалии – вот и все). Переодевшись, я мог бы выйти из палаты, вырвать винтовку у одного из багров, под прицелом затолкать их в камеру и запереть дверь. Затем мы перемахнули бы через стену больницы со стороны Марони, бросились бы в воду и поплыли бы по течению. А потом нам стало бы ясно, что делать дальше. Поскольку у нас были деньги, мы могли бы купить лодку и провизию, чтобы удрать морем. Фернандес и Дега отклонили мой план, даже раскритиковали. Я понял, что они боятся. Меня охватило горькое разочарование. А дни проходили.
Без двух дней уже три недели, как мы здесь. Осталось десять на размышление, или в крайнем случае пятнадцать. Сегодня 21 ноября 1933 года – незабываемый день. В палату вошел Жоан Клузио – человек, которого пытались убить в тюремной парикмахерской на Сен-Мартен-де-Ре. Глаза у него сильно гноились и были почти закрыты. Я подошел к нему, как только удалился Шаталь. Он быстро рассказал мне, что всех, кто был записан на интернирование, уже отправили на острова две недели назад, а его проглядели. Три дня назад один нарядчик научил его, что надо делать. В оба глаза положил по касторовому зернышку – и вот он в больнице с загноением глаз. Ему страшно хотелось бежать. Сказал, что готов на все, даже на убийство, но выберется отсюда во что бы то ни стало. У него имелось три тысячи франков. Когда глаза ему промыли теплой водой, он стал видеть прекрасно. Я изложил свой план побега. План понравился, но он засомневался, что мы вдвоем сумеем захватить надзирателей врасплох – нужен третий. Вооружившись ножками от кроватей, мы смогли бы охладить их пыл. Клузио был также убежден, что охранники не поверят, что ты будешь стрелять, даже окажись у тебя в руке винтовка. Они вызовут подкрепление из здания в двадцати метрах отсюда, из которого бежал Жюло.
Тетрадь третья
Первая попытка
Побег из больницы
В тот же вечер я выложил все напрямую Дега, а затем Фернандесу. Дега заявил, что не верит в план и подумывает заплатить, если понадобится, большие деньги, чтобы избежать отправки на острова.
Он попросил меня связаться с Сьерра, сообщить о его предложении и попросить ответить, можно ли на это надеяться. В тот же день Шаталь отнес записку и вернулся с ответом: «Ничего никому не платите. Решение принято во Франции, и никто, даже начальник колонии, не сможет помочь. Если с больницей безнадега, попытайтесь это сделать на следующий день после отплытия судна „Манá“ на острова».
Перед отправкой на острова нас запрут на неделю в одиночках блока-изолятора, откуда, возможно, бежать будет легче, чем из больничной палаты, куда нас определили с самого начала. В этой же записке Сьерра сообщал мне, что, если я захочу, он подошлет одного вольнопоселенца, бывшего каторжника, с которым можно договориться о лодке, чтобы она ждала меня наготове за больницей. Этот малый из Тулона, по имени Жезю́, два года назад помог доктору Бугра́ совершить побег. Для встречи с ним нужно попасть в рентген-кабинет. Он находится прямо в больнице. И Жезю придет туда на флюорографию по поддельному пропуску. Сьерра просил вынуть гильзу перед просвечиванием, иначе врач, опусти он экран пониже легких, может легко ее обнаружить. Я обратился к Сьерра с просьбой устроить мне встречу с Жезю и уладить с Шаталем вопрос о моем направлении в рентгенкабинет. В тот же вечер Сьерра дал знать, что все устроено на послезавтра на девять утра.
На следующий день Дега попросил разрешения выйти из больницы. Так же поступил и Фернандес. «Мана» отчалила утром. Они надеялись бежать из тюремной камеры. Я пожелал им удачи, но собственного плана не изменил.
Я увиделся с Жезю. Это был старый каторжник, отсидевший от звонка до звонка; иссохший, словно вяленая пикша; загорелое лицо обезображено двумя шрамами. Когда он смотрел на меня, один глаз у него постоянно слезился. Темная личность, недобрый взгляд. Не очень-то я ему доверял и, как потом оказалось, был чертовски прав. Говорили быстро:
– Лодку я подготовлю. Выдержит четверых, самое большее – пятерых. Бочонок воды, провизия, кофе, табак; три весла, четыре пустых мешка из-под муки, иголка и нитки – гротовый парус и кливер сошьете сами; компас, топор, нож; пять бутылок тафьи (местный ром). За все – две тысячи пятьсот франков. Через три дня кончаются лунные ночи. Если договорились, то через четыре дня я буду ждать на реке в лодке каждую ночь в течение недели с одиннадцати вечера до трех утра. После этого жду еще четверть часа и отчаливаю. Лодку поставлю по течению у больничной стены. Идите вдоль стены – лодку можно заметить только сверху, а так просто не увидишь и в двух шагах.
Несмотря на свои сомнения, я все же согласился.
– А деньги? – спросил Жезю.
– Перешлю через Сьерра.
Расстались, не обменявшись рукопожатием. Не очень-то тепло.
В три часа Шаталь пошел в лагерь, прихватив деньги для Сьерра: две тысячи пятьсот франков. Подумалось: «Могу себе это позволить благодаря Гальгани. Что называется, повезло. Не дай бог, если он пропьет такую уйму денег».
Клузио пребывал в восторге: он уверовал в план. Он полагался на меня, как на самого себя. Одно его смущало: хотя араб-надсмотрщик действительно появлялся очень часто, но не каждую ночь заходил в палату, а если заходил, то рано, поздно – в очень редких случаях. Волновала нас еще одна проблема. Кого взять третьим? Был один корсиканец из Ниццы по имени Бьяджи. В колонии он находился с 1929 года, а в больничной палате усиленного режима оказался за убийство, совершенное уже в зоне. Сейчас как раз велось следствие по этому делу. Мы с Клузио размышляли, стоит ли его привлекать к нашему плану, а если стоит, то когда. В тот момент, когда мы потихоньку беседовали об этом, к нам подошел восемнадцатилетний «голубок» со смазливым девичьим лицом. Звали его Матюрет. Ему вынесли смертный приговор, но помиловали, приняв во внимание молодость как смягчающее обстоятельство – в семнадцать лет он убил водителя такси. По этому делу в суде присяжных проходили два паренька, шестнадцати и семнадцати лет, однако вместо того, чтобы валить вину друг на друга, каждый из них заявлял, что это он убил таксиста. Но в теле таксиста была только одна пуля. Поведение ребят во время судебного процесса завоевало им уважение со стороны заключенных.
Матюрет подошел к нам женской походкой и жеманно попросил прикурить. Дали прикурить и, более того, одарили четырьмя сигаретами и коробком спичек. Он поблагодарил с томной призывной улыбкой и удалился, с нашего позволения.
– Папи, мы спасены. Араб будет приходить сколько угодно и когда угодно, если захотим. Дело в шляпе.
– Каким образом?
– Очень просто. Скажем Матюрету, чтобы он завлек араба своими прелестями. Арабы любят мальчиков – это всем известно. И если араб побывает у нас разок, не составит большого труда заполучить его ночью на любовное свидание с мальчиком, а этот должен только прикинуться робким и сказать, что боится, как бы кто не увидел, поэтому араб придет, когда нам будет надо.
– Предоставь это мне.
Я направился к Матюрету, который встретил меня победоносной улыбкой, полагая, что стоило ему пококетничать со мной, как я тут же распалился. С ходу отрубил:
– Ты ошибаешься. Иди в уборную.
Он пошел, и уже там я пояснил:
– Если заикнешься хоть словом о том, что я сейчас скажу, убью. Слушай: сделаешь так-то и так-то. Можешь за деньги, а хочешь, пошли с нами.
– Хотелось бы с вами. Не против?
Договорились. Обменялись рукопожатием.
Матюрет лег спать. Перебросившись парой слов с Клузио, я тоже лег. В восемь вечера Матюрет сел у окна. Араба не надо было звать, он сам пришел и вступил с ним в разговор – приглушенное бормотание. В десять Матюрет снова был в кровати. Мы с Клузио с девяти спали вполглаза. Араб вошел и стал делать обход. Обнаружил покойника. Постучал в дверь. Почти сразу пришли носильщики и труп унесли. Эти покойники могли сослужить нам хорошую службу, поскольку ночные инспекции араба в любое время ночи будут выглядеть вполне уместно. На следующий день, по нашему совету, Матюрет назначил свидание на одиннадцать вечера. Точно в назначенное время появился тюремщик, прошел рядом с его кроватью и дернул за ногу, чтобы разбудить. Сам прошел в уборную, Матюрет последовал за ним. Через четверть часа тюремщик вышел из уборной, прямиком направился к двери и исчез. Сразу же после этого Матюрет вернулся в постель, но с нами ни слова. И на следующий день это повторилось, только в полночь. Все утряслось: араб придет тогда, когда скажет малыш.
27 ноября 1933 года мы подготовили две ножки от кровати. Их оставалось только снять и использовать в качестве дубинок. В четыре часа дня я ждал записку от Сьерра. Появился Шаталь, записки не принес, но передал на словах: «Франсуа Сьерра попросил меня передать, что Жезю ждет в условленном месте. Удачи».
В восемь вечера Матюрет велел арабу прийти после полуночи, так они могут побыть вместе подольше.
Араб согласился. Ровно в полночь мы приготовились. Тюремщик заявился в первом часу, прошел прямиком к кровати Матюрета, дернул его за ногу и отправился в уборную. Матюрет последовал за ним. Я рывком снял ножку с кровати, она тихонько звякнула, выскочив из паза. У Клузио все было тихо. Договорились, что я встану за дверью уборной, а Клузио подойдет прямо к двери, чтобы привлечь внимание. Ждали минут двадцать, затем события развивались быстро. Араб вышел из уборной и, увидев перед собой Клузио, спросил удивленно:
– Что ты здесь делаешь посреди ночи? Живо в постель.
В тот же момент он рухнул без звука, получив удар по шее сзади. Я быстро натянул на себя его одежду и башмаки, самого араба мы затащили под кровать, но перед тем, как затолкать его поглубже, чтобы не было видно, я дал ему еще раз по затылку. Разделались. Он получил свое.
Никто из восьмидесяти человек в палате не пошевелился. Я быстро направился к двери, за мной Клузио и Матюрет – оба в своих рубашках. Постучал. Охранник открыл дверь. Мощный удар обрушился ему на голову. Другой охранник, сидевший напротив, уронил винтовку: несомненно, перед этим он спал. Не успел он пошевелиться, как я вырубил и его. Обе мои жертвы даже не пикнули. Только третий у Клузио, перед тем как рухнуть, выдавил: «А-а-а!» Мои, оглушенные, оставались сидеть на стульях. Третий растянулся на полу. Мы перевели дух. Нам показалось, что все должны были слышать это «а-а-а!». Крик был достаточно громким, и все же никто не шелохнулся.
Мы не стали затаскивать их в палату, а сразу пошли, прихватив три винтовки. Спускаемся по лестнице, тускло освещенной фонарем: Клузио первый, за ним малыш, затем я. Клузио бросил ножку от кровати; у меня она пока еще в левой руке, а в правой – винтовка. Спустились по лестнице до конца – ничего. Темная, как чернила, ночь окружила нас. Напряженно всматриваемся в темноту, отыскивая дорогу к стене со стороны реки. Спешим. Подойдя к стене, я наклонился. Клузио вскарабкался по моей спине на стену, оседлал ее, втащил наверх Матюрета, а затем меня. Придерживаясь руками за верхний выступ стены, мы стали спускаться уже с другой стороны и при полной растяжке тела свободно падали вниз. Винтовки оставили за стеной. Мы с Матюретом приземлились удачно, а Клузио попал в яму и подвернул ногу. Мы встали, а Клузио попробовал, но не смог. Он сказал, что сломал ногу. Оставив Матюрета с Клузио, я побежал к углу стены, все время ощупывая ее рукой. Было так темно, что я не заметил, как добрался до конца, и с вытянутой в пустоту рукой упал плашмя вниз. Со стороны реки послышался голос:
– Это ты?
– Да. Жезю?
На полсекунды вспыхнула спичка. Я засек положение, бросился в воду и поплыл к нему. В лодке было двое.
– Кто первый?
– Папийон.
– Хорошо.
– Жезю, надо продвинуться вверх по течению. Приятель сломал ногу, когда прыгал со стены.
– Бери весло и греби.
Три весла погрузились в воду, и легкая лодка в один миг пролетела сто метров, отделявшие, как я полагал, нас от остальных. Ничего не видно. Я позвал:
– Клузио!
– Заткнись, ради Христа! Толстяк, чиркни зажигалкой.
Вспыхнули искры – их заметили. Клузио свистнул сквозь зубы. Так делают в Лионе, свист отчетливо слышен, но не производит шума. Можно подумать, что шипит змея. Он продолжал свистеть, пока мы не подплыли. Толстяк вылез, обхватил Клузио руками и перенес в лодку. Затем в лодке оказался Матюрет, а за ним Толстяк. Теперь нас было пятеро. Лодка просела, между планширом и водой оставалось пять сантиметров.
– Не двигайтесь без предупреждения, – сказал Жезю. – Папийон, перестань грести. Положи весло на колени. Толстяк, отчаливай.
Подхваченная течением, лодка быстро растворилась в ночи.
Проплыв с километр и миновав зону, слабо освещенную электрическим светом от старенькой динамо-машины, мы оказались на середине реки, а наступавший отлив нес нас вдоль ее берегов с невероятной скоростью. Толстяк бросил грести. Только Жезю, крепко прижав ручку весла к бедру, концом-лопаткой удерживал лодку в устойчивом положении. Он не греб, а только управлял.
Жезю нарушил молчание:
– Теперь мы можем поговорить и покурить. Думаю, что проскочили. Вы уверены, что никого не убили?
– Все может быть.
– Боже, Жезю, ты надул меня дважды, – сказал Толстяк. – Ты говорил, что это безобидный маленький отвальчик без всякого шума, а теперь оказывается, что бегут интернированные, а за это я могу схлопотать.
– Да, они интернированные. Скажи я тебе об этом, Толстяк, ты бы отказался помочь, а мне нужен был помощник. Да и что тебе беспокоиться? Если нас застукают, я возьму все на себя.
– По сути, так оно и есть, Жезю. Не хочу рисковать головой за сотню франков, которую ты мне заплатил, и не хочу тянуть пожизненный срок, если там окажутся раненые.
– Толстяк, – сказал я, – я подарю вам на двоих тысячу франков.
– Это дело, брат. Это справедливо. Спасибо. Мы ведь мрем в деревне с голодухи. Хуже, чем в зоне. В лагере хоть брюхо набиваешь каждый день, да и одежонку дают.
– Очень больно, приятель? – спросил Жезю Клузио.
– Терпимо, – ответил Клузио, – а скажи, Папийон, что будем делать со сломанной ногой?
– Посмотрим. Куда плывем, Жезю?
– Я вас спрячу в небольшом ручье в тридцати километрах от устья реки. Там спокойно отлежитесь с неделю, пока не улягутся страсти. Пусть думают, что этой самой ночью вы спустились вниз по Марони и вышли в море. Охотники из наряда преследования ходят в лодках без моторов и наиболее опасны. Если они возьмут след, то вам может грозить бедой даже разговор, или кашель, или разведенный огонь. Багры ходят на моторках, слишком громоздких, чтобы подняться вверх по ручью, поэтому они бросают лодки и идут по суше.
Светало. Долго искали ориентир, известный только Жезю; обнаружили его около четырех часов и буквально вошли в буш. Лодка приминала прибрежный кустарник, который снова выпрямлялся за нами, образуя очень густой защитный занавес. Надо было родиться колдуном, чтобы достоверно знать, достаточно ли воды под лодкой для ее продвижения вперед. Мы ехали, раздвигая мешавшие проходу ветки, и пробивались все дальше и дальше уже в течение часа. И вот мы оказались в протоке, напоминавшей канал; там и остановились. На берегу росла чистая трава; и сейчас, в шесть часов утра, свет не проникал сквозь листву огромных деревьев. Под этой впечатляющей крышей раздавались голоса сотен неизвестных нам тварей.
– Здесь переждете неделю. На седьмой день я приеду и привезу провизию.
Из густых зарослей Жезю вытащил небольшую пирогу длиной метра два. В ней два весла. На этой посудине он собирался вернуться в Сен-Лоран, воспользовавшись напором прилива.
Теперь мы занялись Клузио, который лежал на берегу и нуждался в помощи. Он все еще был в своей больничной рубашке и с голыми ногами. Топором обтесали несколько сухих веток, сделав из них шины. Толстяк трудился над его ступней. Обильный пот прошиб Клузио, когда он вскрикнул:
– Стоп! В этом положении не так больно, – похоже, кость встала на место.
Мы наложили шины и привязали их новой пеньковой веревкой, взятой из лодки. Боль утихла. Жезю припас для нас четыре пары штанов, четыре рубашки и четыре куртки из грубой шерсти, которые обычно выдавались ссыльным. Матюрет и Клузио надели эти куртки, а я остался в одежде араба. Мы пропустили по глотку рома. Начали уже вторую бутылку с момента побега. Ром согревал, и это было неплохо. Москиты не давали ни минуты покоя – пришлось пожертвовать пачкой табака. Мы пропитали его соком бутылочной тыквы, а затем этой никотиновой массой намазали себе лицо, руки и ноги. Шерстяные куртки были замечательны: несмотря на пронизывающую сырость, в них было тепло.
– Мы уходим. Как насчет обещанной тысячи франков?
Я зашел в кусты и вернулся с новенькой купюрой в тысячу франков.
– До встречи. Неделю не двигайтесь отсюда, – сказал Жезю. – На седьмой день мы вернемся. На восьмой сможете пробираться к морю. А пока займитесь парусом и кливером, приведите лодку в порядок, все должно лежать на своем месте. Закрепите крюк, чтобы руль не рыскал. Если не появимся здесь в течение десяти дней, значит нас арестовали. Нападение на стражу добавляет к побегу привкус острой приправы, поэтому, будьте уверены, нам устроят бешеный аврал, да такой, что не приведи господь.
Клузио сказал нам, что свою винтовку он перебросил через стену. А поскольку вода подходит близко к стене (о чем он не знал), то, по всей вероятности, она угодила в реку и там утонула. Жезю заметил, что это даже хорошо: пусть охотники думают, что мы вооружены, если, конечно, винтовку не нашли. А поэтому нам нечего бояться, хотя охотники действительно опасны. У них только револьверы да тесаки для прохода в зарослях джунглей, и если они узнают, что у нас винтовки, то рисковать не будут.
Стали прощаться. Если нас обнаружат, следует бросить лодку и идти вверх по ручью до сухого буша, а там по компасу, все время держа курс на север. Дня через два-три мы должны выйти к лагерю смерти под названием «Шарвен». Нужно будет заплатить кому-нибудь, чтобы сообщили Жезю, что мы там-то и там-то. Бывшие каторжники оттолкнулись от берега, и через несколько минут их пирога пропала из виду.
Рассвет приходит в буш весьма своеобразно. Кажется, что ты находишься в галерее, в своде которой застрял солнечный луч и никак не может пробиться через него и добраться до самого низа. Становилось жарко. Мы тут – Матюрет, Клузио и я – совершенно одни. Разобравший нас смех был первой реакцией на ситуацию – все шло как по маслу. Единственной помехой представлялась сломанная нога Клузио, хотя сам он уверял, что теперь, когда ее засунули в плоские деревяшки, она совершенно не беспокоит его. Мы могли заварить кофе прямо хоть сейчас. Сказано – сделано: развели костер и выпили по большой кружке каждый. Кофе подсластили тростниковым сахаром. Просто замечательно! Мы настолько были измотаны с прошлого вечера, что не было никаких сил ни присмотреть за вещами, ни проверить лодку. Все успеется. Свободны, свободны, свободны! Ровно тридцать семь дней, как прибыли в Гвиану. Если побег удался, то пожизненное заключение действительно оказалось не таким уж и долгим. Я громко сказал:
– А скажите, месье председатель, сколько лет во Франции длится пожизненная каторга? – И захохотал. Смеялся и Матюрет – у него ведь тоже пожизненная. Клузио заметил:
– Рано веселитесь. До Колумбии далеко, а в этом корыте в море не выйдешь.
Я не отвечал, потому что, по правде говоря, до последней минуты полагал, что каноэ служило лишь средством доставить нас к настоящей лодке, лодке для морского плавания. Когда я увидел, что ошибся, мне не хотелось об этом говорить. Во-первых, потому, что не желал обескураживать товарищей, и, во-вторых, чтобы не дать Жезю повода считать, что я знаю, какие лодки обычно используют при побеге, – он-то, естественно, считал, что я этого не знаю.
Первый день мы провели в разговорах. В перерывах между разговорами пытались немного узнать об окружающем нас буше, настолько странном, насколько не знакомом для нас. Обезьяны и какие-то непонятные белки не прыгали, а летали над нами самым причудливым образом. Стадо пекари – небольших диких свиней – спустилось к ручью на водопой. Не меньше двух тысяч. Они плюхались в ручей и плавали повсюду, обрывая нависающие корни. Бог весть откуда взялся аллигатор и схватил одну свинью за ногу – поднялся такой визг, хоть святых выноси! Все остальные свиньи бросились на аллигатора, карабкались на него, пытаясь укусить за края его огромной пасти. С каждым ударом хвоста аллигатора то слева, то справа в воздух взлетал поросенок. Один пекари был оглушен и плавал на поверхности кверху брюхом. Его тут же сожрали сородичи. От крови ручей окрасился в красный цвет. Сцена продолжалась минут двадцать, затем аллигатор исчез в воде и больше не появлялся.
Мы спали хорошо, а утром приготовили себе кофе. Я снял куртку, чтобы помыться: в лодке мы нашли большой кусок хозяйственного мыла. Уже знакомым скальпелем Матюрет побрил меня более или менее, а затем побрил и Клузио. У самого Матюрета борода не росла. Когда я поднял куртку, чтобы снова одеться, из нее выпал громадный волосатый паук багрово-черного цвета. Волосинки были очень длинными, и каждая заканчивалась блестящим маленьким шариком. Чудовище весило никак не меньше полкило. Я раздавил его, почувствовав омерзение. Мы вытащили из лодки все, включая и небольшой бочонок с водой. У воды был фиолетовый оттенок, – видимо, Жезю положил слишком много марганцовки, чтобы она не испортилась. Были там и плотно закупоренные бутылки со спичками и полосками для зажигания. Компас оказался школьным: он просто показывал север, юг, восток, запад – и никакой градуировки. Длина мачты не превышала двух с половиной метров, поэтому мы сшили из мешков рейковый парус с веревочной обтяжкой для прочности. И я сделал небольшой треугольный кливер для лучшей осадки лодки.
Когда мы ставили мачту, я обнаружил, что днище лодки непрочно: паз для мачты оказался подточенным насекомыми и основательно изношенным. А когда стал вбивать рулевые крепежные петли, то они вошли в корпус, словно в масло. Лодка была трухлявой. Скотина Жезю посылал нас на верную смерть. Без всякого энтузиазма я объяснил остальным все как есть: я не имел права скрывать это от них. Что делать? Заставить Жезю, когда он приедет, найти более подходящую лодку. Именно так. Отнимем у него оружие, и я, прихватив с собой нож и топор, пойду с ним в деревню за другой лодкой. Риск, конечно, огромный, но ничуть не больше, чем отправляться в море в гробу. Запас провизии был достаточен: бутыль в плетенке, заполненная маслом, и несколько жестяных банок с мукой маниоки. На этом можно продержаться долго.
В то утро мы наблюдали за необычным представлением: стадо беломордых обезьян дралось с черномордыми. Во время сражения на голову Матюрета свалился кусок дерева, от чего вскочила шишка величиной с грецкий орех.
Прошло пять дней и четыре ночи. В последнюю ночь ручьями лил дождь. Мы укрылись под диким бананом. Вода скатывалась по его блестящим листьям, но мы ни капельки не промокли, только слегка подмочили ноги. Утром, выпив кофе, я стал размышлять о Жезю и его поступке. Воспользоваться нашей неопытностью и сбагрить гнилую лодку! Сэкономить пятьсот или тысячу франков – и отправить троих на верную смерть! Стоит подумать, не следует ли его прикончить, после того как он достанет нам другую лодку, естественно, под угрозой.
Внезапно мы вздрогнули от шума, какой могут издавать только сойки: пронзительный крик, настолько резкий и неприятный, что я попросил Матюрета взять тесак и пойти выяснить, что там произошло. Через пять минут он вернулся и сделал мне знак рукой. Я последовал за ним. Метрах в полутораста от лодки висел на ветке большой фазан, или дикий петух, размером вдвое больше домашнего. Пойманный за ногу, он болтался в петле. Ударом тесака я снес ему голову, чтобы больше не орал так истошно. Прикинул вес – около пяти кило. Такие же шпоры, как и у петуха. Мы решили его съесть. Но пока обдумывали этот вопрос, в голову пришла и такая мысль: ведь кто-то поставил силок, значит здесь мы не одни. Пошли проверить. Так мы обнаружили нечто необыкновенное: настоящая изгородь высотой сантиметров тридцать, сплетенная из листьев и лиан метрах в десяти от ручья. Изгородь тянулась параллельно воде. В ней там и тут попадались бреши, а в них, замаскированные прутьями, концы петель из медной проволоки, привязанные к наклоненным гибким веткам. Я сразу сообразил, как все происходит. Скажем, животное подходит к изгороди, натыкается на нее и идет вдоль, пытаясь ее обойти. А тут брешь, через которую можно пролезть; но ноги цепляются за проволоку, вдруг, словно пружина, срабатывает ветка. Вот и висит добыча в воздухе, пока не придет за ней хозяин.
Такое открытие нас обеспокоило. Снасть была новой, за ней присматривали, а следовательно, существовала опасность, что нас могут обнаружить. Значит, днем нельзя разводить костер, а ночью охотник не придет. Мы решили установить поочередное наблюдение за капканами. Спрятали лодку под ветками, а все припасы затащили в кусты.
На следующий день в десять часов утра я заступил на пост. Накануне за ужином мы съели того фазана, или петуха, или как его там еще – какая разница. Благо суп нас здорово подкрепил, а вареное мясо оказалось нежным и вкусным. Съели по две миски каждый. Итак, в десять я в карауле. Мое внимание привлек огромный муравейник, где копошились крупные муравьи-листорезы. Трудились они над листьями маниоки, каждый тащил кусок листа в муравейник. Зрелище настолько захватило меня, что от бдительности не осталось и следа. Размер этих муравьев – сантиметра полтора. Каждый тащит большой кусок листа. Я пошел за ними к растению, которое они раздевали, и увидел, что все было организовано тщательнейшим образом. Во-первых, были сами резчики, которые ничем больше не занимались, как только нарезали листья кусочками. Они трудились над гигантскими листьями, напоминавшими листья бананового дерева. Очень быстро и искусно эти листья резались на одинаковые куски и сбрасывались на землю. Внизу поджидали такие же муравьи, но несколько отличные от первых. У них по бокам жвала пролегала серая полоска. Они располагались полукругом и следили за носильщиками. Муравьи-носильщики появлялись цепочкой справа и отправлялись влево к муравейнику. Они подхватывали груз и старались выстроиться в цепочку. Но иной раз в спешке они не могли занять свое место, и получался затор. Тогда муравьи-полицейские принимались за наведение порядка и рассовывали рабочих по своим местам. Я не мог понять, чем провинился какой-то муравей-рабочий, но его вытащили из рядов, и муравей-полицейский откусил ему голову, а другой перекусил тело посередине. А вот муравьи-полицейские остановили еще двух рабочих. Они сняли с них груз, выкопали ямку и на три четверти зарыли их в землю – голову, грудь, часть брюшка, – а потом забросали их полностью землей.
Голубиный остров
Я настолько увлекся наблюдением за этими тварями, настолько любопытно было установить, распространялись ли обязанности муравьев-полицейских до самого входа в муравейник, что меня буквально потряс окрик, заставший врасплох:
– Не двигаться! Иначе – покойник. Повернись кругом!
Передо мной стоял обнаженный до пояса человек в шортах цвета хаки и в высоких красных кожаных сапогах. В руках – двустволка. Среднего роста, плотного телосложения, загорелый. Был он лыс, а глаза и нос покрывала яркая голубая маска-татуировка. Посреди лба был вытатуирован черный жук.
– Оружие есть?
– Нет.
– Один?
– Нет.
– Сколько вас?
– Трое.
– Веди меня к своим.
– Мне бы не хотелось: у одного винтовка, и могут убить. Скажи сначала, что ты собираешься делать.
– Ах так! Не шевелись и говори тихо. Вы – те трое, рванувшие из больницы.
– Да.
– Кто из вас Папийон?
– Я.
– Ну, я скажу, вы и заварили кашу! В деревне арестовали половину освобожденных. Они сейчас находятся в жандармерии.
Он подошел ко мне и, опустив ружье, протянул руку:
– Меня зовут Бретонец Маска. Слышал обо мне?
– Нет, но я вижу, ты не охотник за беглецами.
– Ты прав. Я тут ставлю ловушки на фазанов. Ягуар, должно быть, сожрал одного, если это были не вы, ребята.
– Мы.
– Может, выпьешь кофе?
В ранце у него был термос. Он отлил немного мне и отпил сам. Я сказал:
– Пойдем познакомимся с моими товарищами.
Он вошел и сел рядом с нами. Его позабавило, как я надул его с винтовкой.
– Я купился, – сказал он, – потому что все говорят, что у вас винтовки. Поэтому нет охотников вас преследовать.
Он рассказал нам, что в Гвиане он уже двадцать лет, а на свободе – пять. Ему сорок пять. Имел глупость наколоть себе маску – во Франции с такой рожей делать нечего. Он обожал буш и жил полностью за его счет: кожа змей, шкура ягуаров, коллекции бабочек, а сверх прочего – живые фазаны; правда, одного мы уже съели. Он продавал их за двести – двести пятьдесят франков. Я предложил заплатить, но он с негодованием отказался. Вот что он нам рассказал:
– Эта птица из породы кустарниковых куриц. Конечно, она не похожа на обычных домашних петухов и куриц. Я их ловлю, несу в деревню и продаю тем, у кого есть курятники. Вы знаете, на эту птицу большой спрос. И не зря. Ей не надо подрезать крылья и вообще не надо ничего делать: просто ночью подсаживаете ее в курятник, а когда откроете утром дверь, она уже стоит и как бы пересчитывает куриц и петухов, выходящих из курятника. Уходит из курятника последней, вместе с ними гуляет, кормится, но все время поглядывает по сторонам: вперед, назад, туда, сюда, вверх, вниз – короче, все кусты осмотрит. Она не хуже сторожевой собаки. А вечером, неизвестно как, стоит она у двери курятника и смотрит, все ли пришли или недостает одной или двух куриц или петухов. И если так, она тут же идет, отыскивает их и загоняет в курятник. Гонит домой и клюет немилосердно, чтобы они знали свое время. Она уничтожает крыс, змей, землероек, пауков и сороконожек. Едва лишь какая-нибудь хищная птица появится в небе, она, пока не заставит всю стаю попрятаться в траве, сама стоит на месте, как бы бросая вызов врагу. От этого курятника она уже никуда не улетит.
Вот какую замечательную птицу мы съели, словно обычного домашнего петуха.
Бретонец Маска рассказал нам, что Жезю, Толстяк и еще тридцать вольноотпущенных арестованы и сидят в жандармерии в Сен-Лоране. Ведется дознание, кто из них был замечен около того здания, откуда мы совершили побег. Араб содержится в карцере жандармерии. Его обвиняют в соучастии и оказании нам помощи. Два удара, которые мы ему нанесли, не оставили даже следов, в то время как у багров небольшие шишки на голове.
– Что касается меня, то даже не побеспокоили: все знают, что я никогда не был замешан в подготовке побегов.
Бретонец Маска сказал нам, что Жезю – подонок. Когда я заговорил о лодке, он попросил ее показать. Едва взглянув на нее, он воскликнул:
– Этот ублюдок посылал вас на смерть! Лодка и часа не продержится в море. Первая же волна развалит ее надвое. Идти на ней – просто самоубийство!
– Что же нам делать?
– Деньги есть?
– Да.
– Тогда скажу, что надо делать. Более того, помогу. Вы этого заслуживаете. Вы не должны показываться вблизи деревни. Ни в коем случае. Чтобы достать приличную лодку, надо пойти на Голубиный остров. Там проживает около двух сотен прокаженных. Охраны нет, ни один здоровый человек не решается ступить туда ногой. Даже врачи не ездят. Каждый день в восемь утра туда приходит лодка и привозит провизию на сутки. Сырые продукты. Дежурный санитар по больнице передает ящик с лекарствами двум санитарам с острова. Последние, сами прокаженные, оказывают медицинскую помощь остальным. На остров никто не суется: ни стражник, ни охотник за беглецами, ни священник. Прокаженные живут в небольших соломенных хижинах собственной постройки. У них есть одно общее здание, где они собираются. Они разводят кур и уток в дополнение к скудному рациону. Официально им запрещено что-либо продавать с острова, поэтому процветает нелегальная торговля с Сен-Лораном, Сен-Жаном, с китайцами из Альбины в Голландской Гвиане. Все они отпетые убийцы. Они не убивают друг друга часто, но делают много пакостей, когда тайком покидают остров. Потом возвращаются и прячутся на нем, пока все не утихнет. Для этих набегов у них есть лодки, украденные из деревни. Им строжайше запрещено их иметь. Стража стреляет по всем лодкам, плывущим с острова и на остров. Поэтому прокаженные затапливают лодки, перегружая их камнями. Когда лодка потребуется, они ныряют, выбрасывают камни, и она всплывает. На Голубином острове живет всякий народ всех цветов кожи и рас. Много и из самой Франции. Какой вывод? Ваша лодка годится только для плавания по Марони. Да в нее много и не положишь. Для выхода в море вам нужна другая. Где ее взять? Лучшего места, чем Голубиный остров, не придумаешь.
– Как туда добраться?
– А вот как. Я пойду вместе с вами вверх по реке до самого острова. Сами вы его не найдете или, во всяком случае, попадете не туда. Он лежит в ста пятидесяти километрах от устья реки, поэтому надо возвращаться вверх против течения. Остров в пятидесяти километрах от Сен-Лорана. Я вас доведу, а потом пересяду в свое каноэ. А пока возьмем мою лодку на буксир. На острове сами смотрите, как быть.
– А почему бы тебе не пойти с нами на остров?
– Боже сохрани, – сказал Бретонец Маска, – да я только раз побывал на пристани, где причаливают служебные лодки. Только раз, среди бела дня – и мне достаточно. Нет, Папи, моей ноги там больше не будет. Никогда в жизни. Пойми, мне не скрыть своего отвращения при общении с ними. Стоять рядом, разговаривать, совершать какие-то сделки выше моих сил. Я больше принесу вреда, чем пользы.
– Когда выходим?
– Ночью.
– Сколько сейчас времени, Бретонец?
– Три часа.
– Пойду немного вздремну.
– Нет. Надо все погрузить в лодку, и как следует.
– Зачем? Я пойду порожним, а Клузио останется сторожить вещи, пока я не вернусь.
– Это невозможно. Даже днем ты не найдешь опять это место. А днем, запомните, на реке показываться нельзя. Вас еще ищут, не забывайте об этом. На реке все еще опасно.
Пришел вечер. Бретонец Маска привел свое каноэ и привязал к корме нашей посудины. Клузио лег в лодку рядом с Бретонцем. Тот сел за рулевое весло, посередине устроился Матюрет, а я – на носу. Мы стали медленно продвигаться вниз по ручью, и, когда выбрались на реку, ночь уже почти наступила. В той стороне, где было море, огромное красно-бурое солнце освещало горизонт. Бесчисленные фейерверки его лучей создавали невероятную игру красок, более сочных, чем просто красная, более сочных, чем просто желтая, а там, где краски смешивались, они приобретали самые фантастические оттенки. Километрах в двадцати вниз по течению ясно просматривалось устье великолепной реки, бегущей к морю в отсветах розового серебра.
Бретонец заметил:
– Отлив заканчивается. Через час начнется прилив. Вы это сами почувствуете. С его помощью без всякого труда мы поднимемся вверх по Марони и скоро доберемся до Голубиного острова.
Ночь наступила внезапно.
– Вперед, – скомандовал Бретонец. – Гребите сильнее, чтобы выскочить на середину течения. Не курите.
Весла погрузились в воду, и лодка быстро понеслась поперек течения. Шух, шух, шух, шух. У нас с Бретонцем получалось прекрасно. Матюрет старался изо всех сил. Чем ближе мы продвигались к середине реки, тем явственнее ощущалась сила прилива. Мы быстро скользили по водной глади, и через каждые полчаса напор усиливался. Приливная мощь росла и росла, ускоряя бег нашей лодки. Через шесть часов остров был уже рядом. Мы направили лодку к чернеющей почти на середине реки полосе, взяв немного вправо.
– Вот он, – тихо сказал Бретонец.
Ночь была не очень темной, но нас нельзя было заметить и с малого расстояния из-за легкой дымки, распластавшейся над зеркалом реки. Подошли ближе. Когда очертания прибрежных скал прорезались отчетливо, Бретонец перебрался в свою лодку и быстро отчалил, едва успев пробормотать:
– Удачи, ребята.
– Спасибо.
– Не за что.
Как только Бретонец перестал управлять лодкой, мы пошли прямо к острову; лодку несло к берегу бортом. Я пытался выправить ее, яростно работал веслом, развернулся, но замешкался, и течение с силой втащило нас в прибрежную растительность, нависавшую над водой. Мы буквально врезались в нее, несмотря на то что я пытался, как только мог, тормозить веслом. Если бы мы ударились о камни, а не о листья и ветки, от лодки ничего бы не осталось. Мы лишились бы и всех запасов провизии, и прочих вещей. Матюрет спрыгнул в воду. Нас сносило под большие кусты. Матюрет помогал, толкая лодку. Причалили, привязав лодку к ветке. Сделали по глотку рома. Я выбрался на берег один, оставив приятелей в лодке.
С компасом в руке пошел через кусты, по пути сломав несколько веток и привязывая на другие лоскутки мешковины, оставшиеся от паруса и приготовленные заранее. В темноте различил просвет и сразу заметил три хижины. Послышались голоса. Пошел вперед, совсем не представляя, как дать о себе знать. Решил, что будет лучше, если они первые меня заметят, поэтому чиркнул спичкой и закурил. Едва вспыхнул огонь, как из хижины выскочила собачонка и, с лаем подскочив ко мне, пыталась укусить за ноги. «Боже, а что, если и она прокаженная? – подумалось мне. – Не будь дураком: собаки не болеют проказой».
– Кто там? Кто это? Марсель, это ты?
– Это беглый.
– Что ты здесь делаешь? Хочешь что-нибудь спереть? Ты думаешь, у нас есть чем поживиться?
– Нет. Мне нужна помощь.
– За так или за деньги?
– Закрой свою грязную пасть, Сова.
Из хижины появились четыре тени.
– Подойди медленно, брат. Бьюсь об заклад, что ты тот парень с винтовкой. Если она при тебе, положи на землю. Здесь нечего бояться.
– Да, это я. Но без винтовки.
Я двинулся вперед и поравнялся с ними. Было темно, и нельзя было различить их лица. Как дурак, протянул руку в знак приветствия – никто не взял. Поздно, но понял, что здесь так себя вести нельзя. Они не хотят меня заразить.
– Пойдем в лачугу, – сказал Сова.
Хижину освещала масляная лампа.
– Садись.
Я сел на плетеный стул без спинки. Сова зажег еще три лампы и одну поставил на стол рядом с моим лицом. Фитиль вонюче чадил – запах кокосового масла. Я сидел, а передо мной стояли пятеро. Я не видел их лиц, мое же освещала лампа. Они специально так устроили. Голос, приказавший Сове закрыть пасть, прозвучал снова:
– Угорь, иди в общий дом и спроси, надо ли его вести туда. Да побыстрей возвращайся с ответом. Сам знаешь, если Туссен скажет «да», то уж поторопись. Мы ничего не можем тебе предложить попить, приятель. Разве что сырое яйцо.
Он придвинул ко мне корзинку, полную яиц.
– Нет, спасибо.
Один из них сел очень близко от меня справа, и я первый раз увидел лицо прокаженного. Оно было ужасно, я сделал над собой усилие, чтобы не отвернуться и не выдать своих чувств. Нос – и мясо, и кости – съела проказа. Вместо носа посреди лица – дыра. Не две дыры, как вы полагаете, а одна дыра размером с двухфранковую монету. Правая часть нижней губы тоже была съедена, и три очень длинных желтых зуба торчали из сморщенной десны, упираясь в голую кость верхней челюсти. Только одно ухо. Он положил забинтованную кисть руки на стол. Это была его правая рука. В двух оставшихся пальцах левой руки он держал длинную толстую сигару. Сигару, должно быть, он скрутил сам из полуготовых табачных листьев, поскольку она была зеленоватого цвета. Левый глаз имел веко, на правом веко отсутствовало, и глубокая рана пролегала прямо от глаза, прячась в густых седых волосах. Хриплым голосом он сказал:
– Мы поможем тебе, приятель. Ты не должен задерживаться в Гвиане слишком долго, чтобы не получить то же, что увидел. Мне бы не хотелось.
– Спасибо.
– Меня зовут Бесстрашный Жан. Я из Парижа. Я был посимпатичней, поздоровей и посильней тебя до колонии. Десять лет, а теперь погляди на меня!
– Разве вас здесь не лечат?
– Лечат. Наступило улучшение, с тех пор как стал делать масляные инъекции чолмугры. Посмотри. – Он повернул голову левой стороной ко мне. – Подсыхает.
Чувство огромного сострадания переполнило меня, и, проявляя дружеское участие, я протянул руку к левой щеке. Он отпрянул назад и сказал:
– Спасибо и на этом. Но никогда не прикасайся к больному человеку. Не пей и не ешь из его миски.
Это было единственное лицо прокаженного, которое я увидел, это был единственный прокаженный, имевший мужество дать посмотреть на себя.
– Где тот парень, о котором вы говорили?
Тень человека ростом едва выше карлика появилась в дверном проеме.
– Туссен и другие хотят его видеть. Пойдемте.
Бесстрашный Жан встал и велел мне следовать за ним. Мы все вышли в темноту. Четверо или пятеро спереди, мы с Жаном посередине, остальные сзади. Минуты через три достигли широкого открытого места наподобие площади, освещенного серпом луны. Это была плоская и самая высокая точка острова. В центре стоял дом. В двух окнах горел свет. У двери дома нас поджидало человек двадцать, к ним мы и направились. Когда мы подошли, они расступились, пропуская нас. Вошли в комнату, довольно просторную, освещенную двумя корабельными фонарями. Горел камин, сложенный из четырех огромных камней одинаковой величины. На табуретке сидел человек, белый, как полотно, неопределенного возраста. Позади на скамейке сидело пятеро или шестеро других. Он посмотрел на меня своими черными глазами и сказал:
– Я Туссен Корсиканец. А ты, должно быть, Папийон?
– Да.
– Новости в колонии распространяются быстро – с той же скоростью, что и ты сам. Где оставил винтовку?
– Выбросил в реку.
– Где?
– Напротив больничной стены, где перебирались.
– Ее можно достать?
– Думаю, что да. Там неглубоко.
– Ты уверен?
– Мы там переносили раненого приятеля в лодку.
– Что с ним?
– Сломал ногу.
– Что предприняли?
– Расщепили ветки пополам и сделали подобие бандажа вокруг ноги.
– Болит?
– Да.
– Где он?
– В лодке.
– Ты сказал, что требуется помощь. Какая?
– Нужна лодка.
– Ты хочешь, чтобы мы предоставили тебе лодку?
– Да. У меня есть деньги, и я заплачу.
– Хорошо. Я продам свою. Великолепная лодка, совершенно новая – я украл ее на прошлой неделе в Альбине. Лодка? Да это настоящий лайнер. Недостает только киля. Киль мы сделаем через пару часов. А все остальное есть – руль и румпель, четырехметровая мачта из железного дерева и новехонький парус. Что даешь?
– Назови цену. Я не имею понятия, сколько здесь что стоит.
– Три тысячи франков. Сможешь заплатить? Если нет, то завтра ночью принесешь винтовку – и по рукам.
– Нет. Лучше заплачу.
– Хорошо, договорились. Блоха, приготовь кофе.
Блоха – а это был приходивший за мной карлик – приблизился к полке, висевшей над камином, снял с нее блестящий новенький котелок, налил туда кофе из бутыли и поставил на огонь. Через некоторое время снял его, разлил кофе по кружкам, стоявшим у камней, чтобы Туссен передавал их сидевшим сзади. Мне же он протянул котелок, сказав при этом:
– Пей, не бойся. Котелок только для гостей. Ни один больной им не пользуется.
Я взял посудину и выпил. Опустив котелок на колено, я вдруг заметил, что внутри к стенке прилип палец. Стал лихорадочно искать выход из положения, и в этот момент Блоха сказал:
– Черт возьми! Я потерял свой палец. Куда он мог подеваться?
– Вот он, – сказал я, протягивая ему посудину. Он вытащил палец, бросил его в огонь, а котелок вернул мне.
– Не сомневайся – пить можно. У меня сухая лепра. Разваливаюсь по частям, но не гнию. Поэтому незаразен.
Запахло горелым мясом. «Должно быть, палец», – подумалось мне.
Туссен сказал:
– Придется вам пробыть здесь до вечернего отлива. Иди и скажи друзьям. Того, кто сломал ногу, занесите в хижину. Каноэ затопите, после того как выгрузите вещи. Здесь вам нет помощников – сами знаете почему.
Я поспешил к своим приятелям. Клузио перенесли в хижину. Через час все вещи были вытащены из лодки и разложены на берегу. Блоха попросил подарить ему каноэ и весло. Я так и поступил, и он отправился затапливать лодку в своем месте. Ночь пролетела быстро. Мы втроем лежали в хижине на новеньких одеялах, присланных Туссеном. Одеяла прибыли к нам в своих еще прочных бумажных упаковках. Полностью расслабившись и растянувшись на одеяле, я рассказал Клузио и Матюрету о деталях своего пребывания на острове и сделке с Туссеном. После чего Клузио, видимо без всякой задней мысли, все-таки ляпнул глупость:
– Побег-то влетел в шесть тысяч пятьсот франков. Я отдам половину, Папийон, то есть три тысячи – все, что имею.
– Не будем уподобляться банковским чиновникам с их счетами. Пока у меня есть деньги, я плачу. А потом посмотрим.
Никто из прокаженных не заходил к нам. Наступил день, и появился Туссен.
– Доброе утро. Можете выходить на воздух, не опасаясь. Здесь вас никто не застукает. У меня свой наблюдатель сидит на кокосовой пальме в центре острова. Он следит за появлением на реке лодок тюремной охраны. Пока никого. Видите, на пальме болтается кусок белой тряпки? Это означает, что горизонт чист. В случае чего наблюдатель слезет с дерева и доложит обстановку. Если хотите, рвите плоды папайи и ешьте.
– Туссен, а что с килем?
– Мы его сделаем из двери нашего лазарета. Двух досок вполне хватит. Тяжелое змеиное дерево. Под покровом ночи мы приволокли лодку в центр острова. Пойдем посмотрим.
Пошли. Лодка действительно оказалась новой и была великолепна. Около пяти метров в длину. Две банки, в одной – отверстие для мачты. Она была так тяжела, что нам с Матюретом пришлось покряхтеть, чтобы перевернуть ее. Парус и такелаж новехонькие. В борта были ввинчены кольца для крепления необходимых предметов – ну, скажем, бочонка с водой. Мы принялись за работу. К полудню киль по всей его длине был прочно закреплен длинными винтами и четырьмя скобами, имевшимися при мне.
Окружив нас, прокаженные молча наблюдали за работой. Туссен изредка подсказывал, как лучше сделать то или другое, и мы следовали его советам. Лицо Туссена было вполне нормальным – никаких участков поражения. И только когда он разговаривал, было заметно, что двигалась только левая половина. Он мне сам об этом сказал и еще добавил, что у него сухая проказа. Грудная клетка и правая рука были парализованы, он полагал, что скоро парализует и правую ногу. Правый глаз в глазнице сидел, как стеклянный, – видеть видел, но был неподвижен. Я не называю настоящих имен прокаженных. Может быть, кто-то знал и любил их, так лучше пусть не знают, какая это жуткая участь – разлагаться заживо.
Я работал и разговаривал с Туссеном. Никто в разговор не вмешивался. И только один раз, когда я собирался подобрать с земли петли, выломанные из лазаретной мебели, и намеревался пустить их на укрепление киля, кто-то сказал:
– Подождите брать петли. Я поранился, когда вынимал их, и, хотя вытирал, кровь осталась.
Другой прокаженный облил петлю ромом и дважды прожег на огне.
– Теперь можно, – сказал он.
Во время работы Туссен сказал одному из прокаженных:
– Ты бежал много раз, расскажи Папийону, что ему следует делать, поскольку никто из троих ни разу побега не совершал.
Прокаженный тут же стал говорить:
– Отлив сегодня ранний. В три часа он сменится приливом. А к вечеру, примерно в шесть, начнется сильнейший отлив, который домчит вас почти до самого устья реки за каких-нибудь три часа. До моря останется не более сотни километров. Примерно в девять вы должны причалить к берегу. Спрячьтесь в буше и покрепче привяжитесь к дереву. Переждете шестичасовой прилив до трех утра. Но сразу не отправляйтесь, поскольку отлив будет развиваться слабо. Примерно в половине пятого будьте на середине реки. В вашем распоряжении полтора часа до восхода солнца. За это время вы успеете сделать еще километров пятьдесят. Все зависит от этих полутора часов. В шесть, на восходе солнца, вы уже будете выходить в море. Если даже заметят багры, они не смогут вас преследовать, потому что, пока они доберутся до песчаного наноса в устье реки, начнется мощный прилив. Они не смогут перевалить через отмель, а вы уже будете за ней. Когда они вас увидят, между ними и вашей лодкой должен быть километровый отрыв. Это вопрос жизни и смерти. У вас здесь только один парус. А что на каноэ?
– Гротовый парус и кливер.
– Это тяжелая лодка: она выдержит два кливера – косой и выносной, чтоб не зарываться носом. На выходе из устья всегда штормит, и лодку надо держать к волне носом. Пусть твои ребята лягут на днище для придания ей остойчивости. Румпель держи крепче. Не привязывай шкот к ноге, а пропусти через тот блок и держи с петлей на запястье. Почувствуешь, что ветер и волны того и гляди опрокинут лодку, дай полную слабину, и она выправится. Если такое произойдет, не останавливайте лодку, а обезветрите главный парус, продолжая идти вперед под косым парусом и кливером. Когда выйдете на спокойную воду, у вас будет время все привести в порядок, но не раньше. Вы знаете свой курс?
– Нет. Я знаю только, что Венесуэла и Колумбия лежат на северо-западе.
– Правильно. Постарайтесь, чтобы вас не прибило к берегу. На другом берегу реки Голландская Гвиана, беглецов оттуда возвращают. Так же поступают и в Британской Гвиане. Тринидад не выдает, но больше двух недель там оставаться не позволяют. Венесуэла тоже возвращает, но после того, как бежавшие отработают год или два на строительстве дорог.
Я внимательно слушал. Далее выходило, что сам рассказчик время от времени пытался вырваться на свободу, но каждый раз его высылали отовсюду сразу же, как только устанавливали, что он прокаженный. Дальше Джорджтауна в Британской Гвиане он не добирался. Проказа отметила ступни его ног – пальцы на них отсутствовали. Он ходил босиком. Туссен попросил повторить все услышанное вслух, что я и сделал без запинки. В этот момент Бесстрашный Жан сказал:
– А сколько времени потребуется идти морем?
Я ответил первым:
– Буду держать норд-норд-ост в течение трех суток. С учетом дрейфа курс проложится строго на север. Четвертые сутки пойду на норд-вест, что будет соответствовать строго западному направлению.
– Правильно, – сказал прокаженный. – Прошлый раз я выдержал лишь двое суток и очутился в Британской Гвиане. Если ограничиться тремя сутками, то минуешь Тринидад или Барбадос; оставив их с северной стороны, не заметишь, как очутишься у самой Венесуэлы. Причаливать придется на Кюрасао или в Колумбии.
Бесстрашный Жан спросил:
– Туссен, за сколько ты продал лодку?
– За три тысячи. Считаешь, дорого?
– Да нет. Не поэтому спросил. Просто хотел знать. Сможешь заплатить, Папийон?
– Да.
– У вас есть еще деньги?
– Нет. Это все. Ровно три тысячи у моего друга Клузио.
– Туссен, – сказал Бесстрашный Жан, – возьми мой револьвер. Мне бы хотелось помочь ребятам. Сколько дашь?
– Тысячу франков, – ответил Туссен. – Но и мне хочется им помочь.
– Спасибо за все, – сказал Матюрет, глядя на Бесстрашного Жана.
– Спасибо, – вторил ему Клузио.
Мне стало стыдно, что я солгал!
– Нет. Я не могу это принять. Вы не обязаны давать нам что-либо.
Жан посмотрел на меня и сказал:
– И все-таки обязаны. Три тысячи франков – это уйма денег. Даже если Туссен скостит две на сделке – и то будет предостаточно. Что и говорить, вам дьявольски повезло с лодкой. Но я не вижу причины отказывать вам в помощи, ребята.
То, что произошло следом, тронуло меня до глубины души. Прокаженный по прозвищу Хлыст положил на землю шляпу, и остальные стали бросать в нее банкноты и монеты. Они появлялись отовсюду, и каждый что-нибудь бросил. Я сгорал со стыда. Теперь уже просто нельзя было говорить, что у нас оставались деньги. Боже, как поступить? Вот они, несчастные люди, охваченные великим порывом души, а я перед ними веду себя как самая последняя скотина.
– Пожалуйста, пожалуйста, не жертвуйте всем этим.
Черный как уголь, страшно изуродованный негр – вместо рук два обрубка – вставил слово:
– Мы не пользуемся деньгами как средством к существованию. Не стыдитесь их брать. Мы на них только играем да пичкаем ими еще женщин-прокаженных, наезжающих к нам время от времени из Альбины.
Только после этого я почувствовал облегчение. Отпала необходимость исповедоваться в том, что у нас еще остались деньги.
Прокаженные сварили две сотни яиц. Принесли их в деревянной коробке, на которой был нарисован красный крест. В этой коробке в то утро они получили свою суточную норму лекарств. Еще дали двух живых черепах – килограммов по тридцать каждая. Черепахи были бережно уложены панцирями вниз. Табак в листьях, две бутылки спичек, мешок риса весом не менее пятидесяти килограммов, две сумки древесного угля, примус из лазарета и оплетенная бутыль с керосином. Вся община, все эти ужасно несчастные люди переживали за нас, каждый хотел содействовать успеху нашего предприятия. Со стороны можно было подумать, что побег устраивают они, а не мы. Пересчитали деньги, оказавшиеся в шляпе: восемьсот десять франков. Клузио передал мне свою гильзу. Я открыл ее перед всеми. Тысяча франков одной бумажкой и четыре по пятьсот. Я вручил Туссену полторы тысячи. Он дал мне сдачу три сотни и затем сказал:
– Вот. Бери револьвер – это подарок. Вы все поставили на карту; будет глупо, если в последний момент все пойдет прахом из-за того, что у вас не оказалось оружия. Надеюсь, применять его не придется.
Я не знал, как отблагодарить Туссена и всех остальных. Санитар принес нам небольшую жестяную банку с ватой, спиртом, аспирином, бинтами, йодом. В ней также лежали ножницы и несколько пакетов лейкопластыря. Другой прокаженный принес две тонкие, хорошо обработанные рубанком деревянные дощечки и две антисептические бандажные накладки в новеньком пакете. Это был тоже подарок, чтобы сменить шину на ноге у Клузио.
Около пяти пошел дождь. Бесстрашный Жан сказал:
– Вам повезло. Нечего теперь бояться, что вас увидят. Вы можете отправляться немедленно и выиграете полчаса. Так вы окажетесь ближе к устью, когда снова отправитесь в плавание в половине пятого утра.
– Как я узнаю о времени?
– По отливу и приливу.
Мы спустили лодку. Никакого сравнения с каноэ. Даже с нами и со всеми нашими вещами на борту планшир возвышался над водой на добрых сорок сантиметров. Мачта, завернутая в парус, свободно лежала между носом и кормой, поскольку ее не следовало поднимать вплоть до выхода из реки в море. Мы поставили руль с предохранительным брусом и румпелем и положили охапку лиан, чтобы мне удобней было сидеть. Из одеял на днище лодки устроили уютное местечко для Клузио, который не пожелал менять ножную повязку. Он лежал между мной и бочонком с водой. Матюрет также примостился на дне лодки, но в носовой ее части. Я сразу обрел в себе чувство уверенности и безопасности, которого не могло быть в каноэ.
Дождь продолжался. Надо было идти на середину реки и держаться левее, ориентируясь на сторону Голландской Гвианы. Бесстрашный Жан сказал:
– Прощайте. Отчаливайте быстрее.
– Удачи, – сказал Туссен и с силой оттолкнул лодку ногой от берега.
– Спасибо, Туссен. Спасибо, Жан. Спасибо всем. Тысячу раз спасибо!
И мы исчезли на огромной скорости, подхваченные отливом, начавшимся два с половиной часа назад и уже набравшим силу.
Дождь шел плотной стеной: за десять метров ничего нельзя было разглядеть. Где-то ниже лежали два небольших островка. Матюрет, пристроившись на носу, внимательно всматривался вперед, чтобы нам не угодить на их острые камни. Наступила ночь. На какое-то мгновение лодка наполовину застряла в ветках большого дерева, плывшего по реке вместе с нами. К счастью, дерево двигалось не так быстро, и нам вскоре удалось от него освободиться. Нас несло со скоростью не менее тридцати километров в час. Курили. Сделали по глотку тафии. Прокаженные снабдили нас полудюжиной бутылок в соломенной оплетке. Странно, но никто из нас даже не заикнулся о страшных увечьях, которые мы увидели. Говорили только о доброте, щедрости, прямодушии. Говорили о том, как нам повезло, что мы повстречались с Бретонцем Маской, который привел нас на Голубиный остров. Дождь еще усилился. Я промок до нитки. Но тем-то и хороши толстые куртки из грубой шерсти – они держат тепло, даже если воды в них хоть выжимай. Нам не было холодно. Озябла и занемела от дождя только моя рука, лежавшая на румпеле.
– Идем под пятьдесят километров в час, – сказал Матюрет.
– Как вы думаете, сколько мы уже плывем?
– Я скажу, – ответил Клузио. – Минуточку. Три часа с четвертью.
– Ты рехнулся. Откуда ты знаешь?
– Как только мы отплыли, я стал считать. На каждые три сотни секунд отрывал кусочек картона. Таких фишек у меня сейчас тридцать девять. Перемножаем их на пять минут и получаем три с четвертью. Если я не ошибаюсь, минут через пятнадцать-двадцать спуск по реке прекратится и нас понесет туда, откуда мы прибыли.
Я резко бросил руль вправо, поставил лодку наискосок к течению и направил нос в голландскую сторону. Мы еще не достигли берега, как течение прекратилось. Нас не несло ни вниз, ни вверх. Дождь продолжался. Уже не курили, не разговаривали, а общались шепотом: «Бери весло и подгребай». Я тоже работал веслом, зажав румпель в сгибе правой ноги. Мягко коснулись буша. Ухватились за ветки и втянули лодку под спасительный его покров. Растительность сгущала темноту. Река была серой и покрыта туманом. Не будь отливов и приливов, и не разобрался бы, в какой стороне море, а где река.
Из реки – в открытое море
Прилив продлится шесть часов. Затем через полтора часа начнется отлив. Можно поспать семь часов, хотя лично я сгораю от нетерпения. Надо выспаться, иначе в море кто знает, когда удастся прилечь. Я растянулся между бочонком и мачтой. Матюрет положил одеяло поверх банки и бочонка, таким образом устроив для меня подобие укрытия. В нем я и предался сну, и только сну. Ни грезы, ни дождь, ни теснота – ничто не мешало моему глубокому и здоровому сну.
Я так бы и спал, если бы меня не разбудил Матюрет.
– Папи, нам кажется, что пришла пора. Отлив усиливается.
Лодка развернулась к морю, пальцы почувствовали упругую силу течения. Дождь перестал. При свете лунного серпа река четко просматривалась по ходу на сто метров. Она несла деревья, растительность и рисовала причудливые темные фигуры на своей поверхности. Я попытался определить точно место, где река встречается с морем. У берега ветра нет. Есть ли он на середине реки? Какой силы? Лодка выдвинулась из-под зеленого навеса, но пока еще она привязана к толстому корню. Всмотревшись в горизонт, я успеваю различить прибрежную полосу, где обрывается река и начинается море. Мы уплыли гораздо дальше, чем думали. До устья оставалось километров десять. Сделали по хорошему глотку рома. Надо ли устанавливать мачту сейчас? Надо, считают остальные. Мачта поднята. Она плотно вошла в подпятник и отверстие банки. Я поставил парус, не разворачивая его. Парус был плотно прижат к мачте. По моему слову Матюрет был готов поднять косой парус и кливер. Теперь, чтобы парус наполнился ветром, требовалось только освободить линь, удерживающий его у мачты. Это мог я сделать прямо с места, не вставая с сиденья. Матюрет с веслом на носу, я с веслом на корме. Надо сильно оттолкнуться и энергично грести, ибо течение плотно прижимает нас к берегу.
– Все приготовились. Пошли. С нами Бог.
– С нами Бог, – повторил Клузио.
– В руки Твои вверяю себя, – сказал Матюрет.
И мы пошли. Оба вместе налегли на весла. Я загребал глубоко и тянул что было силы. Старался и Матюрет. Мы легли на курс с легкостью воздушного поцелуя. До берега еще было рукой подать, а нас уже снесло вниз на сто метров. Вдруг налетел бриз, выталкивая лодку на середину реки.
– Поднять косой парус и кливер – делай!
Оба паруса напружинились. Лодка, встав на дыбы, как скаковая лошадь, рванула вперед. Вероятно, мы вышли позже запланированного времени, потому что внезапно река осветилась, словно при восходе солнца. Километрах в двух справа ясно просматривался французский берег, а в километре слева – голландский. Прямо спереди совершенно отчетливо различались барашки океанских волн.
– Боже, мы неправильно выбрали время, – сказал Клузио. – Сумеем ли выбраться, как считаешь?
– Не знаю.
– Посмотри, как высоки волны и как они разбиваются белой пеной! Не начался ли прилив?
– Не может быть. Разберусь на месте.
– Нам не выбраться. Мы не успеем, – сказал Матюрет.
– Закрой хлеборезку! Твое дело – парус и кливер. И ты заткнись, Клузио.
Трах-бах! Бабах! Карабины. В нас стреляют. Особенно четко прозвучал второй выстрел. Это не багры. Стреляют со стороны Голландской Гвианы. Я поднял гротовый парус. Ветер надул его с такой силой, что я едва справился с рывком удерживаемого в руке полотна и чуть не вылетел за борт. Лодку развернуло на сорок пять градусов. Я быстро пошел в отрыв, да это нетрудно было сделать – ветра хватило, даже с запасом. Бах, бах, бах. Затем выстрелы прекратились. Мы уже плыли ближе к французскому берегу, чем к голландскому, поэтому и перестали стрелять.
Лодка неслась с головокружительной скоростью, ветер готов был снести все на своем пути. Проскочили середину эстуария. Скорость растет. Промедли несколько минут – и нас вынесет на французский берег. Я вижу, что там уже в нашу сторону бегут люди. Мягко, очень мягко делаю разворот, что есть мочи налегая на главный парус. Косой и кливер совершают маневр самостоятельно. Ветер гонит уже в нужном направлении, а парус летит впереди ветра. Отпускаю парус – и выскакиваем из реки. Фу-у! Проскочили! Минут через десять морская волна попыталась остановить нас. Но мы с легкостью через нее перевалили. Мягкий говорок речной воды за бортом сменился серьезным разговором моря. Волны были высокими, но мы перекатывались через них как бы играючи. Шух-шух – кланяется лодка волнам без содрогания, и только ее корпус глухо стучит по воде, когда опускается вниз.
– Ура! Ура! Мы в море! – во весь голос заорал Клузио.
И чтобы осветить нашу победу над стихиями природы, Господь послал нам удивительный восход солнца. Волны накатывались в постоянном ритме. По мере удаления от берега высота их падала. Вода была мутной. Много ила и грязи. На севере она выглядела совершенно черной, потом сменялась голубой. Не было нужды сверять курс по компасу. Имея солнце за плечом справа, я уверенно шел вперед – быстро, но с малым креном, поскольку натяг паруса ослаб и он легко и спокойно увлекал нас за собой.
Клузио приподнялся. Ему хотелось устроиться так, чтобы все было видно. Матюрет помог ему примоститься у бочонка рядом со мной. Клузио скрутил сигарету, зажег ее и передал мне. Мы все трое закурили.
– Дайте мне рому, – сказал Клузио. – Этот переход косы стоит выпивки.
Матюрет разлил ром по жестяным кружкам, мы чокнулись и выпили за наше здоровье. Матюрет сидел рядом слева. Мы посмотрели друг на друга. Их лица сияли от счастья. Конечно, и мое тоже. Затем Клузио спросил:
– Капитан, месье, позвольте узнать, куда идем?
– В Колумбию, если Господу будет угодно.
– Господу угодно, без всякого сомнения. С нами Бог! – отвечал Клузио.
Солнце поднималось быстро. Мы обсохли. Из больничной рубашки я сделал себе подобие арабского бурнуса. Смоченная водой, она охлаждала голову и предохраняла от солнечного удара. Море простиралось перед глазами голубым опалом. Между гребнями трехметровых волн проходила широкая полоса спокойной воды. Полный комфорт. Бриз еще силен, и мы быстро уходим от берега. Время от времени оборачиваюсь назад и вижу, как прибрежная полоса тает на горизонте. Чем дальше мы убегаем от широкого зеленого массива, тем явственнее раскрывается его красота. Я пристально гляжу назад. Встречная волна, принятая не носом, а бортом лодки, напомнила о моих обязанностях и об ответственности за жизнь товарищей и свою собственную.
– Я приготовлю рис, – вызвался Матюрет.
– Я подержу печку, а ты горшок, – сказал Клузио.
Разожгли примус. Запахло жареным рисом. Добавив туда две банки сардин, мы его ели горячим. Сверх того мы выпили по чашке кофе. Ром? Я отказался: было жарко. Кроме того, я не был большим любителем спиртного. Клузио крутил для меня сигарету за сигаретой и прикуривал их. Первый завтрак на борту прошел хорошо. Судя по солнцу, было не больше десяти часов утра. Идем еще только пять часов, а уже чувствуется под нами огромная глубина океана. Волны невысоки, и, когда мы пересекаем их, лодку даже не бросает. Погода великолепная. Я вскоре сообразил, что днем совсем не требуется все время смотреть на компас. Время от времени я фиксировал положение солнца относительно стрелки – и этого оказывалось достаточно для управления лодкой. Все так просто. Яркий блеск утомлял глаза, и я пожалел, что не позаботился о защитных очках.
Ни с того ни с сего Клузио сказал:
– Повезло мне, что я вас встретил в больнице!
– И мне повезло, что я не одинок. Я думал и о Дега, и о Фернандесе. Если бы они согласились, то сейчас были бы с нами.
– Я не совсем уверен, – сказал Клузио. – Да и как в таком случае удалось бы заманить араба в палату в нужный момент?
– Согласен. Матюрет нам здорово помог. Я рад, что мы его взяли с собой. Он надежный. В уме и храбрости ему не откажешь.
– Спасибо, – сказал Матюрет. – Я вас благодарю обоих за то, что вы поверили в меня, несмотря на то что я молод и сами знаете кто. Я сделаю все, чтобы вас не подвести.
– Франсуа Сьерра тоже отличный парень. Он здесь здорово пригодился бы. Да и Гальгани…
– Обстоятельства не позволили нам это сделать, Папийон. Если бы Жезю вел себя порядочно и достал хорошую лодку, то можно было бы переждать где-то в буше и вызволить остальных. Они тебя знают, Папийон. И если ты за ними не послал никого, значит это невозможно было сделать.
– Между прочим, Матюрет, как ты оказался в палате?
– Я не знал, что меня интернируют. Я сказался больным, потому что у меня болело горло и мне хотелось немного погулять. Когда врач увидел меня, то сказал: «Из твоей карточки видно, что ты подлежишь интернированию на острова. Почему?» – «Я ничего не знаю об этом, доктор. А что значит интернирование?» – «Ладно, не беспокойся. Определим тебя в больницу!» Так я и попал туда, и мне нечего больше добавить.
– Он хотел оказать тебе хорошенькую услугу, – сказал Клузио.
– Что бы ни хотел этот знахарь сделать для меня, ему, вероятно, пришлось сказать обо мне что-нибудь этакое: «Вот тебе и ангелочек. Я-то думал, что он еще мочится в штанишки, а он уже в бегах!»
Мы разговаривали и смеялись.
– Кто знает, – говорил я, – может, мы встретимся с Жюло Молотобойцем. Он сейчас уже далеко. А может, еще выжидает в буше.
– Когда я уходил из больницы, – сказал Клузио, – то оставил под подушкой записку: «Ухожу и не оставляю адреса».
Это нам так понравилось, что мы хохотали от души.
Плывем уже пять суток, и ничего не случилось. Днем восточно-западный переход солнца служит мне компасом, ночью пользуюсь настоящим. Утром на шестые сутки нас приветствовало необычайно яркое солнце. Море неожиданно успокоилось, и летучие рыбы замелькали вокруг. Усталость меня доконала. Еще ночью, чтобы я не уснул, Матюрет протирал мне лицо смоченной тряпкой. Это мало помогало – я то и дело засыпал. Тогда Клузио вынужден был прижигать меня сигаретой. Теперь наступил штиль, и я решил немного поспать. Спустили главный парус, убрали кливер. Оставили только косой парус. Я лег на днище лодки и заснул, как деревянная колода. От солнца меня накрыли парусом.
Я проснулся оттого, что меня тряс Матюрет. Он сказал:
– Сейчас полдень или час дня. Я тебя разбудил потому, что крепчает ветер, а на горизонте, там, откуда он дует, все черно.
Я встал и отправился на свой пост. Единственный парус, оставленный нами, нес лодку по тихой глади. Позади, на востоке, все почернело. А ветер все крепчал и крепчал. Для поддержания быстрого хода лодке хватало косого паруса и кливера. Я аккуратно свернул грот-парус вокруг мачты и закрепил его.
– Держитесь! Приближается шторм!
Упали первые тяжелые капли. Темнота стремительно надвигалась на нас. Через четверть часа она заволокла весь горизонт и приблизилась вплотную. Вот она уже здесь: невероятной силы ветер подул навстречу. И все преобразилось, как в волшебном зеркале. Море вскипело. Волны покрылись пенными барашками. Солнце исчезло. Дождь хлынул ручьями. Ничего нельзя было разобрать. И только вода, разбиваясь о лодку, брызгами и струями больно жалила мне лицо. Да, это был шторм, мой первый шторм во всем ужасающем великолепии необузданной стихии: гром, молния, дождь, волны, завывание ветра над нами и вокруг нас.
Лодку несло, как соломинку; она взбиралась на умопомрачительные высоты и падала вниз так глубоко, что казалось, больше не выберется оттуда. Но нет, несмотря на эти захватывающие дух глубины, она снова влезала на бок следующей волны, переваливала через ее гребень, и все начиналось сначала – вверх и вниз, вверх и снова вниз. Я ухватился за руль обеими руками. Заметив еще более высокую и крутую волну, подумал, что ее надо чуть подрезать. Без всякого сомнения, я сманеврировал с излишней поспешностью, и лодка, резко встретив волну носом, зарылась и зачерпнула очень много воды. В самой лодке все оказалось на плаву. Совершенно непроизвольно рывком руля я сбросил лодку прямо поперек следующей волны (что делать крайне опасно), лодка встала почти отвесно в так называемой точке переворота черепахи, и почти вся вода из нее выплеснулась обратно в море.
– Браво! – закричал Клузио. – Ты настоящий мореход, Папийон! Лодка почти сухая!
– Теперь вы поняли, как это делается? – сказал я.
Если бы он только знал, что из-за недостатка опыта я едва не опрокинул нас всех в открытом море! Я решил больше не сопротивляться напору волн, не беспокоиться о курсе, а следить только за тем, чтобы лодка сохраняла устойчивость. Подставляя волне три четверти борта, я вел лодку вперед, полностью передоверившись законам морской стихии. И лодку снова поднимало и опускало, словно поплавок. То, что я вскоре понял, было для меня равнозначно важному открытию: море не любит суеты, море требует согласованного партнерства – и это девяносто процентов безопасного плавания. Дождь прекратился. Ветер продолжал дуть с уничтожающей свирепостью, но спереди и сзади появились прояснения. Сзади небо освободилось от туч, спереди оно еще было черным. А мы где-то посередине.
К пяти все прекратилось. Снова засияло солнце; бриз стал таким, каким и следует быть морскому бризу; и само море успокоилось. Я снова поднял главный парус, и снова мы, довольные, пошли дальше. Воду из лодки вычерпали. Одеяла выжали и развесили для просушки на мачте. Рис, мука, масло, двойной кофе и ром для бодрости. Солнце почти село, освещая голубизну моря и рисуя незабываемые картины: красновато-бурое небо, огромные желтые лучи скачут от полузатонувшего шара и зажигают небо, цепочка белых облаков и само море. По мере подъема волн просматривались их голубые основания, затем они становились зелеными, и гребни расцвечивались красным, розовым или желтым, в зависимости от того, какого цвета лучи пронизывали их.
Чувство глубокого умиротворения переполняло меня. А вместе с ним появилось и чувство уверенности. Я вел себя молодцом: шторм пошел на пользу. Пришлось самому учиться обращаться с лодкой в подобных обстоятельствах. Приближение ночи уже нисколько не тревожило.
– Итак, ты видел, Клузио, как надо выливать воду из лодки? Понял, как это делается?
– Послушай, брат, если бы это тебе не удалось и вторая волна накрыла бы нас сбоку, мы бы затонули. Ты поступил правильно.
– Этому тебя учили на флоте? – спросил Матюрет.
– Да. Стоит как-нибудь рассказать вам о флотской тренировке.
Нас, должно быть, порядком снесло в сторону от курса. Кто знает, чего мог стоить этот дрейф в течение четырех часов в условиях такого ветра и при таких волнах. Решил держать на норд-вест – так, казалось, наверстаю упущенное. Солнце исчезло в море, посылая нам свои последние вспышки, на этот раз фиолетовые. И затем сразу наступила ночь.
Плывем еще шесть суток, и ничто нас не беспокоит. Было, правда, несколько шквалов и ливней, но они более трех часов не продолжались, да их и нельзя было сравнить с тем первым штормом.
Десять часов утра. Ни ветерка. Мертвый штиль. Лег спать и проспал около четырех часов. Когда проснулся, то почувствовал, что горят губы. На них не оставалось кожи, на носу тоже, и правая рука сгорела до мяса. То же было и с Матюретом, и с Клузио. Дважды в день мы натирались маслом, но этого было недостаточно – тропическое солнце вскоре высушивало все напрочь.
Судя по солнцу, было около двух пополудни. Я поел. Видя, что штиль не прекращается, из паруса устроили навес. Там, где Матюрет мыл посуду, стали собираться рыбы. Я взял тесак и попросил Матюрета бросить в воду немного риса. Появилось мутное пятно от ферментации зерна в воде. В этом месте скопилось много рыбы, она плавала почти у поверхности. Улучив момент, когда одна рыбина высунула голову, я сильно ударил. Она всплыла кверху брюхом. Мы прикинули: тянет килограммов на десять. Мы ее выпотрошили и отварили в соленой воде, а вечером съели с подливкой из маниоковой муки.
В море мы уже одиннадцать суток. За все это время только раз видели корабль, да и то далеко на горизонте. Я стал задумываться, где же мы все-таки могли быть. Конечно далеко, но где? Где мы находимся по отношению к Тринидаду или другим островам, принадлежащим Англии? Вот уж действительно, заговори о черте, и он непременно… Спереди появилась черная точка. Она постепенно росла. Что это – корабль или рыбачья посудина? А может, ни то и ни другое – она к нам не приближается. Да, это был корабль. Теперь мы его ясно видим, но он идет пересекающимся курсом и вряд ли приблизится к нам вплотную. Ветра не было, и наши паруса тоскливо обвисли. С корабля нас даже не заметят. Вдруг раздался вой сирены, затем три коротких гудка. Корабль изменил курс и направился в нашу сторону.
– Надеюсь, он не подойдет слишком близко, – сказал Клузио.
– Нет никакой опасности. Тихо, как в мельничной запруде.
Это был танкер. Чем ближе он подходил к нам, тем лучше мы видели людей на палубе. Им, должно быть, не терпится узнать, что делает в открытом море эта маленькая скорлупка. Танкер медленно приближался. Мы видим уже офицеров и матросов команды и кока. Вот и женщины в пестрых платьях появились на палубе, и мужчины в цветных рубашках. Это были пассажиры. Пассажиры на танкере – это меня поразило. Танкер медленно приблизился, капитан выкрикнул по-английски:
– Откуда вы?
– Французская Гвиана.
– Вы говорите по-французски? – спросила одна женщина.
– Да, мадам.
– А что вы делаете так далеко в море?
– Мы идем туда, куда ведет нас Господь Бог.
Дама поговорила с капитаном и затем сказала:
– Капитан приглашает вас на борт. Он возьмет и вашу маленькую лодку.
– Скажите капитану, что мы ему благодарны, но хотим остаться в лодке.
– Почему вы отказываетесь от помощи?
– Потому что мы беглецы, а вы идете в другом направлении.
– Куда вы держите путь?
– На Мартинику или дальше. Где мы находимся?
– В открытом море.
– Как идти на Антильские острова?
– Вы читаете английскую карту?
– Да.
Через минуту нам спустили карту, несколько пачек сигарет, зажаренную баранью ногу и хлеба.
– Посмотрите на карту.
Я посмотрел и сказал:
– Мне следует идти на запад, и я попаду на Антильские острова, это так?
– Да.
– Сколько миль?
– Вы там будете через два дня, – сказал капитан.
– До свидания. Всем большое спасибо.
– Капитан поздравляет вас: вы отличный моряк.
– Спасибо. Прощайте.
Танкер осторожно отвалил, едва не коснувшись нас бортом. Я стал отгребать, чтобы не попасть в бурун от винтов. В этот момент матрос с танкера бросил мне фуражку. Она упала в лодку. На фуражке красовались золотая лента и якорь. С этой фуражкой на голове я со своими товарищами через двое суток благополучно прибыл на Тринидад.
Тринидад
Задолго до того, как мы увидели землю, птицы возвестили о том, что она уже рядом. В половине восьмого утра они стали кружиться над нами.
– Мы дошли! Мы дошли! Первая часть побега удалась! И труднейшая! Да здравствует свобода!
Мы кричим и дурачимся от радости, как мальчишки, и наши лица, намазанные от солнца кокосовым маслом, которым нас снабдили люди с танкера, блестят еще ярче. Около девяти мы увидели землю. Свежий ветер гнал нас к берегу на приличной скорости по морской зыби. Около четырех пополудни мы уже различали некоторые детали побережья длинного острова, обрамленного прерывистой цепочкой белых домиков, над которыми простирались огромные рощи кокосовых пальм. Издалека нельзя было разобрать, остров это или полуостров и живут ли в домиках люди. Прошел еще час с небольшим, прежде чем мы увидели людей, бежавших вдоль берега к тому месту, где мы собирались причалить. Минут через двадцать на берегу собралась пестрая толпа. Вся деревня вышла нам навстречу. Позднее мы узнали, что прибыли в Сан-Фернандо. Не дойдя до берега метров триста, я бросил якорь. Он тут же лег на дно. Я поступил так отчасти потому, что хотел узнать, как поведут себя люди, и отчасти потому, что не хотел повредить лодку в случае, если дно поросло кораллами. Мы свернули паруса и стали ждать. К нам направилась небольшая лодка. В ней находился белый человек в защитном шлеме и с ним двое чернокожих гребцов.
– Добро пожаловать на Тринидад, – сказал белый на чистом французском языке. Чернокожие засмеялись, обнажая все свои белые зубы.
– Спасибо на добром слове, месье. Скажите, на дне песок или коралл?
– Дно песчаное. Можете приставать к берегу без всякого опасения.
Мы подняли якорь, и волны нежно стали прибивать нас к пляжу. Мы едва коснулись дна, как с десяток чернокожих зашли в воду и одним махом на руках вытащили лодку на берег. Они рассматривали нас с любопытством и одобрительно прикасались к нам, как бы поглаживая. Женщины китайского, негритянского или индейского происхождения куда-то приглашали нас. Белый, разговаривавший с нами по-французски, объяснил, что они все наперебой зазывают нас к себе. Матюрет взял пригоршню песка и поцеловал его. Так выразил он свою радость. Я поведал белому о состоянии Клузио, и он распорядился перенести его к себе в дом, стоявший недалеко от пляжа. Он сказал нам, что мы можем оставить все свои пожитки в лодке до утра, и никто ничего у нас не тронет. Все громко кричали: «Good captain, long ride on small boat! (Хороший капитан! Долго плыл в маленькой лодке!)».
Мне стало смешно, что меня окрестили капитаном.
Наступил вечер. Я попросил оттащить лодку повыше и привязать к другой, гораздо большей, чем наша, лежавшей на берегу. После этого я последовал за англичанином, а Матюрет за нами. Подошли к дому в строгом английском стиле: несколько деревянных ступенек, дверь с металлической пластинкой. Мы вошли в дом. Там мы увидели Клузио, сидевшего в кресле и довольного собой. Больная нога покоилась на стуле. Рядом с Клузио сидели дама и девушка.
– Знакомьтесь, жена и дочь, – представил их джентльмен. – Сын учится в университете в Англии.
– Добро пожаловать в наш дом, – пригласила дама по-французски.
– Садитесь, месье, – сказала девушка, указывая на плетеные кресла.
– Спасибо, сударыни, просим о нас не беспокоиться.
– Почему же? Мы знаем, откуда вы прибыли. Поэтому еще раз говорю: добро пожаловать в наш дом. Не волнуйтесь, пожалуйста.
Англичанин был адвокатом. Его звали мистер Боуэн. Его контора находилась в Порт-оф-Спейне, столице, в сорока километрах отсюда. Принесли чай с молоком, тосты, масло и джем. Мы провели этот первый вечер как свободные люди. Я его никогда не забуду. Ни слова о прошлом. Ни одного бестактного вопроса. Только о том, сколько дней пробыли в море, какие встречались трудности. Как переносит боль Клузио. Когда лучше для нас поставить в известность полицию: завтра или послезавтра. Связаны ли мы какими-либо семейными отношениями; есть ли у нас родители, жены или дети. Если мы хотим написать им, то письма наши отправят. Что я могу сказать? Прием был просто замечательный как со стороны людей на берегу, так и со стороны этой семьи с ее необычайной добротой к трем беглецам.
Мистер Боуэн позвонил врачу, и тот посоветовал доставить Клузио на следующий день к нему в амбулаторию, чтобы провести рентгеноскопию, после чего будет ясно, как поступать дальше. Мистер Боуэн также позвонил руководителю Армии спасения в Порт-оф-Спейне. Он сказал нам, что этот человек приготовит для нас комнату в общежитии Армии спасения и мы сможем поехать туда, когда нам заблагорассудится. Мистер Боуэн поинтересовался, не нуждается ли наша лодка в ремонте, поскольку она может еще нам пригодиться для дальнейшего плавания. Он спросил, приговорены ли мы к каторге или к высылке. И казалось, остался очень доволен, когда узнал, что нас приговорили к каторге.
– Не хотите ли принять ванну или побриться? – спросила девушка. – Не стесняйтесь. Вы нас нисколько не беспокоите. В ванной комнате вы найдете все необходимое. Прошу вас.
Я принял ванну, побрился, причесался, переоделся в серые брюки, белую рубашку, белые носки и теннисные ботинки.
В дверь постучали. Появился индус с пакетом в руках, который он передал Матюрету. Оказывается, врач собрал для Матюрета кое-что из одежды и очень беспокоился, подойдет ли она ему по размеру, потому что он примерно одного роста с адвокатом и платья маленького размера у него не имеется. Он прислал индуса, который нам обо всем рассказал. Индус откланялся на мусульманский манер и удалился. Что еще сказать об этой доброте? Всего даже не опишешь! Клузио пошел спать первым, а мы впятером продолжили разговор. Очаровательных женщин больше всего интересовало, как мы собираемся менять свою жизнь. Ни слова о прошлом. Только настоящее и будущее. Мистер Боуэн посетовал на то, что власти Тринидада не позволяют беглым поселяться на острове. Он много раз пытался добиться разрешения на поселение для других, но каждый раз неудачно.
Девушка очень хорошо говорила по-французски, как и ее отец, без акцента и с правильным произношением. Она была белокурой, с веснушками на лице. Ей было между семнадцатью и двадцатью, но об этом я не решался ее спросить. Она сказала мне:
– Вы очень молоды, и у вас вся жизнь еще впереди. Я не знаю, за что вас приговорили, и не хочу знать. Но то, что вы решились, рискуя жизнью, отправиться в опасное плавание на таком утлом суденышке, говорит о том, что вы готовы заплатить любую цену за собственную свободу. И меня это приводит в восхищение.
Мы спали до восьми часов следующего утра. Когда проснулись, стол уже был накрыт. Обе дамы спокойно сказали нам, что мистер Боуэн уехал в Порт-оф-Спейн и вернется только после полудня. Он привезет необходимую информацию о том, что можно будет для нас сделать.
Оставив свой дом в распоряжении трех сбежавших преступников, мистер Боуэн преподал нам блестящий урок, лучше которого не придумаешь. Он как бы говорил нам без всяких громких фраз: «Вы нормальные, порядочные люди, вы сами видите, что я вам доверяю, поскольку оставляю вас одних в своем доме вместе с женой и дочерью». Нас глубоко тронуло такое бессловесное общение с ним. «Вот мы и договорились. Вы остаетесь у меня в доме как друзья. Я нисколько не сомневаюсь в вашем порядочном поведении. Я вам полностью доверяю, зная наперед, что вы не сделаете и не скажете ничего дурного и недостойного».
Читатель (надеюсь, придет день, у этой книги будет свой читатель), я недостаточно образован, не владею живым стилем и словом, чтобы описать это огромное чувство самоуважения, чувство возвращения собственного достоинства и вкуса к новой жизни. Это своеобразное крещение, эта купель очищения, это возвышение над пошлостью и грязью, окативших меня с головы до пят, эта быстротечная встреча лицом к лицу с настоящей ответственностью удивительно просто взяла и перевернула все мое существо. Я был каторжником, слышавшим кандальный звон даже тогда, когда на ногах не было цепей, и я осознавал себя свободным человеком; ощущение того, что кто-то наблюдает за мной, никогда не покидало меня. Я превратился во все то, что видел, испытал, прошел, выстрадал. Я превратился во все то, что отметило меня печатью злого человека, опасного во все времена, внешне кроткого, покладистого, но все же страшно опасного при взрыве эмоций. И все это исчезло, пропало, как в сказке. Благодарю вас, мэтр Боуэн, адвокат его величества. Благодарю вас за то, что за такое короткое время вы сделали из меня другого человека!
Та же белокурая девушка с голубыми, как море вокруг нас, глазами сидит рядом со мной под кокосовыми пальмами в саду своего отца. Красные, желтые, розовато-лиловые цветы придают поэтический оттенок, соответствующий моменту.
– Месье Анри (она называет меня месье! Сколько времени уже ко мне так никто не обращался?), как говорил вам вчера мой отец, британские власти ведут себя недостойным образом, и, к сожалению, вам нельзя оставаться здесь. Вам предоставлено право только на двухнедельный отдых, а затем вы снова должны отправиться в море. Сегодня утром я ходила осматривать вашу лодку, она выглядит очень маленькой и хрупкой для такого длительного плавания. Будем надеяться, что вы доберетесь до более гостеприимной страны, чем наша. На всех британских островах поступают одинаково в таких случаях. Если вас ждут большие неприятности, я прошу вас не держать сердца на людей, проживающих на этих островах. Они ни в чем не виноваты, все распоряжения идут из Англии от тех чиновников, которые вас совершенно не знают. Адрес отца: 101, Квин-стрит, Порт-оф-Спейн, Тринидад. Если Господу будет угодно, прошу вас, напишите хотя бы строчку о том, что с вами произошло.
Я был настолько тронут, что не знал, как ответить. К нам подошла миссис Боуэн. Она очень красивая женщина с каштановыми волосами и зелеными глазами. На ней было простое белое платье с белым поясом. На ногах сандалии салатного цвета.
– Месье, мой муж вернется к пяти часам. Он договорился доставить вас в Порт-оф-Спейн в собственном автомобиле без сопровождения полиции. Он также добился разрешения не помещать вас на первую ночь в полицейском участке Порт-оф-Спейна. Ваш раненый друг будет направлен в амбулаторию нашего приятеля, где ему окажут соответствующую помощь и уход. А вы поедете прямо в общежитие Армии спасения.
В саду к нам присоединился Матюрет. Он ходил взглянуть на лодку. Там он встретил толпу любопытных. В лодке ничего не тронуто. Осматривавшие ее люди нашли пулю, застрявшую в руле. Кто-то попросил разрешения вытащить ее и оставить себе в качестве сувенира. Матюрет отвечал: «Капитан, капитан», и все поняли, что надо спросить разрешения у капитана. Матюрет закончил вопросом:
– А почему бы нам не отпустить черепах?
– У вас есть черепахи? – воскликнула девушка. – Пойдемте посмотрим на них.
Мы направились к лодке. По дороге меня взяла за руку без всякой робости очаровательная маленькая черненькая девушка. Все цветные дружно приветствовали нас: «Добрый день!» Я вытащил черепах.
– Что будем делать? Отпустим в море? Или вы хотите поместить их в своем саду?
– У нас в глубине сада бассейн с морской водой. Давайте отпустим их туда, и у меня о вас останется какая-то память.
– Прекрасно.
Я раздал зрителям все, что было в лодке, за исключением компаса, табака, фляжки, ножа, мачете, топора, одеял и револьвера, который я засунул в одеяла так, что никто и не заметил.
В пять часов появился мистер Боуэн.
– Месье, все в полном порядке. Я вас сам повезу в столицу. Сначала мы завезем раненого в амбулаторию, а потом поедем в общежитие.
Мы разместили Клузио на заднем сиденье автомобиля. Я прощался с девушкой и благодарил ее за все. В это время появилась ее мать с чемоданом в руке:
– Возьмите, пожалуйста. Это некоторые вещи мужа. Они вам пригодятся. Мы отдаем их вам от всего сердца.
Что еще можно было сказать? Спасибо, еще раз спасибо, спасибо много-много раз. Машина тронулась. Без четверти шесть мы приехали в амбулаторию – частную клинику Святого Георгия. Санитары занесли носилки с Клузио в палату, в которой находился один индус. Он сидел на кровати. Вышел врач, он обменялся с мистером Боуэном рукопожатием. Доктор не говорил по-французски, но через мистера Боуэна он объяснил нам, что Клузио будет оказан должный уход и что нам разрешается навещать его в любое время. В машине мистера Боуэна мы поехали через весь город.
Столица поразила нас своими огнями, автомобилями, велосипедами. Белые, черные, желтые, индусы, китайцы – все перемешалось в толпах народа, идущего по тротуарам Порт-оф-Спейна, города деревянных домов. Мы подъехали к зданию, принадлежавшему Армии спасения. Только его первый этаж был из камня, остальные – из дерева. Дом уютно располагался в центре ярко освещенной площади, название которой мне удалось прочитать: «Рыбный рынок». Нас приветствовал капитан Армии спасения вместе со своим штатом, состоявшим из мужчин и женщин. Он говорил немного по-французски, остальные обращались к нам по-английски, и мы их, естественно, не понимали. Но по глазам, по выражению лиц мы чувствовали, что нам говорят очень приятные вещи.
Нас разместили на втором этаже в комнате на троих. Третья кровать была приготовлена для Клузио. В номере была ванная комната, в ней для каждого приготовлены полотенца и мыло. Показывая нашу комнату, капитан сказал:
– Если вы проголодаетесь, знайте, мы ужинаем все вместе в семь часов. Короче, через полчаса прошу к столу.
– Спасибо. Мы не голодны.
– Если вы желаете побродить по городу, вот вам два доллара Вест-Индии. Можете выпить чая, кофе, съесть мороженое. Смотрите не заблудитесь. Когда будете возвращаться назад, спросите: «Армия спасения, пожалуйста!» – и вам укажут дорогу.
Через десять минут мы уже на улице. Мы шли вдоль тротуаров, проталкивались между людьми; никто не обращал на нас никакого внимания. Мы вдыхали воздух свободы, делая первые шаги по городу. Глубокое доверие, которое оказывалось нам в этом большом городе, согревало сердце. Нас распирало от чувства собственного достоинства. Мы готовы были платить доверием за доверие. Мы чувствовали, что заслужили это доверие. Медленно идем с Матюретом через толпу. Нам хочется побыть среди людей, потолкаться в толпе, смешаться с ней, почувствовать себя ее частью. Заходим в бар и заказываем два пива. Кажется, чего проще – зайти и сказать: «Two beers, please! (Два пива, пожалуйста!)». В конце концов, это так естественно. И все же в нашем положении это кажется чудом, когда миловидная индианка с золотой бусинкой в носу обслужила нас и сказала: «Half a dollar, sir. (Полдоллара, сэр)». Ее белозубая улыбка, ее большие темно-фиолетовые глаза, чуть приподнятые в уголках, ее черные волосы, опускавшиеся до плеч, ее платьице с низким вырезом, из которого едва проступала девственная грудь, и все остальное великолепие пустячным и призрачным могло быть только не для нас! Для нас все это словно выплыло из страны чудес.
«Осторожно, Папи! Слишком быстро ты превращаешься из преступника, приговоренного к пожизненной каторге, в свободного человека! Не верится! Просто не верится!»
За пиво заплатил Матюрет: у него оставалось полдоллара. Пиво было прохладным. Он спросил: «Закажем еще?» Мне показалось, что нам не следовало этого делать.
– Вот что! – сказал я. – Не прошло и часа, а ты уже готов надраться!
– Спокойно, спокойно, Папи. Два пива – и надраться! О чем ты говоришь?
– Может, и так. Но мне, откровенно говоря, кажется, что нам не следует набрасываться на первые удовольствия. Надо приобщаться к ним постепенно. Начнем с того, что и деньги не наши.
– Разумно. Ты прав. Давай привыкать к свободе медленно. Примем это за правило.
Мы вышли из бара и отправились вниз по Уоттерс-стрит – главной улице, протянувшейся через весь город. Нас приятно поразили трамваи, ослики, запряженные в тележки, автомобили, яркая реклама кинотеатров и дансинг-холлов, глаза прелестных девушек, с улыбкой взиравших на нас. Так мы незаметно добрались до гавани. И вот перед нами расцвеченные огнями корабли для туристов со всевозможными экзотическими названиями: «Панама», «Лос-Анджелес», «Бостон», «Квебек», сухогрузы из Гамбурга, Амстердама и Лондона. По всей длине набережной, тесно прижавшись друг к другу, разместились бары, кабаре, рестораны, заполненные женщинами и мужчинами. Все пьют, поют, спорят, кричат. И вдруг я почувствовал непреодолимое желание смешаться с ними, пожить среди них обычной, простой жизнью. На террасе одного из баров подавали устрицы, креветки, мидии, крабов и кальмаров – все дары моря для возбуждения аппетита прохожего. Столики были накрыты скатертями в красно-белую клетку, зазывавшими посетителя присесть и отдохнуть. Бо́льшая часть столиков была занята. И еще были девушки шоколадного цвета с тонким профилем – мулатки, совершенно потерявшие черты негритянской расы; разноцветные блузки с низким вырезом облегали их тела, еще больше способствуя приобщению ко всему, что происходило вокруг.
Я подошел к одной из них, показал банкноту в тысячу франков и спросил на скверном английском:
– Французские деньги, хорошо?
– Да. Я для вас обменяю.
– О’кей!
Она взяла деньги и скрылась в комнате, забитой народом. Затем снова появилась:
– Пройдемте.
Девушка провела меня к разменной стойке, за которой находился китаец.
– Француз?
– Да.
– Меняете тысячу франков?
– Да.
– Все в долларах Вест-Индии?
– Да.
– Паспорт?
– Не имею.
– Удостоверение моряка?
– Не имею.
– Иммиграционные документы?
– Не имею.
– Ну ладно.
Он что-то сказал девушке. Она посмотрела вокруг и подошла к одному типу, смахивавшему на матроса. У него, как и у меня, была фуражка с золотой лентой и якорем. Она подвела его к стойке. Китаец сказал:
– Ваше удостоверение?
– Прошу.
Китаец спокойно выписал квитанцию на размен тысячи франков на имя незнакомого мне человека и попросил его поставить подпись. Затем девушка взяла его под руку и куда-то увела. Он так и не узнал, что же произошло. Я получил двести пятьдесят долларов Вест-Индии. Пятьдесят долларов одной бумажкой, остальные по два доллара. Девушке я дал один доллар. Мы вышли на террасу и уселись за столик. На нем появилось изобилие морских блюд, сдобренных великолепным сухим белым вином.
Тетрадь четвертая
Первая попытка
(Продолжение)
Тринидад
Наша первая свободная ночь в английском городе все еще стоит у меня перед глазами, словно это было вчера. Мы шли куда глаза глядят, упоенные светом и теплом, с головой окунувшись в эту веселую, смеющуюся, счастливую толпу. В баре полно моряков и тропических девочек, готовых подхватить подгулявших парней и увести с собой. Но ничего грязного и предосудительного не чувствуется в этих девушках, они совсем не похожи на известных женщин из чрева Парижа, Гавра и Марселя. Здесь мы снова сталкиваемся с чем-то не таким. Вместо перегруженных косметикой и отмеченных пороком лиц с алчными и хитрыми глазами ты видишь перед собой создания всех цветов кожи: от желтого китайского до черного африканского, от светло-шоколадных прелестниц с прямыми волосами до индусок или яванок, родители которых сошлись на сахарных плантациях или плантациях какао, и, далее, от девушек китайско-индийского происхождения с золотой бусинкой в носу до девушек индейских кровей с римским профилем и лицом цвета красной меди, украшенным двумя крупными черными глазами с длинными ресницами. До чего хороша их полуобнаженная упругая грудь, направленная вперед, говорящая как бы сама за себя: «Ну посмотрите, полюбуйтесь на меня – до чего я прелестна!» В волосах у каждой девушки свой цветок, отличающийся от других. Все они вместе – это сплошной красочный карнавал любви. К ним невольно тянешься без всякого грязного помысла. Нисколько не чувствуется, что они заняты своим делом, – кажется, они вышли повеселиться и деньги не главное в их жизни.
Как пара мотыльков, захваченных пучком света, мы с Матюретом, ошарашенные, летаем от бара к бару. Только очутившись на какой-то площади, залитой ярким светом, я бросил взгляд на церковную колокольню – часы показывали два. Два часа утра! Быстро! Быстро! Надо спешить. Мы себя ведем совершенно недостойно! У капитана из Армии спасения наверняка сложится о нас невысокое мнение. Надо немедленно возвращаться. Останавливаю такси, оно и отвозит нас по назначению. Два доллара. Я расплачиваюсь, и мы идем в общежитие Армии спасения, сгорая от стыда. Молодая белокурая девушка в форме рядового Армии спасения, лет двадцати пяти, любезно и мило приветствовала нас в холле. Ее, казалось, нисколько не удивило и не обеспокоило наше столь позднее возвращение. Сказав несколько слов по-английски естественным и приятным тоном, она вручила нам ключи от нашей комнаты и пожелала спокойной ночи. Мы легли спать. В чемодане я обнаружил пару пижам. Перед тем как выключить свет, Матюрет заметил:
– Я считаю, нам следует поблагодарить Бога за то, что Он дал нам так много и так быстро. А ты как думаешь, Папи?
– Поблагодари Его за меня. Я полагаю, твой Бог хороший парень. И ты совершенно прав. Он чрезвычайно щедр к нам. Спокойной ночи.
И я выключил свет.
Это воскрешение из мертвых, этот побег с кладбища, на котором меня похоронили, эти эмоции, теснившиеся в груди, эта ночь, проведенная среди людей и вновь воссоединившая меня с жизнью и со всем человечеством, – все это так взволновало, что я долго не мог заснуть. Я закрыл глаза, и снова, как в калейдоскопе, пронеслись передо мной картины, четкие и ясные, но без всякой системы и порядка: суд присяжных, Консьержери, прокаженные, Сен-Мартен-де-Ре, Потрошитель, Жезю, шторм… Похоже, что все пережитое за прошедший год сливается перед глазами памяти в каком-то диком и кошмарном танце. Пытаюсь отмахнуться от наваждений – ничего не выходит. Но самое странное и необъяснимое – это то, что картины смешались с визгом свиней, криком фазана, завыванием ветра и шумом дробящихся волн. И все это обволакивается звуками однострунных скрипок, игру которых мы только что слышали в барах.
Наконец, ближе к рассвету, я уснул. Около десяти утра в дверь постучали. Вошел мистер Боуэн, улыбаясь:
– Доброе утро, друзья. Все еще в постели? Должно быть, поздно вернулись. Как провели время?
– Доброе утро. Да, вчера припозднились. Простите великодушно.
– Полно, полно, пустяки. Это вполне естественно, если учитывать то, что вы перенесли. Наивно было бы полагать, что первую ночь на свободе можно провести иначе. Я пришел за вами, чтобы вместе пройти в полицейский участок. Вы должны сделать заявление о нелегальном въезде в страну. По окончании формальностей мы навестим вашего приятеля. Ему сегодня утром сделали рентген. Результат будет позже.
Мы быстро помылись и спустились вниз, где нас ожидали мистер Боуэн и капитан Армии спасения.
– Доброе утро, друзья, – сказал капитан на плохом французском.
– Доброе утро.
Женщина – офицер Армии спасения спросила:
– Вам понравился Порт-оф-Спейн?
– Да, мадам. Мы просто очарованы.
Выпив по чашке кофе, мы направились в полицейский участок. Шли пешком, поскольку до участка было не более двухсот метров. Полицейские нас приветствовали, не обратив особого внимания. Пройдя мимо двух часовых, чернокожих парней в форме цвета хаки, мы вошли в офис, внушительный по размерам, но скромно обставленный. Навстречу из-за стола поднялся офицер лет пятидесяти в шортах и рубашке с галстуком. На форме блестели значки и медали. Обращаясь к нам по-французски, он сказал:
– Доброе утро. Садитесь. Хочу немного поговорить, перед тем как принять от вас официальное заявление. Сколько вам лет?
– Двадцать шесть и девятнадцать.
– За что судили?
– За непреднамеренное убийство.
– Какой приговор?
– Исправительная колония, пожизненные каторжные работы.
– Значит, за умышленное, а не просто убийство?
– Нет, месье, в моем случае непреднамеренное.
– А я за умышленное, но мне тогда было семнадцать лет, – сказал Матюрет.
– В семнадцать лет уже знаешь, что делаешь, – сказал офицер. – В Англии, за доказанностью вины, вас бы повесили. Это так. Но британские власти здесь не для того, чтобы судить о французской исправительной системе. Единственное, с чем мы не можем согласиться, так это с выдачей преступников Французской Гвиане. Мы считаем, что это бесчеловечное наказание и совершенно не достойное такой цивилизованной нации, как французы. К сожалению, вы не можете оставаться на Тринидаде или на каких-либо других английских островах. Это невозможно. Поэтому я вас прошу вести с нами честную игру и не пытаться задерживаться под разными благовидными предлогами, как то: болезнь или что-то в этом роде. Вы можете совершенно свободно оставаться здесь, в Порт-оф-Спейне, на срок от пятнадцати до восемнадцати дней. У вас прекрасная лодка. Я распоряжусь, чтобы ее перевели в гавань. Если требуется какой-то ремонт, наши корабельные плотники из военно-морских сил все сделают для вас. При отбытии вы будете обеспечены провизией. Вам дадут хороший компас и карту. Надеюсь, вас примут южноамериканские страны. Не ходите в Венесуэлу. Там вас арестуют, заставят работать на строительстве дорог, а затем выдадут французским властям. Нельзя человека считать потерянным навсегда, если он однажды оступился. Вы молодые и здоровые парни, и, кажется, у вас достаточно здравого смысла. Думаю, вы не позволите себе так просто сломаться. Пройти такой путь и еще наделать глупостей – не стоит того! Буду рад, если мне удастся помочь вам занять ответственную и здравую позицию. Желаю удачи. Если будут трудности, позвоните по этому телефону. Вам ответят по-французски.
Он позвонил в колокольчик, и за нами пришел человек, одетый в цивильное. Мы заполнили декларацию в большой комнате, где несколько полицейских и гражданских сидели за пишущими машинками.
– Почему вы приехали на Тринидад?
– Поправить здоровье.
– Откуда прибыли?
– Из Французской Гвианы.
– Во время побега вы совершили какое-либо преступление? Убили кого-нибудь или нанесли серьезные увечья?
– Никого серьезно не изувечили.
– Откуда вы знаете?
– Об этом нам сказали перед отплытием.
– Ваш возраст, к какому наказанию приговорил вас французский суд?..
И так далее.
– Джентльмены, вам предоставляется право оставаться здесь на отдыхе в течение пятнадцати-восемнадцати дней. Вы можете делать все, что вам заблагорассудится. Если поменяете отель, дайте нам знать. Я сержант Вилли. Вот моя визитная карточка, на ней два телефона: домашний и служебный. Если что случится и вам потребуется помощь, немедленно звоните. Мы вам доверяем. Уверен, вы будете вести себя хорошо.
Через некоторое время мистер Боуэн отвез нас в клинику. Клузио обрадовался, увидев нас. Мы ему ничего не сказали о нашем ночном приключении в городе. Только сообщили, что нам не запрещают ходить там, где захотим. Он настолько удивился, что спросил:
– Даже без сопровождения?
– Даже так.
– Ну и дают эти ростбифы.
Боуэн ушел за доктором и возвратился с ним. Врач обратился к Клузио:
– Кто выправлял вам перелом, прежде чем наложить шину?
– Я и еще один парень, которого здесь нет, – ответил я.
– Вы сделали все очень хорошо. Нет необходимости снова ломать ногу. Сломанная малая берцовая кость прекрасно встала на место. Мы наложим гипс и усилим его железной пластинкой, чтобы вы могли немного походить. Останетесь здесь или пойдете с друзьями?
– Пойду с ними.
– Хорошо. Завтра вы к ним присоединитесь.
Мы рассыпались в благодарностях. Мистер Боуэн и врач ушли, а мы провели все утро и часть дня с Клузио. На следующий день мы бурно радовались, что снова оказались вместе – все трое в комнате нашего общежития. Окно открыто настежь. Вовсю работают вентиляторы и гонят прохладный воздух. Мы поздравили друг друга с тем, что неплохо выглядим и что новая одежда нам к лицу. Разговор начал клониться к прошлым событиям, поэтому я сказал:
– Давайте забудем прошлое. Чем скорее, тем лучше. Сосредоточимся на настоящем и будущем. Куда пойдем? В Колумбию? Панаму? Коста-Рику? Надо расспросить Боуэна о странах, где нас могут принять.
Я искал мистера Боуэна в его конторе – не нашел. Позвонил ему домой в Сан-Фернандо, к телефону подошла дочь. Мы обменялись несколькими любезными словами. Затем она сказала:
– Месье Анри, у Рыбного рынка рядом с вашим общежитием стоянка автобусов до Сан-Фернандо. Почему бы вам не приехать сюда и не провести день вместе с нами? Приезжайте, я вас жду.
И вот мы все трое на пути в Сан-Фернандо. Клузио особенно был хорош в своей полувоенной форме табачного цвета.
Мы были вновь глубоко тронуты встречей в доме, где нас и первый раз принимали с такой теплотой. Нам показалось, что и женщинам передалось наше волнение, так как они почти одновременно сказали, приветствуя нас:
– А вот и вы! Снова дома, дорогие друзья. Усаживайтесь, пожалуйста, поудобнее.
Но теперь при обращении к каждому из нас они опускали слово «месье» и говорили просто:
– Анри, передайте сахар, пожалуйста. Андре (это Матюрет), не хотите ли еще немного пудинга?
Миссис и мисс Боуэн, я очень надеюсь, что Господь воздаст вам за вашу великую доброту. И ваши благородные сердца, доставившие нам столько радости, никогда не узнают ничего такого, что могло бы огорчить вас и лишить безмятежного счастья.
Мы развернули на столе карту и устроили совет. Расстояния огромные: до Санта-Марты, ближайшего порта в Колумбии, тысяча двести километров; две тысячи сто до Панамы; две тысячи пятьсот до Коста-Рики. Вернулся мистер Боуэн.
– Я обзвонил все консульства, для вас есть интересная информация. Вы можете остановиться на несколько дней на Кюрасао. Колумбия не имеет установленных правил в отношении бежавших заключенных. Как сказал мне консул, ему не известны случаи, когда до Колумбии кто-либо добирался морем. То же можно сказать о Панаме и других местах.
– А я придумала для вас безопасное местечко, – сказала Маргарет, дочь мистера Боуэна. – Только очень далеко – три тысячи километров по крайней мере.
– Где это? – спросил отец.
– Британский Гондурас. Там губернатором мой крестный.
Я посмотрел на приятелей и сказал:
– Все на борт. Идем в Британский Гондурас.
Это было английское владение между Республикой Гондурас на юге и Мексикой на севере. С помощью Маргарет и ее матери мы принялись за разработку маршрута. Первый этап: Тринидад – Кюрасао, тысяча километров; второй этап: Кюрасао – какой-нибудь остров на пути; и третий: Британский Гондурас.
Никогда не знаешь, что может случиться в море. Поэтому мы решили к тем запасам провизии, которые нам предоставит полиция, добавить ящик с неприкосновенным запасом консервированных продуктов: мясо, овощи, джем, рыба и прочее. Маргарет заметила, что «Супермаркет Сальватори» с удовольствием нам сделает такой подарок.
– А если нет, – добавила она просто, – я и мама купим для вас сами.
– Но, мадемуазель?!
– Молчите, Анри.
– Нет, это совершенно невозможно. У нас есть деньги, и мы не имеем права злоупотреблять вашей добротой там, где можем расплатиться сами. Ни в коем случае.
Нашу лодку перевели в Порт-оф-Спейн. Теперь она стояла на плаву в доке королевского военно-морского флота. Мы простились со своими новыми друзьями, обещая повидаться перед отплытием. Ровно в одиннадцать часов вечера мы отправлялись на прогулку. Усаживали Клузио на скамейке в каком-нибудь великолепном сквере, и один оставался с ним, а другой шел бродить по городу. Так мы делали с Матюретом по очереди. Десять дней, как мы на Тринидаде. Благодаря железной пластинке в гипсовом бандаже Клузио может ходить самостоятельно без всякого труда. Мы научились добираться на трамвае до гавани. Ездили туда часто: и днем, и вечером. Нас уже хорошо знают и принимают запросто в некоторых барах. Постовые полицейские козыряют нам: каждый знает, откуда мы появились и что из себя представляем, но ни одного намека на этот счет. Мы заметили, что в барах, в которых нас уже знали, за еду и питье с нас берут меньше, чем с матросов. Так же с нами поступали и «девочки». Короче говоря, подсаживаясь к столикам моряков, офицеров или туристов, они пили беспрерывно и делали все, чтобы клиенты потратили как можно больше. В барах они отвечали на приглашение потанцевать только тем, кто предварительно их хорошо угостил. Но с нами они вели себя по-другому. К нам они подсаживались ненадолго, и всегда приходилось их долго упрашивать немного выпить. И даже в этом случае, если вообще соглашались, они не пользовались общеизвестным приемом: «Разве что по маленькому стаканчику», а заказывали немного пива или рюмку виски с содовой. Все это нам было очень приятно, поскольку косвенно они нам как бы говорили, что знают о нашем затруднительном положении, очень нам сочувствуют и поддерживают нас.
Нашу лодку покрасили и нарастили борта на десять сантиметров. Укрепили киль. Шпангоуты не пострадали, и лодка находилась в прекрасном мореходном состоянии. Мачту заменили на более длинную и легкую. Мешковину с кливера и косого паруса заменили хорошей парусиной цвета охры. Капитан с военно-морской базы снабдил меня настоящим морским компасом и картой. Показал, как с помощью карты и компаса можно грубо определить местонахождение в море. На карте был вычерчен маршрут до Кюрасао – норд-вест.
Капитан представил меня командиру учебного корабля «Тарпон», который с подчеркнутой вежливостью попросил меня выйти завтра в восемь утра на лодке за акваторию гавани. Я не понял значения этого приглашения, но обещал сделать непременно. На следующий день в назначенное время я уже был на базе вместе с Матюретом. С нами в лодку сел один матрос, и мы вышли в море при хорошем ветре. Через два часа, когда мы совершали маневры с выходом и заходом в акваторию порта, появился военный корабль. На палубе выстроились офицеры и команда, все в белой форме. Они прошли мимо нас с криками «ура!». Потом развернулись и проделали то же самое, при этом дважды приспускали вымпел. Это было официальное приветствие, значение которого до меня не совсем доходило. Мы вернулись на базу, где военный корабль был уже пришвартован к пирсу. Мы причалили лодку к набережной. Матрос сделал нам знак следовать за ним.
Мы поднялись на борт военного корабля, наверху у сходней нас приветствовал командир. Прозвучал сигнал боцманской дудки. После представления старшим офицерам нас провели перед строем курсантов и младших офицеров, стоявших по стойке смирно. Капитан сказал несколько слов по-английски, и затем строй рассыпался после команды «разойдись!». Молодой офицер объяснил нам, что капитан сказал курсантам, что мы заслуживаем всяческого уважения за проделанный долгий и опасный переход в такой маленькой лодке. Он сказал им также, что нас ожидает еще более длительное и опасное плавание. Мы поблагодарили командира за оказанную нам честь. Он подарил нам три дождевых флотских плаща с капюшоном и застежкой-молнией. Прекрасный подарок, столь необходимый в морских путешествиях! Плащи были черные, молнии длинные, а капюшоны удобные.
За два дня до отъезда нас навестил мистер Боуэн и передал послание от старшего офицера полиции, в котором нам предлагалось взять с собой трех высланных, подобранных полицией неделю назад. Эту троицу высадили на острове, в то время как их напарники, по их словам, отправились дальше в Венесуэлу.
Идея мне не понравилась, но я не мог так просто отказать властям взять на борт еще трех человек. С нами обращались учтиво и вежливо, поэтому не хотелось хамить прямо с порога. Я попросил разрешения прежде всего познакомиться с теми, кого собирался брать с собой. И только после этого соглашался дать ответ. За мной прислали полицейскую машину. Я прошел в кабинет старшего офицера полиции. Это был именно тот человек, который принимал нас в полицейском участке. Сержант Вилли выполнял роль переводчика.
– Как поживаете?
– Спасибо, нам бы хотелось, чтобы вы оказали нам услугу.
– С удовольствием, если смогу.
– У нас содержатся три высланных француза. Они проникли на остров нелегально и пребывают здесь уже несколько недель. Они уверяют, что приятели высадили их на Тринидаде, а сами отправились дальше. Мы понимаем, что это трюк, цель которого – вынудить нас предоставить им другую лодку. Мы обязаны удалить их с острова, и я, к большому сожалению, буду вынужден передать их в руки представителя властей с первого французского судна, которое зайдет в наш порт.
– Видите ли, месье, я постараюсь сделать все от меня зависящее. Но мне сначала хотелось бы с ними переговорить. Вы сами понимаете, на какой риск я иду, соглашаясь взять на борт трех человек, которых я совсем не знаю. Вы меня понимаете?
– Разумеется. Вилли, распорядитесь доставить этих троих.
Я хотел поговорить с ними наедине и попросил сержанта предоставить мне такую возможность.
– Вас выслали?
– Нет, мы каторжники.
– Зачем вы говорили неправду?
– Нам казалось, что будет лучше взять на себя вину за менее тяжкие преступления. Теперь мы видим, что ошиблись. Но что делать? А ты кто такой?
– Каторжник.
– Мы тебя не знаем.
– Я прибыл с последним конвоем. А вы когда?
– В тысяча девятьсот двадцать девятом году, – сказали двое.
– А я в тысяча девятьсот двадцать седьмом, – добавил третий.
– Послушайте! Старший офицер попросил меня взять вас с собой в лодку. А нас самих трое. Он предупредил меня также, что если я вас не возьму и среди вас нет человека, способного управлять лодкой, то он передаст вас на первое французское судно. Что вы на это скажете?
– В наши планы не входит снова отправляться в море. Мы можем притвориться, что уходим с вами, и вы нас высадите где-нибудь в конце острова, а сами пойдете дальше.
– Я не могу это сделать.
– Почему?
– Потому что к нам здесь относились слишком хорошо, и я не могу на все хорошее ответить подлостью.
– Послушай, брат, мне кажется, тебе следует ставить на первое место каторжника, а потом ростбиф.
– Почему?
– Потому что ты сам каторжник.
– Да. Но ведь так много всяких каторжников, что поди узнай, где больше разницы – между мной и тобой как каторжниками или мной и ростбифом? Все зависит от того, как на это посмотреть.
– Ты хочешь, чтобы нас передали французским властям?
– Нет. Но я также не хочу высаживать вас на берег раньше Кюрасао.
– У меня не хватит мужества начинать все сызнова, – сказал один из них.
– Послушайте, сначала взгляните на мою лодку. Может, та, на которой вы пришли, была никуда не годной?
– Верно. Давайте посмотрим, – согласились двое других.
– Договорились. Я попрошу старшего офицера разрешить нам всем посмотреть лодку.
Вместе с сержантом Вилли мы отправились в гавань. Когда они осмотрели лодку, то мне показалось, что все трое обрели бо́льшую уверенность.
Снова в путь
Через два дня мы и трое незнакомцев покидали Тринидад. Не знаю, каким образом это стало известно, но нас пришла провожать целая дюжина девчонок из баров. Была здесь и семья Боуэн с капитаном из Армии спасения. Когда одна из девушек меня поцеловала, мисс Маргарет рассмеялась и сказала:
– Анри, вы уже помолвлены? Быстро это у вас получается.
– Прощайте все! Нет, лучше до свидания! Позвольте мне сказать, вы навсегда остались в наших сердцах. Мы вас никогда не забудем.
В четыре пополудни нас подцепили к буксиру. Быстро вышли из гавани, но еще долго, смахивая слезы, смотрели мы на людей, которые пришли нас проводить и попрощаться с нами. Они долго махали нам вслед белыми платками. Отцепившись от буксира, мы подняли все паруса и направились навстречу первой волне. Сколько их впереди – и не пересчитать. Когда-то придет конец нашему плаванию!
На борту два ножа: у меня и у Матюрета. Топор у Клузио, у него есть еще и мачете. Мы были убеждены, что остальные не имеют при себе оружия. Тем не менее условились, что спать из нас может кто-то один, двое будут начеку. Ближе к закату солнца к нам подошел учебный корабль. Он сопровождал нас полчаса, затем, приспустив вымпел, отвалил в сторону.
– Как тебя зовут?
– Леблон.
– Конвой?
– Тысяча девятьсот двадцать седьмой год.
– Сколько дали?
– Двадцать.
– А ты?
– Каргере, конвой тысяча девятьсот двадцать девятого года. Пятнадцать лет. Я бретонец.
– Бретонец, и не можешь управлять лодкой?
– Да, это так.
– Меня зовут Дюфис, – сказал третий. – Я из Анжера. Дали пожизненный срок за шуточку, которую я отмочил на суде. А так – корячилась высылка на десять лет. Конвой тысяча девятьсот двадцать девятого года.
– Что же это была за шуточка?
– Видишь ли, я убил свою жену утюгом. Во время процесса один из присяжных спросил меня, почему утюгом. Я не знаю, что на меня нашло, но я ему ответил, что воспользовался утюгом, когда потребовалось ее хорошенько отутюжить. Мой адвокат мне потом говорил, что из-за этой дурацкой выходки мне и прописали полную дозу.
– Откуда вы бежали?
– Из лагеря лесорубов «Каскад». В восьмидесяти километрах от Сен-Лорана. Оттуда нетрудно было удрать – там не так строго. Мы просто вышли впятером – проще пареной репы.
– Впятером? А где двое?
Наступила неловкая тишина. Вмешался Клузио:
– Парень, здесь все напрямую. А поскольку мы вместе, мы тоже должны знать. Говори.
– Будь по-вашему. Я расскажу, – начал бретонец. – Верно, поначалу нас было пятеро. Те двое, которых сейчас нет с нами, оказались рыбаками из Канна. Они ничего не заплатили за побег, убедив нас, что их работа в лодке будет стоить подороже денег. А в пути мы поняли, что это за люди. По сути, никто из них и моря-то толком не нюхал. Раз двадцать мы оказывались на краю гибели. Просто удивительно, что не утонули. Мы пробирались вдоль берега сначала Голландской, затем Британской Гвианы и наконец добрались до Тринидада. Между Джорджтауном и Тринидадом я убил одного из них: никого не спрашивая, он объявил себя нашим вожаком. Парень заплатил за все: мало того что не внес ни гроша в общее дело, да еще и врал всю дорогу, что он хороший моряк. Второй испугался, что мы его тоже прикончим, и, воспользовавшись порывом ветра, выбросился в море вместе с румпелем. Мы едва справились с лодкой. Нас заливало несколько раз, и в конце концов лодку разбило о скалы. Просто чудо, что мы остались живы. Даю мое честное слово: все, что я сказал, – чистая правда.
– Это правда, – подтвердили двое его спутников. – Именно так и произошло. Мы втроем договорились его убить. Что скажешь на это, Папийон?
– Не мне вас судить.
– Нет, а что бы ты сделал на нашем месте? – настаивал бретонец.
– Надо обмозговать. Думаю, что жизнь нам дана для того, чтобы разобраться, что можно делать, а чего нельзя. А иначе как узнать, где правда?
– Я бы тоже убил его, – сказал Клузио. – Эта ложь могла бы стать причиной смерти и остальных.
– Ладно. Выбросим это из головы. Но у меня есть подозрение, что вы все чего-то боитесь. Вы и сейчас боитесь. И пошли с нами потому, что не было выбора. Разве не так?
– Именно так, – ответили они все разом.
– Вот что, ребята. Что бы ни случилось – давайте без паники. Что бы ни происходило – не выдавайте своего страха. А если кто струсил – не подавай вида и не ори. Это хорошая лодка; она уже себя показала в деле. Правда, груз в ней сейчас потяжелее, чем прежде. Но ее и нарастили по бортам на десять сантиметров, а это куда больше, чем нужно.
Закурили. Выпили кофе. Перед выходом из порта мы плотно поели, а поэтому решили до следующего утра о пище не заикаться.
На календаре 9 декабря 1933 года. Сорок два дня после побега. Об этом известил нас Клузио, учетчик всей нашей честно́й компании. Я обзавелся тремя ценными в походе вещами, которых недоставало поначалу: водонепроницаемые часы в стальном корпусе, купленные на Тринидаде, прекрасный настоящий компас на карданном подвесе и защитные очки. Клузио и Матюрет приобрели фуражки.
Три дня прошли без особых приключений, если не считать двух встреч со стаями дельфинов. Вот уж пришлось поволноваться, когда восьмерка дельфинов затеяла игры с нашей лодкой. Кровь стыла в жилах от того, что они вытворяли. Сначала подныривали под корму и выскакивали перед носом. Иногда один из них мягко задевал лодку. А на следующий номер без дрожи в коленках и вовсе нельзя было смотреть. Три дельфина брали нас в треугольник, выстраиваясь спереди и по бокам, затем со страшной скоростью, вспарывая воду, устремлялись к нам, на волосок от лодки ныряли под нее и выскакивали, как свечка, справа, слева и за кормой. И хотя при хорошем ветре скорость лодки была порядочной, дельфины, словно играючи, плыли рядом и обгоняли нас. Забавы продолжались часами, и это было ужасно. Малейшая ошибка с их стороны, и они бы нас перевернули. Новички сидели молча, но вы бы посмотрели на их несчастные физиономии!
В полночь на четвертые сутки разразился страшнейший шторм. Это было действительно нечто ужасающее. Но самое страшное было то, что волны не следовали друг за другом в каком-то одном направлении. Они произвольно, то чаще, то реже, сшибались и разбивались друг о друга. Некоторые были длинные и высокие, а другие зыбистые – в общем, ничего нельзя было понять. Никто не проронил ни слова, кроме Клузио, время от времени выкрикивавшего:
– Так держать! Вот она – делай так же! Берегись сзади!
И что любопытно: иногда волны надвигались на три четверти борта, грохоча и покрываясь пеной. Прекрасно: времени достаточно для определения их скорости и выбора встречного угла. Но тут неожиданно, без видимых причин, волна с грохотом нависала прямо над кормой. Много раз волны разбивались над головой, и, конечно же, много воды попадало в лодку. Пять человек непрерывно вычерпывали ее банками и кастрюлями. Мне удавалось уберечь лодку от заполнения водой больше чем на четверть, поэтому не было реальной опасности, что мы можем затонуть. Эта кутерьма продолжалась всю ночь до утра. Из-за дождя вплоть до восьми часов мы не видели солнца.
Большая радость увидеть солнце после шторма. Оно засияло над нами во всей своей красоте и величии. Прежде всего – кофе. Обжигающий кофе со сгущенным молоком и галетами. Галеты твердые, как камень, но обмакнешь их в кофе – лучше не придумать. Ночная борьба со штормом измотала меня донельзя, и, хотя дул еще сильный ветер и море было неспокойно, я попросил Матюрета сесть за руль. Мне надо было поспать. Не прошло и десяти минут, как Матюрет неудачно встретил волну и лодка на три четверти заполнилась водой. Все в ней всплыло: банки, печка, одеяла – уйма всего. Я добрался до руля по пояс в воде – и как раз вовремя! Очередная волна готова была обрушиться на нас. Резким движением румпеля я подставил ей корму: море нас пощадило, но бросило лодку так, что она пролетела вперед на добрых десять метров.
Воду вычерпывали все. Матюрет с помощью большой кастрюли за один раз выливал за борт литров пятнадцать, если не больше. Никто не пытался что-либо спасать, у всех была одна мысль – поскорей откачать воду: из-за нее лодка была тяжелой и не могла бороться с морем. Должен признаться, новички вели себя хорошо. Когда у бретонца вырвало из рук банку, он не придумал ничего лучшего, как еще более облегчить лодку: схватил бочонок с водой и выбросил его за борт. Через два часа в лодке было сухо, но мы лишились одеял, примуса, печки, топившейся древесным углем, и самого угля, бутыли с керосином и бочонка с водой – последнего, между прочим.
В полдень я собрался переодеться в новую пару брюк и тут обнаружил, что мой небольшой чемоданчик с двумя флотскими плащами из трех тоже унесло в море. Но две бутылки с ромом остались целы на дне лодки. Табак тоже уплыл, оставшаяся часть оказалась крепко подмоченной. В основном пропали банки с листовым табаком. Я сказал:
– Братья, для начала давайте выпьем. Затем вскроем неприкосновенный запас и посмотрим, на что нам рассчитывать. Вот фруктовый сок – прекрасно. Питье будем выдавать по норме. Несколько банок с галетами. Давайте освободим одну и сделаем из нее печку. Другие банки сдвинем вместе на дне лодки, чтобы можно было на них разжечь огонь. Этот ящик пойдет на дрова. Что говорить, мы все порядком перетрусили. Но беда миновала, и не будем вешать носа. С этой минуты никто не должен говорить: «Я хочу пить, я голоден, я хочу закурить». О’кей?
– О’кей, Папи.
Все вели себя прекрасно. Словно само Провидение смилостивилось над нами: ветер стих, море успокоилось. А мы сварили себе суп из консервированной говядины и изрядно подкрепились, съев по миске этой похлебки, накрошив еще туда галет. Терпеть можно до следующего утра. Заварили немного зеленого чая и разделили поровну. В неразбившейся коробке нашли блок сигарет. Пачки были маленькие – по восемь сигарет в каждой. Всего двадцать четыре пачки. Все решили, что курить буду я один, чтобы не уснуть. Без всякой обиды. Клузио отказался прикуривать для меня сигареты. Он передал мне спички. Такая дружественная атмосфера на борту способствовала избежанию всяческих неприятностей.
Идем уже шесть суток, а я так и не смог поспать. Но в этот день мне удалось выспаться. На море установился глубокий штиль – вода словно стекло. Спал безмятежно целых пять часов. Проснулся в десять вечера. Штиль продолжается. Все уже поужинали без меня. Им удалось сварить кукурузную кашу – из консервов, конечно. Я съел кашу и несколько сосисок. Показалось очень вкусно. Чай уже остыл, но это не имело никакого значения. Я закурил и стал поджидать ветра.
Ночь была удивительно звездной. Полярная звезда сверкала вовсю, и только Южный Крест превосходил ее своим великолепием. Особенно выделялись Большая и Малая Медведицы. Ни облачка. В звездном небе изумительное полнолуние. Бретонец дрожал от холода. Он потерял куртку и оставался в одной рубашке. Я протянул ему уцелевший флотский плащ.
Начинался день седьмой.
– Друзья, мы недалеко от Кюрасао. Я подозреваю, что немного отклонился на север, теперь я пойду строго на запад. Нам нельзя пройти мимо Голландской Вест-Индии. Что меня беспокоит: у нас нет пресной воды и пищи, за исключением небольшого запаса.
– Мы отдаем все тебе, Папийон, – сказал бретонец.
– Бери, Папийон, – добавили остальные. – Тебе лучше знать, что делать.
– Спасибо.
Откровенность всем облегчила душу. Всю ночь не было ветра, и только к четырем утра подул бриз, и лодка снова пришла в движение. Ветер все крепчал и крепчал до самого полудня. Тридцать шесть часов подряд он нес нашу лодку с приличной скоростью. Но волны были настолько мягкими и ласковыми, что нас даже не качало.
Кюрасао
Чайки. Первые крики чаек. Еще темно. Но вот они сами уже закружили над лодкой. Одна чайка села на мачту, поднялась на крыло и снова села. Эти полеты над нами и вокруг нас продолжались более трех часов. Вплоть до рассвета. Над горизонтом поднималось горячее солнце. Но никаких признаков земли. Откуда же появились эти чайки и все прочие морские птицы? Шарили глазами вокруг, высматривали целый день – все напрасно. Нет даже маленького намека на землю. Солнце еще полностью не закатилось, а уже взошла луна. Яркий свет луны в тропиках режет глаза. У меня нет больше защитных очков – их смыла та памятная мне волна вместе с нашими фуражками. Около восьми часов вечера вдалеке при лунном свете мы разглядели на горизонте темную полоску.
– Земля, – произнес я первым.
– Да, земля.
Словом, все согласились, что видят темную линию – это не что иное, как земля. Всю ночь я держал нос лодки по направлению к этой тени. Она росла и очерчивалась все яснее. Мы приближались к земле. На небе по-прежнему ни облачка, крепкий ветер, высокие волны, бегущие друг за другом в строгом интервале, идем быстро, на всех парусах. Темный массив суши не выступает высоко над водой, нельзя распознать, что из себя представляет побережье: утесы, скалы или пологий пляж. Луна садилась за дальним краем земли, отбрасывая тень, которая мешала разглядеть что-либо, за исключением линии огней на уровне моря, сначала сплошной, а потом прерывистой. Мы подходили все ближе и ближе, но когда до берега оставался километр, бросили якорь. Сильно подул ветер, лодку качало и разворачивало носом навстречу волне. Ее все время швыряло и крутило, и поэтому мы чувствовали себя неуютно. Разумеется, мы спустили и свернули паруса. Так и ждали бы мы до наступления следующего дня в этом неприятном, но безопасном месте, если бы внезапно не почувствовали, что якорь перестал держать. Чтобы управлять лодкой, ее надо привести в движение. Мы подняли кливер и косой парус, но произошло нечто странное: якорь не цеплялся за грунт. Мы стали вытаскивать на борт канат – якоря на конце не оказалось: его сорвало. Несмотря на все мои старания противодействовать волнам, они продолжали гнать нас самым причудливым образом на скалистый участок земли. Я решил поднять главный парус, чтобы целенаправленно и быстро выскочить на берег. Этот маневр я провел довольно успешно. Лодка с ходу вклинилась между двумя скалами и разбилась вдребезги. Никто не кричал и не паниковал. Накатившаяся следом волна выбросила всех нас на берег. Потрясенные, оглушенные, промокшие, но живые. Больше других досталось Клузио с его ногой в гипсе. Его лицо и руки были сильно исцарапаны. Остальные отделались шишками и ссадинами на коленях и руках. Меня немного прижало к скале ухом, и с него теперь капала кровь.
И все-таки вот мы, живые, на сухой земле, вне досягаемости волн. Когда занялся день, ребята подобрали плащ, а я перевернул лодку – она разваливалась на глазах. Выдрал компас из кормовых досок. Вокруг ни души, только выше – линии огней. Как довелось узнать после, огни предупреждали рыбаков об опасности на этом участке. Направились от берега вглубь суши; ничего не видно, кроме кактусов, огромных кактусов, да пасущихся ослов. Совершенно обессиленные, достигли колодца. Клузио по очереди пришлось нести на руках. Двое из нас скрещивали руки наподобие стула и усаживали Клузио. Вокруг колодца валялись высохшие туши коз и ослов. Колодец оказался пустым, а ветряк, когда-то качавший из него воду, крутился вхолостую. Ни души, только козы да ослы.
Пошли к небольшому дому, открытые двери которого приглашали нас войти. Мы стали кричать: «Эй, есть кто-нибудь живой?!» Никого. На каминной полке – холщовый мешок, перевязанный тесемкой. Я взял мешок и стал развязывать. Тесемка лопнула. Внутри мешка оказались деньги – голландские флорины, значит мы на голландской территории: Бонайре, Кюрасао или Аруба. Мы ничего не тронули в мешке, а положили его на место. Нашли воду и по очереди напились из ковша. Ни в доме, ни рядом никого не оказалось. Мы вышли и медленно отправились дальше, неся на руках Клузио, как вдруг подъехал старенький «форд» и перегородил нам дорогу.
– Вы французы?
– Да, месье.
– Садитесь в машину.
Трое сели сзади. Им на колени посадили Клузио. Я и Матюрет сели рядом с шофером.
– Вы потерпели крушение?
– Да.
– Кто-нибудь утонул?
– Нет.
– Откуда вы?
– С Тринидада.
– А до Тринидада?
– Французская Гвиана.
– Каторжники или высланные?
– Каторжники.
– Я доктор Нааль, владелец этой земли; данный полуостров – продолжение Кюрасао. Его называют Ослиный остров. Здесь обитают козы и ослы. Кормятся кактусами, несмотря на длинные колючки, которые прозвали здесь «барышни с Кюрасао».
– Это не очень лестное сравнение для настоящих дам с Кюрасао, – сказал я.
Крупное, грузное тело доктора заколыхалось от хохота. Потрепанный «форд» зачихал и остановился сам по себе. Я указал на стадо ослов и заметил:
– Если машина не справляется, давайте запряжем их и поедем.
– Упряжка имеется и лежит в багажнике. Но трудно поймать хотя бы пару, еще труднее запрячь.
Толстяк открыл капот и увидел, что от большого крена распределительный провод отсоединился от свечи. Прежде чем снова сесть за руль, он беспокойно огляделся вокруг. Чувствовалось, он встревожен. Поехали дальше. Дорога была разбита. Нас подбрасывало на ухабах. Но вот мы подъехали к полосатому шлагбауму и остановились. Рядом стоял небольшой белый дом. Нааль переговорил по-голландски с опрятно одетым и довольно светлокожим негром, который то и дело повторял: «Да, хозяин. Да, хозяин». Затем Нааль обратился к нам:
– Я дал этому человеку распоряжение: он останется с вами до моего возвращения, а я привезу вам пить, если хотите. Вылезайте, ребята.
Мы вышли из машины и уселись на траву в тени. Видавший виды «форд» затарахтел и умчался прочь. Не отъехал он и пятидесяти метров, как негр подошел к нам и на диалекте Голландской Вест-Индии, представляющем собой смесь английских, голландских, французских и испанских слов, рассказал нам, что его хозяин, доктор Нааль, поехал за полицией, потому что очень нас боится. А ему, своему слуге, посоветовал тоже поостеречься, поскольку мы беглые воры. Бедняга не знал, чем нам только угодить. Он приготовил кофе, слабенький правда, но, поскольку было очень жарко, этот кофе нас несколько взбодрил. Ждали больше часа, и вот наконец появилась крытая машина, наподобие «черного ворона», в ней сидели шесть полицейских, одетых в форму немецкого образца. За ней следовал открытый пикап, за рулем тоже полицейский и с ним три господина, среди них – доктор Нааль.
Все вышли из машин, и один из них, самый низкорослый, похожий на новоиспеченного священника, сказал нам:
– Я старший инспектор полиции, ответственный за безопасность Кюрасао. Мое положение обязывает меня взять вас под стражу. Совершили вы какие-либо преступления по прибытии на остров? Если да, то какие? И кто именно?
– Месье, мы бежим из заключения. Прибыли с Тринидада, и только несколько часов назад наша лодка разбилась здесь о скалы. Я капитан этой небольшой команды и хочу вас заверить, что никто из нас не совершил ни малейшего преступления.
Старший инспектор повернулся к доктору Наалю и стал говорить с ним по-голландски. Они еще продолжали разговор, когда к нам подъехал какой-то малый на велосипеде. Было видно, что он спешил сюда. Стал говорить громко и быстро, обращаясь то к доктору Наалю, то к инспектору.
– Месье Нааль, – спросил я, – почему вы сказали этому человеку, что мы воры?
– Потому что, перед тем как вас встретить, этот парень сказал мне, что наблюдал за вами из-за кактусов. Он видел, как вы вошли в его дом и вышли. Он мой служащий и присматривает за ослами.
– Значит, так: мы вошли в дом и поэтому мы воры? Получается какая-то бессмыслица, месье. Все, что мы сделали, это выпили воды. Вы именно это называете воровством? Я вас так понял?
– А как насчет мешочка с флоринами?
– Да, я вскрыл мешок и даже оборвал тесемку. Но все, что я сделал, так это посмотрел, какие деньги там лежат. Нам было важно узнать, в какую страну мы попали. Мы положили мешок с монетами на прежнее место – на каминную полку.
Старший инспектор смотрел мне прямо в глаза, потом повернулся к типу на велосипеде и стал ему строго выговаривать. Доктор Нааль пытался вставить слово, но инспектор резко, в немецкой манере, его оборвал. Затем он велел велосипедисту сесть в пикап рядом с шофером, сел сам и с ним двое полицейских, и все куда-то отправились. Нааль и еще один человек, прибывший с ним, пошли вместе с нами в дом.
– Я должен вам объяснить, – заявил Нааль, – тот человек сказал мне, что мешок исчез. Прежде чем вас обыскивать, инспектор расспросил его, и ему показалось, что тот врет. Если вы невиновны, прошу меня извинить, но я здесь ни при чем.
Меньше чем через четверть часа пикап вернулся, и инспектор сказал мне:
– Вы сказали правду, тот негодяй соврал. Он будет наказан за намерение нанести вам ущерб таким образом.
А в это время полицейские уже усаживали нашего «доброхота» в «воронок». Мои ребята тоже оказались там. Я было последовал за ними, но старший инспектор остановил меня и любезно предложил:
– Садитесь в мою машину рядом с шофером.
Мы поехали впереди «воронка» и вскоре потеряли его из виду. Выскочили на хорошую дорогу со щебеночным покрытием, которая привела в городок с настоящими голландскими домиками. Кругом было очень чисто, большинство людей на велосипедах – сотни едущих во всех направлениях. Подъехали к зданию полицейского управления. Прошли через большой офис. В нем находилось много полицейских, все в белой форме, каждый сидел за отдельным столом. Вошли в кабинет, оборудованный кондиционером. В нем было прохладно. Крупный и грузный белокурый человек сидел в кресле. Он встал при нашем появлении и заговорил по-голландски. После обмена первыми репликами инспектор, владевший французским, обратился к нам:
– Это начальник полиции Кюрасао. Шеф, этот француз – предводитель группы из шести человек, задержанных нами.
– Хорошо, инспектор. Как потерпевших кораблекрушение мы вас приветствуем на Кюрасао. Ваше имя?
– Анри.
– Вот что, Анри, у вас были неприятности с этим мешком, но это даже к лучшему, поскольку инцидент исчерпан и подтвердил, что вы честный человек. Я предоставлю вам хорошую комнату, где вы сможете отдохнуть. Ваше дело будет доложено губернатору, и он примет надлежащие меры. Старший инспектор и я замолвим о вас слово.
Он пожал нам руки, и мы вышли. Во дворе доктор Нааль еще раз извинился перед нами и обещал употребить свое влияние для нашей пользы. Через два часа мы все оказались запертыми в огромной палате с дюжиной кроватей и длинным столом посередине. Через открытое окно мы попросили полицейского купить нам табаку, сигаретной бумаги и спичек на доллары Тринидада. Денег он не взял, а что ответил – мы не поняли.
– Этот чернокожий, видно, не торопится с исполнением своего долга, – сказал Клузио. – А мы до сих пор сидим без курева.
Я уже собирался постучать в дверь, как она открылась. Какой-то коротышка, похожий на китайца, в серой тюремной робе с номером на груди (тут уж не ошибешься), заглянул и сказал:
– Деньги, сигареты.
– Нет. Табак, бумага, спички.
Через несколько минут он вернулся и принес нам все. А еще он притащил большой горшок, из которого шел пар, – горячий шоколад или какао, раздал нам кружки, и мы выпили по полной.
Днем меня снова вызвали к начальнику полиции.
– Губернатор распорядился разрешить вам гулять на тюремном дворе. Скажите своим товарищам, чтобы они не вздумали удрать, поскольку это повлечет за собой серьезные последствия для вас всех. А вам, как капитану, разрешается находиться в городе с десяти до двенадцати и днем с трех до пяти. У вас есть деньги?
– Да, английские и французские.
– Полицейский в штатском будет вас сопровождать, куда бы вы ни пошли.
– Что с нами будет?
– Я думаю, что мы вас будем отправлять по одному на танкерах разных стран. На Кюрасао находится один из крупнейших заводов по переработке нефти. Нефть идет из Венесуэлы. За сутки от двадцати до двадцати пяти танкеров входят и выходят из порта. Для вас это было бы идеальным решением, поскольку таким образом вы доберетесь до других стран без всяких затруднений.
– Каких стран, например? Панама, Коста-Рика, Гватемала, Никарагуа, Мексика, Канада, Куба, Соединенные Штаты? Или другие страны, где живут по английским законам?
– Это невозможно. Европа тоже отпадает. Не беспокойтесь, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь вам начать новую жизнь.
– Спасибо, шеф.
Слово в слово я повторил все своим приятелям. Клузио, самый большой плут из нашей компании, спросил:
– А ты-то сам что об этом думаешь, Папийон?
– Еще не знаю. Может, это лапша на уши, чтобы мы сидели тихо и не удрали.
– Боюсь, что ты прав, – согласился он.
Бретонец поверил в этот замечательный, по его мнению, план. Дюфис, сторонник утюга в разрешении семейных конфликтов, пребывал в восторге:
– Никаких больше лодок, никаких приключений – это уж точно. Каждый из нас приедет на танкере в ту или иную страну и там тихонечко растворится.
Леблон придерживался того же мнения.
– Что скажешь, Матюрет?
И наш девятнадцатилетний малыш, этот мокрушник, ставший каторжником совершенно случайно, этот мальчик с женскими чертами лица, подал свой нежный голосок:
– Вы что, братва, и в самом деле думаете, что эти с квадратной головой фараоны снабдят каждого из нас документом на имя порядочного пассажира? А может, они еще для нас их нелегально изготовят? Я так не думаю. Самое большее, они могут закрыть глаза, если мы по одному в обход закона сядем на отплывающий танкер – и с приветом. Да-да, не больше, и они это будут делать для того, чтобы избавиться от нас без головной боли. Я так думаю. Я не верю ни одному их слову.
Я редко отлучался, разве что по утрам кое-что купить. Прошла неделя – ничего особенного. Стали беспокоиться. Однажды вечером увидели трех священников, обходивших камеры и палаты в сопровождении полицейского. Они надолго задержались в соседней камере, где сидел негр, обвиненный в изнасиловании. Мы подумали, что могут и нас навестить, поэтому все собрались в палате и расселись по койкам. Так оно и получилось. Трое священников, а с ними доктор Нааль, начальник полиции да еще один человек в белой форме, которого я принял за флотского офицера, вошли в нашу палату.
– Монсеньор, вот французы, – сказал начальник полиции, – их поведение безупречно.
– Похвально, дети мои, давайте сядем за стол, так лучше будет беседовать.
Все сели, включая тех, кто пришел с епископом. Принесли табурет, стоявший у выхода во двор, и епископ сел во главе стола. Теперь он всех хорошо видел.
– Французы почти все католики. Среди вас есть не католики?
Никто не поднял руки. Я подумал, что кюре из Консьержери почти меня окрестил и я мог бы себя причислить к католикам.
– Друзья мои, я родом из французской семьи. Меня зовут Ирене де Брюин. Мои предки – гугеноты, протестанты – были вынуждены бежать в Голландию от преследования в эпоху Екатерины Медичи. Так что по крови я француз. Я епископ Кюрасао – города, где больше протестантов, чем католиков. Но здешние католики ревностно и беззаветно исполняют свой долг. Каково ваше нынешнее положение?
– Мы ждем, когда нас по одному отправят на танкерах.
– И скольких уже отправили?
– Ни одного.
– Хм. Что вы скажете на это, начальник? Будьте любезны объяснить по-французски. Вы владеете им превосходно.
– Монсеньор, это идея губернатора, но, честно говоря, ни один капитан не соглашается брать их на борт, в основном из-за того, что у них нет паспортов.
– С этого и надо было начинать. Разве губернатор не может выправить специальный паспорт по такому случаю?
– Не знаю. Он со мной об этом не разговаривал.
– Послезавтра я отслужу для вас мессу. А завтра днем прошу всех на исповедь. Исповедовать вас буду я сам. Я буду молить Всевышнего простить вам грехи ваши. Возможно ли будет завтра отпустить этих людей в собор в три часа дня?
– Да.
– Мне бы хотелось, чтобы их привезли на такси или на частной машине.
– Я привезу их, монсеньор, – сказал доктор Нааль.
– Благодарю тебя, сын мой. Дети мои, я ничего вам не обещаю. Но вот вам мое правдивое слово: с этого дня я буду стараться вам помочь.
Когда мы увидели, что Нааль, а за ним и бретонец поцеловали перстень на руке прелата, мы все приложились к нему губами и пошли провожать епископа во двор до его машины.
На следующий день мы отправились на исповедь. Я исповедовался последним.
– Входи, сын мой, начни с греха самого тяжкого.
– Отче, я начну с того, что я некрещеный. Но еще во Франции, в тюрьме, кюре сказал мне, что, крещен я или нет, все равно мы все дети Божьи.
– Он прав. Очень хорошо. Тогда оставим вопрос о конфессии, расскажи просто о себе.
И я поведал ему свою жизнь во всех подробностях. На протяжении почти всего рассказа этот князь церкви слушал меня терпеливо и внимательно, не прерывая. Взяв мои руки в свои, он подолгу смотрел мне прямо в лицо, а в тех моментах повествования, где прямое признание было затруднительным, его глаза опускались, чтобы помочь моему признанию открыто вырваться наружу. Глаза и лицо этого шестидесятилетнего прелата были столь светлыми, что, казалось, в них отражается образ младенца. Кристальная чистота души, переполненной безграничной добротой, светилась во всех чертах его, и взгляд бледно-серых глаз проникал в сердце и успокаивал, проливаясь бальзамом на рану. Мягко, очень мягко, продолжая держать мои руки в своих, говорил он со мной. И голос его был так тих, что походил на шепот.
– Иногда Господь требует от детей своих водрузить на рамена груз злых деяний человеческих, чтобы тот, кого Он избрал как жертву, мог стать сильнее и доблестнее прежнего. Поразмысли, сын мой: если бы ты не вынужден был взойти на эту голгофу, разве мог бы ты возвыситься до таких высот и приблизиться к Божественной истине? Скажу больше: люди, система, страшная машина, в жернова которой ты попал, изначально злые человеческие существа, принесшие тебе, каждый по-своему, пытки и страдания, на самом деле оказали тебе величайшую услугу. Они создали новую личность внутри тебя, и она лучше первой. И только им ты обязан тем, что обрел чувство чести, доброты и милосердия, равно как и силу воли, необходимую для преодоления этих трудностей, чтобы стать более совершенным человеком. В такой личности, как ты, ростки мести не могут пустить корни, равно как и сама идея наказания каждого за причиненное зло. Иди дорогой Спасителя и спасай людей. Живя, да не причиняй боли другим, даже если тебе это покажется оправданным. Господь простер руце Свои к тебе, сын мой. Он говорит: «Помоги сам себе, и Я помогу тебе». Господь помогал тебе во всем. Он даже позволил тебе спасти других и повести их к свободе. Прежде всего не думай, что грехи твои столь тяжки, что не простятся вовеки. Есть много высокопоставленных людей, виновных в более тяжких проступках, чем твои. И все же наказание, наложенное на них в рамках человеческого правосудия, не дало им возможности подняться над собой, как это сделал ты.
– Спасибо, отче. Вы так добры ко мне, что я буду помнить об этом всю жизнь.
И я поцеловал его руки.
– Ты должен снова отправиться в путь. Впереди ждут новые опасности. Мне бы хотелось крестить тебя. Что ты скажешь на это?
– Отче, выслушайте меня. Давайте пока оставим все как есть. Мой отец воспитывал меня вне религии. У него было золотое сердце. Когда умерла мать, он как бы занял ее место. В его делах, словах, поступках, в его привязанности ко мне я видел мать. Мне кажется, что если я позволю себя окрестить, то я в какой-то степени совершу по отношению к отцу предательство. Позвольте мне оставить за собой свободу выбора. Сейчас мне нужны нормальные документы, чтобы я смог честно зарабатывать на жизнь. Я потом напишу отцу, спрошу его, не будет ли он возражать, если я, против его убеждений, захочу креститься, не огорчит ли это его.
– Понимаю тебя, сын мой. Господь с тобой. Я благословляю тебя и буду молить Бога защитить тебя.
– Ты видишь, – сказал доктор Нааль, – как проповедь монсеньора Ирене де Брюина раскрывает перед тобой всю сущность человека?
– Да, конечно. Скажите, что вы намерены предпринять?
– Я собираюсь добиться у губернатора льгот при следующей распродаже лодок, конфискованных у контрабандистов. Вы пойдете со мной и выберете для себя лучшую. С остальным – провизией и одеждой – будет легче.
После мессы епископа к нам потянулся поток посетителей, особенно их было много около шести вечера. Люди хотели познакомиться с нами. Они приходили, садились на скамейки у стола. Всегда приносили что-нибудь с собой и, уходя, «незаметно», без слов оставляли. Около двух пополудни нас навещали сестры-монахини из монастыря Всех Страждущих и Скорбящих вместе с матушкой настоятельницей. Они хорошо говорили по-французски. Приносили с собой корзину, всегда полную вкусной выпечки. Матушка настоятельница выглядела очень молодо – ей не было еще сорока. Цвета ее волос нельзя было разглядеть, поскольку они прятались под большим белым головным убором, но глаза были голубые и брови белесые. Она принадлежала к знаменитой в Голландии фамилии (по словам доктора Нааля) и написала домой письмо, желая выяснить, нельзя ли для нас что-нибудь сделать, чтобы не отсылать снова в море. Мы провели в беседах много приятных часов, и она все расспрашивала о нашем побеге. Иногда она просила меня рассказать сопровождавшим ее монахиням эту историю сызнова. И если я забывал какую-то подробность или перескакивал через нее, она мягко призывала меня излагать все по порядку:
– Анри, не спешите. Вы пропустили историю с фазаном… Почему вы сегодня забыли о муравьях? Они сыграли важную роль: позволили Бретонцу Маске застать вас врасплох.
Я рассказываю обо всем этом потому, что те мгновения, мягкие и добрые, настолько выпадали из рутины нашей повседневной жизни, что, казалось, прежнее грязное существование озарялось небесным светом и переставало быть реальностью.
Я увидел нашу лодку. Великолепное восьмиметровое судно с глубоким килем, длинной мачтой и огромным размахом парусов. Идеальное сооружение для контрабандистов. При полном снаряжении. Но на лодке стояли восковые печати таможни. На аукционе кто-то сразу предложил шесть тысяч флоринов, или около тысячи долларов. Короче говоря, тут же доктор Нааль пошептался с этим человеком, и нам лодку переуступили за шесть тысяч и один флорин.
Через пять дней все было готово. Полупалубная лодка – настоящий королевский подарок. Она блестит свежей краской. Набита припасами, тщательно размещенными по отсекам. Каждый из нас получил чемодан. Шесть чемоданов, заполненных доверху новенькой одеждой, ботинками и всем необходимым, завернутым в водонепроницаемый брезент.
Тюрьма в Риоаче
Отплыли на рассвете. Доктор и монахини пришли с нами попрощаться. Отчалили легко, ветер подхватил лодку и вынес из гавани. Взошло лучезарное солнце, день обещал быть спокойным. Я сразу заметил, что у лодки слишком большая парусность и недостает балласта. Я решил проявлять максимальную осторожность. Лодка летела вперед; с точки зрения скоростных данных, она была превосходна, но очень капризна в управлении. Я шел строго на запад.
Решили, что трое пассажиров, присоединившихся к нам на Тринидаде, высадятся нелегально на побережье Колумбии. Больше всего им не хотелось пускаться в далекое плавание. Они доверяли мне, как они выразились, во всем, кроме погоды. И действительно, в метеосводках, которые мы читали в газетах на Кюрасао, прогнозировались бури и даже ураганы. Я согласился с их правом выбирать самим, и мы договорились, что они сойдут на берег пустынного и необжитого полуострова под названием Гуахира. А что касается нас, то мы отправимся дальше – в Британский Гондурас.
Погода выдалась чудесная. Звездная ночь с ярким месяцем обещала облегчить осуществление плана. Мы плыли прямо к колумбийскому берегу. Я бросил якорь и метр за метром стал делать промер дна, чтобы определить, где можно высаживаться. К несчастью, вода оказалась очень глубокой, и мы вынуждены были опасно сблизиться со скалистым берегом, прежде чем глубина установилась на отметке менее полутора метров. Пожали друг другу руки. Каждый вылезал из лодки и, постояв немного в море с чемоданом над головой, брел к суше. Расставание получилось трогательным и печальным. Они оказались надежными спутниками, опасностям смотрели прямо в лицо и нас не подвели. Было жаль, что они покидают лодку. Пока они продвигались к берегу, ветер полностью стих. Черт бы его побрал! А что, если нас заметят из селения, указанного на карте под названием Риоача? Это ближайший порт со своей полицией. Будем надеяться, что пронесет. У меня появилось ощущение, что мы подошли к поселениям гораздо ближе, чем предполагали. Об этом говорил и маяк на мысе, который мы только что миновали.
Ждать, ждать… Те трое исчезли из виду, помахав нам на прощание белым носовым платком. Боже, где же ветер! Ветер, который унесет нас от побережья Колумбии, страны, представлявшейся нам в данной ситуации большим вопросительным знаком. Никто не знал, возвращают ли отсюда беглых или нет. Британский Гондурас давал хоть какую-то надежду, поэтому зачем нам связываться с незнакомой Колумбией? Только в три часа дня подул ветер, и мы смогли снова отправиться в путь. В лодке все привели в полный порядок. Равномерно перераспределили груз – он оставался еще внушительным. Идем уже пару часов, держась от берега на почтительном расстоянии. Внезапно появился катер с людьми на борту. Катер шел прямо на нас. Послышались предупредительные выстрелы в воздух, требующие остановиться. Я не стал подчиняться, а направил лодку в открытое море, стремясь как можно скорее выйти из территориальных вод. Пустой номер! Мощный катер перехватил нас менее чем через полтора часа. Под дулами десятка винтовок мы вынуждены были сдаться.
Солдаты, а может быть, полицейские, арестовавшие нас, были все на одно лицо: все одеты в грязные, некогда белые штаны, рваные, не знавшие стирки майки, и все босиком. Кроме капитана. Тот был получше одет и выглядел почище. Не в пример обмундированию, оружие хорошее. Все перепоясаны патронными лентами, прекрасные винтовки, спереди под рукой в ножнах штык-кинжал в придачу. Тот, кого они называли капитаном, был похож на человека смешанной расы и очень смахивал на убийцу. У него был тяжелый револьвер и полный патронташ на поясе. Поскольку они говорили по-испански, мы их не понимали. Но их взгляд, действия, тон указывали на далеко не дружеское к нам расположение.
От пристани до тюрьмы нас вели под конвоем. Шли через деревню, и в самом деле оказавшуюся Риоачей. Конвоировали нас шесть крутых молодчиков, а трое следовали сзади, немного поодаль. Покачивающиеся дула винтовок направлены прямо на нас. Прием, прямо скажем, получался недружественным.
Достигли тюремного двора, окруженного небольшой стеной. Там было человек двадцать заключенных, грязных, небритых. Сидя или стоя, они смотрели на нас враждебно. «Vamos, vamos», – покрикивали солдаты, что, как мы поняли, могло означать: «Пошел, пошел». В этом смысле мы испытывали затруднения, поскольку нога Клузио все еще находилась в гипсе и быстро идти он не мог. Капитан держался сзади. Под мышкой у него торчали мой компас и флотский плащ. У всех на виду он жрал наши галеты и шоколад. Мы поняли, что нас облупят, как пасхальное яичко. Так оно и вышло. Нас заперли в грязном помещении с толстыми прутьями на окне. Пол земляной. На нем валяются лежаки в виде сбитых вместе досок и деревянных подголовников. Это наши кровати. Как только полицейские удалились, к окну подошел один заключенный и позвал:
– Французы, французы!
– Чего тебе?
– Французы, нехорошо, нехорошо!
– Что нехорошо?
– Полиция.
– Полиция?
– Да, полиция – нехорошо.
И он исчез. Наступила ночь. Электрическая лампочка совсем не освещала комнату – настолько слабо горела. Кругом жужжали комары и нахально лезли в уши и в нос.
– Вот уж влипли так влипли. Высадка тех парней будет дорого нам стоить!
– Кто мог предвидеть! Нам сильно не повезло с ветром.
– Ты очень близко подошел к берегу, – сказал Клузио.
– Помолчи. Не время искать виновного тогда, когда требуется поддержать каждого. Нам еще крепче надо держаться вместе.
– Прости. Ты прав, Папи. Здесь нет виновных.
О, это было бы слишком несправедливо закончить наш побег здесь. Так глупо и так скверно после всех трудностей, которые нам пришлось преодолеть! Нас, к счастью, не обыскали. Гильза лежала в кармане, и я быстренько зарядился. То же сделал и Клузио. Мы поступили мудро, не выбросив их. Во всяком случае, такая вещица служила хорошим водонепроницаемым кошельком. Ее удобно было носить, и она мало занимала места. По моим часам уже около восьми вечера. Нам принесли по куску темно-коричневого сахара величиной с кулак и по миске соленой рисовой каши-размазни. «Buenas noches!»
– Это, должно быть, «спокойной ночи», – пояснил Матюрет.
На следующее утро в семь часов нам дали очень хороший кофе в деревянной миске прямо на тюремном дворе. Около восьми появился капитан. Я попросил у него разрешения сходить к лодке и принести наши вещи. Он либо не понял, либо притворился, что не понимает. Чем больше я за ним наблюдал, тем больше убеждался, что морда у него была прямо-таки бандитской. На левом боку на ремне у капитана болталась бутылка в кожаном чехле. Он вынул ее, вытащил пробку, сделал полный глоток, сплюнул и предложил бутылку мне. Это был первый дружеский жест за все время. Поэтому я не стал отказываться и тоже потянул из нее. К счастью, залил в рот совсем немного и сразу почувствовал, что там оказалась огненная жидкость с запахом метилового спирта. Я быстро проглотил и зашелся кашлем, чем изрядно повеселил этого полунегра-полуиндейца.
В десять часов появились несколько гражданских лиц при галстуках, в белой одежде. Их было человек шесть-семь. Они проследовали, по всей видимости, в здание тюремной администрации. Послали за нами. Мы вошли в комнату и увидели их, сидевших полукругом. Доминантой всей обстановки была картина, висевшая на стене. На ней был изображен белый офицер в парадном мундире и при многочисленных орденах – президент Колумбии Альфонсо Лопес. Один из господ позволил Клузио сесть, обратившись к нему по-французски. Мы с Матюретом продолжали стоять. Худощавый горбоносый субъект в пенсне, сидевший посередине, начал задавать мне вопросы. Переводчик не стал ничего переводить, а сказал мне:
– Месье, который только что говорил с вами и который будет вас допрашивать, – городской судья Риоачи, а все прочие – его друзья, известные граждане города. Я гаитянин и представляю электрическую компанию в этих местах. А сейчас выступаю как переводчик. Я знаю, что присутствующие здесь немного понимают по-французски, но не подают вида. Возможно, и сам судья тоже.
После такого вступления судья занервничал и тут же вмешался со своим допросом, говоря по-испански. Гаитянин кое-как переводил вопросы и ответы.
– Вы француз?
– Да.
– Откуда прибыли?
– С Кюрасао.
– А до того?
– Тринидад.
– А до того?
– Мартиника.
– Вы лжете. Больше недели тому назад нашего консула на Кюрасао предупредили о необходимости усилить охрану колумбийского побережья, потому что шесть человек, бежавших из французской колонии, собираются высадиться в нашей стране.
– Ладно. Мы действительно бежали из исправительной колонии.
– Значит, вы из Кайенны?
– Да.
– Если такая доблестная страна, как Франция, высылает вас так далеко и наказывает столь сурово, значит вы, должно быть, очень опасные бандиты.
– Все может быть.
– Воры или убийцы?
– Непреднамеренное убийство.
– Убийство есть убийство. Значит, вы матадоры? Где остальные трое?
– Мы оставили их на Кюрасао.
– И снова лжете. Вы их высадили в шестидесяти километрах отсюда в районе Кастильеты. К счастью, их арестовали и доставят сюда через несколько часов. Лодка ворованная?
– Нет. Нам подарил ее епископ Кюрасао.
– Хорошо. Посидите в тюрьме, пока губернатор не решит, что с вами делать. За преступление, выражающееся в попытке высадить троих соучастников на территории Колумбии и затем снова уйти в море, я приговариваю вас, капитан судна, к трем месяцам тюрьмы, а остальных двоих – к одному. Советую вести себя хорошо, если не хотите, чтобы полиция подвергла вас телесному наказанию. Предупреждаю: они очень суровые люди. Хотите что-нибудь сказать?
– Нет. Мне бы только хотелось забрать свои вещи и продукты, оставленные в лодке.
– Все конфисковано таможней. Каждому из вас полагается лишь пара брюк, рубашка, пиджак и пара ботинок. Все остальное конфисковано. И не поднимайте шума из-за этого.
Что тут скажешь – закон есть закон.
Все вышли на тюремный двор. Местные бедняги-заключенные обступили судью и кричали наперебой: «Доктор! Доктор!» Они, видимо, обращались к нему с какими-то прошениями. Он пробился сквозь толпу, едва не лопаясь от собственной важности, так ни разу не остановившись и никому не ответив. Эти господа вышли из тюрьмы и растаяли как дым.
В час дня прибыл грузовик. В нем под охраной привезли наших друзей. Они слезли с машины, придерживая чемоданы, и выглядели совершенно подавленными. Мы вошли в тюрьму вместе с ними.
– Мы совершили непоправимую ошибку, Папийон, и вас втравили в это гнусное дело, – сказал бретонец. – О нас говорить нечего. Если хочешь убить меня – прикончи сразу. Я и пальцем не пошевелю. Мы не мужчины, а тюфяки. Испугались моря. Достаточно было взглянуть на эту Колумбию и колумбийцев, чтобы все морские опасности показались пустой забавой по сравнению с тем, что может нас ждать в лапах этих ублюдков. Они прихватили вас из-за ветра?
– Да, бретонец. Но у меня нет намерения кого-либо убивать. Мы все были не правы. Я сам смалодушничал и не отказался высадить вас на берег. Иначе ничего бы не случилось.
– Ты великодушен ко мне, Папийон.
– Нет. Я говорю честно, вот и все.
Я рассказал им про допрос.
– В конце концов, может, губернатор нас отпустит.
– Вряд ли. И все-таки будем надеяться. Как говорят, надежда помогает выжить.
Как я полагал, властям этой полуцивилизованной дыры нелегко было решить наш вопрос. Только где-то выше могли распорядиться, оставить ли нас в Колумбии, выдать Франции либо отправить в нашей лодке еще дальше. Будет крайне несправедливо, если эти люди примут наихудшее решение, поскольку мы не причинили им никакого вреда, не совершили ни одного преступления в их стране.
Прошла неделя. Никаких изменений, кроме разговоров, что нас могут отправить под усиленным конвоем в более крупный город Санта-Марту за двести километров от Риоачи. Эти дикари-полицейские, так смахивавшие на пиратов, совершенно не изменили к нам своего отношения. Вчера меня чуть не застрелили в умывальнике, когда я вырвал свой кусок мыла из рук негодяя, пытавшегося его присвоить. Нас держали все в том же помещении с тучами москитов, но оно выглядело уже гораздо чище благодаря стараниям Матюрета и бретонца, ежедневно выскребавших и выметавших грязь. Я стал отчаиваться и терять уверенность в себе. Эти колумбийцы – смесь различных рас: индейцев и негров, индейцев и испанцев, бывших здешних хозяев, – доводили меня до крайности. Один заключенный-колумбиец дал мне посмотреть газету, издаваемую в Санта-Марте. На первой странице красовались наши фотографии – всех шестерых, а под ними – капитан в огромной фетровой шляпе и с сигарой в зубах. Там же, а как же иначе, девять или десять полицейских со своими винтовками. Воображаю, как представлен газетный материал и какую драматическую роль отводил репортер именно винтовкам. Любой читатель мог подумать, что наш арест буквально спас Колумбию от страшной опасности. И все же злодеи на фотографиях выглядели куда пристойнее полицейских. На них хоть можно было посмотреть как на приличных людей, в то время как на полицию – о, извините! Одного взгляда было достаточно, чтобы сложилось мнение о капитане. Что нам оставалось делать? Я принялся заучивать некоторые испанские слова: совершить побег – fugarse, заключенный – preso, убить – matar, цепь – cadena, наручники – esposas, мужчина – hombre, женщина – mujer.
Побег из Риоачи
На тюремном дворе я подружился с одним малым, с которого никогда не снимали наручники. Мы как-то выкурили вместе одну сигару – длинную, тонкую, но ужасно крепкую. Покурили от души. По моим предположениям, он был контрабандистом, работавшим между Венесуэлой и островом Аруба. Его обвиняли в убийстве служащего береговой охраны или даже нескольких, и он ожидал суда. Иногда он бывал удивительно спокоен, а иногда – прямо-таки на грани срыва и очень нервничал. Наконец я заметил, что спокойные дни выпадают именно тогда, когда он жевал какие-то листья, которые ему приносили. Однажды он предложил мне половину такого листа, и я сразу понял, в чем дело. Язык, нёбо, губы потеряли чувствительность. Это были листья коки. Малому было лет тридцать пять. Руки волосатые, вся грудь покрыта курчавой черной-пречерной шерстью. Было видно, что он необычайно силен физически. Его ноги почти не знали обуви, поэтому на подошвах и пятках образовался такой толстый слой огрубелой кожи, что я частенько наблюдал, как он вытаскивал осколки стекла или гвоздь, впившиеся туда, но так и не задевшие живую ткань.
– Fuga (бежим) ты и я, – сказал я однажды контрабандисту.