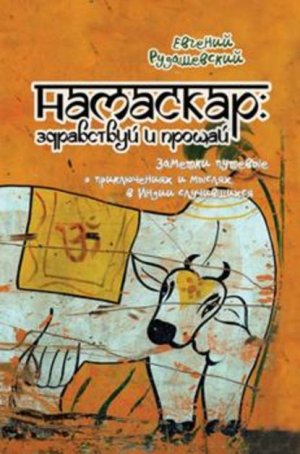
Мы идём вперёд, вперёд…
Кто задержит наш поход?
Тот, кто сзади отстаёт,
Будет плакать, плакать…
И в туман, и в солнцепёк
Мы идём в пыли дорог,
Хоть в крови уж пальцы ног. {1}
Рабиндранат Тагор
Вступление. Двое в Индии, не считая миллиарда
Нельзя рассказывать о путешествии, пока не объяснил до глубины, зачем его предпринял, для чего отвлёкся от прочих занятий – уехал за тысячи километров от дома. У всякого действия должна быть разумная причина, у всякого пути – цель. Почему выбрали мы Индию, отчего поездку совершили летом, где взяли деньги, наконец – как выстроили свой маршрут? Вопросам таким посвящены первые записи Дневника.
Подготовка к путешествию длится дольше самого путешествия. Случалось мне выйти из дома – без планов и расчётов, купить билет на первый поезд и так начать дорогу; но случалось это редко, а путь такой не бывал длительным. Подготовка к Индии вышла двухмесячной. Описание её также дано в первых записях – под московскими числами.
Не хотел я составлять воспоминания, но намеревался жизнь действительную мгновенно переводить в слова – выписывать на страницу тёплые, едва окончившиеся мысли и события, пока не успела память охладить их анализом или переосмыслением. Ждал я в задумке этой сложность, ведь пишу от руки – не всегда время есть и удобство для письма такого. Тем не менее удавалось мне, усталость одолевая, записывать всё, что считал я важным для записей. Дневник по возвращении я перепечатал в компьютер, но изменять в нём что-либо не захотел. Исправил лишь ошибки (из тех, что неизбежны в торопливом письме), пояснил некоторые детали и события. Изменения существенные были только в цитатах, которые я позволил себе переписать в большей точности (заодно снабдил их ссылками на источник).
Путешествовал я при своей давней спутнице – Оле. Ей были назначены свои впечатления от поездки, поэтому Дневник прочтёт она лишь после окончательной редакции – чтобы отзывами не склонить меня к переделке каких-либо фраз, абзацев, глав.
Дневник этот – субъективен без ограничений. Всё объективное об Индии, об островах Андаманских, о Цейлоне искать нужно в путеводителях, не здесь. Записывал я то, что видел и чувствовал сам (пренебрегая отзывами, подозрениями или советами других людей). В этом чудится мне лучшая услуга объективности, ведь в словах моих нет лжи и гипотез. Солгать можно о том, сколько лет строился Тадж-Махал, о том, где захоронен Акбар или Шах-Джахан, но правдой неизменной будет то, какими увидел я улицы Мадраса, каким случилось для нас восхождение на пик Адама. Слова нищего из Джайпура, монаха из Ладакха, рикши из Порт-Блэра и прочие слова собеседников моих записаны в такой же точности, как мысли мои собственные, в пути сформулированные.
Путевой дневник
09.06. Москва
Почему – Индия? История, культура, прочий флёр – это понятно. Тут объяснять нечего. Удивительной может показаться окончательная причина, по которой не нашлось у меня других вариантов, кроме Индостана.
Пришло лето; мы с Олей не так давно вернулись из Армении и Нагорного Карабаха; я наконец сдал книгу про давыдовский особняк – отчитался по контракту; нужно было выбирать – куда ехать на июль-август. Не поехать мы не могли, так как путешествия стали насущностью жизни. Дело тут не в чужих землях (всякая красота однотипна), не в пышности обычаев и культов (которые в действительности ещё более однотипны), а в самих людях – под природой живущих, обычаи исполняющих.
Человек – везде человек. В чувствах, делах он обречён на однообразие. Этим объяснить можно родство земных культур, схожесть которых одновременно в Южной Америке, Азии и где-то ещё дозволяет иным учёным, писателям задуматься о мистике, об Атлантиде, о внеземных наследиях. Строили похожие пирамиды, придумывали одних божеств, измышляли одинаковую философию… Но что в этом удивительного? Всё это был человек – вне зависимости от кожи, эпохи или континента. Логика у них единая – людская. Разум предсказуем – убеждаюсь в этом всякий раз, как знакомлюсь с новой страной.
Увижу я человека в разных обстоятельствах: под разными солнцами, властями и надеждами – что с того? Зачем изучаю людей во всех оттенках? Ответ прост: чтобы лучше, точнее понимать, а значит, и описывать точнее. Увидеть тысячи и расписать словами хоть одного – буквами, синтаксисом прозреть в него, разложить дух его по строчкам (для наглядного, неотступного понимания). Зачем мне это синтаксическое кощунство ? Отвечать коротко не хочу. Уверен, что из повествования дальнейшего ответ проявится в чёткости.
У нас с Олей было 245 тысяч рублей – то, что осталось у меня (после поездки нашей в Армению) от гонорара за книгу краеведческую «Особняк Дениса Давыдова» {2} . Зная, что подготовлен мне контракт на книгу о доме Жолтовского на Моховой, мог я без сомнений употребить все деньги к новой поездке. Для чего, как не для путешествий, соглашаюсь я писать истории особняков, когда сюжеты рассказов моих и повестей изгнивают в папках; для чего иначе сижу в архивах, библиотеках, читаю скучные отчёты, воспоминания, когда пылятся на полках моих книги Лескова, Фейхтвангера, Фромма? Но… я преувеличиваю, и – напрасно. В действительности работа по заказу всегда бывает интересным опытом; в архивах вещицы встречаются занимательные…
Итак – Индия.
10.06. Москва
Думали мы о поездке в Мексику. Давняя мечта. Насыщенность этого полугодия не позволила заняться испанским языком, а есть ли смысл путешествовать в онемении? Мне нужны простые, часто – бедные люди, их истории; но что узнаешь от мимики одной, одних жестов? Можно устроить себе переводчика – с ним объездить города, сёла, но к такому решению не пускали деньги. Билеты в Мексику сейчас объявлены дорогие. На двоих в две стороны – 80 тысяч. Это много. Сколько ещё закажет себе переводчик? Решено было, что Мексика подождёт. Нужен не только испанский; нужно время большего объёма – если уж лететь за такую сумму на другую сторону планеты, так и – задержаться там для знакомства с прочими, мною не открытыми странами.
После отказа от Мексики случилось много обсуждений, блужданий пальцем по глобусу. Звучали тут ЮАР, Австралия, Корея, Исландия. Однако для каждой из этих стран находилась вменяемая причина отказа. Не сейчас. В другой раз. На Евразию мы смотрели скудно, так как изучили её вполне – наибольшим пятном осталась Индия. Мне по такому раскладу хотелось в северную Африку. Индией мы пренебрегали – нарочно. На то было несколько причин.
Во-первых, об этой стране среди российских любителей свободной философии слишком много разговоров. Друзья мои по Иркутску мечтали об Индии часто, громко, а мне не хотелось воплощать чужие мечты (для кого-то здесь не найдётся логики, но это так). В противоположность иркутским друзьям московские по два-три раза летали в Индию, успели назвать её (точнее, штат Гоа) своей Меккой. Скажу подлинно – не хотелось идти людной дорогой, хотелось чего-нибудь этакого . Не лучшая мотивация, однако не могу не признать её звучание в своих рассуждениях.
Во-вторых, Индия не нравилась мне тем, что была без меры облюбована моими родителями. Мама больше пятнадцати лет назад причла себя к буддистам; месяцами живёт подле учителей , занимается практиками (детали которых мне, по моему нелюбопытству, почти неизвестны). С родителями чувства выдались у меня сложные, противоречивые; общего у нас мало, и негласно сложилось, что Индия, Непал, Бутан – это территория их интересов, касаться которых я не желаю.
Если мамины поиски я не порицаю, то жизнь отца представляется мне сумрачной, болезненной. Я не видел его больше десяти лет, но знаю (от прочих родственников), что он, как прежде, живёт в Непале, где организовал не то секут, не то гарем религиозный (из таких же болезненных сожителей). От моей поездки в Индию одни увидят следование тропке буддийской, другие – тропке сектантской. В семье Рудашевских любят рассуждать о яблоках и яблонях. Меня это не гнетёт, однако лишает должного покоя…
Наконец, причина третья из того состояла, что в Индии – шумно, суетно. Неисчерпаемые толпы людей, музыка – убогая в однообразии и качестве воспроизведения, теснота транспортная и рыночная, чрезмерная оживлённость улиц – всё это, совокуплённое жарой и скудной санитарией, ждало меня вопреки желанию моему увидеть места тихие (пусть и такие же знойные).
Тем не менее, когда окончательно выяснилось – ни в Эфиопию, ни в Перу, ни на Кубу мы не полетим, я как-то естественно, без сопротивления принял то, что этим летом отправимся мы в Индию. «Собственно, больше некуда», – заключил я и даже не пробовал мысль эту оспорить. Услышав от Оли согласие, занялся билетами и вечером того же дня оплатил участие в четырёх перелётах: Москва – Доха – Дели (12, 13 июля) и обратно – той же цепочкой (28 августа). На двоих получилось 43 тысячи рублей.
Индию мы признали англоговорящей; надеялись, что в общении с индийцами непонимания окажется мало.
15.06. Москва
Стендаль где-то в дневниках писал, что увлёкся рефлексией и даже при наибольшей страстности чувствовал в себе холодную часть ума – всё анализирующую, страсть его взвешивающую на граммы. То же, пожалуй, устроилось со мной. Чувства мои настаивают на том, что осознанность – наивысшее из доступных мне удовольствий. Иное может почудиться более насыщенным, но исчерпается быстро, сменится грустью. Наслаждение осознанностью не пресечётся, но только углубится (и страшно встретить дно, но я о нём думаю редко). Поэтому отверг я все формы опьянения: в наркотиках, алкоголе, сигаретах.
Собственная осознанность просит осознанности не менее крепкой и в других людях. Однако трезвость прельщает немногих. Те, кто мог бы к ней прийти, часто выедают себя сомнениями. Если недоступна мне цель (жить в общении с осознанными людьми), то лучшим занятием остаётся само устремление к этой цели – хочу помочь другим обрести бо́льшую осознанность. Сделать это могу я только словом – отсюда происходят и мои рассказы, и статьи мои. Вот – логика моей жизни. Вот для чего взялся я составлять эти строки, поездку свою описывать.
Верю ли я, что не сменю направление такое во все последующие годы? Верю, но утверждать этого не стану, так как излишне часто видел, «как рушилось многое из того, что я считал вечным» {3} .
04.07. Москва
Перед поездкой мы получили вакцины.
Врачи обещали нам в Индии болезни всевозможные. Пришлось внимательно читать о гепатитах, брюшном тифе, полиомиелите, японском энцефалите, бешенстве, кори, паротите, дифтерии – все эти недуги могли нас поразить.
Не желая излишеств лечебных, мы довольствовались уколами от гепатита А, от брюшного тифа (что на двоих сошлось в 3 тысячи рублей); получили об этом «Международное свидетельство», которое должно будет спасти нас от карантина, если такой случится по нашим заболеваниям.
Другой заботой была малярия. Вакцин от неё не изготовлено; нужно пить таблетки – одну каждую неделю путешествия.
06.07. Москва
Подготовка к Индии выдалась приятной. Больше месяца мы среди книг интересовались теми, в которых говорят сами индийцы или же об индийцах рассказывают авторы других народов, чаще – русские. Читал я, увлечённый, до глубины ночной. Рассказчиками для себя выбрал Разипурама Нарайна, Джавахарлала Неру, Махандаса Ганди, Рабиндраната Тагора. Не меньше любопытного было от Редьярда Киплинга. Лучшими путеводителями оказались записи Марко Поло, Афанасия Никитина, Николая Рериха, Алексея Салтыкова. Авторство современных путеводителей выписывать не буду; искал я от них лишь подсказку на примечательное историей место (чтобы потом не мучить себя обидой об упущенной по рассеянности красоте); прочие советы причислял к ненужным. Такими советами (где спать, как ехать, что есть, с кем говорить) можно путешествие своё ослабить. Интерес от того происходит, что познаёшь всё кончиками своих пальцев; а выйти из леса, не оцарапавшись, не изгрязнившись, не издёргавшись – по мне равно тому, чтобы в лес вовсе не ходить. Зачем бы гулять по чьим-то словам, когда радость путевая от вольности, неожиданности получается?! Доскажу ещё, как путеводители современные, серьёзные (по обложке и цене) сумели тем угодить, что насмешили чрезвычайно. Смех этот начался от мудрости в подсказках, которыми авторы наставляли путешественников перед Индией. Укажу те, которые запомнились больше.
В дороге необычайная польза обещана от пробки для слива в раковине – той самой, что делают из пластика и держат на цепочке. В чём именно счастье от такого амулета, авторы не указали, равно как и то, почему нельзя (при необходимости сделать в раковине постирочное озерцо) занять дырку простой тряпкой. Возможно, они предполагали иное, мне не представимое использование пробки?
Другим советом было взять цепи и замки́. Использовать их надлежит в автобусах и поездах. Сложив рюкзак под сиденье, нужно (по заверению автора) укрепить его цепью, иначе ловкие индийцы украдут всё так, что даже малый шорох не отвлечёт вас от заоконных сюжетов. Для наибольшего спокойствия предлагалось вслед за умудрёнными европейцами обтягивать рюкзаки металлической сеткой (в самом деле, я видел бедолаг с такими сейфоранцами). Что же держали в рюкзаках люди, вынужденные для безопасности крепить замки амбарные, сети стальные?..
Важным предостережением были слова о том, что туалетную бумагу (удобную по мягкости и чистоте) найти в Индии бывает невообразимо трудно. Во избежание неловкости автор тоном серьёзным, почти назидательным просил заблаговременно узнать, сколько метров бумаги потребуется в день для моего комфорта, и, помножив эти метры на количество дней, затем разделив на длину одного рулона, получить верное указание – сколько таких рулонов мне потребуется взять с собой в Индию. При возможности – заложить 10 % для непредвиденных расходов. От таких расчётов повеяло канцелярией канадской Службы изучения животного мира. Вспомнилось заседание, на котором обсуждалось «материально-техническое снабжение» задуманной Фарли Моуэтом одиночной экспедиции в Арктику: «Почтенное собрание перешло к обсуждению двенадцатого пункта этого ужасающего списка: “Бумага туалетная, правительственный стандарт. 12 рулонов”. Резкое замечание представителя финансового отдела, что по этой статье возможна экономия, если полевая партия (состоявшая из меня одного) будет проявлять должную воздержанность, вызвало у меня истерический смешок» {4} . Подобным смешком я оценил туалетные советы в путеводителе.
Встречались и другие наставления. Нищим не смотреть в глаза. Полицейским не давать взятки. Не пить торгуемые на улицах соки. Не злоупотреблять городскими автобусами. Не дразнить обезьян. Наконец, следить за тем, чтобы по невнимательности не оказаться в женском вагоне или туалете. Туалетная тема дополнялась жалобами о том, что брать защитную плёнку на стульчак бессмысленно – в Индии ещё нужно найти унитаз…
07.07. Москва
Не менее важной была подготовка физическая. Ожидал я зноя, потому от своих 105 килограммов должен был спешно показать рёбра. В месяц прошедший пробежки и заплывы лишили меня 13 килограммов – я почувствовал лёгкость (достаточную при росте 188 сантиметров).
10.07. Москва
Дел перед отъездом нашлось много. Макет получил «Особняка», с редактором пререкаюсь, ругаюсь с корректором. Оканчиваю летние материалы для «Русской мысли», для «Лондон Инфо».
11.07. Москва
Завтра – вылет. Суета усилилась. Переписка, поездки, редактура, корректура, споры, договоры и неотступный шёпот людей, чьи просьбы я не выполнил.
Вопреки всему успеваю читать об Индии.
Тысячу лет назад от Индостана на Русь приехал былинами указанный Дюк Степанович. Явился он в парче богатой к палатам славного князя Владимира. Долгие тогда начались речи от чужеземца о странах заморских, о краях, нашему человеку неведомых, непредставимых. Дюк Степанович о таком богатстве Индии рассказал, что поверить ему никто не посмел. Доказательством Владимир принять согласился только личное подтверждение от богатырей, верно служащих; и для успокоения своего от рассказов диковинных послал Добрыню Никитича и Илью Муромца гостить в Индию да богатства тамошние считать. За долгим путешествием (описание которому ни один из мифогласных Боянов не составил) пришли богатыри «в Индеюшку богатую. Они едут раздольицем чистым полем, они въехали на гору на высокую, посмотрели на Индеюшку богатую. Говорит старый казак да Илья Муромец: «Ай же ты, боярин Дюк Степанович! Прозакладал свою буйную й головушку, а горит твоя Индеюшка й богатая». Говорит боярин Дюк Степанович: «Ай же старый казак ты Илья Муромец! Не горит моя Индеюшка богатая, а в моей Индеюшке богатоей а ведь крыши всех домов да й золочёные». Тут удалые й дородны добры молодцы приезжали в Индеюшку богатую, заезжали к Дюку й на широкий двор». Всё, указанное прежде Дюком Степановичем, правдой было, а в ином и скромность его обнаружилась. На Русь возвратились. Призвал князь Владимир Добрыню Никитича и Муромца Илью – говорить подробно о богатствах найденных. Объявили первым словом богатыри, что для переписи богатств индийских пришлось бы столько денег отдать на бумаг и чернил приобретение, сколько Киев-град вместе с Черниговом не сто́ят. Затем принялись богатыри о небывалых драгоценностях, золоте говорить, и только конские сбруи индийские описывали три года и три дня, чем сполна утомили князя. Дальше слушать он не захотел; уверился теперь во всём, Дюком Степановичем об Индии рассказанном.
Многое я слышал и читал об этой стране – рассказов красивых, диковинных. Мой черёд пришёл глазами своими, руками и ногами испытать правдивость слышанного и прочитанного.
12.07. Москва
Наш путевой фонд составил по итогу всех трат и поступлений 200 тысяч рублей. 60 тысяч, переведённые в доллары, я беру наличными, прочие сохраняю на банковской карте.
В 20:00 самолёт вылетит в Доху, откуда с краткой пересадкой мы отправимся в Дели – рассчитываем оказаться там не позже 8–9 утра.
Вчера мы утвердили план путешествия – не привязывающий к городам или датам, но помогающий распределить время по регионам. Индия для нас продлится 48 дней. Из них 4 дня – в Дели, в районе от Агры до Бенареса – 6 дней, на Восточном побережье – 6 дней, на островах Андаманских – 9 (при необходимости плыть 3 дня на корабле), на Цейлоне – 7 дней, от Средней Индии до Гоа и Бомбея – 7 дней, в Пенджабе – 3 дня, в Кашмире – 6 дней. Так, в полтора месяца мы ходом по часовой стрелке обойдём Индию – от севера до юга, от восточного берега до западного.
Путешествие начинать нужно эмоционально голодным – с поклажей тяжёлой вопросов. Дорога всё лишнее растрясёт в пыль, а важное если не объяснит, то по меньшей мере объявит.
Мы отправляемся в землю чужих народов – испытать во всём хорошее и дурное. В этом Екклезиаст обещал мудрость.
Следующая запись будет сделана в Индии.
13.07. Джайпур
(«Розовый город» – Джайпур – построен был к середине XVIII века. Население сейчас превышает 3 миллиона. Штат Раджастан.)
Оля шумит в душевой комнатке. Бойлер на 6 литров. Не работает. Шланг без распылителя – крепкая струя заливает раковину, унитаз. Слив в полу. Дверь в душевую не закрывается. Рядом – окно; облезлая штора не заслоняет его плотно, и под углом – от душевой – виден магазинчик на улице; значит, и они видят нас, после помывки выходящих. Оле это не нравится – она всякий раз пробегает угол окна.
Наконец – прохлада вечерняя, усиленная вентилятором. Можно спать – лёжа.
Оля запивает таблетку противомалярийную (нам надлежит глотать её каждую пятницу), а я протягиваю по страницам Дневника первые записи. Удобств для письма здесь не предусмотрели, но я не за удобствами сюда летел. Сижу на спинке кресла, тетрадь – на консоли. Сгорбившись, удерживаю кресло в равновесии; пишу. Иных, более приятных положений не получается.
Самолёт вчера взлетел без задержек; через пять часов мы были в Дохе. Полуторачасовая пересадка; ещё четыре часа – и мы в Дели. Сна сытного не получилось. Потягивания, зевота.
Ну что же, намаскар [1] , Индия, – здравствуй!
Метрополитен, протянувший свою ветку до аэропорта, оказался недоступнен. Его закрыли. О причинах этого индийцы отвечали противоречиво – не то электрическая проводка повредилась, не то станция оказалась убыточной (закрыли её до лучшего времени), не то станцию вовсе не успели открыть для работы… Так или иначе, мы сели в такси. После недолгого торга согласились ехать за 100 рупий (59 рублей).
От таксиста узнали мы, что район Пахарганжа (а с ним – Центральный рынок, известный десятками отелей и гостевых домов) закрыт для праздника Шивы. Я не поверил таксисту; подозревал, что таким убеждением хочет он склонить нас к удобной ему гостинице (той, где комиссия ему обещана).
Пахарганж в самом деле был перекрыт загородками, полицейскими. Всюду толпились люди, в оранжевое одетые; они омертвили для нас индийскую столицу.
Паломников в Дели собралось множество; места гостевые заполнились до последней конуры. Во всех гостиницах был нам отказ – наставление ехать прочь из столицы или же приют искать в наиболее дорогих отелях.
Мы зашли в туристическое агентство, но и там помощи не было. «На окраинах тоже ничего нет. Сейчас не лучшее время».
Воздух в Дели при 36 градусах был без меры влажным, отчего город чувствовался крепкой баней. Небо обмётано серостью, и солнце не жжёт, но слепит.
Шум дорог. Водители автобусов, машин, мотоциклов сигналили беспрерывно – разнотонными, разномелодийными голосами; гудками озвучивали каждый маневр: «Я ускоряюсь», «Я поворачиваю», «Я, быть может, остановлюсь», «Я передумал останавливаться». Непрестанный ор, в котором не различить, кто о чём кричит. Сигналы никого не пугают; прохожие и водители глухи к ним; вздрагиваем только мы с Олей.
По тротуарам шли пёстро-оранжевые паломники – процессиями тесными и взаимообратными (некоторые уже возвращались из центра).
Всякий водитель ехал удобным ему направлением. Менял движение с левостороннего на правостороннее; останавливался на кольце поговорить с другом; перестраивался резко, без поворотников; выходил на обгон машины, которая сама едва надумала обгонять впереди едущий автобус (и всё – по встречной полосе). Здесь же суетились прохожие (устраивали переход в любом понравившемся месте), велосипедисты (нагрузившие велосипед корзинами – башней в два метра), погонщики ослов, нищие, толкатели телег, святые люди (босоногие, косматые, тряпкой одной повязанные)…
Водитель, усердно давящий клаксон, и водитель, для которого усердие это учиняется, сидят в своих кабинах с такой невозмутимостью, словно бы на дорогах индийских слух давно ослабили и гудки все не громче писка комариного слышат или же обрели просветление ума, ко всему спокойного. Ругани словесной нет.
Притомившись от шума, мы надумали без отлагательств ехать в Раджастан. Знакомство с Дели оставим до последних дней путешествия. К тому времени паломничество всякое иссякнет, тише будет на улицах. Так, оставив гостиницы, занялись мы билетами железнодорожными и автобусными.
Соблазн был проход найти к Пахарганжу – под защитой удостоверения журналистского, – чтобы на толпу религиозную взглянуть; но это означало бы задержку долгую, а в Раджастан выехать нужно посветлу. Довольствовались тем, что видим паломников, обряды окончивших и теперь направленных домой. Тянулись они линией оранжевой, прерывистой; каждый нёс по два ведёрка, подвязанных к пёстро украшенному коромыслу, или по одному – укреплённому на спину; в ведёрках этих вода была из реки священной Ямуны [2] . Шиваитам в окончание паломничества надлежало босым ходом вернуться в свой город и там излить под звуки молитв, под чадом благовоний воду Сарасваити, Ганги или Джамны на статую Шивы (тем усилить её чудодейственность – для собственного благополучия). В банный жар, в серых клубах пыли некоторым из шиваитов пройти нужно от столицы до 250 километров. Каждые 5–7 километров подняты для них широкие навесы – здесь они отдыхают: лежат на общих лежанках (в тесноте дровяной), едят из одного котла. Забота такая была от местных жителей, благотворительностью приобщавшихся к святости идущих. Каждый шёл по возможностям своего духа. Для многих путь складывался в 6–8 дней, но случались такие, кто бежал, а значит, и города своего достичь мог в 2–3 ночёвки. Им почтение было особенное.
Оранжево-бородатые процессии оказались диковинным зрелищем, понять которое удалось нам лишь от прохожих – вопросами узнали мы и суть паломничества, и его особенности.
Тем временем неурядицы наши продолжались. Билетов в Раджастан не нашлось. Места в Джайпур, Коту, Аджмер были выкуплены по всем классам (от первого с кондиционером до третьего без кондиционера) на ближайшие 10–13 дней. В агентстве билетном объявили причиной всему, во-первых, паломников (значит, не все пешком идут), во-вторых, индийских туристов, которые сейчас обильно едут на север (опустевший от туристов иностранных), в-третьих, болельщиков, готовящихся к важным матчам по крикету. Помощи при таком наплыве не было даже от дополнительных автобусов.
Если б ехали мы при малом бюджете, история получилась бы любопытной. Остановиться в Дели негде, а в город другой уехать нельзя. Пришлось бы спать на улице – в соседстве от нищих и собак. Однако деньги у нас были, бродяжничать не пришлось. Купили мы на 17 июля билет из Агры в Бенарес, после чего наняли машину с водителем – для поездки четырёхдневной по Раджастану и Уттар Прадешу. Из Бенареса (17 июля) нам свобода обещана в любую сторону, вагоны там переполнения не знают – по малому числу паломников, индийских туристов, по слабости крикетных команд. После Калькутты вовсе ждали мы простора; юг Индии заселён не так плотно.
Десятиминутным торгом уговорились мы с водителем о плате в 10 тысяч рублей за все четыре дня – с условием, что из денег этих будет он питаться, траты дополнительные совершать (по налогам, пошлинам за пересечение границ штата, сборам на трассах платных), что спать будет в машине и других денег с нас не спросит.
Путешествие мы начинаем сахибами.
Дважды обговорив с водителем (Сурешем) детали маршрута, установив точками главными Джайпур и Агру, мы выехали из Дели.
До точки первой – Джайпура – 240 километров. шесть часов пути.
14.07. Джайпур
Ты вечным счастьем счастлива, страна:
ты кормишь досыта, ты поишь допьяна
и водами из Ганга и Джамуны,
как материнским молоком, сильна {5} .
Рабиндранат Тагор
Гостиницу мы нашли простую. 400 рублей за номер с вентилятором.
Облака в Джайпуре были густо-серыми, тяжёлыми. Ночь началась здесь в половине восьмого. Тени прохожих слились в темноту общую; облака расслабились дождём. Хлынуло сразу и так обильно, что, стоя перед открытым окошком, мы с Олей не могли друг друга услышать.
Дождь ослабевал. Возвращал грохочущий напор. Вновь ослабевал. К утру изошёл весь – нам был уготован жаркий день чистого неба.
В десять часов мы уже стояли возле нижних стен форта Амбер. Наверх – к дворцу – туристов возят тихие, не способные к резкости слоны. Мы от подобного транспорта отказались. Местные торговцы, должно быть, уверены в скупости пеших туристов – не смущают их тихой прогулки и бегут вслед тем, кто едет на слоне: припрыгивают, тянут на палках сувениры (чудесной ловкостью не сваливаясь под мягкие, но смертельно тяжёлые подошвы слонов). Каждые сто метров торговцы отказываются в цене от 5–10 рублей; ко дворцу товар приводят в нужной им стоимости, а туристов – в нужной утомлённости. Так, под воротами тряпка или поделка, наконец, переходит к покупателю. Продавец, довольный не только деньгами, но и множество раз оправданной тактикой, бредёт неспешно вниз – отирает со лба испарину, дышит для нового забега.
Дворец махараджей скучен; не осталось в нём отблесков царской жизни. Грязные камни, однообразные стены, запахи туалета, солдаты, туристы и – ничего более. Один только вид на лощину, от стен дворцовых получившийся, оправдал вполне приезд наш в форт Амбер.
Оле дворец приглянулся – улочками путаными (по которым некогда расставлены были царские палаты), переходами сокрытыми из комнат маленьких в ещё меньшие, крохотными оконцами, мраморными решётками (мягкая резьба), узкими и пологими лесенками, высокими ступенями. В этом – сказочность, вкус арабских преданий, архитектурные напевы раджпутов и моголов.
На одном из многочисленных балкончиков меня остановил солдат. Улыбается, кланяется. Гостеприимство показать хочет – так мне подумалось. Указывает на себя, на меня. Я киваю ему. Солдат начал пальцем к фотоаппарату моему лезть и тут же себя по носу похлопывать. Хочет позировать мне – для пущего гостеприимства. Хорошо. Но только не здесь! Солдат противился тусклому виду за спиной; увёл меня в комнату пустую (где махараджа наложниц принимал), встал к стенке и – позирует. Я фотографирую. Киваю в благодарность, пусть снимки здесь неинтересные получаются. Хочу уйти, но солдат меня останавливает. Тянет свой берет – предлагает мне надеть его и сфотографироваться. Я наконец заподозрил, к чему объявилась такая приветливость. Вздохнув, отвечаю: «Нет». Солдат забрасывает берет на голову и спрашивает: «Money?» Можно было догадаться… Ощупью нашёл в кармане монетку. Протягиваю. Две рупии. Нет, такая плата ему неприятна. «Пятьдесят», – говорит он. Шлёпнув по карманам, я признал себя малообеспеченным, ещё раз предложил монетку; молча ушёл прочь.
В этот день я по́дал только одному – заклинателю змей; не за умелое его обращение с ветхой, облупившейся и беззубой коброй, но за приятную (классическую для заклинателей) мелодию. Это – работа. Но платить солдату национальной армии за исподволь навязанное позирование… К вечеру я привык, что добросердечие тут неизбежно оканчивается попрошайничеством.
Во дворце Амбера повстречали мы торговца «пятигорскими обрывами» – уборщика, который шёпотом сталкерским проводить обещал меня «на самый верх». Я уже знал, что лестница на крышу – в дальней комнатке, и от сопровождения отказался. Очевидно без сомнений, что помощь его завершилась бы протянутой рукой.
Психологически я дезориентирован – не знаю, чем считать здесь взгляды, приветствия, улыбки. Молодой индиец возле магазина показал мне зубы, поздоровался за руку, после чего сказал: «Сэр, у вас замечательно подстрижена борода. Очень красиво». Подумалось, что борода моя, которую перед отъездом состриг я в длинную щетину, на самом деле чем-то потревожена и выглядит неуклюже. Индиец сам был чистой одежды и заботливо уложенных волос; я счёл его восхищение насмешкой. Позже нашёл отражение своё в одном из стекол, разглядывал усердно и – нет, лицо моё ни в чём не изменилось. Зачем он это сказал?
К часу мы возвратились в центр старого Джайпура. Отпустили водителя.
Оглядев базарную площадь, внырнули в один из переулков. Очутились на торговой улочке; жизнь здесь, сдавленная в три метра, была утлой, притом – бурливой. Вот он – Раджастан; вот они – первые для нас индийские трущобы.
Улицы длинные, конца не углядеть. Дома – в три, четыре этажа, но из-за тесноты кажутся высокими – нависают множеством пёстрых тряпок. Между домами – расщелины в 30–40 сантиметров; пространство это смрадное, гнилостное – помоями заполнено, а к ним чёрными червями всосались десятки водосточных труб. Если расщелина случается широкой, то и свалка в ней умещает вещи бо́льших размеров, заодно – пасущихся в отхожей вольности коз, свиней, коров.
По обе стороны улиц открыты мастерские, пекарни, табачные, скобяные и галантерейные лавки. Здесь, в углу сером притулившись, сидит под вентилятором индиец с тканями – шьёт, режет, штопает; над ним, в той же комнатушке, на полке притолочной, в ещё большей тесноте зажат счетовод – перебрасывает бумажки, что-то пишет, что-то вычёркивает. Дальше по улице – торговец чаем, стряпуха, мастер по чинке велосипедов. Торговец соков выкручивает ржавые колёса, в которые подпихивает сахарный тростник – и пенистая белая жидкость льётся для очередного покупателя. Каждый дом выставлен на улочку конторкой, где можно поесть, починиться, постричься, обновить посуду, одежду. Здесь – на корточках сидит индиец, шьёт из резины шлёпки; за ним – торговец книжками лубочными устроился…
Пешеходов много, но ещё больше – мопедов, мотоциклов, мотороллеров и велосипедов. Непрестанные гудки, окрики, музыка – из разламывающихся от дребезжания колонок. Проехать, кажется, невозможно, не повредив прохожего и не повредившись самому, но все едут и вроде, – без травм. Здесь же плетутся коровы. Движение останавливается редко; между двух рядов припаркованных мотороллеров иногда застревает моторикша с широким фургоном, но и такие паузы не случаются долгими.
С балконов свешиваются ноги – апельсиновая кожура стоптанных пяток. Из окон выглядывают женщины, прикрытые до глаз платком. Повсюду – вывески (выцветшие, надорванные). Дорога засыпана мусором; приходится идти по гнилой мягкости. Мужчины, встав к одной из домовых расщелин, лишают себя жидкостей; после этого, довольные, подходят к торговцу лимонадом (он жмёт мелкие зелёные лимоны, разбавляет их сок водой) или к торговцу чаем (он напиток свой кипятит постоянно в широких чёрных котлах). Поблизости стряпают (загибают, выпекают), чистят фрукты, ягоды, выпаривают рис; и всему в сопровождение поставлены толстые сигары благовоний – запах крепкий, всё заглушающий.
Гул, лязг, скрипы, удары, крики.
Встречаются проходы в жилые дворы – там тише и просторнее. На стульях – старухи сидят. Один из проходов оказался неисчерпаемо сумрачным (темнота усиливалась дымом); по любопытству мы вошли в него. Растрескавшиеся стены, корзины. Пахнет гарью, хлебом. Шагаем настороженно вперёд. По обе стороны начавшегося зала открылись красные горнила печей. Над ними сидят мужчины. В сковородах кипит масло. Здесь выпекают хлебные лепёшки. Во мраке углов виднелись другие люди, но их занятие мы разглядеть не сумели. Нашему приходу никто не противился – каждый по-прежнему занимался печкой, лишь изредка поглядывал на меня, на Олю – без улыбки, без внимания. Грудь здесь стяжелилась. Когда мы вернулись на улочку, жара её была отдыхом от тесной духоты хлебопекарни.
Солнце, вызревшее на песочном небе, иссушало, утомляло. Нам не было ни жажды, ни аппетита. В найденном балансе тепла мы забыли об уложенной в рюкзачок бутылке; вода поднимет на кожу пот и тем баланс ослабит – нужно будет вновь сохнуть, слабеть.
Улочка не заканчивалась и была неизменно пёстрой, шумной. Через каждые 30–50 метров случался перекрёсток с такой же долгой и тесной улочкой. Жаркая, тысячеголосая сеть. Смрад едва передавлен курением трав, благовоний. Так пахнет Индия.
Мы плутали – в произвольных решениях сворачивали то налево, то направо и не замечали перемен от сотен пройденных метров. Те же индийцы – в брюках или дхоти [3] , в сандалиях или босые. Те же индианки – в сари [4] (с плотно закутанной грудью, но с неизменно открытым и неизменно обвисшим животом), в камизе [5] с шельваром [6] . Чертенята-девочки и мальчики – чёрные от солнца и грязи, вихрастые. Негде присесть, отдохнуть.
Дома здесь выстроены под арабские мелодии. Они будто собраны из множества разноразмерных цветастых коробок. По таким балкончикам должен лазать Аладдин; по этим бельевым верёвкам Абу спускаться должен в тесноту базарных переулков.
Торгуют крупой, орехами, пряностями, горелыми початками кукурузы. На тротуаре один мужчина поднял руку, а другой сковыривает у него из подмышки большую папиллому – оттягивает пальцами и пробивает в основании иголкой. Юноша мылится над сточной канавой, переговаривается весело с продавцом хлеба, окачивает себя, и пенный поток спешит под ноги прохожим. На другой улочке работает брадобрей – без стен и столиков; в близости от мотороллеров проезжающих ходит его локоть, и боязно смотреть на лезвие, приложенное к шее клиента.
К трём часам вышли мы к широкой дороге. Теснота кварталов закончилась.
Купили батон – для обезьян, гулявших по бетонной изгороди. Оля задумала их кормить; крошила хлеб, бросала. Всё было ладно и смешно, пока не примчался вожак – старый, обозлённый; начал он шипеть на Олю, бросаться к ней, запрыгивал на столбы, лавки – гнал прочь, и страшно было, что схватить он может за волосы. Пришлось отступить, куски последние от батона в стороне оставив.
По карте навигатора обнаружил я, что мы стоим в пятнадцати минутах от Центрального музея. Туда мы и направились.
Широкие лавки и тень были нам лучше всех экспонатов. Однако вышло так, что мы, в отдыхе своём, сами оказались музейной достопримечательностью. Я уже слышал, что индийцам белая кожа видится благословенной, благодарующей, но только сейчас увидел силу этого суеверия. Они шли к нам – поздороваться за руку (коснуться на счастье белой кожи). Нас трогали исподволь за плечо, за шею. Наконец, женщина в пёстром, пайетками украшенном сари привела детей – фотографироваться. Замерев для мужа, державшего фотоаппарат, индианка без вопросов рукой своей прислонила ладошку сына малолетнего к Олиной шее, а после, улыбаясь и благодаря, притянула уже Олину руку – вынудив Олю гладить мальчика по холке. Тем обряд для детей был исполнен; теперь женщина позаботилась о своей судьбе – поцеловала Олю в щёку. Оля кожным суевериям не противилась, но после непременно протиралась от всех прикосновений влажной салфеткой.
Как от виденного в Джайпуре не вспомнить записи Афанасия Никитина, оставленные ещё в XV веке? «И тут Индийская страна, и люди ходят нагие, а голова не покрыта, а груди голы, а волосы в одну косу заплетены, все ходят брюхаты, а дети родятся каждый год, а детей у них много. И мужчины, и женщины все нагие да все чёрные. Куда я ни иду, за мной людей много – дивятся белому человеку. <…> А у слуг княжеских и боярских одна фата на бёдрах обёрнута, да щит, да меч в руках, иные с дротиками, другие с кинжалами, а иные с саблями, а другие с луками и стрелами; да все наги, да босы, да крепки, а волосы не бреют. А женщины ходят – голова не покрыта, а груди голы, а мальчики и девочки нагие ходят до семи лет, срам не прикрыт» {6} .
Туристов-неиндийцев в городе мало.
В дальнейшем прогулки были неспешные. Отмечу посещение выжженного парка для бедняков. Не бродягами, под деревьями лежавшими, парк хочу упомянуть, но разговором весёлым. Началось всё от нищего. Грязный, лохматый, он сидел на земле: шикал скачущему поблизости ворону, ел из миски. Я разглядывал его. Внимание моё индиец приметил, но подошёл не сразу; выел варево оранжевое из миски, руки обтёр о землю, поднялся, ко мне приблизился и проговорил:
– У моего брата не лучшее время. Болен он сильно. Помогите чем-нибудь.
Одежда его (дхоти, рубашка) не так изодрана, не так дрянна, как у прочих.
– Твой брат, быть может, болен. Но ты, кажется, здоров, – ответил я в малой улыбке.
– Да, поэтому он лежит дома, а я зарабатываю ему на лекарства.
– По-твоему, это – работа?
– Тебе не понять.
– Почему же?
– Ты другой, – нищий показал на лице недовольство. Взглянул назад – к миске, будто возвратиться хотел, но пока что медлил.
– В чём же это я другой?
– Посмотри… в каком я тряпье. И посмотри на себя, – нехотя ответил он.
– Разница только в одежде? – настаивал я.
– Не только.
– В чём же ещё?
– Мой брат болен. Дай денег. Сколько можешь.
– Ты не ответил.
– А если отвечу, дашь сто рупий?
Я промолчал. Индиец был нищ, но английский знал хорошо. Стоявший неподалёку торговец лимонадом, кажется, прислушивался к нашим словам.
Молчим. Стоим, едва раскачиваясь, друг против друга.
Индиец поглядывал по сторонам, наконец ответил:
– Много разницы… И одежда другая и… душа. Такие, как ты, слишком любят вещи. Живёте для них, и печалитесь и радуетесь им, как людям. Для вас вещь ценнее человеческой жизни; тут люди умирают без еды и лекарств, а вы в игрушки играетесь.
– Не все.
– Что?
– Не все мы такие.
– Разве ты другой?
– Да.
– И можешь без жалости расстаться с вещью?
– Да.
– Пусть бы с этим фотоаппаратом?
– Конечно.
– О, ну так отдай его мне. Я продам его. Куплю брату лекарства. И не только ему…
Я не сдержал усмешки; потрогал фотоаппарат и ответил:
– Он мне дорог не сам по себе. Дорога цель, которой он служит.
– Это только… вывёртывающиеся слова . Слова, помогающие жить, – нищий поморщился.
– Не больше, чем слова о больном брате, не так ли?
Молчание. Смотрю на индийца; удерживаю от губ улыбку.
– Ну так… не дашь ничего?
– Нет.
– Жадный?
Молчу.
– Или скажешь, что деньги у тебя тоже служат цели, а так бы их – хоть в пропасть?
– В точку! – я рассмеялся.
Нищий вздёрнулся. Махнул рукой. Развернулся. Ушёл, ругаясь о чём-то на хинди.
Подошла Оля (завидев наш разговор, она осталась в стороне, не мешала). Пересказал ей случившийся диалог, после чего подошёл к торговцу лимонадом – заказал один стакан (с водой из моей бутылки) и спросил, о чём была ругань нищего.
– О… – торговец улыбнулся. – Он сказал, что не поскупился бы оплатить вам дорогу в ад.
– Это всё?
– Нет, но остальное я переводить не стану.
Слова, которых постеснялся торговец, я мог представить по ругани, слышанной Кимом на Большой дороге: «Сын свиньи, разве мягкая дорога предназначена для того, чтобы ты мог чесать о неё свою спину? Отец всех бесстыдных дочерей и муж десяти тысяч лишенных добродетели, твоя мать была предана дьяволу под влиянием своей матери, у твоих тёток в продолжение семи поколений не было носов. Твоя сестра…» {7}
Лимонад был приятным; я купил ещё один стакан. Оля пить «с улицы» отказалась.
К восьми часам мы возвратились в номер. Нужно было заняться Дневником и лечь спать – для раннего отъезда в Агру, но случилась близость. Не знаю, какой причиной, но была она особенно чувственной. Быть может, всё – от специй или от самого климата. Так или иначе, Оля теперь спит, а я в ночи, под шёпот нового дождя заканчиваю фразу последнюю об этих сутках.
15.07. Агра
(Шиваизм – одно из основных и древнейших направлений индуизма. Для почитателей Шивы известны диковинные увлечения: бродяжничество, каннибализм, поклонение половому органу Шивы и другие.)
Дорога в Агру была пятичасовой. Жар случился тяжёлый, напористый, чувствовался до потливости – даже при кондиционере в машине.
Паломники-шиваисты отыскались и в Раджастане. Всеиндийское празднество. В отсутствие Джамуны и Ганги довольствовались они Джайпурским озером – несли его воды в неизменных ведёрках.
Были короткие, чрезвычайно густые оранжевые процессии. Двигались они в ритме барабанов, плясом; оканчивались обширной повозкой, в которой недвижным идолом сидел святой человек (в цветах красных, бордовых, оранжевых, с белой бородой).
Паломники перекрывали шоссе – танцевали, пели, размахивали флагами, обсыпали друг друга лепестками. Приходилось ждать. Из окон соседних машин сплёвывали мужчины – густой тёмно-красной слюной (от бетелевой жвачки или жевательного табака). Мимо нас брели чистые, вылощенные до бархатистости коровы. Кожа обтягивала их рёбра-шпангоуты. Рога были длинные. Сами коровы – спокойные, и в спокойствии твёрдом не возмущавшиеся ни от машин, ни от людей.
Жители местные встречали паломников молитвой.
Под днищами грузовиков, поставленных на обочине, обедали, отдыхали дальнобойщики.
Остановками нашими пользовались торгаши и попрошайки. Не было минуты, чтобы не вздумал кто-нибудь потереться к нам в стекло: то с покорной до уныния обезьянкой, то с ободранной, едва шевелящейся коброй (для лучшего шевеления «факир» непременно щёлкал свою подопечную по голове), то просто – с грязными руками, лодочкой обращёнными ко рту: «Кхана кхала!» [7]
Агра оказалась такой же шумной и людной, как Джайпур, но улочек, подобных тем, что видели мы вчера (тесных, зловонных), здесь найти не удалось. Красный Форт и Тадж-Махал мы отклонили до завтрашнего дня. Устроились в гостинице и вышли для прогулок по базарам.
В день этот наиболее примечательным стало знакомство с велорикшей. О нём – позже. Сейчас слышны от улицы индийские песни – в восьмом часу, по темну, начнётся в городе праздник Шивы. Агра обещана оранжевой и радостной. Будет бесплатная еда. Веселье. Мы с Олей должны выйти к этому празднику, но после я непременно доскажу начатое слово о рикше.
…
Дикость! Дикость возмутительная и печальная. Теперь понятно, отчего Пахарганж в Дели перекрыт. Индийские власти знают, над каким народом поставлены. Понятно, почему закутанные ходят здесь женщины; только старухам вольность дана большая. «Так как они высохли и не могут вызывать желаний, то в некоторых случаях не отказываются снимать покрывала» {8} .
Мы отправились на праздник, ожидая сари красивые, пестрящие в свете фонарей, улыбки, танцы народные, цветы, веселье. Обнаружили другое.
По главным улицам Агры к центру густыми потоками идут босоногие юноши. Мы вышли на одну из таких улиц. Парни выплясывают, выдёргиваются, голосят. Вдоль дороги собраны стенки из динамиков, подающих музыку такой ощутимости, что вблизи от них сердце дрожит и кажется, будто воздухом тебя толкает в бок. Каждые пятнадцать метров бесплатно разливают манговый сок, накладывают в одноразовые тарелки (из листьев прессованных) овощи, рис. От сока мы не отказались; был он сладкий, но излишне разбавленный водой.
Мы шли от центра – против движения шиваитов. В такой гущине надеялся я заполучить хорошие кадры. Оля шла следом. Уже несколько раз предлагали нам купить гашиш или марихуану: «1 грамм – 500 рупий [8] – кричал торговец. – Пробуй бесплатно. Подходи. Только лучшее. Улетишь выше неба».
Я поднялся на бетонное ограждение разделительной полосы; проходивший в толпе юноша коснулся меня рукой – в месте, для которого меньше всего ждёшь прикосновений (тем более таких – мягких). Я не озаботился подобным вниманием, счёл его разовой дуростью. Когда же второй юноша коснулся меня сзади (всё так же ласково), я признал наилучшим спрыгнуть с ограждения, пусть бы фотографии с него могли найтись удачные. Мы пошли дальше.
В тёмных отворотах перед полукругом громыхающих колонок конвульсировали пляской празднующие. Всё только начиналось.
Женщин не было. Редкие индианки стояли на противоположной стороне дороги – были укутаны платками и, кажется, ждали рикшу. К веселью они не приближались.
Босые юноши всё настойчивее тянули к нам руки, просили фотографировать их, предлагали выпить что-то из бутылки, смеялись, подпрыгивали, дёргались.
В темноте, под навесом ходила папироса – яркий, конусообразный уголёк.
Музыка утомляет. Даже в пяти метрах от танцплощадок я глох неодолимо, ещё и голос утрудил, переговариваясь с Олей. Индийцы в безумных заломах выплясывали в такой тесноте от колонок, что задевали их рукой. Казалось, что напор громузыки может изорвать их. Даже издали тело моё вибрировало вместе с басами…
Удовольствия в наблюдаемом не было. Люди добровольно лишают себя сознательности, соглашаются на радость плоскую, меньшую из доступных человеку… Тем не менее я хотел увидеть, как разгорится праздник, какими станут люди, чем окончится бесовское безумие. Нужно было идти к центру. Мы развернулись и теперь шли по течению.
Увидеть, чтобы почувствовать. Почувствовать, чтобы понять. Понять, чтобы с большим основанием отвергнуть. Я мог быть таким же. Отчасти был.
Я отвлёкся – фотографировал беснующегося в шуме ребёнка. Олю за моей спиной (в трёх метрах) оттеснили шестеро парней. Они улыбались, просили снять их на камеру, приплясывали; затем, не изменяя улыбок, начали трогать Олю. Быстрые, короткие прикосновения по всему телу. Оля растерялась, задохнулась, говорила «no», отмахивалась, упёрлась спиной в бетонное ограждение. Меня нет. Прикосновения продолжаются, от них не спрятаться. Слишком много. Слишком напористо. Ещё мгновение – и все парни (по команде одного из них) отскочили, втянулись в толпу. Оля осталась одна. Ошеломлённая, она подошла ко мне. Прижалась к плечу. Плачет. Рассказала о прикосновениях. Омерзение, слабость, страх. Когда я успокаивал Олю, сзади к ней подошёл мальчик – прихватил и тут же отбежал.
Дикари. Но что с ними сделать? В драку? Толку не будет. Нужно уйти.
…Всё это были не улыбки. Это был оскал.
Нет лиц – только красные выпученные глаза. Нет людей – только звери. Мы отошли на затемнённую, пустовавшую сторону дороги.
Однотонный грохот молитв, вскрики, вой, пляс. И это – начало праздника. Это – окраина Агры. Что же сейчас зрело в центре?
Я не признавал в случившемся особой беды, но Оля была расстроена. Точнее – разбита. Шли приобнявшись.
Вернулись в номер. Праздник для нас закончился. Могли бы догадаться, куда идём.
Я не осуждаю их. Несчастные, напрасные люди.
Отчасти я был рад. Случившееся будет для Оли удобным примером; раньше не понимала она, почему в путешествиях я так неохотно отпускал её в одиночестве по улицам. Оля узнаёт мир. Узнаёт дикость, чтобы больше ценить сознательность.
Иркутский друг рассказывал мне про девушку, радость знавшую от поездок в Таиланд. Она в подобные праздники выходила без нижнего белья, в юбке. Мерзко, но и это нужно понять. Мерзостью назвать, проклясть – просто. Сложнее – признать формой человеческого существования, по-своему логичной, объяснимой.
Одиннадцать часов. С улицы – грохот неизменный и крики безумственные. Всё это плохо, но хорошо, что я об этом узнал.
Оля спит. Нужно следовать за ней. Я думал, что сегодня будет близость, но от случившегося впору задуматься о вожделениях своего тела. Чем я отличаюсь от тех парней? В нас те же соки, та же плоть. Сознательность же… чем её измерить? Однако мысли эти напрасные. Измеряют для других, не для себя.
О вожделении размышлять лучше при спокойном уме. В Индии любовь тел всегда звучала особенным слогом. Здесь даже высшие боги не могли противиться влиянию собрата своего – бога любви, Манматхи; когда он по юношеской резвости направил стрелы свои против Брахмы и его сподвижников, то увидел, как «в ту же минуту в сердцах богов пробудилось страстное желание овладеть единственной женщиной в этом собрании, которой оказалась не кто иная, как Сандхья. Боги сгорали от любви, хотя одному из них она приходилось дочерью, а другим – сестрой. Все они вдруг увидели, как обольстительно её тело, и, отталкивая друг друга, изо всех сил старались привлечь её внимание; рассудительность, сдержанность, приличия – всё было забыто» {9} . Что уж говорить о людях простых…
Обещанного рассказа о рикше не получилось; при первой возможности, когда насыщенность дней окажется меньшей, я рассказ этот проведу – встреча и разговор оказались интересными.
Сейчас, перед сном, вспомнился мне Афанасий Никитин, писавший об индийцах: «Люди все чёрные и все злодеи, а жёнки все бесстыдные; повсюду знахарство, воровство, ложь, зелье, которым морят господарей. Добрых нравов у них нет и стыда не знают» {10} .
Ложусь спать. Подъём назначен на 4:30. К пяти хотим мы оказаться подле Тадж-Махала (идти к нему от нашего отеля не дольше 15 минут) – увидеть солнечный восход, в его стенах отражённый.
16.07. Агра
(Князь Алексей Салтыков писал 28 октября 1845 года: «Агра в отношении к мавританской культуре одна из замечательнейших и, может быть, одна из диковиннейших местностей всего земного шара <…>. Здесь, в Агре, бездна памятников из лучшего мрамора; каждый в своём роде, единственный, каждый – самого строгого стиля, украшен сложными деталями, чрезвычайно гармонирующими между собой и нисколько не нарушающими девственной чистоты архитектурных линий» {11} .)
Два часа. Зной. Мы сидим на скамейке под единственным здесь тенистым деревом. Рядом скачут белки. Туристов немного, и те – индийцы. Мы в Красном форте Агры. Утомлены жарой. Здесь тихо; можно не торопиться и составить несколько строк.
В 5:00 мы вышли к Тадж-Махалу. По дороге ещё встречались шиваисты. Они теперь уныло брели по городу. Многие хромали; майки, шорты – в грязи. Праздник окончился; не хочу даже фантазировать, каким безумством продолжался он, чтоб под утро была у людей хромота, потрёпанность.
На улице – однообразный сор из тысячи лиственных тарелок. Музыки нет; колонки стоят чёрные, безъязыкие.
…
Даже в тени, под деревом, зной одолевает до слабости. Ветер начинается редко. От потливости зудит тело, по коже идут прыщи, раздражение (при том, что моемся и стираемся мы каждый день).
Прохладная вода бывает счастьем, но чересчур кратким. Когда иссохнешь до горячих волос, когда слюна оказывается мутной, густой, можно в пять долгих глотков выпить пол-литра и тем освежить себя от желудка до ступней; и чудится это наивысшей радостью, но уже следующим мгновением от кожи поднимается такая потливость, что хоть всё снимай на выжим – и не рад испытанной прохладе, и долго ещё не получается возвратить приятную сухость тепловой уравновешенности. Однако знаешь, что вскоре, когда жара одолеет вновь, согласишься на любые последствия ради этого мгновения – краткой, глубокой свежести.
Удивляет наше питание. Вчера в два приёма на двоих мы узнали по одному тосту, по два манго, по одному банану и по одной плошке риса с овощами. Другой пищи мы не искали. Голод ощутим, но ненавязчив. В такую жару аппетит не способен к силе.
Выпиваем не меньше трёх литров в день (туалет при этом посещаем редко)…
Тадж-Махал. Славное имя. Мы должны были посмотреть на него, пусть стремления к этому вящего не испытывали. «Останутся одни слезинки на челе времён, чей блеск навек запечатлён, и это – Тадж-Махал» {12} .
Четыре очереди (обособленные железными поручнями): мужчины-индийцы, мужчины-иностранцы и женщины, также разделённые национально. Индийцам билет – 11 рублей, иностранцам – 440. На входе у меня забрали сувенирный ножик – с трёхсантиметровым лезвием. Опасений от такого оружия я не понял, однако спорить не стал. У одной из туристок забрали пачку сигарет. Она спорила; толку не вышло.
Тадж-Махал – высокий. Об украшении его в путеводителе сказано было на трёх страницах. Малахит – из России, бирюза – из Персии, хризолит – из Египта, агат – из Йемена, ляпис-лазурь – из Шри-Ланки и так далее. 17 лет большого труда, после которого Агра назначена была городом любви. Ведь любовью наречён был порыв, по которому Шах Джахан, смерть жены оплакав (точнее, одной из жён), определил себя к двухгодовому трауру, а венцом к нему устроил дворец великий, небесный. И от страсти яркой стенал он в палатах своих, богов проклинал – обещал вопреки воле их жену свою смерти лишить, имя её обессмертив… Вот, коротко, история, которую в сорок минут здесь расскажет всякий экскурсовод. Не знаю, такой ли была любовь шаха к его Мумтаз Махал, но уверен, что плетями и железом подгоняемые 20 тысяч рабочих и тысяча слонов о чистоте царских чувств задумывались редко. Какой была цена этим минаретам, резным загородкам из мрамора и колоннам, устроенным по стене так, что поначалу обманывают глаз в своих плоскостях и размерах, затем (при объяснении обмана) – глаз радуют и занимают? Я не принимаю величия таких строений. Грустно мне любоваться ими.
Тадж-Махал, над Ямуной поставленный, как и четыре века назад, кажется здесь сгустком сказочным, ведь не успели победить его ни высотки, ни башни современные. Он велик в диком окружении. Кажется Тадж-Махал иллюзией. Удивил, но не очаровал. Повторюсь, величие его пробовалось мне пресным. К чему эти мраморные гиганты? Много ли хорошего от них получилось? Дворец всякий прежде всего – надгробие. Красота изваяний приятна на кладбище, но отзывается грустью.
В садах Тадж-Махала – живность большая. Белки и птицы людей сторонятся, но не пугаются. Каналы парка иссушены; наполняются они редко, в дни особой дождливости и тогда для лучших фотографий растягивают перед «короной» дворца ровное его отражение.
В 9 часов мы поднялись к выходу. Улочки парка – отдельные для индийцев и иностранцев – заполнились туристами сполна, пусть бы лето сочтено здесь несезоном.
Ножик мне вернуть не смогли; обещали найти его скорой суетой, но ждать я отказался, размыслив, что пользы от него мало.
В отель возвращались мы узкими, путанными кварталами. Здесь по-прежнему бродили босоногие шиваисты. Один из них (парень 13–14 лет) изловчился прихватить Олю сзади и тут же исчезнуть – так, что ни ударить его по руке, ни обозлиться на него словом не получилось.
Оля старалась быть внимательной в близости всех босоногих или украшенных в оранжевое; при возможности сторонилась их.
Для Красного форта осталось нам больше шести часов, и время это мы использовали в прогулке неторопливой, в отдыхе под деревом. Здесь всё примечательное отнесено к истории форта; другого интереса нет, кроме тесных двориков, коридоров и вида дальнего на Тадж-Махал. Поэтому вышло мне время сделать эти записи именно сейчас.
Приключение здесь было одно – отозвавшееся долгим смехом, шутками. Началось всё тем, что заметил я на верхнем этаже форта (в окне) движение; решил, что там крадётся турист. Мне захотелось тех же видов, однако я знал, что всякий подъём закрыт. Нужно было искать открытую дверь. Вскоре обнаружил я спрятанную в темноте лестницу – узкую, с высокими ступенями, незаметную в праздном ходе. «Вот!» – сказал я Оле и поторопился вверх. Окончил радость, руками найдя решётку и замо́к. Закрыто. Вздохнул – и понял, что на лестнице есть кто-то ещё… Чужое присутствие слышалось по шорохам – тихим, но ощутимым. Писк. Вновь писк. Рядом с лицом. Ну нет… Мимо меня вспорхнуло. Опять! Летучая мышь. Мыши! Писк, крылья – много. Обхватив голову, я ломанулся вниз и по такой темноте нужно удивиться, что не сломался я на высоких, неудобных даже для моего роста ступенях. Выскочил – под гомон – в зал; со мной вылетели мыши. Огляделся и – расхохотался.
Заглянул по лестнице с фонариком и тогда увидел рясные гроздья мышей, висящих на растопыренных лапках; не все, значит, улетели. Потолок здесь низкий; при неловкой удаче мог я задеть эти жилистые головы… Мерзкие рожицы. Пищат. Не нравится им моё внимание. Потягиваются, будто устали от сна. Крылья их – пережаренные крылья цыплёнка…
Теперь мы принялись высвечивать все щели между лепными украшениями потолка и стен – везде непременно стыли летучие мыши. В иной притолоке их высвечивалось 10–15 штук. Они здесь по всякому тёмному месту живут, и хорошо бы оказаться в Красном форте ночью – какая тут делается подвижность!
Под деревом сейчас Оля кормит с руки белку; на земле сидят индийцы (лавка одна, и мы заняли её прочно). Скоро предстоит нам выехать на вокзал. Поезд отбывает в 20:40. Завтра мы проснёмся в Бенаресе.
Напоследок этого дня отмечу только, что Оля учится быть жёстче. Она твёрже говорит «нет», а слово это наиболее частое для нас в Индии. Причём мягкое «no» не так сковывает попрошаек, рикш и торговцев, как твёрдое, почти ударяющее по лицу «нет». Оля теперь увереннее отводит от себя нищих, не со всеми здоровается за руку, не всем улыбается, не всем отвечает на приветствия и вопросы, прекратила оправдывать себя в нежелании знакомиться или фотографироваться. За час, что сидим мы под деревом, к нам для совместного снимка просились четыре индийские семьи; Оля всем отказала.
Нужно идти…
Виденное мною движение в верхних этажах форта было обезьяньим. Обезьяны тут хозяева крыш, и вольница им устроена, надо полагать, полная.17.07. Бенарес
(Три названия исторических одному городу – Каши, Бенарес, Варанаси («Меж двух рек»). Святое место для индусов. Население – 1,5 миллиона. Штат Уттар-Прадеш.)
Варанаси. Иной город, иные чувства. Настроения наши поменялись значимо.
Сейчас я сижу на крыше гостевого дома, под пологом – в кафе. Пью масала-чай, вношу записи в Дневник. Рядом сидит Оля. Ей молодая индианка хной выводит по руке узоры (менди). По соседней крыше играются обезьяны: висят на арматуре, изгибаются друг к другу, взбегают по уступам, прыгают на балкон, кричат, раскрыв пасть жёлтых клыков. Внизу, в стороне от нашего дома, – веранда бедной индийской семьи. Странные сцены наблюдал я от них. Женщина в бордовом сари лежала на кровати, держала в руках яблоки. Рыжая коза тянула к ней морду – просила угощения, но не дождалась. Хозяйка с яблоками ушла. Коза, мести желая, поднялась шустро на кровать, топчется по одежде, наконец присела и, подтужившись, струю пустила. Хороший быт! Я ожидал криков, наказаний. Но индианка, возвратившись на веранду и сразу сообразив, что́ здесь сотворилось, забыла не только ударить козу, но даже выругать её хоть единым словом. Она только тряхнула облитую ткань (не смог я разглядеть, каким было это одеяние – рубашкой или курткой) и повесила её сушиться на верёвку. Злости не прозвучало никакой. Позже на кровати уместились в дружбе хозяйка, её дочь и коза. Женщина вычёсывала девочке волосы; коза стояла за спиной женщины и периодически зажёвывала с её плеча шарф.
От кухни шумит индийское кино. От дороги сигналят машины, моторикши. Пахнет влагой, пылью и специями. Мы – чистые после душа, сытые после обеда и выспавшиеся после полуденного отдыха. Иными были мы вчера…
Индийский вокзал – худший муравейник из тех, что видел я на железных путях. Без подготовки должной здесь ловкости не покажешь; без ловкости дорогу осложнить можно даже в том случае, если показал себя сахибом – взял дорогое место. Наш билет был в слиппер-класс (спальный плацкарт).
Вокзал Тундлы (15 минут от Агры) – малый, душный. За билетами здесь стояли четыре разноколичественные очереди; выявить их отличие мне не удалось, так как надписи все сделаны на хинди. Но в этом не было помех – билеты, заказанные в Дели, мы выкупили вчера в одном из туристических центров Агры. Нам оставалось одно – уехать; однако для этого случилось несколько препятствий.
На вокзал мы прибыли к 18:40, желая заблаговременностью лишить себя недоразумений. Ведь это был наш первый индийский вокзал.
Мы были утомлены долгим днём, малым сном и, пожалуй, непривычно скупыми обедами, ужинами. Глаза болели от густо-масленного солнца и стекающего с бровей пота (к нему примешивались белые подтёки солнцезащитного крема). Раздражение по коже не прекращалось.
Вокзал был до тугости наполнен людьми. Везде – сор. На перроне расстелены тряпки для семей не то отправляющихся далёкой ночью, не то в постоянстве здесь живущих. Шумно, подвижно. Над справочным окном – старое электронное табло с указанием прибывающих поездов. Рядом с кассами мужчина выписывает на доску всё новые детали расписания – синим маркером. На табло они переходят с ощутимой и порой губительной отсрочкой.
(Пока я делал эти записи, официант принёс мне второй стакан масала-чая. В стакане барахталась букашка. Официант заметил её раньше меня и сразу исправил такую неловкость – поймал усатого гостя пальцами. Вздохнув, продолжаю вспоминать.)
Нашего поезда на табло не было; пока что решили ждать без волнений. Поставив рюкзаки на лавку, сели рядом и обрекли себя на внимание всех соседей. «Из какой вы страны?» «Как вас зовут?» «Впервые в Индии?» «Как вам Индия?» «Вам нравится Индия, не правда ли?» «Можно с вами сфотографироваться?» И ещё десяток других обращений, понять которых мы не могли из-за жёванности, дёрганности, крикливости индийского английского (понять старались, отчего обращения эти должны были слушать по шесть-семь раз).
Я настойчиво смотрел на табло, показывая нежелание своё говорить; тем не менее вокруг нас укрепилось внимание пяти юношей. Они произносили вновь и вновь свои корябанные вопросы, смеялись моему непониманию, перешёптывались, затем опять тянули: «Ми спикита науора трэйн гудэ?»
Восемь часов. Табло о нашем поезде так и не вспомнило. Я встал в очередь к справочному бюро (нет, не в очередь, а в столпотворение – потное, бурливое, потому что очерёдность здесь решалась локтями, а не порядком). Мне нашлось сразу трое помощников; они кричали что-то, расталкивали всех, протискивали меня вперёд, к окошку. Вскоре я узнал, что поезд задерживается на два часа. Вернулся к Оле. Двадцать минут спустя табло подтвердило прибытие нашего экспресса в 22:40. Вновь ожидание.
Не хотел я ошибиться в посадочной суете, потому согласился на помощь кули – носильщика; он должен подсказать нужный вагон – поезд мог быть проходным, а нумерация «S7» мне пока что непонятна. Кули был с номером – жестянкой на предплечье.
Люди на вокзале нашлись разные. Под столбом лежал иссушенный до костей старик – спал, открыв обеззубевший рот. Женщины в сари, мужчины в куртах [9] . Мальчики в рванье, босые; спрашивали тихо милостыню. Юноша в чистой рубашке с протёртым до бахромы воротником. Безумными глазами оглядывающийся старик в дхоти. Святые люди в набедренных повязках, с выкрашенными в оранжевое бородами, с красными ти́лаками [10] , с маленькими ведёрками. Странный мужчина в саронге [11] – с канистрой, из отверстия которого светилось что-то, словно был туда упрятан жар. Старик с козой на коленях. Полицейский в гладкой коричневой форме, с длинной палкой-прутом (назначения которой я так и не увидел). Старухи с широким бинди [12] , с выглядывающими из сари складками пожухлого живота. На вокзале пестроты такой было много.
Один из наших соседей в чувстве чрезмерного дружелюбия снял с лица очки и протянул их мне подарком. Я отказался, заметив, что ему они нужнее. Юноша обиделся, показал, что назначенное в подарок не возвращается, и при повторном отказе он сломает очки. Оля подсказала не противиться. Опасаясь просьб о взаимном подарке, которым индиец мог указать что-нибудь ценное из моих вещей, я до ловкости быстро вынул из кармашка набедренной сумки царицынскую матрёшку (накупили их в Индию – подарками). Юноша был рад чрезвычайно; он с друзьями долго рассматривал её, собирал, разбирал, чему-то смеялся и наконец объявил мне дружбу вековую. Пришлось пожать ему руку и кивнуть: «Да-да, навек». Очки я сохранил для виду; утром оставил их на сиденье моторикши в Бенаресе.
К 22:10 мы перешли на перрон. Прислуженный нами за 60 рублей носильщик сказал, что поезд объявится позже назначенного времени – когда именно, никто не знает. Мы сели на рюкзаки. Над платформой было электронное табло, но сейчас оно предупреждало о прибытии семичасового поезда (который уже прибыл и отбыл – по счастью для его пассажиров – вовремя).
Вспоминали мы, как год назад, в такую же вечернюю духоту, по схожей темноте шесть часов ждали в Самарканде задержавшегося поезда до Учкудука.
Суеты человеческой на перроне осталось немного. Здесь были иностранцы; они ждали молча (если не считать безумных французов, что-то тихо напевавших хором – чуть ли не Марсельезу). Даже индийцы в полумраке оказались не такими шумными. Мы отдыхали; от ветра здесь иногда получалась прохлада. Развлечением нашлась суета иная – крысиная. Гладкие серые тушки носились между шпал, вспискивали, дрались. Я бросил им шестирублёвый пирожок с овощами и тем устроил борьбу шебуршавую (окончившуюся бегством наишустрейшей крысы, в чьих зубах пирожок казался толстым поленом).
По нашему пути прокатились уже пять составов; ни один из них не был указан носильщиком. Объявления на вокзале звучали нечасто; первое время я признавал их – по заунывности – молитвами, потом только понял, что неправ, и, прислушавшись, стал различать некоторые английские слова.
В час ночи на путь четвёртый подали поезд (мы сидели на третьем). Кули оживился. Наш поезд! Пришлось бежать. Остановка ограничилась тремя минутами. В худших классах мы, пробегая, видели тесноту необычайную и радовались, что не придумали экономить на билетах; иначе ехать пришлось бы с тремя соседями на полке, с нагромождениями багажа, с просунутыми между оконных решёток ногами, руками и даже головами. «Вот!» – указал носильщик (рюкзаки мы несли сами, не доверяя их чужой спине). На вагоне было написано «S7». Как бы мы без помощи нашли его в такой спешке (поезд наш, как и прочие, был длинен чрезвычайно, не все вагоны обозначены, да и состав оказался проходящим – с указанием нам незнакомых городов; номер поезда мы так и не обнаружили)? Кули помощь свою расширил до того, что отыскал наши места, согнал с них спящих безбилетников. Свои 100 рупий он заработал честно – принял их в обе руки, прислонил ко лбу.
Поезд дёрнулся, покатился. Можно было наконец лечь. Оля выбрала третью полку, я – вторую (в Индии вагоны трёхъярусные; под потолком, куда в наших плацкартах багаж выкладывают, здесь организовано ещё одно спальное место). Рюкзаки мы положили рядом с собой. Удобств здесь не случилось. Потные руки липли к обивке. Вместо подушки – кофта. Окна были зарешечены – без стекол; и моим неудовольствием был сквозняк – лежал я по движению и ветер весь собирал на свою голову. Можно было укрыться футболкой, но не хотелось беспокоить рюкзак.
Одно купе от другого, как и в наших плацкартах, отделено общей стенкой, но верхушка её сделана здесь из жёлтой решётки – заглянуть можно к соседу по третьему ярусу.
На потолке (в каждом купе) укреплены три могучих вентилятора. Жужжали (точнее – громыхали) они нестерпимо. От них, от стука колёс получался дурманящий, к снам диковинным уводящий ритм.
Всё здесь укреплено массивными скобами, болтами, укрыто железной сеткой. Полки держались на цепях – к ним при желании можно было привязать рюкзаки.
Уснул я быстро. Правду говорят, что голод в еде не привередлив, а сон подушек не выбирает.
18.07. Бенарес
(«Гат» или «гхат» – спуск к священной реке, ступеньками, божествами, храмами украшенный. «Ашрам» – обитель мудрецов, отшельников, в которой поучения они дают последователям своим.)
Сегодня я решил писать на том же месте – на крыше гостевого дома; теперь – при завтраке. Передо мной омлет с овощами, овсянка с мёдом и бананом, масала-чай, манговое ласси и мухи (в таком обилии, что для безопасности тарелок нужно непрестанно махать рукой; машет Оля, я делаю записи).
Снизу, от жилого дома (того самого, при котором коза живёт) дети просят сладостей. У нас нет ни конфет, ни шоколадок. Мы крикнули об этом, но дети всё равно просят.
На соседней крыше мужчина гоняет обезьян – палкой, криком. Полчаса назад мы набросали туда ломтей хлеба; нам – потеха, ему – заботы. Смотрим на обезьян и мужчину; из окон других домов индийцы смотрят на меня, на Олю. Каждому – своё любопытство.
У нас хорошая комната с ящерицами по стенам. Каждый час прекращается электричество на 10–15 минут; вода в кране сама решает, быть ей холодной или тёплой. Духота здесь хорошо перебалтывается потолочным вентилятором (серые длинные лопасти); от окон вытягивается мимолётный сквозняк. До Ганги – 2 минуты пешком. Обустройство такое на один день стоит 300 рублей.
Бенарес славен долгой набережной, вылепленной ашрамами, храмами, гатами и крематориями. Подтверждения славности такой нашли мы в первый же вечер.
Закат вчерашний мы увидели из лодки, нанятой для прогулки. Грязные, рваные, обозначенные письменами, украшенные божествами и святыми, помеченные свастикой [13] , со множеством балкончиков, выступов, провалов, с деревьями зелёными на крыше, с Шивой синим у входа – здания на побережье выглядели мрачно, и было в них что-то дикое из-за краски бордовой (от солнца гаснущего расплескавшейся). В таком городе должен царствовать Хануман или по меньшей мере бродить здесь надлежит асурам [14] .
На широких серых ступенях набережной стояли люди – молча, бездвижно, будто сумерничали [15] или колдовали свои особые заклятья. Лестницами здесь укрыт весь берег – они уходят вглубь верхних улиц, бывают затоплены до порога первых домов. Противоположный берег Ганги (близкий, в дести минутах гребли отстоящий) виден был пустынным – не обозначенным ни деревом, ни каким-либо строением.
В прогулке лодочной достигли мы вечерней пуджи [16] , и больше часа отдали наблюдению за ней. Большого интереса не получилось. Зрелище любопытное (в таких деталях мы видели его впервые), но неприятное из-за шумности. Резкие, частые удары в колокольцы, монотонные призывы пуджария [17] и вторящие ему сотни людей. Упражнения с факелами, огнём окутанными подсвечниками. Дым от благовоний, коптение чёрное. Добавлены к этому покачивания, ритмичные кивки; готовят ум к туману. Участники пуджи, должно быть, считают это медитацией, попыткой к мудрости, но разве мудрость начнётся в отказе от сознательности? Эти зачаровывающие звуки, равно как и песни других религий, диких племён, опустошают голову от глубоких помышлений. Многое в жизни устроено для радости беззадумия, помогающей уподобиться скоту, а с тем и восприятие своё опростить до «хочу, владею, распоряжаюсь». Ум (ленивый, хитрый) умствовать при этом не прекращает, оправдания выдумывает к жизни скотской, и потеря сознательности кажется её усилением. В тумане крепком беззадумия человек почитает себя мыслителем или человеком ищущим, талантом и творчеством мир ощупывающим.
Музыку любую (вслед за молитвой и дребезжащим колокольчиком) я назову губительной для ума – ум ослабляющей. Исполнение в ней более сложное, чем в мантре [18] , но суть та же – мыслей лишиться. Издуманы человеком тысячи способов опорожнить сознание своё внешними ритмами: кино, танцы, разговоры, игры, наркотики, книги – не все и не всё, но многие. Потреблять искусство – ещё не значит мыслить.
Думал я при вечерней пудже, что мне печальнее всего наблюдать сознание бездействующее. О чём думают эти люди, под огнём вытанцовывающие, вскрикивающие?.. Это плохо, это мне чуждо, но хорошо, что я об этом узнал.
Ночью раздождилось.
В пять утра мы опять сидели в лодке – для новой прогулки по Ганге, теперь уж при других, рассветных красках.
По всему берегу – оживление большое. Стирают одежду – мылят её, мочат в реке и, скрутив в замахе, лупят по нарочно для такого дела установленным камням. Другие моются сами, отхаркиваются – заложив пальцы в горло, да так громко, натужно, что слышно за сотни метров. Тут же чинят лодки – подбивают шпангоуты, паклюют, верёвками обвязывают; за лодками испражняются мужчины. Рядом молятся паломники десятка религий. Со всей Индии едут сюда омыться в Ганге. Возле крематория в реке по голову стоят зебу. От крематория выносят корзины с пеплом – высыпают прах человеческий и древесный в священные воды…
К шести утра по берегу сделалось шумно от музыки. Лодок по Ганге прибавилось, и среди них зачастили вёслами торговцы, выкладывающие по корме и бокам своих лодок сувениры, цветы, фрукты. К нам причалил индиец и, не спрашивая согласия, запалил свечки, которые здесь принято отпускать в воду для счастья. Индиец обиделся очень, когда мы от ритуала отказались. Сделал глаза большие, раздул щёки и – отплыл.
Оля с недоверием поглядывала на омывающихся шиваистов.
Мы плыли мимо больших (в пять метров) изображений свастики, Ганеши, Шивы. Некоторые из стоявших в Ганге мужчин призывно дули в рог. На ступенях курили, варили чай. По зданиям перебегали в привычной ловкости обезьяны.
Мужчины, повязанные тряпкой, пальцами или палочками драили зубы. Здесь же брились, стриглись. А Ганга мрачная была, и не счесть всех примесей из которых она сочлась; священной называть её кажется мне излишним, но особенной назвать приходится. По чёрным, маслянистым водам текут кувшинки, мёртвые карпы, упаковки от жевательного табака, дощечки, обрывки тканей и прочий сор [19] . Вспомнилось из «Кима»: «Я знаю реку великого исцеления. Я пил воду из Ганги так, что у меня чуть не образовалась водянка. У меня сделался понос, а сил не прибавилось» {13} .
По одним гатам рыбаки расправляли сеть – перевязывали, крепили грузила-кирпичи, обшивали. По другим – устроилась прачечная обширная. Тут стирали не меньше полусотни индийцев; сушилка им начиналась на ступенях – всё уложено цветастыми сари, простынями, платками, бельём.
Скрипят верёвочные уключины. Смеются на берегу дети, играющие мячом. Бродят тощие, чихающие собаки.
Большой крематорий устроен на берегу и назначен лучшим местом для всякого умершего индуса. Работает он весь год, ни на минуту не заглушая пламени своего, а люди, чьи тела стали здесь прахом, непременно отправляются в Нирвану – так заявил нам один из смотрителей крематория (мы причалили к лодке-дебаркадеру, и он одним прыжком оказался нам соседом). Всякий индиец путь тела своего мечтает завершить в Ганге, и для участи такой семья его отдаст последние рупии – иначе чистоты им, почёта не будет. Тела везут на машинах, телегах, повозках. Те, кто беден, жгут умершего в своём городе, но пепел всё равно отправляют к священной воде. Если пепел Ганге не отдать, дух умершего спокоен не будет – начнёт волновать родственников несчастьями и ночными кобылами.
Горят здесь на одной площадке все вместе – без разбора каст, богатств и грехов. Плакать не положено – слезами отвлечь можно дух от перехода в высшее состояние. Для утешения родственникам работают жрецы.
Череп сожжённого тела разбивает старший сын – бамбуковой палкой; удачей считается окончить разбитие пятым ударом. От мужчин остаётся лишь грудная клетка, от женщин – бедро.
Цена сожжения высчитывается от веса умершего. 1 килограмм – 150 рублей. Был при жизни чревоугоден – заплатят за тебя родственники сполна.
Рядом с крематорием – тёмные, будто из единой скалы выдолбленные хосписы. В них для смерти собираются те, кому денег для огня не набралось – одинокие, нищие. Ухаживают за ними на пожертвования; при жизни ещё от благотворительности закупают они дрова на свой костёр.
В огонь нельзя определить ребёнка (чистого по возрасту и в очищении тела не нуждающегося), тех, кто страдал проказой, скончавшихся в беременности и тех, кого убила кобра (такой человек гибнет в святости, ведь кобра – символ Шивы). Их, как и бедолаг, у которых не было рупий для огня, опускают ко дну Ганги – на съедение рыбам (увозят в сторону от города, привязывают к булыжникам, бросают в воду).
Смотритель крематория спросил от нас денег для нищих – на дрова. Мы отдали ему 100 рупий (почти полкилограмма).
Сейчас, отдохнув сполна, насытившись, могу выйти для прогулки по улочкам Бенареса. Прочие записи сделаю перед сном.
…
К вечеру был лишь один примечательный случай.
Возвращались мы берегом, людей странных наблюдая. Святых , бродяг, паломников. Случился на возвышении каменном индиец, ноги лотосом скрестивший. Смотрел он тихо в даль предсумеречную. Повязан тряпкой, по груди – волосы седые, кучерявые. По лбу – полосы ти́лака. Пучок макушечный резинками цветными перехвачен. От подбородка тянулась мокрыми сосульками борода. Кожа – густо-коричневая, вся в пятнах белых, разводах. Смешным показался мне индиец в серьёзности своей. Какие мысли у него в положении таком? Какая жизнь для него свершается? Подумалось мне, что нищий этот здесь мыслителем сочтён, что последователи, быть может, для поучений ходят к нему. Захотелось по такому делу озорничать.
Олю оставил в стороне, сам к индийцу приблизился, сел рядом. Запах влаги, благовоний, цветов. Вздохнул я громко и от приветствия краткого разговор начал. Индиец голову ко мне повернул, улыбнулся. Для забавы придумал я себе серьёзность вящую. Сказал индийцу, что в поисках пребываю, что помощи спросить у него хочу. «Что же ты ищешь?» Ответил я скорой выдумкой – историю Киплинга пересказал о реке, от грехов очищающей: «Когда наш милосердный Господь, будучи юношей, искал себе подругу, люди при дворе Его отца говорили, что он слишком нежен для брака. <…> Тогда произвели тройное испытание. При испытании в стрельбе из лука наш Владыка сначала переломил тот, который Ему дали, а потом попросил такой, какого никто не мог согнуть. <…> И стрела, перелетев через все цели, исчезла вдали, стала невидимой для глаз. Наконец она упала; и там, где она дотронулась до земли, прорвался поток, превратившийся в реку. Эта река благодаря благодеяниям Владыки и заслугам Его до Его освобождения очищает купающихся в ней от всякого греха. <…> Где эта река? Источник мудрости, куда упала стрела?» {14} Произнося это, смех я предчувствовал неодолимый; когда же рассказ мой окончился, радость отчего-то пресеклась. Озорство глупостью показалось. Индиец молчал, под ноги себе глядя. Качнул головой, ответил, что о Реке такой не слышал и помочь не может в поисках моих (я уверен был в ином ответе – ждал, что укажет он на Гангу, искупаться в ней предложит). Помолчав ещё, начал он историю диковинную.
Так сидели мы в Бенаресе, на берегу Ганги, в сумерках; индиец нищий, святой , легенду мне рассказывал, чтобы в ней подсказу поискам моим озвучить – говорил, глядя вдаль, не на меня, будто не ко мне обращался:
– Время было далёкое. Не сказали ещё слов ни Вайкунтха, ни Кайласа, ни Сатьялока. Махашакти – мать великая мира всего – сына Трокдевту [20] создала, чтобы он вселенную оживил. Вылепила его в тело человеческое, но в отличие человеку власть дала ему безграничную. Поселился Трокдевта на континенте широком, среди людей, обликом ему подобных. Власть Трокдевты великой была. Царства он устраивал богатые, сам же их губил. Прославлял людей и терзал. Женщин чистоту стерёг и сам же первый являлся чистоту эту порушить. Заповеди людям показывал и тут же осквернял их; проклинал себя и возвеличивал одновременно. Так жил он тысячу лет, пока не утомился; ограничены свершения, не сделать тебе больше того, что может быть сделано. Стало Трокдевте скучно. Знал он радости человеческие, страдания их выучил. Смертным проще было – они умирали от тела одного и в теле другом являлись, но забывали жизни предыдущие – жили будто впервые. Трокдевта, сын Махашакти, помнил всё. Рождался он в обликах разных; пророком был, полководцем, мучителем, царицей страстной. Но всё прискучило ему. Всё надоело. Одного не знал он – любви подлинной, душевной; знал только любовь телесную. Не было тогда Манматхи, чтобы сердце его стрелами пронзить. Трокдевта угас. Увидел он, как руки его твердеют, как слюна песком сыплется, как волосы галькой шебаршат. Понял, что каменеет во всевластии своём, и не хотел тому препятствовать. К чему тебе сознание, если ты совершенен? Сознание – это путь к совершенству, но не само совершенство. Сознание – это напрасное, неисполнимое стремление к идеалу. Когда идеал достигнут, сознание умирает и надлежит тебе богом стать – существом внетелесным, вневременным. Совершенство знаменует смерть. Но Трокдевте муки великие назначались – Махашакти воспретила ему в боги возвратиться. Понимая, что ослабить тоску лишь забвением можно, спустился Трокдевта к реке шумной, подле неё окаменел окончательно, не оставив в себе отличия от других скал и валунов. Жизнь людская продолжилась и была спокойна. Люди рождались, росли, умирали. Работали, чтобы есть. Ели, чтобы жить. Жили, чтобы работать. И не было этому конца.
Однажды всё переменилось от девушки простой – Джаграни. Красоту её не мне описывать; я в том не умелец; скажу только, что мужчина всякий, видевший её, разума лишался, и пришлось Джаграни, едва вызрела она до спелости полнейшей, прятаться в селе отдалённом, опасаясь безумцев влюблённых. Она возвышенной была в красоте своей и не хотела унизить её покорностью. Поклялась себе, что останется одна, в нетронутости, в святости. Село было возле той реки, где каменность принял Трокдевта. Как догадываешься ты, утром свежим услышал сын Махашакти, как поёт чудесная Джаграни, и кровью вновь облился.
Спускалась Джаграни к берегу – стирала здесь и пела о судьбе своей. Трокдевта очнулся окончательно от забытья, из оболочки каменной поглядывал на девушку; так впервые узнал он любовь. Камни расходиться стали руками, валуны – ногами, галька – пальцами, песок – кудрями. Восстал Трокдевта для жизни новой. Испугалась Джаграни явления такого, потом удивилась, но вскоре разочаровалась – увидела глаза Трокдевты, а в глазах его – любовь. Долго рассказывать можно о том, что было в годы последующие, но скажу кратко. Хотел Трокдевта взаимности, поведал Джаграни о судьбе своей, о рождении, назначении, грусти. Не захотела Джаграни признать его мужем, осталась горда в красоте своей и невинности. Трокдевта не отступил. Он усы́пал ей дорогу алмазами, сапфирами, показал чудеса земли и неба, назвал её царицей и мир весь вывел коленопреклонённым перед ней, поднял к звёздам, опустил на дно океана – чтобы власть показать свою и царство, ей обещанное. Джаграни оставалась неприступна.
Разгневался Трокдевта и власть свою показал иной – принялся жечь царства, людей мучить, осквернять; при матерях детей сжигал, при мужьях жён мучил и зол был, страшен. Угрожал, огнём ревел и землю так вздымал, что в полях горы рваные взносились. Джаграни оставалась неприступна.
Бесновался Трокдевта. Слал миру щедрости и гнев, готов был для любых свершений. Потом ослаб. Вышел к реке, где сидел когда-то камнем, сделался здесь пастухом. Искал отъединения, но не находил. Молил Джаграни о любви. Наконец ослаб. И впервые от дней мироздания заплакал. Бессилен был он. И слабость оказалась его наибольшей силой. Джаграни пожалела великого бога, а жалость была щелью в сердце, через которую просочилась любовь. Началось им счастье. Все грани взаимности познали они; длилось это пять тысяч лет. Лучшим певцам не сочинить песен о радости такой, и нежности, и ласке. И мир был садом цветущим. Но однажды Джаграни, проснувшись, увидела, что возлюбленный её сидит возле реки, а руки его тверды, песком осыпаются. Теперь для новых дней просыпался он во всё большей каменности. Ему вновь стало скучно. Он вновь умирал. И не могла поцелуями своими, нежностью, словами Джаграни пробудить его. Грусть великая случалась. Не умел Трокдевта противиться смерти. Взглянул на жену, в печали глаза сомкнул, заплакал во второй раз от дней мирозданья – а слёзы его камнями были. Стал он скалой. Джаграни бросилась в реку, утонула [21] .
Индиец смолк. Помолчав, вздохнул, после чего промолвил:
– Совершенство убивает даже богов. Очищение – это тупик, смерть; смерть ума, а значит – индивидуальности. К этому можно стремиться, однако не нужно этого достигать. Очищение – это путь, а не цель. Ценно то, что увидишь ты на пути к своей Реке. Быть может, нет её вовсе, но не так это важно. Лучше стремиться к невозможному, потому что так уйти получится дальше; хуже, когда цель твоя очевидна, достижима – ведь назначаешь её из того, что видишь, а значит, далеко не уйдёшь. Не знаю я твоей Реки, но рад, что ты её ищешь. Вопрос лишь в смелости, настойчивости, честности.
Сидели молча. Смотрели на Гангу. Я вздыхал, но разговор продолжить не решался. Необычным показалось мне, что в ответ на пустое гаерство услышал подсказку о своей подлинной Реке. Не сказал этот святой нового, но порой важно услышать мысли собственные от человека другого – чтобы осознать их, принять.
Ушёл молча – кивнул только.
…
Перед сном укажу ещё мысли о виденных на прогулке тесных каменных жилищах – всегда открытых в разломанных дверях, вывороченных окнах, заселённых чрезвычайно и при разрушенной крыше напоминающих хижину (полог временный устраивается из бамбука и сена). Жалость во мне к этим людям, но не за бедность их, а за то, что нет у них возможности к уединению. В комнате одной по грязи расстелены тряпки. На них – трое, смотрят маленькую коробку телевизора. В углу женщина раскатывает тесто. В противоположном углу – дети. Полумрак. Цветные блики, шум кино. В коридоре на скамейке старуха сидит, в стену смотрит. Во второй комнате двое мужчин режут палки бамбуковые. Больше нет комнат для этой семьи. Квартира соседняя – в такой же тесноте. Где здесь отъединиться, где место найти для мыслей, для созерцания своих чувств? Люди эти бедны не голодом и обносками, а тем, что нет им одиночества. Как бы сам я жил, если б не осталось мне возможности быть одному – ни дома, ни на улице? Тепло вспоминается Сибирь, Забайкалье. Как сумерничал возле нодьи; спокойной была тайга, а луна и звёзды – безмолвными. Чем дальше ухожу от тех мест, тем ближе к ним оказываюсь. Это правда.
19.07. Бенарес
(Пашмина – подшёрсток горной козы.)
Ночью дождило. С утра успокоилось, но серым небо оставалось до темноты. Было влажно, душно; погода такая сложнее жары – в ней голова гудит, туманится. Ждал я, что духота прозреет ливнем, но – напрасно.
После завтрака мы отправились по набережной к крематорию. Виденное вчера от лодки сейчас повторялось вблизи, только в меньшей насыщенности – для стирок и омовений время было позднее – 10 часов.
По гатам – писающие мужчины; встали к стене и не смущаются тем, что поток, ими созданный, идёт под ноги прохожим.
Из-за спины нам кто-нибудь начинал вышёптывать: «Ши-ши. Ха-ши. Ши-шь. Ха-ши. Ха-ши». Другие говорили точнее: «Гашишь? Марихуана?» «Try and fly». «Пробуйте бесплатно». Сегодня такие обращения мы слышали не менее десяти раз. (Завершением этому будет вечер, когда в нашем ресторанчике Оля по любопытству ко вкусностям заказала Varanasi famous shake за 70 рублей; выяснилось от официанта, что напиток этот – наркотический. Заказ пришлось отменить).
Прошли мимо электрического крематория. Услуги его дешевле, но не так почётны – индийцы хотят испепеления натурального. Так или иначе, даже перед этим крематорием увидели мы положенные в костёр тела (закутанные в ткань, но с обнажёнными лицами).
Дальше по берегу был рынок – с навязчивыми торговцами гашиша; один из них следовал за нами несколько минут (не таясь, но и не выставляясь), будто подозревал, что мы одумаемся для покупки.
Наконец – главный крематорий. Фотоаппарат пришлось убрать, так как место это состоит в своих запретах. Лучшим сторожем здесь назначены родственники умерших.
Горят три костра, собранные из толстых брёвен, но основной огонь – в большом бежевом здании. Всюду – нагромождение дров, мусор, зола. Огонь дышит широко. Между двух костровищ козлёнок ковыряет землю. В стороне, возле спуска к Ганге, стоят коровы. Ниже – у воды – двое носилок с уложенными на них телами. По пёстрым одеждам понятно, что это женщины. На заборе от погребального костра сохли трусы, брюки, рубашки.
Козлёнка заподозрил я жертвенным. Не видели мы в Индии закланий, но вспоминались записи Николая Рериха: «Безобразное зрелище! В Золотом храме в Бенаресе мимо нас провели белую козочку. Её увели в святилище. Там, вероятно, она была одобрена, ибо через малое время её, отчаянно упиравшуюся, спешно протащили перед нами. Через минуту она была растянута в притворе храма, и широкий нож брахмана [22] отсёк ей голову. Трудно было поверить, что было совершено священное действие. Мясо козы, должно быть, пошло в пищу брахманам. Ведь брахманы мяса не вкушают, за исключением мяса жертвенных животных. А таких животных запуганное население, вероятно, приводит ежедневно» {15} .
Серое, дикое место. Запах марихуаны, горящего дерева.
К нам подошёл индиец. Назвался смотрителем. Прогнать его мы не решились, угадав, что может он провести в хоспис – к тем, кто ждёт смерти.
Ещё вчерашним утром познакомились мы с одиноким англичанином. Злился он о том, как приветили его улыбками, как тешили рассказами, как показали шиваистский храм, как затем истребовали сразу 5 тысяч рупий (2930 рублей) – пожертвованием на святость этих мест. Не знаю, чем его пугнули, но деньги он отдал, а теперь сполна проклял Варанаси и его набережную. Подозревая сейчас повторение такой истории, я решил говорить осторожно. «Нам не нужен гид. Мы здесь сами ориентируемся». – «О, я не гид. Я смотритель, и мои заботы – о родственниках, об умирающих». – «Вы можете провести нас в хоспис?» – «Да. Я здесь вам в помощь. Ведь вы – гости». – «Сколько это будет стоить?» – «Мне денег не надо. Я забочусь о карме, не о материи». – «А кому надо? Я имею в виду – денег». «Ну… вы можете дать кому-нибудь из умирающих – на дрова». – «Сколько?» – «Сколько душе вашей захочется». – «Отлично. Идём».
Прошли к свалу брёвен. Повернули к лестнице – утлой, затемнённой. Поднялись в пропылённое серое здание (стоящее возле крематория). Склизкие чёрные ступени, шершавые стены. Широкая комната с балконом, открытым к Ганге. Здесь никого не было, кроме женщины, представившейся медсестрой. «Она облегчает последние дни тем, кто ждёт скорой смерти», – пояснил индиец. Бедняков не было. Проводник заявил, что последние умерли вчера, а новых не успели зарегистрировать. Я был разочарован. Очевидно, что в подлинный хоспис нам не попасть, а прогулка эта устроилась лишь для просьбы о деньгах. Медсестра позвала меня сесть к ней. Я сел. Она обхватила мне голову пальцами, принялась камлать счастье моей семье. После этого индиец наконец спросил о donation. Я достал из кармашка (нарочно отведённого для подаяний и чаевых) 30 рупий. Сумма эта возмутила и медсестру, и смотрителя: «Вы же хотели помочь несчастным? Купить им много дров? Дайте что-то достойное! Три тысячи, четыре!» Я рассмеялся подобной наглости, ведь произносил её человек худенький, маленький, напугать способный только козу, и то – молодую. Даже эта пропахшая погребальным дымом комната не помогла ему в устрашении. Когда проводник настаивать решился о тысячных купюрах, я повторил ему логику нашего разговора – то, что пожертвовать я должен, сколько «душа захочет», а не по его указу. Сказав это, я вложил медсестре в руку 30 рупий и отошёл; она, растерявшись, плату приняла – разом окончила спор, к моему удовольствию. Теперь подобраться ко мне они могли бы только наглой силой, ведь деньги я отдал, а значит, договор исполнил вполне. Силы в дневное время от индийцев я не боялся. Мелкие они, паршивенькие, болезненные, гашишем приправленные.
Сообразив неудачу, наш проводник предложил исключительную возможность фотографировать кремацию с балкончика. Мы отказались. Тогда он спросил плату себе. Я напомнил ему, что «материальное не так важно, важна только карма». Пустил вперёд Олю, громко попрощался, вышел к лестнице.
Ушли мы без препятствий. Смеялись наивному по организации вымогательству и незадачливому англичанину, для которого, впрочем, ситуация могла быть иной.
От крематория поднялись мы к центру города; теперь гуляли в стороне от Ганги.
Видели на улочках, вблизи от рынка, куски многокилограммовые льда – носильщики укладывали их рикшам на сиденья. Должно быть, назначались они посылкой в семьи, холодильника лишённые. Лёд в подполье можно уложить, землёй присыпать – так сделать многомесячный ле́дник. Лёд, для продажи смороженный, доставали, конечно, из морозильника электрического. Дело нехитрое. Не то было в позапрошлом веке. В одном из бенаресских писем Алексей Салтыков указывал: «Я видел <…> презамечательную вещь: ледяную фабрику. Сотни бедных туземцев, женщин, детей и стариков получают плату за следующее занятие: по ночам, в ветреную погоду, они обязаны оставлять тысячи плоских блюдечек, наполненных водой, на земле, под открытым небом. Зимой в этих блюдечках образуется тонкая ледяная кора, которую бережно снимают перед восходом солнца, укладывают между рядами соломы в глубокие ямы и таким образом делают запас льда на всё нескончаемое лето. Эта ледяная фабрика приносит двойную пользу: освежает напитки бенаресских богачей и даёт кусок хлеба множеству бедняков» {16} . Сейчас блюдечками никто не занимается…
В храмах городских были мы кратко; не задерживались в них из-за шума (подобного тому, что слышали от пуджи). Интересным был только храм Ханумана, где обезьянам устроена вольница – ходят они по вашей тропе, пьют из соседнего крана. Приятные, смешные наблюдения. Монахи здешние не дозволяют проносить в храм предметы электронные: фотоаппараты, телефоны; так что могли мы обезьянами заниматься, не заботясь ракурсом или светом.
Прогулки вдали от берега спокойные получаются. Здесь отдохнуть можно от ежеминутных предложений гашиша, помощи, лодки.
Вечером мы вновь спустились к воде. По берегу вернулись в гостевой дом.
Вскоре узнали, как здесь склоняют туристов к излишним тратам. Если кто-то в гостевом доме спросит о хороших тканях Бенареса, помощь вам назначится обширная. У хозяина есть несколько в одну цепь сбитых торговцев, которые (меняясь меж собой) встают в очередь, где первые назовут вам цену тяжёлую (на пашмину, на хлопок, на шарфики, постельные комплекты, камизы), а последний, для начала заявив те же цифры, потом расчувствуется в близости какого-нибудь религиозного праздника и устроит вам чудесную скидку на 30–40 процентов. По этим торговцам вас в особой рачительности провезёт моторикша, служащий хозяину гостевого дома (60 рублей, при обязательном вопросе о чаевых). Систему такую мы узнали от моторикши, который повадился работать в сторону от хозяина – сразу предложил своё место, где нужная нам вещь будет дешевле, чем у последнего в хозяйской цепочке продавца. Мы попросили моторикшу свозить-таки нас по всем продавцам. Действительно, первые три заявили для хорошего пашминового платка 2000–2500 рублей, а последний, вспомнив грядущий Рамадан, согласился на 1000. Этот же платок мы купили у продавца от моторикши за 580 рублей. Или он также был частью цепочки?..
Ночью, сидя на крыше гостевого дома, мы пили чай; следили за мошками, за охотившимися на них ящерками. Утром – отъезд в Гаю. Вчера, памятуя безбилетицу в Дели, мы расписали по дням путешествие наше до Мадраса и купили все нужные билеты (8 штук на двоих, спальный класс). Общая цена – 2000 рублей.
20.07. Бодх-Гая
(30 тысяч – население Бодх-Гаи. Штат Бихар.)
В этот раз мы самостоятельно узнали и платформу, и поезд (который опоздал лишь на два с половиной часа) – научились высматривать номер вагона, высчитывать положение мест; порой даже понимали станционные объявления.
На лежанках наших сидели индийцы; прогонять их не пришлось – ушли сами.
Доехали до Гаи. Заплатили моторикше 90 рублей – он в полчаса свёз нас от вокзала до Бодх-Гаи.
Так оказались мы в месте, где двадцать шесть веков назад объявлено было, что «всё, составленное из частей, разрушается». Большие слова, однако – только слова.
Сегодня мне исполнилось 25 лет. Я забыл об этом; Оля напомнила. Отметили ананасом.
Остановились мы в тибетском монастыре – недалеко от храма Махабодхи. Ожидали келий тёмных, раздельной жизни, строгости монастырской ко всяким шумам и движениям неурочным, но получили условия гостиничные: совместная комната, отдельная душевая и плата в 150 рублей (за двоих, в день).
Когда мы разместились, стемнело, наметился бус. Капли из тумана окрепли, и к восьми часам зашумел дождь. Единственной прогулкой был выход к магазину.
Соседом нашим был американец – человек неприятный. Упоминаю о нём только по намерению вносить в Дневник всякое событие, имевшее для нас звучание.
Эшли в третий раз наведался в Индию. Здесь ему нравилась «свобода чувств и проявлений» (я не стал выспрашивать значения этих слов), но раздражением всегда оставались попрошайки. Эшли курил на веранде, когда мы возвращались из магазина, и сам вольно, после приветствия, начал рассказ о себе; затем, посмеиваясь, поведал нам о борьбе своей с нищими. «Если не дашь ему – будет преследовать, клянчить. Дашь – будет тебя ещё усерднее мучить, да и друзей позовёт», – говорил Эшли. Он придумал купить в магазине ужасов игрушку – поддельную пачку жевательных резинок с вытянутой нижней пластинкой: если возьмёшься за неё, ударит током. Американец рассказал, как впервые протянул такую жвачку донимавшему его мальчику, как тот взвизгнул, отбежал, глухим взором уставился на него, расплакался. С тех пор Эшли «укротил не меньше сотни нищих»; теперь надеялся записать такое шоу на видео – показать через Интернет друзьям. «Не представляешь, до чего у них смешно глаза округляются. Они таких шуточек не видели!» Я ничем не ответил.
…
Перед сном продолжил я читать начатый в Москве сборник индийских мифов. Бенаресец, ночью подле Ганги пересказавший мне историю каменного бога Трокдевты, признал, что не знает слов для красоты Джаграни. Прочёл я описание Рати – дочери Дакши – и подумал, что слова эти могли бы дополнить ту диковинную повесть: «Её брови были очерчены ещё совершеннее <…>, а заострённые груди были похожи на нераспустившиеся бутоны лотоса и кончались тёмными, как медоносные пчёлы, сосками, такими твёрдыми, что упавшая на них слеза разбивалась на тысячи мельчайших брызг; когда Манматха глядел на струнку шелковистых волос между её грудей, ему казалось, что там случайно оказалась тетива лука. Её бёдра, гладкие, как стволы бананового дерева, сужались книзу и заканчивались маленькими ножками с розовыми пальчиками и пятками. Её руки походили на потоки золотого дождя, а косы можно было сравнить только с облаками в сезон дождей» {17} .
Без осуждений говорил бенаресец о казнях, устроенных Трокдевтой, будто они – часть насущная всякого правления. Дополнением к тому нашёл я в Махабха́рате образ полнокровного (идеального) правителя, столь гармонирующий с образом Трокдевты, но для меня непривычный: «Яяти превратил свою жизнь в сплошной праздник и старался не упустить ни одной самой маленькой радости. Но так как Яяти был молод и полон сил, это не мешало ему быть добрым и справедливым правителем. Он поощрял науки, почитал святых, не забывал порадовать богов жертвой или молитвой, помогал бедным и страждущим и жестоко расправлялся с преступниками. А покончив с делами, он стремился получать как можно больше удовольствий, наслаждаться женщинами и вином, радоваться золоту, богатству и безбедному существованию» {18} . Не тот правитель хорош, кто в святости пребывает, но тот, кто полнокровием отличен и жизнь знает во всех соках. Диковинно это…
21.07. Бодх-Гая
(Малярия в старом итальянском переводилась, как «испорченный воздух».)
Весь день сегодняшний сошёл ни во что. Я отравился и отравился жестоко. Можно было ждать участи такой, ведь знали мы, куда едем, какой пищей вознамерились желудки свои тешить. Давно условились с Олей в странах чужих пищей интересоваться только национальной – узнавать места новые не только ногами, глазами, руками, но и языком.
В первые дни мы ели всё индийское. Острые овощи, рис со специями, фрукты и прочее, чему порой не знали названия русского. Не было в этом бед. Желудок покорно брал всё, а по туалету не вредничал. Но вот – срыв, да какой!
Всю ночь боли во мне были великие. Я выплясывал с бока на бок; жар; штаны, футболку сбрасывал, надевал их вновь, когда со мной озноб делался. И сны мне виделись безумные, по которым утерял я счёт времени – ночь ото дня или вечера отличить не мог. Не хватило мне ума сразу понять в себе отравление – подняться за нужными таблетками; не просыпался я окончательно, но больше в бреду ворочался, сам себя тревожа стонами и вскриками.
Кошмары утомили сознание не меньше, чем рези – тело. В снах спешка была, насыщенность, видел я до пяти сюжетов без остановок, и все – запоминались, изматывали.
По́том изошёл я сполна – постель была влажной, липкой. Ломота проявилась в суставах, костях, и тошнота делалась глубокая, однако рвотой не завершалась.
Безумным фоном к терзаниям моим звучали ночью песнопения чьи-то, молитвы, удары барабанные, лязг колокольчиков. Религий тут дозволено много, и у каждой – своё звучание, свои напевы.
В четыре утра (время я высмотрел по телефону) дорога за монастырём оживилась сигналами; я, сомнамбула, лежал в сухости внутренней. Пить хотел. Воды по рассеянности вечерней мы не запасли. Думал идти в магазин – покупать воду, но не мог встать. Слабость сделалась такая, что даже кулаков не удавалось мне сжать в твёрдость.
К болям внутренним добавились внешние – нелепые до обиды. Проёмы здесь, в «келье» нашей, низкие устроены; перед сном разбился я макушкой о притолоку; помутнение влилось в голову. Ночью поднялся в туалет и там исхитрился дважды пробить себе лоб; удар последний был такой силы, что думал я лечь на пол, изорвать себя тошнотой, но сумел-таки до кровати докрасться.
Глупость мою, по которой не сразу я достал таблетки, можно понять, ведь отравления прежде не поражали меня – в симптомах очевидных не разглядел я ничего. Кроме того, в бреду ночном уверился, что беда вся от головы разбитой. В иные мгновения думал об инфекции кишечной.
Утром всё выяснилось сполна. Оля, выслушав от меня мои чувства, указала нужные таблетки; у неё в отравлениях опыт долгий.
Пот, одышка. Измерил температуру. 38,7 °C. В состоянии таком жар не дозволено снижать; пришлось терпеть.
…
Все наши слова были о причинах отравления. Для других разговоров не было ни сил, ни внимания. В поезде вчерашнем продавали обеденные пайки – 50 рублей (рис с овощами, два яйца-масала, соус, свёрток хлебный и картошка с перцем). Оля от картошки отказалась – выдала её бродяге (их в поезде много, и все тычут к тебе культями, переломами, струпьями, кожными язвами). Я картошку съел и был доволен. Оля, несмотря на склонность к отравлениям, не отравилась; нужно было искать отличия в нашей трапезе. Картошка вагонная была первым; вторым было печенье с манговым кремом, которым я вчера вздумал побаловаться. Оле печенье не понравилось, я всё съел сам…
Отравление могло усилиться и разбитой головой, и тем, что вчера по графику мы проглотили противомалярийные таблетки (побочностью к ним записано следующее – выписываю из инструкции буквально: тошнота, рвота, головокружение, диарея, боль в животе, недомогание, утомляемость, озноб, лихорадка; наиболее часто – нарушение сна, кошмарные сновидения; реже – тревога, депрессия, панические атаки, спутанность сознания, галлюцинации, агрессивность, параноидальные реакции; описаны редкие случаи суицидальных мыслей; сонливость, потеря равновесия и так далее – список можно дополнить ещё не одним десятком побочных действий). Написал это и думаю – быть может, не было никакого отравления и беда вся от таблеток случилась? Как узнать? Но почему тогда Олю не поразила та же лихорадка? Всё побочное я испытал вполне (исключая, конечно, суицидальные мысли)…
Весь день пролежал я в слабости, в сонливости. Спал, пробуждался, бредил. Оля обтирала меня влажной тряпкой. Пил я много (Оля сходила в магазин).
Обидно думать, что день весь пропал не в отравлении (которого не предугадать), а в действенности лекарства, назначенного нам в защиту. Что ж, через неделю можно будет сказать об этом точнее – если побочность повторится от новой пятничной таблетки.
К вечеру температура моя снизилась до 37,8 °C. Мог я встать, идти, даже сжимать до малой крепости кулаки.
Есть мне воспрещалось до завтрашнего дня; аппетита, собственно, не было.
У Оли температура – 37,1 °C. Отчего? Таблетка противомалярийная?
Мы прошлись до ближайшего ресторана. Я выпил чёрный чай с сахаром – через трубочку. В трубочке был твёрдый комок пыли – не заметил его, проглотил. Оля съела овсяную кашу. Нужны силы. Назад (150 метров) я шёл в слабости исключительной – сгорбился и не мог озвучить ни одной мысли. Вернувшись в «келью», слёг.
К девяти часам сознание моё окрепло, и я позволил себе заняться Дневником. Одолевая хилость и повторную тошноту, вытягиваю эти строки. Надеюсь завтра, вопреки лихорадке, осмотреть Бодх-Гаю.
Чувствую, что жар сейчас усиливается.
Даже 39 °C не удержат меня в монастыре. Стоило сюда ехать, чтобы вместо Махабодхи интересоваться только своей влажной простынёй?!
Что осталось мне, кроме хорохорства?
На 22:30 завтрашнего дня назначен наш поезд в Калькутту. Так что, пусть малыми переходами, с частым отдыхом, но городок этот мы должны узнать.
В комнате наконец возобновили электричество – перебои здесь частые, как в Бенаресе. Я могу выключить фонарь; так или иначе, на сегодня всё сказано. Для большего нет сил.
22.07. Бодх-Гая
(Высота храма Махабодхи – 51 метр (17-этажное здание). Индусы верят, что Будда был одним из воплощений Вишну, поэтому приходят сюда молиться вместе с буддистами.)
Новый день выдался иным. Улучшилось всё: самочувствие, настроение, погода.
От вчерашних болей осталась лишь слабость – мягкая, ватная, отчасти уютная; торопиться нам было некуда, и мог я гулять не спеша.
Вчера выпил я четыре литра воды, но пищи не видел никакой. Тем не менее голода поутру не испытал. Завтрак был простым: пиала овсяной каши на воде, и только.
Бодх-Гая – городок маленький; низкодомный, по окраинам – хиженный. Всё здесь сошлось к древнему Махабодхи и устроенным поблизости от него монастырям: тибетскому (в котором мы жили), бутанскому, китайскому, тайскому, вьетнамскому, бирманскому и японскому. Средоточие буддизма; впрочем, буддизм по этой поре обозначен не так обильно (сезон паломников начнётся к зиме).
Статуэтки Будды, Тары, портреты Далай-ламы. Неспешная торговля платками, футболками с буддийской символикой. Здесь спокойнее, чем в предыдущих городах, меньше шума; объяснить это можно и малой населённостью Бодх-Гаи.
По главной улице торопятся моторикши, автобусы. Из машин по громкоговорителю зачитывают проповедь. Оранжевых здесь много; они неизменно босы, но оголтелости в них не чувствуется. Оранжевые семьи: мужчины в очках, женщины с чистым лицом. Здесь шиваисты иные. Оля тем не менее по учёности неприятной идёт в должном расстоянии от них, в сосредоточенности.
Нищие здесь не так навязчивы, они только обозначают свою бедноту словами: «Hello, sir» и протянутой рукой. Улочки в Бодх-Гае грязны, но нет в них такого скопления отходов, как в Бенаресе.
В магазинах под полками, в ресторане под столиками мы видели мышей, но удивления или негодования от этого не случилось. Привыкли.
На торговой площадке перед Махабодхи ползают уродцы, калеки – с заломанными ногами, с вывернутыми руками, с выжженными глазами. Такой может лежать недвижно, будто чёрный паук, перед пустой миской, но завидев туриста, вздёргивается, раскидывает по сторонам конечности свои – пресмыкается вперёд, за возможным подаянием. Слепые лежат почти без движений – стонут, причитают.
Сам Махабодхи, усаженный среди зеленеющих деревьев, необычным оказался. Собрано в нём что-то модернистское, точнее – футуристическое. Построен он был не менее 2000 лет назад; удивительно. Космический корабль, никак иначе. Стены – серые, составленные будто бы из металлических пластин. Углубления, словно бы устроенные для проводки и схем. Долгие каналы оптоволоконной связи, симметричные тиристоры, загогулины конденсаторов, плоские реле и переходники… Чудесный храм, мечта фантаста. Каким же чудом был он для Александра Каннингхема (директора Археологической службы Индии, чьим настоянием Махабодхи был восстановлен от заброшенности)! Ещё бо́льшим чудом был он для людей древних – сколько таинственного, могучего представлялось им в верхних этажах храма?! Затаённость, непостижимая для обывателя, укрепляет религию, ведь ждут в ней знания о тайнах Вселенной, иначе зачем бы религии такой существовать. Люди смотрели на недоступные им святилища, трепетом, страхом преполнялись; «тут виден только ящик, наша овечка сидит внутри». Печальное, но удивительное время. Тогда «в каждом доме жил домовой, в каждой церкви – Бог…»
В храме для просмотра открыт лишь первый этаж – тесная комнатушка со статуей Будды. Подъём лестничный перекрыт. Статуя кажется нелепой – чересчур цветастой (нелепы розовые губы и фон из синего ковра), но это не мешает паломникам часами лежать перед ней в молитвах глубоких, дурманящих.
За храмом – отгороженное дерево Бодхи. Оно выращено из отростка от отростка от того дерева, под которым Сиддхартха Гаутами некогда «просветлел». Произошло это зде́сь (так указано на табличке); исходное дерево давно погибло. Паломники фотографируют друг друга молящимися на фоне храма и уставленных тут камней с отпечатками от стоп Будды. То, что отпечатки эти получились именно в камне, удивляло не так крепко, как проявившиеся в них украшения и то, что отпечатки эти – полуметровой длины.
От дерева и следов Будды охранники настойчиво гнали попрошаек, нищих. Гнали палками.
Во всяком индийском городе нас нередко утомлял какой-нибудь тихий преследователь. Показывал сторонние интересы, но ритм нашей прогулки повторял откровенно. Новый сопроводитель отыскался в саду при Махабодхи. Был он с нами двадцать минут; потом, так и не объявив своих чаяний, пропал. Странные люди. Подобной слежкой мы уже не беспокоимся.
В саду перед храмом – тенистые деревья; сотни ступ [23] , статуй, и всё это культовым считается, всему этому молитвы отданы и почёт. Некоторые из буддистов (их здесь увидеть можно разных: от худых и тёмных из Вьетнама до обильных в теле и светлых – из Японии) стелют коврик в любом понравившемся проходе и начинают по нему вытягивать поклоны, шепчут мантры. Поблизости – суета белок, муравьёв, туристов, монахов; молитвам это не мешает. Здесь, словно заговорённые, выгуливаются от столбика до столбика ламы, которым утомительное однообразие не то покаянию, не то размышлению служит.
В стороне ото всех, под старым деревом, нам улыбнулся охранник. Он пытался продать нам лист с дерева Бодхи. Не желая скупать палую листву, я всё же спросил о цене. 60 рублей. Недорого. Позже ко мне от дерева Бодхи (точнее, от дерева из отростка от отростка от дерева Бодхи) сорвало листок. Упал в метре от моих ног. Не думал я поднимать его. Но когда заметил, с какой резвостью к листку этому сдёрнулись сразу три паломника, сообразил ценность его и выказал ловкость – изогнувшись, схватил паданок наперёд всех. Сохраню его для воспоминаний.
Погода устроилась славная. Облака спрятали солнце, отчего не было жары, но светло было вполне. Я потел обильно – выходили вчерашние литры.
Вокруг храма тянулись балюстрады с барабанами – провернув один, можешь зачесть себе в прочтение написанную на нём молитву [24] . От сильного толчка крутится барабан не меньше пятидесяти раз, а барабанов таких тут больше сотни; значит, поломник может без сомнений принять на себя в день несколько тысяч прочитанных мантр – и нет важности разуметь, что же такое в точности на барабанах указано. Главное, чтобы помыслы были чистыми. Желая карму свою почистить, занялись мы кручением барабанов – круг сделали полный, но тогда узнали от одного из монахов, что идти надлежало по часовой стрелке (мы шли – против). Так что нам не зачлось.
В стороне от Махабодхи – пруд, заросший тесно ряской, но обитаемый сполна (по размерам – не больше двадцатипятиметрового бассейна). Здесь легенды указывают медитацию Будды, при которой от ливня укрыл его змей своим телом широким. Скульптура в центре пруда поставлена соответствующая; змей – такой же рыночно-пёстрый, как Будда в Махабодхи; формами похож на чудище из китайских мультфильмов [25] . Удивителен кич такой в близости других, менее выделенных, но приятных по цвету и обработке скульптур (расставлены они по саду, в кустах спрятаны).
Осуждение такое нельзя повторить о могучем Будде, выставленном за японским монастырём (полтора километра от Махабодхи). Нам приглянулся он ещё издалека. Серый гигант с воинственным лицом. Ограждение за спиной Будды ощетинилось осколками твёрдого стекла (они были закреплены в бетон) – подобное я видел только в концлагерях. Ограду такую здесь, подле памятника, объяснить нам не сумели даже монахи нашего тибетского монастыря (равно как не сумели они указать, отчего стопы у Сиддхартхи выросли столь большие).
День закончился прогулками по монастырям, из которых японский понравился нам больше прочих – своим приятным, чистым видом.
…
Перед отъездом на вокзал у нас с Олей обозначилась одинаковая температура в 36,9 °C. Причин этому мы не знаем. Олю потягивает слабой тошнотой.
В 20:30 я вышел искать моторикшу. 115 рублей. В 21:00 мы уже сидели на перроне.
…
Вычитал сейчас (в поезде) анекдот индийский: «Нищий мужчина стоял на углу Парковой улицы в Калькутте; он протягивал две руки, и в каждой – чаша. Прохожий бросил в одну из чаш монету и спросил: «Зачем тебе вторая чаша?» Ответил ему нищий: «Бизнес мой в дни последние хорошо идёт. Вот и решил я филиал открыть [в оригинале – branch office]» {19} .
23.07. Калькутта
(Из письма Алексея Салтыкова: «Мы бросили якорь перед Калькуттой. С первого взгляда город похож на Петербург: река, широкая, как Нева, ряды европейских зданий с большими промежутками, низменная местность и целый лес мачт. Но какая жара, какая духота» {20} .)
Одиннадцать часов. Ночь. Оля успокоилась. Спит рядом. Желаю ей мягких сновидений. Оле нужна мягкость после всего, с ней претворившегося. Работаю при фонаре. В коридоре – шаги…
24.07. Калькутта
(До 1911 года Калькутта была столицей Британской Индии. В названии звучит имя тёмной и яростной богини Кали.)
Ох, безумные дни. Многое случилось. Слов для этого нужно в излишке; ни сил, ни времени нет, поэтому останусь краток.
Вчера абзац я не закончил – вслед «шагам» записанным обнаружил, что Оля не спит. Разговоры начались долгие; лишь к четырём уснула Оля полноценно, но тогда о Дневнике я думать, конечно, уже не мог.
Сейчас всё разрешилось кровью и дождём. Успокоилось. До отъезда в Бхубанешвар – 5 часов. Расскажу в последовательности.
Повелось всё от Бодх-Гаи, когда лежал я в скупости движений, в жару, бредливости. Оля придумала страхов во множестве о том, что болезнь моя окончится печально. Не меньше переживаний случилось от насекомых, виденных нами в излишке, от заразы, которую способны они укусом перенести. Фоном к чувствам этим было томление от жизни неприятной, прежде незнакомой. Нет событий, звуков привычных, и сознанию отдохнуть не в чем – так начиналось утомление, от каждого дня тяжелеющее. Прозрением жестоким для Оли увидеть было, в какой нищете, в каком унижении живут люди. Обглоданные болезнями, калеченные дети; струпья, для подаяний выставленные, зловонье непрекращающееся, всюду – неисчерпные свалы мусора, гнили; испражняются на обозрении мужчины, одурманенные шепчутся подростки, битые до гнойности дрожат собаки; трупы разлагающиеся крыс, подле лавки фруктовой лежащие (прежде всего – их вздёрнутые жёлтые зубы); смрад и темень подворотен, жар густой, выщипывающий глаза по́том; и всё это – в степени великой, в количестве необозримом, бескрайне, непрекращаемо: из города в город; а меж городами и пространства нет пустого – застроено всё, и всё злоуха́ет. К этому – шум нестихаемый от рикш, людей, молитв. И хватают за руки нищие, и здороваются для фотографии совместной, и под ногами разложение вязкое, и гениталии святых, нищих, и с помойки побирающиеся старики, и мухи над заплесневевшим рисом… И страх, что прикосновения, в Агре случившиеся, повторятся вновь. И прочее (такое же потное, грязное, множественное), со всей мнительностью природной умешанное, Олю привело на одиннадцатый день пути к нервности подавляющей. Ослабленный своими бедами и весь посвящённый Индии, я творившегося не приметил.
Оля спрятаться хотела. В Бенаресе стирку собрала большую – пыталась отвлечь себя занятем обыденным. Взяла от меня даже чистое бельё – для мыла, воды, сушки. Помощи в этом не было.
Пробовала читать книги, слушать музыку, смотреть ролики, но прекращала всё быстро, обречённо.
Темп, устроенный в путешествии нашем, принуждал к подвижности неусыпной. Остаться без меня в комнате гостиничной казалось Оле ещё большей тяжестью; напрягшись, она следовала за мной во всех прогулках – без жалоб…
Наконец – Калькутта. 5:40. Город, славный своим именем. Ждали мы, что краски и запахи будут другими, что память Англии здесь сильна, а значит, отдохнуть получится от дикости и грязи.
Вокзал Howrad ожидания наши укрепил. Могучий дебаркадер показался чистым. На улице вместо рикш к нам в приветствие вышли таксисты – это заявило особенность явную Калькутты (предыдущим городам индийским чуждую).
Утро началось мягкое, без жары. Мы пешком от вокзала вышли к южной части старого города (перейти нужно было через реку Хугли – по знатному мосту, затем – 5 километров квартальных дорожек).
Прогулка от вокзала представлялась чудесной, но вскоре мы поняли – Индия здесь всё та же…
Грязь, запах мочи. Женщина над базаром стоит – возле моста; сушит на себе ткань и показывает грудь обильную. Утренняя торговля ей не в смущение, как и мужчинам, на корточки усевшимся по дороге и в кювет направившим естественность свою (плоть они даже не пытались прикрыть).
Оля устала от встречных взглядов – мутные, красные глаза. На меня смотрят кратко; Олю долго, жадно изучают, пусть одета она закрыто; вольностью ей было оставить голыми руки (до локтей), показать в брюках формы ног своих и бёдер.
Снова по кюветам в давней смерти лежали крысы. Их жёлтые резцы. Мусор. Фекалии – людей, животных.
Тротуар здесь выложен аккуратно. Подходя к центру, увидели мы цивилизацию европейскую; но была она испоганена, обгрязнена.
Запах благовоний, гнили, туалета, фруктов мешается с запахом кондиционера и кожаных чемоданов (выбивающимся в отворяемые двери дорогих магазинов). В канаве возле салона Nokia моются пятеро нищих. Под широкими витринами бутика полуголый индиец выпекает на масле лепёшки. Воздух в городе – тяжёлый, влажный, почти банный (каким был он в Дели).
Олю за руку схватил нищий. Она вскрикнула. «Hello…» – протянул индиец хрипло, показал миску. Оля отдёрнулась. Идём дальше. Нищий увязался за нами, и отмахиваться от него нужно было не меньше десяти минут. Не хотелось бежать, а слов он не понимал. Оля разозлилась. Ответила грубо, но в мутных глазах индийца не проступило реакции. «Hello!» – и лезет, жмётся к рюкзаку, а руки у него изъязвлённые…
Наконец отстал. Идём дальше. В магазине спросили о гостевых домах. Нам указали гостиничный район (мы почти угадали его положение); за указание это нехитрое спросили плату… Даже малое для иностранца из корысти вершится.
Тошнит собаку. Рядом играет ребёнок босоногий. Тут же один мужчина облегчает мочевой пузырь, а другой торгует крохотными арбузами.
В центре Калькутты – толпливость душная. Здесь нашлись кофейни и магазины европейских марок; настоящий супермаркет (нас впустили свободно, индийцев же через металлодетектор пускают, сумки выказывать заставляют). Даже в супермаркете к нам подскочили юноши (одетые хорошо, чисто) – схватили меня за руку для рукопожатий, расспросы завели о поездке моей. Я не тот, что 10 дней назад, – приветствиям не ответил, руку отдёрнул. Надоело. Вежливость (в сущности – лицедейство) во мне прекратилась; не ко всем, но ко многим, прежде всего – к шумным и навязчивым.
«Привет! Друг! Как дела? Откуда ты? Из Канады? Из Германии? Из США? Из Франции? Первый раз в Индии? – мужчина пристроился рядом, идёт по улице нашим шагом; слова свои от молчания моего не прекращает. – У тебя хорошо подстрижена борода. Почему ты не говоришь со мной? Я похож на попрошайку – посмотри на меня? Я просто хочу поговорить. Помочь тебе. Хочешь, заглянем в мой магазинчик? Лучшее качество, дёшево! Эй! Хелло! Э-эй! Можешь хоть что-нибудь сказать? Или хочешь гашиш? Гашиш. Ты куришь? А? Куришь?»
Нужно сразу грубить твёрдым «нет» и резаной ладонью.
Наконец гостиничный район. Десятки гест-хаусов. Выбрали хороший номер с кондиционером. 520 рублей в день. Цена не обеспечила чистоту белья. Попросил сменить. Выдали стираные простыни и наволочки; в них при раскрытии нашлись пятна, сор…
Номер наш в прайс-листе обозначен привилегированным (люксом); поднимавшиеся к нам в туалет насекомые (через половой слив) привилегированности этой не стеснялись.
Легли вздремнуть. Перед сном вспомнился мне памятник Ленину (виденный недалеко от вокзала). Здесь-то его каким интересом поставили?
Проснулись к полудню. Начали близость; не мог я сообразить, что для Оли в этом была новая попытка освободиться от усугублявшейся подавленности. Вместо свободы получилось утомление; истощение нервное приблизилось к пику.
Измыслив себе странные боли в левом боку, вычитав в Интернете, что боли эти – селезёночные и могут предвещать малярию, Оля ушла в задумчивость. Сказала, что в красном цвете календаря случилась задержка на двое суток. Отказалась от еды. Так довершила своё истощение.
В два часа вышли мы к реке Хугли. Хотели пройти сады викторианские, затем подняться до Shipping Corporation – купить билеты на корабль из Мадраса до Порта Блэр (Андаманские острова). Тогда уже Оля призналась, что чувствует под грудью не то холодок, не то огонёк крепнущий. Я значения для этих слов не нашёл. Ответил только, что отказ от еды был напрасным.
Жар, влажность. Солнце вылущилось из облаков. Мокрое тело. Идём через дороги, поляны. В старых парках (как и в центре Калькутты) казалось, будто цивилизованность здесь человеческая была – крепкая; но затем канула в туман, всё дикостью заволокло.
Старый особняк, великолепие своё показывавший в эркерах, в капителях, осунулся, обомшел. На нём видны английские буквы от объявления принадлежности. Ворота – с пробитыми до черноты зубами, во дворике – кусты, грязь. Ризалиты, словно чагами, обросли торговыми палатками. На побережье (за особняком) – купаются, стираются, харкаются, испражняются.
В ротонде, выставленной на углу Королевского пруда, обосновалась семья нищих. В пруду мусор плавает – собираются из него плотные острова; по резным балясинам балюстрады сохнут отрепья после стирки. Вода тёмная, маслянистая; в ней полощут ткани, окунаются. Ещё князь Салтыков наблюдал, как индийцы «хоть и моются по несколько раз в день, но часто бывает, что в грязи, в каком-нибудь скверном пруде, полном лягушек, зелёном, подёрнутом мхом и плесенью, которого воду вдобавок они пьют, несчастные, или же в болоте, населённом крокодилами, которых они и не думают обегать, хотя частенько бывают съедаемы ими» {21} .
В доме аристократическом – высокие арки, протяжные балконы; по ним темень устроена и запахи от хозяев грязных, многочисленных.
Порушенные памятники, статуэтки. Скривлённый турникет, в парк выскрипывающий людей. Обваленный мостик. Здесь была жизнь. Было удобство. Взамен всему пришла нищета.
Образы эти контрастными были в близости современных, дорогих строений (чей лоск, однако, слабел при ближнем взгляде). Стадион Eaden Garden издали – творение красивое, но вблизи – старое, не выглаженное до пластиковой матовости. Кофейни центральные – европейские (пастельные цвета, в одном стиле украшенные столики, официанты). Но пол протёрт, ступени расшатаны, перила косятся, стул подмотан скотчем, краска по углам сжухлась, растрескалась…
Мы прошли до парков. Неспешно прогулялись вокруг пруда, старого храма и ровных в стрижке боскетов. Здесь обнаружили девушек индийских, не боящихся голову положить на плечо спутнику. Прежде в Индии ласку мы видели только между людьми одного пола. Мужчины, юноши, мальчики часто идут рука в руку; в том, как прилегают их ладони, много интимного (бывает и так, что взрослый индиец другу своему мизинчик вкладывает в кулак; так идут). Ласку к девушке нельзя показать, а тепла живого хочется; вот и взялись мужчины нежиться о ладошки друг друга. Иного объяснения диковинности такой я придумать не сумел.
Оля шла в потерянности, без слов.
Оставив боскеты, мы по шпалам отправились к Shipping Corporation. Пройти нужно три километра. Развенчав небо от макушек парковых, мы вновь приняли на себя жару. Возобновилось уличное зловоние.
Оля побледнела.
Ей сделалось дурно.
Не дойдя двух сотен метров до Shipping Corporation (уже видели здание это), мы сели в такси. Возвратились в номер.
Оля уснула. Проснулась через час и попросила не оставаться на месте; идти куда-нибудь. Метания продолжались.
Мы вышли ужинать в KFC. Сидя под кондиционером, курочкой занимаясь, говорил я много о цивилизации. О том, что человек всегда был потребителем – во все эпохи. Свобода – в комфорте; и чудо, что можем мы отрешиться от забот пищевых – для работы творческой, сознательной. Содержание хорошее без формы хорошей ущербно, и от человека зависит – формой лишь довольствоваться или смысл для жизни своей искать. Голодный поэт не лучше сытого филистера. Нет в этих крайностях удовольствия настоящего. Счастлив я, что родился в сытой стране, с возможностями великими для образования и мыслей. Могу жить, развиваться в комфорте неисчерпаемом, а большего не нужно. Глубже видно это в Индии, где образование готово лишь для избранных, а удобств в жизни сделано мало. Здесь среднему человеку получается излишне много препятствий – для них расходуются силы душевные, умственные.
Так говорил я за ужином. Был сыт, в прохладе и доволен. Оля слушала меня слабо. Есть отказалась – держалась за голод свой, на тяжесть в желудке указывая.
Стемнело. В номер мы возвратились к семи, и хотел я взяться за Дневник, но Оля попросила внимания моего. Прежде она не отвлекала от работы; подивившись, я отложил тетрадь.
Разговор получился о москитах, в нас впивавшихся (чёрные, беззвучные гады) и на месте впива выращивавших крепкие прыщики. Про болезни, от насекомых передаваемые, Оля вспомнила зачем-то; затем про болячки индийцев заговорила. Я утомился от подобных глупостей; сказал, что не хочу слушать это в ущерб времени рабочему.
Оля повторила рассказ о холодке-огоньке, в ней шелестящем, а потом… потом началась катавасия яркая – такая, что описать её не проще любого из снов кошмарных, долгих, путаных. Буду краток и по возможности последователен.
Оля начала чаще дышать, трогать себе живот, грудь. Объявила об усилении холодка. Чешет горло. Я отвернулся к своим делам, поднял тетрадь. Зеваю. «Женя!» Записываю дату, название города. «Женя! Я задыхаюсь!» Слова тихие, истеричные. Я не испугался, не взволновался, но сердце теперь стучало глухо, отчётливо. Отложил тетрадь. Повернулся к Оле. Она всхрипывала, тянулась. Я попросил её о спокойных мыслях. Пустые, выстекляневшие глаза – сознание изгнило страхом. Пробую шутить. Оля не слышит. Понимаю, что всё плохо. Если угас юмор (даже самый тихий), значит, дело серьёзное. «Женя! – держится за горло, дышит. – Я задыхаюсь!» – «Ляг. Не кричи. Это нервы». – «Ты не понимаешь?! Я задыхаюсь!» – «Ты не задыхаешься». – «Мне нужен доктор!» – «Подожди…» Оля ждать не хотела. Вскочила на ноги. «Мне нужен доктор!» Безумная. Бросилась к вещам. Надела шорты. Я открыл окно, чтобы разомкнуть пространство. «Где тут доктор?!» – спросила Оля и замерла, не зная, что делать дальше. Надрыв заканчивался. Я предложил пройтись по улице. Оля молча легла. Заплакала. От Индии. От одиночества. Оказавшись вдали от всего привычного, приятного, Оля получилась обнажённой от социальных оболочек, а встреча с собой (тем более в первый раз) – неприятное событие (но важное).
Оля просила гладить ей живот, но отбрасывала мою руку – потому что прикосновения не лишали одиночества. Сознание в узел скрутилось, пульсировало…
Говорил я тихо, размеренно – о пути к осознанности, о сложности его и неотвратимости для тех, кто путь этот начал. Говорил о радостях мнимых – исчерпывающихся даже в малой интенсивности, и о том, как человек в бессознательности мечется от иллюзии одной к иллюзии очередной (купил куртку, машину, сделал ремонт, почести услышал на работе, день рождения отметил, зефир или пастилу съел…). Признать счастье это (построенного дома, купленной кровати, аплодисментов) иллюзорным – кажется необоримо трудным. Но кажется так от привычки, слепости. Иллюзия всякая оканчивается; конец её приносит страдания; и мелкое счастье (первых минут иллюзии) эти страдания не оправдывает, не исчерпывает. Иллюзии все шаткие, слабые; случайность может нас из наслаждения в ад окунуть, а значит, слабая это жизнь. Измена, предательство, покалеченье, финансовый кризис, смерть близкого и другое – разом порушить могут выстроенное в годы; а взамен не останется ничего. Дамоклов меч. Глиняные ноги. Значит, цена такому счастью – грош, если может оно так просто изгнить. Иная радость – в твёрдом сознании, в избавлении от иллюзий филистерских.
Оля отвлеклась от нервозности; ей захотелось лучше понять то, на чём я стою в жизни (не из-за прелести моей теории, но из-за жажды твёрдость под собой какую-либо найти). Спросила, о какой осознанности я говорю, что словом этим называю. Ответил я, что осознанность свою от четырёх законов вижу. Первый: называть всё своими именами. Второй: видеть причинно-следственные связи всего происходящего. Третий: оставаться отстранённым от всех социальных игр – даже в случае, когда принимаешь в них выраженное участие. Четвёртый: делать всё это не вообще , а в каждую конкретную минуту, даже если жертвовать придётся многим.
Сейчас, вдали от дома, Оля осталась без социальных ролей, без удобных для самообмана занятий – без психологических коробок (которых в Москве скопила в обилии таком, что можно менять их каждый день). Осталась нагой. И поняла, что при всей занятости, густожизненности – пуста, а сил в ней подлинных нет. Комфорт рассеялся, заменить его нечем. Так приготовился надрыв. И… я уверен, что катализатором была таблетка противомалярийная. Она вывела истеричность наружу.
Оля дрожала. Всё чужое. «Кто я? Зачем я?» 20 лет – хороший возраст для таких вопросов.
Дорога растряхивает от иллюзий – они отлетают комьями грязи, а без них остаёшься ты подлинный – во всей силе или слабости.
Оля пробовала уснуть. В её тихости заподозрил я успокоение, к Дневнику возвратился: «Работаю при фонаре. В коридоре – шаги…» Но Оля снов в закрытых глазах не нашла.
Разговоры наши продолжились до 3:40.
Наконец она успокоилась.
Дрожь ослабла. Глаза потеплели.
Оля обмягчилась. Надрыв закончился. В 3:50 она уснула.
Я слушал, как причитает муэдзин (мы жили подле минарета), как вторят ему две собаки воем долгим и не менее призывным.
Потом думал о радости от спутникового навигатора; впервые путешествовал я без бумажных карт. Закончилась романтика излюбленная по уличкам блуждать до ночи; однако прогулки стали более насыщенными, осмысленными. Навигатор был для сохранения многих часов; в Индии он разудобил нас чрезвычайно, ведь улицы здесь даже в больших городах подписаны редко, да и порядка в них ровного нет – порой мешаются с проулками, закоулками, переулками…
К четырём я уснул.
[Пробовала Оля утешить себя, мысли складывая на бумагу. Взяла блокнот и ручку, устроилась писать; долгим занятие это не было – не помогло. Остались краткие записи, которые я забрал себе; теперь могу их привести.
«Дрожь в руках, в ногах. По всему телу. К этому мой организм шёл всю неделю.
До сих пор не могу успокоиться. Мысли вразброд. Может, это из-за голода?! Может, из-за людей, толпы… Всё вместе. Страх охватывает меня. Нельзя уступать ему. Где мой разум! Ты меня слышишь? Думаю, что слышишь…
Всё началось с того “хватательного” вечера, когда я психологически истощилась в первый раз. Потом с каждым днём эмоции всё ярче, ярче…
Теперь я понимаю, что это за холодок или огонёк, изнутри исходящий. Это страх. Женя говорит, что власть человека над собой условна. И он много-много раз прав!
… [неразборчиво] работать над собой. Что делать? Одни вопросы.
Ответы внутри. Но не в этом холоде. Не забывай его. Тебе нечего бояться. Инстинкт самосохранения.
Да.
Нет. Ты просто говоришь ему «нет». Наступаешь на него ступнями. Толчешь. Учишься понимать себя; понимать то, что с тобой происходит. Затем – анализируешь…»]
25.07. Бхубанешвар
(Почти миллион жителей, центр штата Орисса – город Бхубанешвар, известный от V века до нашей эры.)
Вчера спали 4 часа. Подъём требовался ранний – для вопроса о билетах на Андаманские острова.
Олю трепали сновидения мглистые, но проснулась она в спокойствии.
Пошёл дождь; для Оли начались красные дни. Всё успокоилось.
На входе в Shipping Corporation мы обнаружили очередь в сотню человек; нам испытать её протяжённость не пришлось – белая кожа оказалась пропуском внеочередным (нас подозвал охранник, пропустил всем в опережение). В самом здании мы с тем же пропуском дважды миновали ожидающих – перед разными дверьми.
Из Мадраса не нашлось удобного по датам корабля. Кратко обсудили новый план; решили, что на острова нас доставит самолёт, а в Индостан мы возвратимся уже по воде.
Авиабилеты взяли в Калькутте (4500 рублей за человека), а билеты на корабль надлежало купить в Мадрасе или в Порте Блэр (купить их в калькуттском Shipping Corporation мы не могли, так как расписание на август ещё не составлено).
В гостиницу возвращались неспешно. Разговора не получалось. Я начал мысленно вычитывать отрывки из «Матери Бенгалии»; заметив это, улыбнулся. Как знать, быть может, Рабиндранат Тагор складывал эти строки, гуляя здесь, по Chittaranjan Avenue… «Для благочестья и грехопаденья дай силу сыновьям своим с рожденья, о мать, Бенгалия! В стенах родного дома их не задерживай. Пусть будет им знакома нужда жестокая. По трудному пути в любой стране их научи идти. Их каждый шаг не оплетай запретом <…>. С хорошим и дурным пусть смело вступит в бой твой сын, Бенгалия, воспитанный тобой. И юношей своих, кипящих силой зрелой, ты вечными младенцами не делай. Лиши их благоденствия и крова – путь жизнь в лицо посмотрит им сурово, а то уж чересчур спокойствия полны, Бенгалия, твои сыны!.. Бенгальцами ты вырастила их, но нет борцов среди сынов твоих!» {22} От слов этих некогда началось моё уважение к Тагору.
Подходя к гостинице, вспомнил я, как в девятнадцатом веке гостил Алексей Салтыков у дедушки Рабиндраната – у Дварканата Тагора. Вспомнил и то, как в веке двадцатом здесь же, в Калькутте, хотел Николай Рерих навестить Рабиндраната: «Думали, что в родном городе все знают поэта. Сели в мотор, указали везти к поэту Тагору и бесплодно проездили три часа по городу. Прежде всего нас привезли к Махарадже Тагору. Затем сотня полицейских, и лавочников, и прохожих бабу посылала нас в самые различные закоулки. На нашем моторе висело шесть добровольных проводников, и так мы наконец сами припомнили название улицы, Дварканат-стрит, где дом Тагора» {23} . Нужно было бы и нам проверить современных таксистов – спросить у них дорогу к музею Рабиндраната Тагора, однако проверкам таким предпочли мы отдых молчаливый.
В 20:30 сели в поезд до Бхубанешвара.
О Калькутте скажу напоследок то, что даже в чистом, дорогом ресторане официант, перед тем как выдать мне нож, протёр его старательно пальцем.
Ещё скажу, что в четырёх просторных аптеках (в центре города) нам с улыбкой отвечали, что ни капель, ни таблеток, ни трав «для успокоения» у них нет. Лучшее, что смогли нам предложить провизоры – аскорбинка (в виде толстых розоватых таблеток). Нужно полагать, что среди множества известных в Индии телесных страданий стресс и беспокойство кажутся глупостью; стыдно укрощать её платными лекарствами. Аскорбинку Оля взяла. Ей психологически нужно было что-то из аптеки .
Ещё скажу, что лишь сейчас привыкли мы окончательно к левостороннему движению, которое с проезжей части, конечно, перенесено на тротуар, на все прогулочные территории.
Последним о Калькутте будет то, что в удивлении чрезвычайном увидели мы здесь пешего рикшу, которого представляли архаизмом, пропавшим безвозвратно. На тележке деревянной с перилами невысокими сидят два пассажира; от тележки оглобли протянуты, концы которых рикша держит – чёрный от солнца постоянного, худой до костей, в повязке набедренной, с тюрбаном на голове. Ведёт он повозку бегом натужным, а на запястье его – колокольчик (которым позвякивает он, когда стоит порожний). Контраст особенный, когда в ресторан европейский индийцы приезжают на таком пешем такси.
…
Сейчас есть у меня час свободный (за окном дождит обильно); отложу я рассказ о Бхубанешваре (городе, удивившем нас) для рассказа о велорикше из Агры – обещанного давно, но так и не внесённого в Дневник.
Вышли мы тогда для прогулки городской. Надеялись прийти к базару, но ошиблись дорогой. Навстречу были нам жилые серые кварталы. Солнце жаркое утомляло. Сопровождением объявился велорикша. Медленно катился он рядом с нами, предлагал усталость облегчить на сиденьях его мягких. К велосипеду, по устройству рикш Уттар-Прадеша, припаяна была коляска двухколёсная – две коричневые сидушки и полог на каркасе алюминиевом.
Говорил велорикша английскими словами – хорошего, понятного произношения. Был он худой, тёмный, лет сорока пяти. «Кварталы эти скучны, не стоило вам выходить сюда». Предлагал отвезти на рынок. Заявлял себе малую стоимость – 20 рупий (11 рублей) в час. Мы отказывались; шли вперёд. Рикша ехал рядом, изредка повторял свою цену и совет отправиться к рынку.
– Не зря он так настойчив. Значит, были туристы, которых такой манерой удавалось завлечь себе в клиенты, – промолвил я Оле. Через пять минут мы уже сидели на коричневых сидушках. Нужно было опробовать этот вид транспорта.
Полог низким оказался; я горбился, ехал в неудобстве. Рикша, ничем не прикрытый от солнца (не было на нём даже тюрбана), выкручивал педали. Тяжкий ход. Только что стоял он аборигеном довольным – жарой не смущался, но теперь по его шее катился пот; неприятно было видеть это. Ехали в напряжённости. Хотелось сойти. Нельзя человека так – скотом – использовать. Рабство…
Рикша поворачивался направо – спрашивал Олю: «Всё в порядке, мэм?» Затем – налево, ко мне: «Всё в порядке, сэр?» Облитое потом лицо. Белая улыбка. Жёлтые глаза.
Через семь минут мы его остановили; выдали ему 100 рупий (60 рублей) и указали не беспокоить нас своим вниманием. Рикша удивлён был чрезвычайно. Испугался он, что был в чём-то неряшлив, что не удовлетворил нас в поездке…
– Всё хорошо. Просто… мы не можем так ехать.
– Почему?!
– Мы лучше – пешком.
– Но зачем вы дали мне столько денег?
Я не придумал, что ответить.
– Что-нибудь было не так? – настаивал рикша.
– Всё в порядке.
– Тогда почему вы не хотите, чтобы я довёз вас до рынка? Садитесь, – он настойчиво хлопал по сидушкам.
– Пойми, всё в порядке. Просто… мы не можем… Ты потеешь. В конце концов, ты же не скот…
– Зачем вы так? Это моя работа.
Я нахмурился. Неуютно. Пошёл вперёд – по тротуару. Рикша ехал рядом.
– Я двадцать лет так работаю…
Молчу.
– Ну давайте, я заплачу моторикше, он отвезёт вас на рынок! А то вы мне ни за что заплатили…
– Нет. Мы пешком.
Молчим. Едет рядом. Наконец я спросил:
– У тебя семья?
– Да, сэр. Жена. И двое детей. Мальчик и девочка, сэр.
Какой я тебе «сэр»!.. Ты меня вдвое старше – видел побольше моего; волосы седые лезут, а тут – «сэр»…
– Они у меня в школе учатся.
– Жена работает?
– Жена домом занята… Я один работаю. Двадцать лет рикша.
– И сколько ты зарабатываешь?
– По-всякому бывает. Велосипед не мой. Арендую. Плачу хозяину в день 50 рупий (28 рублей). Получается, что два с половиной часа вожу людей для хозяина, прочие деньги – мои. Так что… вы мне дневную выручку дали. Я с вами на весь день теперь. [Слова его выписываю сжато; в действительности произнесены они были с оговорками, паузами, к тому же – под мои частые вопросы.]
– Нам не надо. Мы пешком предпочитаем…
– Да, – улыбается. – Но я всё равно буду рядом. Вдруг понадоблюсь…
Молчим.
– У хозяина лавка есть; он не берёт дневную плату, если я привожу ему хотя бы одного покупателя…
– И сколько ты в месяц зарабатываешь?
– Всяко бывает… Сейчас туристов мало, а местные далеко на рикше не едут. В такой месяц иногда и тысячи не заработаешь [570 рублей]. Но в лучшее время набирается до десяти тысяч [5700 рублей].
Вот – ещё одна причина, по которой Индия нравится приезжим: здесь остались рабы; унижаются они перед тобой, «сэром» называют, пресмыкаются, а ты раджой себя почесть можешь.
– У меня образования нет, но детей своих я в школу отправил… Это важно.
– Бесплатная?
– Что?
– Школа.
– Платная.
– Платная?!
– Да, но… там недорого. Совсем недорого. Но детям это важно…
– Ты сам хорошо говоришь по-английски.
– Да, – улыбается. – Выучил от туристов. Двадцать лет вожу. Пришлось выучить.
– Тяжёлая работа?
– Очень, сэр.
– Почему же ты терпишь? Зачем тебе это?
– Странные вы вопросы задаёте. У меня семья.
– А если бы не было семьи?
– Не знаю… Разве…
Напрасное, унылое существование. Зачем он живёт? Не забыть, как увидел я на коже его первые капли пота. Диким было мне осознавать, что я заставил его потеть… Другой работы для него нет.
– Поверьте, сэр, это тяжёлая, но не худшая работа.
Я обидел его вопросами.
Рикша долго ехал подле нас; затем ехал в стороне (едва останавливались мы, торопился к нам – предложить извоз). Утомился я от сопровождения такого и настойчиво сказал ему не мешать. Под конец, уезжая, предложил он поездку до Красного форта: «Всего за 10 рупий» (6 рублей). Неожиданным попрошайничеством он печаль мою усилил. Понятно всё без домыслов – он зарабатывает, а в бедности гордость всякая утрачена.
С того дня ни разу не обращались мы к велорикшам. Уверен, что не обратимся к ним в дни последующие (если не выйдет нам опаздывать куда-либо в отсутствие другого транспорта).
26.07. Бхубанешвар
(Лингам – фаллический символ Шивы. Поклонение устроено ему в отдельности от поклонения самому Шиве. Йони – женский «источник», представляющий супругу Шивы – Парвати.)
В ночном поезде уютно. Во сне ни запахов, ни разговоров не слышишь. Не видишь грязи на полу, тараканов, по стенкам перебегающих. Спать, однако, в этот раз нужно было в беспокойствах. Ходили по вагону разносчики чая – вполне русским слогом кричали они: «Chai!» По голове били ветки – им не было препятствий в зарешёченных окнах. Включался свет. Но высшее беспокойство происходило от того, что остановка наша назначена была на 3:10. Станций никто не объявляет, соседи спят. Помощью был навигатор – без него суеты от меня потребовалось бы много.
Прибыли с опозданием получасовым. Вокзал Бхубанешвара был пуст. Никто не спит на лавках, на полу, никто не ковыряет болячек, ни испражняется, не моется. Тихо, чисто.
Гостиницу мы выбрали по совету моторикши. 400 рублей за просторный номер. Дважды я просил новое бельё (расстеленное было в пятнах; выданное в первую замену было, очевидно, снято с чьей-то кровати, разглажено руками, собрано конвертом и представлено нам чистейшим – я поверил, но уже в номере принюхался; запахи не врут; повторно выданное бельё было старым, трёпаным, но чистым).
Бхубанешвар! Приятный город. Тишина в нём замечательная, и мусора здесь меньше – оттого запахов грубых почти нет.
Вчера день был дождливым, дышалось легко. Впервые за две недели почувствовали мы на лице свежий ветерок.
Мягко шагалось по улице. Оля отдыхала. Нас не окрикивали, нам не кривлялись. Лица прохожих – человечнее. Наконец, поднятый на индийца фотоаппарат не заставлял его гримасничать, радоваться или тянуть за рупиями ладонь, но вызывал чувства степенные: смущение, недовольство, удивление.
На Олю здесь смотрят иначе. Собственно… почти не смотрят; если и тешат свой взгляд, то нет в этом звериного; улыбаются аккуратно, кивают. Глаза у горожан не стеклянные, не залитые кровью, не мутные.
Новая, приятная нам Индия. Людей меньше, и показателем к тому назвать можно вывернутые нормально зеркала на мотоциклах (нет надобности загибать их вовнутрь, от ударов оберегая). Глупой здесь слышится шутка, по которой в Индии собаки хвостом виляют сверху-вниз – вилять слева-направо не позволяет им теснота.
Храмы в Бхубанешваре отданы Шиве; те из них, что выставлены вокруг озера священного Бинду Сагар, приятием у нас отозвались. В них древность слышится наивернейшая. Архитектурные братья Махабодхи, они кажутся такими же инопланетными; собраны в количестве большом, а столбовым поставлен могучий Лингараджа [26] . Храмы эти будто собраны из зачерствевших деталей старых агрегатов – электростанций или заводов. Серые глыбы, могучие шестерёнки. Украшены они подробной резьбой (напомнившей армянские хачкары, но богаче их показавшейся, потому что допускала кроме узоров изображения божеств, животных).
Перед храмом Маа Дурабисини впервые доверились мы индийцам – оставили без надзора наши сандалии (обутым в Индии не зайти ни в один из действующих храмов); в носках вступили на камень мокрый (носки для таких случаев мы нарочно держим в рюкзачке). В храме увидели туземцев красивых, в племенной характерности сохранившихся. Они улыбались нам, позволяли заглянуть кратко в свои хижины (где обильное, должно быть – ритуальное, приготовление риса с овощами устроено было), позволяли себя фотографировать и не просили от фотографий денег. В благодарность за спокойствие такое, несуетливость, уходя, мы оставили им 120 рублей – пожертвование малое, но искреннее.
Возле истуканов порой видели мы фрукты и рис выложенные. Назначение их едва ли изменилось за последние восемь веков – ещё Марко Поло писал, что индийцы «идола угощают вот так: наготовят мяса, всякой другой вкусной еды и понесут своему идолу в монастырь, расставят еду на столе перед ним и дадут ей постоять некоторое время, а сами меж тем поют, пляшут и, если можно, тешатся; а как пройдёт столько времени, сколько нужно большому господину, чтобы поесть, тогда девки говорят, что дух идола съел сущность еды, возьмут яства и начинают вместе весело пировать, а после того каждая идёт к себе домой» {24} .
В главный храм Ориссы – в Лингараджу – вход дозволен лишь индусам. Веру можно изобразить, а подлинность её проверить некому, однако не было у нас настроения для проказ. Довольны мы остались и тем, что для иноверцев построили за северной стеной малый бельведер, с которого обозреть можно храмовый комплекс и даже разглядеть (при внимании хорошем) священные огни.
Туристов иностранных мы в Бхубанешваре не видели.
Ресторан для обеда нашли не сразу. В первом мы озвучили заказ, однако, увидев, как официант на кухне руками выкладывает на тарелку рис и овощи (облитые соусом жидким), бежать должны были спешно на улицу. Во втором смутило нас меню, из трёх блюд составленное. Наконец, в полчаса нашли мы ресторан удобный. Посетители еду руками брали, но мы испросили вилок. Порция риса оказалась килограммовой… Сытости полнейшей достигли мы за 100 рублей (при этом больше половины от принесённого съесть не смогли).
По центральным улицам Бхубанешвара нищих нет; на автобусных остановках сидят порядочные индийцы, и нет им соперничества от бродяг. Даже в бедных кварталах порядок устроен ощутимо – люди живут в хижинах с низким входом, с глубокой соломенной стрехой, без гнили, без пакостей; мусор собирается только возле реки, но – в объёме невеликом.
В предыдущих городах мы видели собак затравленных, молчаливых, здесь собаки встречали нас бодрым лаем. Коровы и быки уверенно преграждали движение машинам, по крышам домов торопились кошки, мангусты, по небу планировали египетские цапли, суетились голуби. По тротуарам встречались лягушки, белки.
Бананы здесь диковинные – толстые, короткие, со вкусом щавеля.
Так, в прогулках неторопливых, в разговорах с племенными жрецами (с теми из них, кто знал английский) отдохнули мы достаточно перед дорогой на Андаманы.
Оля возвратила прежнее здоровье – только пищеварением мучается, но это в Индии привычным стало. Для утешения желудков наших стали мы заваривать себе детские каши (они продаются в аптеках; для готовки довольно кружки, воды и кипятильника) – смягчали ими завтрак и ужин. Стремление к еде национальной было сейчас не столь прочным, как в первые дни…
Делаю эти записи в неудобном лежании, в номере (Дневник упирается в живот, поддерживается рукой). Через 40 минут нам назначено выйти. Пешком поднимемся к вокзалу; поезд наш отбывает в 21:25. В 17:15 следующего дня прибудем мы в Мадрас, где заночуем до утреннего рейса. К 9 часам мы должны приземлиться в Порте Блэр.
27.07. Коромондал Экспресс
(Индия сетью железных дорог обхвачена; длина им – почти 65 тысяч километров.)
В вагоне от 6 утра сделалось шумно; кровать свою я должен был перебрать под сиденье (если вторую полку опустить с цепей, она, к стене приложенная, становится спинкой для полки первой).
Пишу в тряске большой, во внимании от соседей-индийцев. Зеваю.
На перроне вчера ожидание было недолгим (поезд лишь на полчаса опоздал). Рядом с нами на подстилках ужинала семья из 16 человек – людей опрятных, с чемоданами крепкими, широкими. Отец семейства (с матерью на очереди) раскуривал наркотик (дыхание держал подолгу, дым пускал травяной). Покурив, родители веселы сделались и начали по смеху детей кормить, с невестками, зятьями шутить. Газетные обёртки от съеденного мамаша уверенно бросала себе за спину, но грязи на перроне не случалось – ходил тут уборщик с пустой (без тряпки) шваброй, обскребал всё вокруг семейства в кучу (которую потом уводил прочь – сталкивал на шпалы; там не видно).
По вокзалам призывы развешаны не плевать, не мусорить, не испражняться. Бхубанешвар объявил будущее своё в чистоте и санитарии. Здесь в общественных уборных услышали мы запах твёрдый хлорки.
В последнюю неделю мы по мусору непримиримость показали похвальную. Складывали в карман даже то, что у себя, в России, в безлюдности могли бросить на дорогу. В Индии ни разу не решились мы дополнить свал всеобщий отходов – ждали мусорного бака, пусть ожидание это долгим было, порой – безнадёжным. К тому дошло, что обед-паёк, купленный нами в поезде (Гая – Калькутта), споры поднял в купе: осталась от него упаковка с объедками, и не знали мы, как от неё избавиться. Индийцы настаивали на примере своём – они без мыслей долгих бросали всё за окно. Оттого и грязи столько на путях железнодорожных собирается. Мы непреклонны были и всем на посмеяние довезли упаковки (скверные от растекающихся соков) до вокзала.
До чего удобно (и сколько в удобстве таком соблазна) – бросил всё разом за окно, и нет проблем…
Ко всякому поезду на перроне указано положение вагонов (на маленьких электронных табло). Вышли мы заранее на край платформы (вагон наш – S3 – назначен был вблизи от локомотива). Объявили поезд. Показался он издалека фарами яркими. Когда первые вагоны прокатились мимо нас, поняли мы, что порядок их был указан ложно – задом наперёд… И бежать пришлось через весь перрон с рюкзаками, утяжелёнными едой и водой (в путь заготовленными), – сквозь волны таких же обманутых и бегущих пассажиров. Суета невообразимая; благом было, что поезд останавливался медленно. Добежали мы при ногах размякших. Потные, пыльные в вагон вскочили. Прогнали с мест наших индийцев безбилетных и рады были спешности своей, потому что поезд стоял лишь 2 минуты (вместо положенных по расписанию пятнадцати).
Сон в эту ночь был грубым; по сухости своей рвался, трескался. Вагон раскачивался глубоко – скользилось мне по койке и билось крепко головой о стенку. В проходе тёрлись все о мои ступни, ударялись, цеплялись (не нашлось Прокруста для удобств). В окно забрызгивало мне чем-то на лицо. Хуже прочего было то, что локомотив, близ которого крепился наш вагон, путь себе просвистывал гудком долгим, резким. Сны поднимались ухабистые, но любопытные…
За окном сейчас тянутся пальмовые заросли. Их сменяют ячейки рисовых полей. Одни ячейки поросли мягким газоном (поднятым на два локтя от воды). Другие – выпотрошены, оставлены мутным прудом. Третьи – оживлены рабочими руками (в них снимают рис). Тяжким труд этот представляется, оттого что в воде стоять нужно безвылазно, часами, в согнутии.
По дорожкам катятся бананами гружённые велосипеды – караваном долгим в три десятка велосипедистов. Хижины стоят соломенные, с крышей конусной; женщины перед ними кирками машут по камням, идут с корзинами, осколками от камней этих засыпанными. Затем – иссохшая до песка речка; на дне её шалаши стоят. И вновь – хижины, перемежённые болотистостью; камнями занятые женщины…
Тростниковые плантации, дышащие трубы редких заводов, храмы куцые, сараи, пальмы и опять – рисовые поля, водными дорожками порезанные на длинные лоскуты.
Соседи наши по купе успевают вздремнуть, поесть, растереть в ладони табак – заложить его за щёку, подивиться нашему складному набору ложке-вилке, купить у торговца стакан чая, подать калеке в культяпку (нарочно для монет подогнутую), развеселиться чему-нибудь, уснуть и снова заняться едой. Долгая дорога.
В окно задувает жаркий воздух. Индия для нас южнеет. По графику нам сегодня предписаны противомалярийные таблетки. Дилемма. Боюсь от них повторения лихорадки для себя, для Оли – нервного срыва. Но и вероятности, даже малой, для малярии позволять не хочется, ведь от неё на многие годы здоровье можно подпортить. Глотать или не глотать – определимся вечером, в Мадрасе. Вещество накапливается; хуже может быть в этот раз, чем в предыдущий.
Обнаружил сейчас, что царапины вчерашние загноились (получил их по глупости, от угла кровати). Здесь даже крохотная ранка быстро собирает достаточно грязи для воспаления. Оцарапался едва – тут же гной. Неудивительно распространение в Индии кожных заболеваний. У женщины, сидящей напротив нас, – гнойник широкий на ноге; это семья небедная (в хороших одеждах, с новыми чемоданами).
Где-то там, в 20 километрах – океан.
На завтра жду первого купания. Оля завидует до обиды; ей плавать не получится до 29 числа из-за календарной красноты.
Людей за окном мало. Здесь, на юге, просторнее, свежее.
…
(Пишу вечером, из отеля в Ченнаи).
Простор и свежесть закончились в пригородах Мадраса. Город начался с трущоб: свалки дикие, хижины грязные, недостроенные дома, заброшенные бетонные коробки. Фоном – заводы, дымящие трубы. Лёгкости океанской не слышно.
Видны дома богатые – они спрятаны за высокие заборы с вживлёнными по кромке осколками стекла (как в концлагерях).
На сером истоптанном футбольном поле грязные дети играют в крикет.
Скверный город – от запаха. Всюду смог; дышится туго.
Отель наш поставлен в километре от берега. Номер за 500 рублей (с вентилятором). Чистое бельё опять случилось нечистым, но первая же смена нас удовлетворила. Так или иначе, подушки мы отбросили на пол (несмотря на стиранную наволочку, аромат их гадостным был). Взамен надули путевые подушки.
Ещё из поезда позвонил я в Shipping Corporation, где узнал печальное для нас расписание. Первый августовский корабль из Порта Блэр в Мадрас был определён на 7-е число. Мы не могли 13 дней отдать Андаманам. Означало это, что на материк возвращаться нужно будет самолётом; плавать выйдет только между островов. Взгрустнули мы ненадолго, но затем возрадовались, потому что высвобожденные от корабля дни можно распределить по Цейлону и Кашмиру.
Сейчас нужно спать. Поужинали детской кашей. Встать придётся в 1:20. Самолёт наш вылетает в 5:00.
Таблетку пить не решились.
Все последующие билеты (авиа, железнодорожные, автобусные) надеемся взять на острове.
28.07. Порт Блэр
(В конце XVIII века на месте Порта Блэр устроена была исправительная колония.)
В сонливости день прошёл, что неудивительно при режиме нашем, когда лучшие часы дороге отданы, наблюдениям, а крохи малые и разрозненные сну бросаем для пробавления.
Вышли мы в скромном аэропорту Порта Блэр (самолёт наш был единственным на его полосах), оформили пермит [27] и часом позже сидели уже в снятом домике. Заранее – через Интернет – выписали мы адреса приглянувшихся (по фотографиям) мест, но увидели, что описание их с действительностью не тождественны. Полагаться пришлось на моторикшу; совет его оказался удачным.
Домик в одну широкую комнату (с ванной) признать недорогим можно – 750 рублей. До пляжа океанского – 7 минут хода неспешного; до города нужно брать рикшу (те же 7 минут и 87 рублей).
За усталостью право мы имели на сон – отдыхать могли по меньшей мере до обеда. Однако сон сейчас преступлением казался – прилететь впервые на Андаманы и тут же в кровать определиться… Одолев зевоту, мы вышли на пляж.
Океан. Шёпот волн. Песок исходит из-под ног. Я искупался, обсолил лицо, тело, разбил руками воду – поплескался. И стою на берегу в онемении, грусти. Не знаю, что с этим делать: с океаном, пляжем. Нельзя ведь несколько часов (а то и дней) плескаться, барахтаться – каким бы тёплым, мягким ни был океан. Я искупался и… готов ехать дальше. Чем живут люди в пляжном отдыхе? Какое счастье им в такой праздности?
Пляж Корбин назван лучшим из доступных от города, но курортным его не признать – из-за краткости и грязности. Грязь вся – от тряпок; уцепились они за камни и полощутся приливом.
От островитян мы ждали морали новой, не сравнимой с тем, что показывали нам континентальные индийцы. Напрасно. Нравы тут схожие. Индианки купаться ходят в сари – на улице и в океане одежду показывают одинаковую. То же и мужчины – чаще ныряют в брюках, футболке; реже плывут с оголённым торсом; особенной редкостью позволяют себе идти в одних только трусах. Свобода природная здесь отчасти сохранилась для детей, но и те до наготы полной не допущены. Заметив это, вспомнил я ханжество, описанное Томасом Манном в «Марио и волшебнике»:
«Наша дочурка – ей восемь лет, но по физическому развитию ей и семи не дашь, такая это худышка, – вдоволь накупавшись и, как это водится в жаркую погоду, продолжив прерванную игру на пляже в мокром костюмчике, получила от нас разрешение прополоскать в море купальник, на котором налипла толстая корка песку, с тем чтобы потом надеть его и уже больше не пачкать. Голенькая, она бежит какие-то несколько метров к воде, окунает костюмчик и возвращается обратно.
Могли ли мы предвидеть ту волну злобы, возмущения, протеста, которую вызвал её, а стало быть, наш поступок? <…> Юные патриоты заулюлюкали. Фуджеро, заложив пальцы в рот, свистнул. Возбуждённые разговоры взрослых по соседству с нами становились всё громче и не предвещали ничего доброго. Господин во фраке и в сдвинутом на затылок, мало подходящем для пляжа котелке <…> вырастает перед нами, и на нас обрушивается филиппика, в которой весь пафос темпераментного юга поставлен на службу самым чопорным требованиям приличий. Забвение стыда, в коем мы повинны – так было нам заявлено, – тем более предосудительно, что оно является по сути неблагодарностью <…>. Нами преступно попраны не только дух и буква правил общественного купания, но также честь его страны, и, защищая эту честь, он, господин во фраке, позаботится о том, чтобы такое посягательство на национальное достоинство не осталось безнаказанным.
<…> Появился представитель власти, назвавший происшествие весьма серьёзным, “molto grave”, и предложивший нам следовать за ним на “площадь”, в муниципалитет, где более высокий чин подтвердил предварительный вердикт “molto grave” и, употребляя те же самые, что и господин в котелке, по-видимому, принятые здесь дидактические выражения, разразился длиннейшей тирадой по поводу нашего преступления и в наказание наложил на нас штраф» {25} .
Помня слова эти, опасалась Оля показать себя – футболку сняла не сразу.
Пляж по всей длине пальмами сопровождён. Кокос один с такой тяжестью шмякнулся в 10 метрах от нас, что в испуге от неожиданного громкого звука мы вздрогнули. От падения этого узнал я, что кокосы не растут в привычном магазинном виде. Кокос – это продолговатая зелёная оболочка, крепкая чрезвычайно из-за теснейшего переплетения волокон. Упавший кокос мы назначили ко вскрытию; занятию этому, в дикость обратившись, отдали более получаса. Не лучше обезьян ходили мы со своим орехом от камня к камню – били его в ожидании трещины и веселили чрезвычайно местный люд (иностранцев, по меньшей мере – белокожих, не было ни одного). Наконец один из ударов случился удачным; трещина поразила не только оболочку, но и посаженный в неё шарик кокосовый – сок брызнул, затем потёк и (пока искал я лучшего положения для рта) вышел весь. Довольствовались мы привычной по вкусу копрой.
Веселье окончилось страхом. Сообразили мы, что пальмы высокие растут здесь повсюду… Смотрели, как раскачиваются они на ветру, трясут гроздьями кокосов, и думали о том, какая нелепая возможна смерть (или покалеченье).
Теперь иначе (менее идиллически) звучит для меня шутка, по которой счастьем видится жизнь на острове, где единственная задача омрачает существование человека – найти для сна такое место, чтобы на голову кокос не упал.
Сегодня вблизи от нас было три падения. Прогулки теперь совершаем с поднятой головой. При особом ветре накладываем на темя руки – идти неудобно, но спокойнее.
Меньше страха мы узнали от крокодилов, чьё возможное присутствие объявлено тут на больших табличках.
Время сейчас не туристическое. Мы это поняли по пустому самолёту. Убедились в этом на безлюдном пляже. Кроме нас, им занимались не более 10 индийцев (внимание своё они отдали Олиному купальнику). Кожа Олина белым пятном проступала на сером песке и серой набережной. Внимание было крепким, но сдержанным.
Живности на пляже много. Наибольшим весельем встретили мы сотни крохотных, почти прозрачных крабиков, с такой стремительностью улепётывавших от ног наших, что казались песочными водомерками.
Живность у нас была и соседская – в доме. В набалдашнике крана квартировался большой светло-коричневый таракан, в часы отдыха выказывавший свои длинные (по четыре сантиметра) усы. На потолке соседились пауки и ящерки. Всюду, им в пищу, значились москиты. Но любопытством нашим владели только муравьи, организовавшие в углу (дальнем от кровати) тесное отверстие; из него появлялись они разведчиками или целыми отрядами – вынести из комнаты что-нибудь, в их муравьином быту потребное. Уложили мы в угол кокосовые кубики (по сантиметру длиной). И наблюдали, как случайный муравей кокосом нашим заинтересовался. Взялся тащить кубик; будучи в одну десятую от его размеров, уволочь добычу не сумел. Убедившись в бессилии своём за краткими, но настойчивыми попытками, муравей сорвался бежать к отверстию угловому – ко входу в дом. Надо полагать, прихватил он с собой запах кокоса (малые частички, к лапкам прилипшие), потому что секунды спустя высыпали к нам многочисленные отряды (все как один – красные, маленькие) муравьёв. Каждая из бригад обступила свой кубик и совместным напряжением двинула добычу важную к дому. Настойчиво муравьи пропихивали кусочки ореха в тесное отверстие и пропихнули – за несколько часов, изрядно обработав их челюстями.
К вечеру мы занялись билетами на дальнейшую дорогу. Единственным помощником был Интернет; он в Порте Блэр медленный нестерпимо. Два часа вышло нам (35 рублей), чтобы найти, выбрать и купить (по карточке) авиабилеты: в Мадрас (на двоих – 5800 рублей), в Шри-Ланку (в обе стороны на двоих – 11 000 рублей). Возвращение с Цейлона в Индию назначено на 8 августа, до этого дня беспокойств о дороге быть не должно. Дальнейшие – железнодорожные – билеты нужно будет купить также по Интернету, но не сегодня, и без того компьютер утомил мне глаза и нервы.
…
Обнаружили мы, что испеклись на солнце до густых покраснений (я считал такое невозможным, ведь ещё на континенте загорели мы сполна). Солнце на Андаманах жестокое. Обгорел я до сонливости, до дурноты. Обмазался курдом (единственным в Индии напитком кисломолочным), и кожа облегчилась.
В 6 часов здесь уже сумеречно. К семи жизнь человеческая в стороне от Порта Блэр прекращается. Гулять по тёмным тропкам кажется опасным: днём видели мы множество норок (от широких до узких), в них удавалось высветить таящихся во сне змей (от света те оживлялись, потягивали голову, но вылезать не думали). Стоит предположить, что ночью норки эти пустуют.
Сейчас, перед сном, выяснилась ещё одна болячка. На днях Олю укусил в шею москит. Укус чесучим оказался; Оля не придумала, чем утешиться, и расчесала его в кровь. От глупости такой поначалу вышел прыщ болезненный, а теперь назрел подлинный фурункул. Расширился он до трёх сантиметров, и что делать с ним – не знаем. Надеемся, что гной выйдет самостоятельно.
Таблетку противомалярийную не приняли. И принимать не будем. По такому поводу пугаем друг друга тем, что инкубационный период малярии тянется до трёх лет, а симптомы её слабые, едва отличимые от недомогания обыденного.
29.07. Порт Блэр
(Всего Андаманских и Никобарских (единая союзная территория) островов сочтено 204.)
День получился и пакостным, и радостным. Описание начну от радости, чтобы хоть на бумаге пакостность в конец отложить.
С утра вышли мы на причал, ожидая прогулок по ближайшим островам. К девятому часу жар стал тягостный, осязаемый. Странным представляется мне, что индийцы не знают тёмных очков. Надо думать, привычка смягчает им любое солнце.
На причале пришлось работать мартышками – индийские туристы приноровились фотографироваться с нами на фоне океана. Дошло до синяков – так крепко схватила одна индианка Олину руку, требуя индивидуальной фотографии (при множество раз сделанной общей). Наиболее вежливые из индийцев торопились показать нам отснятое – желая похвастать не то самим фотоаппаратом с жидкокристаллическим экраном, не то умением своим обрезать моделям ноги, макушку, руки, не то знанием, как обратить солнце до полного затемнения снимка.
Андаманы – это внутренний курорт, устроенный прежде всего для индийцев и для жителей ближайших стран (Малайзия, Бангладеш, Таиланд).
Остров Росс. Расположился он недалеко от острова Южный Андаман (20 минут на корабле) и видится маленьким, однако впечатляет устройство его чрезвычайно. Для фантазии широкой тут материала найдётся в избытке. Всё от того, что некогда поднятая на острове Британская столица Андаман сохранилась для нас в виде своеобразном. Британцы в 1858 году устроили здесь город европейский – протянули по склонам улочки, собрали дома, установили церковь. Можно представить их быт – в необузданной дали от родных мест и в желании чувствовать здесь ароматы английские, домашние. Туземцы соседства такого, сопровождённого странными для них болезнями (корью, сифилисом), не выдержали и со временем иссякли. Англичане в несколько десятилетий укротили Росс до европейской уютности, меж собой нарекли его «Парижем Востока», однако к 1941 году (едва пережив жестокое землетрясение) должны были покинуть остров из-за причин политических, военных. Ненадолго обосновались здесь японцы (военный лагерь устроившие); вскоре они также ретировались. Не нашлось уже туземцев, чтобы на прежние места возвратиться, и джунгли город островной поглотили без остатка. Следа бы его не осталось; но войны мировые к нашей современности успокоились, и до острова интерес нашёлся у путешественников, историков и туристами наживающихся начальников. Задумали они город старый вычистить, на острове устроить заповедник.
Оформив по прибытии пропуск (12 рублей) и разрешение на фотосъёмку (6 рублей) – всё это напротив бункера японского, – мы вошли от причала к тропинкам парковым. Здесь ходом неспешным прогуливались пятнистые олени. Были они непугливы, но в близости метровой сторониться начинали. Среди них и те были, кто на прикосновение соглашался, но в уплату за корм (кокос зелёный или папайю), а не по велению дружбы. К вершине острова олени сходились в табуны – плутали цепью меж пальм, плотных зарослей, лиан.
Поднявшись вглубь Росса, увидели мы, что́ сделалось с викторианским городком. Клуб офицеров, частный дом, больница, охранные посты, рыночный пролёт – всё, некогда живое от людей, их разговоров, проглоченным оказалось джунглями. Деревьями обросли стены, пол, потолок. Причём «обросли» здесь слово не лучшее. Кажется, что деревья вдруг до жидкости размягчились, влились в дома и потом затвердели вновь. Разлиты стволы по оконным рамам, дверным проёмам – всё твёрдое использовав основой, не загородили при этом дверей и окон (окаймили их, но оставили открытыми). Если враз убрать кирпич весь без остатка, то сохранится в деревьях форма проглоченного ими здания. Лестницы и террасы вскрылись могучими корнями; шагать по ним приходится в противлении нависающих веток.
В дома проход воспрещён – должно быть, в бо́льшей заботе о людях, чем о домах, ведь опасность может быть от обрушения и змей. Охраны толковой тут не придумано, и не знал я удержу. Да и можно ли обделить себя таким приключением?! Отошёл я к стороннему дому, возле которого никто не мог бы меня увидеть. Ощупав облитые деревом створки и притолоку, вошёл в зал, и такой начался переполох, что невольно дёрнулся я к отступлению. То забеспокоились белки. Не обрадовались они гостю; осатанело метались по стенам, трещали воинственно. Я поторопился пройти вперёд; от злости такой заподозрил в зале гнездо (даже – несколько гнёзд).
Я в доме офицеров. Какой была комната эта полтора века назад? Я представлял себе мебель коричневую, ковры красные и бархатом укрытые стены. Здесь стоял полковник британский и рассказывал юному сержанту о славных шалостях своих в кварталах буйных Манчестера. Пахло гуталином, туалетной водой, табаком. На бумагах – пресс-папье с оборкой золотой, по стене – карта Великобритании. Было здесь чувств много, слов, ожиданий, но что осталось от них, от людей? Там, где старый полковник бережно выводил в письмах жизнь свою, теперь разбух серый корень. Там, где портрет генеральши висел, нынче – ветки вскрученные. Мог ли кто-то из англичан представить белок волнующихся и растительность крепкую над кроватью своей, и меня, по комнате его гуляющего, дикостью мест этих наслаждающегося?
Сколь чудесное путешествие для ума восторженного; сколько здесь, на острове Росс, тревожит воображение…
Наибольшим чудом была церковь, поставленная англичанами на холме, – большая, тяжёлая. Сохранились от неё стены, колокольня, пол; лишь кровля изошла совершенно. Вошёл я в церковь эту и впервые запредчувствовал величие Британской империи. Сколько было в ней мощи, если смогли британцы в середине XIX века выстроить в дали необозримой, на острове крохотном, средь пальм городок такой и церковь такую?! Как вести учёт постройкам, как далью этой управлять, если извещение всякое не меньше месяца брело отсюда в Лондон?
Ещё большее величие от природы здесь видно. Как быстро и неизбежно пропало могущество человека… Символом этого встала двадцатипятиметровая, джунглями пожратая колокольня. Сохранила она стены свои, но почти не видна, потому что сокрыта за извитыми потоками корней, а на вершине царём непобедимым воссело дерево крепкое (крыша колокольни ему основанием получилась – от неё вытянулось оно самым высоким в лесу). И разглядывал я дерево это, и соблазн мне был вскарабкаться на него (много страха узнал я от одной лишь мысли этой). Сомневался о соблазне своём долго и лишь змеями себя отговорил.
Долго ещё ходили мы по домам, деревьями обхваченным, по террасам, корнями взгорбленным, а невдалеке, между пальм, виднелись олени, павлины.
Возвратившись к причалу, обнаружили мы туристов индийских. Они фотографировались на фоне оленей; завидев нас, взбодрились и фотографироваться продолжили на фоне меня и Оли.
Привлекли мы двух торгашей. Один из них бусы тянул. Другой мороженое предлагал – стоял он с баком железным, водой и льдом заполненным; в баке этом колбы жестяные хранились. С колбы такой торговец крышку снимал (резинками укреплённую), показывал в ней светло-коричневое содержимое – протыкал его хворостинкой. Колбу сдёргивал. Так получалось мороженое – таявшее сразу и вкусом сгущенное молоко выдававшее (10 рупий – 6 рублей).
Ожидая корабль, думал я о том, что Махабодхи так же был в джунглях утерян, затем – найден. Хотел бы я увидеть его новообретённым, ведь при космической архитектуре храм этот (в облеплении тесном деревьями) наверняка завораживал.
Неодолимость природы на острове Росс в том ещё проявилась, что хотели местные власти облагородить тропы парковые – выставили фонарики, таблички, обозначили дорожки, но всё это пропало быстро в растительности: порушилось, погнулось, заросло. Так благородство задуманное получилось ещё одной, не менее любопытной декорацией.
Перед возвращением в Порт Блэр успели мы для двухчасовой прогулки заглянуть на остров Норт Бэй. Спокойствие здесь хорошее, а пальм ещё больше, да в тесноте такой устроены они, что нужно говорить о пальмовом лесе.
Здесь причала нет и высаживают прибывших на лодке моторной. По берегу селение ютится хижинное, а в прочем остров (долгий, но обозримый) пустует. На входе в селение – рынок ракушек, бус, браслетов. В сезон туристический здесь бывают водные аттракционы – так счёл я от упрятанных на крышу «лодок-бананов».
За околицей села под деревом ветвистым собралось кладбище кокосов; нет от него запаха явного, однако неприятием тянет; издали кокосы чёрные похожи на свал черепов.
Долго шли мы по берегу и живность всякую наблюдали. Наибольшее развлечение было нам от разноцветных крабиков, обильно берег населивших. Тельце у них фиолетовое или перламутровое, клешня одна и массивная (так для роботов рисуют ракетницу в руке) – красная, как и прочие конечности. Усыпано всё крабиками (будто игрушечными), и жизнь меж ними бурная показана (драки, перебежки, охота), но едва взмахнёшь рукой – и берег враз опустевает (всякий краб в норку свою скатывается).
Другим развлечением было за рыбками, по суше бегающими (точнее – прыгающими), наблюдать.
Всё это в зной происходило утомительный. Кожа от ожогов ещё не излечилась, мы её уберегли кремом густым, одеждой закрытой. Несмотря на жар, жары не было; мы даже не потели. Океанский ветер облегчал вполне.
Остров Норд Бэй остался нам в памяти приятным; хотелось бы глубже узнать его с палаткой, в несколько дней – несмотря на табличку, в селе поставленную, о встречающихся тут солёноводных крокодилах и вопреки обилию норок подозрительных.
В Порт Блэр вернулись мы затемно. Уставшие, но довольные.
Теперь, перед сном, могу я написать о пакости, мучавшей меня сегодня. Началось всё с пробуждения. Нос мой и глаза узнали от местного цветения аллергию жестокую; радости все омочить пришлось слезами, озвучить сморканием. Тело моё (растерявшееся в частой смене климата и не знающее, как и с чем бороться) без нужды подняло температуру до 37 °C. Глупость какая-то.
Глаза желали темноты, и бороться с ними приходилось – смотреть силой на оленей Росса, на крабиков Норд Бэя. Тёмных очков у нас не было.
Условились мы в эту ночь спать долго, не беспокоя себя будильником. Надеюсь на целебность сна.
30.07. Порт Блэр
(Людей в Порте Блэр проживает чуть больше ста тысяч.)
Аллергия так же спешно окончилась, как и началась. Новым утром её не было вовсе – глаза смотрели чисто, нос дышал вольно. Не менее диковинным было обращение моего кишечника: прежде мучил меня слабостью стул, теперь уж третий день как стул прекратился вовсе, в животе твёрдость собралась. Всё, конечно, от еды.
Устали мы от рациона здешнего. В городах больших удавалось найти пищу приятную; здесь, в Порте Блэр, об этом проблемы тянутся нескончаемые. Всякий ресторан готовит на индийский вкус, и лучшее из блюд для нас – рис с овощами. Мы каждый раз твердим, что специй добавлять нет нужды; дождавшись от официанта чёткого произношения «no spices», отпускаем его с заказом. Но это лишь отчасти смягчает остроту. «No spices» неизменно вливает в рот долгий несмываемый жар.
Иным доступным блюдом остаётся омлет с овощами. Кроме того, закусить можно сэндвичем с томатами или тостом с джемом. Однако помнить нужно, что тосты здесь готовят на сковородке, в масле.
Скучаем мы по картошке варёной – с маслом, луком, подле омуля или селёдки уложенной. Говорим о гречке – с молоком или котлетами. Мяса нам недостаёт. Предлагаемая здесь курятина остра чрезмерно, а свежесть её условна.
Сошлось всё к тому, что по утрам мы готовим кашу (рецепт которой усложнился орехами, фруктами – покупаем их на базаре и строгаем в тарелку), а к вечеру пробуем не отравиться в индийском ресторане.
Сегодня вечером в одном из таких ресторанов (прельстившим нас чистой вывеской) видели мы сцену, приятную и печальную одновременно. За соседний столик сел старичок среднеазиатского лица. Было темно, и он по Рамадану мог наконец заняться едой. Нищета была в нём явная; но по рубашке аккуратность наблюдалась. Заказал он чай-масала; ужин себе достал из кармана – в пакетике налито было нечто сгу́щенное и столь сомнительное по цвету, что я бы поостерёгся давать это собаке. Старик выдавил ужин свой на тарелку. Был он по-детски важным, игривым, даже покачивался, к пище готовясь, будто говорил себе: «Что́ тут у нас, что́ тут?» Взгляда не поднимая, в довольстве принялся старик мять гущу пальцами, в рот укладывать. Официант смотрел на посетителя такого с недовольством, но спорить о его трапезе не стал. Окончив всё густое, старик выпил с тарелки жидкое; выдавил кетчуп (бесплатный на столиках) и принялся пить его. В эти мгновения подошёл к нему окончивший ужин мусульманин (в прочной белой одежде, в узорчатой шапочке) и по Рамадану сочувствие показал – поговорил со стариком, заказал ему курицу, ещё одну чашку чая; заплатил за всё официанту и наказал ему другой платы от нищего не спрашивать. Счастье старика было широким. Улыбался он малозубым ртом; угадывалось в нём наивное, ребяческое. Приятно было смотреть на старика и грустно. Какая ничтожная жизнь, какое унижение для разумного существа! Он слеп к унижению своему и даже обозлиться не сумел. Смирился. Быть может, и не было в нём борьбы, но для чего же ум устроен? Для чего ему счастье было родиться человеком, в наш век? Обида за старика – за жизнь его гнилостную, за улыбку добрую, за немощь – таким негодованием во мне окончилась, что я должен был украдкой слёзы отирать. Печаль ещё от того получилась, что не мог я прямо указать, чем жизнь моя лучше, чем в разуме своём я превзошёл этого бедолагу. Начав перечисление побед своих, вспомнил я о смерти – в прах она сотрёт и меня, и его; от мысли такой понял тщетность сравнений. У каждого из нас – свой путь; нет меж нами разницы, если смотреть от объективности мироздания, мы равны по материи, нас соткавшей. Всё различие – от субъективности; и право мне дано безоговорочное жалеть старика, ведь от моего пути он далёк; только свой путь (для своего же блага) я признаю верным.
На выходе хозяин ресторана (хозяева в Индии всегда сидят возле дверей, пересчитывают деньги, выписывают счета) старика окликнул; вопреки настоянию ушедшего мусульманина, спросил с него за чай. Понятно было это по лицу старика (будто он украл что-то) и по найденной им в кармане десятке рупий (6 рублей). Стерпеть я не мог. Перекрикнул хозяина, подошёл и, не желая попусту спорить, положил на стол десятку (с видом наивысшего презрения); здесь же для негодования этих людей дал старику 100 рупий. Не мог я допустить, чтобы радость этого человека окончилась так грубо. Он не вор и не должен бояться. Он честнее многих – по меньшей мере оттого, что для нечестности не осталось у него возможностей, смелости.
…
День сегодняшний был в прогулках. Завтра мы отправимся на остров Хэвлок – туда, где купаются слоны.
Людей в Порте Блэр меньше, чем в континентальных городах Индии. Живут они в достатке, здоровее выглядят; тело у них иное – видны тут и высокие, и плотные, и толстые.
Центральные улицы – чистые; но при внимании разглядеть можно, как между домов узким спуском начинаются кварталы грязные, тесные.
Дороги уложены хорошим асфальтом; набережная протянулась в несколько километров красным мощением.
Сезон туристический на Андаманах угас, и многое наблюдаем мы в уединении. Утром на Корбин-пляже купающихся нашлось двое – мы с Олей. Прочие – три человека – были спасатели и хозяин прогулочной лодки. Не понимаю, чем может не понравиться индийским туристам нынешняя пора?
За пляжем ходят собаки; как по всей Индии – доходяжные, запуганные.
В километре от пляжа, с возвышения набережной, Оля углядела водную змею (белую с пятнышками) – та плыла вдоль каменной отмели.
Вечером, переждав очередной обрыв электричества, мы разместились в интернет-кафе – для приобретения билетов. Первой проблемой оказалось то, что прямых поездов из Мадраса в Гоа нет. Вплоть до Бомбея двигаться нам предстояло на автобусе. Разработка маршрута в деталях (до Пенджаба и Кашмира) отняла час – из-за медлительности Интернета. Дальше неприятность случилась особенная. Билеты нужные мы выбрали, но купить их не смогли; выяснилось, что индийские платёжные системы не признаю́т мой Сбербанк (или наоборот) – по всем оплатам я получил отказ (при том, что в магазинах пользовался карточкой без затруднений). Расстроился. От автобусной службы мне тут же позвонили (увидели неудавшиеся платежи). Услышал я в трубке такую «белиберда-белиберду-инглиш», что расстройство моё увеличилось. Я честно пытался понять, что говорят мне об оплате, переспрашивал шесть раз, наконец прекратил разговор. На повторный вызов ответил жёстко. Больше мне не звонили.
Билеты до Пенджаба наметил я взять в железнодорожных кассах Порта Блэр (здесь открыто представительство Индийских железных дорог). Билеты на автобус покупать придётся уже в Мадрасе – по возвращении из Цейлона (надеяться нужно, что их к тому времени не раскупят).
Бестолковое окончание дня.
Сейчас 23:00. В 5:00 за нами приедет рикша – корабль на остров Хэвлок отбывает с причала в 6:20. Встать нужно в 4:20.
31.07. Порт Блэр
(«Кокроаки» – крупные тараканы, многие века сопровождавшие пассажиров индийских кораблей. Об их неприятной близости писал Алексей Салтыков.)
В отрешении великом пребываю. Многое от меня шелухой разлетелось. Вылущился я до одиночества. Не осталось понедельников, новостей, имён. Я вырван от земли, поднят надо всем. Мысли по высвобождённости такой случаются неожиданные. Ночью пробудился я взволнованный. Через сон узнал в себе переживание сильное, о котором не подозревал прежде. Понял обиду к другу детства. Мы расстались давно; не вспоминался он многие годы – вот почему удивительной показалась сила сокрытых чувств. Обида в том была, что дружба наша погибла запросто, что мечты наши сошлись на забвение. Хотели мы путешествовать; юношеские походы байкальские вместе начинали – в палатке одной… Проснулся я – и диким показалось, что рядом лежит Оля, имя которой во сне не мог я вспомнить; здесь, подле меня, место друга того измышлялось, однако он жизнь свою положил для других. И вот – обида. Нет ему извинений даже от того, что это я́ уехал из Иркутска… В дороге лучше себя узнаёшь, потому что проступает многое, прежде укрытое ворохом дел непрестанных.
В 6:20 мы отчалили от Порта Блэр. Два с половиной часа плаванья в качке глубокой прошли; подумалось нам, что удачей было лететь до Мадраса, а не плыть. Корабль клонился слева направо, кивал постоянно в высокие волны. От тошноты единственным манёвром было дремать, и занимался я этим сполна. В дрёме мысли утренние повторял.
(…Сейчас отвлечён я был от Дневника ласками, близостью закончившимися. Оля. Туманом сгустилось моё восприятие. Лишён ритма привычного, лишён социальных оболочек; землю потерял. Мне бы одному остаться.)
Итак, я в дрёме мысли утренние повторял. Уверился, что дружба, начатая от детства, интимнее любой связи взрослой, даже соками и теплом закреплённой. Оле про сон не рассказал, про чувства им вызванные не поведал.
Она ребёнок. Чужая. Мне нужно быть с кем-то, чтобы не утерять твёрдость. Я не готов к полётам свободным… Не могу объяснить, что словами этими подразумеваю…
Корабль тараканами заселён кухонными. Ползали они по стенам, потолку, на подлокотники взбирались, на руки соседям переползали. Я брезгливо оглядывал сиденье своё, вещи свои.
На Хэвлок прибыли мы в намерении определённом – слона андаманского увидеть.
Остров пустым от туристов оказался; сезон начнётся к середине августа, и тогда теснота на Хэвлоке случится. В пустоте такой моторикшу найти можно лишь у причала. Опасаясь задержаться на одном из пляжей, не успеть к последнему кораблю (16:30), надумали мы занять одного из рикш на весь день. Вышло это в 800 рублей.
Первым ходом отправились мы на другой край острова – на пляж Радханагар (известный среди лучших пляжей Азии). Чудесное место, ступив к которому, мы забыли о слонах…
Пляж из белого мягкого (даже в глубине) песка – оканчивающийся далёким мысом. Чистый, солёности умеренной океан; лазурная, едва пенистая вода. За пляжем лес тянется диковинный – из деревьев нам непривычной высоты, ширины. Вот о ком сказано – исполины. Чувствуешь себя гномом пред стволами столь могучими, пред долгим сплетением лиан, пред корнями, по одной толщине рост мой превышающими. Жизнь в джунглях происходит (вскрики, шум) – любопытно и страшно уйти вглубь острова для прогулки. Листья здесь от земли растут такие, что при дожде укрыться под ними можно и сухость сохранить.
На пляже – ветер; облака жар смягчали солнечный, и чудесно было то, что Радханагар открылся нам безлюдным: поначалу никто не беспокоил нашего уединения; позже вдалеке появились пятеро отдыхающих; ушли мы дальше по пляжу – там напоминанием о дикости нашли выложенные в кустах помои человеческие.
Даже здесь, на самом звучном пляже Андаманских островов, табличка поставлена с предостережением от крокодилов, с рекомендациями от купаний отказаться.
Волны широкие, пенистые, дурачества с Олей, песок мягкий до нежности… Понял я удовольствие от отдыха подобного, но всё же не мог представить ему срок недельный или тем более месячный.
Наборовшись с волнами до усталости, навалявшись в песке, пошли мы ещё дальше по Радханагару и обнаружили, что мысом пляж не оканчивается.
Над песками джунгли нависают. Случаются в воде каменные плато, по ним – крабы, ракушки. Одиноко здесь. Заехать бы сюда с палаткой, чтобы остров весь ногами изучить!
Хотели мы возвращаться к рикше, когда в разговорах за очередной мыс ушли; за рассеянность такую вознаграждены были – в бухте новой слона углядели. Вот он! Вот – символ наш андаманский. Радость была до смеха. Мы знали, что живут близ Радханагара два слона, что к воде выходят они нечасто и в столь краткое посещение только по удаче можно одного из них повстречать.
Слон стоял перед песком – на кромке джунглей. Мы бежали к нему; с приближением радость наша ослабевала. Слону нашёлся погонщик. Заприметив нас и поднятый мною фотоаппарат, обозлился он очень: «No photo!» Слон оказался тихим; он понуро, будто утомлённый, стоял в кустах. Был он в цепях. Всё понятно. Рабочий слон. Вечный раб.
Слон отошёл в сторону (быть может, в испуге от нашего появления); этим своевольным шагом разгневал погонщика. Мужчина подбежал к слону, стал лупасить его палкой, наконец отвёл в джунгли.
Не такой мы ждали встречи.
Здесь мало слонов. Все они сочтены и, по-видимому, определены к работе. Один из них – Ражан – натренирован в развлечение туристов. Ражан плавает в океане, и окунуться с ним можно за 6300 рублей. Делать этого мы, конечно, не хотели.
По тропинке, протянутой в джунглях вдоль пляжа, возвратились мы к рикше. В пути увидели дом, к которому погонщик пригнал от нас слона. Слон стоял недвижно, уже без цепей.
Мы выехали на восточное побережье – к тренировочному комплексу, где вблизи от океана слонов учат работать.
Дорога по Хэвлоку устроена однополосная, но хорошая. Машин здесь мало. За обочиной – хижины, рисовые поля, пальмы, бананы; дальше – джунгли. Деревушки малые, малоуютные. Есть и туристические селения – десятки домов с объявлениями о водных забавах (плаванье на катамаране, с аквалангом, возле кораллов). Всё это – для туристов индийских и азиатских. Белокожие встречаются тут нечасто; русских наш рикша вовсе видел лишь однажды.
Слонов на тренировке мы не обнаружили. Комплекс оказался поляной, уставленной брёвнами и палочками с привязанными к нам пакетами.
Оставшееся время мы для купания употребили и разговоров неспешных на пляже (был он не так приятен, как Радханагар – каменист, занесён обломками от кораллов, илист).
Здесь отдыхали мы опять в одиночестве. Я развеялся от утренних чувств, шутил, смеялся.
В 16:30 мы отчалили от острова. По стенам корабля снова суетились тараканы; качка получилась ещё более крепкой. Я старался дремать, так как чувствовал близящуюся дурноту.
Когда мы подходили к нашему дому, вокруг стыли пепельные сумерки. Луна была широкой, под ней гляделись облака, пальмы, дорога. Ветер был тягучий; по дороге от пляжа Корбин (куда с причала мы доехали на рикше) увидели близкое падение двух кокосов. Неприятно. Один из кокосов взяли с собой; я разделал его ножом, отломил себе копру, после чего (вприкуску) занялся Дневником.
От грядущей ночи жду не менее откровенных снов.
01.08. Порт Блэр
(Неолитическая эпоха – поздний каменный век, 9000 лет до нашей эры.)
Манго испробовал я во всех видах и надолго, думается, пресытился им. Нашлось манго двух сортов – кожурой разных и вкусом. Сок манговый отыскался производителей многочисленных, но неизменно дешёвых (30 рублей за литр). Печенья с манговой начинкой, кексы, торты, мороженое, конфеты – всё это манговым было, но лучшим здесь, на Андаманах, показался молочный манговый коктейль. Похож я в пристрастии своём на обезьяну, виденную нами на вокзале Бенареса, – она в довольстве обгрызала манго спелый, обтекая соком, пачкая лавку, на которой сидела.
Своих фруктов здесь немного. Купить в свежести можно всё, в Индии известное, однако лишь кокосы и ананасы будут островными – прочее привезено с континента (чаще – из Мадраса).
Привыкли мы кашу детскую готовить с яблоками, грушами. Сейчас, к третьей неделе, укрепились и другие обыденности. Не смущает то, что индийцы в знак согласия качают головой по диагонали (склоняют её к плечу) – так мы показываем сомнение. Не мешает постоянный шум от вентилятора, укреплённого посреди потолка большинства помещений. В первые дни мы просыпались от верчения его длинных лопастей, но сейчас спим непрерывно. Свыклись с тем, что одежда индийская красит всё чрезвычайно – для озеленения тела достаточно надеть футболку новую и вымокнуть в ней от дождя или пота. Ну а потребность индийцев в чаевых стала почти приемлемой. Однако к почтовым службам привыкнуть возможности не было. Знакомство с ними началось сегодня.
(Отвлекусь к тому, что блокнот влагой напитался и теперь пахнет рыбой. Из чего же делают эту бумагу? Или дело в клее? Приятные листы у Moleskine, но запах невыносимый.)
Итак, почта Индии.
В магазинчике близ Абердинского базара обнаружил я сувениры примечательные – вырезанные по невылущенному кокосу три зло отрицающие обезьянки. Внутри орех кокосовый расходится (стукает) при тряске. Захотел я сувенир такой подарком в Иркутск выслать – бабушке и дедушке, несколько лет жившим в Мозамбике и населившим квартиру иркутскую масками, статуэтками аборигенов. Кокос андаманский стал бы хорошим дополнением к их коллекции.
Обезьянки вышли в 116 рублей. Закутав подарок в газету с объявлениями о грядущем в Порте Блэр митинге коммунистов, мы прошли в центральное отделение почты. Выяснилось там, что в упаковке нам помочь не могут. Нужно самим искать коробку. Спустились до памятника Махандесу Ганди, поднялись к базару. Нашли в лавке торговой коробку старую из-под вентилятора. Запаковали кокос – скотчем обтянули.
Вернулись на почту. Теперь нам объявили, что посылку нужно обшить тканью, но здесь, на почте, таких услуг не предусмотрено. Указанием было вернуться на рынок, купить обрез полотна, затем отнести всё в швейный салон. Вздохнули, пошли на базар. Ткань мы искали белую, но тут встречались цветастые; особенным смехом было нам представить посылку от островов Андаманских в Сибирь, украшенную цветками пёстрыми. Наконец узнали мы, что в одном магазине под прилавком лежит моток почтовой ткани. Покупательнице, впереди нас стоявшей, продавец отмерил 5 метров – на сари, затем отмерил полметра нам – на посылку (ткань была двойной).
Отыскали мы швейный салон. За машинками, на выкройке сидели мужчины. Здесь эта работа – неженская. На просьбу свою мы получили отказ; хозяин извинился исключительной занятостью (они шили рубашки по спешной разнарядке). Тряпкой решено было заняться самостоятельно.
Возвратились к магазину тканей – купили нитки, иголку. Сели шить на тротуаре. Я взялся первым. Оля отмахивалась от рикш и мух, подсказывала для лучших стежков, смеялась о моём портняжстве. Нитку порвал, иголку сломал. Олин черёд. Купили новую иголку. Швейные дела продолжились. Теперь рикшами и мухами, а также советами занимался я. Оля шила медленно; чехол получался излишне свободным. Наконец, опасаясь закрытия почты, решили искать портного. Вышли к Tailors store, где очередные мужчины шили брюки. Та же история – заказ был назван срочным, а просьба наша излишне мелкой. Однако в долгой настойчивости уговорили мы одного из портных заняться посылкой. Как лихо управился он с тканью! Измерил. Пометил мелом. Закусил нитку. Прострочил на машинке по краям – получился мешок, принявший нашу коробку в тугости. Уложил на столик. Пальцами с иглой пробежался поверху – закрепил посылку. Не прошло и пяти минут. Спросил с нас 8 рублей. Мы в радости от такого приключения выдали ему на 50 рублей больше (100 рупий) – без единого слова о сдаче. Портной был доволен; соседи его, должно быть, пожалели о нерасторопности своей.
Мы вышли назад, к почте. Там пришлось выводить по ткани адрес иркутский. После этого нас отправили в соседнее здание. Там очередь; заполнение форм, в которых обещал я законность своего кокоса.
Заканчивая очередную форму, услышал я от улицы шествие с музыкой и должен был выбежать в спешке для наблюдений и фотографий. Оля осталась оправдывать моё бегство. Через 10 минут я вернулся. Посылка вышла в 1,4 килограмма, чей путь в Сибирь оценён был в 780 рублей. Надеюсь на успешное прибытие.
Ещё до почтовых занятий мы посетили офис Индийских железных дорог. Узнали о свободных местах в поезде – от Бомбея до Амрицара. Оплатили билет, получили его, разглядели на нём пометку RAC – узнали, что так обозначен статус «неподтверждённый». Означало это, что номер вагона и места сможем мы определить лишь в день отправления. Опасаюсь, что могут нас с Олей разделить по разным сторонам поезда; путь предстоит дальний (почти в двое суток). Так или иначе, довольны мы и такой покупкой, ведь подозревали проблемы по этому направлению.
Удивлением было то, что для железнодорожных билетов с меня в Индии не спрашивали паспорт, который был обязателен для входа в некоторые интернет-кафе…
С Портом Блэр прощались мы прогулками. Вышли на митинг коммунистов – странное зрелище, в том состоявшее, что в окружении флажков красных (с серпом и молотом) выкрикивался в микрофон одетый в белое индиец. Голос его звучал от установленных под сценой и на дороге динамиков. Слушателей на небольшой, для митинга прибранной полянке было… трое. Сидели они на пластиковых стульях – покачивали ногой, кивали. Прочие слушатели получились праздные – рикши, торговцы, прохожие.
Наблюдая митинг такой, говорили мы с Олей о контрастах андаманских. Ведь здесь (вблизи от политики, от манговых коктейлей, от «лодок-бананов») сохранились острова, в автономии дикой существующие. Нет к ним доступа даже учёным. Живут там дикари по устоям до-неолитической эпохи. В 60 километрах от нас расположен Северный Сентельский остров, населённый племенем сентельцев. Правительство индийское не знает их численности, потому как дикари эти агрессивны, близости чужеземцев не позволяют. Известны они тем, что вертолёты все отгоняют стрелами, что в 2006 году застрелили (сегодня не так часто можно слово это использовать в его исконном значении) двух краболовов-браконьеров. К острову приближаться не позволено ни путешественникам, ни этнографам, ни телевизионщикам. Многие предположили гибель сентельцев от цунами в 2004 году (на Андаманах погибли 5 тысяч человек). На Северный Сентельский остров был выслан вертолёт, но его, по счастью, из джунглей встретили роем стрел. Как они живут, каким представляют этот мир? Что им политика коммунистическая или манговое мороженое? Допустимо ли оставлять их в дикости? И это племя не единственное здесь, на Андаманах, живущее в автономии… У них, конечно, этика иная. Плавать, в тряпки замотавшись, как это делают индийские «новосёлы», они не станут.
Быть может, сентельцев подразумевал Марко Поло или братьев их, когда писал о псоглавцах : «Ангаман – очень большой остров. Царя тут нет. Живут тут идолопоклонники, и они словно дикие звери. Следует упомянуть в нашей книге об одних людях: знайте, по истинной правде, у всех здешних жителей и головы, и зубы, и глаза собачьи; у всех них головы совсем как у большой собаки. Много тут пряностей. Злые тут люди; иноземцев, коль поймают, поедают. Едят они молоко и всякое мясо. А здешние плоды не такие, как у нас…»
В этот вечер впервые увидел я цветущий банан – от кисти зелёных, плотно сросшихся бананов свисал большой, лингам животного напоминающий цветок (заострённый, густо-красный).
Расставание с Андаманами новыми слабостями омрачилось. Оля с фурункулом простилась – вскрылся он гноем обильным, со стержнем жёлтым. Осталась на шее ямка красная, но боли прекратились. Я принял эстафету – убедился окончательно, что на большом пальце правой ноги ноготь (от излишне глубокого пострижения) отклонился вглубь пальца – врос. Неприятность значимая. Задумал я сам себя оперировать. Принялся ножом и плоскогубцами рвать из себя излишний отросток ногтя. Крови получилось много, а толку мало… На завтра ожидаю нагноения. Скверно это, но три недели потерпеть можно. Местный врач, безусловно, сладил бы с моим пальцем, но я не хочу лишать себя движения на два-три дня. Позже. Только бы не вышло инфицирования или некроза, ведь хожу я без носков, в сандалиях открытых. Знакомый мой, воспалением пальца пренебрегнув (врачей боялся), довёл его до черноты, до гангрены; так ноги лишился до колена.
Повезло нам с болячками в этом путешествии…
02.08. Коломбо
(Князь Алексей Салтыков писал о Цейлоне: «Страшно носиться думой по этим вечно зелёным, мрачным лабиринтам, где бродят бесчисленные стада слонов, где свирепые тигры рыскают по влажным джунглям и где змеи скользят в ананасовых кустарниках» {26} .)
День путевы́м выдался без меры.
Началось всё от будильника в 4:50. В 5:50 мы сели к моторикше. Самолёт вылетел без задержек; в том лишь глупость была, что указали мне на таможне из рюкзака выбросить все зажигалки – их запрещено сдавать или проносить. Странная прихоть для безопасности.
Через 2,5 часа мы были в Мадрасе. Здесь предстояло нам ждать рейс на Цейлон, но праздности я не хотел; имея почти четыре часа перед вылетом, решился в город ехать – за автобусными билетами. Взял такси (сторговал поездку с 460 до 300 рублей; Оля осталась в аэропорту). В 45 минут (было время пробок) добрался до автовокзала, где без осложнений купил шесть билетов и тем обеспечил наше путешествие до последнего дня в Ладакхе. Для обратной дороги взял рикшу (сторговал поездку от 230 до 170 рублей). Перед аэропортом заехал в аптеку. У Оли на глазу в довершение ко всем болячкам поднялся ячмень. В аптеке я спросил капли (болезнь объяснил по фотографии из Интернета и театром пальцев, показывающих, как из глаза зреет и прорывается гной). 50 рублей и – обещание чудесного исцеления.
О причинах ячменя мы не сомневались – пыльность, задымлённость индийских дорог. В открытом мотороллере рикш весь дорожный сор в глаза липнет, отчего слепота получается и боль. У нас белки́ давно растрескались красной сеткой (под стать индийцам); теперь у Оли вырос гнойник.
Возвращение в аэропорт выдалось долгим – от пробок, и душным – от жары, несравнимо более грузной, чем тот жар, что знали мы на Андаманах.
Я опасался не поспеть к рейсу; напрасно – его задержали на два часа.
Перелёт был кратким – полуторачасовым; успел я расчертить наш маршрут по острову, выписать из Интернета адрес гостевого дома в Коломбо (показавшегося нам приятным по фотографиям и отзывам). Иначе – не так быстро – на Цейлон прибывал Рама (седьмое воплощение Вишну), который «остановился на берегу океана в самой южной точке Индии и после трёхдневного поста и молитв приказал океану затвердеть и пропустить его армию. Бог моря не ответил на его молитвы. Тогда Рама предупредил его о нападении и вонзил в океан свои копья; вода вспенилась и поднялась горой, всё живое в ней погибло, и океан превратился в пустыню. Бог моря появился перед Рамой и стал почтительно объяснять ему: “Я подчиняюсь законам природы, так же как другие четыре стихии, и тебе известно, мой господин, что я не в силах нарушить эти законы; единственное, что я могу сделать, это помочь твоей армии обезьян построить дамбу. Я помогу им <…>, пусть они только натаскают побольше булыжников, камней и бревён. Я сам приму всё, что они принесут, и использую наилучшим образом”. Так была построена дамба, и армия Рамы оказалась на земле Ланки» {27} .
О дамбе этой я рассказывал Оле уже в аэропорту, выстроенном близ городка малого – Негомбо (мог он прельстить нас для грядущей ночи, но ехать нужно было в столицу – для удобства завтрашней дороги).
От аэропорта мы наняли государственное такси (625 рублей – 2700 ланкийских рупий) и через полтора часа прибыли в центр Коломбо. Водитель наш давно назначил себе развлечением русский язык – учил его самостоятельно и рад был до смеха возможности речь русскую услышать. В бардачке у него нашлись словарик и учебник – с текстами угловатыми про Спасскую башню. Водитель развлекал нас просьбами объяснить различие между «идти – ходить», «зайти – прийти», «пришёл – зашёл»…
Найденный мною в Интернете гостевой дом подвалом оказался пропащим… По везению нашли мы вблизи место удобное для одной ночёвки – за 800 рублей.
Номер был с кондиционером, грязными простынями; из окон виднелась река – тихая, чёрная, но без лишних запахов.
Здесь не Индия. Мало что в Цейлоне напоминает о шумном соседе (кроме грязных простыней). Другие люди – видно это от первой же поездки. Свободна в разнообразии одежда; почти не видно сари; дхоти вовсе редкость. Нет закрепощённости явственной от традиций. В Индии женщина садится на багажник мотоцикла непременно боком – для приличия от разведённых ног и объятий уличных, но для опасности повышенной (видели мы, как падали девушки от неловкого манёвра); здесь, в Коломбо, сидят они в привычном, несравнимо более удобном положении – ноги раздвинув.
Нет на улицах мусора – чистота установлена хорошая. Нет здесь толкотни, людей меньше, но дороги бывают перегружены – машин много, а рикш и велосипедистов мало.
Повсюду устроилась цивилизация. Туристические места. Вывески, реклама, указатели неоновые. Отели, рестораны, закусочные; достаток в жизни (по сравнению с Индией) очевиден.
По внешней схожести индийцев и ланкийцев, по общности их истории Коломбо объявить можно городком индийским, но поднятым до европейских форм, цветов – оевропеизированным.
Однако не сумели ланкийцы лоск навести в повседневности. Когда ужинали мы в ресторане, собранном красиво, официантами приятными уставленном, заметили при внимании порчу. В занавеси – дыры. Стул шатается. Тарелка потёрта. Лимон к чаю – с чернотой. Всё в деталях проверяется. Ужин (необильный) был нам в 700 рублей.
С какой жадностью вычитывали мы в меню разнообразие мясных блюд! Здесь была говядина! Beef with vegetables, к сожалению, оказался мелкорубленым и переполненным специями (надеялся я на кусок цельный, жареный, сочный), но и такому блюду радость была подлинной. Прежде не знал я подобной кровожадности – мясом часто пренебрегал.
Впервые приняли мы от официанта воду бесплатную, перед едой в кувшине поданную. Прежде, в Индии, считали это опасным.
…
Перед сном могу заключить окончательно, что из-за переездов частых впал я в безвре́менье. В безликом пространстве оказался. Не чувствуя себя в Шри-Ланке, не уверен в прошлом. Где Андаманы, где Бхубанешвар, где Агра?
Отрешился от мыслей всех – для чувств одних; чувства эти без определений оставил; нет в них узоров, пестроты; лишь пастозное белое, серое, чёрное. Спокоен, в ровном дыхании. Не осталось для меня врагов, друзей; любви, ненависти не чувствую. Спокойствие это живое. «Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелеял…» Это не бессознательное бесчувствие, которое прочесть можно от коров индийских. Стоят они в пустоте неисчерпной – там, где встали; не тревожат их желания или страхи, не боятся ни машин, ни человека. Слепота идеальная, в безграничности своей привлёкшая индийцев, которые (предположу) оттого и сочли корову святой. Заблаговременная смерть, а в ней всякое страдание смягчается (переходит в фон; неизменно гудящий, назидающий, но всё-таки – фон). Стоило рождаться, чтобы на подобную смерть жизнь свою употребить… Думаю об этом и повторяю то, что впервые от Брюсова услышал: «Нет хуже слепого, чем тот, кто закрывает глаза» {28} . Шумно, толко́тно на дорогах индийских; опасность в этом движении, и гудки не прекращаются; но не видел я индийца, от гудка оживившегося, машины убоявшегося, – идут они мирно, в темпе неизменном через дорогу и вздрогнуть не хотят даже при гудке мерзком от грузовика – в спину. Отупление коровье. Опасность получалась только от нас – в непривычке отбегавших, пропускавших, переступавших. Когда же манеру индийскую мы выучили – дорогу переходить стали спокойно, глухо, однотемпно, то сразу в удобство попали. Коровье удобство.
Меняю эти мысли на белые-серые-чёрные простыни чувств и спать ложусь.
03.08. Далхуси
(Государство «Цейлон» существовало с 1796 по 1948 год, и с 1815 года целиком принадлежало Британии. В 1972 году страна назвалась Шри-Ланкой.)
«Сперва они шли вдоль берега, потом по узкой тропинке вступили в лес, пересекли по подвесным мостам несколько рек, держась за прикреплённые к скалам железные цепи, взбирались на кручи и после шести дней трудного пути оказались наконец в красивой долине. Кругом раскинулись рисовые поля, пальмовые рощи и сады, у подножья изрезанной ущельями горы приютились хижины селения, полукругом охватывавшие царский дворец» {29} . Так описано путешествие Марко Поло вглубь острова Цейлон – к горной его столице. Наш путь был иным, но «рисовые поля, пальмовые рощи, сады, хижины по ущельям» едва ли отличались от тех, что видели тут европейские торговцы несколько веков назад.
Сейчас, на веранде в городке Далхуси, мы читали уже не пересказы Вилли Майнка, но записи самого Марко Поло, и улыбаться должны были словам его. «Остров Цейлон поистине самый большой в свете <…>. Дует здесь сильный северный ветер, и бо́льшая часть острова от того потоплена, и стал он меньше, чем в старину. <…> Расскажем вам о делах этого острова. Есть тут царь, зовется он Сендемаин; народ – идолопоклонники и никому дани не платит. Ходят они нагишом и прикрывают одни срамные части. <…> Едят молоко, мясо и рис; есть тут и вино. <…> Люди тут немужественны, слабы и трусливы. Случится надобность, они нанимают воинов в других странах и у сарацин» {30} .
Сижу на стуле; передо мной – сумраком одетые горы. На столе – тарелки в объедках; в кружке ещё сохранился чай. Да, здесь впервые за три недели нашли мы чай настоящий – не от пыли в пакетиках сваренный. Нужно ли удивляться, что случилось это на Цейлоне?
В освежении пребываю я превосходном. Здесь для меня лучший климат открылся. Воздух чист, как вода байкальская, и так же холоден. Ветер мягок. Зелено всё, гористо. Отдыхаем телом и чувствами.
В ночь эту назначено нам с Олей восхождение пешее на гору Шрипаду [28] – на пик Адама (у подножия которого мы притулились). Для того мы потемну пойдём, чтобы рассвет увидеть с вершины. Хорошим ходом взойти должны за четыре часа (семь километров крутой тропы). Восход здесь назревает в шесть утра. Желая обезопасить себя от опозданий или спешки, мы задумали выйти в 1:30. Оля для сил новых ушла спать, я же спать не хочу – по бойкости настроения.
Далхуси – городок крохотный и сейчас пустой. Отелей в нём больше, чем жилых домов. Всё оттого, что зимой начинается сезон паломнический и тысячи буддистов, индуистов, почитателей Самана съезжаются сюда для восхождения на Шрипаду (о пике этом Марко Поло писал: «Есть тут очень высокая, крутая и скалистая гора. Взобраться на неё можно только вот как: привешаны к горе железные цепи, и пристроены они так, что по ним люди могут взбираться на гору. Говорят, на той горе – памятник Адама, нашего прародителя; сарацины же рассказывают, что тут могила Адама, а язычники – памятник Сергамона боркама [т. е. Будды Шакьямуни]» {31} ). Тогда суета здесь чрезвычайная бывает, и гостиницы полны; но сейчас – мертвенно тихо; мы тому рады.
В Далхуси соседство нам получилось от десятка белых туристов. Необычно это. Отвыкли от кожи белой. Русских нет. Больше всего – французов…
Сегодня я проснулся в 8 утра. Будить Олю не захотел – позволил ей спать ещё несколько часов для облегчения глазных болей.
Одевшись, вышел на улицы коломбийские, а там – к остановке. Наитеснейший 103-й автобус (до железнодорожного вокзала). Проезд – 4 рубля. Час в пробке. Движение в городе тяжёлое от узости всех дорог (двухполосные). Кондуктор одноглазый исхитрялся всякий раз выпрыгивать из автобуса и подолгу зазывать новых пассажиров.
На вокзале узнал я о неудобном маршруте поездов. В Далхуси нам добраться суждено было лишь к темноте глубокой или наутро следующего дня. Прямого пути железнодорожного нет; пересадка нужна в Хэттоне. Желал я настойчиво о скорейшем восхождении на пик Адама, пока луна – в совершенстве полноты. Кроме того, для ночной прогулки нужно было от дня силы сберечь. Так надумал я взять машину – прямиком в Далхуси. Идея эта обошлась в 3200 рублей.
В двенадцать, отобедав говядиной, выехали мы из Коломбо, и путь любопытен был без меры – останавливать машину часто приходилось для ближайшего рассмотрения интересностей.
Поначалу дорога (до Ависсавеллы) тяжёлой была, в неизменной запруженности. По обочине – заселённость тесная; дома низенькие, сараи каменные.
Монахи буддийские за кюветом стоят в ярко-оранжевых саронгах. Полицейские – в белых до плеча перчатках. Женщины – в кофточках, юбках. Мужчины – в брюках. От индийской одежды тут лишь белая (от банта до туфлей) форма школьников.
На Цейлоне в лицах больше азиатской раскосости, отчего (по чёрной коже) выдают ланкийцы нечто туземное. Люди тут здоровее телом и улыбкой (в сравнении с индийцами). Несравнимо больше людей толстых, высоких. И нет в глазах болезненности, онемения, красноты. Здоровые, живые горожане (в Индии найти их можно, но затёрты они толпой болезненной, слабой).
Вдоль дороги – заросли частые с гроздьями бананов, бамбуковые урочища, пальмовые перелески, сосны, дома, хижины, землянки, невысокие, искусной отделки особняки, ступы белые, статуи Будды (по которым он женственным видится и пухлым).
Из-за частых заторов машина едет неровно.
Здесь отметил я живость ланкийцев, которые от машины при гудке бегут, дёргаются, волнуются.
Дорога опустела, сузилась, когда мы свернули к Далхуси. Теперь не было и пятисот метров ровного пути, только петли – одна изогнутее другой. В таком болтании, с перепадом давления ехать пришлось 20 километров. Предчувствие тошноты (так же худо было нам несколько месяцев назад – на дороге от армянского Гориса до карабахского Степанакерта).
Путь облегчали частыми остановками – для водопада или хорошего горного обзора. Вершины ланкийские пышностью зелёной напоминали абхазские, но другими были в том, что пик выраженный имели – почти заострённый (горы Абхазии мягче; похожи они на зелёную шерсть гигантских овец, состриженную на землю небесным чабаном).
По холмам теперь лежали чайные поля. Горные деревушки пристроены к этим холмам узкими, резкими лесенками.
Оля тем временем красотой этой пренебрегла для населивших Цейлон сухопутных пиявок, опасных москитов – думала о них, говорила (телефон ещё утром напомнил нам о сроке для очередной противомалярийной таблетки; мы ответили небрежением).
Остановка долгой была, когда заметил я в низине сборщиц чая. Сбежал к ним уверенно; обнаружил там двух мужчин – надзирателей. Препятствий от них не было. Более того, они обрадовались мне и показали лучший проход к сборщицам. Тут весёлость началась. Я шутил с надзирателями о чудесных фотомоделях (водитель позже указал, что были они тамильцами); модели смехом обсуждали всякую, кого обозначал я объективом. В окончание такому знакомству были пожелания удачи, улыбки (здоровые, не заискивающие; никаких просьб о рупиях; они сами себе отплатили радостью, разнообразием от нелёгкой ручной работы). Нет, далеки континентальные индийцы от ланкийцев!
Спокойствие здесь необоримое. И сухопутные пиявки не пугают. Речки, водопады, водохранилище горное Маскелиоя; пресный, без примесей воздух и густо-зелёные чайные холмы.
В горах ланкийцы одежду показали иную. Здесь чаще виделось сари, появились дхоти. Колоритом были мужчины – босые, но в шапках шерстяных.
В Далхуси мы приехали к 17 часам, и село это нам представилось чудесным. Нашли комнату с видом на пик Адама (сейчас он плотно сокрыт облаками). 800 рублей в день. Скромная цена, если учесть постеленные нам без просьб чистые простыни, выданные полотенца, горячую воду и кровать с чистой, без дыр противомоскитной сеткой. О сельчанах могу лишь повторить, что улыбались они по-здоровому. Приветствовали нас обязательно, и это не звучало болезненным «Hel-lo-o-o» от индийского нищего. Мы отвечали улыбкой – искренно.
Оля отдохнуть могла вполне от внимания чужого – перед возвращением на континент. Однако вздувшийся глаз её тревожил. Несмотря на боли и получившуюся от них слабость, Оля твёрдо ответила, что ночью пойдёт со мной.
Палец у меня загноился, но беспокойств в этом пока что нет. Обрабатываю ранку (широкую от участия плоскогубцев) перекисью водорода и надеюсь на неожиданное исцеление. Вдруг так случится, что ноготь как-нибудь сам изойдёт…
Для дороги в магазинчике местном купили воду и закуску. Продавец весёлый был, показал нам собрание обширное иностранных монет (подарки от приезжих). География монетная оказалась богатой, но России в ней не было. Была Украина. Недостаток этот мы исправили новенькой десятирублёвой монетой и четырьмя монетами иной ценности. Продавец был рад.
Очередная тут перестройка ритма биологического. Но организм, должно быть, свыкся с переменами – возражений не обозначил. Стемнело лишь к 19:15; небо ещё долго (в контраст горному мраку) оставалось светлым. Оно и сейчас (22:57) не погасло – сияет незаоблачённая луна.
Прохлада в ногах. Для восхождения одеться нужно в тёплое и вымазаться репеллентами.
Сейчас решил, что выйдем мы ещё раньше – опасаюсь плутаний по неизвестному пути. Спать я не буду, сон может выйти глубокий.
Оля спит.
От домика – напротив нашего отеля – второй час слышно заунывное чтение мантр (будто ветер гудит в деревьях).
Оглядываюсь на горное спокойствие. Здесь нет тишины, но шумы иные. Не сигналят рикши (в Шри-Ланке их, точнее – их мотоцикл, называют «тук-туком»), не кричат жители улиц, не гремит вентилятор. Морем шебуршит листва. Утручат сверчки, вскрикивает редкая птица. Каким оно получится – ночное восхождение?
04.08. Далхуси
(Пик Адама – 2243 метра над уровнем моря. Иное название – Саманалаканда, что значит «гора бабочек». К названию такому легенда указана о бабочках – душах погибших солдат, – к вершине стремящихся, но вершины не достигающих. Стремиться им туда указано, чтобы прощение за грехи узнать и тем себя освободить.)
Итак, режим растерян окончательно. Организм в дикости пребывает, не зная, каким светом день считать, каким мраком – ночь.
Прежде чем описать восхождение, укажу по часам ритм жизни нашей в эти сутки. Сон мой последний был до 8 утра прошлого дня. В 0:30 вышли мы на подъём. К 4:50 поднялись в горный храм (на пике). Пробыли там до 7:30. Спуск окончился в 10:15. Поспешили к тёплой воде душевой; увалились в кровать и проспали до 15:00. Затем спустились в ресторанчик для обеда. В 15:30 мы изготовились для повторного сна. Я проснулся в 19:30. Оставил Олю спящей, вышел на веранду записать под чашку чая восхождение наше. Завтра надлежит встать для восьмичасового автобуса в Хэттон. Утро будет раннее.
Теперь – пик Адама.
«А Цейлон же есть немалая пристань Индийского моря, а в нём на высокой горе отец Адам. Да около него родятся драгоценные камни, рубины, кристаллы, агаты, смола, хрусталь, наждак [29] . Родятся также слоны, а продают их на локоть, да страусы – продают их на вес» {32} .
Ни слонов, ни страусов, ни рубинов мы здесь не видели. Никто из жителей местных, по нашим вопросам, не умел даже вспомнить, что всё это когда-то здесь рождалось.
Вышли по темноте, едва разбавленной лунным светом. Плотные, чёрные облака. Были у нас фонари, но пользы от них мы не искали – свет пусть выказывал камни под ногами, но лишал общего обзора, определял всё стороннее во мрак гуталиновый. Да и глаза в скорой привычке научились различать дорогу.
Загодя (краткой вечерней разведкой) разузнал я начало пути и сейчас шёл поворотами уверенно, не опасаясь плутаний.
В переходах ночных таинственность случается, ведь ничто не предстаёт видом обыденным; всё обманывает, искажается. Мох по камню песочком чудится, листья – тряпьём, галька – грязью. При сомнениях определяли мы предмет фонарём или ногой.
По дороге устроены павильоны, палатки, беседки частые – всё поставлено для торговли во время паломническое, но сейчас стоит заколоченное, пустое и отчасти разрушенное.
По обочине – чай растёт, плакаты покошенные высятся с указанием пути, с текстами, нам непонятными, и рекламой – мыла, мобильной связи, бальзама целебного.
Оделись мы излишне тепло; взмокли, отчего свитера пришлось снять.
Ступени пока что нечастые были – с пролётами долгими. Знали мы, что в общем числе подняться предстоит нам по пяти тысячам ступеней. Цепей железных, о которых писал Марко Поло, здесь не сохранилось.
Видно при луне, что горы, нам уготованные, ошапкованы облаками. Вершину разглядеть невозможно.
Шумят речки. Бусенец в дождик крепнет и опять в пыль возвращается. По дороге провода тянутся электрические.
Встречаем мы Будд многочисленных – видом разным представленных, светом всенощным выделенных. Наибольшим был Будда, лежащий на боку – возле ворот, путь на вершину зачинающих. Каждому Сиддхартхе в соседство Ганеша посажен.
За мостиком кратким нашли мы павильон пустой с динамиками, мантрами гудящими. За ширмой в любопытстве обнаружили кровать и спящего на ней кого-то . Здесь же алтарь был укреплён с Буддой, слонами, благовоньями.
Дальше в пути был китайский монастырь с цветником по кругу (сотни горшков цветов разнообразных); здесь же – ступа высокая с выставленной и подсвеченной коробкой для пожертвований.
Лесенки ветхие, разбитые, сменялись собранием камней – идти нужно в осторожности. Иные лесенки проломлены, вздыблены, расщеплены. Но встречались и переходы удобные, серыми надолбами сопровождённые.
В эти полчаса прогулка была лёгкой, удовольственной.
Всё реже случались порталы, ступы, павильончики, рекламные надписи.
Подъём теперь постоянный – нет отдыха в прямой дороге. И мрачно вокруг, и видно плохо. Ночь.
Влажность сделалась чрезвычайной; дышать неловко; волосы, одежда мокрыми стали. Бус не прекращался. Ветер.
Изредка палатки встречались – для отдыха паломников; туалеты.
После второго часа дорога вся ушла в джунгли. Ступени здесь крепче, но отвернуть некуда – всякий отворот воспрещался плотностью зарослей. Пахло листьями мокрыми, цветением настойчивым. В джунглях вблизи от нас шум постоянный был – щёлкал кто-то, свистел, трещал. Порой из листвы замечали мы глазки, тесно установленные друг к другу, но хозяина их не могли даже предположить.
В облаке мы оказались густом. Воздух стал водой. Оля косу отжимала. Одежда вымокла до белья. Ветер леденил, и к третьему часу подъёма озябли мы значительно. Пришлось Оле взять от меня рюкзачок – она чувствовала, что выдувает ей мокрую спину.
Одни. На тропе, в джунглях вырубленной, в ночи, в облаке затерянные… Видимость всякого отдаления прекратилась. Вокруг едва проступали абрисы ближних деревьев. И лестница извитым ходом вверх уводила, а подъём резче стал, высота лесенок поднялась значимо.
Гудит тона́ми глубокими ветер. Трещат вокруг джунгли. Холод, дрожь по телу. Не видно ничего отвесно вниз и вверх, и пребываешь как на островке в десяток массивных ступеней, в скалу вбитых, и безумием кажется, что очутился здесь ночью – в усталости такой и сонливости. Всюду вода облаков, а деревья здесь (по скалистости) редкие, будто водоросли диковинные раскачиваются.
Начались вскоре перила железные – ледяные; за ними видны скаты каменные, в обрыв устремлённые. Холод в ладонях от перил напомнил нам цепи, Марком Поло указанные. Таким ли чувствовался металл восемь веков назад?
Уж больше часа ждём мы окончания пути, но путь неоконча́ем. И не верится в слепоте, что можно выше подняться, но вскоре различаешь впереди сгущённую темноту – так показываются поросшие на высоте деревья, а значит – подъём продолжается. Когда же не видно их, то чудится, будто поднимаешься ты по лестнице прямиком в небо.
И ветер, как бизонов стадо, налетает. И шелестит, свистит – высвистывает, свищет. Перила влажные, холодные – от них мокнет рукав куртки, отжимать приходится. Холод.
Могли мы дождевик надеть, но от влаги он бы не уберёг – мы бы взмокли изнутри.
Когда останавливаешься, икры подрагивают; ноги приплясывают. Приятное чувство. В нём – здоровье, жизнь моего тела.
Устали мы ждать, предрекать друг другу скорое окончание подъёма. Шли молча, в покорности неисчерпной.
Фонарь мой светил на полметра – мутной световой грушей – и был сейчас, как прежде, бесполезен.
В 4:30 солнце стало вызревать, обмакнуло в мокрое небо лучи розовых оттенков – по серости ночной, как по воде, перья краски разошлись. Готовился рассвет. Теперь поднимались мы в розовый небосвод. Дождь и ветер усилились.
В 4:50 разглядели мы над собой стены; поняли, что лестница заканчивается. Хотела Оля в радости взбежать наверх, но быстро задохнулась – пришлось задержаться для нескольких минут отдыха, затем оканчивать путь в прежде избранном темпе.
Радость наша недолгой была – на вершине не случилось отдыха. Очутились мы в условиях худших. Храм тесным оказался – будто огарок, на пике примощённый, с площадкой крохотной; подле него – несколько до глухости закрытых домов. Ничего больше. Вершина. Пик Адама. Выдувалось здесь всё с мощью великой. Работали фонари, и видно было при скудном свете, как пылью несётся через нас облако мокрое, как вскручивается оно клубами шумными. Холод невыносимый и влага. Встали мы в растерянности и не знали, на что употребить победу свою в восхождении. Что здесь делать? Зачем мы сюда пришли? Рассвет окрепнет через час, но по такой погоде едва ли насладимся мы его красотой. Стояли в дрожи, в сомнениях, в отрешении.
В одном из домов нам отворилась дверь. Здесь есть люди!
В комнате (жёлтая щель за дверью), из которой выглянул к нам смотритель храма, надеялись мы найти тепло, быть может – чай горячий. «You want some tea?» – тихий вопрос. «Yes», – тихий ответ. «Come!» – дверь отворилась шире, и жёлтая щель, растянувшись, показала детали стульев, кровати, красных тряпок.
В комнате сидели шестеро белокожих туристов – они опередили нас на полтора часа. Чайник пыхтел; мы сидели на кровати и наконец довольны были своей участью.
Отогревались здесь полчаса. Под конец узнали, что чай платный – 22 рубля (100 ланкийских рупий) за чашку. Отдали 176 рублей – за восемь чашек (понимали при этом, что без сомнений отдали бы в десять раз больше за такое горячее чудо).
Рассвет состоялся, но красоты не было, так как облако по-прежнему кувыркалось, выкручивалось по вершине. Ветер не ослаб, но теперь, после чая, холод казался умеренным. Приплясывая возле храмовой калитки, мы встречали новоподнимавшихся – нам вслед пришли пятеро туристов. Не ждали мы такой людности, но понимали, что в паломнический сезон здесь и вовсе толкотня случается.
Научились мы от ветра прятаться в небольшом скалистом переходе (здесь устроены две, судя по всему – хозяйственные, комнаты). Там же зябли поднявшиеся вместе с туристами горные собаки – худые до костей, с проплешинами, уродствами. Оля кормила их печеньями, кексами (до которых у нас не было аппетита).
Глаз Олин распух явственно; под ним синяк проступил.
Я был в бодрости, даром, что не спал уже сутки; палец не беспокоил; лишь горло от влажности холодной першило. Неприятностью было и то, что влажность эта объективы все облепила до неоттираемости.
В семь часов объявились из домика (прежде запертого) три монаха буддийских. Отправились они в храм для церемоний; я последовал за ними, но ужаснулся, когда объяснили мне, что к месту святому идти положено без обуви… Сколь беспредельной была радость шагать босиком по мокрому ледяному каменному полу на вершине цейлонской к храму горному – в дождь, ветер и слепоту, плотностью проглотившего нас облака устроенную. От ступней дрожь разошлась по всему телу целиком. Абсурдность происходившего веселила меня чрезвычайно, и улыбку сдерживать приходилось. Где я? Что я здесь делаю?
Монахи приветливыми оказались – не противились фотографиям и даже приняли меня в церемонию. Выдали мне цветочки ритуальные (лучше бы тапки меховые дали) и предложили совместную молитву. Моей мантрой был стук зубовный. Церемония продолжилась поклонением двери железной – за ней, в глубине двадцати метров хранился отпечаток ноги Будды – он оставил его перед отходом в Нирвану. (Люди небуддийской веры заявляют, что наследил здесь не то Саман, не то Адам, не то кто-то ещё; так или иначе, отпечаток закрыт плотно и не видел его никто многие годы – даже монахи мои к счастью лицезрения приобщены не были). Я тем временем фотографировал и старался приспустить штаны – чтобы хоть пятками наступить на брючину. Цветы, однако, возложил со всем, возможным сейчас, почтением. Далее монахи задумали громкие, протяжные мантры – их услышал я от калитки, к которой, по возложении цветов, поторопился на скрюченных стопах. Оля ждала меня с носками и сандалиями – они показались мне тёплыми и уютными чрезвычайно.
Выяснилось вскоре, что все три монаха учатся в РУДН [30] , на третьем курсе… Каждое лето они выезжали в места паломнические. У Оли нашлись с ними общие знакомые по филфаку. It’s a small world.
От монахов узнали мы, что к пику есть старый долгий путь. Узнали, что в ясности, которая бывает здесь нечасто, вид от храма чудесный – облака тянутся внизу, по склонам.
Ясности от дня сегодняшнего мы могли не дождаться; истомлённые холодом, в 7:30 начали спуск. Шли неспешно из-за растревоженных коленок.
Сейчас весь путь представал иным. Всё оказалось в красках, прежде всего – джунгли, расцвеченные жёлтыми, синими, оранжевыми, сизыми цветками, из которых знали мы только жёлтые – орхидеи. Сопровождать нас вышла одна из горных собак-попрошаек.
Столь тесные заросли устроились за перилами, что невозможно понять ни глубину их, ни даль; в сторону тут не удалось бы отойти даже на метр. И всё трещит там кто-то, щёлкает, свистит. В иных местах джунгли вступили на лестницу – нависшими ветками, корнями.
Деревья все по влажности постоянной мхом обросли (словно водорослями) – таким густым, что свешивается он с веток зелёными мочалами. От установленной в пути трансформаторной будки треск электрический разносится непрестанно.
День начался светлый, но видимость ещё долго была скудной – пока не спустились мы окончательно из облака.
Ступени все разной высоты и ширины, отчего не удаётся ритм подобрать удобный.
Если остановиться и расслабить ноги – они заходятся дрожью.
Рассматривали домики для паломников. На стене одного из них обнаружили надпись «За ВДВ».
Несколько раз смутили нас неожиданные тропки, в джунгли отходящие. Мы не знали их цели, но проверить сейчас не решались из-за усталости…
Дыхание ровное, но колючее. Ноги большие, густые. Вниз. Вниз…
В комнату нашу возвратились к 10:15. К пробуждению в 15:00 такое раздулось вокруг глаза Олиного, что опасаться нужно было инфекции опасной. Назначила себе Оля антибиотик широкого действия.
Многое случилось в эти недели; сейчас – только экватор путешествия, значит, не меньше случится в дни последующие. Усталости – ни физической, ни моральной – не знаю. Я ещё не насытился.
05.08. Канди
(Канди с XVI века был столицей острова; оставался царством независимым, даже когда голландцы колонией своей объявили всё побережье.)
Выехали из Далхуси в 9:20 – в Хэттон (других автобусных направлений в эту пору нет).
Олино тело из-за усталости фортеля выдаёт безостановочно. Усугубился глаз; к нему кашель и тяжесть в горле пришли – от дыхания частого в облаке холодном. Кажется мне, что Оля в темпе нашем истощилась. Не ждал я таких слабостей, после поездки прошлогодней по Средней Азии уверен был в крепости Олиного здоровья. «Я всё вперёд и вперёд шагал, слушая песни, что ветер слагал. Шагал, познавая мечты и тревоги, охваченный радостью дальней дороги… А ты свернула. Сошла с пути. Ты стоишь недвижно, не в силах идти…» {33} (Рабиндранат Тагор).
Проезд до Хэттона выдался любопытным, весёлым. Автобус горный ветхим был, изржавелым, что, однако, не мешало водителю повороты нескончаемые в резкости проходить – так, что надвисали мы над чайными склонами.
Ехать пришлось стоя. Рюкзаки укреплены были к водительскому креслу. Держаться от наклонов дорожных двумя руками приходилось, и в непривычке к эквилибристике подобной долго был я неловок – расплатиться не мог с кондуктором (33 рубля за двоих). Радости мне добавлялось от того, что стоял я возле двери открытой (не закрывалась она нарочно), и спрыгивали в неё пассажиры одни, а другие запрыгивали (будто слабы у автобуса тормоза для полной остановки – он лишь приостанавливался, взвизгивая, вскрипывая).
Проезжали мы сёла, городишки горные, но цивилизованные вполне. И дорога протянулась в 1,5 часа. Узнал я, насколько мягче бывает поездка стоячая в автобусе в сравнении с поездкой сидячей в машине легковой, где повороты все к тошноте зовут настойчиво.
От Маскелии встали к нам пассажиры сломавшегося автобуса, и теснота получилась исключительная.
В Хэттоне был часовой отдых. В печали рассматривал я Олин глаз. Опухоль вокруг него посинела, боли приносила жгучие. Веко опускать приходилось пальцами. Оля теперь не снимала очки тёмные – прятала болячку от пыли и внимания людей.
В 13:00 выехали из Хэттона и через два с половиной часа сидели уже в гостинице в Канди – столице горного Цейлона, в центре острова. Об этом месте, надо полагать, указано в Рамаяне: «Ланка, столица царства Раваны, была городом дворцов, храмов и садов; её дома, улицы и крепостные стены были богато украшены разнообразными предметами роскоши, попавшими в руки Раваны во время его несчётных походов. Нарядная одежда и поведение жителей свидетельствовали о благосостоянии властителя страны. В городе постоянно слышалась музыка, повсюду раздавались гимны и песни, прославлявшие Равану. И посреди всего этого великолепия сверкал, как бриллиант, дворец Раваны, тщательно охраняемый ракшасами [31] . В залах дворца едва хватало места для дорогих безделок и реликвий, напоминавших о победах Раваны, а его собственные покои утопали в золоте и драгоценных камнях» {34} . О демонах прошлого напоминают теперь лишь малые скульптуры на старых храмах. Сейчас индусам и буддистам указана здесь святость; дворцы Будде отданы.
Комнату выбрали мы просторную, чистую. Вся грязь получилась от нас самих. Вещи многие нестираны были или недосушены (из-за частых переездов и влаги), а потому запахи издавали скверные. Кроме того, от рюкзаков наших разбежалось два длинных атлетичных таракана – мы их привезли из Далхуси: одного в пакете с шампунем, другого – в аптечке.
Центр города здесь, как и в Бхубанешваре, устроен вокруг озера с островом посередине, но в Канди туризм объявлен несравнимо явственнее – по берегам всем рассыпаны гостевые дома, отели, среди которых есть дорогие – в них, за изгородью, подле бассейна лежат на топчанах белые тела.
День в номере нашем – 950 рублей; цена эта не от удобств, но от вида за стеклянной стеной (на озеро).
В отеле нашем объявлена опасность от обезьян; они (по рассеянности постояльцев) в окошко забраться могут и – хвать, что приглянулось; поймать не сможет ни один полицейский.
Вообще животных, в свободе пребывающих, много нашлось по Канди. Спустившись к озеру для прогулки, обнаружили мы нечто, нам непривычное для центра большого города. На опрокинутом в воду стволе почивал толстый линяющий варан, которого Оля поначалу сочла крокодилом. Подле него по веткам, к озеру притопленым, лежали черепахи, сидели вороны. На соседнем деревце (так же в воду опрокинутом) лежал варан молоденький; по частым веткам сидели бакланы и чёрные диковинные птицы с длинной, гнущейся шеей. Сидели они молча, от бездвижности отвлекались лишь для того, чтобы наклониться вперёд, приподнять хвост и сплюнуть плотной струёй фекалий. В стороне, по берегу, стояли цапли, толстый пеликан. Ещё дальше в окружении голубей сидела на камнях обезьяна. Зверинец этот устроен был естественно – без ограждений и крыльев подрезанных. Когда я к варану спустился – для лучшей фотографии, некому было меня окрикнуть – напугать или облагоразумить. Варан в беспокойстве начал оглядываться ко мне; тревожить его бо́льшей близостью я не захотел.
В дальнейшей прогулке встречали мы птиц разнообразных, названия которым не знали. Варанчика видели, к берегу подплывавшего и чёрный жгут языка высовывавшего. В озере плыли местные утки-Несси – голову на шее длинной выставившие, а тело для неопознанности в воде спрятавшие.
Мир этот озёрный был тесно окружён доро́гой. Грохочут автобусы, грузовики, спешат тук-туки, сигналят машины; прогулка по тротуару, вдоль берега, неприятной получается – дышать сложно от пыльности, загазованности. Нет помощи от деревьев (пусть бы комель у некоторых в десять обхватов стоял).
Вечером, оставив Олю для отдыха в комнате, ушёл я на вокзал железнодорожный – билеты купить в Коломбо. Идти пришлось по шпалам, и доволен я был тем, что впервые увидел шпалы, уложенные не для поездов только, но так же и для пешеходов – промежутки между ними удобные были для шага обычного. Сколь чудесной стала бы Кругобайкальская дорога, если бы устроились там ланкийские рельсы… (А так – многочасовое семенение, до боли головной утомляющее.)
На вокзале очередь была лишь в окошко для третьего класса. Окошко первого и второго класса значилось заброшенным. Пришлось звать кассира – отозвался он не сразу, в отсутствии своём извинился. От него узнал я расписание поездов и то, что билетов в продаже сохранилось много; торопиться с покупкой нужды нет. Решил я на вокзал вернуться завтра – к тому времени выбрать наилучший час отправления (в отсчёте от самочувствия Оли).
Ужинали мясом.
Спать устроились пораньше.
06.08. Канди
(Зуб Будды хранится в Канди с 1592 года; за эти столетия нашлось много желающих зуб этот похитить, уничтожить.)
Ночью палец мой пропах. Событие неприятное. Излишне много скопилось гноя.
День сегодняшний Оле оставлен был на отдых. Я же отправился гулять по холмам, окружившим озеро Канди. По ним ограждены для платного входа парки.
В кратких перелесках отдых был и отъединение для ланкийских пар. Идиллическим представилось соседство девушки и парня, на скамейке сидевших, взглядами ласкающихся, рис с овощами с газетки пальцами подъедающих.
Подлинно интересным оказался заказник Удаваттакеле – по безлюдию своему давший мне прогулку приятную.
Вот уж где москиты свободу до тела моего получили!
Ухоженности в парке мало. Только таблички поставлены аккуратно. Многие тропы в дикости, забыты.
Привлечённый ступенями в зарослях, сошёл я с дороги, но обнаружил, что лесенка быстро оканчивается. Вопреки этому продолжил подъём; в пути встречал обтресканные камни других, отъединённых ступеней. Между ними изредка просматривалась тропа.
Земля листьями сухими закрыта плотно, и шагать приходится в страхе – ждёшь укуса змеиного. Пахнет осенью и цветеньем одновременно.
Шёл я вверх, на холм, увлечённый бестропьем. Всюду толстыми макаронами протянуты деревья – вскручены, перекручены, друг другом оплетены.
Всякое подозрение о тропе исчезло. Дивиться приходилось – к чему устремлены были ступеньки, в сторону эту меня обратившие? Брёл я по-прежнему вперёд – без разбора направлений, движением самим довольствуясь. Благо лес здесь не густой. Только паутины из лиан мешали.
Парк этот зелен, но пригородность чувствуется в нём неодолимо. И шум моторов доносится, и живности здесь нет – пусты переходы лесные от шорохов, скрежета. Выпотрошенный лес. Отзвуком иных джунглей были крики птиц; жутко делалось, когда невидимое горло начинало вдруг с макушек трещать надрывно пожарной сиреной. Я замирал и ждал невольно, что начнётся от звука такого оглушающего опасность какая-нибудь или тревога, но ничего не происходило.
После часового блуждания вышел я к обрыву, под которым дорога прогулочная лежала. Не хотелось мне спускаться к протоптанности; продолжил я прогулку траверсом – вдоль дороги, но вдали от неё.
Увидел вскоре двух туристов. Захотелось озорничать. В кустах остановившись, я принялся в ладошку плачем кабана дикого завывать, а на туристов поглядывать. Остановились они сразу, фотоаппараты подняли, но разглядеть меня снизу не могли. Я повыл ещё, потом одумался. Шалость пустая, конечно, но пусть хоть кому-то лес этот живым будет, дикостью природной населённым.
Я шёл дальше. Рвал паутину, выворачивался из-под лиан. Ветки в плотности перекручены; напомнили они клубы колючей проволоки – у ворот поруганной приштинской церкви. К тому были и колючки, разнесённые по лесу. Неприятность была от тонкой верёвки (не то ветки, не то ствола будущего) с шипами частыми, торчащими вверх, – впивались они неотрывно в кожу, одежду, рюкзак. Понятно стало от глубоких царапин, как крепятся по деревьям такие эпифиты.
Наконец решил спуститься к дороге. Спуск сыпучим выдался, колючим. Собрал я в сандалии сору, но прыгнул на дорогу весело – спуском довольный.
Дальше шёл я по дороге, но недолго. Внизу, по спуску холмовому, увидел оленя, меж деревьев семенившего. Живности такой я обрадовался и вслед оленю побежал. Не думал, конечно, нагнать его, но подозревал увидеть табун лесной. Бег мой по откосу прекратило падение лёгкое; дальше я двигался в умеренности. Оленей не обнаружил, но вышел к проволоке колючей, за которой коттедж построен был; за ним – вид неожиданно чудесный. Я отыскал калитку, вышел во двор безлюдный и понял, что на выступе горном нахожусь, от растительности очищенном и потому пейзажа – вниз (к долине) и вперёд (к горам соседним) – не лишённом. Канди остался по другой сторону; здесь же сёла были и городок небольшой.
Вернулся в парк – поднялся к дороге.
Захотелось мне в прочности лиан увериться. Этим я занялся под широким деревом. Упираясь ногами в ствол, перебором рук поднял себя на три метра и был доволен вполне. Чувствовал, что вес мой лиане не был пределом.
Позже встретил я стаю обезьян. Поведением их заинтересовавшись, следовал за ними не меньше часа. Было их – от малышей до стариков – пятнадцать. Они участие моё в спокойствии приняли, кроме одного – молодого и возбуждение натуральное показывавшего. Был он игрив; бросался на сородичей, скалился, шумел. Потом вдруг торопился ко мне – принимался к ногам моим подкрадываться. Не зная, чем считать поведение такое – агрессией или приглашением в игру, я вынужден был так же склоняться к земле, ухать, дёргать головой. Видя это, обезьянин отбегал, вспрыгивал на дерево; покачиваясь на ветке, выставлял возбуждённый орган. За человека он признавал лишь голову мою – от неё ждал опасности; ноги, к которым крался, почитал чем-то отдельным, несамостоятельным.
Внимание обезьянина не прекращалось всю нашу прогулку. Он подбегал ко мне сзади, щерился от земли. Если проходил я мимо веток, он взмётывался по стволу и на ветки эти с оскалом обрушивался. Возбуждение на теле его не прекращалось. Сородичи обезьянина не показывали мне эмоций даже в близости метровой. Лишь молодые мамаши (с грудничками на животе) держались от меня в стороне.
Ушёл я со стаей далеко от дороги. Шагал сквозь кусты – ждал укуса (если не от злонамеренности, то от испуга).
Жизнь обезьянья скучной представилась, напрасной. Мог ли я ждать другого от животных? Смотрел на лица их, узнавал мимику. И сказать можно, что это – люди, но сознания лишённые, отуплённые до инстинктов одних. Как мысль свободная в созданиях таких появилась? Невольно панспермия помыслится – если не жизни вообще, то сознательной по меньшей мере. Не могу я вообразить эволюцию миллионнолетнюю – пути от взгляда замутнённого до ясной зоркости человеческой; слаб для таких воображений мой ум… Во всём обезьяны чудились умелыми механизмами – пустыми, бездушными.
Шли они направлением одним. Ковыряли землю, листья, норы; заглядывали в дупло; прыгали резво с лиан на деревья; шалили, игрались, ели что-то, расщупывали тела друг друга, нюхались. И всё… Ничего более. Лишь однажды монотонный ход прервался писком. Случился он от драки на дереве. Погрызлись обезьяны две, и гнать одна другую начала. К шуму сбежалась вся стая – не то разнимать, не то участвовать. Свалка на ветках стянулась, кубарем по лианам продолжилась. Звуки были громкие и напоминали кошачью свару.
Не обнаружив восторга желанного от наблюдений за обезьянами, я отправился назад, к дороге.
Через полчаса, кладбище английское миновав (от спуска к которому 30-метровый Будда виден, на соседнем холме усаженный), вышел я к склону, коттеджами уставленному. Спустился по лесенкам путаным в город; для окончания прогулки посетить задумал храм, в котором хранится зуб Будды.
Зуб этот сочтён наиценнейшей реликвией ланкийской, потому в шортах меня пустить к нему отказались – негоже с икрами голыми к зубу приближаться. Недоразумение это уладилось случайностью чудесной – нашёлся возле ворот охранником допущенный торговец дхоти (по необычайной проницательности понял он затруднение моё и помощь соизволил предложить). 120 рублей – и я, тряпкой пёстрой повязанный, вышел на прихрамовую площадь. Подобная удача случилась не для меня одного – много здесь было иностранцев в дхоти того же дрянного пошива.
235 рублей – вход. Обувь нужно оставлять на улице (горячий камень здесь был приятнее холодного и мокрого на пике Адама). Сандалии я, отвернувшись от охранников, упрятал в рюкзак. Так надёжнее.
Зуб увидеть нельзя. Спрятан он крепко, и лежащие на полу буддисты молятся слепо в его направлении; к стенке, за которой должен он содержаться, укладывают красивые трупики лотосов. Довольствоваться пришлось оставленным от князя Салтыкова описанием: «Из-под золотых колпаков и парчовых покровов вынимали и показывали сиамским бонзам [32] святыню буддизма – зуб самого Будды, чёрный, полусгнивший и крючковатый» {35} .
Здесь повстречался мне диковинный ланкиец. Диковинность его была не от бороды длинной, завитой на плечо, но от слов. Начал он улыбкой; я кивнул в ответ; тогда ланкиец указал к зубу, промолвил о святости его. Помолчав, добавил:
– Людям здесь хорошо. Многого не надо. Здесь благое дело. Помоги нищему, положи лотос, слова хорошие скажи. Тебе зачтётся.
Выждав паузу молчания, я хотел идти, но незнакомец продолжил:
– Только не всё чистоте твоей помогает. Иногда и не знаешь, где под видом доброго сделаешь зло. А как узнать? Я из Коломбо. Были там? Да… Хороший город. Там на базарной площади стояли как-то молодые парни. Туристам благие заслуги продавали. У них в корзинках голуби сидели. Они торговали их свободой. Говорили иностранцу: «Выкупите эту жизнь. Вам зачтётся. 1000 рупий [235 рублей] – и отпускайте голубя. Пусть летит. Вы ему жизнь дарите и этим карму себе чистите. Малость, конечно, но ведь и последняя соломинка спину верблюда переломит, а заслуга малая склонить к лучшему перерождению может». И делали. Делали. Платили за голубя. Отпускали. И рады были. Хорошенькое дельце… Уходили довольные. А что? Жизнь подарили. Не знали они, что крылья у голубей подрезаны, что в квартале соседнем их ловят мальчишки и обратно несут – на базарную площадь, в корзинку. Вот как. А птица так долго не может. Помирает наконец. Её раз двадцать выпустят на свободу, она потом и помирает…
Молчание. Молятся буддисты, шелестит одежда. Где-то приглушённо лязгает колокольчик.
– Вот я и думаю. Им действительно зачтётся, а? Ну… туристам. Они-то не знают, что зло делают. Что деньгами своими покупают не жизнь, а мучение живому существу. Благословляют торговцев ловить новых голубей и крылья им резать… Да и разве только там, на базарной площади, получается так глупо, или в жизни вообще всё так устроено? Уверен, что добро делаешь, помогаешь человеку, усталости не знаешь – деньги и радости последние отдаёшь и благодетеля в себе нахваливаешь. А потом вдруг оказывается, что помощь твою навязчивой считали, что добро твоё злом слышали, что человеку тому иные радости нужны… И уверен он, что вредил ты ему заботой своей. Любишь, помогаешь, а по сути – вредишь. Как же так? Что же карма? Что мне в заслугу сочтётся, а что в проступок? Если нет чёткого распределения, то как перерождение лучшее заслужить? Да и возможна ли карма в такой относительности? А если нет относительности, то почему мы не знаем правил твёрдых – делай так, а не иначе. И каждый учитель своё говорит. Странно, да? И мне зачтётся только по благой мысли, по замыслу благому. Хотел голубю помочь, и это – заслуга. Но это – безответственность. Ведь должен ты быть умнее, прозреть эту торговлю благими делами с крыльями подрезанными. Вот о чём речь… Допустимо ли доброму человеку быть глупым? Можно ли добросердечием одним без сознания крепкого человеком хорошим стать? Да и что значит – хорошим? Как судить человека – по тому, что он сделал, или по тому, что мог сделать? Отпустил одного голубя – молодец; но ведь мог отпустить сотни…
Слушал я ланкийца и дивился – не видел он меня, хоть на лицо моё поглядывал. Не ждал он ответов, но лишь вопросы произносил – один за другим. Грустно было, оттого что человек этот, в коробку тёмную запершись, пытается в ней что-то разглядеть. Ум свой пробует в безумстве. Видит, что разговор о карме в тупик ведёт, что религия всегда слабость показывает, когда оценочность какую-либо в императивах считает. Она строит вокруг жизни загородки твёрдые (утверждая что-то плохим или хорошим); но человек растёт, ворочается, крутится и загородки ломает. Им взамен ставят иные. Лицемерие. Грех, карма – на соломенных ногах высятся. И сколько сил, ума тратится на всю эту околодогматическую демагогию! «Зачтётся мне или нет, если я птичку отпустил, а она умерла?..» Такое упорство, и всё – об стену, которую сами себе поставили.
Ланкиец слова свои окончил. Помолчав, отошёл. Разговора не случилось. Мне было бы трудно с ним говорить. Темы такие я всегда начинаю с первопричин, аксиом – от них уже обсудить соглашаюсь какое-либо явление. У человека религиозного аксиомы все божественными оказываются, признаются непреходящими, самоценными (в уверенности, что им ничто не предшествовало). Я же первопричины свои всегда считал теорией, промежуточным звеном (пусть счёт жизни своей начинаю от них, как от точки базовой). Пазлы религиозного человека собраны; терзания в нём – оттого что неуверен он в правильном сцеплении некоторых кусочков. Мои пазлы только начаты; не видя им конца, не надеюсь когда-нибудь их собрать – чем наполнить эту безграничность? Наши терзания – в разных плоскостях жизни. Потому и разговор получиться не мог бы на темы такие…
Близ Канди некогда ходили вольные слоны; их было много. Теперь слонов здесь нет даже в заповедниках – последний закрылся в прошлом году; сейчас для знакомства со слонами от Канди ехать нужно не меньше сорока километров (в питомник). Удивляться этому не стоит. Ещё в 1841 году Алексей Салтыков писал с Цейлона: «Один офицер рассказывал мне, что на одной из охот в окрестностях Канди ему случилось убить сорок слонов (впоследствии я узнал, что один из английских чиновников, знаменитый охотник, проводивший бо́льшую часть времени в джунглях, убил в течение нескольких лет до 700 слонов. Когда я четыре года спустя встретил его на Цейлоне, в списках его уже стоял 1001 убитый слон <…>). Истребление этих животных очень полезно, потому что они опустошают поля и опасны по своему огромному числу, превышающему народонаселение острова» {36} . В наши дни опасность эта окончена победой человека.
В отель возвращался я по берегу; здесь расхаживали утки – обезображенные по голове красными волдырями, туктукеры улыбчивые, мороженщики, в клаксон гудящие для привлечения покупателей. Здесь же в тарелочках маленьких горели очистки кокоса. В озере, несмотря на зреющие сумерки, суетились рыбки.
Ещё утром побывал я на вокзале, где купил билеты на поезд в Коломбо. Второй класс – 50 рублей. Первого класса на этом рейсе не было. С туктукером о встрече условлено было на 5:20, так что сна хорошего не предвидится.
07.08. Коломбо
(Крупнейший на Цейлоне город – Коломбо, население которого сочтено в 5,5 миллиона людей. На территории его расположена официальная столица Шри-Ланки – Шри-Джаяварденепура-Котте.)
Пробуждение для Оли неприятным оказалось, потому что глаз её гноем залепился. Открыть его было непросто. Не видел я прежде ячменей столь обильных. Отёк при этом уменьшился – антибиотики действие оказали.
Завтраком был мне фрукт дракона (вкус приятие вызвал особое – съедаю не меньше двух килограммов в день). Отказался от прочей еды. От каш детских мы перешли к фруктам и орехам. Киви, бананы, манго, мангустины. Фрукт дракона счёл я наилучшим, оттого что вкус его – мягкий, навязчивости не обозначающий. Похож он на киви, раздутый до мякоти белой.
В 6:15 поезд наш отправился, и неожиданно обнаружил я путешествие такое любопытным.
Хотел я записи путевые внести, но к тому не было возможности. Вагон раскачивался, трясся; сопровождалось метание это лязгом, дребезгом настойчивым. Ходуном ходила перемычка между вагонов – скреблась листами жестяными, и ждал я разрыва в напряжении этом, но его, конечно, не случалось.
Узнал я вскоре, что двери вагонные не закрыты и что на подножке поезда сидеть можно беспрепятственно. Именно подножка на первый час сменила мне кресло кондовое второго класса; с неё Цейлон иным представился. Теперь порешил я, что только так и возможно страну эту обозреть, образом единым обхватить – с подножки горного поезда.
Шри-Ланка – пёстрая, густая, насыщенная, будто нектар. Многое собралось в ней, устроилось тесно джунглями разнообразными, горами взострёнными. Если разбавить пейзажи эти, растянуть их пестроту по земле широкой, то страна выйдет хорошая, как сок манговый, но и обыденная – в отличие от гущизны нектарной.
С дороги горной видны отроги и вершины далёкие, леса, по склонам их разложенные, поля многоцветные, ступы белые, хижины соломенные и коттеджи стеклянные, пальмы и сосны, фрукты во множестве, мне неизвестные, Будды стоячие и сидячие – такие же яркие, раскрашенные, как и те, что ругал я в Индии (здесь они смотрелись иначе, почти гармонично). Были среди них трёх-, четырёх-, а то и шестиметровые; одни показывались открыто, другие – из коробки прозрачной.
Города, будто из сора природного собранные; сёла, в которых дома напоминают тканевые заплатки. Между городами и сёлами – деревья, кусты, речки. Всё это – близко, доступно от подножки. Выставлял я ладонь, и трава высокая щекотала меня, ветки царапали. Здоровался улыбкой с крестьянами, вдоль пути стоящими; женщинам, во дворе работавшим, кивнуть успевал. И было желание во мне лёгкую доступность эту до земли кратким прыжком завершить – чудился он мягким. Оставить груз багажа, планов; приземлиться здесь и не торопиться отсюда.
Лязг, треск не прекращались.
Бросало вагон по сторонам так глубоко, что идти без поручней сложно. Скач в ногах, в сидении бывал такой, как случается при прогулке велосипедной по дороге гравийной. Не думал я, что в поезде укачивать может. Но не это (и не опасение выпасть в неожиданном толчке из поезда) прогнало меня с подножки назад, в кресло второго класса. Утомление вышло от грохота перемычки межвагонной и от грохота тоннельного. Кроме того, в тоннеле гарь делалась от локомотива, и нужно было останавливать дыхание.
Взглянув в ущелье под ногами – когда мы проезжали мост, – покинул я подножку (оставил от неё память хорошую). И думал теперь о старании людей, джунгли и скалы прорубивших для скорого нашего пути.
О поездке этой скажу ещё об удивлении от чистых подлокотников и сидений – не было налеплено под ними жвачек, и рукой я не пачкался, как случается часто в поездах наших.
В Гампахе пассажиров отчего-то набилось стоячих в вагон наш сидячий. Обильно запахло людьми, душно сделалось; но Коломбо уже близко.
В столице выбрали мы дом большой (в квартале посольском), где сняли для ночи комнату. 1200 рублей были в обеспечение простора, завтрака и настойчивых репетиций дочки хозяйской в зале по соседству – тренировала она Баха фортепьянного.
Краткий сон приготовил нас к прогулке неспешной по Коломбо.
Столица ланкийская пресной показалась после гор; жаркой излишне. За несколько веков до нас чувства такие же узнали местные правители, переселившиеся на берег для политического и торгового уюта, но вынужденные возвратиться в места горные – для большей прохлады и большего спокойствия.
Спустились мы к океану – ноги смочить на пляже цейлонском, чего сделать в эти дни возможности не имели.
Набережная людной была. И змеи воздушные роем тесным висели над головой. И музыка трёхнотная от лотков к мороженому звала. И пеликаны в десять-пятнадцать килограммов по столбам фонарным сидели – крылья ветру выставляли, чистились и струи тёмные вниз, на дорогу, пускали. И волны шумели пенистые.
Как мало островного в островитянах здешних! Были они на пляже толпой значимой, и не нашлось среди них ни одного, одежду снявшего. Отчего искажения такие получаются? Почему к зубу человека, семь лет в аскезе жившего, тело своё растению уподобившего, не хотели меня пустить с икрами голыми? Знаю, что причин для такой морали найдётся много и логичными они прозвучат, но всё же удивляюсь ей. Мысли эти вытягивал я и смотрел на то, как волна пенится между школьниц (выведенных купаться в форме полной, лишь туфель и носков лишённых). Учитель был с ними – надзирал за безопасностью (в одежде весь; без смущения, что окатывает его до головы).
Последним видением от Цейлона была нам диковинная ступа, поставленная возле маяка космической ракетой. Не хватало ей лишь сопел открытых…
08.08. Ауровиль
(Ауровиль означает «город рассвета». Население – чуть больше двух тысяч людей. Штат Тамилнад.)
День густым был. Заканчивается он в секте цветочной… Не буду торопиться в рассказе. Начну от пробуждения раннего – в 4 утра. Завтрак был фруктовый, вялый из-за сонливости.
В 4:40 мы сели в такси (600 рублей до аэропорта), где встреча вышла неприятная. Ехали мы в салоне тёмном и не могли сразу разглядеть в ногах своих злонамерения. Началось всё зудом от ступней. Я им не обеспокоился, уверенный, что произошёл он от плохо вычищенных после пляжа сандалий. Зуд усилился; начал я вычёсывать ноги. Оля, носки поутру надевшая, сидела в меньшей тревоге, но всё же беспокоимая схожим зудом. Наконец вынул я из поясной сумки фонарь и буйство в ногах своих обнаружил. Пол в такси отдан был муравьям; они бегали всюду, поднимались до колен. Мелкие, красные, они злобу показывали в том, что без причин понятных впивались в кожу. До сих пор по ступням моим рассыпаны мелкие точки укусов. Задрали мы по сторонам ноги, выдёргиваться начали. Когда водитель спросил «Sir, something wrong?» – я по необычности происходившего не знал, что ответить. Так мы ехали в аэропорт – с поднятыми от пола ногами.
В 7:30 наш самолёт взлетел, а к 9:00 уже приземлился в Мадрасе. «И вступили в землю Индийскую, и через четыре дня набрели на пустое жилище индийское, в котором не было людей. И войдя в него, заночевали здесь <…>. И вот пришли двое супругов, с диковинными венцами на головах. И увидев нас, очень испугались и подумали, что мы выходцы из земли иной. И, пойдя, собрали на нас людей. И было их две тысячи человек, и пришли они, и застали нас молящимися Богу, и, принеся огонь, хотели нас сжечь <…>. Они нам говорили, а мы не понимали языка их, а они нас не понимали. И схватив, повели нас, и заперли в месте тесном, и не давали нам ни есть, ни пить. Мы же, грешные, молились Богу и благословляли Бога, десять дней проведя в заточении. И собрались на нас люди, и увидели нас, молящихся Богу, а они думали, что уморили нас голодом. Вывели нас вон из жилища того и погнали нас из земли той, избивая палками» {37} . Так рассказано в древнем тексте о приходе трёх русских старцев на землю Индийскую. Подобной жестокости мы не узнали, но слова «они нам говорили, а мы не понимали языка их… и схватив, повели нас, и заперли в месте тесном, и не давали нам ни есть, ни пить» – сказать можно о таксистах суетных, с криками к нам сбежавшихся, за рюкзаки нас тянуть придумавших; отвечать пришлось грубостью; не помогло; так или иначе, к половине одиннадцатого мы сидели в ржавой, запыленной машине – нанятой нами прямиком в Ауровиль (1300 рублей).
Не было тревог от поездки этой, но Индию мы вспомнили сполна. Закончился островной период; с грустью смотрели мы на свалы мусора по кварталам, перелескам. Вновь гудки непрестанные на дороге. Пыль, жар тяжёлый. Недвижные коровы. Мужчины, облегчающие себя на улице – в канаву. Нищие; чёрные, косматые – будто углём и метлой зачатые – дети. Улыбки другие, наглость искренняя (подивился я в скорой отвычке, когда служащий аэропорта, выход к таксистам показавший, потребовал чаевых за старательность свою).
Всё это в стороне прошло, потому что направились мы в город будущего – Ауровиль, святым местом названный от Шри Ауробиндо [33] и ученицы его Миры Альфассы (коротко – «Мать»). Знали мы, что в поддержке правительства индийского, ЮНЕСКО и людей, творчеством известных, больше полувека назад здесь попытка была сообщество идеальное создать. Результаты хотели мы увидеть лично.
Знакомство с Ауровилем началось от пригорода; сомнения мы узнали о поездке своей – столь никудышным показалось это место. За колючей проволокой – пальмы поваленные. Повсюду ветки разбросаны; брёвна лежат, будто ураган здесь сильнейший ходил. Домов много, начатых в каркасе и брошенных. Узкая дорога; по сторонам – коттеджи стоят, хижины горбятся. О том, что мы оказались именно в Ауровиле, говорили навигатор (без которого, доверившись водителю, мы вышли бы за 12 километров до нужного места) и детали, для Индии простой непривычные: вывески тату-салонов, кофейни, татуированные белые бабушки на велосипедах, бородатые до неуклюжести мужчины на мопедах.
Недоумение ослабло, когда поняли мы оазисное устройство города. В дикости природной (за кактусами, пальмами, солнцем выжженными площадками) встречались здания современные, между которыми – жизнь цивилизованная. Так, за беспорядком деревьев поваленных и зарослей тесных отыскали мы Visiting Center (собранный от бутиков нескольких, кафетерия, магазина книжного; всё это – в оформлении новейшем, с приёмом пластиковых карт).
Дороги здесь протянуты кругами, отчего неудобство большое. В указателях – помощь малая. Ориентиров явных нет, и не знаешь, за каким садом, какой устроился дом. Несколько легче ходить в центре – по Зелёному поясу, где кварталы сделаны в большей тесноте. Карта города (продаётся в Visiting Center) составлена красиво, но для прогулок польза от неё весьма сомнительная.
Для проживания выбрали мы Центральный гостевой дом, поставленный в небольшом отдалении от Матримандира (святилища главного в Ауровиле). Комната просторная при питании трёхразовом была нам в 1150 рублей (в день).
Оля глаз от пыли защищала – ехала из Мадраса в очках и платке. Но в Ауровиле протёрла она лицо салфеткой влажной, и сделалась салфетка чёрной. Что уж говорить обо мне, когда в окно открытое смотрел я смело – для пейзажей южных. Пейзажи те были о земле иссушенной, о реках и береге океанском. Океан был неотступно близок.
Спокойствие в Ауровиле явное. Дом наш тих среди деревьев, красивейшим из которых мы определили баньян [34] . Сейчас, вечером, отдохнуть можно, план последующих дней обдумать в деталях, вновь прочесть описание, Марком Поло к местам южным составленное: «Никто не умеет кроить и шить; круглый год люди ходят тут нагишом. Погода тут завсегда славная, и не холодно, и не жарко, поэтому-то и ходят они голыми; одни срамные части закрывают лоскутом полотна. Как другие, так и царь ходит, но есть на нём вот ещё что; ходит он голым, только свои срамные части хорошим полотном прикрывает, да на шее у него ожерелье из драгоценных камней; тут и рубины, и сапфиры, и изумруды, и другие дорогие камни <…>. Камни да жемчужины, что на царе, сказать по правде, стоят побольше иного хорошего города <…>. И такая тут жара, просто диво! Поэтому-то народ и ходит нагишом. Дожди бывают только в июне, июле и августе, они освежают воздух; не будь их, стояла бы тут такая жара, какой никому не вынести; от дождей и нет тут такой жары» {38} .
09.08. Ауровиль
(Основан Ауровиль был в 1968 году, близ города Пондичерри.)
Сегодня город мы узнали в новых деталях. Сошлось к тому, что признал я перед собой очередного истукана каменного на соломенных ногах.
Слова о любви, разуме, сострадании понятны, привычны. Спросил я об основе, из которой направления эти происходят, и получил объяснения диковинные (для начала – от ауровильцев некоторых, затем – из книги «Учения цветов»). Идеалом бытия назначался цветок. «Каждый к тому стремиться должен, чтобы цветку уподобиться – открытым стать, честным, равным, щедрым, приветливым» {39} . Честным, как цветок…
«Вы должны полюбить цветок, чтобы смог он влиять на вас глубоко. Будет замечательно, если вы сможете наладить с ним душевную связь. <…> Когда вы становитесь восприимчивы к душевным вибрациям цветов, усиливается ваша сокровенная связь с вашей собственной душой. <…> Цветы чувствуют красоту. <…> Цветы умеют любить. Цветение – это их форма любви. Если видите вы, как раскрывается солнцу роза, знайте – в том проявляется её желание дарить красоту» {40} . И так далее – погонными метрами.
Печалит то, с какой важностью пустословие это ведётся, то, каким одиноким должен быть человек, чтобы учение это принять и в общину эту заселиться. Беды все, страдания – в том, что не могут люди одиночество своё утишить. Готовы уехать на край континента, цветочную философию принять, только бы наедине с собой не оставаться, одиночество своё лишь бы не постигать во всей глубине его печальной.
Неужто могут люди взрослые, мыслящие, читать в серьёзности о том, как Мать в четыре года (от рождения) занялась йогой и часами долгими в медитации пребывала, как «чудесный свет над головой её распространился, вызывая активность особую её мозгов» {41} ?.. Именно «мозгов» – перевожу дословно.
Ауровиль зачат от мечтаний Шри Ауробиндо и Миры Альфассы; воплощён был в двенадцати километрах от их собстного ашрама. В ашраме том несколько десятилетий Мать принимала страждущих до мудрости её – со всего мира. Приём этот назван был «пранамой»: кланялись все Альфассе, беды ей свои, прегрешения свои говорили, в ответ благословение получали от руки её, макушкоприкосновенной. Иные с вопросами приезжали о судьбе своей; ответом был им цветок, выбранный Матерью со специального – пророческого – столика.
Были и другие церемонии. Даршаном назывался выход Альфассы на балкон, под которым в трепетности собирались сотни ашрамистов. Мать выходила, смотрела на всякого из паствы своей в отдельности – «чтобы работу внутреннюю провести в них, и чувствовали все при этом силу её сознания» {42} .
Описания эти дополнены рассказами чудесными. Однажды дух цветов, которые садовник изготовился срезать, явился Матери с просьбой о жизни; в спешности особой успела она садовника, ножницы для убийства разверзшего, остановить. Окончанием к повести этой назидание звучало – резать цветы лишь утром и ночью.
Вот другая, не менее популярная среди ауровильцев история. Амулет, Альфассой собранный из лепестков, «силой её заряжённый, спас одного шотландца – обвалилась на него с 30 футов [9 метров] скала, но вреда никакого не сделала» {43} .
Окончанием философии ауровильской были для меня рассказы в «Учениях цветов» о женщине, «даром обладавшей духов природных видеть и фей» {44} . Именно «фей» – перевожу дословно.
Ауровиль в энтузиазме большом затевался – как «надежда последняя от надвигающейся катастрофы» {45} . «Город рассвета» основан был в 1966 году. Холодная война; близок конец всему – в войне мировой, ядерной. Усталость от близости этой. Мир пакостным казался, и многие укрыться хотели в оазисе творческом. Ауровиль задуман был свободным от политики, финансов. Призвали сюда художников, музыкантов, поэтов, архитекторов. Ехали они на юг Индии, надеялись в общине новой спастись от мира злого и одиночества великого. В радости, задоре начался Ауровиль. К тому добавились экологичность, вегетарианство, здоровые привычки и питание. В центре города Матримандир (храм Матери) заложен был шар, в котором зал медитационный собран; от него спиралью галактической город начался. Привечали здесь творцов со всех континентов, и едва ли представить можно все озвученные здесь проявления свободы…
Мир с тех пор переменился. Свобода иная в странах цивилизованных расцвела; нет теперь нужды бежать в даль такую, в окружение сомнительное. Ауровиль, недостроенный, затухать стал. По меньшей мере, нам почувствовалось здесь именно затухание. Мечты былые, идеалы невоплощённые разложению поддались.
Община открыта для новичков. Нас известили, что после отдыха туристического, по заинтересованности, можно заявку подать к тому, чтоб ауровильцем стать. Заодно предупреждение было, что первые годы жить нужно на свои сбережения и только со временем научимся мы жить общинной взаимопомощью.
Неофитов почти не стало. Так говорили сами ауровильцы (среди которых большинство – индийцы; белокожих меньше – несколько сотен). Из европейцев живут здесь постоянно те, кто приехал в Ауровиль лет десять-двадцать назад. Среди молодых эмигрантов тут обитают лишь дети первопоселенцев. Центр Ауровиля отдан прежде всего женщинам от сорока до пятидесяти лет. Только индийцы показывают возрастное разнообразие.
«Ауровиль должен стать городом всемирным, где мужчины и женщины всех стран смогут жить в мире и гармонии» {46} , – заявлено было в одном из ауровильских буклетов. Сошлось же к тому, что всюду объявления висят, предупреждающие женщин о насилии сексуальном, возможном на дорогах Ауровиля – в одиночестве не разрешают им по темну ездить на велосипеде или мопеде. Насилие, нужно полагать, от индийцев устроено, вблизи от города живущих.
Другие объявления призывают подаянием не баловать нищих – в опасении привадить их.
В Ауровиле заявлены павильоны нескольких стран. В запустении пребывают они явном. Мы видели это от прогулки велосипедной (велосипеды получили без платы, от гостевого дома). Чудо подлинное, что ржавые эти двухколёсницы катились по дороге, деталей не теряя! До сих пор болят у меня колени – велосипеды здесь до того маленькие (не для моего роста собранные), что коленками я упирался в руль; неприятности начинались, когда поворачивать нужно было…
Первым павильоном был индийский – нашли мы вокруг него здания диковинные, запустению преданные. В залах просторных, круговых пыльно было, мусорно. По соседству – дом широкий, лишь в каркасе завершённый. Порос он деревьями, кустами; подвал его был нам аттракционом от обилия мышей летучих (появлением нашим переполошённых), пауков, гусениц и слизняков. Поодаль гостевые домики стояли – приятные, открытые для туристов. Сам павильон (здание прямоугольное) изнутри оазисом цивилизации показался, но безжизненным, напрасным…
То же было в Тибетском павильоне (примечательном тем, что первый кирпич в нём положен Далай-ламой).
Многое в Ауровиле рассохлось, проржавело, рассыпалось. При этом строительство в городе не останавливается. Даже русский павильон обещан ауровильцам. Не успевают новое построить, как ветшает старое.
Центр Ауровиля был верным указанием к тому, что задумывался здесь город будущего. В парке, кругами расчерченном, с газоном мягким, с кустами цветущими, вблизи от амфитеатра жёлтого поднят из земли шар огромный, золотыми пластинами облепленный (храм Матримандир). Вокруг него землёй выломленной стоят глыбы красные. В этом – сюрреалистичность яркая. Подивиться можно было тому, что ядро такое, боскетами окружённое, на юге Индии нашлось, вблизи от нищеты густой, невежества тёмного.
Восторга от Матримандира не получилось. Вспомнилась Астана, центр которой выстроен таким же сюрреализмом. Не могли мы с Олей отогнать сравнение навязчивое и признать должны были, что центр Ауровиля – это первая малобюджетная проба европейских архитекторов перед созданием казахской столицы. Матримандир устройством многоуровневым указывал памяти на Пирамиду мира и согласия.
В храм Матери попасть можно только по записи – не для осмотра праздного, но для медитаций в Белом зале. Собственно, медитация, совершенствование внутреннее, йога объявлены лучшим занятием для ауровильцев.
Всё здесь устроено для тихой, неспешной жизни. Продаются во множестве благовонии, ароматические масла, мыло; объявлено вегетарианство. Экологичность – во всём: в солнечных батареях, по придорожным фонарям установленным, в небрежении техникой строительной, в любви к велосипедам, в призывах не мусорить.
Жизнь в Ауровиле возможна полноценная. Здесь открыты садик, школа, поликлиника, исследовательские центры. И всюду портреты висят Шри Ауробиндо и Миры Альфассы. Вопросы жизненные все предвосхищены в книгах гуру [35] – они говорят, как питаться, как делать зарядку, как думать, как детей воспитывать, как склоки семейные в мир обращать. Книги такие составлены привычным видом: поучения, беседы, катехизисы, цитаты…
О глупости философии цветочной рассуждать можно, но по меньшей мере признать её нужно безобидной, к дурости особенной не призывающей. Лучшее из того, что здесь организовано, – тишина. Так устроены деревни реабилитационные для наркоманов, пьяниц.
Мать (виденная на фотографиях разнообразных) по взгляду представилась мне безумной. Иным получается взгляд у Далай-ламы. В тибетском павильоне портрет его висит между портретами Альфассы и Ауробиндо. Не знаю, взаправду ли верит Далай-лама в собственные перерождения, однако в глазах его трезвомыслие явное – не ждёшь от него рассказов о человекоподобных цветах.
Цветов, кстати говоря, обилием которых был известен ашрам Ауробиндо, в Ауровиле почти нет.
Жизнь цветочно-беззаботная здесь у тех эмигрантов, кто сохранил на родине квартиру или дом (с аренды доход получают и живут без хлопот). Так же счастливы рантье. Они могут годами разговоры мягкие под пальмами вести, к океану выезжать, медитировать, думать о страданиях мирских, богам своим молиться, песни петь, мантры вычитывать, бить в бубен; словом одним – самосовершенствоваться. Для тех, кто доходом сторонним не обеспечен, самосовершенствование отягощено работой. Шьют одежды, набивают игрушки, нанизывают бусы, варят мыло, цедят масла, вырезывают поделки, крутят чашки, делают многое другое – для продажи в магазинах туристических или городских. Иные горожане услугами выживают: стригут, массируют, вдохновляют, чистят ауру, накалывают татуировки, учат языкам, сёрфингу, йоге… Те, кому творчество подобное недоступно, занимаются хозяйством сельским, работают на компьютере. В строители, однако, в продавцы, официанты, охранники, садовники не идут – среди рабочих таких видели мы только индийцев.
При всех противоречиях, недостатках Ауровиля жить тут приятно – от тишины, спокойствия. Навязчивости никто не показывает – внимание к нам начинается только от нашего призыва. Где ещё найдётся в Индии такой городок? Не торопятся здесь услужить, заискивать никто не хочет, а повторный вопрос (индийцы приучили выспрашивать всё по несколько раз) может лёгким раздражением отозваться. Однако брезгливость нам была в предостережениях от насилия сексуального, в призывах не соблазняться услугами сексуальными индийских женщин, мужчин, детей…
Каждый занят собой, своим обществом. Встречаются те, кто монологи самодостаточные устраивает и тем безумие показывает; но от них беспокойства явного нет.
На велосипедах ржавых, потрескивающих ездили мы по кругам Ауровиля – всюду проезд свободным объявлен. В городе надзор слабым сделан. Нет камер наблюдения в центральных бутиках; иные здания открыты после закрытия – так к вечеру попали мы в кинозал современный, оформленный сюрреалистично; в темноте, с фонарём, смогли прогуляться между пустующих кресел. Однако в парк при Матримандире входили мы по карточке гостевой (удостоверению жителя временного).
Глаз Олин излечился вполне. На веке заметен ещё бугорок красный – ничтожен он в сравнении с прежней опухолью. По излечению такому была у нас близость…
Живности в Ауровиле много. В комнате нашей жильцами бессменными ползают ящерицы; кричат они громко, резко – в споре об угодьях своих комариных; не ждёшь крика подобного от созданий столь малых. По деревьям хамелеоны промышляют, порой с веток падают – бухают о землю, словно фрукт переспелый. Сейчас под балконом нашим трещит кто-то – уныло, сбивчиво.
Готовлюсь спать.
Вспоминаю старика, сегодня повстречавшегося нам в саду. Белокожий, бородатый, худой – до ровного счёта рёбер. Говорил он, что гуру настоящий должен умереть, но даже в смерти присутствовать незримо подле учеников своих. «Гуру – это ствол баньяна. Знаете такое дерево? – спрашивал старик; не дождавшись ответа, продолжал: – Это дерево осо́бенное. Дерево-роща! Да… Вырастает стволом тонким; погубить его может любой. Крепнет с годами, толстеет. Ветви его ширятся. От веток книзу корни опускаются. Вытягиваются до земли, в землю впиваются; крепнут, толстеют – сами стволом становятся. Так гуру жизнь ученикам даёт. Начинаются они не собственными корнями, но ветвями его – то есть учением. С годами вокруг ствола центрального много появляется стволов-отростков. В толщине своей они не слабее учителя. Десятилетия оканчиваются, века; и вот уж – роща устроилась, от одного деревца начатая, венами едиными оплетённая. И жизнь прекрасна в роще этой: птицы поют, отдыхают волки, лисы; речки шелестят, листья. А ствол-то главный ко времени тому отмирает – не найти его среди прочих стволов; никто теперь не скажет, от кого радость вся началась. Баньян таков. И жизнь гуру такова. Должен он для учеников своих умереть однажды, в забвении пропасть, но духом своим присутствовать рядом – ведь знают все, что был когда-то ствол центральный; сейчас утерян, не помнят имени его, образа, но знают, что был он когда-то… – помолчав, старик добавил: – Такое вот это дерево».
Диковинный старик.
10.08. Махабалипурам
(Штат Тамил-Наду. Прибрежный храм был смыт в 2004 году, впоследствии восстановлен.)
Махабалипурам начался для нас в половине одиннадцатого, когда мы вышли из такси.
Комната отыскалась подле океана (сейчас, вечером, пишу я под грохот его волн). 400 рублей – мягкая цена для такого положения и чистых простыней.
Небо залито серостью; невидимое в нём солнце слепит. Океан бесцветен, лишь слабой зеленью подёрнут.
Домики по улочкам стоят маленькие, пёстрые. Пахнет сырой рыбой; запах этот ветром разбавлен и потому приятен. Рыбаки сидят на пороге – сети правят. По берегу песчаному лодки лежат. Дома некоторые до того близко выставлены к океану, что лестница их куцей стала от подмытых нижних ступеней. Улицы – бетонные; перед дверью каждой мелом составлены знаки защитные. Под изгородью отдыхают коровы белые с рогами большими, а по головам их вороны стучат – выклёвывают себе что-то с коровьих ушей, век, рогов. Коровы не противятся, даже помогают – лучшим положением голову укладывают. Только жмурятся, глаза от клювов охраняя.
Махабалипураму в центре древность каменная устроена – парк широкий из валунов громадных (иные в землю упрятаны, другие лежат в свободе и, кажется, при настойчивых толчках скатиться могут прочь). В скалах храмы тысячелетние выдолблены; по кайме барельефы высечены многолюдные. Проспекты естественные – на поверхности высоких глыб, и гулять здесь можно весь день: лазать, карабкаться, ползти – чтобы возвышение каждое оседлать, в капища все попасть, статуи всякие потрогать.
Смешение религий, династий; и многим строениям век указан седьмой, но ветхости за ними не чувствуется – оформлены они гладко, свежо, подобно Ганешам и Шивам на рынке (в трёхстах метрах отсюда). Даже тропа, некогда для туристов уложенная, видится по раздраенности своей древнее всех храмов.
На площадках, спусках гладких (в века далёкие океаном излизанных) козы шагают и взглядом глупейшими натурами себя показывают. Одни блеют, прыгают, другие ложатся возле пещерок-святилищ, возле человеком выдолбленных бассейнов, вид обретают отрешённости полной.
С верхних глыб (ещё лучше – с маяка) виден Махабалипурам весь, в подробностях. Дома, дороги, пляж, пруд, лотосами заросший, за ним – храм белый; речки, каналы; деревья, в перелески собранные. По одну сторону пейзаж прерван холмами, по другую – океаном. И стрекозы тут летают всюду – в плотности такой, что, руками махнув, ударить можно ненароком сразу три или четыре стрекозы.
Музыка от дороги слышится громкая. Песням этим (должно быть, о любви придуманным) вторят молодые девушки и парни, спрятавшиеся по кустам, пещеркам и даже под глыбами наклонными. Вынужден записать неожиданность индийской романтики. К одной из парочек я спустился ненароком – в поисках краткого пути к очередному святилищу. Жались индийцы друг к другу, улыбались, были приятны в лице, одежде. Разговор их нежным звучал, но сопровождением ему были звуки, потребные лишь в туалете… Не вредили они романтике. К этому упомяну, что в пещерах древних пахнет отнюдь не камнем.
В прогулке мы окончательно признали Индию. Прохожие просили Олю о совместных фотографиях. Появились навязчиво-приветливые люди, дружбу с нами организовать старавшиеся, чтобы затем предложить в продажу сувениры, календарики, ручки. Наконец, отыскался нам преследователь. Индиец в костюме коричневом, с бинди, тимлаком красным. Задумал он ходить нам вслед, поглядывать к нам от поворотов, деревьев. Как и прежде, наивность в этом была особенная – неужто думал он, что незаметен? Так или иначе, часом позже чудак пропал – не объяснив своего интереса.
В каменных нишах на ковре сидели предсказатели судьбы. Будущее они узнавали от попугая (содержали его в клетке). Попугай этот, едва клетка открывалась, выпрыгивал на ковёр; переваливаясь с боку на бок, шёл к коробке – в неё были тесно уложены распушенные по краям карты. Одну из карт он по воле непредсказуемой выдёргивал, бросал хозяину и тем предрекал судьбу клиента. Хозяин толковал выпавшие знаки, а попугай возвращался в клетку – за вознаграждением (кусочком чего-то серого, твёрдого, но, кажется, вполне съедобного).
«Здравствуйте! Первый раз в Индии? Вам здесь нравится? Хорошее место… Я сам студент, – мужчина лет пятидесяти; одет гладко, но дёшево, ветхо. – Здесь можно многое рассказать об истории. Вот мяч Шивы! Посмотрите, какой…» «Нам не нужен гид». – «Что вы! Я же говорю, что… студент, учусь». – «Мы вам не дадим денег». – «Зачем вы так? Разве я похож на попрошайку? Я только хочу поговорить с вами. Ведь вам наверняка любопытно было бы узнать историю этого места… Впервые в Индии, да? Какие красивые храмы. А вот посмотрите на сувениры – я их сам делаю». Достаёт из-за пазухи коробку, открывает; мы не смотрим. Следует за нами, говорит что-то. Наконец я останавливаюсь. Пальцем указываю в сторону и говорю: «Иди». На этом всё заканчивается. Единственный способ отвязать от себя торгаша.
К вечеру спустились мы до берега, где храм – скромный, коровами каменными обставленный. Была тут древность подлинная. Скульптуры на стенах измыты океаном до неузнаваемости. Был храм никудышно мал в сравнении с известными храмами Индии, но оказался одним из наиболее знатных, потому как сочтён тут наидревнейшим среди каменных храмов. Представить можно, как Шива, гигант гористый, забавлялся на берегу, песком играя; подобно ребёнку, замки песочные поднимающему, поднял он святилище это – чу́дное и назначенное океаном к разрушению.
Сегодня учинил я две глупости. Первой футболка была, купленная на Цейлоне, – от сборной команды шри-ланкийской по крикету. Не предугадал я соперничество её твёрдое с командой индийской; весь день в кварталах разных разговоры о себе слышал, насмешки. Хуже было вечером на пляже, когда вражескими цветами заинтересовались индийцы молодые – шестеро, в подпитии очевидном, с глазами красными. Долго они шли за нами, разговоры предлагали, смеялись. Страха от близости этих худых, болезненных ребят не было, но, помня Агру, я не давал им приблизиться к Оле – вёл её перед собой.
Пляж в Махабалипураме – широкий, далёкий, песком серым укрытый. В туманности предсумеречной, при замусоренности, при облезлых каруселях, палатках торговых, в близости от порта (из тумана, вдали проступающего трубами и кранами) чудилось место это предапокалиптическим – не могу вспомнить лучшего слова для восприятия своего. Людей немного, меньше сотни.
Каким был берег этот, когда Нарасимхаварман заложил храм Прибрежный? Какие мысли сплетали индийцы, в те века здесь прогуливаясь? Изменилось ли сознание человеческое, если книги, в эпоху ту записанные, во многом исчерпывают размышления современные? Всякий раз печаль моя в оттенках оказывается выраженной предками моими – ясно, коротко, исчерпывающе (тем же Экклезиастом); выразить её лучше не смог бы я. Шагнуть нужно от грусти истинной к радости истинной. Если радость моя в осознанности состоит, если осознанность в письме определена, то шаг такой – в написании произведения светлого.
Так думал я, в молчании шагая по пляжу, глядя на людей, в одежде купающихся. Были тут и девушки в парандже полной – ни глаз, ни рук, ни ног не видно. Наибольшую откровенность позволяли мужчины – плавали они (точнее, под волнами барахтались) в майках и шортах. Один только ребёнок тельце показывал. Странностям таким мы уже не удивляемся, как и тому, что сегодня три часа пришлось ходить с бутылкой пустой из-под воды – урн нигде не случалось.
Вторую глупость я придумал, когда возвратились мы от темноты в свою комнату. Захотелось молока горячего, и греть его решил кипятильником… Молоко желтеть начало, заподозрил я неловкость – поднял кипятильник, и такой дым горелости пошёл, что вокруг непроглядным всё стало. Долго ещё, после кашля, мы проветривали комнату и глупости моей смеялись.
Затем была близость.
Иллюзия плотского счастья неизживна. Слишком много ей определено силы природной; к тому же привычка социальная влечение усиливает. Я привык желать. Нет, физически это не истощает меня; могу я мыслить, работать после долгой близости; угнетает лишь то, что иллюзия эта способна ослепить. Нужно укреплять свой ум к осознанности даже в подобные минуты. Тело берёт своё, но ум тронут быть не должен. Я мужчина и до поры, физиологией определённой, вынужден исполнять желания свои [36] . Брахмачарью [37] разумной считать не могу. Ведь « отказ от предмета желаний без отказа от самих желаний бесплоден, чего бы он ни стоил » {47} . Если желание укрощено, обет не понадобится.
Нужно разграничить телесное и умственное. Не заботится разум едой, испражнениями, сном; так же он равнодушным должен быть к вожделению. Царь Шикхидхваджа из «Йогавасиштхи» свободу истинную, мудрость получил не в отрицании своей плоти, не в пренебрежении к женщинам; он не прятался от любви, но назвал её ничтожной, а потому недостойной его переживаний – не стремился он к ней и не отказывался от неё; если жена просила о плотском, не возражал, но сам нежностей не искал [38] . Если отрицаешь что-то, значит – неравнодушен к этому. Преодолеваешь по-настоящему лишь то, о чём забыл, чем не беспокоишься вовсе (как тот монах из буддийской притчи, который оставил девушку возле дороги [39] ).
Миф про Шикхидхваджу интересен ещё тем, что видно от него, каким благоденствие духовное представлялось мудрецам индийским. Подлинные мудрость и счастье неподвластны случайности. Счастье, готовое рухнуть в единый миг от чьего-либо произвола, ничтожно и только вредит, потому что ничтожность свою скрывает, представляется истинным. Разипурам Нарайан в пересказе мифа «Чудала» писал: «Кумбха объяснил ему, что отказаться от всего, чем владеешь, недостаточно. Нужно ещё научиться жить только самим собой, чтобы обрести такую уравновешенность разума, которую не в силах поколебать противоборство добра и зла, мук и радостей, потерь и приобретений, ибо человек достигает самообладания, спокойствия и невозмутимости только тогда, когда его духовная жизнь не зависит от внешних обстоятельств» {48} . «Он [Шикхидхваджа] сделал такие успехи в своём духовном развитии, что ему было безразлично, уступить или оказать сопротивление; он не видел разницы между этими двумя действиями, так как всё, что было с ними связано, лежало за пределами его “я”» {49} . Состояние похожее на смерть, но не смерть. «Чтоб в душе дремали жизни силы, чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь». Это – внутренняя сторона осознанности.
Контрацептив остался один. Это может оказаться ограничением естественным, потому что к аптекам индийским подозрение у нас явное.
Я позволил себе задержаться с Дневником до позднего времени (второй час ночи), ведь автобус наш из Мадраса в штат Гоа отправляется завтра в 16:30, спешки не предвидится. Спать можно без будильника.
Смотрю на Олю, спящую подле меня; думаю, какими будут её чувства, когда прочтёт она эти строки.
11.08. Панаджи
(Штат Гоа – наименьший среди других штатов Индии по населению и территории. Столица – Панаджи, иначе называемая Панджим.)
День вчерашний был путевы́м. От Махабалипурама до Мадраса ехали мы рейсовым автобусом – полтора часа в тесноте индийской, пахучей. Окна без стекол были, в решётках, и пыль вся к нам заметалась.
Автобус (точнее, водитель его) тем запомнился, что бойко шёл обгонять любую, показавшуюся ему излишне медленной машину: выкатывал на полосу встречного движения, начинал в безумии гудеть всем, кто ехал на нас – да так настойчиво, словно это они нарушали правила. Так, под гудение надоедливое, обгон продолжаться мог до нескольких минут или прекратиться – при появлении встречного автобуса или грузовика.
Балаган такой на дорогах индийских неизбывен, но за весь месяц мы видели только одну аварию (с присутствием зевак и полиции). К тому, пожалуй, можно выдумать две причины. Во-первых, скоростей исключительных здесь не знают (не так хороши машины и разогнаться не позволяет плотность движения). Во-вторых, малое подмятие аварией здесь не считается (прежде всего для рикш и машин несвежей краски).
На автовокзале Коямбеду мы оказались заблаговременно; позже я хвалил себя за это – выехал автобус на десять минут раньше назначенного по билету времени. Больше получаса катались по городу (собирали пассажиров), потом наконец отправились в путь: от побережья восточного – к побережью западному.
В автобусе мы увидели индийцев среднего класса – по-европейски одевающихся, аккуратных в бороде, причёске, туалетной водой обрызгивающихся, в смартфоны говорящих. Объяснить такое соседство может цена билетов – 680 рублей на одного, что в три раза превышает цену железнодорожную для sleeper-класса (сравнение условное, потому что по́езда прямого из Мадраса в штат Гоа нет). Однако при ухоженности внешней благородства в поведении не объявилось. Так же бросали они мусор себе под ноги (в метре от пустующей урны), так же звуками туалетными обменивались и так же скученно торопились к посадке в автобус, будто ждали, что место их займёт другой, более проворный пассажир. Перед цветом нашей кожи индийцы эти не робели – толкали нас в проходе, отвечали без улыбок на вопросы и смело обваливали кресло на колени – не испросив о нашем удобстве.
О поездке, продлившейся почти сутки (прибыли мы с опозданием двухчасовым – в 13:00) скажу лишь то, что была нам пытка индийскими фильмами (сидели мы подле телевизора, на втором ряду) и холодом – от натужно работавшего кондиционера. Засыпа́ли под грохот пляски; просыпались, чтобы на драку посмотреть; засыпали вновь, когда свадьба заканчивалась…
Во время одной из остановок в автобус зашёл брамин – для него фильм, едва начавшийся, был приостановлен. Брамин обтёр кабину водителя цветами, повесил венки на зеркало и на портреты Шивы, Ханумана; после этого обкурил кабину чем-то, в кокосовой скорлупке тлеющим; слова́ нужные в серьёзности тяжёлой пробормотал; удалился (заплатили ему, надо полагать, заранее). Теперь могли мы ехать, уверенные в безопасности дорог. Фильм продолжился (посвящённый, между прочим, ауровильской Матери).
В час ночи телевизор погасили. При очередной остановке я добрался до рюкзаков – в защиту от кондиционера принёс спальники.
Проснулись мы вблизи от Маргао, за два с половиной часа до прибытия предполагаемого; здесь уже признали Индию диковинную. Нет людей, нет толкотни; бродяги не спят на остановках, хижин убогих не наставлено. Мусора нет. Только зелень – густая до непроглядности и домики малые, чистые. Дождь шумел тяжёлый, окна выслепивший рябью; смотреть можно было лишь вперёд, в стекло водительское, дворниками выгребаемое. Ехали медленно. От ливня дороги излишне чистыми казались. Не бывает так в Индии…
За́росли, поля рисовые, рощи пальмовые, речки, мосты, от которых океан виднелся. Обочина пустовала от сёл и построек одиночных; не нашлось тут даже хибар картонных для бродяг.
Когда мы увидели Маргао, почувствовали себя в старом европейском городке. Не нужен был путеводитель, чтобы узнать здесь колонию португальскую. О том говорили дома крепкие, улочки тесные и таблички с именами, названиями португальскими.
В предчувствии хорошем вышли мы в Панаджи – столице Гоа. Отмахались от таксистов, рикш; устроили себе прогулку с рюкзаками.
Дождь прекратился. Солнце светило от неба гладкого, в лужах всех отражалось ярко.
Чистые, ровные улицы. Индианки с открытыми до колен ногами, в джинсах, в обтягивающих сарафанах. Отели, банки, плакаты рекламные, и всё это зеленью притоплено. Переулки путаные, стены обветшалые – как в кварталах старой Европы. Крохотные балкончики с извилистыми балясинами, черепичная красная крыша, ставни волнистые. Мусора нет, в канаву водоотводную не испражняется никто, не пахнет туалетом. Это ли Индия?
Приют мы нашли в доме малом. Хозяева, на первом этаже оставаясь, отдали нам этаж второй – утлую комнатку и душевую (которые, собственно, составили всю верхнюю половину дома). 400 рублей в день. По голосу хозяйки, цену эту назначившей, я понял возможность торговли, но увидев простыни чистые, аккуратность общую в комнате, торговлей пренебрёг.
Освежив тело холодной водой, вышли мы для более внимательной прогулки.
Панаджи – город малый, даром что столица. Пройти его насквозь шагом неторопливым можно в два с половиной часа.
Тесные улочки – с лестницами мшистыми. Перила по лестницам из камня массивного вытесаны, однако успели надломиться. Церкви старые, дома – табличками вековыми отмечены с указанием хозяев или строителей.
В переулках от стен обшарпанных кресты виднеются, статуэтки Иисуса, Девы Марии. В домах старых мы трижды были гостями краткими, и везде замечали уют, пристойность, порядок. Хозяева нам попадались из тех, чьи предки португальцами были (или тех, кто без родства такого тем не менее португальский знал своим третьим языком). Разговоров не складывалось – довольствовались мы обзором комнат, чашкой чая, подтверждением тяжких зим и следов медвежьих в России: «Да, да, холодно. Да, медведи…»
Не та Индия; лица не те. Парк утлый (как и все домики) подле моста ограждён, и газон в нём чистый, ровный. Нет под кустами нищих, на траве не ютится семья, а цветы никто мусором не мнёт. Один только попрошайка нашёлся нам на лестнице церковной, но и тот опрятен был в одежде, негрязен.
Видели мы индианок с плечами открытыми. Видели мужчину, всего в пирсинг заколотого, браслетами, кольцами обвешанного, в ботфортах, в шляпе ковбойской. Видели тонированные BMW, от музыки вибрирующие. Казино, рестораны дорогие. Виллы европейские, на холмах построенные.
Прямым напоминанием об Индии были здесь только рикши, но и тех встречалось немного (и конструкция мопедов оказалась иной – с дверками).
Дождь повторялся – краткий, но обильный. Лил он, солнца не прекращая, а капли его мелкие были, мягкие.
На дверях одной из гостиниц увидели мы советы туристам. Назидание прочли о болезнях, проститутками местными передаваемых. Полагать нужно актуальность такого назидания.
Алексей Салтыков писал: «<…> но три её мужа, мать и отец вырвали у меня деньги из рук; я был один, и о сопротивлении нечего было и думать. Впрочем, мужья не только не ревнивы, но даже навязывают своих жён желающим. Отцы и матери точно так же поступают с детьми» {50} . Запись эта имеет созвучие от веков более ранних. Три мужа одной жены и навязывание жены проституткой – было в Индии обычным явлением. За четыре столетия до князя Салтыкова то же указывал Афанасий Никитин: «В Индийской земле гости останавливаются на подворьях, и кушанья для них варят господарыни; они же гостям и постель стелют, и спят с ними <…>. Ведь это жёнка, приятельница, а тесная связь даром – любят белых людей <…>. А жёны их со своими мужьями спят днём, а ночью они ходят к чужеземцам и спят с ними; они (жёны) дают им (гостям) жалованье и приносят с собой сладости и сахарное вино, кормят и поят ими гостей, чтобы их любили. Жёны же любят гостей – белых людей, так как их люди очень черны. И у которой жены от гостя зачнётся ребёнок, то её муж даёт жалованье, и если родится белое, то тогда гостю пошлины 18 денег, а если родится чёрное, тогда ему ничего нет; а что пил да ел – то ему было законом дозволенное» {51} .
Если же говорить о многомужестве, то вспомнить можно эпоху ещё более раннюю – седьмой век до нашей эры. Одна из героинь «Махабхараты» – Налаяни – мужа своего любила, но когда обещал тот исполнить любое из её желаний, произнесла: «Я хочу, чтобы ты любил меня, как пятеро мужчин, чтобы ты поочерёдно принимал пять разных обличий и вновь становился одним человеком, превращаясь в самого себя» {52} . Желание это было исполнено.
В той же «Махабхарате» другой пример многомужества – в рассказе главном о братьях Пандавах. Устроил царь панчалов сваямвару [40] , чтобы дочь свою – Драупади – замуж отдать. Ловкость требовалась в стрельбе из лука. Претенденту каждому назначено было попасть в цель, за дисками вращающимися укрытую, да так, что цель саму увидеть можно лишь по отражению в луже. В сваямваре победил третий из пяти Пандавов – Арджуна. Забрал он невесту, домой привёз. Пандавы тогда скрывались от Кауравов и должны были для сокрытия своих настоящих имён еду собирать от подаяний; прежде приносили они домой лишь гроши, объедки, а теперь привели красавицу богатую; захотелось Арджуне шутить о такой новости, крикнул он: «Мама, смотри, какое мы подаяние принесли!» Мать – Кунти – не выглядывая из кухни, ответила: «Молодцы. Разделите это поровну». Были тут ахи, были охи. Причитали все и стонали. Арджуна побледнел, мать расплакалась – просила забыть её слова. Но Пандавы не могли ослушаться родительского слова и должны были… разделить жену на пятерых. Каждый стал ей мужем равным… Несмотря на козни Кауравов, остались они счастливы, и дружно прожили несколько тысячелетий. В рай никто из них не попал – не смогли они улететь туда, отягощённые мелкими грехами. Драупади в рай не попала из-за того, что любила Арджуну чуть больше других мужей [41] …
Видели мы по ночам (в городах предыдущих) женщин, двигавшихся странно вдоль дороги, возле домов или свалок, но не могли бы наверняка заподозрить о них что-либо скверное. Для меня лучшей защитой от внимания проституток была Оля; одиночные прогулки могли быть иными. Кроме того, едва ли женщины местные избалованы вниманием туристов; если не брезгливость естественная, то, по меньшей мере страх перед болезнями множественными должен отвратить даже самых распутных иностранцев от знакомства с продажной индианкой (им в упреждение и вывешены объявления, подобные тому, что видели мы на гостиничной двери).
…
К полуночи узнали мы разочарование в здешних фруктах и ягодах. По сумеркам купили киви, яблоки-чика, арбуз (вида чудесного) и две дыни. Вечернюю прогулку окончив, ждали мы радости вкусовой, но арбуз оказался мерзким изнутри (с мякотью трухлявой); дыни съедобные были, но вкус имели скверный (есть их можно было ложкой, словно сметану). В разочаровании выбросили всё; надежду утешиться сохранили до киви. Те, однако, кислыми оказались. Довольствовались яблоками-чики (чересчур сладкими).
Сейчас, в ночи, разговоры были о еде. От арбузов астраханских мы с Олей закончили баклажанами жареными (с чесноком, орехом грецким), картошкой варёной (с луком ялтинским), говядиной тушёной (с подливом). Повторяю это на бумаге, а рот слюной исходит.
13.08. Панаджи
(Васко да Гама основан был в 1543 году. С тех пор численность его населения изменилась мало. Нынче здесь проживают 58 тысяч человек.)
Ночью дождило – шумно, напористо. Утром Панаджи был влажный, скользкий.
Всякий лестничный подъём опасным оказывался – камень слизью зелёной затянут. За стенами своих домов хозяева ухаживают (скребут их от грибка чёрного); лестницами общими пренебрегают – ознаменовал я это падением широким, во всю спину. Падая, заботился о фотоаппарате, отчего упал неприятно, болячку долгую усадив под лопаткой.
Подножную слизь нашли мы и в городке соседнем – Васко да Гама, куда приехали к одиннадцати часам (тридцать минут на рейсовом автобусе; радиальный выезд). Здесь, однако, улочки некоторые были густо посыпаны хлоркой.
Перед описанием города нового скажу о странности, мною не разгаданной. Уже в четвёртый раз слышу я от незнакомца похвалу своей бороде. Все четверо были парнями двадцати-двадцати пяти лет (от того, что встретился мне в Дели, до сегодняшнего, в автобусе соседом оказавшегося); слова их были одного порядка: «У вас замечательная борода». «Мне нравится такой стиль». «Вы сами стрижёте?» Далась им моя борода! Объяснение предположить могу одно – борода у меня цвета рыжего, и мужчинам местным чудится это благословением. Пишу так, потому что видел индийцев, чёрную бороду красивших хной – в оранжевый цвет. Встречались и те, что волосы всей головы до рыжих оттенков вымазывали.
В разговоре про цвета́ нужно вновь упомянуть трепетность индийцев до белой кожи. В современных болливудских фильмах лучшие роли доверены светлокожим актёрам (большим контрастом видятся фильмы старые, где все темны и даже черны). Особенность эта проявляется и в рекламе: кремы для осветления кожи предлагаются; индийцы, пиццу запёкшие и семье скормившие, радуются – от радости такой заметно светлеют кожей. Диковинно всё это, но… я отвлёкся от Васко да Гамы.
Васко (так коротко называют его местные жители) сравнить хочется с фрегатом, пришвартованным к Индостану в далёкую эпоху португальских королей-завоевателей и с тех пор, словно ракушками, обросшим жизнью индийской.
Город плесенью, грибком чёрным пропитан. По окраинам заросло всё зеленью – мосты, хижины, столбы и протянутые от них провода обомшели листвой.
В центре Васко – здания серые, громоздкие; в них европейского мало. Улицы широкие, дворы просторные. Грязи больше, чем в Панаджи, но свалки всеобщей нет. Нищие встречаются; нашлись даже те, кто в привычном «hello-o-o» за руки хватал, но досаждали они редко.
Сам Васко скуден до мест туристических. Здесь – перевалочный пункт. Отсюда едут на пляжи – понятно это из обилия автобусов, пляжами помеченных, и от того, что срывающиеся к нам таксисты предлагали именно «Beach! Beach!» (наиболее проворные предложения свои из русских слов составляли). В знакомстве местных жителей с людьми русскими убедили нас продавцы ювелирных и сувенирных магазинов, выходившиt навстречу и понятным слогом произносившиt: «Заходите! Смотрите! Дёшево!»
Жар сегодня был особенный. Однако не помешало это дождю случиться трижды – кратко, но мощно, будто включался над нами водопад.
Отказали очередному таксисту в поездке на пляж; вышли к холмам полуострова – отстранившегося от Васко на несколько километров в океан. Оказалась там зона портовая, промышленная, тюремная, но прогулка, пусть солнцем испечённая, запомнилась мне приятной (Оле напекло голову до шуток непонятных и песен советских, так что ей чувства, должно быть, сложились другие).
С холмов виден город весь, и прежде всего порт – широкий, в кораблях больших, ржавых. Если бы не грохот и движение точек чёрных (рабочие), представить можно было бы порта заброшенность давнюю, устойчивую.
Растительность здесь (по влажности и жаре) густая. Деревья многие до неузнаваемости заросли венками моховыми – похожи на кикимор карнавальных.
В промзоне улочки устроены подлинно индийские – с помойками, от зноя пахнущими резко, с коровами, из этих помоек для молока лучшего обедающими, собаками плешивыми, шороха всякого пугающимися. Но людей здесь мало. В сторону – к цистернам монументальным – вовсе безлюдно. Только ящерицы вдоль дороги бежали да во́роны кричали.
Тюрьма оказалась тихой, мшистой. Не могли мы понять населённость её или заброшенность. По кайме забора тесно усажено битое стекло. Серой коробкой стоит судейским дом, за ним – дома простые, неизменно чёрные от порога до крыши (из-за грибка). Отсюда виден океан, песчаный пляж. Продолговатые буруны к берегу спешат; им в отражение по небу катятся облака редкие, вскученные.
Наконец от тишины промзоны возвратились мы в центр Васко. С холмов спускаясь, видели дома, в зарослях изгнивающие. Лестницы, зеленью облепленные, пороги, корнями изуродованные. В окнах заметна жизнь чёрная, бедная.
В городе магазинов много, спиртным торгующих. Людей курящих больше. Индийцы носят здесь футболки Chelsea, Messi.
Не нашли мы в Васко уюта, от Панаджи примеченного; при первой же темноте вышли к автобусу – выезд радиальный окончили.
К завтрашнему вечеру мы простимся с Гоа для знакомства с Бомбеем, для поездки долгой на север Индии, для ожидаемых с трепетом Пенджаба и Кашмира.
Ужинать случилось в вегетарианском ресторане. И ворчали мы о том, что для кухни такой названия сохранились мясные: омлет, котлета, бургер, сэндвич. Омлет – без яиц, бургер – с котлетой овощной…
14.08. Панаджи
(Город Старый Гоа иначе назывался Велха Гоа; сейчас южнее найти можно новый город с таким же названием – Velha Goa, отчего бывает путаница.)
Через три часа выходить нам к автобусу до Бомбея. Успею записи сделать о дне сегодняшнем.
Резвости значимой мы не показали – позволили себе отдых. Съездили в Старый Гоа и тем любознательность свою ограничили.
Переезд был двадцатиминутным; о нём скажу лишь то, что сидеть в автобусе индийском сложнее, чем стоять, – сиденья в них тесные (такие, что на двухместность эту могу я рассесться один и твёрдо).
Старый Гоа – это не город и даже не село, это – место . Памятниками тут могучие церкви стоят. Величиной стен и алтарных возвышений португальцы, нужно полагать, утвердиться хотели здесь навечно. Не получилось.
Возле дороги музей устроен, где плиты гербные собраны – из тех, что лучше сохранились; прочие разбросаны по лужайкам, плесени отданы на съедение. Здесь же стоят три церкви-великана (такими кажутся они в сравнении с индийскими храмами).
Вновь подметили мы: туристы в прогулках ограничиваются тем, что предписано путеводителем или гидом; нет им интереса рвануть в сторону – к промзоне, к обрыву, к зарослям. Так, не нашли мы никого в церкви, над рекой Мандови построенной – с видом долгим на заречье, на леса береговые (вышли сюда, проплутав от главной дороги).
Лишь три посетителя случились на развалинах наиболее могущественной (по величине стен своих) церкви португальских времён. Высота церкви показана одной необрушившейся гранью – издали похожей на башню, обглоданную ракшасами. Всё тут в руины обращено, плесенью и растительностью охвачено. Туристам дозволен осмотр малый – протянуты ограничители железные; но сторожа́ в тени сидят, разговорами тешатся, и я без препятствий пробраться мог вглубь лабиринтов старины.
Скользкий пол, ступени; комнатки, палаты. Коридорчики зелёные, в конце которых гущина лесная таится. И было мне забавой, в обваленное помещение пробравшись, представлять здесь жизнь минувшую – как ходили, о чём думали, беседовали тут монахи, сеньоры португальские. Средь них мог быть поборник разума – Богом для безопасности укрывался, а мысли те, что моим созвучны, произносил. Мог ли представить он порушение стен могучих и небрежную прогулку мою, в которой о нём, в полтысячелетия удалённом, размышляю?.. Обида во мне, печаль за миллионы людей, погибших безвозвратно и не узнавших высоты́ человеческих наук, искусств. С какой трепетностью прочёл бы астроном тех лет учебник современный; или химик; или физик. Как бы подивился художник средневековый, фотографию узнав. Путешественник – самолёты, шатлы. Писатель – магазины книжные. Обида во мне за себя, потому что человеческих высот не увижу, не узнаю, каким явится однажды разума торжество.
Набродившись вдоволь по руинам, отправились мы обедать.
В кафе новую странность утвердили для себя от индийцев. Нищие босиком ходят. Это понятно. Люди среднего и низкого достатка в шлёпках, сандалиях ходят. Это понятно. Но почему те, кто одеждой жизнь хорошую показывают, надевают по такой жаре ботинки голенастые – из тех, что беру я в осенние поездки или даже зимние? Это мне непонятно. Быть может, обувью явно дорогой статус здесь особый устанавливается?
Обед был из супа вегетарианского, лапши с овощами, мангового ласси.
…
[Здесь должен я Дневник прервать. Записи последующие сделаны в автобусе ночном; невозможно их понять, если не знать истории предварительной. Сейчас, Дневник перепечатывая в компьютер, должен я всё случившееся восстановить – тогда для этого не было возможности.
Итак, из Старого Гоа вернулись мы в Панаджи – готовиться к отъезду. Вечером, за два часа до автобуса, вышли мы пить чай в прибережное кафе. Поднялись по лестнице, излишне крутой – с высокими серыми ступенями. От столика одного речь русскую услышали – два парня, вида не лучшего, слов неприятных. Сел мы в стороне от них. Чай заказали и салат овощной.
Людно было, шумно. Захотелось мне с парнями русскими поговорить – узнать, как и зачем они здесь живут. Поднялся. Оставил Олю.
– Можно? – спросил я, указав на стул. Мне не ответили. Я сел. Разговор за столиком стих. Парни уныло покачивали в кружках чай. На одном – бейсболка; из-под неё обвисают белые кудри. Другой выстрижен наголо. Татуированные руки; пирсинг в бровях, носу, ушах. Глаза тяжёлые, широкие.
– Вы здесь живёте? Или так – туристы?
– А чё надо-то? – тихо спросил тот, что был в бейсболке.
– Ну если живёте здесь… Интересно – как, зачем. Я тут недавно.
Бритоголовый гикнул. Посмотрел на соседа.
– Тоже хочешь, что ли? – Тот, что в бейсболке, допил чай.
– Чего?
– Ну живём здесь, и дальше чё? – спросил бритоголовый.
Я повторил, что не видел в Гоа русских, что интересуюсь тем, как они тут живут. Глупая затея. Разговор не получался.
Подошёл официант. Поставил мне чашку чая. Он видел, что я пересел. Спросил про салат. Я наскоро показал ему, чтобы салат сюда не приносил.
– Сахарку?
Тот, что сидел в бейсболке, показал на горкой сложенные кубики тёмного тростникового сахара. Я взял один. Размешал.
Спрашивал парней, чем они занимаются, как зарабатывают, откуда приехали. Ответы были бестолковыми.
Нужно уходить.
Парни отчего-то оживились. Поглядывали друг на друга, шутили, смеялись. Давили кулаком губы. Странные… Быть может, под наркотиком. Наконец продолжили свои разговоры (путаные, нелогичные). На меня не смотрели. Напрасная затея. Так просто – с наскока – людей этих не узнать. Здесь нужно быть своим .
Допил чай. Покачиваю кружку.
– Ладно, я пойду.
Ответа не было. На меня даже не посмотрели.
Ничтожное приключение, о котором я не рассказал бы, если б не его последствия.
Спустившись из кафе (русские парни вышли за десять минут до нас), я заметил, что дыхание моё стало излишне глубоким. Горло сузилось. Воздух шумно наполняет лёгкие. Голова кажется высокой. Оля спрашивала о моём неудавшемся разговоре, но я молчал – наблюдал за своими ощущениями. Заподозрил новую болезнь. Теперь что? Очередная малярия? Зачем? Воду пью не ту… Хотя… Так! Мысли путались. При чём тут вода? О чём я, собственно, говорю? Да нет, я молчу. А мог бы говорить. Но что скажешь, если никто не… Так! Я тряхнул головой. Голоса прохожих делались тише, делались громче. Темно. Вечер. Я не уверен в том, что асфальт подо мной твёрдый. Наступаю на него, давлю; он будто и не асфальт, а земля…
– Я громко дышу?
– Что? – Оля идёт рядом, поглядывает на меня.
– Я громко дышу?
– Нет.
– Странно. Мне кажется, что дышу оглушительно.
– С тобой всё в порядке?
– Не знаю.
Наш дом. Отворили калитку. Поднялись в комнату.
Горячка ума.
Измерил температуру. Тридцать шесть и шесть. Но я горю. Лёг. Все чувства искажены. Усиливается. Отравился? Малярия? Лихорадка? СПИД? При чём тут СПИД…
– Ты дёргаешься.
Я? Не может быть. Ну да… Дёргаюсь. Мне нравится чуть-чуть подёргиваться. Так хорошо. Пульсация идёт по телу. Вибрирую, и это приятно. Электричество расходится от лёгких, от сердца. Дышу ритмично, медленно. Втягиваю живот в пустоту.
Рот… рот наполнен шерстью. Глупость!.. Вычёсываю себе язык. Ногтями. Жёстче, настойчивей.
Кто-то шепчется под подушкой. Нет. Это на улице кричат.
– Выключи телевизор.
Молчание.
– Оль, я же нормально прошу – выключи телевизор!
Молчание. Потолок расходится; мы на палубе; если бы море; но трещины синие, хотя этот художник неправ. Хорошо здесь. Тепло. Воздух – как вода. Я плаваю.
– Оля! Ну! Телевизор…
– Здесь нет телевизора…
Оля плакала. Я понял это по её голосу, и сразу отрезвел – вынырнул из поглотившей меня гущи.
Оля сидела в стороне. Красные глаза. Смотрит. Ей страшно. Я всё понял.
– Сахар! Оля, всё дело в сахаре.
Оля качает головой. Ей кажется, что я брежу.
– Нет, послушай. Я сейчас всё серьёзно. Я очнулся. Дело в сахаре. Сахар, ты понимаешь!!
Не могу управиться с собой. Зачем я кричу? Ещё и глаза, кажется, выпучил… Как объяснить? Заставляю себя сжаться. Сконцентрироваться. Пульсация из живота. Язык опять зарастает шерстью. Нужно держать себя. Одному было бы проще. Оле нужно всё объяснить. Смотрю на простыню. Говорю тихо.
– Оля, слушай. Я сидел за столом. Мне принесли чай. Эти дали сахар. В сахаре что-то было. Это не болезнь. Это наркотик. Я не знаю, что это, но это… Это сбило моё восприятие. Не знаю, сколько это продлится. Нужно перетерпеть.
Неожиданно понимаю, что при словах этих громко пыхчу – расширенными ноздрями. Не могу успокоить свои движения. Перестал пыхтеть; вскоре заметил, что ритмично сдавливаю друг о друга колени, жму пальцы на ногах. Перестал жать; начал покачиваться. Наркотик. Нет сомнений.
– Это ЛСД. Кислота. Могли капнуть. Знаю… Помнишь Кирилла?
Но может быть и другое…
Рюкзаки стояли собранные. Я мог лежать.
Включил для успокоения музыку. На телефоне сохранились песни Джонни Кэша. Понял скоро, что ритм музыкальный не отвлекает, но заталкивает в наркотическую пульсацию. Выключил.
Борьба разума с опьянением. Я чувствовал свою слабость. Пытался приноровиться к изменившимся чувствам, понять, что усиливает искажение, что нивелирует. От страха перешёл к работе.
Знаю, что состояние это продлиться может долго. Хочу одного – скорее лечь в автобусе, спать.
Оля следила за временем; убедилась наконец, что я способен трезво отвечать. Слово «наркотик» её пугало, но она была молчалива и тиха.
Вышли на улицу.
Распрощались с хозяевами.
Тело в норме; отравлено только сознание. Иду по тёмным улицам. Изучаю своё восприятие. Какое удовольствие в этом? Добровольно лишить себя осознанности… Да, чувства необычные, но тупиковые. Они ни к чему не ведут. Они не самостоятельны – образованы от чувств истинных; сами по себе малоценны. Возникшее от искажений неизменно оказывается ложным. Истина – в исходнике. Если бы наркотик выдавал что-то новое – разговор был бы иной, однако он лишь искажает старое…
Прохлада ласкает. Идём с Олей за руку. Не замечаю, как приблизились к дороге. Слишком увлечён своими чувствами.
В темноте перед нами остановился мотоциклист. Я вздёрнулся. Нужно бежать! Куда? Страх – мгновенный. Прошёл. Слушаю. Мотоциклист предложил золотую цепочку. Безумие. Ночная торговля?
Пришли на остановку. Ждать ещё полчаса.
Блуждаю в оттенках серого. Сознание утомляется. Во мне по инерции шумят песни Джонни Кэша. По вискам ударяет басовая струна. Не люблю музыку. Прав я был, записав, что она опустошает сознание.
Рукой мну себе щёку, дёргаю губой, покачиваюсь, жму пальцы на ногах, напрягаю ягодицы, вдавливаю в себя челюсть… Останавливаю эти движения – одно за другим, но они сменяются новыми. Усталость.
Вошли в автобус. Спальные места. Сидячих нет. Красный свет. Красный смех. Безумие. Все места – парные. Одиночки спят с незнакомцами. Колотится сердце. Заходится, заливается, надрывается. Скорее уснуть.
Всё тянется слишком долго и в то же время оканчивается излишне быстро. Не могу вспомнить, как добрались мы от дома до остановки. Как Оля по темну нашла автобус? Завтра спрошу. Щёлкает челюсть. Задёрнули штору. Кровать тесная. Не вытянуться. Я тут даже один не уместился бы с удобством. На потолке, по окну – тараканы. Тошнота. Скребу себе грудь. Не могу остановить это. Шумы. Люди. Голоса. Всё. Слабость. Не могу противиться. Боюсь заговорить вслух. Давлю кулаки, от них – пульсация по телу. Ненависть. Броситься на тех парней. Злость. Хочу сжать кожу на их теле, рвануть так, чтобы мясо мокрое в пальцах своих ощутить…
Сердце колотится. Дышу водой. Внутри всё белое, выглаженное. Из груди моей вырывают одну за другой белые простыни.
Раскрываю рот шире – чтобы дышать, но вспоминаю про тараканов; закрываю; вновь раскрываю; тараканы – закрываю. И так без остановки. Мы уже едем. Стоим? Или мы не останавливались?
Не могу уснуть. Голова пульсирует. Чёртовы… Проклятые… Устал. Устал. Нет! Сознание твёрдое. Я могу перебороть. Это как похоть. Или нет. Как жажда. Как голод. Что? Трясёт. Трясёт. Трясёт в автобусе так, что невозможно лечь. Не могу вытянуть ноги. Колени раскачивает из стороны в сторону; выбрасывает к Оле, к занавеске. Так не уснуть. И пульсация. Шум колёс. Они подо мной. Я на колесе. Тихо! Мысли, мысли. Их много. Их тысячи; и все разом шумят, бросаются, кидаются, мельтешат. Хватаю одну, она в тысячи рассыпается. Непрестанное движение в сознании. Нужно успокоиться. Сосредоточиться на чём-то. Замереть… Нужно читать!
Хватаюсь за рюкзачок; Оля не забыла взять его в автобус; спасибо ей. Там должно быть что-то… Да! Индийские мифы в пересказе Нарайана. Включаю лампу. Оля не спит. Не могу сейчас думать о ней… Начинаю читать.
Борюсь. Заставляю. Напрягаюсь.
Читаю первую строку не меньше десяти раз. И так – каждую строку. Прочитал абзац. И начал с начала. Не могу сконцентрироваться. За строками – пустота. Кажется, что вижу дно страницы. Пустое это. Напрасное. Мелкое. Плачу. Забрызгал книгу. Боюсь, что состояние это не прекратится. Теперь – навсегда… Нет! Не может быть. Чёртовы… Так! Тихо. Сосредоточься. Можешь. Должен. «Всё на свете я смею. Усмехаюсь врагу. Потому что умею. Потому что могу». От строк этих окаменел. Предчувствую трезвость. «Я сибирской породы. Ел я хлеб с черемшой. И мальчишкой паромы таскал как большой. Раздавалась команда. Шёл паром по Оке. От стального каната руки были в огне. До десятого пота гнулся я под кулём. Я косою работал, колуном и кайлом. Не боюсь я обиды, не боюсь я тоски. Мои руки обиты и сильны, как тиски!»
Твердил я слова эти и так окреп.
Продолжил Нарайана. Сознание срывалось; тяжко было.
Быть может, действие наркотика само собой к минутам этим ослабло, но верю, что это я ослабил его – волей своей.
Иначе слышались сейчас мифы индийские. Много случилось от них мыслей. Так много, что не совладал я с жаждой письма; как котёл перекипевший водой плюёт на костёр, так и мысли мои из головы плескались – сами в формулировки письменные укладывались. Мозговая поллюция… Я достал из рюкзачка блокнот (Дневник был в багажном отделении), записи начал (для них, в предвосхищение, и составил я сейчас эти вступительные слова). Сознание моё крепло в логичности фраз, абзацев. Записал я в ту ночь следующее.]
Итак… Итак, руки трясутся. Писать неудобно. Затекают. Затекая, пульсируют ещё больше…
Итак, царь Чеди, любивший воевать, убивавший тысячи, бросавший воинов своих на гибель (и явно показывавший другие, не озвученные в мифе грехи), тем не менее должен стать мудрецом. Васиштха говорит ему: «В конце концов ты обретёшь мудрость, но, как все люди такого склада, ты придёшь к ней самым трудным путём». Чем дороже, тем лучше, не правда ли? По меньше мере – тем интереснее. Ведь не для цели, но для движения идём.
Выписываю из книги:
«– Как обрести силу, о которой ты говоришь?
– С помощью размышлений и воздержаний.
– Значит, власть, которой я обладал, на самом деле ничего не стоит, – проговорил царь. – Теперь я не успокоюсь, пока не стану таким же могущественным, как ты. Даю тебе слово, что настанет день, когда я вернусь сюда с новой армией.
Царь <…> снял царскую одежду, отдал меч и всё остальное оружие, завязал вокруг бёдер повязку и отправился в путь. Он пошёл на север, нашёл уединённое место на берегу горного ручья и тысячу лет предавался размышлениям, ни на минуту не отвлекаясь от своих мыслей» {53} .
Знакомая история. Шикхидхваджа тоже в несколько лет утомился любовными утехами, вином, музыкой, после чего отправился в лес. Так же и Сиддхартха Германа Гессе к познанию пришёл, испробовав все страсти (вожделения, азарта, гневливости, стяжательства). И Ганди знал (по его же словам) излишества в общении с женой – такие, что утомлял её до болезненной слабости; после этого обратился к брахмачарье, и в прочих удовольствиях воздержание счёл делом неукоснительным. Яяти, вдоволь испив юность и нежность своих жён (в течение тысячи лет), объявил: «Я изведал все удовольствия и понял, что человеку не дано чувство насыщения, потому что на смену одним желаниям приходят другие, и нет им конца. Золото, скот, женщины, пища – ты стремишься получить то одно, то другое, но когда получаешь, недолго радуешься успеху из-за того, что потом тебе нужно ещё больше золота и ещё больше скота. После тысячи лет наслаждений я жажду новых наслаждений. Я хочу покончить с этим существованием и обратиться к богу. Я хочу жить, не думая постоянно, что победа влечёт за собой поражение, приобретение – потери, жара – холод, а удовольствие – разочарование. Я заставлю свой разум забыть об этом, расстанусь со всем, что у меня есть, и буду жить в лесах, на лоне природы, не зная страха и желаний» {54} . Знакомые слова. Я мыслил тоже – в других оттенках. Но… Тяжко, тяжко держать логику. Мысль… Отвлекаюсь на пульсацию… Но… Помню хорошо Брюсова, лет семь назад сформулировавшего для меня мои же предчувствия: «Я часто мечтал о деле и о труде, как о самых благородных радостях. Наконец, никогда не угасало во мне убеждение, к которому в зрелую пору жизни приходят все мыслящие люди, что одними личными удовольствиями не вычерпаешь жизни, как моря – кубками весёлого пира» {55} . Именно так. Иллюзии; единственная радость – в осознанности, в труде. Дальше… Дальше известно, что Яяти, переселившись в чащобу, «питался корнями растений и листьями, он подчинил себе все свои желания, своё настроение и свои чувства, и чистота его помыслов помогла ему заслужить расположение душ его предков и богов. Тридцать лет он не брал в рот ничего, кроме воды, и стал господином своих мыслей и слов. В течение целого года он питался только воздухом; он стоял на одной ноге и предавался размышлениям, в то время как вокруг него горели костры, а над головой его пылало солнце» {56} . Наконец Яяти узнал такую высоту духа, что воспарил к богам, где принят был с почтением великим. А как же ошибки, которые невозможно искупить ? Как же клейма ? Узнав некогда о грязном прошлом женщины, с которой сожительствовал, я был в отчаянии. Я говорил ей об ошибках, которые ни одной добродетелью не исправить. Тем мучил нас обоих. Смотрел на неё и улыбался до мгновения, когда вспоминал о совершённых ею непотребностях, – улыбка спадала, в чувствах проявлялось презрение, о котором я торопился исподволь, но явственно заявить. Я действительно презирал её за то, что было, забывая о настоящем. Я ослеплял себя своими мыслями. Иначе смотрел бы на эту женщину, если бы не знал её прошлого; значит, чувства мои вызваны иллюзиями. Если бы грязь сохранилась в ней, показывалась бы наружу в действительных днях, то презрение моё можно было бы оправдать. Но всё было иначе. Я боролся с призраками; такая борьба не бывает окончена победой. Я проиграл. У каждого свой путь в лес , а мои слова о неисстираемых ошибках – сродни клерикальным толкам о грехе . Признавая относительность своих поступков, я судил строго поступки чужие – по непреложным, для моего удобства придуманным правилам. Сейчас вижу доподлинно, что в тумане моих размышлений (я даже посвятил этому несколько рассказов, где с ненавистью вырисовал заклеймённых женщин) проступает убогий камень, туман своими испарениями сотворивший – ревность. В разговорах о ревности я давно признал слова Эвизы, рассудившей, что ревность, – «это остаток первобытного полового отбора – соперничества за самку, за самца – всё равно. Позднее, при установлении патриархата, ревность расцветала на основе инстинкта собственности, временно угасла в эротически упорядоченной жизни античного времени и вновь возродилась при феодализме, но из боязни сравнения, при комплексах неполноценности или униженности» {57} . Да, моим камнем была именно «боязнь сравнения». От него на несколько лет пошёл туман чистоты, благочестия . Мысль эта дополнена словами всё того же Ефремова: «[Из-за слабости душевной и физической городского жителя] все чувства и желания как бы приглушены, стёрты и не дают полноты переживаний, глубоких впечатлений, свойственных здоровой психике. Это порождает чувство собственной неполноценности, что, в свою очередь, делает невыносимой самую мысль о сопернике и, следовательно, возможности сравнения у возлюбленной» {58} . Как и прежде, всякая болезненность, прослеженная во мне до корней, указывает на галактических размеров себялюбие. Умнее, светлее, мудрее всех. Великий Я. Во всём должен быть могуч – и в плотских упражнениях тоже (покуда их ценят другие). В один день, после рассказа сожительницы моей о нечистом её прошлом, случился для меня многолетний туман, в котором блуждал я чрезвычайно – ударяясь о невидимые углы жестоко. Себялюбие нужно укрощать – оно ведёт к слепоте, к блужданиям, страданиям частым, низменным. Себялюбие ведёт к поочередному нарушению всех четырёх правил осознанности.
Победа моя ценной оказалась – из неё вывел я против себялюбивости логику, а логика – это рельсы, мысль по ним скользит уверенно. Подумав так, я улыбаюсь, признаю себя счастливым.
…
Сызнова прочёл «Яяти»; и теперь в рассказе о его любодеяниях не слышал в себе отвращения. У него был свой путь. Можно ли судить человека за найденные удовольствия, за розданные страдания?
Мне безразлично, уступить или оказать сопротивление; не вижу разницы между этими действиями; всё, что связано с ними, лежит за пределами моего «я» . Так?
…
Четыре часа ночи. Мне лучше. Наркотик укрощён; отступил.
Не могу уснуть. Сознание не слушается. Едва опустошаю голову от мыслей, как случается в ней шум.
По-прежнему читаю мифы.
Тело истощено. Я вырван из жизни; трясусь в автобусе спальном; отгорожен шторкой красной. В окне – ночь. Рядом спит Оля. Ехать нам не меньше века. Быть может – вечность. Я готов поверить в это. Нет страха. Я согласен сейчас на вечность, согласен на неусыпную работу ума.
Всякую ситуацию нужно обращать к себе лучшей стороной.
Нужно ещё научиться жить только самим собой, чтобы обрести такую уравновешенность разума, которую не в силах поколебать противоборство добра и зла, мук и радостей, потерь и приобретений, ибо человек достигает самообладания, спокойствия и невозмутимости только тогда, когда его духовная жизнь не зависит от внешних обстоятельств . Повторяю себе эти слова.
Просмотрел записи. Нет в них гладкой последовательности. Иду на ощупь. Чем глубже опускаешься в себя, тем сложнее продвигаться. Много цитат – это столбы, подпорки, чтобы не обвалилась штольня. Иду по тоненькой ниточке. Выщупываю пространство вокруг себя. Мне это нравится. В этом жизнь. Но… хватит. Тело, кажется, настолько утомлено, что готово ко сну…
15.08. Бомбей
(Князь Алексей Салтыков о Бомбее: «Окинув беглым взором этот роящийся народ, вы торопитесь взглянуть на странные капища, уставленные бесчисленным множеством истуканов: тут толпы факиров, увечных, иссохших, худых, как оглоданные кости, с длинными крючковатыми ногтями на руках и ногах; тут безобразные старухи, волосы растрёпаны, взоры дики. Тут обширны пруды с каменной набережной – в них обмывают покойников. <…> Тяжёлый запах мускуса от мускусных крыс, живущих под землёю, разлит по воздуху; странные звуки неумолкающей музыки…» {59} )
Трёхчасовой сон в автобусе был чадным, в видениях путаных. Ждал теперь поселиться в отеле и спать на кровати широкой, в положении покойном. Обещал себе отдых до полудня (приехали мы в 8:30).
В голове – дым. Привкус железный, кислый, зелёный. До сих пор мгновениями чувствую под языком волоски (мелкие, щекочущие).
Неприятность началась от остановки автобусной, но поначалу мы её сочли забавой. Отмахались от таксистов – хотели прогулкой пешей отель выбрать (были мы в двух километрах от центра). Когда вышли в квартал соседний, встретил нас мужчина грязный, в шлёпках продранных; начал гостиницы предлагать – к ним карточки показывать замусоленные. От мужчины мы открестились, однако навязчивость свою решил он испытать до предела последнего. Не слушая отказов, откликов, отзывов, индиец шёл впереди – по избранному нами направлению, рассказывал громко об открытых здесь отелях (известных ему сполна), и получалось так, что он нас ведёт. Мы останавливались, он ждал. Мы рвались в сторону, он припускал, и соревноваться с ним было глупостью, ведь шли мы под рюкзаками, в районе незнакомом. Сворачивали на другую улицу – индиец торопился вновь возглавить наш поход и теперь рассказывал об отелях этого района. Пытались мы с ним говорить, но диалог был одного толка: «Нам не нужна помощь, спасибо». – «У них есть комната с кондиционером, с ванной отдельной». Пытались грубить: «Вы можете наконец отстать!» – «У тех вон завтрак включён, есть европейское меню». Толкнуть индийца было невозможно из-за чрезмерной грязности его одежды. Хотели идти, сопровождением таким не заботясь, но пахло от него скверно; по тротуарам шагать он старался в тесноте с нами. При словах наших и движениях оставался индиец невозмутим – не дозволял на лице своём ни одной эмоции; уверенно произносил цену номеров и успевал достать подходящую рекламную карточку.
Задумали мы по делу такому шутить (пусть для шуток подобных не окреп достаточно мой ум – я опасался рецидива чувств вчерашних). Стали мы петлять, крутиться, перебегать. Шли через дорогу; противоположной стороны не достигнув, возвращались назад. Подходили к отелю – индиец в радости вбегал к администратору, объявлял новых постояльцев, но мы уже торопились прочь. Спеши́ли через перекрёсток под переключение светофора (да, в Бомбее светофору обнаружилась некоторая власть, которую, однако, не все признают – например, наш индиец). Протискивались в тесноту рыночную, забегали в магазин. Неутомим был сопроводитель; следа нашего не терял и готов был во всякий миг призвать к гостинице очередной.
Утомившись от игры, зашли мы для завтрака в ресторанчик, где пробыли в одиночестве. Бомбей поутру безлюден; сегодня выходной, праздник – День независимости. Магазины многие закрыты; босяки торгуют в разнос флажками Индии.
Полчаса ждал нас проводник. Когда мы вышли, тоном прежним он продолжил призывы свои «вон к тому отелю». Мне это опостылело. Понял я, что любую гостиницу, избранную нами, назовёт он своей – бросится туда в опережение, сопроводителем нашим скажется и комиссию спросит. Неприятно.
Пробовал я махать руками. Грубость усилил. Крикнул. Стукнул на повороте рюкзаком. Нет пользы. «Здесь шесть отелей. Начать можно с этого». Жалость пробудилась. Он зарабатывает, как может; не знаем мы его историю. Он и без крика моего в унижении большом. Однако негодование, утомление заставили средство резкое применить. Достал я из сумки поясной свисток армейский, для случаев опасности запасённый. Когда индиец вновь близко оказался и говорить продолжил об отелях – свистнул ему в лицо всей силой, а сила такой была, что мне уши заложило. Свистом этим оглушить можно, огорошить, словно обухом огреть. Вздрогнул индиец – лицо новое показал в смехе нервическом. Прохожие все смотрят на меня. Мы развернулись – возвращаться стали по улице; индиец, ошарашенный, дальше шёл. Потом, однако, нас догнал и вновь стал нам главой. Глупая затея – свистом его не осадить, когда к гудкам дорожным он привычен. Опять сделалось грустно до индийца. Жалкая ему получилась судьба. Подумал денег ему дать, но не решился – понимал, что поощрением таким приважу его ко всем туристам липнуть. Новых попыток отвадить сопроводителя мы не искали.
Выбрали наконец по вывеске отель. Прямым путь к нему не был. Петлять пришлось, чтобы индийца отвести в сторону. Резко отвернули в нужный проход, шагнули к двери гостиничной. Индиец, маневр поздно увидевший, к нам поспешил, но остановлен был швейцаром. По лестнице к администратору поднимаясь, слышали мы перебранку внизу.
История продолжилась, когда мы уже раскрыли рюкзаки (комната с кондиционером, 1150 рублей). Я спустился забрать паспорта, как и во всех гостиницах, оставленные для регистрации (перепись, ксерокопия). Администратор паспорта Олиного не нашёл, переговорил с сотрудником, попросил меня в номере ждать и заторопился вниз по лестнице. Мне это диковинным показалось; я ушёл, но через пять минут, не выждав, спустился вновь к reception. Молодой служащий рассказал мне, что паспорт Олин украли. «Но вы не волнуйтесь, его сейчас вернут». От расспросов настойчивых узнал я, что сопроводитель наш пробился-таки в отель и комиссию от администратора затребовал. Ему словами тяжёлыми отказали, отчего получилась ссора. Сопроводителя (прешедшего от монотонной речи к бурным словам) выпроводили; минутой позже я пришёл за паспортами. Администратор, регистрацию нашу так и не окончивший, сообразил пропажу и вора тут же смекнул… Сотрудник отеля заверил меня, что сопроводителя поймают быстро. Я ответил, что вернусь за паспортом через пятнадцать минут и, не увидев его, позвоню в полицию.
Сидели мы с Олей молча. Она даже позабыла о том, что утром у неё в глазу повторились боли. Я ворочал на ладони грязный пульт, но телевизор не включал. Думал о злоключениях вчерашних, столь неожиданно сменивших довольство жизни островной, ауровильской, махабалипурамской. Затем читал о том, как оформить «Свидетельство на возвращение в РФ» – придётся задержаться на неделю в Бомбее.
Прошло десять минут. Спустился. Паспорта нет. «Вызывайте полицию», – сказал я и увидел поднимающегося по лестнице администратора. Он улыбался. В руке – паспорт. «Нашли!» При мне заполнили журнал регистрации. Отдали паспорта. Извинились. Пожелали отдыха длительного. Не было сил выспрашивать, как и где они раздобыли паспорт. Послышался мне во рту вкус вчерашнего чая. К этому тошнота подступила. Хорошо, что мог я расслабиться, для полиции не напрягаясь. Возвратился в номер. Оля принялась обнюхивать паспорт.
Лёг спать.
Ждал от себя сна долгого – такой тяжёлой сделалась голова, но проснулся уже в половине второго.
Теперь, после прогулок, вечером, ложусь усталый, но довольный виденным. Бомбей сегодняшний запишу завтра.
16.08. Бомбей
(Бомбей – административный центр штата Махараштра. Более 20 миллионов людей (городская агломерация). От 1995 года город назван Мумбаем.)
Бомбей был нам городом наибольших противоречий.
От домов старых, исчерневших идут кварталы грязные; над ними (как над кустами – со́сны) небоскрёбы устроены. Бараки гнилые, в них – нищета индийская. Здесь же – дома могучие, упругие; в них – роскошь, запах духов. К центру Бомбея улицы вытянуты чистые, выметенные, но даже малый дождь поднимает от них запах наисквернейший; туалетом кажется всё. По Madame Cama Road парень плетётся истощённый, с глазами жуткими, в нём смерть от болезней кажется и даже пройти рядом неприятно – заразы боишься; но тащит парень этот мешок с бутылками – работу продолжает. В ста метрах (по Shivaji Maharaj Marg) индианка молодая в платьице шёлковом идёт – в прозрачности видны бельё и кожа. Сопровождает девушку мужчина – в ресторан, соседствующий салону Bentley. Вдоль бухты всей от Raj Bhavan до Brabourne Stadium дома высотные, особняки по холму построены. Вид им сделан на океан, на пляж городской. На пляже этом – нищие стайками живут; моются, стираются под трубой, нечистоты из города выпускающей. Ходят по городу мусульманки, в ткань чёрную укутанные, а на рынках им открыты книжки эротические. Нет здесь пар, за руку гуляющих (кроме мужчин), но в парке «Висячие сады» парень за стенкой бойко мнёт девушке чадру. Дороги по Бомбею выложены ровные, светофоры работают, но движение безудержное – всякий перекрёсток бывает для пешехода приключением.
По улочкам торговцы давят сок, благовониями запахи паршивые заглушить стараются. Вдоль забора мужчины сидят, работа которых – уши чистить (они соблазняли меня разнообразием приборов чистильных, но я не соблазнился). Пока чистят они клиенту ухо, рядом Rolls-Royce катится – сигналит ржавым такси, телегам, досками загруженным. Портреты Саи Бабы вывешены вблизи от статуй Шивы, Иисуса, Будды. Капища зороастрийские, мечети, церкви… Центр Бомбея поднимается дворцами, храмами европейскими; и так они мощны, что слышишь отзвуки старой Праги. Лучшему из дворцов этих ждёшь историю королевскую; он вокзалом оказывается… Эклектика эта шумом неустанным и запахами противоречивыми укреплена. Гудят машины, вертолёты, самолёты. Пахнет мылом, табаком, туалетом, благовоньями, деревом, сыростью, духами; выпахивает из магазинов холод кондиционера, но продолжаешь ты по́том омываться при солнце настойчивом. Бегут к тебе нищие – монету спросить, таксисты – направление подсказать; индийцы простые подходят, чтобы сфотографироваться с тобой, продавцы – товар свой предложить, даже если торгуют они чайниками и сковородками (к чему скарб такой туристу?) Чтобы не увязнуть в жизни этой, идти нужно быстро, отвечать резко или вовсе молчать, а когда нищенка дорогу телом своим преградит – не медля толкнуть её прочь (если только нет брезгливости от её одежды). Так прогулка всякая в темпе хорошем получается. Для отдыха – в кафе можно нырнуть.
В одном из случайных ресторанчиков съели мы недурно испечённого цыплёнка. Вслед цыплёнку принесли нам зёрна аниса с сахарком – для освежения рта. Кроме того, принесли в пиале воду тёплую с долькой лимона. Угадали мы напитку этому назначение – тоже освежающее. Подавили лимон вилкой; испили воды, но от дальнейших глотков остановлены были криком официанта, бросившегося к нам – объяснять, что в пиале этой руки нужно освежать, не рот…
Сегодня в 21:30 отбывает наш поезд в Амрицар. В билетах RAC, купленных в Порте Блэр, не указаны ни место, ни вагон. Опасаясь назначения неудачного, по которому пришлось бы нам с Олей в разных концах поезда ехать, должны мы были дважды на вокзал зайти. Для заблаговременности посетили кассы вчера вечером – узнали, что места ещё не подтверждены. «Приходите утром». Сегодня встали мы в то же окошко, когда полдень едва укрепил над городом солнце. В этот раз сказали нам, что места подтверждены будут лишь за час до отправления – на вокзале вывесят списки, в которых нужно будет имя своё найти…
Глядя на привокзальных нищих, вспомнил я прочитанную на днях басню индийскую. В ней одна из птиц показала своенравие – не захотела следовать за товарками на юг, пренебрегла холодом близящимся, осталась на севере. Объявила особенность свою, по которой не пристало ей жить в стае. Когда же ветер разнёс по округе первые заморозки, схолодилось тельце бойкой птички; пришлось ей своенравие оставить – лететь на юг; не прошло и часу, как обледенели её крылья; птичка обессилела, отяжелела и, последним взмахом волю свою окончив, упала; в падении этом с жизнью простилась, грубости себе произнесла о том, что стаю покинула по глупым мыслям… Не разбилась птичка – на траву слегла, однако, обездвиженная, была готова к смерти холодной. В довершение несчастий всех проходящая корова уронила на птичку лепёшку густую навоза. Судьба жестока; объявившему вольность унижением отвечает, погибелью… Однако лепёшка коровья горячей оказалась, и птичка отогрелась вскоре; затем вовсе приободрилась. Радостно ей было в жизнь уверовать вновь; по радости такой щебетать она задумала громко. Обещала товарок дождаться, никогда не покидать их. Услышал щебет деревенский кот; долго ходил он по траве – выискивал того, кто голосом столь радостным поёт. Разглядел наконец в коровьей лепёшке птичку; кинулся к ней; съел – даже не обмазав мордочку в крови. Не стало птички… Диковинная басня. Ещё более диковинной (но вполне индийской) получилась от неё мораль. Первое – если очутился телом всем в фекалиях, то, быть может, не так это плохо. Второе – упав в кучу, лежи молча, не дёргайся, а то будет хуже.
…
Через полчаса выходить нам к вокзалу; он – в пятнадцати минутах спокойного хода. Нужно собираться, так что слова последние о Бомбее (среди них – о том, как бросают здесь стервятникам умерших зароастрийцев) запишу я в поезде. Замечу только, что здоровье моё окрепло окончательно, ум успокоился; подозреваю, однако, что в минуты слабости, быть может, долго ещё слышать буду во рту привкус того чая.
17.08. Golden Temple Exp
(Туалеты в поездах индийских представлены в двух видах – «западный стиль» (унитаз) и «стиль индийский» (дырка в полу). К каждой двери вытягивается отдельная очередь.)
С вокзала видели мы салют, но был он не к радости. Нашли в списках длинных, свежевывешенных имена свои. Ждали худшего в распределении по вагонам разным, но худшее в том оказалось, что при вагоне одном и место нам выпало одно. Пошёл я жаловаться в комнату, где распределением мест занимаются. Там уверили меня, что это условность, что проводник будет людей в поезде перетасовывать и выпадут нам два по билету обещанных места.
Перрон чист оказался, но крысы бегали здесь так же резво, как и в прочих городах. Там, где остановиться должны были вагоны третьего класса, витиеватой очередью сидели мужчины – гуськом, под надзором полицейских.
К Оле подошла индианка; пёстрое сари, свежее бинди, гладко сшитые сандалии; на руках – девочка (два или три года). Индианка заговорила о чём-то на наречии своём; Оля пожала плечами – показала, что не понимает. Наконец от жестов поняли мы, что женщина просит благословения для дочери. Оля усмехнулась. Руками показала отказ. «Нет». Индианка обиделась…
Толкотню несметную обнаружив в вагоне нашем, заподозрили мы, что не дождаться нам места дополнительного. В подозрениях этих мы правы оказались, но и одну койку на двоих вскоре почесть должны были благом.
Место у нас боковое, нижнее – тесное; спорить о дополнительном соседстве невозможно (физически здесь некуда усесться третьему пассажиру). В купе напротив нас шум был из-за шести мест, отданных на раздел одиннадцати пассажирам. Индусы противостояли мусульманам. От мусульман стояло две семьи, и обе женщины зачехлёнными оказались в ткань сплошную – не получалось разглядеть ни кожи, ни волос. У мужей их глаза были тушью подведены до образа египетского, чарующего. Индусы попались одетые в брюки простые, курты.
Спор весёлым казался, наблюдали мы его в спокойствии; но вскоре явился на место наше третий пассажир. Чу́дно, не правда ли, две ночи спать втроём на кушетке, где мне одному-то лежать тесно (170 сантиметров на 50)?! Теперь спор звучал и от нашего места. Решено было ждать проводника (от него мы не хотели новой койки, но мечтали сохранить независимость для той, что уже заняли).
Среди спорщиков купейных девочка была мусульманская – лет пяти. В возрасте своём наслаждалась она естественностью – платьицем цветастым, голыми ручками, ножками, головкой. Сколько лет пройдёт, прежде чем задрапируют её в черноту, а заодно мужа назначат?
Шум был по всему вагону. И думать мы не хотели о том, что устроилось сейчас в третьем классе.
Ожидая проводника, шутки мы о поездах индийских выдумывали; лучшей из них было этимологию sleeper-класса от глагола «слипаться» произвести. Вспоминали Кима, который, оказавшись на уютной кровати первого класса, признал поездку скучной: «Ким закурил крепкую сигаретку, он позаботился купить запас их на базаре, и лёг подумать. Путешествие в одиночку сильно отличалось от весёлой поездки на юг с ламой в третьем классе. “Путешествие доставляет мало удовольствия сахибам [вынужденным ехать в комфорте]”, – размышлял он» {60} .
Жизнь вагонная пестрела. Чего здесь не увидишь! Торговцы слепые ходили – цепями, замка́ми торговали. Нищие культи показывали для подаяний. Святые люди колокольчиками, к палке привязанными, гремели. Сикхи [42] с бородами, скрученными в жгут и под чалму заткнутыми, прогуливались, напевали едва различимые мелодии. Торговцы штатные (в костюмах коричневых) перекрикивали друг друга, омлет, воду, орешки предлагали, и самым громким из них был тот, кто моторным голосом тараторил неизбывное: «Чай-чай-чай-чай-ча-а-а-а-й». Все они с коробками, с чайниками, с канистрами протискивались между пассажиров (которые сейчас ворочали взятый в дорогу груз – тюки, мешки, контейнеры). Останови одного – он руками насыплет тебе в кулёк попкорна. Другого – он насадит на палочку (от куста выдранную) мороженое из колбы железной. Но венцом всему трансвеститы святые были. Мужчины (двое) те́ла большого, индийцам несвойственного, с лицами широкими, рябыми, в сари выряженные, собирали ото всех по десять рупий, а взамен благословение давали. Мусульманин – из тех, что спорил в купе напротив – дочь свою подставил; трансвестит девочке ко лбу десятку прислонил и несколько секунд молитву (или заклинение) бормотал. О чём мог он молиться? О том лишь, чтобы девочке этой ума нашлось в жизнь такую же скверную не обрушиться? Нас увидев, трансвестит один воскликнул: «Oh, my god! Hello-o-o!» Я взгляда к ним не поднял – небрежение показал. Как ни странно, домогательств не случилось. Вслед мужчинам в сари шли нищие безрукие, торговцы крупами, шоколадками, орешками; полицейские, сикхи, мусульмане, индусы; джинсы, дхоти, брюки, шельвары, курты, рубашки, сари, камизы… Пахло попкорном, рисом, туалетом, по́том. А в окно бесстекольное ветер залетал. Недоставало здесь только проповедников различных, которым по всему полуострову свобода устроена безграничная [43] .
Наконец – проводник. Вокруг него – все, страждущие места. Взял наши паспорта; вылистал свою тетрадь, просмотрел списки, улыбнулся и сказал: «У вас всё хорошо». Неожиданное умозаключение. Собственно, с этим я хотел поспорить. «Скажите, это нормально?» – спросил я, подразумевая дальнюю поездку в такой тесноте. «О да. Не беспокойтесь, с вас не возьмут другой платы. Всё в порядке». Пришлось спросить точнее. Проводник улыбнулся и по-отечески добро объяснил – с билетами RAC иначе не бывает. Спасибо кассиру Андаманского отдела Индийских железных дорог.
Пассажиру, желавшему спать с нами соседом, проводник сказал что-то в грубости – тем отослал прочь. Событию такому мы были рады чрезвычайно. Как было не вспомнить про Сарру, о тесноте квартиры жаловавшейся, про ребе, определившего ей в сожительство свинью, про крики, с которыми Сарра вернулась к ребе на следующей неделе, про то, как ребе теперь наказал свинью продать, и про то, как вскоре уже Сарра рассказывала в радости, что просторно, вольно без свиньи живётся. Так и мы – довольство в сравнении узнали.
Проводник ушёл. Шум угас.
Киплинг писал: «Даже в настоящее время билеты и пробивание их контролёрами кажутся индийскому простонародью страшным притеснением. Оно не понимает, почему, раз заплатив за волшебный кусочек бумаги, они должны позволять чужим выхватывать большие куски из этого талисмана. Поэтому между путешественниками и контролёрами происходят длинные, яростные дебаты» {61} . Нынче дебаты случаются иные – уж точно не из-за пробитого билета.
Спать занятием трудным оказалось, но сон подушек не выбирает. Легли мы валетом; не меньше двух часов ворочались, изгибались, удобство изыскивая. Некуда ноги, руки, голову положить. Прочие пассажиры уже спали – по двое на полке, на полу.
На остановках тамбур полнился шумом – то безбилетники лёжку устраивали.
Начинался дождь, и заливало в окно.
Гудели вентиляторы.
Люди тут коровистые – с глазами мутными неудобство всякое встречают… Ночью началась столовая. Мусульмане, по случаю Рамадана от еды отграниченные днём, теперь, в ночи, банки, кастрюли достали для поедания обильного. Включили свет, заговорили в голос громкий, и никто не шикнул им, никто тишины не спросил. Когда садился мусульманин на койку индуса, тот не возмущался – прижимался теснее к стенке и сон свой продолжал. Диковинно это. Сам я порывался прикрикнуть на женщину в парандже, задумавшую в третьем часу ночи мужа своего отчитывать, но всякий раз напоминал себе, что в чужом монастыре пребываю. Терпел. И представить не мог сон в вагоне третьего класса (как бы ни восхвалял его Ким)…
Проснулся, ощутив под бедром давление. Оглянулся и удивлён был увиденным. Мусульманин (как узнал я позже – с билетом), места себе не отыскав, лечь должен был в положении большого неудобства: голову и грудь разместил на краешке нижней полки купейного отдела; вытянул ногу к боковой полке – нашей, упёрся, пальцами при этом в бок мне поддавив; вторую ногу на первую по-турецки забросил; руки обвил вокруг тела; так (в полусогнутии, полунавесу) заснул. Какие в положении таком бывают сновидения? Ловкость мужчины уважая, не захотел я ногу его оттолкнуть… Проснувшись в следующий раз, я обнаружил его на полу. Тогда же испугался, увидев, как с третьей полки женщина спускается в хиджабе – по темну пауком она тяжёлым показалась, асуром. (Быть может, от таких мусульманок и присказка в Индии пошла про Чурель – призрак тёмный женщины, умершей во время родов, а теперь ночами разгуливающей с ногами, вывернутыми назад, с локтями прогнутыми, с шеей продавленной…)
Многим здесь спать приходится в объятиях с людьми незнакомыми, головой упираясь в ступни голые или в лицо бородатое…
Проснулись мы окончательно к семи часам, когда заголосили вновь торговцы; суета вечерняя продолжилась утренней. Запахло одеколоном прелым. Пассажиры принялись за долгую, тщательную чистку зубов – кто щёткой, кто палочкой.
Сейчас, к полудню, Оля задремала вновь; я в неудобстве от качки непрестанной занимаюсь Дневником.
Могу наконец рассказ о Бомбее закончить. Замечу только, что палец мой гноится по-прежнему – обмываю его перекисью; что глаз Олин красной дугой обведён; что перед выходом к вокзалу температура Олина была 37 °C – причин этому не знаем, предположить удаётся лишь перегрев от солнца бомбейского. «Индия такое место, в котором не следует воспринимать всё слишком серьёзно – за исключением, конечно, полуденного солнца» {62} , – писал Киплинг.
Итак, Бомбей.
Уверены парсы (зороастрийца), что тело человеческое, жизнью оставленное, спешно демонами населяется. Нельзя мертвецами осквернять священные стихии огня, земли, воды. Задача получается о том, как хоронить умерших при условии, что ни закапывать, ни сжигать, ни топить их нельзя. С времён древнейших строили парсы башни смерти – тела на них укладывали открыто – для стервятников; исходил человек в несколько дней, а кости его обглоданные через решётку в башню саму проваливались. И все довольны были тем, что ни одну из стихий не запятнали. Похороны такие у парсов сохранились до наших дней; они иного не терпят и во всяком городе, где собрана от них значимая община, кормят своим мясом стервятников. В Бомбее парсов много; уже несколько веков устроена здесь Башня тишины. Нашли мы её (точнее, указатель к ней) в трёх километрах от центра, в небольшом парке, близ района людного. Не верилось, что в мегаполисе, в тени небоскрёбов дикость такая продолжается, и раздирают стервятники людей; но оказалось это правдой. К Башне нас не пустили; пройти к ней могут лишь зороастрийца; вступить за дверь её дано исключительно священникам и мёртвым. О Башне парсы говорят нехотя; упоминают только, что она невысока, широка и такие вокруг неё заросли стеснились, что не видно её ни со стороны, ни с неба. Позже узнали мы, что для Башни проблемы начались в годы последние – парсов мёртвых прибавилось, а стервятников в мегаполисе убавилось. Пришлось хитрости измышлять; поставили зороастрийца в жерло башни зеркала особые – жар солнечный для тел увеличить, чтобы разлагались они быстрее. Так узнали мы составляющую очередную в запахах бомбейских.
Дивлюсь терпимости индийцев состоятельных к обычаю такому, в городе сохранившемуся.
Сейчас, дополнив впечатлением этим прочие, от Индии полученные, смог я наконец слова Киплинга понять о том, что «Индия – единственная демократическая страна в мире» {63} . Это всё – от коровистости . Здесь мирятся со всем, всё принимают. От того религии, секты мирно сосуществуют. И стервятников по обычаю чужому допускают. И спорам ночным не противятся. И музыке, включённой молодым индийцем от динамиков телефонных не перечат. Делай, что хочешь; не жди ограничений. Вот что влечёт людей разных сюда: от хиппи шестидесятых до русских современных. Вседозволенность (быть может, отчасти мнимая). И милостыню бросают христиане индусам, а мусульмане благословения от трансвеститов принимают. И грязь, мусор, нищету принимают. И гудки глушащие от автобусов, машин, рикш слышат в спокойствии. Вот какой представилась мне Индия – сейчас, из вагона переполненного sleeper-класса.
В окончание записей сегодняшних последнее вспомню о Бомбее, что нередко люди там побираются, одетые прилично, – видишь его прохожим обычным, а он к тебе руку вдруг протягивает (получив монетку, смеётся или негодует – ждёт большего).
Вспомню, что это единственный индийский город, в котором обнаружили мы центр выраженный (к тому же украшенный массивными колоннами, капителями ионическими, балконами узорными, стенами нежно-шоколадными). Центр этот кажется в угрозе постоянной завала мусорного; на грязь привычно-индийскую обречён Бомбей от первого же послабления дворников.
Вспомню и коров бомбейских. «Индийцы быка зовут “отцом”, а корову “матерью”; на их кале пекут хлеб и варят себе еду, а пеплом мажутся по лицу, по челу и по всему телу. Это их знаменье» {64} , – так писал Афанасий Никитин. На святость этих животных указывал и Конрад Лоренц: «Этот горбатый скот так уверен в своей безнаказанности, что спокойно заходит в овощные лавки и, к ужасу торговцев, пожирает самые сочные фрукты и овощи» {65} . В современной Индии мы подобного не видели. Коров, конечно, уважают, но шлёпнуть по бедру хорошенько или крикнуть на неё никто не стесняется. С дороги их сгоняют редко, но от лавочек торговых выталкивают смело; и не нужен теперь дерзкий Ким, чтобы спасти товар от прожорливого скота.
Полседьмого. Темнеет. Мы проезжаем Дели. Пишу эти строки, а подле нас очередные два трансвестита мусульман благословляют. Уже не удивляемся.
…
Проснулся ночью. Образ привидевшийся тороплюсь записать.
Долгая, за горизонт разлившаяся пустыня бетона. Всё – гладь, и только редкие щербинки в разнообразие. Люди бродят. Слепые от палевого солнца, бродят непрестанно – до усталости неодолимой, губительной; и всё ж скучают, одиночатся. И кто-то находит уголёк; угольком этим черту проводит и тут же черты этой пугается. Теперь ему надолго забава одна – по черте этой взад-вперёд балансировать, будто упасть здесь можно, и в этом поднять в себе чувства силы необычайной. Нужно… Нужно разглядеть слепыми глазами и про́пасть, и возможное падение; навсегда остаться возле своей черты – пока не исчерпаются силы окончательно, смертельно. Если черта истрётся – усилить её заново, но лучше усиления такого от человека стороннего выпросить… Осознанность – в том, чтобы гладь пустынную видеть.
18.08. Амрицар
(Князь Алексей Салтыков писал об Амрицаре: «Вообще архитектура здесь преуродливая. Слон, проходя по узким улицам, трётся своими боками о стены домов и задевает парчовым черпаком за шаткие балконы. На балконах часто видишь женщин: они очень грациозны, почтительно кланяются со своих балконов и террас; но трудно разглядеть их хорошенькие личики, потому что у них в ушах, в носу и на голове несметное количество серёг, колец и цепей» {66} .)
Только что возвратились из кинотеатра. Фильм был блокбастером наисвежайшим – Ek tha Tiger, но смотрел я больше на зрителей (всё, экраном показанное, отозвалось скукой; и не в хинди была проблема, а в примитивности сюжета – речь всякая понятна без перевода).
В кинотеатр запускали полицейские, при этом проверку устраивали, как в аэропорту. Олю в кабинку отдельную завели – для досмотра. Зашли мы с опозданием кратким, по темну.
Фильм был двухчасовой (один билет – 86 рублей). В середине – антракт для восполнения запасов попкорна. Шум в зале порой делался громче выстрелов и взрывов на экране. Когда появился главный Мужчина, крик, визг, топот вокруг сделались поражающие. От зала фильму во всём находилось сопровождение. Ударил герой противника – клич; обнял героиню – визг; сглупил – смех; облегчился в кустах – аплодисменты; показал торс – топот. Наибольшая шумливость вокруг получалась при драках и танцах. Иногда не мог я различить – кричат ли паникующие в фильме горожане или радующиеся спецэффектам зрители. Песни всем залом сопровождались. Парни рядом с нами вздёргивались, когда Tiger выбивал десятки в дартс, когда сносил ударом одним противников многочисленных. Сзади ребёнок грудной плакал – родители, нужно полагать, иного воспитания (кроме боевиков болливудских) не знают.
Крик нескончаемый я объяснил тем, что иного послабления эмоционального для индийцев не случается. Свободы нет в чувствах; теснота вокруг. Подростки напряжение теряют, когда на фильмах кричат, а взрослые – тем, что детей лупят. Видели мы воспитание такое; близким примером были се́мьи из поезда вчерашнего. Мать и отец били дочь свою (лет четырёх) – казалось, голову ей повредят. Другой отец, дочь на полку поднимавший, почувствовал её сопротивление и в злости так швырнул её вперёд, что ударил об стенку; несдержанностью своей был раздражён и потому вдогонку прибил дочь ладонью. Сын (лет шести) от родителей выбежал, остановлен был мужчиной чужим и бит им в назидание, возвращён к матери и бит повторно – уже матерью. Так же индийцы жестоки к собакам, кошкам. И здесь подтверждается впечатление моё о непосредственности большинства индийцев. Их эмоции ничем не прикрыты, односложны. Официант, недовольный чаевыми, такое разочарование на лице покажет, что недавняя вежливость его лицемерием вспомнится. Узнав, что товар в лавке не по твоему интересу выставлен, продавец без стеснений улыбку небрежением сменит и без слов – взглядом лишь – попросит товар его не загораживать от прочего люда. Когда при Тадж-Махале гид нам навязался на краткий рассказ (тогда ещё не наловчились мы открещиваться от людей таких), был он мягок, обходителен – в поведении показывал значимость свою; когда же я отказал ему даже в малой плате, значимость всякая изошла мгновенно, сменилась пришибленностью, унынием таким, что захотелось его утешить – пусть бы сотней рупий (я этого не сделал). Индийцы не таят эмоций, сразу воплощают их в движении, мимике. Потому и детей лупят – сами от инфантильности не отошли. В той же России лупят дочерей и сыновей с жестокостью не меньшей, но делать это стараются в уединении семейном, а значит – почитают чем-то неприличным. Это – шаг вперёд. Прячутся; чуют, что гадостят. Индийцы уверены в насущности пощёчин и тычков, не возмущаются, когда ребёнка их густо шлёпнет чужой им человек.
В мыслях шатких я отдалился от кинотеатра. Но размышления эти не мог не привести, ведь часто в путешествии нашем возвращаюсь к ним, а значит, почва им существует явная. Однако – ещё несколько слов о кинотеатре.
В антракте зрители увидели нас и в том получили новое развлечение. Сделалось им наше полулежание бездвижное в креслах лучшей мизансценой.
К концу фильма (в преддверии неизбежного счастья ) я задумался о пельменях с бульоном мясным, о борще со сметаной, о блинах с мёдом в Спас Медовый…
Амрицар – город небольшой, знойный; во многом Джайпур напомнил; отличие было в сикхах, в условной чистоте. Здесь так же гниют свалки уличные, а тротуары туалетом пахнут, но забота о порядке видна; промежутки тесные между домов мусором не завалены.
Сикхов здесь увидеть можно всяких. И одетых в лучшие одежды, с мечом длинным – в соблюдении традиций всех; и новомодных – в джинсах, с пёстрым пучком на голове; и разболтанных, не пугающихся тюрбана своего, с головы обвалившегося, волосы обнажившего. Одни торговлей заняты, другие велорикшами устроены. Кто-то сло́ва английского не знает; кто-то свободен в речи многоязычной. Почти все они от индийцев прочих тем отличны, что телом здоровы. Здесь видел я рослых, крепких мужчин. Жизнь иная – есть у людей сила для ссор дорожных, для криков, ругани. Не то в Агре, Джайпуре. Там силы все сочтены, движения скупые (символом того пешеходов коровистых назвать можно или велорикш, размеренно педали выжимающих). В Амрицаре пешеходы бегут, водители вслух пререкаются.
Такая живость мне нравится, равно как улыбка сикхов – здоровая, ясная.
Сикх, раздевшийся для омовений в озере Золотого храма, не подумал спросить от меня денег, после того как я фотографировал его несколько минут. Только улыбнулся и кивнул на прощание.
Нищих-попрошаек в городе много; они не так навязчивы, как их южные коллеги. Городской полицейский остановил нас для назиданий; попросил не закладывать на спину сумки, не хранить в карманах бумажники, телефоны. Заметив, что его предупреждению мы улыбаемся, поведал нам о карманниках местных и тем едва ли не пересказал слова ювелира из «Непарного браслета»: «Вор, знающий своё дело, никогда не похож на вора. Науке о воровстве известно восемь способов, которыми пользуются те, кто достигли вершины этого ремесла: усыпляющие средства, миражи, укрощение непокорных духов и другие. Искусный вор может обобрать тебя до нитки и преспокойно уйти, а ты будешь смотреть на него и не шевельнёшь пальцем. Вор может стать невидимым, может принять вид доброго, благочестивого человека и заставить тебя благоговеть перед ним» {67} . Чтобы болтливость полицейского утишить, мы обещали ему заботу о сумках, кошельках и телефонах; едва замолчал он, поспешили раскланяться…
Озаботились мы поездкой завтрашней в Химчал-Прадеш. Думали прежде, что задержимся в Пенджабе на два-три дня, но сейчас, в близости гор (несколько сантиметров по карте) заторопились в Кашмир. Оттого и решили покинуть Амрицар столь спешно.
Автобусов частных до Манали (где ждёт нас краткий отдых и акклиматизация) мы не нашли. Удобства все – государственные. Ждём от поездки этой тесноту и тряску.
Каждый будний день отходят два автобуса: в 14:30 и в 16:00. Билеты в продажу отдают лишь за полчаса до отправления.
Сейчас полночь; признаю в себе слабость. Виной тому – сон скверный в поезде. Лишь за два часа до Амрицара вагон расслабился до мест свободных (отлёг я от Оли на койку стороннюю). Прогулки сегодняшние в жар тяжёлый бодрость мою исчерпали ещё глубже.
Напоследок скажу недовольство своё о языке русском. Нет в нём слова, желание спать обозначающего. Сонливость? Не то. Сонливость – это аппетит, а во мне – голод. Как же его назвать?
Температура у нас с Олей весь день не опускается ниже 37 °C. Причин этому не знаю.
Спим мы в отеле подле автовокзала. Желая сна приятного, согласились 1150 рублей платить за кондиционер и кровать широкую. Подъём назначен на половину одиннадцатого. Наконец выспимся.
…
Перед сном вспомнил, что впервые узнал штат Пенджаб от дяди Гиляя. Не был он знатоком индийской географии, однако записал в «Скитаниях» своих школьные фонетические забавы: «Историк и географ Николай Яковлевич Соболев был яркой звёздочкой в мёртвом пространстве. Он учил шутя и требовал, чтобы ученики не покупали пособий и учебников, а слушали его. И все великолепно знали историю и географию.
– Ну, так какое же, Ордин, озеро в Индии и какие и сколько рек впадают в него?
– Там… Мо… Мо… Индийский океан…
– Не океан, а только озеро… Так забыл, Ордин?
– Забыл, Николай Яковлевич. У меня книжки нет.
– На что книжка? Всё равно забудешь… Да и нетрудно забыть – слова мудрёные, дикие… Озеро называется Манасаровар, а реки – Пенджаб, что значит пятиречье… Слова тебе эти трудны, а вот ты припомни: пиджак и мы на самоваре. Ну, не забудешь?» {68}
До того памятен отрывок этот, что «Пенджаб» и сейчас неизменно отзывается во мне «пиджаком».
20.08. Манали
(Высота Манали – 1900 метров над уровнем моря [44] . Население – 18 тысяч человек.)
День вчерашний был дорожным. Сейчас, слушая дождь за окном, сижу в кровати тёплой, и лучше бы мне спать, но записи делаю эти в ущерб сну, ведь чувства не должны остыть до корки твёрдой (я не пишу воспоминания, но жизнь действительную в слова перевожу).
Мы на границе Химчал-Прадеша. Дух горный здесь уже ощутим. Утром завтрашним Кашмир откроем.
На вокзал амрицарский прибыли за два часа до отправления. Заблаговременность напрасная; за неё мы наказаны были шумом нестерпимым от людей и автобусов. Одурманило нас, будто просидели под турбиной включённой самолёта. Водители гудели, и гудки тональностей разных были, но все – губительно громкие. Кричали пассажиры. В свистки дули кондукторы. К тому – духота, жара, пыль.
Автовокзал я изучил прогулкой краткой. Искал лучших мест и соблазнился указателем к залу ожидания. Поднялся на третий этаж. Зал был без сидений. Все ожидающие спали на полу. Задумал я их фотографировать, когда сикх ко мне подбежал. Ждал я, что заговорит он о нарушенной интимности своих собратьев; недовольство сикха оказалось иным. «Зачем ты этих грязных фотографируешь?! Посмотри на меня! Вот, я встану здесь, а ты фотографируй!»
Автобус прибыл. Билеты стоили нам 460 рублей на двоих. Водитель отъезд объявил скорым – нарушив расписание. Оля была в ladies room; ждать её никто не хотел; пришлось укладывать рюкзаки на крышу излишне медленно. Даже ссора с водителем была, когда он нетерпение своё показал – не упредил меня, стоявшего на крыше, и тронулся легонько; мог я вылететь, но уцепился за поручни. К моим крикам о глупости водителя нашлись помощники. Пока мы переругивались, прибежала Оля. Отбыли (при всех задержках на ссору) за десять минут до указанного в расписании часа.
От кондуктора узнал я, что в Манали мы приедем к утру. Четыреста двадцать километров пути за шестнадцать часов. Места все заняты.
Вдохновением был автобус, с гор вернувшийся, – мы увидели его на одной из остановок. Под тремя окнами (по стенкам) обильными струями показан был обед пассажиров (рис с горохом). Вдохновение от того вышло, что такой же была наша закуска на этой станции…
К этому времени брезгливость ослабла; мирились мы с обедом, накомканным руками в тарелку; покупали еду вразнос – кукурузу, на углях обжаренную, лимоном обтёртую (6 рублей), бобы со специями (9 рублей), рис с горохом (11 рублей)…
По-настоящему горной дорога стала к семи вечера. По обочине, над обрывом, показались обезьяны, окна машин разглядывавшие и тем прикормленность свою к дороге обозначавшие.
Дождь малой дробью начался; пожалел я, что по жаре пенджабской не умел влажность грядущую предвосхитить – рюкзаки без чехлов лежали.
Случился туман. Обратился он облаком, и дорога стала обрывком трёхметровым. Водитель петлял по извилинам асфальта на скорости неизменно высокой.
Ночь мрачная наступила. Успел я при остановке туалетной снять рюкзаки, в салон их бросить. Теснота автобусная ослабла (к Манали нас вовсе останется тринадцать человек).
Свистел кондуктор (один долгий звук). Автобус притормаживал. Очередной пассажир спрыгивал во мрак на землю движущуюся, хлопал громко дверью. Кондуктор свистел (два коротких звука). Мы ехали дальше; вглядывались в темноту – различить пытались, куда здесь сойти можно, для какого приюта.
Воздух чист; ветром оконным омыли мы глаза от пыли пенджабской. Дышалось вольно и даже схолодилось.
Водитель всё так же лихо во мглу шёл, руль выкручивая. Проступали резко (от фар белесых) дома, машины, обвалы каменные, деревья. Дивились мы, что по слепоте такой не опрокидываемся никуда.
Спать не удавалось. Едва изомнёшься на кресле крохотном в удобство, глаза закроешь, как поворотом очередным удобство всё разваливается. Кроме того, водитель, себя от сна оберегая, музыку включил.
В полудрёме глядели мы на дорогу; становилась она утлой, пробоинами усыпанной. Теперь уж ехали медленнее. Более того – плутали. Трижды направлением ложным водитель обманывался; и крик был; и кондуктор в дождь выбегал – свистком задний ход регулировал; и холодом тянуло в двери открытые, пусть надели мы свитера, куртки.
Слева пропасть проглядывала мрачная; из неё огни домов показывались. Ехали всё выше – мотор ревел под ритмы индийские.
Освободились места; мог я лечь, но не решался; дорога была развлечением – непозволительно подъём такой для сна пропускать.
Впереди (по густому облаку) от фар слабых аквариум был мутный. Подавшись вперёд, водитель и кондуктор выглядывали в лобовом стекле дорогу. Краткими просветами выныривали мы в прозрачность, но затем вновь случалась мгла.
Было ещё несколько тупиков, от которых кондуктору опять свистеть нужно было под дождём. Ещё два раза застревали мы на камнях; пассажиры в окна высовывались – подсказки к движению кричать. Манёвры эти шли вблизи от пропасти.
Поглядывал я на двух китайцев, сзади меня спавших со ртами открытыми и слюнями, от зуба к зубу протянутыми. Думал о глупости их – такие виды упускают… Вскоре я сам уснул. В пробуждении от Оли узнал, что видела она в бессоннице и дамбу большую (струи во мрак пускавшую), и тоннель десятикилометровый, и леса мглистые…
Гудит мотор голосом хриплым. Нависают подъёмы каменные над нами; по ним – кусты, трава.
Водитель сигарету травяную закурил, закашлялся. Спор с кондуктором начал; в жестикуляции руль потерял – дёрнуло нас так, что и китайцы проснулись.
Пробуждение окончательное было всем от таксистов – вбежали они к нам, едва остановился автобус на станции в Манали. Было влажно, были сумерки.
Город оказался гостиничным. Гостевые дома стояли по шесть, по семь в ряд. Прогулкой пятнадцатиминутной нашли мы отель в 250 рублей (включён в цену был налог на роскошь в 10 %, но чем роскошь эта обозначалась, мы не поняли).
Сонливость – состояние привычное. Соблазн вздремнуть был неодолим. Уговор о часовом отдыхе окончился четырёхчасовым сном.
Манали – город горный; здесь началась акклиматизация наша для Ладкха (обещаны в пути перевалы высоты исключительной).
От жары переход был стремительный к холоду. Дождь не ослабевал с утра. Подняли мы со дна рюкзаков вещи тёплые, но тепла не нашли. Первыми покупками оказались шапки, перчатки и шали шерстяные. От мороси укрылись мы плащами.
Индийцы здесь иные. В глазах – разрез азиатский, лица выдублены. Среди туристов – повторение от Гоа. Много здесь белокожих, образа растаманского, распущенного – при волосах длинных, одежде кожаной, амулетах, вязочках. К вечеру познакомились мы с двумя ребятами, живущими в Панаджи, но по жаре летней к Ладакху переехавшими. Звали они в кафе – для лучшего знакомства. Глядя на балахоны, на дреды короткие, помня прощание с Гоа, я должен был отговориться другими интересами.
…
В горах зелёных, облаками одетых, устроился Манали – тихий, уютный. Шум здесь стягивается по кафе и комнатам подвальным; в прочем – спокойно.
Температура у Оли до 36,1 °C опустилась.
Пахнет елями. Чистые улочки. Дома жилые в стороне от центра поставлены. В центре – гостиницы.
Предупреждения развешаны о пагубности алкоголя при перепадах давления горного; алкоголь здесь в обилии продаётся, чего прежде в Индии мы не видели. Одеваются все по-своему: в соседстве идут мужчины, один из которых – в шлёпках, шортах, майке; другой – в ботинках, штанах, свитере. И не сказать, кто из них прав, ведь тепло и холод тут в тесноте сосуществуют.
Шапки шерстяные за 70 рублей продаются; в магазине соседнем туры предлагают вертолётные, рафтинговые – за тысячи долларов. Ресторан приятный открыт, а подле его окон рис варят (17 рублей, в тарелочке картонной, с овощами острыми). На ступеньках к банкомату стоят нищие в толстых, подтухнувших от влажности куртках – просят от снятых тысяч 5 или 7 рублей.
Занимались мы больше тропками лесными, храмами старыми, по холмам поставленными. От храмов, однако, интереса не было никакого, кроме надписей об их древности.
В подъём от Манали дома́ встречались заброшенные, детские площадки, порушению отданные. Здесь же при хозяевах яки ходили, кролики ангорские перебегали. Тропы некоторые колючей проволокой сопровождены – не то в обережение людей от зверей диких, не то для безопасности самих зверей от внимания людского.
В развлечение нам с Олей были обезьяны, по соснам прыгающие. Мы кормили их и общение имели ближайшее.
К вечеру вышли в Старый Манали, где индийского сохранилось немного. Больше – европейского. Кафетерии, татуировочные салоны, магазин гитар; песни Боба Марли, Джона Леннона. Здесь нам любопытство было лишь до старых домов – на столбах деревянных стоящих, по кровле укрытых каменными пластинами.
…
Не получилось раннего сна. Половина первого ночи.
Наняли джип с водителем; условились в два дня подняться до Леха. Плату сторговали до 6300 рублей. Возможности были иные – общий джип (2300 рублей на двоих), автобус малый (1150) и автобус рейсовый; но предпочли мы свободу иметь в остановках, в движении. Завтра в пять утра – отправление. Оля подозревает, что по сну столь скудному будут наши тела слабы, горной болезни подвластны. Надеюсь, что в Лехе посмеяться смогу подозрениям этим.
22.08. Лех
(Ладакх, «страна перевалов», историческая область в штате Джамму и Кашмир. На Севере – горы Кунь-Лунь, на юге – Гималаи. Туристы называют Ладакх Малым Тибетом.)
Не было вчера (21.08) возможности ни единой строчки записать. И сейча́с пишу, дрожь в руке одолевая. Дрожь эту объясню позже. Начну запись от пробуждения вчерашнего.
Снились нам кошмары; каждый час пробуждение случалось в бредовости. Проспали. Одевались спешно.
Глаз мой отёк от укуса комариного – веко разбухло; боли не было, однако неудобство вышло явное.
Дождь к утру стих, но влажность чрезвычайной оставалась. Приготовили мы для быстрого доступа дождевики и вещи шерстяные.
Вышли с опозданием в двадцать минут – без завтрака и умываний.
Водитель назвался Кармой. Хорошее имя. Был он мал, жилист, улыбчив.
Пятьсот километров пути начались для нас, несмотря ни на что, бодростью – ждали перевалов интересных, сёл горных.
Облака густые по холмам кочевали. Дорога бугристой была, трясучей; её рассекали речки дождевые. Камни, метра по три в обхвате, лежали под склоном, на обочине; водитель поглядывал вверх, на гору, а там скалы навесные обещали от себя опасность неудачливым путешественникам.
Русла сухие встречались от рек широких; по ним мосты корёженные лежали – массивные, железные, проломленные валунами.
Разглядывали всё по сумеречности утренней. Рассвело до ясности лишь через час – увидели мы зигзаги дорожные, по склону уложенные, и разрезающие их полосы могучих труб.
Однако вскоре рассвет утих – поднялись мы в облако. Обзор мутным стал; дорога лоскутами шла короткими. Когда попадали мы в ветром расчищенные повороты, видели, что обрыв под нами молоком залит, из него ёлки едва различимые стоят.
Водитель включил прочтение мантр под музыку. Слушаем монотонное «Ом мани падме хум». Берёзы – белые, здесь непривычные. Ослы большеголовые. Коровы с мохнатыми хвостами. Грузовик, в кювет опрокинутый. Мгла. Серые обломки камней.
Дорога разломана, размыта, а вокруг всё бело. Холод задувает – сижу в шапке шерстяной. Мотор гудит, пахнет лесом, влагой. В груди – слабость. Будто захватило мне дух и не отпускает уже больше получаса. Что-то пёрышком выхолаживает лёгкие.
Скалы острят из тумана. Шумят водопады. Глухие фары встречных машин.
Поднявшись окончательно из облака, смотрели мы теперь на то, как растекается оно по склонам, расщелинам. Будто лавина – мягкая, медленная.
Остановка первая рассчитана была краткой, но по увлечённости моей продлилась полтора часа, закончилась криками.
Не желая завтракать, отбежал я к хижинам (устроено здесь малое селение) – искал вид хороший для фотографий. Для вида лучшего подняться пришлось на холм, и в движении этом я резвость ощутил – пропала слабость, холод из груди вышел. От холма разглядел я вдали (по склону) обрыв и утёс – в обрыв выдающийся, над лесом нависающий. Соблазн спуститься. Минута сомнений – и бросился я вниз, скользя по траве мокрой, землю рыхлую обваливая. Перепрыгивал с камня на камень, речку вброд перебегал, болотце мелкое вытаптывал. Непрестанное движение. Тепло в мышцах. Живые ноги. Живое дыхание, в нём – смех. Мне хорошо. Долго так бежал – в довольстве необычайном, которое усилилось, едва остановился я на краю утёса заветного и горы ближние смог обозреть.
Широко дышу, здоровая грудь, живот, чресла. Сознательность подлинная возможна при теле здоровом; боли, слабость опьяняют. Тело должно быть трезвым от болезней. Калокагатия.
Взглянул на телефон – узнал, что бег мой был получасовым. Обо мне могли беспокоиться, однако не хотел я торопиться от вида полученного.
Сидел в созерцании, мыслями себя не тревожил. Следил за тем, как облако поднимается в гору, обзор закрывает низину и дорогу, по которой мы не так давно ехали.
Задумал наконец возвратиться и удивился тому, какая в теле звучит немощь. Ноги мои готовы были к быстрому подъёму, но не мог я надышаться вдоволь, поэтому останавливался часто. Восход по влажности вышел тяжким.
Вскоре звонок мне был с номера неизвестного. Оля. Узнал я позже, что спросить ей пришлось три телефона, прежде чем нашёлся сеть улавливающий. Сказала она в спешности, что обо мне тут крик от водителя. Через тридцать минут закроют выезд на перевал – торопиться нужно. Прогулка моя протянулась уже в час двадцать минут.
Я пробовал бежать вверх, но останавливался в одышке. Можно ли поспеть? Можно ли здесь подниматься быстрым шагом? Почему недостаёт дыхания? Твердил я себе поговорку свою: «Пока не упал – можешь», и шёл. Дышал ртом распахнутым, горло холодил. Когда уставал шагать вверх напрямик, бежать принимался по диагонали – зигзагами.
Тело в мягкости, бесчувственности было, когда увидел я холм, с которого бег свой начинал. Тут встретили меня жители местные, водителем на поиски взбудораженные.
Шлагбаум к моему возвращению был опущен, но Карма заранее выкатил джип вперёд – с военными о скором отъезде условился.
Крик был к моему приходу, негодование. Грозился водитель в Манали вернуться, но потом утихомирился. Выехали к перевалу. Дорога здесь опасная была, и перекрывали её в наступлении облака – того, чьим движением я наслаждался с утёса.
Карма ещё оттого возмущался, что пропустили мы грузовики тяжёлые. В своём возмущении он оказался прав – одна из этих машин увязла крепко в грязи дорожной; простой был в двадцать минут.
Скользкая, узкая, изрытая колёсами дорога. Подле неё – грязные, будто закоптелые снежники. Видно, как на поворотах впереди нас кренятся, раскачиваются к обрыву грузовики – будто игрушечные, лёгкие.
Тряска постоянная – если не держаться, голову разобьёшь о потолок; устают руки.
Дорога всё чаще взрыта ручьями. По кювету разбросаны строительные сетки, арматура. Краткими полосками попадается асфальт – шум стихает до шелеста, но вскоре возобновляется в прежней громкости.
Мантры водителя оказались диковинно перемешаны с песнями Red Hot Chilly Peppers, Beatles, Limp Bizkit.
Когда вышел я из машины на перевале Рохтанг Ла (высота – 3980 метров над уровнем моря), хмель в теле ощутил явный. Не было твёрдости в ногах, сердце холодное стучало неровно. Не понимал я, от пробежки недавней чувства такие получились или же от подъёма резкого в два километра (Манали на высоте 2000 метров расположен). Холод. Заматываемся шарфами, выдыхаем пар.
Дорога вниз от перевала виделась сверху извитой лентой гимнастки. К селу Танди изменилось всё необычайно. Здесь, в долине, была жара. Горячий песок. Галечная пустыня. Пришлось раздеться до футболок.
Чаще встречались стада овец, коз; вновь увидели мосты порушенные, а в стороне – новые, им взамен протянутые.
Ехали мы по ущелью, вдоль реки мутной, будто из масала-чая налитой. По склонам гор виднелись лоскуты пашен.
К одному из святилищ водитель наш положил 10 рупий (6 рублей), надеясь взносом таким безопасную дорогу себе вымолить.
Горы здесь ребром стоят – обсыпанные, пустынные; шапки у них – от снега чёрного (из-под него водопады хлещут); и бородавками сереют худые останцы.
Останавливались мы часто из-за ремонта дорожного, и дышать должны были пылью густой. Не было тут свежести прохладной – только клубы пескf. Не верилось, что зимой снегом укрыты эти проезды и движение всякое прекращается. Только летом доступен Лех машинам; в прочее время дороги (одна – из Шринагара, другая – из Манали) перекрыты.
Дальше был запылённый Кейлонг – малый городишко, жители которого в тряпьё укутаны (в спасение от пыли вездесущей). Я и сам повязал себе на лицо тряпку; горло тем не менее иссушилось, на зубах хрустел песок.
Лысые, мертвенные горы. Ничем не прикрытое солнце. Насыщенное синевой небо; облака – крепкие, упругие, словно бело́к, выбившийся из треснувшего при кипячении яйца.
Чайные домики встречаются – для отдыха путников. Заносит их пылью. Хозяева поливают порог речной водой и тем спасаются.
Веко моё вздулось ещё больше, но боли в нём по-прежнему нет.
Дорога узкая; порой по десять минут плестись нужно за грузовиком, чёрные клубы от него вдыхая.
К новому перевалу опять схолодилось. Надели мы всё шерстяное. Слабость повторилась. Перевал Баралач Ла – 4253 метра. Мороз в теле колючий. Ноги сжались, заледенели, как будто затекли, но так, что ни одним движением их не расшевелить, и длилось чувство такое полтора часа. Чудилось мне, что зарядка телу необходима – пустить кровь по венам. От такой глупости задумал я отжиматься на перевале. Лучше не стало; дыхание теперь надолго одышкой обратилось. Зрачки у меня, как у Оли, в крупинку пшена стянулись; по белка́м сосуды красные разошлись.
Шатало меня в шаге. Руки подсохли, кисти сморщились, ладони побелели.
Наконец, ещё засветло (к 17:00), доехали мы до стоянки ночной – палаточного лагеря близ села Сарчу. Удобствами здесь были свет от радиатора, кухня полевая. Соседями оказались семеро японцев. Палатка двухместная – 1150 рублей.
Тихо здесь в окружении скал жёлтых. Место – высокогорное (4235 метров), и ждали мы слабость, но её не было. Мы в бодрости находились и вечер этот отдыху отдать не желали. При солнце для вида хорошего взобрались на холм ближайший – курумом из камней острых обсыпанным.
Глаз мой болен был по-прежнему (не удавалось ни жмуриться, ни моргать), и казалось это единственным недостатком к нашей радости. Нравилось мне это место, и дивиться нужно было новому лику, увиденному от Индии в нашем путешествии.
На холме соседнем собраны три о́бо. Оля предложила оставить о себе такой же мегалит; я согласился и надумал сделать его самым высоким. Так началась часовая работа, в которой мы поднимали валуны, оббивали пластины до нужной формы. Оля кратким трудом утомилась, села в сторонке.
Солнце утянулось за горы, когда я закончил наш обо. Оля в дыхании чрезмерном вниз по куруму пошла. Остановилась. Пошатнулась. Расставила руки. В напряжении особом села. Прошептала, что дальше идти не может. Сказывалась высота. Лицо Олино выцвело. Губы бледные ссохлись. Глаза беспокойные были. Я уговаривал встать – спуститься к лагерю и там уж отдохнуть, однако Оля противилась. Сидела недвижно. Минутой позже разрезало её рвотой обильной – едва успел я придержать косу, затем и всё тело, подавшееся к камням острым. Мертвенные руки, лицо.
Запах недопереваренной пищи.
Возвращение в лагерь было получасовым. Положил я локоть Олин себе на шею, обнял её – неспешно вёл вниз. Сыпались из-под шагов наших камни. Несколько раз соскальзывала Оля – целиком на мне повисала; благодарил я крепость, цепкость сандалий своих. Трудность наибольшая была, когда с валунов больших спускаться приходилось. Оля шла молча; терпела, натужив лицо. Изредка только предупреждала, что близок обморок.
Обморока, однако, не случилось. Сошли мы до площадки земляной, где не было уже опасности от камней; там остановились для отдыха.
Позже узнали мы, что при тошноте началась для Оли краснота дней – на неделю раньше рассчитанного по календарю.
После отдыха пятиминутного убедил я Олю идти дальше. Вставать нужно не спеша, чтобы не пустить по телу кровь излишне быстрым ходом. Для начала вытянуть по земле ноги (расслабить от затекания); подогнуть их вновь и приподняться, оставшись при этом согнутым вперёд; выждав несколько мгновений, можно наконец выпрямиться.
Перед лагерем рвота повторилась.
К палатке шли мы под руку – не хотела Оля, чтобы увидел кто-то слабость её, потому отказалась вновь опереться на мои плечи, положить на шею локоть.
Вскоре услышал я от хозяина лагерного, что тошнота сильная была у двух японцев. Так худо было им, что их товарищи потребовали возвращения спешного в Манали. Проводник, нанятый ими для Ладакха, уговорил ночь выждать – объяснил особенности акклиматизации.
Оля чуть оправилась, вышла ужинать – в полевую столовую, организованную в одной из палаток. Во мне всё крепким оставалось, только голова утяжелилась. Избавления от тяжести этой ждал я во сне ночном. За ужином разговор с проводниками вышел о Путине, о Медведеве, об убийстве сикхами Индиры Ганди, об индийских политиках.
Спать надлежало без отлагательств. Назавтра отъезд ожидался в шесть утра. Впереди – ещё 250 километров горных дорог, а первым перевалом нам ожидался Лачунг Ла (5065 метров).
Тихо было и холодно. Оделись мы в шерстяное, в спальники застегнулись, одеялами толстыми укрылись – словно шинелью (их бесплатно выдавали в каждую палатку). Оля в слабости лежала; нужно было её укутать. Несмотря на обилие вещей тёплых, было нам знобливо. Торопился я заснуть, не умея предугадать, что кошмаром окажется эта ночь.
…
Тысячу гвоздей вбила мне в голову ночёвка в Сарчу. Стонал я, вздёргивался. Сна не было. Было метание. Бред. Слабость. И по голове монотонно молот ударял. Дыхание сбивалось, сердце ритм теряло. Запыхавшись, подняться я хотел, но движением любым боль головную усугублял; потому мертвенно лежать старался.
Забывшись, снов не видел. Очнувшись, не верил, что забывался, и только по часам понимал, что забытьё действительно было.
Голова ширилась красным тяжёлым шаром. И гвозди – один за другим – в такт сердцебиению втискивались мне в макушку: каждый – в три удара, по самую шляпку: раз, два, три-и; раз, два, три-и…
Боялся я глотать таблетку – не знал, как подействует она на высоте горной. Уверен был, что если боль она отяготит, то кровью всё окончится.
Жар сменялся холодом. Я сбрасывал одеяла, расстёгивал спальник, снимал свитер шерстяной – чтобы через двадцать минут возвратить всё в прежнее положение. Потел, дрожал.
В груди – тёмное присутствие тошноты. Думал о ведре. Знал, что не успею к нему подняться. Нельзя запачкать спальник.
Всё затекает, немеет, пульсирует.
Если долго в положении одном лежать, голова утихает постепенно до редких гулких ударов. Но даже малая подвижность возвращает разом все боли.
Из забытья пробуждался я нередко от шёпотов долгих: «Же-ня. Же-е-ня». Тряс я Олю, чтобы узнать, к чему такие шутки, но отвечала она в слабости, что не понимает, о каких шёпотах я спрашиваю.
Дыхание – пустое, затяжное, глубокое.
Решился таблетку проглотить – обезболивающую. Боялся худшего, но в мучениях таких не мог не рискнуть.
Помогло.
Удары ослабли. Сознание прояснилось, и первой мыслью было то, что ни разу – вечером и ночью – мы с Олей не зевнули, не потянулись, пусть бы сонливость на груди лежала грузная.
Неужто можно в болях постоянных осознанность сохранить? Сколь сильным должен быть ум для усердия такого! Ведь мысли все к страданиям стягиваются физическим. Это подобно тому, чтобы при сирене пожарной книги читать. Я признал себя счастливым после размышлений подобных, ведь могу почти без оговорок сознание своё в трезвости содержать – не опьянённым ни алкоголем, ни похотью, ни болями. Краткие исключения лишь подтверждают мне радость крепкого сознания (по меньшей мере к крепости приближающегося).
Так думал я, а тело расплющивалось, придавливались, в скалах утопало. Нужно было валуны для обо таскать! И такие непременно, чтобы мегалит наш наивысшим получился…
Сознание проржавело музыкой вчерашних дней. Монотонно куплеты повторялись, смешивались. Вновь признал я, что мелодии сознание засоряют. Худшим примером к тому – мантры водителя. Однообразным долблением опустошают они ум от пёстрых свободных мыслей. Как завывания племенные, как молитвы религий – осознанности они вредят. Нет во мне простора для размышлений, когда заполнен ум тюками пустозвучия. Как не могу я писать под музыку, как в размышлениях к тишине иду, так и в прочей жизни хочу лишить себя липкости мелодий, а липучесть у них особенная. Всё к одному – алкоголь, музыка, вожделение… Не могу я уши свои укротить до глухоты выборочной, а потому должен не просто музыки лишиться, но – выучиться не воспринимать её. Слишком дорожу трезвостью ума, чтобы ослаблять её развлечениями подобными.
Так думал я, а зубы скрежетали, будто со стороны задней песком присыпаны были.
Жажда со мной случалась странная. Пить хотел нестерпимо, горло в сухости сжималось. Но двух глотков из бутылки довольно было для утоления…
Наконец рассвело. Встал я, и неожиданно боли все изошли. Будто не было ничего. Не ждал я диковинности такой. В голове лишь тяжесть малая сохранилась.
Осторожная зарядка бодрость вернула, и был доволен я чувствами своими, пусть руки оставались в неприметной дрожи.
Завтракать мы не хотели. В 7:15 выехали к перевалу Лачунг Ла (5065 метров).
Из-за болей головных о Дневнике я не вспоминал. Не было во мне сил даже для короткой записи. Воля нужна великая, чтобы работать вопреки мучениям физическим. Уверен, я нашёл бы её, если б обречён был до конца дней мучиться головой. Нужно только придумать положение верное, в котором пульсация височная стихает; сжать зубы и – упаковывать настойчиво мысли пудовые в обёртку слов. Вспоминаю Франца Кафку. В дневниках указывал он на длительные, глубокие головные боли; порой удавалось ему работать им вопреки – шершавыми ночами, в близости безумия и смерти. «Записи о путешествии сделал в другой тетради. Вещи, над которыми я начал работать, не удались. Я не сдаюсь, несмотря на бессонницу, головную боль, общую слабость. Но мне понадобилось собрать все свои последние силы» {69} , – слова эти, прочитанные лет в пятнадцать, вдохновили меня жить и работать вопреки всему .
Шум мотора. Мантры водителя.
Я веселил себя, на сурков полноватых поглядывая, – выходили они к дороге, вставали на лапки задние, мордочкой вели. В каньоны широкие вглядывался.
Изо рта поутру шёл пар.
Горы здесь диковинные. Бордово-коричневые, с полосками зелёного; все в подтёках, разводах, будто игрушка перед нами выставлена – рамка настольная с песком перетекающим и маслом – размера громадного; Шива перевернул её однажды, песок натёк весь вниз, горы из себя сложив, и нужно теперь перевернуть рамку обратно…
Дорога продолжалась вдоль реки; по берегу высились башни жёлтые – песчаные останцы, крепости природные с разнообразием пещер, обмывов, навесов.
Всё чаще встречались военные лагеря. Зелёные казармы, автомобили, площадки вертолётные, антенны.
К перевалу очередному боли не повторились, но глаза отяжелели, покраснели. Два ядра, не способные смотреть, только – поглядывать.
От спуска видно было, что гора петлями одной дороги изрисована; были они столь частыми и путаными, что чудилось, будто дорог тут несколько.
Повторилась жара. В отстранении следил я за тем, как по узине, вблизи от обрыва, обгоняем мы грузовики – с криком непрестанного гудка.
В прогулке по селу Панг (4630 метров) я чувствовал хмель, но сознание было крепким. Этому можно было радоваться.
Сейчас все поселения оказывались палаточными или барачными (в десять-двадцать бараков). В Панге встретился отель, тоже палаточный.
Ехали мы в тряске вдоль громадин – скал сыпучих, по долине жёлтой. Тело сократить стремилось всякое движение.
Мертво здесь всё. Пустыня. Степь. Только колючие кусты зеленеют. Пыль, песок, камни. Закутанные в тряпьё рабочие плавят в канистрах битум – мешают его с галькой, выкладывают на дорогу. Техники рабочей мало. Кювет кирками бьют.
По дороге этой в Лех едут мотоциклы и велосипедисты – поклажей гружённые; автобусы, минивэны, джипы. А дорога убогая, хилая…
На перевале Тангланг Ла (5360 метров – второй по высоте в мире среди дорожных перевалов) голова моя шариком красным обратилась; вновь пришлось таблетку глотать. Опечалился я такой слабости тела своего.
Тряска продолжилась, и было это безумием.
Оставались мы с Олей без еды со вчерашнего вечера, но голода не знали.
Всё успокоилось за пятьдесят километров до Леха. Появился асфальт; местами обозначилась разделительная полоса – предзнаменование цивилизации человеческой в этих пустынных краях.
Посёлки крупнее стали (обставленные зеленью, со святилищами). Военные базы показывали теперь большее оснащение.
Миновав храмы, ступы древние, монастыри, въехали мы в Лех (3505 метров над уровнем моря). Так к вечеру окончилась поездка наша из Манали.
Отдых мы придумали в прогулке краткой, в ужине. После этого задумали спать. Несмотря на дрожь малую в руках, чувствую себя хорошо и сна жду хорошего.
Гостиницу мы выбрали вблизи от центра, с номерами за 1150 рублей; вода горячая, кровать широкая, занавески оранжевые. В холле гордостью главной фотографии висели хозяина гостиницы с актёрами известными (американскими, французскими, немецкими).
Высказал я всё, что по силам было; за два дня выписался. Теперь – сон.
23.08. Лех
(Население Ладакха – почти 300 тысяч человек. Население Леха – 30 тысяч.)
День сегодняшний был иным. Болезни все отошли. Акклиматизация, нужно полагать, окончилась привыканием к высоте местной.
Завтракали обильно – силы восполняли от невзгод вчерашних. Съели по четыреста граммов сыра ячьего, курда выпили по три пиалы, момо попробовали. Момо – это те же позы [45] , только исполненные на ладакхский манер (жареные или варёные). Начинка возможна разная; мы выбрали баранину.
Затем арендовали велосипеды горные (каждый – по 350 рублей на день), сочтя их наилучшим транспортом для осмотра предместий Леха и построенных там комплексов монастырских. Ждали трудностей от дороги гористой, но уверены были, что слабость в тела наши не возвратится.
Общим счётом сегодня мы проехали шестьдесят километров. Сейчас, слушая гудение в ногах, благодарен я индийцу, выдавшему нам велосипеды.
Вокруг Леха – горы высокие, лысые, пиками острыми оканчивающиеся. Снег лежит по вершинам лёгкой шапкой.
Жар в низине губительный. Пески, камни. Но город зеленью обставлен – искусственно здесь проращённой; под солнцем грубым вены каналов оросительных протянуты, и прервать один из них означало бы сгубить чей-то двор, сад – они вскоре иссохли бы, песком серым укрылись. Зелень городская по периметру деревьями, кустами, заборами каменными обтянута, за ними – безжизненность коричневая.
Скалы (из тех, что покрепче, что урочищем стоя́т над песками) облеплены монастырями, храмами. Вида они тибетского, и не забыть, что Ладакх Тибетом малым называют.
Много в Лехе иностранцев; город устроен туристическим. Нет здесь центра явного, но таковым счесть можно главный базар. От вывесок цветастых, от ресторанов, от сувениров ушли мы на окраины; Лех увидели другой – собранный из улочек тесных, путаных, из переходов тёмных, под крышу убранных (идти нужно согнувшись; лишь фонарём из мрака обозначить получается двери узкие, наполовину в землю опущенные), из стен обваленных, из тупиков, где ступа белая ютится, из тропинок, которые порой уложены по крышам домов (в провалы увидеть можно, как шитьём заняты женщины), из каналов водных, улочки сопровождающих и озвучивающих, из собак лохматых; из запахов благовоний, влаги, побелки. Туристов здесь мы не встретили.
В 11:30 мы уже сидели на велосипедах. Катились вниз – из города.
Алкоголь в палатках торговых выставлен; реклама социальная, пьянству противоборствующая, по камням, заборам нарисована. Предположили мы запои для местных людей; подтверждение нашли вечером – пьяных встретив, запах алкоголя значимый услышав.
Катились мы в лёгкости, пусть солнце ярким было, сухим, настойчивым. Чувствовали, как раскаляется кожа, оставленная непокрытой, однако не потели, не задыхались.
Зрачки наши узкими оставались.
Облака, по горам протянутые, контрастными были чрезмерно – такие в мультиках рисуют: неестественные, неправдоподобные. Низкие, куском ваты, недвижные и белые до ослепления.
Всё здесь буддизму отдано. Мы проезжали ступы старые, порушенные, но краской белой выкрашенные и потому ветхость с новизной объединяющие. Видели монахов шафрановых.
Ехать без тени трудным оказалось. Солнце морило, утомляло. Отступали мы к каналам, воду трогали, но отдыха долгого не искали.
В пустыне этой удивлением был аквапарк малый – для детей поставленный, но в бездействии заболотившийся. Ограда крепкая, за ней – квадрат тесный с озерцом зелёным; топчаны, игрушки надувные и лодки цветные, по озерцу осевшие.
Оля была в тёмных очках. Хотела протереть стёкла от разводов; дышала на стёкла, но дыхания не было. Пришлось тереть посуху.
Дома и заборы в Ладакхе из камня построены, из кирпича серого, будто из пыли слепленного, под буханку нашу оформленного.
Оле трудность была от красноты календарной, но к монастырю Тикси приехали мы быстро, благо путь чаще по спуску лежал.
Тикси зовом трубным встретил нас (так для службы монахов созывали). Велосипеды мы укрепили на цепь возле одной из ступ, после чего по лестницам узким к монастырю отправились. Устроен он диковинно. Ракушками корабль старый обрастает – изменяется облик его от лощёности человеческой до бугристости морской; здесь же обратное случилось: скалу крепкую от вида природного дома́ буддийские изменили. Оброс уступ каждый, откос и склон – от подножия до вершины – зданиями разнообразными. Нет им красоты в отдельности – хижины простые, в белое выкрашенные, при храме главном (таком же неказистом) поставленные. Однако видом общим показывают они красоту оригинальную. И ступени по скале выбиты. И стены над пропастью стоят. И проходы тесные проведены – как улочки лехские. Мы лазали здесь в удовольствие неограниченное.
Чем жили тут в века иные, когда для озеленения края этого техники не было и дорогу облагородить не умели? Кто, при каких мыслях строил монастырь Тикси, какими видел предместья Леха с вершины этой? Не представляю, для чего оставались здесь люди, почему не уходили в поисках лучших земель. Теперь, при взгляде живом на Ладакх, дивился я словам книжным о его процветании в годы древние. Шёлковый путь. Не понимаю силу людей, путь такой устроивших (в горах, в снегу, в пустыне) и всё к одному стремившихся – к прибыли…
К храму вершинному поднявшись, разглядывали мы гольцы пятитысячные, снежники далёкие, камни серые, а среди них – оазис города: зелень, участками огороженная, парники, кусты, деревья, каналы. За оазисом, вдали, вздымалась, вскручивалась буря пыльная; клубы песка гигантские до вершин горных кувыркались – медленно, почти величаво.
В храме мы попали на службу; слушали её от стены. Нашему присутствию не противились. Мы вошли бесшумно, и первым наблюдением было то, как распределяют пожертвования сельчан – каждому монаху (вне расчёта от возраста, пусть бы молод он был до мальчишества) ровной суммой в 300 или 350 рублей выкладывалось на столик с пришёптыванием таинственным. Всё это – под мантры грудные, пуджари начинаемые и всеми монотонно повторяемые.
Выйдя из монастыря, бурю песчаную в близости обнаружили. Заскрипел на зубах песок. К Тикси буря приблизилась ослабленная; вскоре она прекратилась.
Ещё несколько часов бродили мы по скале монастырской, позволяли себе на крыши домов забраться, на стены – для обзора лучшего, для веселья.
В Лех возвращаясь, осмотрели другие скальные строения, но кратко – в предчувствии сумерек.
Возвращение затянулось из-за подъёма непрестанного. В город мы заехали к одиннадцати, по темноте.
От перекриков ночных вновь приметил я странное звучание местного языка – в речи ладакхцев слышатся мне слова русские.
После ужина позднего (на базаре центральном) отправились в гостиницу.
Если днём в футболках мы ходили, к вечеру из рюкзаков кофты достали, то сейчас для ужина надеть должны были вещи шерстяные – до того резкий переход здесь от жары к холоду.
24.08. Лех
(Дворец Леха, видом своим на Поталу указывающий, построен был в XVII веке.)
Буря продолжается – громыхает вдали, но к Леху не близится. Задувает ветром, изредка дождём брызжет, но здесь силу свою не показывает.
Ходили мы неторопливо по городу окраинному; в двери заглядывали приоткрытые или трещинами широкими осклабленные.
От торговцев местных узнали, что туристам многим Лех перевалом служит к походам дальним (горным или лощинным). Можно устроить отсюда тур вертолётный или велосипедный. Гималаи здесь высокие, и тропы организованы к пикам опасным. В стороне отсюда дремлют семитысячники.
Интересовались мы поделками местными; обнаружили, что сувениры в Лехе чаще непальские выложены; местные кустари измельчали давно и предлагают сейчас вещицы скромные, неказистые. Даже украшения для монастырей и храмов ладакхских изготавливают в других штатах Индии, в Непале, в Тибете. Оригинальность была только в лавках антикварных, товары составлявших из реликвий сельских (их распродают ладакхцы молодые, памятью отцов не заботящиеся). Статуэтку работы ручной, трёхсотлетней истории выкупить можно за 4000 рублей, однако документов к её старинности не будет. Утверждал один из продавцов уникальность масок, им предлагаемых; когда же я сказал, что заинтересуюсь только двумя одинаковыми, такие были спешно найдены – обе старинные, неповторимые и только чудом похожие до неразличимости…
День сегодняшний запомнился не прогулками, но разговором, возле ворот Дворца лехского случившимся. Город затянулся в сумрак; многоцветными точками горели фонари; небо над горами ещё синело дневным теплом. Поднялись мы к Дворцу и теперь наблюдали ночь над Лехом, слушали вой собак. Сидели на каменных перилах. Вышел нам в соседи монах. В темноте почти не видно лица. Тёмно-коричневый саронг; постукивают чётки. Белые глаза. Монах смотрел вниз по лестнице. Пахло от него благовоньями, травами, землёй. В тишине, недвижности задумал я с ним говорить. Вопрос для этого составил искренний:
– Скажите, вы действительно в это верите?
Монах повернул ко мне голову. Помедлив, спросил:
– Что?
– Я говорю… вы действительно в это верите?
– Во что?
– В реинкарнацию.
Молчание. По дороге возле Дворца бегут собаки – не меньше десяти. Стая.
– В то, что мы не умираем, но перерождаемся в других телах. Что поступки наши оцениваются кем-то или… чем-то, что – карма… и потом… определяют, кем нам родиться – собакой или мухой.
Монах перебирал кости чёток. Вновь посмотрел вниз по лестнице, после чего ответил:
– Знаешь, был такой писатель Курт Воннегут…
Я улыбнулся. Не ожидал, что буддийский монах в Ладакхе будет рассказывать мне что-то про Воннегута.
– Тогда в Америке был такой анекдот про банкира из маленького города. Банкир был хорошим, трудолюбивым человеком. Но по воскресеньям ходил в казино и там проигрывался. Его этим никто не попрекал; в городке многие играли.
Монах говорил низким, шипящим голосом; я был в напряжении – боялся упустить смысл неожиданной речи.
– Однажды к нему приехал кузен. В гости. Обрадовался благополучию банкира, добропорядочности его, трудолюбию. Когда же узнал про воскресные игры, удивился очень и сказал: «Кузен! Почему ты – образованный, умный человек – ходишь в такое заведение, проигрываешь честно заработанные деньги?!» Банкир ответил ему: «Я понимаю тебя, твоё удивление. Но и ты пойми – это единственная игра в городе».
Монах умолк; от лестницы, снизу, послышались шорохи. Собака… За ней – ещё две. Монах продолжил:
– Слова эти… из анекдота – «это единственная игра в городе» – стали присказкой. Так вот, был в Америке писатель – Курт Воннегут. Пришёл он как-то на выставку, посвящённую эволюции. Пришёл туда с другом – биологом. Они встали возле стенда, где манекенами было показано, как обезьяна шаг за шагом превратилась в человека. Курт Воннегут спросил друга: «И ты действительно в это веришь?» Друг ответил ему: «Нет. Но это единственная игра в городе», – монах взглянул на меня. – Я тебе отвечу тем же.
Молчание. Я не придумал, чем продолжить разговор.
Наконец снизу – по лестнице – поднялся ещё один монах. Тихо поприветствовав друг друга, монахи ушли к Дворцу. Я вглядывался им вслед, но сумерки были слишком густы.
– Вот тебе и монах…
Оля призналась, что не поняла его слов. Я пересказал.
Единственная игра в городе…
25.08. Хундер
(Перед выездом в долину Нубра оформить надлежит разрешение особое, без которого границу нубрскую пересечь не позволят пограничники.)
Время истекает в спешности необычной, потому что знаем о скором возвращении. Не верится, что вскоре должны будем остановиться (для паузы многомесячной перед следующим путешествием). Возвратятся дела обычные; обрастём оболочками социальными, успокоимся от мыслей, здесь зачатых…
Выехали мы на два дня в долину Нубра, что расстелилась подле Пакистана.
Дорога оказалась гладкой, асфальтированной. Лех долгим зелёным фьордом тянулся по расщелине; окончился тонкой косой из высохших кустов; за ним мертвенность курумов началась.
Новые перепады высот ни тошнотой, ни головокружением не отозвались. Слабость была лишь на перевале Кардунг Ла (5606 метров; самый высокий дорожный перевал в мире). Но и там прыгал я по скалам ближайшим, к снежникам поднимался. Облака висели серые, тяжёлые, близкие. От святилища горного мантры магнитофонные доносились, и шелестело всё тысячью ритуальных платочков (они развешаны всюду по верёвкам). Отсюда, с Кардунг Ла, водитель, нанятый нами для поездки (4000 рублей), указал на вершины Пакистана, среди которых особенным восторгом отметил К2.
Яки чёрные по курумам стояли. Вблизи от снежников цветки розовые, жёлтые таились.
От спуска началась долина речная, песочная. Здесь увидели мы белые дюны. Пустыня, колючки, караваны верблюдов, оазисы малые.
Долгой была нам остановка подле зоны военной, к посещению закрытой, – в селе Панамик. Там довелось мне опуститься в бассейн с водой из горячего источника. Обварил себе ноги до красноты и жжения. За тридцать минут я смог лишь до пояса погрузиться, после чего должен был замереть – от каждого движения острота расходилась по телу. Неужто плавает здесь кто-то? Бассейн – крытый, в два метра шириной, при кабинках старых. Безлюдное место. Хотел бы я лечь здесь в зимние холода.
В дальнейшем останавливались мы для прогулок кратких по сёлам, вокруг святилищ; к вечеру оказались в селе Хундер. Здесь нашли домик уютный; сейчас в нём отдыхаем; перед сном вношу эти записи; повсюду тишина мрачная, вязкая.
По Хундеру каналы водные выкопаны – каждый из жителей для огорода своего ответвления делает, а в огородах местных растёт многое: капуста, помидоры, огурцы, зелень, пшеница, подсолнухи. Огорожено всё кустами высохшей колючки – от скота укрыто. Воздух мягкий, тихий; пахнет цветами; и не верится, что Хундер в пустыне устроен – оазисом искусственным.
…
Прочёл я последний из четырёх сборников индийских анекдотов (купленных ещё в Калькутте). Могу теперь высказаться о юморе индийском. Он слаб, уныл, однообразен. Сатира лучшая – заимствована; скудоумия тут не меньше, чем пошлости. Остроты все предсказуемы, поверхностны, выстроены одним эффектом – обманутого ожидания. Вот типичный индийский анекдот (цитирую не из худших):
«Мужчины, желающие попасть в рай, должны отстоять одну из двух очередей: “Для подкаблучников” и “Для тех, кто никогда не был подкаблучником”. Однажды утром Дхарам Радж [46] увидел, что первая очередь вытянулись необычайно длинной; во второй же стоял лишь один маленький мужчина. «Привет, – в любопытстве обратился к нему Дхарам Радж. – Ты уверен, что встал в нужную очередь?» – «Ну, я, честно говоря, не знаю, – ответил маленький мужчина, – но жена велела встать именно сюда…» {70}
Шутки отдельного человека выдают его переживания; юмор национальный говорит о проблемах, противоречиях национальных. Смеются над тем, что чересчур важно, излишне серьёзно. В анекдотах высмеивают люди свои слабости – те, от которых подсознательно ищут избавления. Это можно оспорить, однако мой список основных тем индийского юмора получился любопытным:
1. Пьяные сикхи;
2. Пакистанские министры и солдаты;
3. Оставленные в дураках американцы и русские (только Никите Хрущёву и Гарри Каспарову удаётся избежать поражения, подчас – показать ум, ловкость);
4. Индийские государственные служащие, неумело говорящие по-английски;
5. Вазектомия (слово это известно индийцам, но звучит диковинно для русских; неудивительно: означает оно – «перевязка или удаление части семявыносящих протоков», проще говоря – оскопление; для нас это не так актуально).
Уверен я, что удачно подобранные национальные анекдоты лучше всякого путеводителя подготовят путешественника к особенностям выбранной им страны. В анекдотах народ сам рассказывает о своём характере, о страхах и лишениях. Вот один из немногих найденных мною удачных индийских анекдотов:
«Умер индиец и должен был отправиться в ад. Узнал он, что для каждой страны открыт особенный ад и выбрать можно любой – по своим предпочтениям. Отправился индиец на поиски лучшего ада. Подошёл к вратам немецким; очередь малой была – из десяти человек. Спросил он: “Какие здесь мучения?” Ответили ему: “Для начала вас усадят на электрический стул. Затем уложат на кровать с торчащими гвоздями. Наконец, придёт немецкий дьявол и до вечера будет терзать вас щипцами”. Не понравилось это индийцу – пошёл он дальше. Побывал возле ворот ада американского, русского, французского… И везде предрекали ему то же, что в аду немецком. Оказался индиец возле врат индийских; очередь была здесь необозримо длинной; шум, суета – все хотели записаться в здешний ад. “Какие же тут назначены мучения?” – спросил удивлённый индиец и поторопился занять себе место. Ответили ему: “Для начала вас усадят на электрический стул. Затем уложат на кровать с гвоздями. Наконец, придёт дьявол и будет терзать вас щипцами”. – “Но ведь то же устроено в каждом аду! Почему же здесь такое оживление?!” – “Потому что в индийском аду – постоянные перебои электричества, так что электрический стул почти никогда не работает. Все гвозди давно кто-то стащил. А дьявол… он ведь госслужащий: пришёл, ткнул тебе пару раз, объявил перерыв, пропал на несколько часов, потом, перед окончанием рабочего дня, возвратился, ткнул тебя ещё несколько раз и отправился домой”» {71} .
26.08. Лех
(Монастырь Дискит основан был в XIV веке.)
С водителем условлено было встретиться в городе Дискит. Из Хундера ехали мы на верблюдах двугорбых – втроём: я, Оля и проводник. Шли в близости от гор, по дюнам белого песка. Никогда прежде не седлал я верблюдов и не подозревал в них резвость, не ждал, что легко будут они от шага спокойного в рысь переходить и даже рваться в галоп.
Пробирались к Дискиту полтора часа; солнце было открытым, но ранним и потому мягким. Не обожгли мы лица́, не утомили дыхание. Покачивались между вялыми, загнутыми набок горбами, смотрели на сыпучие отроги. Двупалые ноги верблюдов упадали в песок, и ждал я от каждого шага, что завалиться нужно будет ничком – в опасности такой клонился назад; но колени верблюд держал твёрдо.
Уплатили мы за переход 900 рублей, после чего должны были ещё двадцать минут идти к городу – погонщик опасался пустить верблюдов по асфальтовой дороге, а иных подходов к Дискиту здесь не было (дюны отгорожены речкой и колючими кустами).
Облака – ярко-белые, густыми клочками пуха. Из города, сообщив водителю о своём приходе, мы вышли к ближайшему монастырю. Поднялись по дороге серпантинной (предлагал водитель ехать на машине, но мы отказались – нужно было ногами ощупать местные края).
Монастырь Дискит был очередным лабиринтом, где бродить дозволено свободно. Взбираясь на крыши домов, мы видели обрыв глубокий, слышали, как шумит невидимая нам река. Камни здесь крепкие, уступчатые; по таким лазать – удовольствие; в ином графике я бы непременно задержался тут на несколько дней – крепость рук своих утомить на здешних скалах, пальцы ободрать, колени.
Монахи буддийские привечали нас улыбкой; к назойливости моей, к любопытству моему спокойны были. Завидев с подъёма, как дверь во двор жилой отворилась, я поторопился к двери этой и без опасений прошмыгнул внутрь. Увидел устройство келий здешних. В центре – двор открытый, от него – несколько выходов в комнаты жилые. Поднялся по лестнице на крышу, к двум дополнительным комнатам, и мог неспешно разглядывать кровати, столы, разложенные по сундукам вещи. Был я тих, внимателен. Не ждал деталей особых, но хотел настроение монастырское услышать. Монах движения мои заметил; подошёл к лестнице, постучал по ступеньке; я приготовился оправдываться (глупость показать на лице, сказать, что счёл дверь отворённую проходом общим); оправданий не понадобилось; монах посмотрел на меня снизу, поздоровался; с улыбкой объяснил, что ему нужно уходить; я кивнул – поторопился выйти. Монах, дверь заперев, ключ от замка под камень положил. Теперь при каждой уединённой двери (в тупике, в углублении) ворочал я булыжники, даже стены ковырял; ключа ни одного не обнаружил…
От храма высмотреть можно всю долину. Река Шиок до того просторная и белёсая, что при неверном взоре кажется продолжением пустыни.
Напротив храма установлен пёстрый Будда (высотой с девятиэтажный дом). К нему спускались мы полчаса. Лесенкой старой, сыпучей. В пьедестале Будды святилище малое организовано. Здесь мы встретились с водителем.
Обратная дорога показала нам полнейшую акклиматизацию – не смущали нас подъёмы, и даже Кардунг Ла представился местом уютным; в храме высокогорном оставил я одну из последних матрёшек (для большей наглядности расставил её по всему алтарю – между Буддой и портретом Далай-ламы).
Спуск от перевала затянулся из-за колонны в двадцать военных грузовиков; в Лех возвратились затемно.
Гостиницу нашли в одной из далёких подворотен; мы теперь знали город, и не было насущным останавливаться в центре, вблизи от улицы торговой. Ночь стоила 400 рублей.
Сейчас, после короткой прогулки, готовимся ко сну. Назавтра к пяти утра нас будет ждать такси.
28.08. Дели
(Дели ширится по берегу Ямуны, известной ещё от Махабхараты. Жителей здесь сочтено до 17 миллионов.)
Вылет из Леха состоялся по расписанию, без задержек. Неудобство было в правилах строгих – ручной кладью взять дозволено только фотоаппарат, ноутбук и документы. Прочее нужно оставить в багажном отделении. Споров из-за этого вышло много. Пассажиры ругались с охранниками, доказывали им, что в свитере, в наборе бутербродов, в сувенирах нет ничего опасного; их никто не слушал. Спорщиков возвращали к столу регистрации. Не хотел я ругаться, но и рюкзачок отдавать не желал, так как в него упакована была маска деревянная, в Лехе купленная, – опасался, что в багаже общем она изломается. Выручил раскрасневшийся в негодовании немец; стоял он передо мной, кричал на охранника, настойчиво выворачивал сумку – показывал, что в ней лежат только книги, одежда. Я вида сделался невинного, к охраннику продвинулся бочком – так, чтобы рюкзак мой незаметен был (лямки прятались в складках кофты). Выставил сумку с фотоаппаратом, объективами; показал на сумку с документами. Так – бочком – прошёл. Маску сохранил при себе и был этим доволен. Немец остался кричать.
Летели близ гор. Легко, без перегрузок и тошноты; глядя вниз, на серые сгустки отрогов, на белые пятна вершин, вспоминали Тангланг Ла, Сарчу, Манали…
В Дели баня оказалась неизменная. Последний для нас город индийский…
Сговорились с японцем, в одиночестве путешествующим, от аэропорта на такси вместе ехать до Главного базара; так плату от себя сократили до 140 рублей.
За окном тянулась привычная Индия. С обезьянами на заборах. С испражняющимися во всех деталях людьми. С побирающимися женщинами. С полуголыми святыми . С шумливыми рикшами. С торговцами ветхим скарбом, фруктами…
Гостиницу подыскали на главной базарной улице. Комната с душевой. Украшенные жёлтыми кляксами стены, чёрными кругами расписанные простыни, ароматные подушки, озорные тараканы в душевом сливе. Уютная духота (окон не было).
Комната коробкой была тесной; в ней чувствуешь себя жуком (отголоски Грегора Замзы). Однако интимности, замкнутости нет, потому что фрамуга над дверью открыта; с лестницы видна вся комната; из душевой устроено такое же окошко – с вентилятором. Голоса громкие от лестничной площадки не смолкают, и кажется неизменно, будто с тобой люди незнакомые толкаются – до того плотными получаются голоса. Замкнут, отдалён, но раскрыт обзору общему (как старая вретишница на Гревской площади). Положение неприятное, болезненное. В довершение этому вспомнился образ «Петербурга» – обиталище убогое Александра Ивановича Дудкина: «Постель состояла из треснутых досок, положенных на деревянные козлы; на них выдавались засохшие, вероятно, клопиные пятна. Козлы были покрыты набитым мочалом матрасиком; вязаное одеяльце вряд ли можно было назвать полосатым: намёки голубых и красных полос покрывались налётами вовсе не грязи, а многолетнего и деятельного употребления. <…> Умывальный тазик отсутствовал: Александр Иванович пользовался услугами водопроводного крана, сардинной коробочки, содержащей обмылок казанского мыла. <…> Всё убранство сего обиталища отступало перед цветом обой, неприятных и наглых – не то тёмно-жёлтых, не то темновато-коричневых, с пятнами сырости: по вечерам по пятну проползали мокрицы» {72} .
…
Дождит обильно – с перерывами краткими. Должны мы укрываться под навесами торговыми, смотреть за пустеющими улицами, за дрожащими под телегами щенками. За тем, как скрывают от дождя товар тряпичный. Как перебегают по лужам туристы; ноги вымокли, и неприятно думать, какая мерзость поднялась от земли дождевыми речками. Сандалии наши пахнут теперь туалетом, мылом, гнилью…
Дождь не мешает трансвеститам; ходят они парами (молодой и старый, худой и толстый, низкий и высокий – словно бы нарочно показывают собой противоположности тел); благословляют за десятку рупий и, кажется, гадают за двадцатку.
Вчера, спустившись до Раджив Чока, от ливня спрятались в кинотеатре; оказались там к началу «Тигра» (виденного нами в Амрицаре); согласны были посмотреть его во второй раз, однако нас не пустили – вход в кинозал с фотоаппаратами и сумками воспрещён…
Видели рекламу аквапарка. На фотографиях рекламных – радостные индийцы катятся по горкам пластмассовым, падают со стенок в бассейн, брызжутся; и все – в одежде.
По лестнице спустились в метрополитен. Оформление – европейское; чисто, гладко. В начале тоннеля устроен дот [47] с автоматчиком. Дальше – КПП: пройти нужно через металлодетекторы, пустить сумки на сканирование, по требованию войти в кабинку для общупываний. После этого наконец можно спуститься к поездам.
Вагоны – просторные, современные. Плата зависит от дальности поездки (нужно кассиру назвать конечную станцию): от 5 до 17 рублей. При каждом составе есть женский вагон; пролёты (стыки) между общим и женским вагонами – сквозные (преграда условная, однако в зону пограничную никто не заходит даже при общей давке). Любопытствуя, вбежал я в женский вагон, изобразил при этом непонимание – оглядывался, удивление в глазах показывал. Девушки улыбались моему соседству, не стеснялись ко мне прислоняться (тесно было в людный час), но были и те, кто взгляд опускал, меня сторонился. Возмущения никто не высказал, только две или три старушки поморщились значимо. Все (от дальних сидений до ближних) поглядывали на меня, изучали. Поездка следующая (в общем вагоне) была менее приятной; там начались запахи крепкие (женщина, кроме Оли, нашлась лишь одна; стояла она подле мужа).
…
Днём были в центре Дели, но видели мало из-за непрекращавшегося дождя.
В настроении ходили тихом. Мы ещё не покинули Индию, но уже простились с ней; в разговорах нередко воспоминания выводили о днях прошедших. Не пройдёт и двух недель, как путешествие наше покажется далёким, совершённым много лет назад.
Невольно жизнь московскую возобновляю – о делах думаю недели следующей…
В Красном форте посетителей, несмотря на погоду влажную, было много. Форт представился скверным. Общий вид сохранился могучим (памятным по старым фотографиям, рассказам века девятнадцатого). Внутри же всё подзапущено, подразрушено, опустошено. Не радуют даже пли́ты с узорами мраморными – витиеватыми, будто плетёными.
Нет здесь полога; от порывов дождя укрываться нужно в музеях.
Военный музей был тесным и напрасным. Малая экспозиция коридором тянулась; по коридору толпой непрестанной индийцы шли; не получалось разглядеть выставленные за стеклом сабли, щиты, копья; больше заботились мы своими карманами, а не военной историей Индии.
Музей борьбы за освобождение запомнился рассказом о Намдхари Сикхе, в девятнадцатом веке публично повесившимся «для свободы Индийского народа и защиты коров». Так на стенде написано, перевожу буквально – повесился для «защиты коров». Здесь же обращение висело – призыв сжигать иностранную одежду… Перепечатанное заново, оказалось оно устаревшим на полтора века.
…
К вечеру дождь иссяк. Мы занялись базаром – надумали купить подарки.
Цена сувенирам указана низкая, но торговаться можно обо всём и долго. Не хотелось актёрствовать в словах, спорить десять-пятнадцать минут, чтобы выпросить скидку в 50 и даже 100 рублей. Я готов уплатить больше, только бы не знать подобной суеты. Однако заметил я, что торговля с индийцами бывает презабавной, потому разрешил себе препираться о ценах – хотел показать в этом всю возможную для меня ловкость. Теперь я торговался даже о вещах, покупать которые не хотел. Крики, руки, глаза… От десятка продавцов вылущил я схему наилучшую. Для начала нужно взять (небрежно!) приглянувшуюся статуэтку. Сказать подошедшему торговцу:
– Я давно присматриваюсь к этой вещице. Она тут у всех стоит… Вот – думаю. Может, всё-таки купить…
Спросив лениво первую цену (к примеру – 1000 рупий), взглянуть нужно крепко на продавца, улыбнуться ему:
– Послушайте, вы мне нравитесь. Хорошее место, хорошие поделки. Здесь уютно. Я вообще не люблю базар – много глупостей; но в этой лавке, очевидно, всем заправляет умный человек. Умный умного видит издалека. И поговорить с вами приятно. Так что из уважения к вам я готов уплатить за эту вещицу 200 рупий, пусть даже она того не стоит.
В ответ услышать можно многое. Вероятнее всего, продавец начнёт рассказ о рабочих, в хижинах живущих, еды лишённых, болезнями страдающих, денно-нощно над этим сувениром трудившихся. «Посмотрите, какая тонкая резьба. Какие узоры! Всё это – слабыми руками голодных людей! Ваша цена – лишь половина цены за материал. Что же, они будут, голодные, работать просто так?..» Окончить эту эскападу продавец должен словами: «930 рупий – моя лучшая цена». Из угла за всем будет наблюдать помощник-ученик.
Ответить покупателю надлежит рассказом о своей опытности, о том, сколько базаров он обошёл, сколько сувениров купил. «Я могу ничего не покупать. Подарков у меня предостаточно, но…»
– Откуда вы? Из России?! О! Дружеская страна! Мы любим русских. Государства наши дружат. Только для вас – специальная цена. 850 рупий!
– Слушай, ты первый продавец, встретивший меня крепким рукопожатием. Здесь это редкость. Руки у всех женские, слабые. Но ты – крепкий мужчина. Из уважения к тебе я готов заплатить 300 рупий.
В духе таком продолжается до пятнадцати минут. Когда торговец объявит цену в 650 рупий, нужно показать сомнения. Покачать головой. Обойти лавку, изучая прочие сувениры (всякий раз останавливаться возле торгуемой вещицы). Наконец вздохнуть, предельно глубоко качнуть головой и медленно направиться к выходу. Едва турист переступит порог, ему в спину закричит продавец: «Стой! Стой! Нет! Не могу так. Это мне в убыток, но сейчас праздник (произносит путаное индийское слово), и я не могу вот так тебя отпустить». Покупатель возвращается. Продавец, взволнованный (будто дочь свою бродяге отдаёт), разглядывает торгуемую вещицу. Наконец торжественно объявляет: «500 рупий!» – и тут же, не дождавшись вашего согласия, ставит вещицу ученику: «Пакуй!»
Так начинается последняя – наиболее быстрая стадия торговли. Важно не дремать. Пока шелестит обёрточная газета, нужно бросать тяжёлыми словами:
– Что вы?! 370!
– 450!
– 390!
– 420!
Здесь надлежит шагнуть к двери, потом вернуться к продавцу и громко сказать, ткнув ему в живот раскрытой для пожатий ладонью:
– 400!
Руки пожаты. Торговля окончена. Все улыбаются. Напряжение сошло. Каждый думает, что одурачил другого. Продавец рад, что справился с трудным покупателем (поделку, купленную от мастера за 50 рупий, продал за 400). Покупатель рад, что от начальной цены сбил 600 рупий.
В таких забавах пробыли мы три часа. Истратили больше 4000 рублей.
Ночью поднялись в ресторан, открытый на крыше одного из домов; ужином тихим простились с Индией.
Под нами пустела базарная улочка. Рикши, торговцы, носильщики. Неоновые вывески, реклама. Коровы. Грусть – не по Индостану, по Дороге.
На других крышах – такие же ресторанчики.
На улице в жёлтом свете фонаря туристы с рюкзаками идут; им в сопровождение – индийцы с карточками гостиниц; предлагают, указывают.
Влага.
Опять дождит.
Сворачивают палатки. На козырьки забрасывают мешки мусора.
Палец мой разболелся – хромаю.
В пять утра нас будет ждать такси. Аэропорт. Москва.
Намаскар, Индия. Прощай.
04.11. Москва
(информация)
Месяц прошёл от Индии, но чудится она далёкой без меры – будто мы покинули её много лет назад.
В самолёте (летели через Доху) мне скрутило живот. Не мог я при болях таких ни читать, ни писать. Одну только запись сделал: «Сейчас я осознал, почему всякий раз с такой грустью возвращаюсь в Россию. Не в России беда. Беда в том, что я понимаю слова людей. Понимаю, о чём они говорят. Тошно. Хочу жить в стране, языка которой не знаю. Отвык я от болтовни такой, слов таких… К тому же пассажиры, от Катара собравшиеся, – пьяны. Замученные стюардессы торопятся по салону. Несут водку, коньяк, вино. Закуску. Русские подъели все запасы; отвечают им, что не осталось сэндвичей, не осталось бутербродов, “нет, сэр, ничего не осталось”… Передо мной – пьяный, громоздкий, отупевший мужчина; зовёт стюардессу и настойчиво обращается к ней по-русски; она не понимает, извиняется; мужчина начинает говорить громче, но стюардесса по-прежнему не понимает…»
Первым впечатлением от Москвы было то, что дороги чистые, люди крупнее: выше, мясистее.
В ночь приехал домой. Температура 38 °C. Уверен, что отравился.
Пролежал три дня. На третий день слегла Оля. Симптомы те же.
Живём в туалете.
Обратились в больницу.
Острая дизентерия. У меня кроме того – лямблиоз [48] .
Вырезали ноготь. Из-за повышенной температуры наркоз был особенно неприятен.
К нынешнему дню смог я оправиться от всего. Оля всё ещё слаба. Она в Индии оставила 10 килограммов; теперь весит 55. Я потерял столько же – приехал 83-килограммовым.
Посылка, отправленная в Иркутск с острова Андаманского, пришла к адресатам 20 сентября (два месяца пути).
Запись эта – последняя. Так я заканчиваю Дневник. Впереди – иные путешествия, иные чувства и мысли.
Это не окончание пути; это привал. Сказать мне предстоит ещё многое.
Когда Вибхишане дозволено было просить у Брахмы любого исполнения, Вибхишана сказал только: «Дай мне мужество никогда, ни при каких обстоятельствах не сворачивать с правильного пути» {73} . Он был прав. Это – единственное, о чём стоит просить богов; прочее надлежит сделать самому.
Делай, что можешь, и доверься судьбе.
Приложение
(Запись одну, под числом московским составленную (и поэтому в начале рукописи стоявшую), редактор просил меня перенести в конец Дневника – в «Приложение». Боялся он, что из-за подобных размышлений путь к индийским числам покажется читателю излишнее долгим, утомит его. Просьбу эту удовлетворяю – лишь отчасти с ней соглашаясь.)
21.06. Москва
Прочитал последнюю запись [от 15.06] и не нашёл важной детали – не упомянуть её равно тому, чтобы солгать о своих побуждениях.
Многие мысли, поступки случаются из привычки. Привычка зреет в нас от частого повторения того, что прежде выстраивало комфорт и безопасность. Это – эволюционное наследие. Выживали те, кто держался изведанных троп.
Однажды гусыня Конрада Лоренца поднималась в комнату хозяина; испугавшись чего-то, она вскрякнула, отбежала к стенке; выждав уверенность в том, что опасности нет, гусыня вернулась к оставленному пути – поднялась по ступенькам, вошла в комнату и познала там счастье хлебных комочков. С тех пор она часто ходила к Лоренцу; была уверена в своём шаге и даже позволяла себе торопиться. Но теперь гусыня неизменно сворачивала перед лестницей к стене – утвердила в маршруте излишний, но для неё обязательный манёвр. Гусыня не знала законов, по которым совершается её жизнь; она знала только опытом найденную закономерность – беды не найдётся, если, зайдя из коридора, протянуть от лестницы петлю и лишь после этого вступить на первую ступень. Гусыня нашла область своего комфорта.
Однажды гусыня истосковалась о хлебных комочках и, запущенная в дом, шла к хозяину особенно быстро. Она приблизилась к лестнице; в торопливости чрезмерной забыла ритуальный отворот к стене – без лишних суеверий принялась корячиться вверх по ступенькам. Тут была бы любопытная победа прогрессивности над ретроградством, но ещё не поднявшись до середины пути, гусыня вдруг остановилась. Глубоко втянула голову, поджала лапки. Ей сделалось страшно. Затем страх её усилился до явной истеричности (если только слово это можно отнести от человека к животному). Гусыня вздёрнулась, махнула крылом и, не заботясь о твёрдости ступенек, ломанулась вниз – не то спрыгивая, не то спадая по лестнице. Оказавшись внизу, гусыня спешно исполнила петлю комфорта . Петля эта получилась шире предыдущих. Гусыня замерла возле ступенек. Сообразив, что теперь опасностей не предвидится, встряхнулась; крякнула погромче – утверждая в себе прежнюю гордость, – и неспешным ходом отправилась наверх. Лишь малая хромость показывала в ней приключившуюся панику {74} .
Здесь я укажу на себя как на последователя гусыни Лоренца. Склонность моя к писаниям не от одних рассуждений происходит, но также от моей петли комфорта . Петлю эту (воплощение в письменные слова) пройти должна всякая мысль, прежде чем смогу я в ней утвердиться. Credo quod scribo.
Первые рассказы я начал в тринадцать лет. Побуждений подлинных не назову, так как чувства детские помню слабо.
Стендаль указывал в воспоминаниях, как среди неисчерпаемой скуки его гренобльского детства воссиял ему «Дон Кихот», а затем «Скупой». «Для меня твёрдо установленный факт, что в возрасте семи лет я решил писать комедии, как Мольер» {75} . Со мной произошло нечто подобное; светочем были Купер, Фидлер, Рид. Когда же в 18 лет начался мой эмпирический кризис , когда от каждой ночи я ждал не то помешательства, не то смерти, писание получилось единственным убежищем. Выговаривался бумаге et animam levavi. Кризис тот (протянувшийся четыре года) я одолел вполне, а творчество словесное осталось насущной привычкой – петлёй комфорта .
Я не могу не писать, как не может лентяй оставить свою лень, шахтёр – шахту, привыкшая к ссорам жена – пьяницу-мужа, книгочей – библиотеку, а благодетель – благотворительность. Всегда «мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться». Знаю, что при таком положении останусь жив, и боюсь положение это поменять. Люди слишком реалисты; понимают, что, выйдя за лучшим, могут встретить худшее, и предпочитают оставаться на месте. Пьяный муж – это болезненно, но одиночество и тишина – губительны. Какая бы осталась мне цель, если бы я сейчас отказался от письма, от пристроенной к нему надежды усилить в людях осознанность?
Чем бо́льшую непреложность обретают мои истины, тем лучше узнаю их относительность. От этого порой случается грусть, но в ней, безусловно, нет ничего скверного. Ведь «грустить, – как писал Булат Окуджава, – не значит впадать в пессимизм или тоску. Грустить – значит думать» {76} .
«Я стал писать из тщеславия, корыстолюбия и гордости… Для того чтобы иметь славу и деньги, для которых я писал, надо было скрывать хорошее и выказывать дурное. Я так и делал» {77} . Лев Толстой, «Исповедь». Со мной было подобное, но в ничтожной степени. Я слишком ленив для тщеславия. Потребность немедленно стать великим иссякла после отказов, которыми все издания в первые годы ответили на предложенные мною рассказы. В 19 лет я увидел своё имя напечатанным в одном из литературных журналов, но радости не случилось. Я понимал, что опубликованный рассказ пустячен. Тщеславию моему нечем было кормиться, и оно издохло быстро, почти без сопротивления.
Заканчивая эти мысли, замечу, что сама потребность в путешествиях отчасти в том укреплена, что происходит от привычки, от петли комфорта . Шесть лет назад я был записан в студенты чикагского университета, но учёба моя на американской стороне ограничилась одним семестром. Я бежал – от университета, от системы, к которой готовил себя образованием и знакомствами. Объяснение этому составило бы отдельную главу, здесь неуместную; укажу только, что, отмахнувшись от юриспруденции, начал странствовать. Два года я не находил себе постоянного города. Мыл полы, торговал компьютерными программами, был администратором интернет-магазина. Расклеивал объявления, курьерствовал. После этого задержался на полтора года в Иркутске – тренером тюленей байкальских. Меж тем утвердился во мне покой, началась осознанность. Их счёл я плодами путешествий, постоянного движения. «После» – не значит «вследствие»; тем не менее странствия стали для меня суеверием; без них опасаюсь возвратиться в поруганное прошлое (с его болезненностью, затуманенностью). Действительность этого мне предстоит уточнить. Наиболее приятный способ уточнения – путевые заметки, составленные откровенно, сиеместно, рукописно (я склонен утверждать, что лишь в неспешном, интимном бумагописании – когда буквы пальцами своими выводимы, а бумага ладонью тёплой ласкаема, – только в нём получается откровенность настоящая, недоступная чересчур гладкому, спешному и публичному компьютеру – к тому же гудящему и продолжающему свои работы по сохранению, загрузке, проверке, предъявлению советов о настройке, безопасности и т. д.)
Краткий словарик
1. Асуры – в индуистской мифологии могучие соперники и враги богов, низвергнутые с неба и превратившиеся в демонов.
2. Ашрам – обитель мудрецов и отшельников в древней Индии.
3. Баньян – тропическое дерево с разросшейся кроной, поддерживаемой многочисленными столбовидными воздушными корнями; бенгальский фикус.
4. Бинди – круглый или каплеобразный знак, который наносят на лоб.
5. Бонза – буддийский монах в странах Азии.
6. Брахман – лицо, принадлежащее к высшей касте (первоначально – к касте жрецов) в Индии.
7. Брахмачарья – половое воздержание; самодисциплина, контроль над желаниями.
8. Вазектомия – хирургическая операция, при которой производится перевязка или удаление фрагмента семявыносящих протоков у мужчин.
9. Гат – спуск к воде священных рек и озёр, часто ступенчатый, с изображением богов, святых, мемориальными комплексами.
10. Гуру (санскр.) духовный наставник, учитель.
11. Дхоти – мужская одежда в Юж. и Юго-Вост. Азии, прямая полоса ткани (длина от 2 до 5 м), которой драпируют ноги и бедра, пропуская один конец между ног.
12. Камиз – длинная туника, по бокам которой оставлены разрезы.
13. Курта – длинная широкая рубаха.
14. Мантра – в древнеиндийской религиозной традиции магическая вербальная формула общения с богами, приватно транслируемая от учителя к ученику.
15. Менди – роспись по телу хной.
16. Мурти – статуя или изображение определённой формы Бога, девы или святого.
17. Намаскар – жест, сопровождающий устное приветствие, «намасте», который делают обеими руками, сложенными ладонями вместе перед собой.
18. Пашмина – ткань из натуральной шерсти гималайских горных козлов.
19. Пуджа – в индуистской религиозной практике образы почитания богов – подношение цветов, воды из Ганга, воскурение благовоний.
20. Пуджари – священнослужитель в индуизме, совершающий пуджу для мурти определённого бога в храмах.
21. Ракшасы – один из классов демонов в индуистской мифологии.
22. Сандхья – зыбкий час между заходом солнца и сумерками, между концом ночи и рассветом, время приглушённых голосов, неясных мыслей, тающих или возникающих силуэтов.
23. Сари – одежда из куска материи, обёртываемой вокруг тела и одним концом переброшенной через плечо.
24. Саронг – мужская и женская одежда народов Юго-Вост. Азии: полоса ткани, обёртываемая вокруг бедер или груди и доходящая до щиколоток.
25. Свастика (санскр.) – крест с загнутыми под прямым углом (реже дугой) концами. Возможно, древний символ плодородия, солнца, скрещённых молний, молота Тора и т. п. Как орнаментальный мотив встречается в искусстве древних культур, а также в античном, европейском средневековом и народном искусстве.
26. Сваямвара – старинный индийский обряд, в котором женщина выбирает себе мужа из соревнующихся друг с другом претендентов.
27. Сикх – секта в индуизме в XVI–XVII вв., превратившаяся в самостоятельную религию, получившую распространение главным образом в Пенджабе. Основой является единобожие, отрицание идолопоклонства, аскетизма, каст, проповедь равенства сикхов перед богом и священной войны с иноверцами.
28. Ступа – буддийское архитектурное монолитное культовое сооружение, имеющее полусферические очертания, хранящее священные реликвии.
29. Ти́лака – священный знак, который последователи индуизма наносят глиной, пеплом, сандаловой пастой или другим веществом на лоб и другие части тела (вертикальные линии, точки).
30. Чандала – члены низшей касты, происходящей от браков шудр с брахманками.
31. Шельвар – свободные штаны, широкие в верхней части благодаря множеству складок и зауженные в нижней части.
Маршрут «Намаскара»
Москва – Доха – Дели – Джайпур – Агра – Бенарес – Бодх Гая – Калькутта – Бхубанешвар – Мадрас – Порт Блэр – Острова Хэвлок, Норт Бэй, Росс, Вайпер – Мадрас – Коломбо – Далхуси – Канди – Коломбо – Мадрас – Ауровиль – Махабалипурам – Мадрас – Панаджи – Васко да Гама – Старый Гоа – Панаджи – Бомбей – Амрицар – Манали – Сарчу – Лех – Долина Нубра (Панамик, Хундер) – Дели – Доха – Москва.
Сноски
1
Намаскар – жест, сопровождающий устное приветствие, «намасте», который делают обеими руками, сложенными ладонями вместе перед собой. «Намасте» – индийское и непальское приветствие, произошло от слов «намах» – поклон, «те» – тебе.
2
Другое название Ямуны – Джамна. Одна из трёх наиболее святых индийских рек.
3
Дхоти – мужская одежда в Азии, прямая полоса ткани (длина от 2 до 5 м), которой драпируют ноги и бедра, пропуская один конец между ног.
4
Сари – одежда из куска материи, обертываемой вокруг тела и одним концом переброшенной через плечо.
5
Камиз – длинная туника, по бокам которой оставлены разрезы.
6
Шельвар – штаны, свободные, широкие в верхней части благодаря множеству складок и зауженные в нижней части.
7
Просьба о еде.
8
293 рубля.
9
Курта – длинная широкая рубаха.
10
Ти́лака – священный знак, который последователи индуизма наносят глиной, пеплом, сандаловой пастой или другим веществом на лоб и другие части тела (вертикальные линии, точки).
11
Саронг – мужская и женская одежда народов Азии: полоса ткани, обертываемая вокруг бедер или груди и доходящая до щиколоток.
12
Бинди – круглый или каплеобразный знак, который наносят на лоб.
13
Свастика (санскр.) – крест с загнутыми под прямым углом (реже дугой) концами. Возможно, древний символ плодородия, солнца, скрещённых молний, молота Тора и т. п.
14
Асуры – в индуистской мифологии могучие соперники и враги богов, низвергнутые с неба и превратившиеся в демонов.
15
Точнее, наблюдали сандхью. «Сандхья» – чудное слово индийское, объяснённое Р. К. Нарайаном как «зыбкий час между заходом солнца и сумерками, между концом ночи и рассветом, время приглушённых голосов, неясных мыслей, тающих или возникающих силуэтов».
16
Пуджа – в индуистской религиозной практике образы почитания богов – подношение цветов, воды из Ганга, воскурение благовоний.
17
Пуджари – священнослужитель в индуизме, совершающий пуджу для мурти в храмах. Мурти – статуя или изображение определённой формы Бога, девы или святого.
18
Мантра – в древнеиндийской религиозной традиции магическая вербальная формула общения с богами, приватно транслируемая от учителя к ученику.
19
Ганга омывает рудные месторождения серебра; воды её насыщены ионами серебра, эпидемия по такой особенности не случается.
20
Не уверен я в правильном написании «Трокдевты» – не смог в точности слово это разобрать. Из прочих богов указывают тех, кого знал раньше, а потому сумел здесь расслышать.
21
Ни до, ни после не слышал я мифа подобного. Знаю, что окаменела Ахалья – жена Гаутамы, когда изнасиловал её Индра, в образе Гаутамы явившийся. Окаменела Рамбха, пробовавшая соблазнить Вишвамитру. Но о боге каменеющем не читал я никогда, и никто из знакомых моих, мифологию индийскую знающих, подобного сюжета не встречал.
22
Брахман – лицо, принадлежащее к высшей касте (первоначально – к касте жрецов) в Индии.
23
Ступа – буддийское архитектурное монолитное культовое сооружение, имеющее полусферические очертания, хранящее священные реликвии.
24
Ритуальный обход таких барабанов – по часовой стрелке – назван «парикрамой».
25
Это напомнило современных Иисусов в армянских церквях – до того ярких, что кажутся они срисованными от рекламы напитков газированных.
26
Лингараджа – храм царя Лингама. Построен в одиннадцатом веке нашей эры. В храме установлен большой гранитный лингам, помещённый в каменную йони (диаметр – 2,5 метра). Композиции этой поклоняются прихожане.
27
Пермит – разрешение на въезд.
28
«Шрипада» – значит «Священный след».
29
Наждак – мелкозернистая горная порода, употребляемая как абразивный материал (используемый при механической обработке – шлифовании, полировке, заточке).
30
Российский университет дружбы народов.
31
Раксашы – один из основных классов демонов в индуистской мифологии.
32
Бонза – буддийский монах в странах Азии.
33
Шри Ауробиндо Гхош (1872–1950) – индийский йог, философ, поэт.
34
Баньян – тропическое дерево с разросшейся кроной, поддерживаемой многочисленными столбовидными воздушными корнями; бенгальский фикус.
35
Гуру (санскр.) – духовный наставник, учитель.
36
Иные формулировки для мысли этой избрал Стрикленд: «Я мужчина и, случается, хочу женщину. Удовлетворив свою страсть, я уже думаю о другом. Я не могу побороть своё желание, но я его ненавижу: оно держит в оковах мой дух. Я мечтаю о времени, когда у меня не будет никаких желаний и я смогу целиком отдаться работе». Продолжение этих слов признать можно грубым или оправданным, эпатажным или истинным; так или иначе, оно интересно: «Женщины ничего не умеют, только любить, любви они придают бог знает какое значение. Им хочется уверить нас, что любовь – главное в жизни. Но любовь – это малость. Я знаю вожделение. Оно естественно и здорово, а любовь – это болезнь. Женщины существуют для моего удовольствия, но я не терплю их дурацких претензий быть помощниками, друзьями, товарищами». Приводится по: Моэм С. Луна и грош. М., АСТ, 2005. С. 138–139.
37
Брахмачарья – половое воздержание; самодисциплина, контроль над желаниями.
38
Сюжет в мифе про Шикхидхваджу (при столь ясной мысли) несколько запутан, в кратком пересказе может вызвать недоумение. Пересказ этот надлежит сделать таким: «Ты следовала своей склонности и сама в ответе за то, что сделала, меня это не касается», – ответил Шикхидхваджа, когда Чудала – жена его, явившаяся в образе Маданики и в этом новом образе повторно вышедшая за него замуж, – привела в дом ею же созданного любовника и в образе второй жены изменяла Шикхидхвадже в его присутствии (при том, что он до этого изменил ей с её собственным воплощением – Маданикой, то есть изменил жене с ней самой).
39
Девушка не умела перейти вымоченную дождём дорогу – опасалась грязи. Заметили её два возвращавшихся в монастырь монаха. Один из них перенёс девушку на сторону противоположную, за что благодарность услышал. Едва дошли монахи до монастыря, второй из них воскликнул: «Как?! Как мог ты коснуться женщины?!» Монах первый промолвил: «Очнись. Ты её до сих пор несёшь. Я же оставил её там – возле дороги».
40
Сваямвара – старинный индийский обряд, в котором женщина выбирает себе мужа из соревнующихся друг с другом претендентов.
41
Диковинный миф. Обязательность такая в исполнении слова данного (своего или родительского) и в других мифах обозначена (не менее диковинным образом). В очередном рассказе всё той же «Махабхараты» честный царь Харишчандра охотился однажды на кабана, в азарте пьянящем в чащу убежал и там заблудился. Вечерело. Холодно было и страшно. Набрёл Харишчандра на дом одинокий. Постучался. Открыл ему старик, и гостеприимство показал – утешил, накормил, согрел. Харишчандра, узнав дорогу домой и уговорившись ночевать в доме, спросил старика: «Как мне тебя благодарить?» – «Что ты, я стар уже… Что я могу просить?!» – «Проси что хочешь», – в простодушии ответил Харишчандра. Старик оживился и выговорил твёрдо: «Хочу я царство твоё, власть твою и богатства твои». Что тут делать? Отдал Харишчандра старику всё выпрошенное (не мог он от слова данного отказаться); ушёл странствовать; должен был продать сына, жену; затем и себя продал в чандалы (члены низшей касты) – стал неприкасаемым сжигателем трупов…
42
Сикхизм – секта в индуизме в XVI–XVII вв., превратившаяся в самостоятельную религию, получившую распространение главным образом в Пенджабе. Основой является единобожие, отрицание идолопоклонства, аскетизма, каст, проповедь равенства сикхов перед богом и священной войны с иноверцами.
43
Так было и век назад. Киплинг ещё писал: «Кроткий, веротерпимый народ. <…> Вся Индия полна святых людей, проповедующих на незнакомых языках, потрясённых и сгорающих на огне своего рвения, мечтателей, болтунов и духовидцев; так было с начала, будет и до конца». Мало что изменилось. Цитируется по: Киплинг Р. Собрание сочинений в пяти томах. Том первый. Ким. М., Терра, 1991. С. 42.
44
Высота гор высчитывается по «системе абсолютных высот». В России расчёт ведётся по Балтийской системе высот (1977 года) – от нуля Кронштадтского футштока (многолетний средний уровень Балтийского моря). В мире наиболее распространена Тихоокеанская система высот. Разница между Балтийской и Тихоокеанской системами не превышает нескольких метров.
45
Традиционное бурятское и монгольское блюдо – мясо, завернутое в тесто.
46
Dharam Raj – высший судья человеческих душ.
47
Дот – сокращение: долговременная огневая точка – пулеметное или артиллерийское оборонительное сооружение.
48
Заболевание органов пищеварения, вызываемое паразитическими простейшими – лямблиями.
Комментарии
1
Перевод Г. Коца. Приводится по: Тагор Р. Сочинения в восьми томах. Том седьмой. Стихи. М., Худ. лит., 1957. С. 128.
2
Рудашевский Е. Особняк Д. Давыдова. История в событиях, судьбах фактах. М., ОИ БФ Система, 2012.
3
Стендаль Собрание сочинений в пятнадцати томах. Том третий. Пармский монастырь. М., Правда, 1959. С. 113.
4
Моуэт Ф. Не кричи, волки! М., Мир, 1968. С. 15.
5
Перевод О. Ивинской. Приводится по: Тагор Р. Сочинения в восьми томах. Том седьмой. Стихи. М., Худ. лит., 1957. С. 159.
6
Никитин А. Хождение за три моря. М., ЭКСМО, 2012. С. 39.
7
Киплинг Р. Собрание сочинений в пяти томах. Том первый. Ким. М., Терра, 1991. С. 71.
8
Там же. С. 79.
9
Нарайан Р. К. Боги, демоны и другие. М., Наука, 1974. С. 96.
10
Никитин А. Хождение за три моря. М., ЭКСМО, 2012. С. 41.
11
Из письма Петру Салтыкову (28 октября 1845 года). Приводится по: Путешествия по Индии князя Алексея Салтыкова. СПб., Palace editions, 2012. С. 193.
12
Перевод С. Мар. Приводится по: Тагор Р. Сочинения в восьми томах. Том седьмой. Стихи. М., Худ. лит., 1957. С. 123.
13
Киплинг Р. Собрание сочинений в пяти томах. Том первый. Ким. М., Терра, 1991. С. 67.
14
Там же. С. 17.
15
Рерих Н. К. Алтай-Гималаи. М., Мысль, 1974. С. 20.
16
Из письма Елизавете Салтыковой (19 декабря 1841 года). Приводится по: Путешествия по Индии князя Алексея Салтыкова. СПб., Palace editions, 2012. С. 150.
17
Нарайан Р.К. Боги, демоны и другие. М., Наука, 1974. С.97.
18
Там же. С. 52.
19
Singh Khushwant. Joke book № 7. New Delhi, 2010. P. 139.
20
Из письма Петру Салтыкову (09 октября 1841 года). Приводится по: Путешествия по Индии князя Алексея Салтыкова. СПб., Palace editions, 2012. С. 142.
21
Из письма Петру Салтыкову (21 января 1846 года). Приводится по: Путешествия по Индии князя Алексея Салтыкова. СПб., Palace editions, 2012. С. 196.
22
Из сборника «Чойтали», 1895–1896 гг. Перевод О. Ивинской/ Приводится по: Тагор Р. Сочинения в восьми томах. Том седьмой. Стихи. М., Худ. лит., 1957. С. 60.
23
Рерих Н. К. Алтай – Гималаи. М., Мысль, 1974. С. 14.
24
Поло М. Книга о разнообразии мира. М., Мир книги, 2008. С. 178–179.
25
Манн Т. Собрание сочинений в десяти томах. Том восьмой. Марио и волшебник. М., Худ. лит., 1960. С. 177–179.
26
Из письма М. К. (20 мая 1841 года). Приводится по: Путешествия по Индии князя Алексея Салтыкова. СПб., Palace editions, 2012. С. 128.
27
Нарайан Р. К. Боги, демоны и другие. М., Наука, 1974. С. 130–131.
28
Брюсов В. Избранная проза. Огненный ангел. М., Правда, 1986. С. 233.
29
Майнк В. Удивительные приключения Марко Поло. М., Детгиз, 1963. С. 332.
30
Поло М. Книга о разнообразии мира. М., Мир книги, 2008. С. 172–173.
31
Там же.
32
Никитин А. Хождение за три моря. М., ЭКСМО, 2012. С. 47.
33
Перевод М. Ваксмахера. Приводится по: Тагор Р. Сочинения в восьми томах. Том седьмой. Стихи. М., Худ. лит., 1957. С. 120.
34
Нарайан Р.К. Боги, демоны и другие. М., Наука, 1974. С. 119.
35
Из письма Петру Салтыкову (10 марта 1845 года). Приводится по: Путешествия по Индии князя Алексея Салтыкова. СПб., Palace editions, 2012. С. 187.
36
Из письма Петру Салтыкову (14 апреля 1841 года). Приводится по: Путешествия по Индии князя Алексея Салтыкова. СПб., Palace editions, 2012. С. 126.
37
Из «Сказания о Макарии Римском» (апокриф)/
38
Поло М. Книга о разнообразии мира. М., Мир книги, 2008. С. 174–178.
39
Shartsis Loretta. The teachings of flowers. The life and work of the Mother of the Shri Aurobindo ashram. Auroville, 2012. P. 1. Здесь и далее – перевод автора.
40
Там же. P. 21–23.
41
Там же. P. 5.
42
Там же. P. 18.
43
Там же. P. 35.
44
Там же. P. 32.
45
Alfassa Mirra. Ideals of Auroville. Extracts from conversations and statements about Auroville in Mother’s Agenda. Auroville, 2010. P. 9.
46
Там же. P. 7.
47
Ганди М. Моя жизнь. СПб., Азбука, 2011. С. 15.
48
Нарайан Р. К. Боги, демоны и другие. М., Наука, 1974. С. 34–35.
49
Там же. С. 38.
50
Из письма Петру Салтыкову (8 июня 1841 года). Приводится по: Путешествия по Индии князя Алексея Салтыкова. СПб., Palace editions, 2012. С. 130.
51
Никитин А. Хождение за три моря. М., ЭКСМО, 2012. С. 40, 48.
52
Нарайан Р. К. Боги, демоны и другие. М., Наука, 1974. С. 162.
53
Там же. С. 80.
54
Там же. С. 52.
55
Брюсов В. Избранная проза. Огненный ангел. М., Правда, 1986. С. 170.
56
Нарайан Р.К. Боги, демоны и другие. М., Наука, 1974. С. 53.
57
Ефремов И. Собрание сочинений в восьми томах. Том 5. Час быка. М., Терра, 2009. С. 332.
58
Ефремов И. Собрание сочинений в восьми томах. Том 6. Лезвие бритвы. М., Терра, 2009. С. 152.
59
Из письма Петру Салтыкову (18 марта 1841 года). Приводится по: Путешествия по Индии князя Алексея Салтыкова. СПб., Palace editions, 2012. С. 122.
60
Киплинг Р. Собрание сочинений в пяти томах. Том первый. Ким. М., Терра, 1991. С. 137.
61
Там же. С. 228–229.
62
Цитируется по: Надеждин Н. Редьярд Киплинг. Бесконечная книга джунглей. М., Майор, 2008. С. 10.
63
Киплинг Р. Собрание сочинений в пяти томах. Том первый. Ким. М., Терра, 1991. С. 10.
64
Никитин А. Хождение за три моря. М., ЭКСМО, 2012. С. 44.
65
Лоренц К. Человек находит друга. М., Мир, 1971. С. 33.
66
Из письма Петру Салтыкову (3 марта 1842 года). Приводится по: Путешествия по Индии князя Алексея Салтыкова. СПб., Palace editions, 2012. С. 160.
67
Нарайан Р. К. Боги, демоны и другие. М., Наука, 1974. С. 208.
68
Гиляровский В. А. Сочинения в четырёх томах. Том 1. Мои скитания. М., Правда, 1989. С. 43.
69
Кафка Ф. Из дневников. М., Известия, 1988. С. 113.
70
Singh Khushwant. Joke book № 7. New Delhi, 2010. P. 140.
71
Там же. P. 114.
72
Белый А. Петербург. М., АСТ, 2007. С. 204–205.
73
Нарайан Р.К. Боги, демоны и другие. М., Наука, 1974. С. 110.
74
См: Лоренц К. Так называемое зло.
75
Стендаль. Собрание сочинений в пятнадцати томах. Том тринадцатый. Жизнь Анри Брюлара. М., Правда, 1959. С. 71.
76
Песни Булата Окуджавы. Составитель Л. Шилов. М., Музыка, 1989. С. 85.
77
Толстой Л. Н. Собрание сочинений в двадцати томах. Том шестнадцатый. Исповедь. М., Худ. лит., 1964. С. 98.