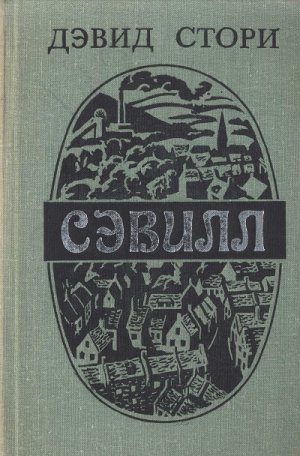
Дэвид Стори
Сэвилл
Такая жизнь…
Вступительная статья
Дэвид Стори (род. в 1933 г.) дебютировал на английском литературном поприще столь же стремительно и бурно, как герой его первой книги Артур Мейчин на спортивной площадке. Роман «Такова спортивная жизнь», увидевший свет в 1960 году, имел шумный и заслуженный успех: был сразу же несколько раз переиздан, в 1962 году экранизирован, переведен на многие иностранные языки, среди них на русский[1].
В том же 1960 году вышел второй роман Стори — «Бегство в Кэмден». В 1963-м — третий, «Рэдклиф». Во второй половине 60-х годов на сценах многих английских театров широко пошли его первые пьесы.
Словом, Стори быстро и, казалось бы, прочно занял свое место в современной английской прозе и драматургии. Спору нет, его романы и пьесы были профессионально добротны, но все же ни одному произведению не было суждено подняться до уровня самой первой книги — безжалостно правдивого рассказа о жестокости «спортивной жизни». Поскольку Артур Мейчин был сам рабочий и сын рабочего, английская критика зачислила было Стори в «рабочие романисты», как сегодня ясно, без особых на то оснований. Сходство Мейчина с персонажами молодого Силлитоу, Чаплина, Барстоу было только поверхностным — их сближало лишь происхождение.
Стори родился в Йоркшире — как и многие «рабочие романисты», в рабочей, шахтерской, семье. Ему пришлось переменить немало профессий. Он был работником на ферме, кондуктором автобуса, почтальоном, учителем начальной школы. Чтобы заработать деньги, необходимые для обучения в художественном колледже, Стори в течение четырех лет был профессиональным регбистом.
Кстати, Артур Мейчин неоднократно повторяет, что спорт как таковой его не слишком интересует, это самый для него простой и падежный способ зарабатывать хорошие деньги. Но очень скоро Мейчин начинает понимать, что его «спортивная жизнь» такое же «вонючее болото», как и жизнь прошлая. Свобода и даже его материальное благополучие иллюзорны — он всего лишь новая игрушка таких любителей регби, как Уивер и Слоумер, видящих в спорте и выгодное помещение капитала. И в «спортивной жизни» сурово и беспрекословно правят власть и деньги имущие — горе тому «гладиатору», который не потрафил патрицию от спорта.
Артур Мейчин, несмотря на то что зрителям с трибун он кажется «гориллой», способен достаточно тонко чувствовать. В то же время он откровенно невежествен, его запросы и интересы крайне ограниченны.
Но может быть, если рабочему парню удастся получить образование и начать добывать свой хлеб не с помощью физической силы, а с помощью интеллекта, жизнь его кардинально изменится?
Эта проблема становится одной из центральных в романе «Сэвилл», но впервые затрагивается в «Бегстве в Кэмден», хотя книга эта — прежде всего история любви дочери шахтера Маргарет Торп к женатому мужчине. Стори волнует эмансипация женщины, поиски ею самостоятельности, борьба за право самой решать свою судьбу, исходя из побуждений души, а не из обломков косных викторианских представлений о том, что «прилично», а что «неприлично». Человек, игнорирующий предрассудки и живущий так, как подсказывает ему сердце, оказывается в своей семье изгоем. Родители Маргарет, по-своему нежно и преданно любящие дочь, не способны ее понять. Они мучительно переживают ее роман, поскольку для них совершенно неприемлема сама идея развода, разрушения одной семьи даже ради создания другой.
Не менее напряженным оказывается находящийся на втором плане конфликт между старшим братом Маргарет Майклом, преподавателем университета, и младшим братом Алеком, не получившим образования. Майкл прекрасно, на собственном опыте, понял, что высшее образование, «чистая» работа вовсе не гарантируют спокойную и счастливую жизнь, как склонны считать его отец и брат. Но этот спор неразрешим, ибо Майкла беспокоит духовная дисгармония, а для отца и Алека материальное благополучие — надежная гарантия безмятежного существования. Стори напряженно ищет корни глубокого психологического разлада, разъедающего душу выходца из рабочей среды, получившего образование. Эти поиски продолжаются в романе «Пасмор» (1972).
Главный герой этой книги Колин Пасмор, шахтерский сын, преподаватель истории в университете, счастливый отец троих детей, переживает тяжелый нервный срыв. Его начинает преследовать ощущение полной бессмысленности всего происходящего вокруг — работы, семейной жизни, общения с людьми.
Как и большинству героев Стори, Пасмору суждено уйти из родительского дома, чтобы вырвать себе «место наверху», но, когда обнаруживается, что добытое с таким трудом «место» не принесло ему удовлетворения и счастья, на долю Пасмора выпадает не сочувствие родителей, а их проклятия, ибо не в силах они понять, почему все вышло не так, как они мечтали.
Неудовлетворенность Пасмора, несмотря на ее остроту, смутна и неопределенна. Он бьется, как муха в стекло, упорно и бесцельно.
В конце концов все как будто налаживается, Пасмор возвращается в семью и к работе. Но по ночам его мучает страшный сон: как будто он завис в бездонной шахте и не может ни выбраться наверх, ни спуститься обратно вниз.
Еще одной вариацией все той же темы стал роман «Временная жизнь» (1973). На этот раз «жертвой» образования оказывается жена главного героя Колина Фристоуна, Ивонна. Она выросла в простой рабочей семье, отлично училась в школе, закончила университет. Дальнейшая ее судьба повторяет судьбу Пасмора, только с более плачевным итогом — она попадает в психиатрическую лечебницу, и уже нет надежды, что когда-нибудь станет полноценным человеком.
Тот же круг вопросов в центре внимания Стори-драматурга в одной из самых его известных пьес — «Семейное торжество» (1969), кстати, посвященной матери и отцу.
Действие пьесы происходит в маленьком небогатом домике шахтерской семьи Шоу. Отпраздновать сорокалетие свадьбы родителей приезжают давно покинувшие отчий кров сыновья. Самый удачливый, с обывательской точки зрения, средний сын Колин занимает важный административный пост в фирме, производящей автомобили. Ирония, а быть может, и логика его судьбы в том, что именно ему, потомку рабочего, обычно поручают вести переговоры с забастовщиками. Отец и мать, конечно, рады за него, но помощь от Колина принимают очень неохотно и осторожно. Старший сын Эндрю, получивший юридическое образование, оставил профессию адвоката и стал художником. Однако его картины не пользуются успехом, и он бедствует. Не слишком хорошо живет и младший сын Стивен, который мечтает о писательстве, но вот уже несколько лет так и не может написать роман о современной жизни. Замысел книги Стивена, как легко заметить, прямо перекликается с содержанием романа «Сэвилл»: «Показать, не будучи излишне агрессивным, как мы все уступаем пассивности современной жизни, промышленной дисциплине, моральной низости».
Эндрю и Стивен Шоу, так же как Майкл Торп и Колин Пасмор, не удовлетворены своей жизнью. Пожалуй, именно Стивен впервые улавливает одну из глубоких причин этой общей для большинства героев Стори неудовлетворенности: «Самое смешное в том, что он (отец. — Г.А.) воспитал нас для лучшей жизни, которую в глубине души своей презирает еще больше, чем Эндрю… Во всяком случае, его работа для него имеет смысл… Тогда как работа, для которой он нас выучил… ничто… пустая трата времени».
Их отец действительно не может жить без работы. Несмотря на возраст, он никак не хочет уходить на покой.
Что ж, как будто напрашивается вывод странный и парадоксальный: неужели Стори против того, чтобы дети рабочих получали высшее образование? Подобное заключение было бы преждевременно и неверно по сути, в чем убеждает новый, по-видимому наиболее важный и значительный из всего на сегодняшний день написанного Стори, роман «Сэвилл», кстати удостоенный одной из самых серьезных английских литературных премий — «Букер прайз» за 1976 год.
В этой книге большинство тем и вопросов, затронутых в предыдущих романах, находят свое дальнейшее развитие и более глубокую, социальную мотивировку. О том, что идеи, высказываемые в «Сэвилле», и жизненный пласт, ставший основой романа, занимали писателя долгие годы, свидетельствует не только очевидное сходство главной сюжетной коллизии новой книги Стори с предшествующими романами и пьесой «Семейное торжество» — шахтерская семья, сын, ушедший из дому, — но и более частные совпадения. Так, в пьесе упоминается самый старший сын Шоу, умерший в семилетием возрасте и обладавший несомненным дарованием художника. И семья Сэвилл теряет своего семилетнего первенца, рисунки которого бережно хранятся и продолжают вызывать восхищение. Герои пьесы вспоминают бомбоубежище, которое в начале второй мировой войны строит Шоу-отец и которое оказывается бесполезным, поскольку в него просачиваются грунтовые воды. История с бомбоубежищем прямо перенесена в роман «Сэвилл». Все это приводит к мысли, что предшествующие «Сэвиллу» произведения можно рассматривать как своего рода эскизы к этому объемному художественному полотну.
«Сэвилл» по жанру может быть отнесен к «романам воспитания», ибо в нем зафиксированы ступени социального и духовного созревания главного героя Колина Сэвилла, формирование его личности. Повествование охватывает более двух десятилетий жизни героя: от его рождения до вступления в пору зрелости. Колин Сэвилл, без сомнения, главный персонаж книги, но очень важное место отведено его родителям, братьям, соседям по поселку, товарищам. Словом, в романе дана достаточно широкая панорама жизни английского общества с конца 20-х годов и до середины 50-х.
«Сэвилл» полон тщательных, многословных описаний. Подробно, со знанием и вкусом воссоздается быт шахтерской семьи, на фоне которого раскрываются характеры людей, их привычки и интересы. Навязчивое, монотонное повторение деталей быта не случайно. Оно призвано дать читателю ощущение безнадежной рутины мелочных забот каждого дня, из длинной череды которых складывается жизнь. Ходить за покупками, готовить, печь хлеб, убирать, стирать, потом недолгий отдых… Такая обыденная жизнь…
Писатель наверняка сознательно уходит от изображения в романе трудового процесса. Но несколько скупых фраз об усталости отца после смены под землей, о том, что его глаза всегда «обведены каймой угольной пыли», характеризуют «рабочую жизнь» ничуть не хуже, чем подробное описание процесса добычи угля.
«Сэвилл» — роман не производственный, а социально-семейный. В нем с высокой степенью достоверности воссоздана атмосфера повседневного существования шахтерского поселка, состоящего из примыкающих друг к другу домишек, — вся жизнь проходит на глазах у соседей, тонкие стены позволяют слышать все, что говорится в доме рядом.
Взрослея, Колин начинает замечать, как быстро стареет отец, словно становится меньше ростом — так выматывает его шахта.
Именно эта неотпускающая усталость, рожденная изнурительным трудом, плата за который едва позволяет сводить концы с концами, и полная бесперспективность в будущем заставляют отца требовать от Колина с первых школьных лет усидчивости и прилежания. Колин серьезен и трудолюбив. Ему с раннего детства слишком хорошо знакома картина «гордой бедности», когда у матери всего два платья, в доме всего четыре стула и никогда не бывает лишнего куска хлеба, а когда на скопленные ценой неимоверных усилий деньги ему покупают школьную форму, то мать выбирает все вещи «на вырост».
У Колина постепенно зреет желание как можно скорее выбраться из этого унизительного положения. Его стремление стимулирует и развивает отец, не имеющий никакого образования, но человек, безусловно, незаурядный. Он мастер на все руки, не брезгующий и домашней работой; огородник; во многом наивный, но изобретатель. Приучая сына заниматься, он сам тянется к знаниям: проверяет сочинения Колина, сидит за полночь после смены, ломая голову над математическими задачками.
Колин накапливает знания, но духовное развитие личности никогда не бывает автоматическим следствием образования. А духовная жизнь в поселке сводится к посещению воскресной школы и прогулкам в парке. Вонь испарений, поднимающихся от канализационных отстойников, рядом с которыми приятели Колина построили себе хижину, — мрачный символ жизни в поселке.
Все вокруг как будто кричит Колину: надо бежать отсюда, и чем скорее, тем лучше. Шагом вперед, к освобождению кажется поступление в городскую классическую школу, выпускники которой получают право продолжать образование в университете. Однако в школе короля Эдуарда Колину приходится туго — много времени и сил отнимают уроки, дорога на автобусе в оба конца, но ужаснее всего — отношение учителей, особенно классного наставника Ходжеса, педагога старой имперской закваски, который в первые же дни начинает жестоко и последовательно третировать мальчика потому, что отец у него — простой рабочий, шахтер. Ходжес чувствует в десятилетнем мальчике силу и твердость характера и глухой протест против унижений. Он считает необходимым укротить, сломать Колина, ибо, только сломив, можно навязать рабочему пареньку идеалы Империи, которым всю свою жизнь поклонялся Ходжес: «Некоторые злополучные государства пользуются десятичной системой, потому что им больше не на что опереться… Мы же в нашей стране и в тех землях, которые составляют нашу Империю, наши владения… пользуемся системой, которая на радость и на горе присуща только нам. То есть присуща повелевающей нации. Империалис, империум. Нации, приобщенной власти, владычеству…»
Сегодня, когда Британская империя прекратила свое существование, речи эти звучат анахронизмом. Однако идеи расового превосходства, богом данного права повелевать и диктовать свою волю другим народам, увы, живучи. Верные ученики и последователи Ходжеса и ему подобных в наши дни точно так же, как и прежде, притесняют и ущемляют не только тех, кто происходит из «низших классов», но и тех граждан бывшей Британской империи, у которых темный цвет кожи.
В борьбе с Ходжесом Колину как будто удалось выстоять. Но у мальчика есть противник еще более могучий и страшный — рутина. Рутина поселковой жизни сменяется рутиной иной. Не случайно не раз и не два писатель задерживает наше внимание на автобусных поездках Колина, которые служат символом постоянного, монотонного движения взад-вперед, без продвижения по существу. За окнами в утренней дымке или в сумеречной мгле мелькает привычный пейзаж индустриального Йоркшира: заводские трубы, копры, терриконы… «Поселок становился для него чужим, всего лишь источником неудобств, потому что был далеко от города». Но и город не становился своим, поскольку был слишком далеко от поселка. Колин постепенно теряет себя: утрачивая связь с поселком, он не укореняется в городе. Его истинное место в пути — между городом и поселком.
Жизнь Колина идет по инерции. Не выспавшись как следует, он торопится на автобус, отвечает в классе, играет в регби, готовит задания и т. д. Даже каникулы не вносят в эту жизнь никакого разнообразия. Все лето от зари до зари он трудится на окрестных фермах наравне со взрослыми мужчинами, убирает хлеб. Здесь он, как всегда, старательный работник и, как везде, не чувствует себя своим. «Его жизнь обрела новую инерцию. Он мог думать только о рядах копен, о поле, где им предстояло работать завтра…» Но подобное «инерционное» существование у героев Дэвида Стори всегда оканчивается бунтом. Будет бунтовать, конечно, и Колин. Но его бунт много обоснованнее и потому драматичнее бунта персонажей прежних произведений Стори.
Для правильного понимания причин конфликта Колина с родителями, самим собой и в конечном итоге с обществом в целом особенно важны его взаимоотношения с товарищем школьных лет Невилом Стэффордом и братом Стивеном.
С Невилом, отпрыском одной из самых богатых семей в округе, Колина связывает неожиданная и довольно длительная дружба. Их отношения отчасти напоминают отношения Толсона и Рэдклифа в раннем романе писателя — «Рэдклиф», поскольку Невил отчасти играет по отношению к Колину роль «злого гения». Но власть Толсона над Рэдклифом носит мистический и патологический характер, тогда как взаимное притяжение Колина и Стэффорда убедительно мотивировано социально и психологически. Кстати, именно Невил ищет расположения Колина, даже делает ему подарки. Все в Колине для Стэффорда чуждо и удивительно: редкая в подростке твердость и основательность характера; молчаливое упорство и в учебе, и на спортивной площадке; вопиющая бедность; необходимость работать тогда, когда все другие отдыхают. Есть и еще одна причина, заставляющая Стэффорда искать дружбы Колина. Несмотря на свое материальное благополучно, Невил откровенно одинок. В его большой и безалаберной семье до младшего сына никому нет дела: у братьев свои занятия и интересы, мать проводит время в обществе светских приятельниц, отец — в обществе гусей и свиньи. Создается впечатление, что есть все основания для прочной и длительной дружбы мальчиков, выросшей из взаимной симпатии и психологической потребности. Но Стори ясно дает понять, что Колину Сэвиллу никогда не сравниться с Невилом Стэффордом. Колин до поры до времени относится к своему приятелю ровно, как бы не ощущая между ними никакой принципиальной разницы. Но когда Стэффорд впервые приезжает в дом Сэвиллов, Колин замечает, как побледнел отец, засуетилась мать, угощая богатого товарища сына и явно смущаясь скудностью обстановки и стола. Колин проигрывает дружку первый же серьезный бой. Невил легко, будто шутя, отбивает девушку Сэвилла Маргарет, на которой тот собирается жениться. Никогда не мог Колин ощутить себя полноправным партнером Стэффорда, хотя бы потому, что в то время, когда Невил и их общие приятельницы развлекались, он должен был помогать по дому, присматривать за младшими братишками.
Колина Сэвилла, как и героев прошлых книг Стори, «Пасмор» и «Временная жизнь», привлекают женщины, стоящие на несколько ступенек выше по социальной лестнице. Но эти романы никогда не кончаются удачно. И этот «путь наверх», которым в свое время воспользовался Джо Лэмптон из известного романа Брейна, для них закрыт.
В том, как складываются судьбы Невила Стэффорда и Стивена Сэвилла, есть, как это ни удивительно, нечто общее. Оно — в предначертанности их дальнейшего жизненного пути. Стэффорду, не слишком способному и прилежному ученику, не надо беспокоиться. Деньги родителей обеспечивают ему положенное для благополучной карьеры образование. Столь же предначертана судьба Стивена, который, кстати, так же, как и Стэффорд, вовсе не горит желанием учиться. Но Стивену в силу его происхождения уготован иной путь — шахта или в лучшем случае профессиональное регби. В этом и кроется ответ на наивный вопрос Стэффорда: «А что, собственно, изменяют деньги?»
По мере развития действия драматизм конфликта нарастает. Как будто бы банальный бытовой разлад в семье — между родителями и старшим сыном, между братьями — приобретает острое социальное звучание. Недовольство Колина своим положением, откровенная зависть и даже ненависть к спокойному и невозмутимому Стивену, которого родители не заставляют учиться и который доволен своей работой, кажутся отцу с матерью черной неблагодарностью. Но сам-то Колин понимает, что из него вышло вовсе не то, на что они надеялись. Его, как подающую надежды заготовку, пропустили через великолепно отрегулированный механизм буржуазного образования, и сегодня Колин тревожится за будущее младшего брата, Ричарда, которого учителя прочат в университет: «Я вовсе не жажду, чтобы Ричард прошел через все, через что должен был пройти я. Чтобы он кончил так же… Чтобы обрабатывал таких же, как он, вынуждая их делать то, что вынужден был делать он… Берут лучшее в нас и превращают во что-то совсем другое». Образование и воспитание отдалило Колина от семьи и поселка. Но его положение осложнено еще и тем, что он никогда не чувствует себя свободным от семейных, социальных, психологических связей и обязанностей. «Я всегда искал непосредственности, мгновенных решений» — в этом суть его глубоко скрытной поэтической натуры, но окружающая его жизнь требует иного, более гибкого подхода.
Высокую и страшную цену заплатил Колин Сэвилл за свое образование. Ни занятия поэзией, даже несколько поощряющих фраз в лондонской газете, ни работа в школе не приносят, да и не могут принести ему удовлетворения. В школе, где учатся дети рабочих, среди учителей господствуют настроения, в которых слышатся отголоски технократических идей об отмирании в недалеком будущем рабочего класса. А пока, как говорит один из них, учителя должны это «временное явление» «отвлекать и по возможности развлекать». Еще более определенно высказывается директор школы Коркоран, который запрещает Колину заводить в классе пластинки и читать стихи: «От тебя одно требуется: научить их читать квитанции, считать недельную зарплату и писать заявления о приеме на работу». Он боится, что ученики «до того утонченными станут, что вообще в шахту не пойдут». Колина не устраивает система последовательного оболванивания учеников, принятая в школе. Но вызов, который Колин бросает Коркорану, находится в явном противоречии с его ответом на вопрос Маргарет: «Разве ты не чувствуешь никакой ответственности перед своим классом?» — «Ни малейшей». Это очередное свидетельство его раздвоенности, разлада с самим собой.
Самое точное определение Колину дает его возлюбленная Элизабет: «В сущности, ты никуда не относишься… Ты не настоящий учитель. Ты, в сущности, ничто. Ты не принадлежишь ни к какому классу, так как живешь среди членов одного класса, реагируешь на жизнь как представитель другого и не чувствуешь симпатий ни к одному». Быть может, Элизабет несколько сгустила краски, ибо симпатии Колина, конечно же, не на стороне Стэффорда или Коркорана, но от глухого чувства симпатии к детям рабочих до поступка расстояние немалое. И не зря честный Стивен бросает брату обвинение: «А ты лицемер. Предатель и лицемер».
Трагедия Колина Сэвилла в утрате собственного лица. Ему остается только бегство от семьи, поселка, службы, наконец, от самого себя. Символична связь, которую ощущает Колин с умершим в семилетием возрасте братом Эндрю, все время стремившимся куда-то убежать. «Бегство» в смерть одаренного юного художника Эндрю и бегство в никуда Колина одинаково трагичны.
Колин Сэвилл, конечно же, не положительный герой. Но его судьба привлекла писателя потому, что в ней судьбы многих молодых людей из народа, сумевших получить образование и оторвавшихся от своих классовых корней, но так и не примкнувших к правящему классу.
Такие, как Колин Пасмор и Колин Сэвилл, словно висят в бездонной шахте, и нет им пути наверх, как нет и пути назад, вниз.
Так что же, может, и в самом деле Стори считает, что детям рабочих не следует получать высшее образование? Судьба Колина Сэвилла есть ответ на этот вопрос. Образование не должно разрывать связь человека с домом, с семьей, с классом, с народом. Если же так получается, то неизбежна трагическая раздвоенность души, невозможность найти свое место, атрофия многих человеческих эмоций и переживаний. Глядя на измученную, постаревшую от работы и болезни мать, Колин вспоминает, «как они были у ее родителей: та же бессильная усталость, бессмысленное и жестокое крушение жизни — точно мухи, умирающие в углу». Сказано точно, но безжалостно. Так говорить о самых близких может только человек, утративший родственные чувства, забывший, откуда он родом…
Острота социальной проблематики романа далеко не исчерпывается образом главного героя. К исходу дней начинает глубоко осознавать безнадежность своей жизни отец — «прямо проклятие на нас лежит». Чувствует ответственность за тех, кто остается в шахте, Стивен, который нашел свое место в жизни. И конечно же, нельзя не вспомнить одного из самых привлекательных персонажей романа, деда Сэвилла, возмущающегося тем, что его, рабочего-социалиста, хотели заставить стрелять в русских рабочих, поднявшихся на революционную борьбу.
Роман Дэвида Стори «Сэвилл» служит прекрасным подтверждением того, что в «обществе равных возможностей» сохраняются классы и непримиримые конфликты между ними, которые не могут быть сняты с помощью реформ образования или более высокой заработной платы. Никакого стирания классовых границ, которое тщатся обнаружить западные идеологи, нет и быть не может.
В то же время роман Стори, представляющий значительный шаг вперед в творческой эволюции писателя, является еще одним серьезным свидетельством процесса, идущего медленно, но неуклонно: обращения все большего числа английских писателей к важной социальной проблематике.
За последние годы вышел ряд серьезных книг, авторы которых художественно исследуют прошлое, уроки борьбы предыдущих поколений рабочего класса за свои права. Только в 1977 году в Англии вышло три романа о жизни рабочего класса в 30-е годы: Д. Тулмин, «Унесенное семя»; А. Родс, «Крики на ветру» и Д. Элиот, «Любящий взгляд». Привлекли внимание первые книги молодого прозаика Гордона Паркера: «Хмурое утро», роман о жизни английских шахтеров в середине XIX века, и «Молния в мае», повествующая о всеобщей стачке 1926 года. Уже не первый год обращается к теме трудовых «корней» популярный в Англии прозаик Мелвин Брэгг, выпустивший в 1976 году книгу «От лица Англии». Это история маленького городка в Камберленде за три четверти XX столетия. Внук камберлендского батрака, Брэгг рассказывает в своей книге о том, как честно и упорно трудились и трудятся крестьяне и рабочие, которых никогда не баловала и так и не балует жизнь.
В ряду названных и еще многих не названных книг по достоинству одно из первых мест занимает роман «Сэвилл», принадлежащий талантливому потомку йоркширских горняков, роман о том, что, забыв свои корни, утратив классовую принадлежность, неминуемо теряешь свое лицо… И тогда остается только одно — бежать, не зная, где остановишься.
Г. Анджапаридзе
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
На исходе третьего десятилетия нынешнего века по улицам маленького шахтерского поселка Сэкстон, приютившегося среди невысоких холмов южного Йоркшира, медленно ехала подвода, запряженная грязно-серой ломовой лошадью. Рядом с возчиком сидела темноволосая кареглазая женщина с равнодушным лицом. Рыжеватое пальто достигало ей почти до щиколоток, а круглая шапочка прилегала к голове, точно скорлупа, и видна была только одна зачесанная кверху прядь. На коленях у женщины сидел завернутый в серое одеяльце голубоглазый светловолосый ребенок. Ему было немногим больше года. Когда подвода миновала центр поселка и через несколько сот ярдов свернула в боковую улицу, где дома уже уступали место полям, ребенок вдруг отвлекся от созерцания покачивающейся лошадиной спины и со слепым недоумением посмотрел вокруг.
На подводе громоздилась разнообразная мебель. Впрочем, разнообразие это было относительным — просто подвода предназначалась для более однородных грузов, а сейчас на ней увязаны были деревянный стол с четырьмя деревянными стульями, два облезлых кресла, двуспальная кровать с панцирной сеткой и деревянным изголовьем, всякие кастрюли, тазы и ящики, буфет, комод и высокий, выкрашенный морилкой гардероб с зеркалом в дверце.
Сверху кое-как примостился голубоглазый светловолосый мужчина невысокого роста в широком расстегнутом пиджаке и рубашке без ворота. В отличие от женщины он с удовольствием озирался по сторонам. У последнего ряда блокированных домиков, за которым улица упиралась в поле, он окликнул возчика, и тот, прищелкнув языком, по его указанию повернул лошадь к среднему из пяти каменных домишек — в каждом дверь и окно на первом этаже, два окошка на втором под скатом из больших неровных плиток кровельного сланца.
Светловолосый мужчина соскочил с подводы, отворил узенькую калитку палисадника глубиной шага в три, достал ключ из кармана пиджака, отпер буро-коричневую дверь и скрылся за ней. Минуту спустя он вышел, махнул женщине, и она после некоторого колебания спустила ребенка на землю. Едва встав на ножки, малыш неуверенно заковылял — но не к открытой калитке, а назад по улице, туда, откуда они приехали.
— Ни-ни, Эндрю! — крикнул мужчина, помог женщине слезть с козел, догнал малыша и со смехом подхватил его на руки. — Куда это ты собрался? Назад домой? — спросил он, радуясь самостоятельности малыша, и повернул его лицом к двери. — Вот он, твой дом. — И добавил. — Ты теперь тут живешь. — Потом сказал женщине, которая нерешительно остановилась у калитки: — Возьми-ка его, Элин, и иди с ним туда.
Он и возчик сгрузили мебель и внесли ее в дом. Разобранную кровать втащили в крохотную комнатку второго этажа с окном на улицу, рядом поставили кроватку ребенка — просто матрац в деревянном ящике, — а все остальное свободное место занял гардероб. Комод втиснули в одну из задних комнатушек. Их было две: одна — немногим шире стенного шкафа, а вторая — квадратная с узким окошком, за которым был виден общий задний двор и полоски пяти огородов, замкнутых забором вдоль пустыря и домами по сторонам.
Остальную мебель составили в кухне и в нижней комнате.
— А теперь можно и отпраздновать, — сказал светловолосый мужчина, когда они кончили.
Он заглянул в один ящик, в другой и достал три чашки, а из хозяйственной сумки извлек бутылку. Пошарил взглядом, ища, чем бы ее открыть, и сорвал крышку о край квадратной мойки с единственным краном в углу кухни. Остальную часть стены занимали плита с полками над ней и два встроенных шкафчика.
— Мне не надо, — сказала женщина, все еще держа ребенка на руках и оглядывая кухню. — Не люблю пива.
— В самый раз после такой работки! — Светловолосый мужчина со смаком осушил свою чашку.
— Ну, с новосельем, мистер Сэвилл, — сказал возчик. — Счастья вам и удачи в новом доме! — Он кивнул над чашкой темноволосой женщине, которая так и не сняла ни пальто, ни шапочки, и добавил: — И пусть все ваши заботы будут ма-аленькими!
Женщина отвела глаза, а ее муж рассмеялся.
— И за это выпьем! — сказал он, быстро налил свою чашку и протянул возчику бутылку с оставшимся пивом.
В конце концов подвода уехала, и Сэвилл с женой, заперев входную дверь, принялись расставлять мебель в крохотной комнате первого этажа. Потом затопили плиту, вскипятили чай и сели, оглядывая пустую кухню, во множестве хранившую пятна и запахи, оставленные прежним жильцом. Нижняя филенка задней двери, которая выходила прямо во двор, зияла сквозными царапинами, а в щелях между половицами виднелись обрывки газетной бумаги и разный мусор. Сэвилл встал на четвереньки и с недоумением заглянул в щель.
— Нет, ты только подумай! Он туда выкидывал спитой чай!
Наверху послышались шажки ребенка.
— Надо за ним присматривать, — сказала мать. — Он ведь к лестницам не привык. (Прежде они снимали комнату, это было их первое собственное жилье.)
— Сделаю загородку с дверцей, — ответил отец, подошел к лестнице и с гордостью оглядел ее. — Отличный домик. А порядок мы тут наведем, — добавил он, увидев в дверь кухни, с каким унынием жена смотрит по сторонам. Быстро вернувшись к ней, он со смехом обнял ее за плечи.
— Не надо, — сказала она, ухватившись за стул и хмуро глядя на огонь. — Горячей воды нет — сами должны греть, уборная во дворе.
— Могло быть и хуже. Если б, скажем, мы тут не одни жили.
— Да, конечно, — ответила она без всякой убежденности в голосе и добавила, вставая: — Пора браться за дело.
— Ну, день-то можно и подождать, — сказал он.
— Нет уж! В такой грязи я не то что готовить и есть, а и спать не могу.
И весь первый день Сэвиллы наводили чистоту в своем новом жилище. Они возились до глубокой ночи, и газовые рожки в их комнатах отбрасывали полосы света на задний двор еще долго после того, как окна в соседних домах погасли. Малыш давно спал наверху в самодельной кроватке, а они все мыли, скребли и терли. Перед рассветом Сэвилл лег вздремнуть, а с зарей встал, собираясь на работу.
— Ну, до вечера, — сказал он, стоя в дверях. — Вернусь на велосипеде и привезу оставшиеся вещи.
Он поглядел на еще горящий огонь, повернулся и пошел по двору. Жена поцеловала его в щеку на прощание, а теперь стояла и смотрела ему вслед. Над полем и домами напротив брезжил белесоватый свет, и ее вдруг охватило острое ощущение одиночества. Она окликнула мужа. Он обернулся в дальнем конце пустого двора, весело помахал рукой, словно открывая нескончаемый черед таких же прощаний, и, продолжая махать, скрылся за углом.
Женщина постояла еще немного, потом закрыла дверь и обвела взглядом комнату, но вокруг не было ничего, что могло бы ее ободрить: догорающий огонь, стол, четыре стула, буфет и посуда, сложенная в раковине. Опустившись на пол возле плиты, она заплакала.
Сэвиллы переехали в Сэкстон через полтора года после того, как поженились. Все эти полтора года они прожили в одной комнате бок о бок с другой супружеской парой. И тут представилась возможность снять домик в соседнем поселке: раньше в нем жил вдовец батрак, и после переезда они еще долго чувствовали запах его собаки и кошки, а также объедков, которые старик запихивал между половицами.
Не успев убрать дом до переезда, они первые несколько дней отскабливали полы, мыли стены, косяки и рамы, заделывали дыры, которые оставила собака, царапая двери и штукатурку. Они отремонтировали потолок и заменили прогнившие половицы, а в заключение покрасили стены и рамы снаружи. По вечерам Сэвилл, вернувшись после утренней смены на шахте в шести милях от поселка и выспавшись, вскапывал стиснутый между двумя заборами огород, густо заросший сорняками.
А потом он начал по вечерам выходить с малышом во двор, где из разнокалиберных досок соорудил деревянную скамью. Он сидел, покачивая ребенка на колене, и курил трубку, а малыш пытался ловить клубы дыма. Сэвилл разгонял их и смеялся.
Вскоре домашние хлопоты обрели свой порядок: по понедельникам мать стирала, во вторник досушивала белье и начинала гладить. В среду ходила за покупками на неделю, доглаживала белье и — если оставалось время — пекла хлеб: большие продолговатые буханки, которые в крохотной духовке занимали каждая по противню, и овальные булки. Тесто для них она замешивала перед топящейся плитой в глубоком фарфоровом тазу. Мальчик сидел возле на своем стульчике или на полу и не спускал с матери глаз, а часто и сам тянулся к тесту, глядя, как она укладывает его в формы или на намасленный противень, хватал отвалившийся кусочек, раскатывал его и клал на вощеную бумагу перед пляшущим пламенем, которое отбрасывало блики на тесто, затем проталкивал его между формами в духовке и с нетерпением смотрел, как мать сдвигает маленькую хромированную заслонку поддувала и подкладывает уголь. В конце концов она справлялась с часами на высокой полке, брала тряпку, открывала дверцу духовки и, если хлеб был готов, первым вынимала его изделие.
— Ну как, доволен? — рассеянно спрашивала она, занятая собственными булками и буханками. Но мальчик был так не по возрасту сообразителен, его крохотные ручонки действовали так ловко, что порой она удивлялась — хотя сама ему помогала, — как хорошо он во всем разбирается и знает, что сначала тесто замешивают, потом снова месят, выкладывают в формы и, наконец, задвигают формы и противни в духовку.
— Прямо пекарь! — говорил Сэвилл, вернувшись домой и увидев маленький кривобокий каравай, который испек мальчик. По требованию Эндрю он отламывал кусочек, мазал джемом и под восторженным взглядом сына тщательно его пережевывал, всячески выражая удовольствие.
— Обязательно приду сюда еще раз, тут знают, чем угостить голодного человека!
По четвергам мать убирала комнаты наверху — сначала спальню, единственную в доме комнату с линолеумом, который она мыла и натирала мастикой, затем две задние комнатки и, наконец, лестницу. По пятницам она убирала и мыла кухню, подметала пол и вытирала пыль в парадной комнате с окном на улицу — там два кресла стояли перед пустым камином с черной эмалированной полкой. Ее она натирала до блеска, как и черные эмалированные дверцы кухонной плиты, так что к вечеру по пятницам дом благоухал мастикой и газовый свет отражался во всех отполированных поверхностях. Сэвилл ставил лохань на расстеленные газеты перед огнем и, стоя на коленях, купал малыша. Эндрю хлопал ладошами по воде и радостно вопил, вода шипела на углях, а мать покрикивала на него, жалея только что натертый пол. Сэвилл хохотал или, присаживаясь на пятки, принимался петь. Мальчик завороженно оборачивался к нему и уже больше не отводил блестящих светлых глаз от раскрасневшегося лица, от зубов, сверкающих в огненных отблесках, а отец распевал долго и громко, радуясь его удовольствию.
— Черт подери, ты только погляди на его ножонки, Элин, — говорил он, поставив мальчика в лохани и поглаживая пухлый задик. Его заскорузлая рука, вся в черных точках угольной пыли, казалась еще грубее на бело-розовой коже. Сэвилл вскидывал сына, совсем мокрого, над головой, малыш болтал руками и ногами, повизгивал, пищал, вода снова шипела на углях, а мать кричала:
— Мой ты его, ради бога, а не разводи свинство!
Элин часто ездила навещать родителей. Они жили в поселке в четырех милях от Сэкстона в коттедже на две семьи. За домом был отгороженный пустырь, где бродили гуси и куры, а в закутке под навесом они держали свиней. Она брала с собой сына и долго готовила его к этой поездке. Он сидел рядом с ней в автобусе, одетый в праздничный костюмчик, чисто вымытый, аккуратно причесанный на пробор, и глядел в окно на поля с тем же недоумевающим выражением, которое появлялось у него в глазах всякий раз, когда мать бранила отца, — недоумевающим и в то же время чуть-чуть рассеянным, словно их ссора никак его не касалась.
Мать миссис Сэвилл, низенькая старушка, родила семерых детей, пятерых вырастила и давно уже переложила на них все свои хозяйственные обязанности — почти каждый день кто-нибудь из них навещал ее. И когда Элин приезжала с Эндрю, она вскоре уже надевала фартук, засучивала рукава и мыла пол, или протирала окна, или стирала, или готовила обед. Ее отец, высокий молчаливый человек, уже много лет не имел постоянной работы и кое-как сводил концы с концами благодаря заросшему бурьяном пустырю позади дома. Когда приезжала Элин, он уходил, оставляя ее с матерью — несмотря на лучшие ее намерения, между нею и матерью постоянно вспыхивали ссоры. Мать не могла простить ей, что она вышла за Сэвилла — Элин была младшей в семье и должна была бы по меньшей мере еще несколько лет совмещать обязанности дочери с обязанностями прислуги. Но ее брак положил конец таким расчетам, а рождение Эндрю и вовсе заставило о них забыть.
Малыш сидел между ссорящимися женщинами в аккуратном костюмчике, сияя приглаженными волосами, румяными крепкими щечками и бесхитростными голубыми глазами. Он смутно ощущал волны враждебности, исходившие от взрослых, и, возможно, как-то связывал эту враждебность с другой, почти такой же — с озлоблением и горечью, которые воцарялись дома между отцом и матерью и обычно предшествовали, а может быть, и были причиной очередной поездки к его круглолицей, краснощекой, темноглазой бабушке. Возиться в пыли позади дома ему разрешалось только под строгим надзором матери, а если он получал позволение пойти на пустырь, то лишь с условием крепко держаться за руку дедушки — высокий старик с большими кроткими карими глазами и голосом, еле слышным из-за долгой привычки всегда оставаться незаметным, соблюдал это требование почти столь же неукоснительно, как сам Эндрю.
— Ну-ка, погляди на Джеки, — говорил дедушка, подводя его к свиному закутку; но в щелки между досками почти ничего не было видно, и старик ставил его на загородку: истоптанная полужидкая грязь за ней завораживала их обоих, и они смотрели на колышущиеся над ней бело-розовые туши, пока из дома не доносился голос Элин:
— Папа, да унеси же ты его оттуда!
— Чуток навоза еще никому не вредил, — говорил старик, когда они возвращались к женщинам.
— Ну нет! — кричала Элин совсем как у себя дома. — Оттирать и отмывать его не тебе приходится!
— Я отмывал и оттирал семерых. И тебя в том числе.
— Кого это ты отмывал и оттирал? — говорила кругленькая бабушка, и старик замолкал и уходил, как всегда предоставляя продолжать свару женщинам, которые обязательно должны доказать свое.
И все-таки Эндрю нравилось ездить к бабушке с дедушкой. Ему вообще нравилось уходить из дома, и он радовался, даже когда мать брала его с собой в лавку, не говоря уж о прогулках, когда отец водил его в Парк на склоне холма над поселком или еще дальше, туда, где в двух милях от Сэкстона описывала темный полукруг река, текущая от дальнего города.
На обратном пути от бабушки с дедушкой мать часто сажала его к себе на колени, и он смотрел на поля из ее объятий — когда они ехали туда, она очень редко брала его на руки, точно ее мысли были заняты предстоящим испытанием.
— Погляди-ка, вон лошадка! — говорила она ему на обратном пути и продолжала указывать то на одно, то на другое, словно не в силах сдержать радость от того, что они возвращаются домой, и торжество своей победы — еще раз выдержать атмосферу отчего дома было для Элин достаточной победой. Это были минуты наибольшей близости между Эндрю и его матерью, точно он был сразу и трофеем, и бременем, которым она гордилась, которое она влачила.
Когда Эндрю шел четвертый год, Сэвиллы переехали в один из шахтерских домов на той же улице, по ближе к углу, потому что квартирная плата там была меньше. К тому же их прежний дом совсем обветшал, и, как они его ни подправляли, зимой крыша текла и все стены были в разводах от сырости. Обитатели остальных четырех домов тоже скоро выехали, и весь блок был снесен: камни увезли, бревна и доски сожгли. Через некоторое время на его месте было построено продолжение шахтерского ряда.
Вскоре после переезда Эндрю убежал из дома. Сэвилл, поднимаясь на крыльцо, столкнулся в дверях с женой. Она была совсем белая и не могла ничего толком объяснить. Они отправились на поиски вместе — он шел рядом с ней, катя велосипед. На углах она останавливалась и ждала, а Сэвилл садился на велосипед и ехал осматривать дворы, пустыри, закоулки. Наконец они решили вернуться домой и тут увидели соседку, которая вела мальчика. Его нашли в нескольких милях от Сэкстона: он деловито шагал по дороге, ведущей в соседний поселок. Эндрю был спокоен и доволен — Элин села с ним к огню, и он, казалось, даже не помнил, что куда-то уходил.
Быть может, теплота и ласка, ознаменовавшие его возвращение, пробудили в нем желание снова уйти из дома. На этот раз он отыскался на шахте, и его принес домой мистер Шоу, шахтер, живший за стеной. Сэвилл увидел их на улице. Лицо Эндрю было бледным, сосредоточенным, он смотрел прямо перед собой, точно не замечая держащих его рук.
— Да где же он был? — спросил Сэвилл.
— Мы нашли его в котельной — свернулся себе под трубой и лежит, — ответил Шоу. — А уж как он туда забрался, никому не известно. Его механик увидел, совсем случайно.
И наконец, в третий раз Эндрю изловил лавочник — все на той же дороге, ведущей из поселка.
— Ну, куда ты шел? — спросил Сэвилл.
— Не знаю, — сказал мальчик.
— Тебе же тут хорошо, — сказал он.
— Да. — Эндрю кивнул.
— Это же опасно, понимаешь?
Эндрю помотал головой.
— Придется тебя отшлепать, чтобы ты понял, — сказал отец.
После этого почти год Эндрю никуда не уходил. А потом снова начал исчезать, и, когда его приводили обратно, голубизна широко открытых недоумевающих глаз сияла так ярко, что, задав ему трепку, Сэвилл уходил в уборную за домом и курил, сидя на стульчаке, а руки у него тряслись, как в первые месяцы после свадьбы, когда он ссорился с женой.
И она тоже была словно оглушена. Это превращалось в своего рода ритуал; в непокорности малыша было тихое непреодолимое упрямство, и отец, когда он вновь уходил, уже не пугался и не волновался, точно внутренне уверовал в неуязвимость мальчика, как инстинктивно верил в собственную неуязвимость, спускаясь в шахту — спокойно, почти равнодушно. Он подолгу спал. И купил собаку. С ней он уходил на заброшенную шахту к югу от поселка, и черно-белый песик шнырял по старым заросшим отвалам, гонялся за кроликами или раскапывал их норы.
Эндрю пошел в школу. И там начались те же неприятности, что и дома. Как-то, возвращаясь с одной из своих прогулок, Сэвилл увидел впереди на улице сына. Эндрю, возможно благодаря постоянному вниманию матери, всегда вел себя очень чинно, и к случившемуся привело почти нечаянное движение, то рассеянное невнимание, из-за которого в школе он мог опрокинуть стол, разбить окно или, как это бывало прежде, отправиться в свои странствия.
Сэвилл смотрел, как он идет по середине мостовой, подшибая ногой камешек, и уже почти нагнал его, когда камень вдруг взлетел довольно высоко и угодил в голову другого мальчика. Мальчик согнулся и заплакал. Сэвилл увидел, как потемнело лицо Эндрю, как он оцепенел, парализованный беспомощностью, которая охватывала его всякий раз, когда оказывалось, что он что-то натворил. Секунду спустя он сделал шаг вперед, но мальчик закрыл лицо руками и с плачем убежал. Эндрю стоял посреди дороги, безутешно глядя ему вслед. Потом, весь красный, судорожно дернулся, поднялся на тротуар и пошел домой, шагая все так же судорожно и неловко.
Сэвилл не мог понять, почему он не вмешался, не мог понять, что его удержало, и это потрясло его не меньше, чем мучительное огорчение Эндрю, чем странное раскаяние, терзавшее их обоих — сына, который шел впереди, не зная, что на него смотрит отец, и отца, который шел позади, смущенный и злой. Когда он вошел во двор, Эндрю, примостившись в углу, ковырял землю у себя под ногами. Лицо у него было красное и блестело, словно он только что плакал.
Однажды утром, когда Сэвилл вернулся с работы, оказалось, что мальчик заболел.
Его жена была на третьем месяце беременности, и он не пошел в ночную смену, а остался ухаживать за ними. Утром Элин почувствовала себя лучше, но Эндрю лежал в жару и хрипло, надрывно кашлял.
— Не беспокойся, он скоро поправится, — сказал Сэвилл жене и дал мальчику порошок, а сам лег спать, чтобы вечером пойти на работу.
Когда он проснулся, мальчику было хуже.
— Не беспокойся, — сказал он. — Если ему не полегчает, я позову доктора. — Он дал Эндрю еще порошок, чтобы он хорошенько пропотел, и укрыл его вторым одеялом. — Ты одна справишься? — спросил он жену.
— Не знаю, — ответила она и покачала головой. Бледная, больная, она безучастно бродила по дому, точно во сне, не вполне понимая, что происходит.
— Еще смену я пропустить никак не могу, — сказал Сэвилл. — И так уже неприятностей не оберешься, можешь мне поверить.
— Мы обойдемся, — сказала она. — Ты иди. Если что, я позову миссис Шоу.
— Нет, — решительно ответил он. — За своими я и сам присмотрю, черт подери.
Он остался дома. Ночью мальчику стало совсем плохо. Он вскрикивал, а потом не мог вздохнуть, и все его тело судорожно изгибалось.
Сэвилл схватил велосипед и поехал за доктором. Но не застал его дома — он уехал к больному. Ему дали адрес молодого врача, который обосновался в поселке совсем недавно. Врач оказался даже моложе, чем он сам, и у него не было машины. Он выкатил свой велосипед и поехал вслед за Сэвиллом.
Когда они вошли, Элин сидела в кухне у очага.
— Как он? Как он себя чувствует? — спросил Сэвилл, удивившись, что она встала.
— Все так же, — ответила она, безучастно обернувшись к ним.
Лицо ее было даже бледнее, чем раньше.
Он увидел, что она подогревает молоко.
— Как пройти наверх? — спросил врач.
Они поднялись вслед за ним по лестнице, зажгли свет.
Врач нагнулся над скорчившимся Эндрю, ощупывая его грудь.
— Вы давно к нему заглядывали? — спросил он.
— Минут десять назад, а может, и меньше, — сказала Элин.
— Сделать уже ничего нельзя, — сказал врач и через секунду, все так же не глядя на них, добавил: — Слишком поздно. Мне очень жаль.
— Да почему? Что с ним такое? — сказал Сэвилл.
— Мне очень жаль, — сказал врач. — Но он умер.
И даже тогда Сэвилл не поверил. Он шагнул к кровати, наклонился над мальчиком. Его рубашонка задралась выше колен, голова утонула в подушке, глаза были полуоткрыты.
— Мне очень жаль, — повторил врач.
— Да нет же, он не умер, — сказал Сэвилл.
— Я пойду, — сказал врач.
— Да нет же, он не умер, — сказал Сэвилл. Его жена стояла чуть в стороне. Ее пустые глаза ничего не выражали. — Он не умер, — сказал он, вглядываясь в тень под полусомкнутыми веками.
— Я пойду, — повторил врач, повернулся к его жене и взял ее за локоть.
Внизу у двери он сказал:
— Платить ничего не надо. За вызов. — И положил свой чемоданчик на багажник.
Несколько дней спустя, когда мальчика похоронили, его жена уехала к родителям. Сэвилл сам себе стряпал, убирал дом, ездил на велосипеде на работу. Элин вернулась через неделю. Она все время молчала. Он старался больше делать по дому: уезжал на работу чуть позже, на обратном пути крутил педали изо всех сил, чтобы вернуться чуть раньше, стряпал, подметал, помогал со стиркой. Ее уже больше не тошнило по утрам, но беременность, казалось, совсем подорвала ее силы. По вечерам, когда он уезжал, она неподвижно лежала у огня, измученная, бледная, и ее темные глаза были мутными и безжизненными. Он попросил миссис Шоу заглядывать к Элин.
— Не тревожьтесь, — сказала она. — Я с ней посижу.
Иногда утром миссис Шоу кормила его завтраком.
— Скоро ей станет легче, — говорила она.
Его собственная жизнь словно была непонятным образом зачеркнута. Он выкинул игрушки Эндрю — ему было невыносимо всякое напоминание о мальчике, о том, чем они могли бы заниматься вместе. Огород зарос бурьяном, а ямы, которые мальчик там нарыл, он закопал и заровнял. Иногда он уходил погулять, но обычно возвращался, не дойдя до угла. Он начал засыпать на работе, и его вызвали к управляющему.
Он чуть вовсе не бросил работу. Он мучился стыдом, не хотел признавать, что с ним происходит, и не мог освободиться от этих тисков, от презрения к себе. Он попробовал поговорить с женой, но увидел горе, к которому нельзя было подступиться, — слепое, безликое, безысходное. Утром, ложась спать, он замечал, что подушки мокры от ее слез, а когда вставал под вечер, она безучастно бродила по дому с тряпкой или щеткой в руке, не в силах ничем заняться.
— Нет, надо что-то сделать, — сказал он. — Так больше нельзя. Просто невозможно. Хоть руки на себя накладывай. Все равно хуже ничего быть не может.
Как-то утром он вернулся домой позже обычного, отпер заднюю дверь своим ключом и увидел, что огонь уже разведен, а жена замерла перед очагом на коленях, низко опустив голову.
Только подойдя совсем близко, он увидел нож — блеснувшее лезвие — и, только схватив ее за руку, остановил его движение.
— Нет! — сказал он. — Что это ты… — Он притянул ее к себе и ощутил вялую покорность. — Как же так, — сказал он, не отпуская ее. — Зачем? Что это ты задумала?
Она заплакала, прижимаясь к нему, и он почувствовал, как его собственное горе прорвалось, хлынуло наружу, опустошающее, слепое и глухое.
— Что же нам делать? — спросил он у нее. — Это ведь не выход. У нас другой есть, и надо о нем подумать, — сказал он.
— Почему он все уходил? Почему он уходил? — спросила она.
— Нам нужно помнить, что у нас есть другой, — сказал он.
— Почему он умер?
— Нет, об этом нам думать нельзя, — сказал он.
Теперь, прежде чем отправиться вечером на работу, он молился вместе с Элин. Первый раз он увидел ее в церкви: она с какой-то подругой остановилась после вечерней службы на крыльце, потому что начался дождь. А у него был с собой зонтик — он взял его у отца. Он поднялся по ступенькам, предложил ей свой зонтик, проводил ее до дому, а через неделю зашел к ним и пригласил ее погулять. Начало всему положила встреча в церкви, но, если не считать свадьбы и похорон, они там больше не бывали. Однако теперь перед уходом на работу он опускался на колени рядом с ней у огня, читал «Отче наш» и — ради нее — молился за нового ребенка. «Да будет он хорошим и крепким, да не умрет», — произносил он вслух, а в душе тайно от нее умолял: «Дай нам что-нибудь взамен. Ради Христа, дай мне что-нибудь взамен», и эта молитва оставалась с ним, когда он крутил педали в темноте, оглядывался на поселок, на зарево коксовых печей и думал, что с ней сейчас, спит она или нет и кто родится — мальчик или еще бы лучше девочка. Все его новые надежды были сосредоточены на будущем ребенке, но он чувствовал, как тот, прежний, ложится на его плечи мертвой тяжестью.
Незадолго до родов его жена легла в больницу в соседнем городке. Два раза в неделю он уезжал туда на автобусе с фруктами для нее или сменой белья — сидел в верхнем салоне и курил, испытывая гнетущую тревогу и одновременно облегчение, что она далеко и от него больше ничего не зависит. Ребенок — мальчик — родился только через две недели, а домой она вернулась еще через четыре, и он провел в одиночестве почти полтора месяца. Обед ему иногда стряпала миссис Шоу.
Мальчик был темноволосым и темноглазым, как его жена, но кое-что он унаследовал и от него — широкое лицо и большой рот. У Эндрю, когда он родился, рот был меньше.
Это был странный ребенок. Элин от него почти не отходила. Он никогда не плакал. И Сэвилл удивлялся тому, что он молчит и всегда серьезен, словно печален. Он помнил, что Эндрю возился, плакал, лепетал, и такое тихое спокойствие его пугало.
— По-твоему, он растет как надо? — сказал он.
— А что? — спросила она. С самого начала, с той самой минуты, когда он увидел их вместе, она как будто не испытывала никакой тревоги. Словно ее горе отъединилось от нее и лежало рядом и его можно было обнять, прижать к сердцу. Сэвилл смотрел на младенца с улыбкой, не зная, как к нему отнестись, и боялся чего-то, и старался не брать его на руки, если только жена не настаивала. А ее забавляла такая боязливость: став прежней, она почти с пренебрежением замечала, как он отстраняется и все время пропускает ее впереди себя.
— Нет, лучше ты сама, — говорил он, когда она предлагала ему подержать или перепеленать малыша, хотя их первенца он и на руках носил, и пеленал.
Они дали ему имя Колин. Так звали ее деда по матери, единственного человека в их семье, который ей по-настоящему нравился, моряка, который живал дома редко и неподолгу, но, когда возвращался, всегда дарил ей конфеты. Она плохо его помнила — только морскую форму, конфеты и бороду, в которую утыкалось ее лицо, когда он ее целовал. Его пожелтевшая фотография вместе с фотографией ее родителей и их свадебным снимком лежала в папке, которую она хранила в комоде у кровати.
Рядом с младенцем он терялся, но испытывал облегчение, если ему удавалось заставить его рассмеяться или потянуться к чему-нибудь. Летом он сидел рядом с коляской в огороде и помахивал над ней зеленым листиком. Вверх тянулась ручонка, старалась схватить, личико улыбалось оживленно, почти с интересом. Он не был похож на других малышей. Плакал он, только когда мать вынимала его из лохани перед огнем, но она давала ему грудь, вопли замирали, судорожная дрожь стихала, ручонки цеплялись, тянулись.
— Странный он какой-то, — говорил Сэвилл. — Самая малость, и уже доволен.
— Да, — отвечала она, поглядывая на сына, поглаживая его по голове.
— Ничего понять нельзя, — говорил он.
Ребенок был словно ее частью, неотделимой, растущей, и муж видел, как в ней растет спокойствие, умиротворенность, а соседки на улице нагибались к малышу с недоумением и так же терялись перед его тихой покладистостью, как сам Сэвилл.
— Чистое золотце, ангелочек, — говорила отцу миссис Шоу, краснея и улыбаясь всякий раз, когда ей позволяли взять ребенка на руки.
— Глядите, он ко всем идет! — говорил он ей.
— Ну, уж если он ко мне пошел, так ко всякому пойдет, — отвечала она и смеялась.
Когда мальчик начал ходить, он все время оставался в огороде и не пытался выбираться на пустырь или в соседний двор. А если отец звал его оттуда через забор, он протискивался между штакетинами и сразу хватал отца за руку, а те, с кем Сэвилл разговаривал, глядели вниз на малыша, улыбались и покачивали головами.
— Ну, боксером будет! — говорили они, поглядывая на его кулачки, на его плечи. Он был сложен плотно, как сам Сэвилл, и на его руках и ногах уже нарастали мышцы.
— Да уж, Гарри, он тебя скоро уложит, — говорили они, посмеиваясь, если ему удавалось расшевелить мальчика.
Обычно он смущался, застывал рядом с отцом и застенчиво смотрел снизу вверх на чужих людей, чуть насупив брови над темными внимательными глазами.
— Дать тебе полкроны, Колин? — спрашивали они и смеялись, когда он прятал руки за спину. — Его не подкупишь, — говорили они Сэвиллу. — Темная лошадка. Нам всем надо держать ухо востро.
Он водил мальчика гулять, как прежде Эндрю, — иногда сажал его на спину, но чаще вел за руку. Порой они уходили из поселка на северо-восток, за распаханные поля, туда, где дорога спускалась к реке. Вода в ней была темная, в хлопьях пены, кое-где у берега из нее торчали кусты и деревья. Мимо проплывали баржи, груженные тюками шерсти — красными и оранжевыми, голубыми и желтыми, и яркие цвета казались еще ярче на фоне темного откоса. Чуть дальше была угольная пристань, и там самосвалы сбрасывали свой груз в желоб, и черный поток катился в трюм баржи внизу. Маленький буксир с красной трубой отводил баржи от пристани, и между берегами медленно разворачивался длинный караван, рулевые перекликались, а красная труба словно сама по себе торчала среди полей, изрыгая черные клубы дыма, и ее было видно за много миль.
Его первая собака издохла, он купил другую и по вечерам перед работой уходил с ней и сыном к заброшенной шахте за поселком. Прежде он часто приходил сюда один, а теперь ложился в траву и смотрел, как мальчик ковыряет палкой в земле или ходит за псом и зовет его: «Билли! Билли!», спотыкается, падает и возвращается к нему рассказать, что Билли убежал.
— Ничего, скоро вернется, — отвечал он. — Билли знает, где его ждет ужин. Вот увидишь! — И хохотал, когда пес возвращался и морда у него была вся в земле, потому что он пытался разрыть нору. — Того и гляди он нам с тобой поймает кролика!
Теперь при взгляде назад казалось, что смерть Эндрю и рождение Колина были частью одного события — уплатой долга, нежданным чудесным возмещением. Время шло, но он никак не мог с этим свыкнуться до конца и чувствовал, что жена воспринимает прошлое почти мистически, словно видит в обоих мальчиках одно существо: Эндрю — тот, против кого прегрешили, а второй сын — символ искупления, но в обоих одна и та же плоть, один дух, точно жезл, положенный в огонь, очищенный и обновленный огнем. И почти по тем же причинам, затевая с мальчиком возню, играя с ним, он боялся — боялся воздействовать на него, боялся перечеркнуть, как он перечеркнул своего первенца. Он устраивал с ним шутливые драки во время прогулок у заброшенной шахты: валился на спину, и малыш боролся то с его рукой, то с ногой, хохотал, напрягал все силенки, а пес прыгал и лаял на их болтающиеся ноги.
— Эдак ты меня прикончишь! — говорил он, запыхавшись, а мальчик заходил с другой стороны, держась за пределами досягаемости, и вытягивал руки перед следующим нападением. Он смеялся силе малыша и непонятной ярости, которая в нем вспыхивала. — Погоди-ка, погоди! — говорил он и откатывался в сторону, а малыш под лай пса кидался на его ноги, смеялся и прыгал по нему. Возбуждаясь, он словно оживал, и казалось, что это вернулся, вопит и хохочет Эндрю, но потом затихал, и, когда они шли домой, отец поглядывал вниз и видел застывшее спокойное лицо, серьезные темные глаза, устремленные куда-то под тенью сдвинутых бровей.
Летом того года, когда мальчик пошел в школу, они поехали отдыхать.
Колин никогда еще не видел моря. Все последние недели перед отъездом Сэвилл рассказывал ему о его синеве и бескрайности, о песке, о чайках, пароходах, о маяках и даже о контрабандистах. Про эти комнаты он узнал от одного человека на работе, Элин написала туда, они выслали задаток. В день отъезда он встал рано, но мальчик был уже на кухне и чистил ботинки. Его костюмчик лежал на стуле рядом с пустым очагом. У двери стояли два чемодана, уложенные накануне.
— Что-то ты раненько вскочил, — сказал он. — Думаешь, поезд уже готов? А по-моему, паровоз еще только завтракает!
Мальчик даже не улыбнулся, в нем уже нарастала тусклая, почти мрачная сосредоточенность, словно им предстояло идти в бой.
— А мои ты не почистишь? — спросил отец.
Он принес свои ботинки и накрыл на стол, а Элин еще убирала постели наверху.
Когда они собрались уходить, мальчик ухватил чемоданы.
— И не пробуй! — сказал отец.
С той минуты, как мальчик кончил чистить ботинки, он находил себе все новую и новую работу, вымел очаг, вынес золу, помог перемыть посуду и как пришитый ходил за матерью, когда она напоследок осматривала комнаты, проверяя, завернут ли газ и краны, хорошо ли задвинуты задвижки на окнах. Они заложили засов на задней двери, заперли ее и вышли с чемоданами через парадный ход. Сэвилл поставил чемоданы в палисаднике, запер дверь, подергал ее и оглядел окна, а мальчик тем временем приподнял один чемодан, потом второй и, задохнувшись, опустил их на землю.
— Дай-ка мне, — сказал Сэвилл, засмеялся и отдал жене ключ. — Не пойму только, зачем мы дом заперли. Украсть-то у нас нечего!
Но даже теперь, когда мальчику оставалось только идти рядом с родителями, настроение его не изменилось. Он крепко держался за материнскую руку и нетерпеливо оборачивался, когда отец останавливался передохнуть или перекладывал чемоданы из одной руки в другую.
— У нас тут вещей на три месяца! — сказал Сэвилл жене. — Знай я, какие они тяжелые, я бы запасся тачкой.
Час был еще ранний — пустые улицы, темное серое небо над головой. Во время завтрака он поглядел в окно и сказал: «Как оно сообразит, что мы отдыхать едем, так сразу засияет!» Но вот они на улице, медленно идут к станции, а небо все такое же, только тучи стали гуще.
— Ну, хватит говорить о погоде, — сказала Элин. — А то все солнце, солнце! Так мы его и вовсе не увидим.
— Не беспокойся! Как оно заметит, что мы тронулись в путь, так и засияет. — Он поглядел на сына. — Оно любит, когда люди радуются, — добавил он.
На каждом углу Сэвилл ставил чемоданы и переводил дух. Один раз он закурил, но тут же бросил сигарету. В домах, мимо которых они проходили, люди мало-помалу просыпались — отдергивали занавески, разводили огонь, Некоторые выглядывали из дверей.
— Значит, уезжаешь, Гарри?
— Угу, — отвечал Сэвилл. — И наверное, не вернусь.
— Что-то чемоданы у тебя тяжеленьки. Месяц путешествовать будете?
— Месяц, месяц, — отвечал Сэвилл. — Никак не меньше.
По улице ехала тележка молочника. Он брал кувшины, выставленные на крыльце, шел к тележке и наливал в них молоко из блестящего круглого бидона. Сзади на тележке висели черпаки — одни с длинными ручками, другие точно металлические кувшины.
Молочник окликнул их и замахал рукой.
— Сейчас она мне ох как кстати пришлась бы, — сказал Сэвилл, кивая на тележку.
— И далеко вы собрались? — спросил молочник.
— На станцию.
— Я вас подвезу, — сказал молочник. — Если хотите.
Элин неуверенно оглядела тесно стоящие бидоны.
— Разве что чемоданы, — сказал Сэвилл. — А мы и на своих двоих доберемся.
— Все поместитесь, старина, — сказал молочник. — Я сейчас.
Он был в черном котелке и коричневом халате. Они стояли и ждали, пока он разносил полные кувшины.
— К морю, значит, едете? — спросил он, когда вернулся.
— К нему самому, — ответил Сэвилл и поглядел на мальчика.
— В первый раз? — сказал молочник.
— В первый.
— Жалко, я с вами поехать не могу.
У молочника были румяные щеки. Из-под полей котелка на них смотрели бледно-голубые глаза.
— Залезайте, — сказал он. — Чемоданы я потом поставлю.
Первой забралась на повозку Элин, ухватившись за выгнутую доску, заменявшую крыло. Она встала с одной стороны, Сэвилл с другой.
Молочник подсадил мальчика, и он встал спереди у металлической перекладины, сквозь которую были продернуты вожжи.
Чемоданы были в конце концов втиснуты стоймя между высокими бидонами.
— Ну вот, — сказал молочник. — Попробуем, хватит ли у нее силенки.
Он взял вожжи, прищелкнул языком, и бурая лошадь, даже еще более темная, чем его халат, зашагала по мостовой.
— Погода пока не очень, — сказал молочник и взглянул на небо.
— Скоро прояснится, — сказал Сэвилл. — Еще не было дня, чтобы мы уезжали при солнце.
— Сперва хмуро, потом ясно, чего лучше, — сказал молочник.
Лошадь цокала копытами по мостовой. Тележка покачивалась, как качели.
— Небось думают, куда это я запропал. — Молочник мотнул головой назад. — Я ведь всегда в одно время подъезжаю, ну, минутой раньше, минутой позже, но всегда в одно.
— Спасибо, что выручил нас, — сказал Сэвилл.
— Да что там! Сам бы с вами поехал. И зачем лошадь, если не тяжести возить?
Колин вцепился в металлическую перекладину. Она была выпуклой и изогнутой, с маленькой дыркой для вожжей. Перед собой он видел только лошадиную спину.
Сэвилл заметил, как напряжены ноги мальчика, как побелели его пальцы, стискивающие край перекладины. Он поглядел на жену. Она стояла боком, бледная, широко, почти испуганно открыв глаза. Одной рукой она держалась за деревянный брус, другой — за борт тележки. Шапочка на ней была того же цвета, что и пальто, — рыжевато-коричневая, без полей, натянутая на уши.
Последние дома остались позади, они ехали среди лугов, и на Сэвилла пахнуло свежестью. Пел жаворонок, и он увидел его — темное пятнышко на фоне туч. Позади из трубы рядом с копром шахты узкой черной струей поднимался дым. На лугу паслись коровы и овцы. А на соседнем стояла лошадь — совсем одна. Он окликнул сына и показал на нее.
Колин кивнул. Он стоял рядом с высоким молочником и оглянулся, не выпуская перекладины, вывернув шею.
Сэвилл увидел его раскрасневшиеся щеки и недоуменное, испуганное выражение в глазах, которое появилось в них, едва его посадили в тележку.
— А ты бы попрощался с ними, — сказал Сэвилл. — Скажи им, что мы едем отдыхать.
Молочник засмеялся.
— Чудней этого они мало что видели, — добавил Сэвилл, обернувшись к жене. — Люди едут отдыхать в обнимку с молочными бидонами.
Дорога пошла под уклон к станции. Одноколейный путь раздвоился и нырнул в две глубокие выемки, рассекавшие поля.
Молочник свернул в станционный двор и спрыгнул на землю. Он помог слезть миссис Сэвилл, потом мальчику и взял чемоданы, которые ему подал Сэвилл.
Сэвилл тоже спрыгнул и отряхнул пальто.
— Большое спасибо, — сказала Элин.
— Да, выручил нас. Не знаю, сколько бы времени я их тащил, — сказал Сэвилл и махнул рукой в сторону дороги. — Мы бы еще вон где плелись, это одно, а кроме того, у меня наверняка руки отвалились бы от такой ноши. — Он покосился на мальчика. Тот глядел на лошадь, потом начал смотреть на тележку.
— Ну, желаю вам отдохнуть хорошенько, — сказал молочник, влез в тележку и взял вожжи. — А мне пора, пока не хватились, что я с маршрута свернул.
— Большое спасибо, — снова сказала Элин.
Они смотрели, как он повернул тележку; он помахал им, лошадь затрусила по дороге и скрылась из виду за мостом.
— Он нам здорово помог. Только теперь, наверное, придется ждать. Мы же добрых полчаса сберегли, — сказал Сэвилл.
Он подхватил чемоданы и вошел в помещение станции. В кассе никого не было. Деревянный пол еще не подмели.
По дощатому настилу они дошли до металлического мостика. Под ним внизу были видны рельсы. По каменной лестнице, узкой и крутой, они спустились на платформу с другой стороны.
Сэвилл поставил чемоданы возле деревянной скамьи.
— Схожу куплю билеты, — сказал он.
Из окна станции он видел жену и сына — они стояли рядом с чемоданами. Потом жена села на скамью. Мальчик подошел к краю платформы и долго смотрел на рельсы, потом поглядел на окна станции, повернулся и отошел назад к чемоданам.
К станции медленно подходил товарный поезд. На секунду мостик заволокло дымом, исчезла и вся станция. Когда дым рассеялся, Сэвилл увидел, что его жена и сын стоят у края платформы и смотрят на катящиеся мимо вагоны.
Из внутренней двери появился кассир. Сэвилл заплатил за билеты, опять прошел по мостику и спустился по узкой лестнице на платформу.
Городок стоял в самой глубине полукружия мелкой бухты. На севере за домами торчали развалины замка. Он был построен на полуострове, сложенном из буро-красных скал. Обрыв охватывал красные черепичные крыши городка, точно длинная, занесенная над ними рука. От замка осталась длинная осыпавшаяся стена и выпотрошенное основание массивной квадратной башни. Мыс, завершавший полуостров, огибала широкая дорога, а чуть ниже бурлило и пенилось море: даже в спокойную погоду волны накатывались на волнолом, крутая дуга которого протянулась от укрытого порта на север, туда, где за мысом бухта становилась шире и глубже.
При отливе обнажалась широкая полоса песка. Они поселились в доме около порта, и из окон верхнего этажа была видна бухта, белые глянцевые прогулочные пароходики, уходившие в очередной рейс или возвращавшиеся в порт, тесные ряды рыбачьих баркасов у причальной стенки, привязанных один к другому, и толпы людей на пляже.
Ради этого двухнедельного отпуска Сэвилл две недели работал сверхурочно — после восьмичасовой смены он оставался еще на одну и приходил домой совсем вымотанный, чтобы урвать три-четыре часа сна. И он все еще ощущал усталость, странную пустоту, точно его тело и сознание стали полыми внутри: каждое утро он отправлялся на пляж — не он, а пустая оболочка, и эта пустая оболочка мало-помалу заполнялась запахом моря, запахом рыбы на портовой набережной, запахом песка. Даже солнце, едва они приехали, принялось сиять. Он чувствовал, что перед ним открывается новая жизнь, полная перемен. Он не мог представить себе, что когда-нибудь опять будет работать под землей.
Он смотрел, как играет сын: он сидел рядом с женой в шезлонге, а мальчик копался возле них в песке, шлепал по воде и возвращался с полным ведерком, а иногда пугался волн, которые за портом обрушивались на незащищенный берег.
На пляже можно было покататься на осликах или на карусели, которую вертели вручную, и каждое утро приходил кукольник и давал представления. Они поехали кататься на пароходике. Это было словно настоящее морское путешествие — они обогнули мыс, поплыли вдоль берега, и город с замком казался грудой камней у края воды, а обрывы за ним — невысоким озерным берегом.
На пароходике играл оркестр, мужчина в матросской шляпе пел песни. Мальчик смотрел и слушал как завороженный. В нем появилась непривычная живость. По утрам, когда Сэвилл просыпался, он уже ждал в нижнем коридоре, где под вешалкой хранились его лопатка и ведро, и нетерпеливо посматривал на дверь столовой, торопясь скорей позавтракать, или стоял с лопаткой в руке у входной двери.
— Без старших гулять не ходят, — говорил Сэвилл. Они шли в порт, пока Элин еще только просыпалась. У пристаней выгружали рыбу траулеры, над их палубами тучами кружили чайки, хрипло кричали, проносились над самой водой. Мальчик смотрел затаив дыхание: словно распахнулись дверцы шкафа, словно отдернулась занавеска — и перед ним открылось то, чего он не знал, чего даже представить себе не мог. В первое утро на пляже мальчик смотрел на море зачарованно, почти с испугом и ни за что не хотел подойти ближе, только глядел на волны, скручивающиеся по краю берега, на белые разводы пены, на песок, стекающий вслед за водой. Наконец он пошел к этим волнам с Сэвиллом, крепко вцепившись в его руку, окунул босую ногу в холодную воду, вскрикнул, попятился и засмеялся с удивлением, глядя, как другие дети бегают и плещутся среди рассыпающихся гребней. Его поразила необъятность моря, веселая пляска лодок на волнах, грозная высота береговых обрывов.
А потом, чуть ли не за одну ночь, притягательная таинственность исчезла. Он возился в песке и даже не глядел на море — выкапывал ямку, строил стены замка, возводил башни. Сэвилл нагибался над ямкой рядом с ним, мальчик бежал к воде, зачерпывал полное ведерко и так же беспечно бежал назад, а за спиной у него гремели волны.
И все же Сэвилл почти в себе ощущал, как мальчика подчиняет новая жизнь — смутно, медленно, почти неосознанно — и влечет его к бескрайности моря, словно прошлая их жизнь каким-то образом стала не в счет: теснота, крохотный дом, труба над шахтой, рядом с копром, извергающая дым и пар. Теперь их ничто не сковывало, они могли дать себе полную волю, делать то, что хотелось им самим, ничему не подчиняясь, — есть, что им нравилось, спать, когда они уставали, ходить к морю, копаться в песке, ездить на осликах, плавать на пароходиках. Теперь их ничто не удерживало. Наконец они стали свободными.
И в жене он заметил единство с мальчиком — он еще никогда не видел ее вне их дома. Теперь, наблюдая жену и сына рядом в новом, совсем новом месте, где ничто ни о чем не напоминало, он обнаружил, как они похожи: медлительность, замкнутость, присущая им обоим странная, недосягаемая внутренняя жизнь, так что порой они, казалось, разделяли одно общее состояние духа — то же выражение, тот же неторопливый взгляд, тот же преображающий переход от смутного, хмурого, почти тоскливого безразличия к веселому, оживленному, дружелюбному настроению, к неосознанной надежде. Он смотрел, как она, смеясь, бежит по пляжу с мальчиком или ведет его за руку навстречу волнам, чтобы тут же с радостным визгом отпрянуть от самой большой, и чувствовал, что между ней и сыном существует связь, которую он разделить не может. Сам он не умел держаться с мальчиком просто и был резко прямолинеен и неуклюже опаслив, точно боялся спугнуть его, не найти в нем отклика. Он вверял мальчику свое одиночество, ждал от него близости, которая послужит звеном между ним и остальным миром. Чернота шахты всегда отшвыривала его назад, но тут, у моря, они все трое словно вышли на свет, обрели нежность.
Его жена купила шляпу с широкими загнутыми полями, затенявшими глаза. Шляпа была соломенной, розовая лента обвивала тулью, и ее концы трепетали и бились на ветру, когда Элин входила в море, приподняв край светлого платья, а другой рукой держа руку мальчика, и прохаживалась по воде взад и вперед напротив их шезлонгов.
Она выглядела как девочка, как девушка, едва ставшая взрослой, легкая и беззаботная, и, глядя на нее издали, он с трудом ее узнавал. Другие мужчины, заметил он, тоже глядели на нее: она словно стала выше, стройнее и не помнила о том, что осталось в их прошлом — безмятежная, не тронутая жизнью. Он больше не видел в ней той женщины, которую знал.
Надвигалась война. Люди в военной форме лежали на пляже, проходили по набережной вверху. Один из них оказался знакомым шахтером. У него были нашивки сержанта, и он окликнул их как-то утром, когда они шли к морю, подошел, дружески кивая, заговорил с ними и оперся о парапет. Элин с мальчиком спустились на пляж.
— Записался бы ты в армию, — сказал сержант. Он был плотно сложен и с тех пор, как они в последний раз встречались у себя в поселке, обзавелся щеточкой усов. — Если ты запишешься сейчас, то получишь привилегии. Я бы тебе через месяц устроил нашивки.
— А ты думаешь, мы будем воевать? — спросил он. Война для него все еще оставалась лишь словом, порой попадавшимся ему на глаза в газетах.
— И оглянуться не успеешь! — сказал сержант. — Но только если ты запишешься сейчас, то можешь выбрать, кем хочешь служить и где. А дождешься мобилизации, так тебя никто и спрашивать не станет. Пошлют, куда им нужно будет, и все. Лучше сам иди, сейчас, и море тебе по колено. — Он хлопнул его по спине.
Сэвилл поглядел на жену. Она нагибалась над шезлонгом, раскладывала его, устанавливала в песке. Рядом мальчик пытался разложить второй шезлонг. Они казались замкнутым в себе единым целым и как будто не нуждались ни в ком другом. От слов сержанта по его рукам и ногам прошла тупая судорога, в груди медленно нарастал жар: перед ним словно распахнулся еще один горизонт, такой же, как тот, который простирался перед ним сейчас, — бескрайний, необозримый, полный света.
Он увидел, что Элин смотрит на набережную. Ее взгляд неуверенно скользнул по фигурам у парапета и наконец остановился на нем. Она замахала ему, радостно улыбаясь.
— Нет, я уж останусь, — сказал он и поглядел на сержанта. — Шахтеры будут нужны. Чтоб добывать уголь. Без него ведь не повоюешь, — добавил он.
— Дело твое, — сказал сержант. — Но если бы ты решил пойти сейчас, я бы все устроил.
Сэвилл снова взглянул на жену: она сидела в шезлонге и развертывала газету. Он различил слово «Война» — самые крупные буквы в заголовке. Элин перевернула страницу и начала читать что-то на обороте.
— Да нет, я, пожалуй, останусь. — Он показал на пляж. — У меня же парень.
— И у меня есть такой. С ним дома ничего не сделается, — сказал сержант.
— Да нет, я уж останусь с ними, — сказал он.
Он увидел блеск в глазах солдата, дерзкую смелость, которая испугала его, — уверенность в своем будущем, в самом себе. И его охватило унылое отчаяние. Он почувствовал, что отказался из трусости.
Он поглядел на жену.
— А ты все-таки подумай, — сказал сержант. — Я завтра опять сюда приду.
Пока он шел к шезлонгам, он чувствовал, как солнечное тепло этих дней угасает, сменяется холодом и сыростью шахты.
— Чего ему было надо? — спросила Элин.
— Да ничего, — сказал он и мотнул головой.
— А вид у него теперь получше, чем раньше, — сказала она. — Помнишь, как он горбился? И не умывался никогда.
— Значит, военная служба пошла ему на пользу, — сказал он.
И посмотрел на море. Он чувствовал себя отрезанным от всего. Мальчик копался в песке. Рядом сидела жена и читала газету.
Они больше не ходили на этот пляж, а каждое утро садились на автобус, уезжали за мыс и выбирали удобное место на северном берегу бухты. Ветер был тут чуть свежее, пляж — не таким многолюдным. Но были ослики, и карусель, и кукольник, и им было видно, как пароходики выходят из порта. А над ними сурово высился замок. Сэвилл чувствовал, что все это хорошая подготовка к отъезду.
Через несколько дней после возвращения с моря Колин пришел домой из школы и увидел, что отец чем-то занят в дальнем конце огорода. Сэвилл нарезал дерн ровными кирпичиками, аккуратно снял их и сложил штабелем чуть в стороне. В обнажившейся серой земле он начал рыть яму.
Яма была очень широкой — ее стороны размечала натянутая между колышками бечевка. Землю он старательно отбрасывал в сторону, ссыпая ее ровными кучами. Время от времени он вылезал из ямы и перекидывал их подальше.
Вскоре рыхлая почва сменилась глиной. Она была бледно-желтой и приставала к лопате большими комьями. Сэвилл, покряхтывая, шлепал их на кучу и дергал лопату, чтобы они отпали. Иногда, красный и потный, он выбирался из ямы и отгребал глину ногой. Яма становилась все глубже, и глина темнела. В ней появились оранжевые крапины, и она прилипала к башмакам и одежде отца. Теперь, возвращаясь из школы, Колин видел только отцовскую голову и плечи, которые вдруг скрывались за краем, и в воздух взметывалась лопата.
Потом уже ничего не стало видно. И он знал, что отец в яме, только потому, что оттуда вылетали куски глины и шлепались на кучу или на грядки с капустой и горохом по другую сторону. Когда он подходил к краю и заглядывал в яму, отец казался ему совсем маленьким: он нагибался над лопатой, нажимал на нее ногой, вгонял в глину, а потом наклонял рукоятку и выкидывал глину через голову наверх. Лицо у него было багровым, глаза ввалились, и каждые несколько минут он утирал лоб рукавом рубашки. К стенке была прислонена лесенка, по которой он влезал в яму и вылезал из нее.
Порой он заглядывал в яму и видел, что отец опирается на лопату, привалившись к стене, и курит, а его глаза рассматривают дно или противоположную стенку, словно ему мало этой глубины и ширины.
— Когда она начнется, так начнется, — говорил он, если кто-нибудь из соседей заглядывал через забор или, улыбаясь, подходил к яме и смотрел вниз на его макушку.
И сосед оглядывался на свой огород, на свой дом и хмуро кивал.
Стенки ямы были прямыми и ровными, все в четких следах лопаты. По дну растекались лужицы воды, а глина там была буро-красной.
Под конец яма стала такой глубокой, что отец уже не сумел вылезти из нее сам и крикнул с верхней перекладины лестницы, чтобы кто-нибудь пришел помочь ему.
На следующее утро после смены он вошел в калитку, ведя велосипед, к раме которого были привязаны доски. Они были длинные и широкие. И еще он привез с работы полосы конвейерной ленты, куски приводных ремней и много гвоздей, которые, едва войдя на кухню, тут же высыпал из карманов на стол. Их кучки поблескивали между тарелками и чашками, а свежий запах дерева и резины мешался с привычным запахом угля от его одежды и еще более привычным запахом стряпни.
— Да неужто ты всю дорогу шел пешком? — спросила мать.
— Угу, — сказал Сэвилл, садясь к столу. Глаза у него были красные и в кругах черной угольной пыли. — Даже удивительно, сколько всего можно увидеть, когда идешь, а не едешь. Вкатывал их на все пригорки, — он указал на доски, которые сложил во дворе. — Но уж вниз летел как ветер.
Колин вдруг представил себе, как отец ведет велосипед по дороге, поднимающейся на холмы между его шахтой, и поселком, а потом садится на привязанные к раме доски и катится вниз, нахлобучив кепку на глаза, — его короткие ноги болтаются над землей, а полы пиджака хлопают сзади. Он даже услышал свист ветра в ушах отца и шуршание шин под тяжелым грузом.
— Как-нибудь утречком я сломаю себе шею, — сказал Сэвилл со смехом, отодвинулся от стола и вытер красные влажные губы. — Вот увидите. И уж не удивляйтесь.
Он привозил доски каждое утро, мазал их креозотом и прибивал одну к другой.
Он соорудил четыре стены. Стоя на коленях, он сбивал доски в щиты: его башмаки были повернуты подошвами кверху, и на них поблескивали шипы, изо рта у него торчали гвозди, точно зубы.
Иногда он попадал молотком по своему большому пальцу — толстому и кривому. Тогда он присаживался на пятки, откидывал голову, закрывал глаза и морщился, не разжимая занятого гвоздями рта.
Когда стены были готовы, он спустил их в яму — две продольные и две поперечные — и, чтобы надежнее соединить их, приколотил сверху брусья.
Теперь по утрам он привозил на велосипеде другие материалы — куски толя, черные, пахнущие варом, и кирпичи.
Кирпичи он привозил в корзинке, подвязанной сзади к седлу, в рюкзаке и в карманах пальто, пока они не разорвались от тяжести. Вечером, отправляясь в ночную смену, он вешал на одно плечо рюкзак с едой в жестянке и бутылкой чая, а на другое — второй, пустой рюкзак для кирпичей, махал рукой и сразу исчезал в темноте, хотя Колин и его мать еще долго видели красный фонарик над задним колесом.
Он соорудил над ямой крышу — положил поперек несколько деревянных брусьев, укрепил их в земле и прибил на них доски.
На доски он настелил толь, прибил его и придавил кусками глины. Глину он засыпал серой землей, а сверху уложил дерн, уже пожелтевший.
— С воздуха ничего заметно не будет. Не беспокойся, — сказал он так, словно самолеты врага должны были специально разыскивать это место.
С одного угла он выкопал лестницу, выложил каждую ступеньку кирпичами и укрепил деревянными клиньями. Пол в яме он тоже выложил кирпичом. Цемент он замешивал на улице и нес его в ведре через дом по дорожке из газет, уложенных от парадной двери до заднего крыльца, скрывался в яме, а через несколько минут выбирался из нее, красный и потный, и бежал назад.
Он работал при свете шахтерской лампочки, которую, как и все остальное, привез с шахты. Маленькая, похожая на раковину, она светила желтым светом с балки на потолке.
Из оставшихся досок он сколотил четыре деревянные рамы для нар. Он установил их попарно, одну над другой, прибил вдоль и поперек каждой рамы ремни и похожие на толстые бинты полоски конвейерной ленты. Нары теперь выглядели точно плохо сплетенные сети под увеличительным стеклом.
Под конец он привез домой банку серой краски. Он покрасил нары и деревянную дверь — последнее, что он соорудил. Изнутри к ней были привинчены два засова, а снаружи — замок. Покрасив дверь, он повесил на ней плакатик с надписью: «Окрашено. Не входить». Через неделю он снял плакатик и допустил их внутрь.
Они сошли в яму под вечер, когда Колин вернулся из школы, а отец отоспался после смены. Замок он тоже привез с шахты, и диковинный толстый ключ с квадратной бородкой.
— Осторожней на ступеньках, — сказал он, когда они подошли к двери и он ее отпер. — Я сейчас зажгу лампу.
Он шагнул в темноту за дверью, нащупывая ногой ступеньки, которые вели в провал бомбоубежища. Несколько секунд было слышно его тяжелое дыхание, затем чиркнула спичка. Вспыхнул огонек и сразу погас.
— Так тебя и растак! — сказал Сэвилл.
— Ах, да ничего, — сказала Элин. — Куда торопиться?
Снова вспыхнул огонек, замигал и разгорелся. Тусклый желтый свет разлился внутри убежища, и Сэвилл сказал:
— Про ступеньки не забудьте. Ну, входите.
Убежище пахло варом, керосином и глиной. Сэвилл стоял в центре светлого круга, пригнув голову, точно опасался задеть потолок.
Элин, прижав руки к бокам, оглядывалась, и ее глаза блестели на свету.
— Надежное место, — сказала она.
— Надежно, как в крепости, — сказал Сэвилл.
— Да! — Она посмотрела на верхние нары.
— И воды ни капли не просочится, — сказал он.
— Да. — Она кивнула.
Лампа медленно покачивалась на гвозде, вбитом в балку. Колину казалось, что его мать и отец движутся. Тени на их лицах колебались в одном ритме с тенями побольше, которые качались на стенах у них за спиной. Их лица медленно исчезали, вновь появлялись, глаза то сверкали, то уходили в сумрак.
— Мы будем спать на нижних, — сказал отец. — А малый вон на той верхней.
Вся комнатушка покачивалась, точно они плыли на корабле.
— Будем надеяться, что оно нам не понадобится, — сказала мать.
— Угу, — сказал Сэвилл. — Понадобиться-то оно нам понадобится, я так полагаю, ну, а надеяться все-таки будем.
Когда они начали карабкаться вверх по ступенькам, он сказал:
— Я подыщу железную печку поменьше. Ведь нам, может, придется сидеть тут не одну ночь.
— Миссис Шоу, — сказала мать (это была их соседка), — говорит, что они будут прятаться от бомбежек в шахте.
— Ах вот как! — сказал Сэвилл. — А сколько человек успеют спустить в шахту, если уж начнется?
Они стояли наверху, дожидаясь, пока он погасит лампу. Он крикнул снизу:
— А если бомба угодит в шахту? Как они тогда выберутся наружу?
— Об этом я не подумала, — сказала Элин.
— Вот-вот, — сказал Сэвилл. — Никто не подумал, кроме меня.
В тот день, когда началась война, Колин под вечер вышел в огород и посмотрел на небо. Оно было затянуто серыми тучами, и солнце проглядывало только на западе в узких прорехах над шахтой. Ему представлялось, что за тучами уже притаились самолеты. Но они ничем не давали о себе знать. Казалось, будто дома, тучи, шахта, поселок изменились, стали другими — кирпич уже был не кирпичом, туча не тучей, а только частицами чего-то нового, непонятного, заполнившего все вокруг.
Он следил за небом и на следующий день, и на следующий, однако вопреки всем этим переменам ничего не случалось. И так было до весны. А тогда на станции из длинных темных поездов выгрузились солдаты и небольшими кучками зашагали к поселку. Все они были усталыми, некоторые полураздеты. Одни шли с пустыми руками, без винтовок, другие несли вещевые мешки. Они пришли в поселок, сели на краю тротуара в угольной пыли, курили и даже не оглядывались по сторонам.
Один солдат поселился у них в доме. Ему отдали свободную комнату — тесную каморку рядом с комнатой Колина. Это был высокий, ладно сложенный человек — совсем такой, каким Колин представлял себе солдат — и куда выше его отца. Иногда он стоял на кухне перед огнем в рубашке и грубых форменных брюках, но чаще лежал на кровати у себя в комнате, смотрел в потолок, курил или жидким тенорком пел песни.
Он принес с собой винтовку. Она была прислонена у двери в его комнате. В узком пространстве между кроватью и стеной он разложил свою амуницию. Она вся потемнела от соли, а одежда, которую он вытряхнул из вещевого мешка, была мокрой.
Чуть не половину его занимали три большие жестянки. Две были до краев полны сахара, и солдат отдал их матери, а она поставила их в шкафчик у очага сохнуть. В третьей жестянке лежали медали, металлические пуговицы и деньги.
Вечером солдат возвращался из пивной, садился к кухонному столу и пересчитывал деньги, раскладывая их аккуратными кучками серебряного и медного цвета, а потом смеялся, откидывался на спинку стула и говорил:
— Будь я немцем, ходил бы я в богачах!
Он часто садился у очага и смотрел на огонь, а иногда сажал мальчика себе на колено, доставал из нагрудного кармана, где хранил бумажник, фотографию женщины с тремя детьми, указывал на них поочередно толстым пальцем, желтым от табака, и рассказывал ему, как их зовут и что они делали, когда он видел их в последний раз. Он был откуда-то издалека, и Колин не всегда понимал его выговор.
— Ничего не поделаешь, малыш, так уж я говорю, — смеялся солдат и поглядывал на Сэвилла. — Я ведь из такого места, где все расхаживают в чем мать родила.
Он часто уходил гулять с отцом, а иногда отец вел его посмотреть убежище, отпирал дверь, впускал внутрь, зажигал лампу, и солдат осматривался, по настоянию отца пробовал нары — ложился на них, раскинув ноги, подсунув руки под голову.
— Надежно, как в крепости, — говорил отец.
— Еще понадежней будет! — говорил солдат и смеялся.
Гулять они шли, заложив руки в карманы, исчезали в конце улицы и возвращались нескоро, с пучками цветов или пожевывая травинки.
— Да вы из-за меня не беспокойтесь, — говорил солдат, если они приходили поздно и ужин перестаивался. — По всем правам мне бы уж давно мертвым быть, так что для меня любое сгодится. Накладывайте, и дело с концом.
Каждое утро он выходил на улицу и вместе с другими солдатами маршировал взад и вперед. Дети бежали за ними по тротуарам. В воскресенье солдаты кучками уходили в луга или на станцию, рассаживались на кирпичной ограде у мостика, смотрели на пути и курили.
Однажды солдат позвал Колина к себе в комнату и достал из мешка патроны — пять штук, скрепленных у основания. Гильзы были медного цвета, а пули — серебряного.
— Валяй, забирай их, — сказал солдат. — У меня их много. — Он достал еще несколько штук и разложил на одеяле. — И винтовку бери, — сказал он. — Она мне не нужна.
Он протянул руку к двери, взял винтовку, открыл затвор и показал, куда надо вложить патроны.
— Ну вот, — сказал он. — Можешь застрелить кого захочешь.
Он смеялся, глядя, как Колин с трудом держит тяжелую винтовку.
— Нет уж, в меня не целься, — сказал он. — Я твой друг.
Когда Колин спустился в кухню, мать попятилась, прижала руку к щеке и нахмурилась.
— Это вы ему дали? — сказала она.
— Да, — сказал солдат. — А что? Мне она не нужна.
— Ну хорошо, — сказала она. — Подождем, пока отец вернется.
Отец, когда вернулся, тоже посмотрел на винтовку и сказал таким же голосом:
— Ты ведь ее отдать не можешь, верно?
А солдат смеялся и кивал головой.
— А я ее потерял, — сказал он. — Бери!
— Ладно, — сказал отец. — Я ее пока спрячу. А Колину она ни к чему.
Он запер винтовку в гардеробе в спальне, но по вечерам, когда солдат уже уехал, доставал ее, открывал затвор, вкладывал патроны, вынимал их и целился из окна во что ни попало. В конце концов он все-таки отнес ее в полицию и сказал, что нашел в поле под изгородью.
— Ты что же, не хочешь воевать? — спрашивал он у солдата и хмурился.
— А я уже воевал, — говорил солдат.
— Ну, а снова? — говорил отец.
— Чего ради? — спрашивал солдат. Он либо сидел, развалясь на стуле, либо стоял в одних носках у огня, улыбался отцу сверху вниз и кивал.
— Чтобы защищать свою страну, — говорил отец. — Чтобы защищать свободу. Чтобы твоя жена и дети не попали к ним в лапы.
— А какая разница? — говорил солдат. — Кто бы тут ни заправлял, мы ведь будем жить по-прежнему, как ни крути. Будут богатые, будут бедные и пара-другая счастливчиков, — добавил он, — посередке.
— Что-то я в толк не возьму, — говорил отец и поглаживал затылок, вдруг теряясь под взглядом солдата. — Ты что же, ни во что не веришь?
— Ни во что такое, — говорил солдат улыбаясь и закуривал (если уже не курил) новую сигарету.
— Он чуть не утонул. В море, — сказал отец, когда солдат уехал. — Его втащили в лодку, когда он в третий раз ушел под воду.
— Все из-за жестянок, — сказала мать. — Просто чудо, как это он хоть раз выплыл со всем своим сахаром.
— Ведь он же его отдал, — сказал отец.
— Да, — сказала она. — Ну и что тут такого? У него чуть не все было краденое.
Тем не менее еще долго после того, как солдат уехал, они пили чай с этим сахаром, а потом сварили варенье.
Когда солдат ушел на станцию, маршируя в длинной колонне, Сэвилл пошел его проводить и шагал рядом по обочине. Вернувшись, он сел у огня и смотрел на пуговицы и медали, которые солдат оставил на полке. А потом поднялся в комнату солдата и застелил постель.
Как-то вечером немного времени спустя Колина разбудил вой сирен, и он несколько минут лежал, ожидая, что вот-вот услышит рев самолетов и грохот бомб. Но кроме сирен, ничего слышно не было.
Затем он услышал торопливые шаги отца на лестнице.
— Идем, малый, — сказал отец. — Мы уже собрались.
— Это что, сирены? — сказал он.
— Да, сирены.
— А бомбить они уже начали?
— Нет. Если мы их дождемся, то никуда уже не дойдем, — сказал отец.
Мать была в пальто и держала его курточку.
— Идемте же! Идемте! — Отец приплясывал возле двери. Он уже выключил свет. Вой сирен стих, и до них донеслись голоса, перекликающиеся вдоль улицы.
— Нет, надо одеться потеплее, — сказала мать. — Уж минутку-то они нам дадут.
— Минутку? — Отец у двери зажигал шахтерскую лампу, загораживая ее ладонью. — Никаких минуток они тебе не дадут. Не беспокойся. Сейчас все на нас посыплется, и выйти из дома не успеем.
Они гуськом спустились с крыльца. Отец нетерпеливо оглянулся на мать, которая запирала дверь.
— Хороши мы будем, — сказала она. — Сидим там, а тут весь дом разграбят.
— Разграбят? — сказал отец. — По-твоему, у кого-то будет время?
— Я никаких самолетов не слышу.
— И не услышишь. Не беспокойся. Только когда они будут прямо у тебя над головой. — Ворча, он пошел вперед через двор, и лампа освещала землю у него под ногами. — Сейчас сюда все явятся, — сказал он. — Поняли теперь, что это такое.
От соседнего двора их кто-то окликнул, он остановился и поднял фонарь повыше.
— Что-что? — сказал он.
— Вы наших ребят к себе не возьмете? — спросил мужской голос.
— Ладно, — сказал отец. — У меня им нечего будет бояться.
Из темноты появилось несколько фигур. Они перелезали через заборы, разделявшие огороды. Четыре брата, все старше Колина, жившие дальше по улице. За ними возникла фигура их отца.
— Ты скольких можешь взять, Гарри? — спросил он.
— Как-нибудь разместимся, — сказал отец и оглядел небо. — Надо поторапливаться, — добавил он.
— А как насчет моей хозяйки?
— У нас вам бояться нечего, — сказал Сэвилл. — И для тебя места хватит.
Они столпились у ступенек. Сэвилл порылся в кармане, потом нагнулся к лампе и вынул ключ.
Со двора к бомбоубежищу подходили новые фигуры — Колин еле различал их на фоне неба. Они перелезали через забор, перекликались.
— Осторожней на ступеньках, — сказал отец. — Я сейчас отопру.
— Откуда они прилетят-то? — сказал кто-то, и все головы повернулись к небу.
— Да с любой стороны, — сказал Сэвилл. Он стоял ниже их, на последней ступеньке, наклонившись к двери. Лампа освещала его лицо. Щелкнул замок, скрипнул отодвинутый засов. — Я войду первым, — добавил он, — и зажгу вторую лампу.
Он открыл дверь, помедлил, потом шагнул внутрь.
— Женщины и дети первыми, — сказал кто-то.
Снизу донесся всплеск, затем крик Сэвилла, и свет в убежище внезапно погас.
— Так тебя и растак, — сказал Сэвилл.
Снова всплески, потом кто-то зажег фонарик, и тут же из двери внизу появился Сэвилл. Волосы у него прилипли к голове, одежда облепила тело.
— Затопило, — сказал он. В руке он все еще держал шахтерскую лампу.
— Что случилось, Гарри? — сказал кто-то.
— Да убежище, — сказал он.
— Затопило, что ли?
— Все эти чертовы дожди, — сказал он. — Мне бы последить.
— Ну что же, — сказала мать, — надо идти домой.
— Тут тебя простуда прикончит, а в кухне под столом — бомба, — сказал кто-то сзади, и еще кто-то засмеялся.
Колин пошел за отцом к дому.
— Не понимаю, — сказал Сэвилл. — Не должно было его затопить.
Элин отпирала дверь, а он дрожал и стучал зубами. — Да скорей же, — сказал он. — Чего ты возишься.
— Я ничего не вижу, — сказала она.
— А где лампа? — сказал он и тут же сообразил, что держит ее в руке, совсем мокрую.
Во дворе перекликались голоса, и кто-то смеялся на соседнем крыльце.
— Ну что же, налет был короткий, — сказала мать. — Наверное, скоро дадут отбой.
— Откуда все-таки взялась вода? — сказал Сэвилл. — Не понимаю.
— Столько работы, — сказала мать. — И все впустую.
— А, не беспокойся, — сказал Сэвилл. — Укроемся надежно, как в крепости.
— Где? На кухне?
— Нет. — Он, дрожа, мотнул головой и показал в сторону бомбоубежища. — Когда я ее откачаю.
— Откачаешь? — сказала она. — Сейчас?
— Не сейчас, — сказал он, — а завтра.
— Завтра будет поздно.
Сэвилл помотал головой. Он стоял перед огнем в мокрых трусах и рубашке.
— Не беспокойся, — сказал он. — Сегодня бомбежки не будет. А к тому времени я ее откачаю.
Несколько дней спустя он привез с работы насос. Насос был похож на форму для пудинга, но очень тяжелый. Колин поднял его, только когда ему помог отец. С одной стороны торчала металлическая труба длиной в ярд. Отец опустил ее в воду. Потом, пыхтя и раскрасневшись от напряжения, принялся качать ручку сбоку. Она была деревянная, и при каждом рывке внутри насоса что-то всхлипывало и из длинного шланга с другой стороны вылетала вода.
Она вылетала короткими струями и растекалась по огороду.
Так продолжалось больше часа.
— Всю откачал? — сказала мать, когда они вернулись домой.
— Всю? — отец сидел, положив руки на стол. — Ее ни на дюйм не убавилось.
— Я же говорила, что ведрами будет быстрее.
— Ведрами! — сказал он и стукнул кулаком по столу.
Тем не менее в конце недели Колин уже помогал таскать ведра. Отец стоял на коленях у двери бомбоубежища, нагибался внутрь и зачерпывал ведро, а он тащил его, расплескивая, через двор и выливал в канаву.
— В огороде не выливай, — сказал отец, когда он вылил там первое ведро. — Она назад стекает. Так ее и разэдак, нам и за месяц не управиться.
Когда в следующий раз завыли сирены, они забрались в чулан под лестницей. И снова не слышали ни звука. Некоторое время спустя отец встал, собираясь на работу.
— Нет, — сказал он, — не выходите. Сидите здесь, пока не услышите отбоя. — Он осторожно притворил дверь, пошел на цыпочках через кухню и, тяжело дыша, выкатил велосипед во двор. Они услышали, как захрустела зола под шинами, потом стук подошвы, когда он оттолкнулся от земли. Они продолжали сидеть в полной тишине.
Наконец мать встала.
— Ну что же, — сказала она, — больше я тут ждать не буду. — Она открыла дверь, но обернулась, когда он шагнул следом за ней, и добавила: — Нет, Колин, ты останься. Я тебе скажу, когда можно будет выйти.
И он сидел там один, только что заправленная лампа нагревала тесную каморку, а он смотрел на белые стенки чулана, на какие-то коробки, на запасную шину отцовского велосипеда, на гофрированную цинковую лохань с грудой недельной стирки.
Он слышал, как мать ходит снаружи. Она зажгла газ, потом споткнулась о стул.
— Хочешь чаю? — спросила она за дверью.
— Да, — сказал он.
Он услышал позвякиванье чашек и звук струи, льющейся в чайничек для заварки.
Когда мать открыла дверь чулана, он, прежде чем взять чашку, спросил:
— Можно я выйду?
— Лучше останься, — сказала она. — Если что, я успею прибежать.
Когда дверь снова закрылась, он начал следить, как поднимается над чашкой пар, и заметил, что шина словно колеблется в волнах теплого воздуха, выходящего из маленьких дырочек на верху лампы.
После отбоя мать открыла дверь чулана. Она постояла, наклонив голову набок, прислушиваясь, глядя в потолок, потом сказала:
— Ну, теперь все в порядке.
Он поднялся к себе, лег в постель, но все еще ощущал запах стирки и керосинового чада.
Через некоторое время они перестали прятаться в чулан. Когда раздавался вой сирен, он спускался в кухню и сидел там с матерью — и с отцом, если тот был дома. Дверь чулана стояла открытой, и иногда внутри на всякий случай горела лампа.
Потом, когда начались настоящие бомбежки, отец выходил на крыльцо посмотреть и брал его с собой.
Самолеты появлялись с востока и летели над домами так высоко, что их не было видно — только слышался неровный гул моторов, точно зудело в голове. Почти каждую ночь небо на западе озарялось огнем пожаров и дома поселков вставали вокруг темными силуэтами, совсем безжизненные, если бы не тихие оклики из дверей и окон. Казалось, горит горизонт — по небу разливалась тусклая воспаленная краснота. Поперек нее метались лучи прожекторов, а иногда слышно было, как рвутся снаряды зенитных орудий — словно вверху кто-то постукивал.
Как-то отец повез Колина на автобусе в город. Они добирались туда почти час, петляя по узким проселкам между фермами и крохотными деревушками. Потом автобус влез на гребень холма, и они увидели — все еще в отдалении — город на крутом каменном обрыве. Его шпили и башни сверкали в солнечных лучах.
Разрушения они заметили, только когда миновали окраины и переехали через реку. Заводы были целы, их трубы все еще поднимались к небу. Пострадали одни жилые кварталы. Улица за улицей лежали в развалинах, и автобус часто останавливался, пережидая, пока рабочие с лопатами кончат разгребать мусор. А иногда они показывали объезд через какой-нибудь узкий пролом.
Из развалин поднимался дым. Кое-где кучками стояли люди, они смотрели на рухнувшие балки и провалы окон своих бывших жилищ.
В центре города собор и окружавшие его старинные кирпичные здания еще стояли. Высокий черный шпиль уходил в небо на самой вершине холма, открытый со всех сторон. Но он был цел, и только в черных от въевшейся сажи камнях желтели свежие щербины, точно собор поразила неизвестная болезнь и покрыла его желтой сыпью. Несколько окон было разбито, и какие-то женщины внутри подбирали стекло.
— Его не развалить, — сказал отец. — Надежно, как крепость. За него беспокоиться нечего.
Колин шел за отцом, пробираясь среди людей. Сэвилл иногда останавливался перед выпотрошенным магазином или домом, расспрашивал, кивал, и его невысокая коренастая фигура все больше наливалась негодованием.
— Когда доходит до того, что бомбят женщин и детей, это уж черт-те что. И даже хуже.
— Да ведь бомбы не разбирают, куда падают, — сказал какой-то человек. Оказалось, что его дом разбомбили.
— А в дом, куда меня переселили, на следующую ночь тоже попала бомба. Так и гоняют меня из одной дыры в другую.
Когда они вернулись домой, отец сидел в кухне, пил чай и рассказывал матери, что он видел.
— На одной улице дома стоят целехонькие. Все на своем месте. Только в окнах ни единого стекла. Взрывной волной выбило.
— Говорят, десять тысяч человек осталось без крова, — сказала мать.
— А по-моему, так еще больше, — сказал Сэвилл.
Иногда по утрам Колин привязывал к бечевке магнит и волок его по сточным канавам. Он редко находил что-нибудь, кроме ржавых гвоздей и болтов. Но один раз он подобрал обломок сероватого металла с краями, рваными, точно бумага, и слегка обгоревшими. Он положил его в коробку, где лежали военные медали, иностранные монеты, гильзы и пули калибра 7,7 миллиметра.
Поселок разделялся на две части. Старая, на вершине холма, к северу, состояла из нескольких обветшалых каменных домов, в которых еще жили, старинного помещичьего дома, давно пустого и обветшавшего, и каменной церкви около него. Дальше были усадьбы трех старых ферм — их поля, соединенные сложной сетью узких проселков, простирались во все стороны.
Новая часть поселка разместилась к югу, у подножья холма. Центром тут была шахта — два ее копра, ограда и террикон. Улицы с построенными для шахтеров блокированными домиками расходились от нее в три стороны, точно спицы в колесе, четвертую занимали отвалы — серые хребты пустой породы уже наступали на опушку ближнего леса, а один их отрог уходил вдоль узкоколейки в поля и терялся среди них.
Улицы были перенумерованы от первой до пятой. Они начинались с Первой авеню у самой шахты и разворачивались веером до Пятой авеню почти на девяносто градусов. Дальше шли улицы, носившие названия деревьев, — Буковая, Лиственничная, Ракитовая, Ивовая. Как-то он записал все названия и номера в блокнот, где уже были записаны номера машин, которые проезжали через поселок к городу, и номера паровозов, проходивших через станцию на юг. Между поселком и станцией располагались магазины, лавки, собранная из щитов католическая церковь, методистская молельня, собачьи бега — все то, что обслуживало материальные и духовные нужды поселка. Там, где шоссе ныряло в лощину, прятался газовый заводик, а за ним среди поросшего осокой болотца протянулась цепочка канализационных отстойников. Это место окрестные жители называли Долинкой.
Поселок окружали фермы, и расчерченные живыми изгородями поля поднимались к узкому, замкнутому холмами горизонту, где над полосой рощи или над голым гребнем плыли клубы дыма или торчала верхушка террикона, не позволяя забывать, что повсюду вокруг разбросаны шахты.
Вскоре после начала бомбежек мать уехала в больницу. Теперь он ночевал у миссис Шоу за стеной. Детей у нее не было, а муж работал на шахте в поселке. Дом блестел чистотой, порядка было больше, чем у них, и в спальне, где его положили, на полу был линолеум. Всюду по стенам, не только в комнатах, но и на лестнице, висели медные тарелки, дощечки и медальоны с выпуклыми фигурами. Чуть не каждый день миссис Шоу протирала их тряпочкой — дышала на них, чистила белой жидкостью из жестянки, разложив перед собой на столе аккуратными рядами. На большой перемене он оставался в школе и обедал там, а после занятий бежал домой к отцу, который обычно только-только просыпался. Отец торопился, чтобы успеть до начала работы заехать в больницу к матери. Он собирал то, что хотел захватить с собой, огонь не был разведен, и в раковине грудой лежали немытые тарелки и кастрюли. Занавески почти во всех комнатах так и оставались задернутыми.
— Не дождусь, когда она вернется, — говорил отец. — А тебе нравится у миссис Шоу?
— Можно, я дома останусь? — спрашивал он.
— Нет, — говорил отец. — Не спать же тебе здесь одному.
— Я не боюсь.
Отец наклонял голову и глядел на него с легкой улыбкой. Лицо у отца было землистое, глаза красные.
— Пока тебе лучше побыть там, Колин, — говорил он. — Мать скоро вернется, и все будет в порядке.
Он надевал свою рабочую одежду и выкатывал велосипед во двор.
— Иди-ка, иди, — говорил он. — Мне надо дверь запереть.
Иногда Колин стоял во дворе и держал велосипед, пока отец запирал дверь. Вынув ключ из замка, он нагибался, заворачивал брюки и перехватывал их снизу зажимами. А иногда Колин начинал подкачивать шины, и тогда приходилось ждать отцу. Он нетерпеливо вздыхал и говорил:
— Да скорей же, скорей! Я тут с тобой всю ночь проторчу. Пора бы тебе мускулы на руках понарастить.
Обычно Колин выходил на улицу и смотрел ему вслед. На отце было длинное пальто, а кепку он нахлобучивал на самые глаза. В корзине за седлом лежал пакет, предназначенный для матери, — фрукты или смена белья, которое он старательно выстирал и выгладил сам.
— Будь умником, — говорил отец. — Ну, до завтра.
— Спокойной ночи, пап, — говорил он.
— Спокойной ночи, малый, — говорил отец и, поставив ногу на педаль, толкал велосипед, а потом, когда велосипед набирал скорость, перекидывал вторую ногу через седло.
Миссис Шоу была высокая и худая, с большим подбородком, выступающими скулами и большими выпученными глазами, темными и словно полными влаги. Других соседей она сторонилась. Она часто стояла, сложив руки под фартуком, и смотрела на улицу.
Муж у нее был невысокий, с редкими рыжеватыми волосами и веснушчатым лицом. Он уходил на работу рано утром и возвращался домой, когда Колин был еще в школе. По вечерам он заходил к нему в комнату, иногда с книгой, и что-нибудь ему рассказывал или читал, а миссис Шоу внизу слушала радио. Однако пока мистер Шоу читал, Колин нередко начинал плакать, пряча лицо в ладонях.
— Что с тобой? — спрашивал мистер Шоу. — Что случилось?
Он мотал головой.
— Твоя мама скоро вернется, — говорил мистер Шоу. — А что скажет твой отец, когда я ему расскажу, как ты распускаешь нюни?
— Не знаю, — говорил он и мотал головой.
— А он скажет: «Мой-то парень? Не может быть».
— Угу, — говорил он.
— Ну, так чего же ты? — говорил мистер Шоу и спрашивал: — Дать тебе шоколадку?
Иногда Колин кивал, и, когда мистер Шоу уходил, поцеловав его на прощание, он лежал и сосал конфету, и ее сладость смешивалась у него во рту с соленым вкусом слез.
Каждое утро перед тем, как он шел в школу, миссис Шоу приглаживала ему волосы щеткой. Она осматривала его уши совсем так же, как отец осматривал велосипед, когда не мог найти поломку. Иногда она вела его назад на кухню к раковине и заново мыла ему уши, наклоняя его голову под самую струю. Она терла ему шею и говорила:
— Тебя не отмоешь. Можно подумать, что ты тоже на шахте работаешь.
В конце недели, в пятницу вечером, она ставила перед огнем лохань, а вокруг раскладывала газеты, чтобы брызги не попадали на пол.
— По-моему, ему не хочется лезть в нее, — сказал мистер Шоу в первую пятницу.
— Я сменила простыни, — сказала она. — Ему надо вымыться.
— Я хочу мыться дома, — сказал он.
— Сейчас твой дом тут, — сказала она. — А твой отец уехал на работу и запер дверь.
— Ну, так я завтра вымоюсь, — сказал он.
— Нельзя, — сказала она. — Я сменила простыни и не стану вытаскивать старые из грязного белья.
Глаза у нее выпучились еще больше, скулы покраснели.
— Не дури, — сказала она.
В конце концов он разделся и влез в лохань. Мистер Шоу вышел в соседнюю комнату.
Он сидел в воде совершенно неподвижно, упираясь скрюченными пальцами ног в цинковое дно.
— Вот и ладно, — сказала миссис Шоу. — А ты бы встал. Какое же это мытье сидя.
Она уже вымыла ему лицо и шею, спину и плечи.
— Я могу сам, — сказал он.
— Видела я, как ты сам моешься, — сказала она. — Только грязь размазываешь. — Она просунула ладонь ему под мышку. — Ну-ка, вставай!
Он стоял и смотрел вниз на огонь, а она его мыла. Угля на решетке было много, и он уже весь горел.
— Вот и ладно. Теперь уже на что-то похоже, — сказала миссис Шоу, когда кончила.
Она присела на пятки, зажав в коленях мокрый передник.
— Теперь вылезай, — сказала она, — и вытирайся. Стой на газете, — добавила она и дала ему полотенце.
Он повернулся к огню и начал тереть грудь и живот вверх-вниз, вверх-вниз.
— Разве так вытираются! — сказала она, взяла у него полотенце и начала растирать его с такой силой, что он зашатался. Она придерживала его одной рукой, а другой терла.
— Прежде чем надевать чистую пижаму, надо вытереться досуха.
Вошел мистер Шоу. Он взял лохань, открыл дверь черного хода, вынес лохань наружу и вылил ее в водосток.
Потом он вернулся, собрал мокрые газеты, а лохань поставил под раковину.
— Вот теперь он прямо блестит, — сказала его жена.
Мистер Шоу кивнул.
— Хочешь шоколадку? — сказал он.
Колин поднялся наверх и лег в постель с чистыми простынями. Они были как льдины. Он свернулся калачиком, съежился в комок, но они все равно леденили его насквозь.
Порой ночью, когда он не мог заснуть, он вставал с кровати и смотрел в окно на огород за забором, на черный холмик бомбоубежища, на грядки, заросшие сорняками, потому что у отца до них не доходили руки. Там все изменилось, словно перенеслось куда-то в другое место. Рано утром он слышал, как мистер Шоу встает и тяжело проходит по дому. Иногда звякала медная тарелка, которую он зацеплял рукавом. Потом его башмаки стучали по двору, стук их сливался со стуком других башмаков и затихал в направлении шахты.
Каждое утро, возвращаясь с работы, отец заходил на кухню, неловко наклонял голову в дверях и улыбался. Миссис Шоу иногда предлагала ему чашку чаю, но он всегда отказывался.
— Нет, вы уже столько для меня делаете, — говорил он. — Я не хочу вас еще затруднять.
— Ну, если так, — говорила она, словно все понимая.
— А как тут он? — спрашивал отец, все еще стоя в дверях с кепкой в руке.
— С ним никаких забот нет, — говорила она.
— И ест хорошо?
— За обе щеки уписывает.
— Вот, Колин, — говорил отец, — я тебе шоколадок принес. — Он входил в кухню, клал их на стол и отступал назад к двери.
— Ну-ну, — говорила миссис Шоу. — А спасибо ты забыл сказать?
— Нет, — говорил он, поднимал голову и видел, что отец улыбается и кивает. — Спасибо, — говорил он.
— Да что там, — говорил отец и краснел.
Уж лучше было вовсе с отцом не видеться. Он хотел побыть с ним вдвоем дома. Но когда он забегал домой перед школой, отец уже спал, прикорнув в кресле. Огонь не горел, в очаге горкой лежала холодная зола, занавески были задернуты, на столе стояли немытые кастрюли.
Казалось, все прежнее вдруг исчезло. В школе он чувствовал себя теперь одиноким и потерянным.
Как-то он заплакал, заслонясь рукой.
— Что с тобой, Колин? В чем дело? — спросила учительница.
— Не знаю, — сказал он.
— Ну, перестань, — сказала она. — Ничего же плохого не случилось, верно?
— Нет, — сказал он.
Она прижала его голову к своему халату.
Он почувствовал запах мела и пыльной тряпки, которой она вытирала доску.
— Ну вот, — сказала она. — Все прошло, правда?
— Да, — сказал он, не поднимая головы, боясь посмотреть на ребят.
В конце концов она отвела его в учительскую. Он сидел там у окна, держа на коленях открытую книгу, которую она ему дала.
Он смотрел на шахту по ту сторону узкого проулка. В воздух столбом поднимался белый пар, более густой, чем облака, и медленно закручивался в клубы. Маленький паровозик тащил вагонетки через двор, а потом возвращался обратно.
Иногда в комнату входила какая-нибудь другая учительница, брала книгу, смотрела на него, улыбалась и уходила, притворив за собой дверь. Он сидел смирно, глядел на паровозик, косился на входящих и краснел, потому что они видели его тут.
Потом вернулась его учительница, налила воды в чайник и поставила чайник на газовую горелку возле двери.
— Ну, все в порядке? — спросила она.
— Да. — Он кивнул.
— Вот и хорошо, — сказала она. — А теперь беги играть. Через пять минут большая перемена.
Как-то утром он увидел, что у школьной ограды стоит отец, держится за решетку и смотрит на ребят.
Двери еще не открыли, и двор был полон. Когда он подбежал к отцу, он увидел, как вспыхнула голубизна в его глазах и снова поблекла.
Отец как будто стеснялся его, словно незнакомого.
— Я вот зачем пришел, — сказал он. — Вечером мы, наверное, не увидимся. Я хочу поехать к матери пораньше.
— А мне можно с тобой? — сказал он.
— Детей в больницу не пускают, — сказал отец. — А то бы я тебя взял.
— А когда ты приедешь? — спросил он.
— Я забегу утром. Ну, будь умником.
— Ладно, — сказал он.
Отец все смотрел на него через ограду.
— Поцеловать тебя? — сказал он.
— Да, — сказал он и подставил лицо, уцепившись за прутья.
Отец нагнулся через ограду.
— Ну, так ты будешь умником, верно? — сказал он.
— Да. — Он кивнул.
Хотя отец умылся, глаза у него все равно были обведены каймой угольной пыли.
— Ну, значит, так, — сказал отец. — Я, пожалуй, пойду.
Он повернулся и зашагал туда, где у края тротуара лежал его велосипед. На углу проулка между школой и двором шахты он помахал ему, задев козырек кепки.
Когда он пришел после школы, миссис Шоу стояла в дверях, заложив руки под фартук, и смотрела на улицу. Чай для него уже стоял на столе. Рядом с его тарелкой лежал кусок кекса.
— Ну вот, — сказала она. — Ты ведь проголодался.
Он съел все, что она перед ним поставила. И кекс, и бутерброды. Они были с мясом. Он словно отправлялся в путешествие и надо было наесться впрок.
— Хочешь еще кекса? — сказала миссис Шоу, принесла коробку из кладовки, переложила кекс на тарелку, отрезала кусок и собрала крошки ножом.
Он начал есть кекс, и тут вошел мистер Шоу. Он только что встал — подтяжки у него свисали по бокам, и он не заправил рубашку в брюки. Рыжеватые волосы торчали вокруг макушки, как трава.
— Столько умял, а? — сказал он. — Вот снимем с него ботинки, а в них хлеба полно.
Когда он лег, пришла миссис Шоу и укутала его получше.
— Вот и ладно, — сказала она. — Спи крепко. — И поцеловала его. Это было в первый раз, и он увидел, что она закрыла глаза, когда нагнулась к нему. — Вот и ладно, — сказала она, подтыкая одеяло.
Некоторое время он лежал, стараясь расслышать шаги отца у них дома. Но, как обычно, там все было тихо. От соседей за другой стеной доносились смутные звуки голосов.
Утром он услышал, как мистер Шоу, собираясь на работу, льет на кухне воду в чайник.
Потом его башмаки протопали по двору, и через некоторое время заревел гудок на шахте. Отец вернется с работы только через два часа. Он представил себе, как отец выходит из клети весь черный, проходит через двор, чтобы сдать лампу, идет в раздевалку, моется, надевает пальто, берет велосипед из станка. Потом попробовал вообразить, как он едет среди светлеющих полей через холмы и иногда слезает с велосипеда и ведет его до гребня. Повороты, переезд, а еще дальше — мост над железной дорогой.
Он заснул, смутно увидел мать, лежащую в постели, какую-то незнакомую, с круглым лицом, почему-то блестящим, как стекло, и вдруг уже мчался на отцовском велосипеде, перелетая через кусты и заборы, преграждавшие путь.
Разбудили его шаги миссис Шоу на лестнице, и он сразу сел на кровати, прислушиваясь. Из-за стены их дома не доносилось ни звука.
Когда он спустился в кухню, миссис Шоу разводила огонь.
Она стояла на коленях перед очагом и оглянулась, заслонив плечом длинный подбородок.
— Вот и ладно, сейчас разожжем огонь и будем завтракать, — сказала она.
— Мой папа приходил домой? — спросил он.
— Нет, — сказал она. — Кажется, нет. Хочешь, я провожу тебя в школу?
— Нет, — сказал он и мотнул головой.
Он вышел в огород. Было еще очень рано, солнце только всходило, и от домов тянулись длинные тени.
Он поиграл в огороде миссис Шоу, высыпал золу из ведерка и наложил в него уголь, но все время оглядывался на свой дом, на окно своей комнаты. Он смотрел на бомбоубежище, на заросшие сорняками грядки — такие запущенные, заброшенные, и им сильнее и сильнее овладевало чувство, что он расстался со всем этим давно и навсегда. В конце концов он перелез через забор и постучал в дверь черного хода. Подергал ручку, потом подошел к окну и заглянул внутрь. Занавески все еще были задернуты.
Он прошел через другие дворы мимо кухонных окон, за которыми другие женщины разводили огонь и готовили завтрак, обогнул крайний дом и вышел на улицу. Он дошел до угла и посмотрел в проулок, который вел в поля, — обычно отец возвращался по этому проулку.
Наконец он сел и стал ждать. Прошел мальчишка, разносящий газеты, потом появился молочник с лошадью и тележкой.
— А, малый, — сказал он. — Раненько ты встал. Отец-то вернулся?
Он помотал головой.
Миссис Шоу вышла на крыльцо и позвала его.
— А я-то смотрю, куда это ты подевался, — сказала она. — Гляжу, во дворе тебя нет.
Она стояла и смотрела, как он моет руки.
Отца он увидел уже по дороге в школу. Он ехал по проулку, низко наклоняя голову, так что видна была только кепка, и крутил педали медленно, словно ехал откуда-то издалека, — руки были вытянуты и неподвижны, короткие ноги поднимались и опускались чуть позади туловища.
Он закричал, побежал к нему, и только тогда отец поднял голову.
— А я в школу иду, — сказал он.
— Угу, — сказал отец. — Я думал, что успею тебя повидать. Ну, как ты?
— Хорошо, — сказал он.
Глаза у отца были красные, на ресницы налипла черная пыль, щеки ввалились, точно он прикусил их изнутри.
— Я по дороге заглянул к матери.
— У нее все хорошо?
— Да, — сказал отец. — Она молодцом. — Он постоял еще немного. — Ну, иди, а то опоздаешь.
Потом нагнулся, словно ему напомнили, и поцеловал его в щеку.
— А вечером ты будешь дома? — спросил он.
— Ну… — сказал отец. — Ты иди прямо к миссис Шоу. Я вымоюсь и, наверное, опять в больницу.
— Можно мне с тобой?
— Нет. А школа как же? И детей туда приводить не позволяют. — Он отвернулся и посмотрел на поля, через которые только что проехал. — Не беспокойся, посидишь себе в школе.
— А только до двери можно?
— Нет. Тебя не пропустят через калитку.
Отец поставил ногу на педаль и начал отталкиваться.
— Веди себя хорошо, — сказал он.
В школе учительница посадила его около своего стола и давала ему разные поручения. Он принес бумагу, раздавал учебники, собирал карандаши и линейки. Во время перемены он стоял во дворе у ограды и смотрел на шахту и на ряды печных труб за ней. Всю дорогу домой он бежал бегом. Но отец уже ушел.
Мать не возвращалась полтора месяца. Под конец он решил, что она никогда не вернется, и по вечерам в постели придумывал, как он будет жить у миссис Шоу. Как-то он предложил вычистить ее медные тарелки, и она сидела рядом с ним за столом, с тревогой смотрела, как он старается, а потом брала тарелку и еще раз ее протирала. Он вскопал грядки мистера Шоу и засеял их, но то и дело поглядывал на свой огород и на дом, который теперь совсем затих, потому что отец почти все время проводил в больнице. В школе ребята сказали ему, что его мать умирает, а один мальчик постарше сказал, что она умерла, а сам следил, какое у него лицо, и нагнулся, чтобы заглянуть ему в глаза.
Когда наконец они поехали за ней, он как будто весь оледенел. Словно совсем перестал чувствовать. Он сидел, сжимая кулаки на коленях, и смотрел в окно автобуса из-за отцовского плеча. Он не помнил, как выглядит мать, не помнил, какая она.
На нем был праздничный костюм, и отец умыл его перед тем, как они вышли из дома. Он прибрал на кухне, смел мусор в кучки и загородил его стулом. Он тоже надел праздничный костюм, и его щеки были ярко-красными там, где их скребла бритва.
— Ну, теперь она вернется, и все будет хорошо, — сказал отец.
Колин кивнул, глядя в окно на луга. Там паслись лошади из шахты. Они были в наглазниках, чтобы свет их не ослепил.
— Погляди-ка, — сказал отец. — Им отпуск устроили, подняли наверх погулять. — И он повернулся на сиденье, глядя на лошадей.
В больнице он ждал в домике у ворот. Вдоль стены стояли жесткие стулья, а за стеклянной перегородкой сидел мужчина в форме, читал газету и посматривал на подъездную дорогу.
Он не видел, как мать шла по дороге. Дверь в дальнем конце комнаты открылась, и она вошла в своем пальто, розовая, с блестящими глазами и чуть-чуть растерянная, словно уезжала отдыхать. В руках она держала сверток, завернутый в белую шаль.
— Ну вот, — сказала она. — Здравствуй, Колин. — Она повернулась к отцу, и он поставил на пол чемодан.
Тогда она нагнулась и сказала:
— Ну вот, голубчик. Ты без меня скучал?
Он кивнул и, когда она прижалась к нему, заплакал.
— Мы же домой едем. Вместе. И теперь все будет хорошо.
— Да, — сказал он, прижимаясь лицом к ее локтю.
— Такси вам надо? — спросил человек в форме. Он вышел из-за перегородки и теперь с газетой в руке стоял у двери.
— Да, — сказал отец. — Вызовите нам такси, ладно?
Он глядел на человека в форме, улыбался, посмеивался, кивал.
— Колин, — сказала мать. — Хочешь посмотреть на него?
— Да, — сказал он и посмотрел на крохотное личико, выглядывавшее из свертка.
Оно спало, закрыв глаза. К щеке прижимался крохотный кулачок, и ноготь на большом пальце был почти совсем белый.
— Как мы его назовем? — спросила мать.
— Не знаю. — Он помотал головой, все еще глядя на спящее личико.
— Мы думали, Стивен. Но выбирать будешь ты. Мы решим, когда будем дома.
Подъехало такси, чемодан поставили в багажник, и шофер держал открытой заднюю дверцу, пока мать садилась с маленьким. Колин сел рядом с ней, а отец — впереди с шофером.
— Куда? — спросил шофер.
— На автобусную остановку, — сказал отец.
— До нее же и двухсот ярдов не будет, — сказал шофер.
— А дальше мне не по карману, — сказал отец. — До нашего дома шесть миль.
Шофер посидел с закрытыми глазами, а потом сказал:
— Свезу за десять шиллингов.
— Десять шиллингов, — сказал отец. — А знаешь, сколько часов я вкалываю, чтобы их заработать?
Они вылезли у автобусной остановки. Шофер остался сидеть за рулем — чемодан из багажника они достали сами, и дверцу, когда вылезала мать, придерживал Колин.
— Надо было бы поехать до дома, — сказала она. — Ведь такой случай.
— Я бы поехал, — сказал отец. — Только он мне не пришелся. Какого черта платить столько такому, как он? Хочешь, я схожу и возьму другого.
— Нет, — сказала она. — Поедем на автобусе.
Она прижимала маленького к себе и посматривала на его личико, прикрытое уголком шали.
— Нам должны были дать больничную машину, — сказал отец. — Я каждую неделю плачу в больничный фонд, а нам даже машины не дали.
— О чем ты говоришь, — сказала мать. — Мне как раз очень хотелось поехать на автобусе.
Он сел на скамейку позади них, а чемодан поставили в багажник у двери.
Иногда они оборачивались к нему.
— Тебе удобно? — спросил отец.
Он кивнул, стискивая кулаки в карманах.
— Ты спроси у миссис Шоу, он вел себя молодцом, — сказал отец.
Другие пассажиры посматривали на них и улыбались, а когда выходили, то нагибались и заглядывали под уголок шали.
— Миленький какой, — говорили женщины. — А он кто — мальчик или девочка?
— Мальчик, — отвечал отец и сам смотрел на крохотное личико.
— А кричать он здоров, сразу видно, что мальчик.
— Не без этого, — сказал отец. — Пожаловаться нельзя.
Когда они приехали в поселок, отец, посвистывая, спрыгнул на землю, взял чемодан, махнул кондукторше и осмотрелся по сторонам.
Они шли по улице, а женщины выходили из дверей, и мать останавливалась, откидывая уголок шали.
— Кушать хочет, — говорили женщины. — Вы уж идите.
— Да, черт подери, еще один голодный рот, — говорил отец.
Колин шел за ними с чемоданом, ставил его на землю, когда они останавливались, глядел прямо перед собой и по-прежнему чувствовал себя неловко, потому что на нем в будний день был праздничный костюм.
У двери отец сказал:
— Ты на беспорядок внимания не обращай. — Он сунул ключ в замок. — Садись отдыхай, а я чай вскипячу.
Он поставил чайник на огонь, который разжег перед тем, как они поехали в больницу, достал чайничек для заварки и чашки.
— Просто слов нет, — сказала мать. — До чего же хорошо вернуться домой.
Она сидела, оглядывая кухню, глаза у нее сияли, щеки все еще были розовыми.
— Сейчас, сейчас, — сказала она маленькому, воркуя над ним, и развернула шаль. Ножки у него были крохотные, изогнутые и, как личико, красные от плача. — Ну-ка, нравится тебе твой дом? — спросила она.
Он стал еще краснее, закричал громче, и его личико спряталось в складках и морщинах. Отец взял его, чтобы мать сняла пальто. Потом она села у огня, взяла маленького воркуя, начала расстегивать платье.
— Вот что, — сказал отец. — Сбегай-ка в лавку купи сигарет.
— Да пусть остается, — сказала мать.
— Беги-беги, — сказал отец. — Курить хочется, мочи нет, а ни одной не осталось. Купи себе шоколадку.
Колин вышел, сжимая в кулаке полкроны. Монета еще хранила теплоту отцовского кармана.
Приближалось время обеда, и на улице никого не было. Со стороны шахты доносилось попыхивание подъемника и голос бродячего торговца, выкликающего с тележки свой товар.
Его башмаки поскрипывали в тишине, и в окне лавки на углу он увидел себя — темный костюмчик с короткими штанишками, чулки, закатанные под коленками, аккуратно приглаженные волосы.
— Ну, и как тебе с малышом в доме? — спросил лавочник. Высунув кончик языка, он резал сыр тонкой проволокой. — Вот будешь его учить. Как стоять на ногах, как волосы причесывать.
— Угу, — сказал он, беря сигареты.
— Не надо, я угощаю, — сказал лавочник, когда он протянул деньги за шоколадку. — Такое не каждый день случается.
Он шел назад медленно и откусывал от шоколадки по маленькому кусочку, а потом сунул ее в карман — оставалось еще больше половины. Он подумал, что не надо возвращаться слишком скоро, и постоял у края тротуара, водя носком ботинка по пыли.
Со стороны школы донесся звонок, а потом послышались громкие голоса ребят, которые на большой перемене ходили обедать домой.
Он подождал, пока они всей гурьбой с воплями перебегали улицу на углу, а потом пошел к своему крыльцу.
Из двери выходила миссис Шоу.
— Ну, можешь гордиться, — сказала она. — Такого крепыша поискать.
— Угу, — сказал он.
Отец на кухне наливал чай в чашки.
— Теперь-то он видит, что не зря терпел столько времени, — сказала миссис Шоу из дверей.
— Само собой. — Отец кивнул.
Она взъерошила ему волосы и сказала:
— А скучно без него будет. Словно со своим расстаемся.
— Да, — сказал отец. — Большое вам спасибо.
— И огород вскопал, и всю мою медь начистил.
Отец кивнул и засмеялся.
— Пожалуй, ему и в нашем огороде дело найдется. За эти недели там все заросло.
— Ничего, — сказала миссис Шоу. — Теперь вы, благодарение богу, опять вместе, вся семья.
— Да, — сказал отец. — Нам есть за что его возблагодарить.
Когда миссис Шоу ушла, отец поставил одну чашку на тарелку с сухариками и пошел к лестнице.
— Я только отнесу, — сказал он. — А потом посмотрим, что у нас на обед.
— А мама не спустится?
— Спустится, — сказал отец. — Когда кончит.
Он сидел на кухне, смотрел на заросший огород, на бомбоубежище. Наверху он слышал шаги отца, его голос и голос матери.
На шахте зазвенел звонок.
Он положил сигареты на стол. За дальним концом огорода вдоль задворок следующей улицы тянулся узкий пустырь. С одной стороны он подходил к полям, а другую замыкали дома. Там в ожидании обеда играли дети — прыгали в яму, вылезали из нее и снова прыгали.
Он вышел и окликнул их, стараясь не наступать на комья глины и земли по сторонам дорожки.
— Эй, — крикнул он от забора, — а у нас маленький!
— Чего-чего? — сказали они.
Он махнул рукой на дом.
— А он кто? — сказали они.
— Мальчик.
Они попрыгали в яму, на секунду исчезли, потом выскочили наружу и побежали по пустырю, раскинув руки. Они бегали взад и вперед и жужжали.
Он смотрел на них, держась за штакетник.
Потом сунул руки в карманы и пошел назад к дому.
В дальнем дворе женщина развешивала белье. Она встала на цыпочки, чтобы дотянуться до веревки.
— Твоя мама вернулась? — крикнула она.
— Да, — сказал он и кивнул.
— А глаза у него какого цвета?
— Голубые, — сказал он.
— Ну что ж, — сказала она, — как у отца.
На кухне отец подкладывал уголь в огонь.
— Давай-ка займемся обедом, — сказал он, нагнулся и придвинул кастрюли поближе к пламени.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Он играл с ребятами старше себя. Некоторые уже ходили в спортивных брюках. Вожаком у них — когда он не лежал в больнице и не ленился выйти из дома — был парень по фамилии Батти, долговязый и огненно-рыжий. Из-за высокого роста он плохо управлялся со своими ступнями. Они были вывернуты наружу, и на бегу его коленки сталкивались — он очень страдал от этого, и стоило начаться какой-нибудь игре, как он уже кричал: «А, бросьте! Пошли погуляем». Иногда его звали Чумовой-Гулевой, иногда Лолли, но чаще просто Батти.
Он жил дальше по улице. В семье было семеро сыновей, и все рыжие. «Наши тебе покажут», — грозил Батти, если кто-нибудь пытался восстать против его власти, и кивал на окно своего кишевшего братьями дома.
Главным интересом в жизни Батти была хижина, которую он построил в полумиле от поселка, в Долинке, между высокой оградой газового завода и отстойниками.
После возвращения матери Колин начал проводить в хижине почти все свободное время. Он уходил туда после школы и на большой перемене. Проснувшись пораньше и услышав, что мать в спальне кормит маленького, он одевался, хватал кусок хлеба и уходил. Иногда мать окликала его, он шел в спальню и видел, что она сидит, положив маленького животом себе на плечо. Она спрашивала, хочет ли он чаю, свободной рукой поправляла ему галстук, осматривала шею и уши. Отец теперь работал в утреннюю смену, как мистер Шоу, но вставал на час раньше, потому что ему еще надо было ехать до шахты. Часто, когда Колин возвращался из школы, мать лежала в постели бледная, с запавшими щеками, а отец подметал в кухне или мыл посуду.
— Извелась оттого, что встает по ночам кормить, — говорил отец. — Вот малыш подрастет, и все будет в порядке.
— Можно, я пойду погуляю? — спрашивал он.
— Иди, — говорил отец. — Только сначала прибери тут.
Если самого Батти в хижине не было, там почти наверное сидел Стрингер, его ближайший приятель. Он был невысокий, коренастый, черноволосый и, когда они бывали там вдвоем, усаживался в кресло Батти, грыз ногти и рассеянно всматривался в огонек старой керосиновой лампы на столе возле двери. Если снаружи доносился хотя бы легкий шорох, он сразу хватал духовое ружье, которое всегда приносил с собой.
Ружье это ему подарил сам Батти, и, приходя в хижину, он палил из него по всему, что двигалось. Как-то вечером он, не разобравшись, выстрелил в собственного отца, который пришел за ним. Мистер Стрингер, такой же коренастый и черный, забрал ружье у сына, согнул, разогнул и, наконец, переломил пополам. Однако на следующий день Батти снабдил Стрингера новым ружьем.
— И хорошо, что он то сломал, — сказал Стрингер. — Все равно оно никуда не годилось.
Перед дверью он подвешивал за лапы к перекладине птиц, которых подстрелил, — вокруг их клювов и глаз бусинами выступала кровь.
Стрингеру хижина не очень нравилась. Если бы не Батти, он предпочел бы обосноваться где-нибудь еще. Тут всегда стоял удушливый запах газового завода, смешанный с вонью отстойников.
— Ну и подумаешь, — говорил Батти, когда он жаловался. — Я из-за вонищи это место и выбрал. Очень хорошая защита.
За отстойниками тянулось болото. Высокий камыш заслонял все вокруг. Пройти к хижине можно было только по тропке из кирпичей и кусков дерна, которую выложил сам Батти. Между камышами темнели ямы с неподвижной бурой водой, и Батти придумывал про них всякие истории. Брошенные в них трупы исчезали бесследно. У них не было дна. Они доходили до самого центра земли. В камышах Стрингер охотился на крыс и вешал их за хвосты рядом с подстреленными птицами.
В тех редких случаях, когда у Стрингера были другие дела, Колин оказывался единственным хозяином хижины. Он зажигал лампу и садился в кресло Батти. Дверь он закрывал на засов, а одно из окон, обычно заслоненных ставнями, открывал, чтобы никто не мог подойти по тропинке незамеченным.
В хижине была печурка, на которой Батти варил какао и разогревал картофельную соломку на сковородке без ручки. На стенах висели луки и стрелы с наконечниками из ржавой проволоки. Еще там был шкафчик. Батти его запирал и хранил там свои секретные вещи — веревку с петлей на конце, жестянку, которую называл «потайной», потому что никто не знал, что в ней спрятано, и молоток.
Колин сидел один в хижине, смотрел на дощатые стены, на оружие, тревожно прислушивался, не раздастся ли снаружи какой-нибудь звук или сигнал, и у него начинало ныть внутри. Часто он радовался даже Стрингеру.
— Чего ты сюда таскаешься? — спрашивал его Стрингер. Он был старше его года на два, на три.
— Чтобы стеречь, — отвечал он.
— Я спрашиваю, чего ты тут все время торчишь? — говорил Стрингер.
— А мне нравится.
— И вонища?
— Да, — говорил он.
Иногда он добавлял:
— И ведь надо ждать нападения.
— Угу, — говорил Стрингер и щурился на него.
Батти постоянно предвкушал, как на них нападут. Ради этого было приготовлено оружие и ловушки вокруг хижины — прикрытые камышом ямы, которые они старательно огибали, подходя к двери.
При упоминании о нападении у Стрингера тоже вспыхивали глаза, он проверял свое ружье, загонял в него пульку, если оно против обыкновения оказывалось незаряженным, и, подойдя к окошку, внимательно оглядывался, приставив к глазам бинокль, который тоже принадлежал Батти.
Но на них так никто и не напал. Из чужих к хижине подходили только шахтеры, которые вечером брели домой из Клуба и сворачивали к ограде газового завода, чтобы облегчиться.
Отец не очень одобрял, что он водится с Батти.
— Его братья чуть не все побывали в тюрьме, — сказал он. — Хорошему ты от него не научишься. Да и чем вы там занимаетесь?
— Ну… — ответил он, — играем.
— Если он позовет тебя красть, сразу скажи мне.
— Ладно, — ответил он.
— Сам знаешь, мать болеет, так нам и без того хлопот хватает.
Тем не менее по вечерам отец уходил на пустырь за домом вместе с отцом Батти и его братьями, а иногда с отцом Стрингера и мистером Шоу. Они играли там в крикет, а женщины выходили на крыльцо и смотрели, сложив руки под фартуком.
Они втыкали в землю две палки — это была калитка. Отец Батти, такой же долговязый и совсем лысый, когда его выбивали, клял своих сыновей почем зря, а его отец хохотал, упираясь руками в бока и откинув голову, а когда наставала его очередь, бежал медленно, неловко и кидал мяч коротким движением кисти. Стоило кому-нибудь отбить мяч в сторону домов, все вопили, точно на них валилось дерево, а если слышался звон разбитого стекла, они бежали прятаться за дверями и заборами, а потом с хохотом шли назад и отдавали деньги. Солнце заходило, они растягивались на траве около упавших палок и разговаривали, а когда совсем темнело, жены выходили на крыльцо и звали их.
— Назад в оглобли, — говорил отец и вставал, хотя мать никогда его не звала. — Пошли, Колин, — говорил он. — Пора и на боковую.
— А как твой малыш? — спрашивал кто-нибудь.
— Лучше некуда, — отвечал он.
Отец переделал ящик из-под апельсинов в колыбель и покрасил ее той же серой краской с шахты, что и нары в бомбоубежище. Колыбель стояла у них в спальне на стуле. Ящик был шестиугольный, и отец снял три стенки. Маленький лежал на подушке, и, когда он начинал плакать, его покачивали из стороны в сторону.
Маленького словно вычли из жизни его матери, словно он был ее частью, отнятой у нее и ничем не возмещенной, Она совсем исхудала и была занята только младенцем. Утром, когда он хотел зайти к ней, она часто спрашивала: «Это ты, Колин?», хотя знала, что, кроме них, в доме никого нет, и он ждал у двери, пока она не добавляла: «Теперь можно. Входи, голубчик».
Она держала маленького у своего плеча и похлопывала его по спинке. Когда бы он ни смотрел на маленького, глаза у него были закрыты, щеки надуты, а губы сложены трубочкой и вымазаны сероватым молоком.
По воскресеньям, когда мать кончала кормить маленького, он возил его гулять в коляске.
— Мы все должны помогать чем можем, — говорил отец.
Теперь отец часто готовил сам — он стоял, насвистывая, у стола, и его руки были выпачканы в муке.
— Мне книжки ни к чему, — говорил он, когда мать клала перед ним раскрытую поваренную книгу. — Либо тебе это дано, либо нет. А тогда лучше и не пробовать.
В стряпню он вкладывал столько же старания, как и в постройку бомбоубежища, и редко что-нибудь портил. Испеченные лепешки он ставил на подносе у окна, чтобы миссис Шоу и все, кто проходил мимо, могли их осмотреть. Он купил маленькую швейную машинку — по объявлению в местной газете, как и коляску, — и по вечерам перед сном садился у огня и шил занавески, нагибаясь к свету, протаскивая нитку толстыми пальцами. Глаза у него блестели.
— Ты набирайся сил, — говорил он матери. — А всем этим пока я займусь.
По воскресеньям Колин, толкая перед собой коляску, проходил мимо дома Батти и свистел. Батти выходил с доской или какой-нибудь железкой, они клали ее поперек коляски и везли в Долинку, а маленький спал под этим грузом.
Коляска была высокая, полукруглая снизу, с изогнутой ручкой. Большие колеса со спицами заходили друг за друга. Когда мать заметила набившуюся между спицами грязь и узнала, что маленький все утро проводит перед хижиной под гирляндами дохлых крыс и птиц, она сказала отцу, и он перестал замешивать тесто, вытер руки и повел его наверх, зайдя к себе в спальню за ремнем.
Он редко бил его, но если уж бил, то ремнем, перегнув через ручку кресла или положив поперек кровати, а потом выходил из дома, шел в уборную, сидел там, зажав голову в ладонях, и курил, а мать стояла на кухне, стискивая руки, и глядела в огонь.
В следующее воскресенье она вышла посмотреть, как он катил коляску к центру поселка и дальше за шахту, к Парку.
Каждое воскресенье отец надевал праздничный костюм и шел в том же направлении, мимо Парка, к старой помещичьей усадьбе. Там в амбаре помещался штаб добровольческого отряда местной обороны. Амбар был каменный, обитая гвоздями дверь запиралась на висячий замок, а внутри стоял письменный стол и несколько складных стульев. Все это чем-то напоминало хижину Батти.
Они собирались там в одиннадцать часов, как раз когда колокол церкви в дальнем конце бывшей усадьбы начинал звонить к утренней службе. Некоторые приходили в форме, остальные были в обычных костюмах. Они маршировали по мощеному двору, лихо поворачивали налево в каждом углу и останавливались по команде сержанта. Он приезжал на маленьком армейском грузовичке, и, когда они кончали маршировать, несколько человек по очереди гоняли его по двору, смеялись, перекликались, скрежетали передачами.
Через некоторое время сержант привез в грузовичке винтовки. Теперь уже почти все носили форму, но его отец из-за маленького роста был еще в штатском и маршировал в колонне последним — винтовка лежит на плече почти горизонтально, голова откинута, глаза выпучены, левая рука резко взлетает и опускается.
Когда строевая подготовка кончалась, они выстраивались в шеренгу, заряжали винтовки воображаемыми патронами и стреляли по воображаемым мишеням в дальнем конце двора. Иногда они стремительно перебегали двор, падали на травянистый пригорок и вели огонь по кустам. Кусок дерюги и мешок были подстелены там, где предстояло упасть его отцу и еще одному волонтеру в праздничном костюме, и перед тем, как залечь, оба поддергивали брюки на коленях.
Потом сержант привез еще и штыки, и воскресенье за воскресеньем они примыкали штыки к винтовкам, вопя бежали через двор и всаживали их в мешок, подвешенный к ветке дерева.
Отправляясь с братом на воскресную прогулку, Колин теперь провожал отца до старой усадьбы. Пока во дворе шло учение, он уходил в заброшенный дом. На второй этаж вела узкая каменная лестница, а на третий — широкая деревянная. Почти все потолки обвалились, на балках вили гнезда птицы, оконные проемы давным-давно лишились рам. Он смотрел оттуда на церковь и Парк, на шахту и поселок за ней. Он различал фигурки людей на улицах и на терриконе, а в ясный день видел даже деревья у реки в двух милях оттуда. Внизу раздавались команды сержанта, вопли бросающихся в штыковую атаку и лай собаки сторожа, привязанной у дома.
Из задних окон он смотрел на волонтеров внизу — распростертых на пригорке, если они вели огонь по кустам, или марширующих по двору, если еще не закончилась строевая подготовка. Его отец, который сверху казался совсем маленьким, но очень подтянутым, четко печатал шаг последним.
Во время учений лицо у него было суровым, подбородок втянут, грудь выпячена, глаза смотрели жестко и немного напряженно. Часто, когда они после учений возвращались домой, отец командовал: «Подтянись! Выше колени, выше колени!» — совсем как сержант, — а сам печатал шаг, откидывал голову, взмахивал руками и иногда косился на Колина, проверяя, идет ли он в ногу, хотя и катит коляску.
Однажды в воскресенье волонтеры прошли маршем по поселку — их отряд, отряд из другого поселка и оркестр. Сперва отец сказал, что не пойдет, потому что у него нет формы.
— Все равно иди, — сказала мать. — Важен боевой дух. И ведь у тебя будет винтовка.
— Могли бы, кажется, сшить одну моего размера, — сказал он. — Да пусть бы и великовата была, я бы согласился.
Тем не менее он пошел, и на этот раз шагал в самой голове колонны, а высокие ее замыкали. Колонну вел офицер с тростью — очень пожилой, с серебряными волосами и полоской цветных ленточек на груди. Отец шел всего в двух-трех шагах за ним. Они промаршировали через поселок мимо шахты. Потом пошли назад и повернули под прямым углом. Когда, заканчивая крест, они снова вернулись в центр, где шоссе, ведущее от станции на юг, пересекало другое шоссе, ведущее на запад, к городу, первые ряды некоторое время отбивали шаг на месте, пока не подтянулась вся длинная колонна. Колени отца взлетали высоко, но все-таки не так высоко, как у остальных, потому что материя его лучших брюк била еще новой.
Потом, когда волонтеры пили перед пивной, отец стоял позади других, кивал, но почти не разговаривал, а те, кто вступил в отряд гораздо позже него, небрежно прислонялись в форме к стене пивной, смеялись, шутили. У некоторых на рукавах были уже нашивки.
— От моего костюма скоро одна память останется, — сказал он, когда они шли домой. — И знаешь что? Я чуть было не попросил форму прямо у офицера.
Но когда он наконец получил форму, то не смог ее надеть: некоторое время она висела на стене, а отец смотрел на нее от другой стены со всей горечью обманутой надежды — обе ноги у него были в гипсе в результате несчастного случая, который мог бы окончиться и еще хуже.
Он возвращался домой с работы еще до рассвета и, спускаясь с холма по проселку, увидел впереди фонарики двух встречных велосипедистов. Он устало повернул, чтобы проехать между ними, и только тут понял, что это замаскированные автомобильные фары.
Он ударился о капот, перелетел через машину, упал на багажник и свалился на дорогу.
Шофер отвез его в ближайшую больницу, и через несколько часов, когда мать уже позвонила на шахту узнать, куда он пропал, к ним пришел полицейский и сообщил о том, что случилось. Она сразу же отправила его со Стивеном к миссис Шоу, а сама побежала звонить в больницу, чтобы спросить, сильно ли отец искалечен.
Отца привезли домой через несколько дней на машине «Скорой помощи». У него были сломаны обе ноги, руки и несколько ребер. Когда носилки вытащили из машины, он выглядел бодрее, чем все последние месяцы — особенно с тех пор, как начались его мучения из-за формы. Его внесли в дом и переложили на кровать.
Пролежал он недолго. Гипс ему на ноги наложили таким образом, что он мог стоять — и был даже на несколько дюймов выше, потому что его ступни были охвачены металлическими стремечками. Опираясь на палку, он самостоятельно спускался по лестнице.
Больше всего страданий ему причиняли ребра. Полулежа в кресле у очага, он держался за грудь, стонал в старался дышать медленно и размеренно.
— Я и сам знаю, — повторял он в ответ на уговоры матери. — Мне повезло, что я еще жив остался. — И добавлял: — Да только что в постели лежать, что в могиле.
Или он откидывался назад, вперял в потолок тоскливый, измученный взгляд и говорил:
— Сколько раз кровля обрушивалась, и меня чуть заживо не погребало, и чуть спину не перебило, и чего только еще не случалось! А когда попался, то, спрашивается, где? На пустой дороге!
Стивен уже ползал, и он сажал его на свою бесформенную ногу, с натугой нагибался вперед, брал малыша за руки и покачивал вверх-вниз, вверх-вниз.
А иногда он стоял у окна, балансируя на своих железных опорах, и смотрел на дворы или держался за шкаф и стучал по гипсу палкой. Он больше года копил десять фунтов на отпуск, но теперь все отложенные деньги разошлись. Он стучал кулаком о стену, а мать смотрела на него, стискивая руки.
— Сейчас надо думать о том, как тебе скорее поправиться, — говорила она, — а не хныкать.
— Хныкать? — говорил он. — Когда от моей жизни всего ничего осталось!
— Что-то незаметно.
— Незаметно? — Он швырял палку об пол так, словно хотел разбить ее в щепки, но через секунду уже просил мать поднять ее, потому что не мог без нее передвигаться.
— Когда я в прошлый раз сломал ногу, так чуть без работы не остался, ты же помнишь, — сказал он.
— Да, — сказала она. — Но сейчас война и для всех есть работа.
— Для всех-то есть. А у меня что? Гипсовые болванки вместо ног.
В молодости он лишился места, когда найти работу было невозможно. Случилось это незадолго перед тем, как он женился. На той же шахте, где он работал теперь, углубляли ствол; спускаясь туда, он неудачно выпрыгнул из клети и подвернул ногу.
Опухать нога начала, только когда он уже возвращался на велосипеде домой. Особенно распухла лодыжка. Он забинтовал ее и работал еще неделю, боясь показать врачу — а вдруг повреждение окажется серьезнее, чем он думал? К концу недели он уже почти не мог наступать на ногу и добирался до шахты два часа. Кончилось тем, что он упал вместе с велосипедом у ворот, лежал на дороге и стонал.
Сменный мастер отправил его в больницу на подводе с углем. Он пролежал три недели.
— Еще день, и ногу пришлось бы отнять. Врачи понять не могли, как я столько времени продержался.
— А как ты продержался? — спросил Колин. Теперь каждый день, когда он возвращался из школы, отец рассказывал ему новые подробности этого происшествия или других таких же.
— Работай ты на моем месте, сам бы знал как, — говорил отец и смеялся. — Выписали меня, и я прямиком на шахту, так, мол, и так, готов заступить на смену. «А я думал, Гарри, что ты умер, — говорит мастер. — Мы на твое место другого взяли». — «Это кого же?» — спрашиваю я. «Того самого, — говорит, — кто пришел сказать, что ты умер». Нет, ты только подумай. Ну, вызвал он его наверх. Ирландец это был, ростом с дом.
— И что он сказал? — спросил Колин.
— А что ему было говорить? — ответил отец. — «Вас двое, а место одно, — сказал мастер. — Даю вам пять минут, разбирайтесь сами как знаете». — Отец помолчал. — Мы пошли за контору, а через пять минут вернулся один. — Он весело смотрел на Колина и улыбался.
— А кто вернулся?
— Сам догадайся, — сказал отец и засмеялся. — Только с тех пор я так там и работаю. — Он захохотал, а мать не спускала глаз с его лица.
В молодости отец все время с кем-нибудь дрался и любил выпить. Из драк он всегда выходил победителем и, как бы ни был пьян, соображения не терял.
— Когда я с ним познакомилась, — говорила мать, — он был сущий дьявол. При одном его имени люди бежали домой и запирали двери.
— Это ты напрасно, — говорил отец. — Я всегда умел за себя постоять. Конечно, ростом я не вышел, но зато брал быстротой.
— Вот-вот, — говорила мать. — Особенно когда видел, что дело плохо.
Отец стукал палкой по столу и багровел.
— Я в жизни ни от чего не бегал. Никогда.
— Да-да, я знаю, — добавляла она и наклонялась к нему, чтобы поцеловать.
Отец часто сердился, но легко успокаивался.
Возможно, из-за этого случая он задумал уйти со своей шахты и устроиться на шахту в поселке.
Колин не мог себе по-настоящему представить, что его отец в самом деле работает под землей. Он ни разу не видел его шахты, хотя наслушался много рассказов и про нее, и про шахтеров, которые работали с отцом. Уолтерс, Шоукрофт, Пикерсгил, Томас — каждая фамилия вызывала в его мозгу особый образ. Высоченные силачи, которые почему-то именно из-за своей силы признавали главенство его отца, если случалось что-то опасное или неожиданное.
— Просто удивительно, как это без тебя шахта еще работает, — говорила мать, когда неделю спустя его истории начали ей надоедать. Придерживая Стивена на плече, она меняла ему подгузник, а потом опускалась на колени перед очагом, клала малыша перед собой и с булавками во рту смотрела на отца. За эти дни она очень окрепла, да и Стивен теперь по ночам почти не просыпался.
Отец вставал и шел к окну, покачиваясь на металлических опорах, опираясь на палку. Возможно, ему было обидно, что о его подвигах на работе, об обвалах, о людях, которых он спас, об инстинкте, который подсказывал ему, куда бежать, когда рушилась кровля, она узнавала только от него самого: Уолтерс, Шоукрофт, Пикерсгил, Томас — все они жили в других поселках. Пожалуй, это решило дело: все-таки тут и мистер Стрингер, и мистер Шоу, а может быть, и мистер Батти смогут рассказывать ей о том, как он чуть ли не каждый день совершает что-то, спасая человеческие жизни или поднимая производительность шахты.
Через несколько дверей от них жил мистер Риген. Он служил в конторе шахты и каждое утро выходил из дома в темном костюме, желтых перчатках, в котелке и со свернутым зонтиком. Он был высокий, краснолицый и говорил с легким ирландским акцентом. Каждое утро, когда он уходил на работу, его жена стояла со скрещенными руками у открытой двери, глядя ему вслед, пока он не скрывался за углом. Он никогда не махал ей, даже не оглядывался, но она продолжала стоять там, пока он не заворачивал за угол. Незадолго до его возвращения со службы она вновь появлялась в дверях, словно вовсе не покидала этого места, и придерживала дверь, когда он входил, уже снимая котелок. У них был один сын. Его звали Майклом, и он играл на скрипке. Сложением он пошел в миссис Риген — большая голова луковицей, узкое туловище, тощие ноги. Его отец, мистер Риген, словно его не замечал. По вечерам, когда на пустыре играли в крикет, мистер Риген без белого воротничка, в расстегнутом жилете стоял у забора в конце своего огорода и кричал:
— Бей, черт побери! Бей сильнее! — А из открытого окна позади него доносились звуки скрипки.
Его отцу мистер Риген очень правился. Он единственный на их улице работал не посменно, а в определенные часы, одевался, точно джентльмен, и как будто не обращал на свою жену ни малейшего внимания. Вечером в субботу он шел в Клуб все в том же костюме, котелке и перчатках и стоял у стойки в баре, сохраняя полную невозмутимость, сколько бы спиртного ни выпил. Шахтеры его побаивались: он составлял ведомости на заработную плату, он объяснял причины и сумму вычетов, и он знал заработок всех шахтеров в поселке. Кроме того, он затевал драку со всяким, кто, по его мнению, сказал что-то обидное или просто не так на него посмотрел.
Отец подробно описывал драки мистера Ригена, которые обычно следовали одной схеме. Чаще всего они разыгрывались в баре Клуба и неизменно начинались с какого-нибудь замечания в адрес мистера Ригена — насчет его котелка, который он снимал только в конторе или на пороге своего дома, его желтых перчаток, которые он тоже никогда не снимал, или свернутого зонтика, который он не раскрывал даже в дождь.
Оскорбившись, мистер Риген сначала ничем этого не выдавал. Он продолжал говорить, улыбаться или благодушно оглядываться по сторонам, затем в какой-то момент, определявшийся только им самим, ставил рюмку на стойку, но еще несколько секунд продолжал ее придерживать, словно опасаясь, что она исчезнет, едва он разожмет пальцы. Потом с той же невозмутимостью снимал котелок и клал его возле рюмки, затем стягивал правую перчатку и клал ее в котелок, стягивал левую и клал ее на правую и, наконец, поддергивал манжеты.
— Не вы ли это минуту назад, — говорил он, неторопливо поворачиваясь к оскорбителю, — сделали замечание относительно моей наружности?
Чаще всего тот оглядывался с недоумением, так как для него эта минута уже давно прошла.
— В таком случае, — говорил мистер Риген, — сейчас ваши зубы влетят вам в глотку.
Иногда тот утверждал, что никаких замечаний о наружности мистера Ригена не делал и вообще молчал.
Или же с улыбкой кивал и говорил:
— Ах так? И кто же это за вас постарается?
— Да вот, — говорил мистер Риген, — есть тут один такой.
По словам отца, который наблюдал за драками мистера Ригена прямо-таки с благоговением, мистер Риген редко наносил своему противнику второй удар — таким молниеносным и сокрушительным был первый. Если одного удара оказывалось мало, он бил еще раз, но обычно, нанеся свой первый удар, он на том же движении поворачивался к стойке, одергивал манжеты, натягивал перчатки, надевал котелок, сдвигал его набок точно по своему вкусу, вновь брал рюмку и допивал ее одним глотком.
Отец, когда начал выходить, много времени проводил в обществе мистера Ригена. Под вечер он становился у окна и ждал, когда мистер Риген покажется в конце улицы. Тогда он спускался в кухню и пятнадцать минут изнывал от нетерпения, давая ему время выпить чай и поглядеть газету, а затем выходил через черный ход, брел через дворы, покачиваясь на опорах и налегая на палку, стучал в заднее окошко мистера Ригена и кричал:
— Вы тут, Брайен? Не могли же вас уже выпустить!
Иногда мистер Риген возвращался с ним до их крыльца, клал на приступку сложенную газету и садился. Он был без воротничка, в расстегнутом жилете, и, когда наклонялся вперед, сзади открывались подтяжки.
Отец спорил с ним о его работе.
— Если б я работал столько часов, сколько вы, и только заклеивал конверты, заполнял бланки да считал чужие деньги, я бы тут же засыпал.
— Ну как же, — говорил мистер Риген, — мне это чувство знакомо. Но с другой стороны, киркой и лопатой размахивать может любой дурак. А для того, чтобы весь день посиживать и получать за это деньги, требуются мозги.
Отец кивал и смеялся, поглядывая в открытую дверь кухни на Колина и жену, точно ждал именно такого ответа и хотел, чтобы они его оценили в полную меру.
— Да и сами-то вы, — говорил мистер Риген, — тоже сейчас больше посиживаете. Обе ноги в гипсе и рука. Еще чудо, что так обошлось.
— Да, — говорил отец грустно. — Валяюсь, как старая баба.
— Ну, послушайте! — говорил мистер Риген. — До такой скверности дело все-таки не дошло.
Если мать возмущалась, мистер Риген наклонял голову и добавлял:
— Да что вы, миссис Сэвилл, не о вас речь. — Его акцент становился особенно заметным, и, мотнув головой в сторону собственного дома, он продолжал: — Но знаете, есть такие, которые весь день егозят тряпками — чуть не так ступишь, и готово, сломал шею, а своих сыновей одевают, точно девчонок, и заставляют их весь день пилить кошачьи кишки, пока уж и не разберешь, на каком ты свете.
Однако мистер Риген то ли из равнодушия, то ли из лени даже не пробовал ничего изменить. Он сидел на приступке или стоял у забора, подбадривал игроков в крикет и все больше багровел, но в конце концов, болтая руками, шел к себе домой. Иногда он выходил во двор со скрипкой и рубил ее на мелкие куски.
— Я тебе покажу, что я с ней сделаю, — кричал он. — И сейчас покажу, что я сделаю с ним.
Иногда он разделывался с одеждой сына, которую его жена шила сама, — рвал во дворе аккуратные костюмчики и яркие блузы, а потом топтал их, и лицо у него так наливалось кровью, что, казалось, вот-вот лопнет.
— Но зачем, собственно, я это делаю? — говорил он отцу. — Ведь оплачивать всю эту дрянь в конечном счете приходится мне же самому.
Всякий раз, когда отец спрашивал мистера Ригена, нельзя ли ему устроиться к ним на шахту, мистер Риген удивленно смотрел на него и говорил:
— И чего это вы, Гарри? Да расскажи я вам хоть немного, что там творится, вы бы к ней и близко не подошли.
— А, — говорил отец, — все шахты на один лад.
— Вот именно, — говорил мистер Риген. — Потому я и держался бы за то, что у меня есть.
Быть может, мистер Риген все-таки замолвил слово в дирекции. Однако когда отец пошел туда вскоре после того, как ему сняли гипс, он вернулся бледный и приунывший. Колин смотрел, как он идет по улице, раскорячивая ноги, чтобы не опираться на палку. Он вошел в дом, даже не взглянув в его сторону. Колин пошел за ним. Отец сидел на кухне, ссутулившись, положив руки на стол перед собой.
— Ты им нужен на своем месте, — говорила мать. — Они знают, какой ты ценный работник.
— Ценный? Никакой я не ценный. Вот завтра меня придавит, и сразу найдется кто-нибудь на мое место.
— А ты ведь всегда другое говорил, — напомнила она.
— Другое? — сказал он. — Что я говорил?
— Какой ты ценный работник. Как нужен на своем месте.
— Угу, — кивнул он, не отрывая взгляда от стола. — Говорить-то я говорю. Иначе что я такое? Кусок шлака, и все.
В конце концов он вернулся на старую шахту. Он уже давно ходил без палки и совсем перестал хромать, но его движения оставались медлительными, точно какая-то часть его жизни отмерла.
Он начал ходить в воскресную школу. Он ходил туда с соседским мальчиком, фамилия которого была Блетчли.
Раньше его мать и миссис Блетчли не поддерживали знакомства. Миссис Блетчли чем-то напоминала миссис Шоу, их соседку с другой стороны. Хотя в комнатах у нее не висели медные тарелки, зато на полу были коврики и дорожки, на окнах — тюлевые занавески, а на том окне, которое выходило на улицу, стояло растение с плоскими зелеными листьями — оно никогда не цвело и как будто даже не росло. Мистер Блетчли не работал на шахте — таких в их домах было немного. Он служил на станции, и, приходя туда, Колин иногда видел, как мистер Блетчли с длинным шестом в руках руководит сортировкой товарных вагонов на боковых путях или расхаживает между рельсами. Он был маленького роста, с землистыми щеками и никогда ни с кем не разговаривал.
Миссис Блетчли тоже была маленькая и всегда улыбалась. Она сторонилась всех соседок, кроме миссис Маккормак, которая жила с другой стороны. Миссис Маккормак стояла, скрестив толстые руки, и кивала, когда миссис Блетчли окликала ее со своего крыльца. Выбора у миссис Блетчли не было: если она утром или вечером почему-нибудь не выходила на крыльцо, миссис Маккормак шла к ней сама, стучала в дверь, а потом стояла, как всегда молча, и слушала миссис Блетчли.
Их сына звали Йен. Он был толстый, и всю одежду ему шила мать. Короткие штаны из серой фланели при каждом шаге вздергивались, открывая колени. Он ничем не интересовался, только стоял на заднем крыльце, сосал большой палец и глядел, как ребята играют на пустыре.
Его жирное туловище завершала несоразмерно большая голова. Черты лица были словно собраны к линии носа, а по обе ее стороны лежали огромные складки жира. Ноги у него тоже были жирные — плоские сзади и плоские спереди, они только чуть-чуть закруглялись сбоку. При ходьбе его колени терлись друг о друга, и кожа с внутренней стороны всегда была воспаленной. Каждое утро перед тем, как он шел в школу, миссис Блетчли смазывала ему колени мазью.
Дважды в месяц по субботам, если погода была ясная, она выносила во двор жесткий стул, мистер Блетчли садился на приступку, а их сын на стул, и миссис Блетчли подстригала ему волосы, придерживая их над ушами гребенкой. Он часто плакал. Колин по утрам и по вечерам слышал, как он плачет, а когда его стригли, он то и дело взвизгивал, вскакивал со стула и безуспешно пытался лягнуть мать.
— Ты меня порезала, ты меня порезала! — вопил он.
— Нет, миленький, — говорила миссис Блетчли. — Это тебе показалось.
— Порезала, порезала! Мне больно!
— Это тебе показалось, миленький. Дай я посмотрю.
— Не дам.
— Я же не могу тебя стричь не глядя.
— И не стриги!
Он убегал в дом — его колени уже пылали оттого, что он ерзал на стуле. Мистер Блетчли вставал, чтобы посторониться, и иногда садился на стул сам.
— Дадим ему минутку-другую, миленький, — говорила его жена и продолжала стоять в ожидании или сметала в кучку клочки волос.
— Будь он моим, — говорил отец Колина, глядя на них с крыльца или из окна, — я бы ему всю задницу разукрасил.
— Так ведь он не твой, — отвечала мать.
— Еще как расписал бы. Он бы у меня знал!
Как-то раз, когда отец работал в огороде, он крикнул миссис Блетчли:
— Чокнутая вы, хозяйка, как лошадь на бечевнике.
— Что? — спросила миссис Блетчли.
— Нашлепали бы вы его как следует.
Мистер Блетчли смотрел в сторону.
— Да что же, — сказала она. — Надо терпение иметь.
— Надо-то надо, — сказал отец и покачал головой. — Да только до каких пор?
Но его мать решила, что ему следует ходить в воскресную школу с Блетчли. Она несколько раз видела, как он после обеда в воскресенье уходит в церковь — серый костюмчик с галстуком в красную полоску, аккуратно смазанные коленки, — и как-то вечером сказала:
— Что бы ты про Йена ни говорил, а он всегда такой чистенький!
— И свиной хлев тоже чистый, — сказал отец, — пока он стоит пустой.
— Ну, — сказала она, — от церкви только польза может быть.
— Кому? — сказал отец. — Мне или ему?
— Колину, — сказала она.
Они оба посмотрели на него. И сразу отвели глаза.
— Не хочу я туда ходить, — сказал он.
— Конечно, — сказал отец. — Только ведь ты много чего не хочешь.
— Это тебе полезно будет, — сказал мать. — Пойдешь с Йеном. Я поговорю с его матерью.
Через два воскресенья он отправился в церковь с Блетчли в своем праздничном костюмчике, который после рождения Стивена ни разу не надевал.
Почти всю дорогу Блетчли молчал. На ходу его ноги мягко терлись друг о друга и штанины тихо шуршали. Он пыхтел, иногда шмыгал носом, словно его заложило, и все время держался чуть впереди, как будто не хотел, чтобы его видели рядом с кем-то. С родителями по улице он ходил точно так же.
Когда Блетчли увидел, что Колин ждет его у крыльца, он очень удивился. Спрятанные в складках жира глаза были полны угрюмого раздражения. Только когда они прошли шахту и начали подниматься на холм мимо Парка к церкви, Блетчли обернулся и сказал отдуваясь:
— Ты в бога веришь?
— Да, — сказал он и кивнул.
— А какой он с виду? — сказал Блетчли, остановился и поглядел на него.
По ту сторону дороги, в Парке, который мало чем отличался от пустыря, на площадке для игр качался на качелях Батти — одной ногой он отталкивался от земли, а другой пинал Стрингера, который качался рядом.
— Ну, старый такой, — сказал Колин.
Блетчли смерил его взглядом и сказал:
— А ты его видел?
— Нет, — сказал он.
— Если ты не веришь в бога, тебя туда и на порог не пустят.
— Угу, — сказал он и добавил: — Так я ведь скажу, что верю.
— Тебя пошлют к священнику, и он у тебя все выведает.
Блетчли еще раз смерил его взглядом, повернулся и молча пошел дальше.
Стрингер крикнул с качелей:
— Ты куда?
— В церковь, — крикнул он в ответ.
Стрингер кивнул, поглядел на Батти, но больше ничего не сказал.
Ученики воскресной школы были разделены на два класса. «Христовы воины», одиннадцати лет и старше, сидели в церкви под сенью знамен, прибитых по сторонам скамей. На каждом знамени была эмблема либо святого, либо апостола: птичка означала святого Франциска, а две рыбы с глазами как шарики — святого Петра. Младшие занимались в церковном зале, маленьком каменном здании позади церкви, бывшем сарае с дощатым полом и неоштукатуренными стенами. В глубине зала в большом очаге пылал огонь, и, пока шли занятия, щуплая женщина с красными глазами подсыпала в него совком уголь, в лицо ей клубами валил дым, и она утирала платком глаза и нос, точно плакала.
Дети сидели на деревянных стульчиках, расставленных кругами. Каждый круг находился под надзором молодого человека или молодой женщины, а за ними самими надзирала жена священника, низенькая полная женщина, почти такая же бесформенная, как Блетчли, и в очках с толстыми стеклами, прятавшими глаза. Их учителем был мистер Моррисон, высокий и худой, с длинной худой шеей и длинным худым лицом. На щеках у него багровели россыпи прыщей. Справа от него сидел Блетчли, держал его Библию и молитвенник и подавал их ему в нужную минуту с сосредоточенным, почти торжественным видом. Сначала они под присмотром жены священника пропели духовный гимн, а потом взялись за руки и прочитали хором несколько молитв, кое-кто даже наизусть. Потом спели еще один гимн, сели, и мистер Моррисон рассказал им историю про человека, который пошел ловить рыбу.
Учителя в остальных группах тоже рассказывали истории. Некоторые дети поглядывали на Колина, другие сидели, подсунув под себя ладони, и смотрели на стены или на потолок.
Старые балки там были такими темными и корявыми, что казались стволами деревьев с неободранной корой. Они сохранились со времен сарая, и с некоторых свисали веревки, точно оставшиеся от каких-то украшений. Время от времени дети по одному или по двое выходили в уборную, а вернувшись, садились, чинно складывали руки и смотрели в потолок. На всех были праздничные костюмчики или платьица и начищенные ботинки.
Блетчли внимательно слушал мистера Моррисона, вывернув шею в тугом воротничке, чтобы следить за его губами. Едва мистер Моррисон задавал вопрос, Блетчли поднимал руку, и хотя некоторое время мистер Моррисон не замечал ее, как ни шептал Блетчли: «Сэр, сэр!», но в конце концов он все-таки поворачивался к нему и слегка кивал, старательно глядя мимо Блетчли, а тот опускал руку, откашливался и отвечал, обращаясь к полукругу лиц перед собой.
Когда мистер Моррисон кончил говорить, он посмотрел на свои часы, на жену священника, которая беседовала со своей группой у очага, потом взял у Блетчли Библию, раскрыл на заложенном месте и отдал назад.
Блетчли положил Библию на воспаленные колени, нагнулся и начал читать, водя по строчкам пухлым пальцем. Запнувшись на каком-нибудь слове, он несколько раз быстро наклонял голову, прочитывал его и с улыбкой глядел на мистера Моррисона.
Наконец жена священника поднялась со стула в своем конце зала, и был объявлен последний гимн. Блетчли обошел круг, открывая нужную страницу для тех, кто не умел читать, и тыкая пальцем в номер. Мистер Моррисон стоял рядом со своим стулом, сморкался, прижимал платок к прыщам, а потом смотрел, остался на платке след или нет.
Когда раздались звуки рояля, Блетчли запел громким голосом, почти завопил, задирая голову, чтобы показать, что знает гимн наизусть. Те, кто не умел читать и наизусть гимна не знал, просто смотрели на страницу и иногда открывали рот, без слов подпевая музыке.
После окончания гимна им велели положить книги. Блетчли уже закрыл свою перед последней строфой, повернулся, пока все еще пели, положил ее на стул, повернулся обратно, продолжая петь, и до конца стоял с полузакрытыми глазами, тупо глядя в потолок.
Прочли заключительную молитву, жена священника подождала, пока все закрыли глаза и сложили ладони, затем их благословили, женщина у рояля заиграла медленную мелодию, каждый взял свой стул и отнес его к стене. Блетчли и еще двое мальчиков постарше начали складывать сборники гимнов и Библии, а учителя отошли в конец зала и стояли там спиной к огню, грея руки.
Когда Колин вышел наружу, сияло солнце и ветер дул с полей ему в лицо. Одни дети столпились у дверей церкви, ожидая старших братьев и сестер и подбирая конфетти, оставшиеся после свадьбы накануне, другие побежали вниз по склону мимо Парка к поселку.
Батти все еще сидел на качелях, а Стрингер стоял сзади и раскачивал его.
— Эй! — крикнул Батти, и Колин вошел в калитку. Несколько учеников воскресной школы уже стояли возле качелей и карусели, дожидаясь разрешения Батти.
— Эй, — сказал Батти. — И часто ты туда ходишь?
— Сегодня в первый раз, — сказал он.
— А кто тебе велел? Твой старик?
— Нет, — сказал он.
Батти кивнул и сказал:
— Ладно, Стрингер, хватит.
Стрингер схватил цепи и остановил качели.
Батти спрыгнул на землю, а Стрингер сел, снял башмак и сунул руку внутрь. Его босая подошва чуть ниже большого пальца была вся в крови.
— А что вы там делаете? — спросил Батти. — Про бога разговариваете?
— Да, — сказал он.
— Мой старик, — сказал Батти, внимательно в него вглядываясь, — верит в бога. — Он продолжал смотреть на него, но ничем не подкрепил своего утверждения, а потом повернулся к детям у карусели. — Кататься пришли?
— Да, — сказали они.
— Ладно, — сказал он. — Пять минут.
Стрингер надел башмак и снял другой. На скамье в дальнем конце Парка сидел сторож, старый шахтер с деревянной ногой, и читал газету, положив деревяшку на соседнюю скамью.
— Эй, Жирный! — крикнул Батти, увидев Блетчли. Он шел чуть позади мистера Моррисона и нес его Библию. Рядом с мистером Моррисоном шла красноглазая женщина.
Блетчли не обернулся и по-прежнему смотрел на мистера Моррисона и на женщину.
— Эй, Стрингер, — сказал Батти. — Ты же собирался вздуть Жирнягу Блетчли.
— Да, — сказал Стрингер и, сморщившись, натянул второй башмак.
Теперь по воскресеньям у Колина совсем не оставалось свободного времени. Отцу выдали форму, когда ноги у него были еще в гипсе, и хотя он тогда с горьким смешком говорил матери, что формой-то его снабдили, но надеть ее ему уже никогда не доведется, и, разложив ее на кухонном столе, поглаживал, точно собаку, теперь утром по воскресеньям он в форме шел через поселок бодрым шагом, совсем не прихрамывая, и на рукаве у него красовалась нашивка, которую он недавно получил, возможно, из-за своих переломов. Колин шел рядом с ним или чуть позади и катил перед собой коляску. Исполнение этого долга соединялось с двумя несомненными удовольствиями — он смотрел, как отец участвует в учениях, и исследовал старый дом. После обеда он шел в воскресную школу, и только после чая у него выпадал свободный час.
Он почти не замечал малыша, который уже научился сидеть и во время прогулок невозмутимо смотрел по сторонам большими голубыми глазами, а иногда махал ручонками. Дома он сидел на полу, переворачивал игрушки, тянулся к какой-нибудь, пытался встать, падал и принимался плакать, лежа на животе. Мать теперь приучала его держать ложку, и каждое утро его торжественно сажали на горшок.
Отец с тех пор, как снова начал работать, как-то приутих. По вечерам он иногда еще выходил на пустырь играть в крикет, но чаще сидел в кухне у стола и рисовал.
Он принес домой большой блокнот в клеточку, черный карандаш, деревянную линейку и резинку. Когда он раскладывал листы на кухонном столе и начинал рисовать, его щеки надувались и краснели, особенно если он ошибался, и, прикусив язык, стирал неверные линии, а потом смахивал ребром ладони бумажные катышки.
Сначала было неизвестно, что он рисует. Кончив, он убирал листы в ящик и каждый раз напоминал матери, чтобы без него к ним никто не прикасался. Однако потом, когда он стал стирать гораздо меньше и уже надписывал рисунки, иногда спрашивая, как пишется то или иное слово, и чертил жирные стрелки от одной стороны листа до другой, он объяснил им, что это — изобретение, которое он придумал на работе. Наклонив голову набок, он оглядывал листы, прищурившись и медленно облизывая нижнюю губу, потом разложил их на столе, осторожно нагнулся и поставил на каждом в верхнем левом углу номер — от первого до шестого.
Первый рисунок изображал стоящий на земле самолет. Это был бомбардировщик; и на правом и на левом крыле было тщательно нарисовано по мотору. Под самолетом лежала большая бомба, а рядом — свернутая кольцами толстая цепь.
На втором рисунке тот же самый самолет взлетал. Жирные штрихи по краям листа показывали, что это происходило ночью, и между штрихами были аккуратно размещены звезды и большой месяц, словно прищуренный глаз. Отец рисовал не очень умело: одно крыло довольно беспомощно задиралось от фюзеляжа вверх, несмотря на множество полустертых попыток исправить эту несообразность, а крутящийся пропеллер одного из моторов был почти таким же большим, как само крыло.
На третьем рисунке летела эскадрилья самолетов. На каждом фюзеляже и на каждом хвосте были тщательно выведены свастики. Эскадрилья занимала правую сторону рисунка, и ряд черных точек за ней указывал, что там летит еще много самолетов. На левой половине рисунка, несравненно превосходя величиной все остальные детали, располагался бомбардировщик. Он, как показывала большая отретушированная стрела, летел чуть выше самолетов, приближавшихся справа. На его хвосте, на фюзеляже и на обоих крыльях была нарисована круглая эмблема Королевских военно-воздушных сил, а над нижним краем листа, точно травинки, торчали лучи прожекторов.
Под самолетом на цепи свисала бомба с круглой эмблемой Королевских военно-воздушных сил и надписью печатными буквами: «ЭТО ТЕБЕ, АДОЛЬФ». Несколько пометок и стрелок показывали, что бомба спущена точно на высоту приближающейся эскадрильи.
Четвертый рисунок пострадал от исправлений значительно больше других — бомба изображалась в разных положениях, пока наконец она не заняла заключительную позицию прямо перед носом ближайшего самолета, из которого выглядывали встревоженные лица нескольких немцев со свастикой на рукавах.
Пятый рисунок был весь занят изображением последовавшего взрыва. Языки пламени и зазубренные куски металла разметались по листу, а по краям на землю падали обломки хвостов, крыльев и выпотрошенных фюзеляжей. Пометки на полях подтверждали эффективность взрыва и сообщали не только число уничтоженных самолетов, но также число погибших вражеских летчиков и бомб, взорвавшихся в бомбовых отсеках. Последний рисунок служил еще одним подтверждением: на нем с ясного неба на землю валились самолеты. Их было не меньше десятка, на них повсюду плясал огонь, и за каждым искореженным самолетом тщательно выведенными спиралями, клубами и завитушками тянулся дым. Над ними почти у верхнего края листа летел творец этого хаоса разрушения и смерти, одинокий бомбардировщик с эмблемой Королевских военно-воздушных сил на фюзеляже и хвосте: под ним все еще болталась цепь, а из кабины высовывалась рука величиной с хвостовое оперение, поднимая вверх среди множества стертых вариантов указательный и средний пальцы в знаке V — победа.
Отец отослал рисунки в большом конверте из оберточной бумаги, тем же черным карандашом написав адрес печатными буквами на обеих его сторонах. Вверху он вывел: «Частное», но перед тем как отнести письмо на почту, зачеркнул это слово и вместо него написал: «Величайшей важности», предварительно попрактиковавшись на черновом листке.
Через некоторое время, когда он уже перестал надеяться на ответ и начал рисовать заново, намного увеличив размеры бомбы и число падающих самолетов, и заранее приготовил конверт с надписью красными чернилами «Срочное!!», ему пришло письмо с официальным грифом, под которым сообщалось, что его рисунки «рассматриваются».
День за днем он захватывал письмо с собой на работу и каждое утро приносил его обратно чуть более грязным и потертым на сгибах, а по вечерам брал письмо и копии рисунков, шел через дворы, останавливался у каждой двери и объяснял мистеру Шоу, мистеру Стрингеру, мистеру Ригену, мистеру Блетчли, а один раз даже мистеру Батти принцип своего изобретения. На следующей неделе он принес из конторы новый блокнот и начал рисовать второе изобретение, на этот раз подвешивая под самолетом не одну, а несколько бомб на разной высоте, точно приманку на перемете.
Кульминацией этой серии стал рисунок, занявший весь кухонный стол. Несколько листов клетчатой бумаги он склеил в один — склеенные края бугрились и были украшены отпечатками большого пальца, — и на нем, чертыхаясь и охая, совсем багровый, чуть не откусив себе язык, он нарисовал целую тучу самолетов. Под каждым были подвешены разнообразные бомбы, некоторые настолько большие, что их тащили два, а то и три самолета, и на боках у них надпись печатными буквами гласила: «ЭТО ТЕБЕ, ФРИЦ».
Он аккуратно сложил рисунок, запечатал красным сургучом, отослал и, ободренный признанием, взялся за другие изобретения. По мере того как время шло, а газеты продолжали молчать о нем, его идеи становились все сложнее и богаче, достигнув высшего взлета в пуле, которая, по его расчетам, могла огибать углы. Она имела форму шарика и выбрасывалась из нарезного ствола таким образом, что летела по кривой и при достаточной скорости должна была вернуться в исходную точку.
— Но ведь тогда она убьет того, кто выстрелил? — спросила мать.
— Это еще почему? — сказал он, раздражаясь, как всегда, когда ему приходилось защищать свои изобретения. — У нее же на пути что-нибудь да окажется. Ну, и в любом случае можно снизить дальнобойность — надо только уменьшить заряд в патроне.
— Ах так, — сказала она, кивнула и поглядела на стреляющие за углы многочисленные фигуры, которые нарисовал отец.
Порой, когда поток идей иссякал, он откладывал карандаш, вставал из-за стола, потягивался перед огнем, откинув голову и сжимая над ней кулаки, потом проверял, приготовлена ли его рабочая одежда — рубашка, носки и башмаки разложены у очага, брюки и куртка висят рядом на гвозде, — выходил на крыльцо и закуривал сигарету.
Оттуда было всего несколько шагов до конца огорода, до пустыря, где шла игра в регби. Он стоял у забора, заложив руки в карманы, курил, иногда окликал игроков и наконец оглядывался на дом, перелезал через забор и пинал мяч, когда он падал рядом.
Через несколько минут он уже был на середине пустыря, махал руками, кричал, не выпуская сигареты изо рта, хохотал, а увидев мяч у своих ног, швырял сигарету, бежал, лавируя, к тем воротам, которые были ближе, бил по ним и вопил:
— Гол! Гол! Что я вам говорил?
Бегал он, чуть согнув ноги, и отчаянно вскидывал их, если терял мяч или его у него отбирали. Тогда он кричал: «Неправильно!», и его голос, воинственный и обиженный, выделялся среди всех остальных.
Потом, когда смеркалось, игроки усаживались посреди пустыря. Становилось совсем темно, и видны были только огоньки их сигарет, да время от времени вспыхивала спичка. В тишине их голоса доносились до домов, как неясный ропот. Мать выходила на крыльцо и звала негромко:
— Гарри! Гарри! На работу опоздаешь.
Он входил в кухню, еще ослепленный темнотой, с зелеными пятнами на локтях и коленях, нетерпеливо нагибался у огня, надевал рабочую одежду, зашнуровывал башмаки и ворчал:
— Нет, я полоумный, что работаю по ночам.
Он брал рюкзак, в который мать уже уложила бутылку с чаем и бутерброды, выводил велосипед, ощупывал шины, включал динамо фонарика и уезжал, окликая приятелей, которые все еще сидели в темноте на пустыре.
В воскресную школу с Блетчли и Колином начал ходить Майкл, сын мистера Ригена. Он был высокий, с длинным худым лицом и длинным носом. Глаза у него были белесо-голубые, как у мистера Ригена. Когда они вместе шли по улице, люди смеялись, такой один был толстый, а другой тощий. Риген этого как будто не замечал, но Блетчли нетерпеливо ускорял шаг, и от этого его колени становились все краснее. Когда они возвращались из воскресной школы, Риген шел по одну сторону мистера Моррисона, Блетчли — по другую, а красноглазая женщина держалась немного впереди или сзади.
На третье воскресенье Риген взял с собой скрипку. Так ему велела жена священника, и перед началом службы она объявила, что один мальчик принес свой инструмент; Риген вышел из-за своего стула и подал ей футляр, а она подняла его повыше, чтобы все видели.
Скрипка была похожа на большой красновато-коричневый глянцевитый орех в ложбинке из зеленой бязи. Риген две недели разучивал духовный мотив, и, когда был объявлен последний гимн, он встал рядом с роялем и вынул скрипку из футляра.
Дети молча смотрели на него. Он подложил под подбородок сложенный носовой платок, наклонил голову, чтобы его прижать, а потом уперся в него скрипкой.
Блетчли не спускал с него глаз. Когда они шли сюда, он вдруг пнул футляр ногой и сказал:
— Священник ее у тебя отберет. С такими вещами туда входить запрещается.
— Мне миссис Эндрюс велела, — сказал Риген, имея в виду жену священника.
— А она не священник, — сказал Блетчли. — И если она не делает того, что велено, он дает ей жару.
Однако теперь Блетчли смотрел на него с улыбкой. Потом он сморщился, сощурил глаза, поглядел на мистера Моррисона, снова сморщился и уставился в потолок.
Глаза Ригена раскрывались все шире, он скашивал их на скользящий по струнам смычок, вдруг останавливался и вздрагивал всем телом, если мелодия скрипки расходилась с роялем. А когда дети, а главное, Блетчли начинали петь, ее звуки замирали.
Блетчли пел, закрыв глаза, повернув лицо в сторону скрипки, задрав голову, точно обращался прямо к Ригену.
На обратном пути он снова пнул футляр.
— Будешь так ее таскать, она у тебя разобьется, — сказал он. — А спорим, на рояле ты все равно играть не умеешь!
— Нет, — сказал Риген.
— А мой двоюродный брат умеет, — сказал Блетчли.
Несколько дней спустя Колин увидел, что Блетчли и Риген играют на пустыре за домами. Риген вез Блетчли на спине. Его тощее тело сгибалось под тяжестью, подбородок почти касался колен. Блетчли бил его по ногам палкой, покрикивал «но-о! но-о!» и щелкал языком. Они обогнули яму с осыпавшимися краями.
Через несколько минут мистер Риген прошел через свой огород. Он только что вернулся с работы и был еще в желтых перчатках и котелке. Только расстегнутые пуговицы пиджака показывали, что он вернулся домой.
— Эй! — крикнул он и, когда Блетчли оглянулся, добавил: — Слезай с него.
— Что? — сказал Блетчли.
— Слезай с него, — крикнул мистер Риген.
Блетчли слез и остановился, глядя на мистера Ригена.
— Майкл, — крикнул мистер Риген. — Садись ему на спину.
Риген, нагнувшись, растирал ноги, побагровевшие от ударов палки.
— Садись ему на спину! — крикнул мистер Риген.
Блетчли стоял неподвижно, не спуская глаз с мистера Ригена, а Риген хватал его за плечи, пытался влезть ему на спину, но у него ничего не получалось.
— Присядь, — крикнул мистер Риген и махнул рукой.
— Что? — сказал Блетчли.
— Нагнись.
Блетчли немного пригнулся, по-прежнему глядя на мистера Ригена, и Риген кое-как взобрался ему на спину. Блетчли стоял, покачиваясь, ухватившись за ноги Ригена.
— Отдай ему палку, — крикнул мистер Риген и, когда Блетчли отдал палку, снова крикнул: — А ну, пошел.
Блетчли пошатнулся, вздернул Ригена повыше и, с трудом удерживая равновесие, побрел по кругу.
— Стукни его, — сказал мистер Риген.
Риген поднял голову, глаза у него были большие и круглые, словно он играл на скрипке.
— Стукни!
Риген махнул палкой позади себя и ударил Блетчли по ногам.
— Ой! — вскрикнул Блетчли и сморщился.
— Быстрей, — крикнул мистер Риген.
— Не могу, — сказал Блетчли и захныкал.
— Быстрей, не то я сам сейчас к вам выйду.
Блетчли побежал, щеки у него тряслись, колени терлись друг о друга.
— Ой! — вскрикивал он. Всякий раз, когда мистер Риген отдавал новую команду, он вскрикивал все громче, стараясь, чтобы его услышали дома.
— Быстрее, — командовал мистер Риген. Он весь покраснел, словно следил за игрой в крикет, и заложил большие пальцы в жилетные карманы. — Быстрее, не то я сам тебя огрею.
Блетчли упал.
Он испустил громкий вопль и свалился набок. Глаза его были зажмурены, рот открыт. Он стонал и держался за лодыжку.
— Ой, — сказал Блетчли. — Я сломал ногу.
— Я тебе и вторую сломаю, если ты еще хоть раз возьмешься за свое, — сказал мистер Риген. — Вставай, не то я сам тебя подниму.
Блетчли встал. Он снова застонал и зажмурил глаза, задрав голову.
— Я иду домой, — сказал он, добавив еще что-то, чего мистер Риген расслышать не мог, на всякий случай оглянулся и захромал к своему забору, раскинув руки для равновесия, испуская стоны и гримасничая.
— Если ты еще раз попробуешь его возить, — сказал мистер Риген сыну, — я сам тебя изукрашу. Он тебя бьет палкой, и ты его бей.
— Хорошо, папа, — сказал Риген.
Блетчли, старательно сохраняя страдальческий вид, перелез через забор, испустил стон, снова захромал и, морщась, словно от невыносимой боли, побрел через огород к дому.
— Мам! Мам! — закричал он, подходя к крыльцу. — Мам! — взвизгнул он в последний раз и, когда дверь открылась, рухнул на ступеньки.
Однако после этого Блетчли и Риген стали неразлучны. Каждое утро они вместе шли в школу одинаковым медленным шагом, на спинах у них были одинаковые ранцы, и в каждом лежали яблоко, пузырек чернил, который часто разбивался, и ручка. Иногда их матери стояли, разговаривая, на улице или одна из них шла к другой мимо палисадников. Некоторое время спустя они уже вместе ходили к утренней службе. Иногда их сопровождал мистер Блетчли в коричневом костюме, а потом с ними начали ходить и Блетчли с Ригеном. Порой было слышно, как мистер Риген кричит им что-то из окна спальни, когда они проходят мимо.
— Они в церковь пошли, Гарри, — говорил он, пройдя дворами до их заднего крыльца, на котором, читая газету, сидел отец. — Она каждый вечер ставит парня на колени перед кроватью.
— На колени? — сказал отец.
— Молиться заставляет.
— Ну что же, — сказал отец. — От молитвы вреда не бывает.
— И пользы тоже, — сказал мистер Риген. — Сама дура и из него дурака делает.
— Ну что же, — повторил отец, не отрывая взгляда от газеты. — Заранее ведь не угадаешь. — На этот раз он был не склонен вступать в разговоры.
— Вот-вот, — сказал мистер Риген. — Как ни крути, а будет то же самое.
По воскресеньям мистер Риген ходил без пиджака, расстегнув все пуговицы жилета, кроме последней, но в рубашке с крахмальным воротничком и в галстуке цветов школы, в которой он когда-то учился. Тонкая золотая цепочка тянулась от верхней пуговицы жилета до верхнего левого кармана.
— Только на конце-то просто кусок булыжника, — говорил отец. — Я точно знаю.
После того как ему не удалось устроиться на шахту в поселке, его восхищение мистером Ригеном поостыло.
— Риген человек хороший, — говорил он. — Только почему он жалуется, а делать ничего не сделает?
— Жены боится, — сказала мать. — Он всех женщин боится, в том-то и дело.
— Женщин? — Отец засмеялся и с недоумением поглядел на нее. — Да если бы он их боялся, — добавил он, все еще смеясь, — так перед мужчинами и вовсе хвост поджимал бы. А этого за ним не водится. Сколько лет я его знаю.
Мать кивнула, но ничего не ответила.
Услышав это объяснение, отец на некоторое время снова почувствовал к мистеру Ригену прежнее уважение и по утрам в воскресенье, когда миссис Риген и Майкл уходили в церковь, даже шел к нему через дворы, и они сидели рядом на крыльце, смеялись тому, что вычитывали из газеты, а иногда к ним присоединялся мистер Стрингер или мистер Батти, и чуть позже все они шумной компанией отправлялись в Клуб.
Именно мистер Риген подал мысль, что Колину следует готовиться к отборочным экзаменам. В случае успеха он сможет поступить в следующем году в городскую классическую школу, а если он не доберет баллов, то можно будет попробовать еще через год. Если же у него ничего не получится, то он поступит в обычную среднюю школу на другом конце поселка — кончавшие ее почти все шли работать на шахту.
— Риген верно говорит, — сказал отец. — Ты хочешь, чтобы он стал таким, как я или как Риген, получал бы деньги за то, что весь день просиживает задницу? Я бы знал, что выбрать.
— Мистер Риген работает, — сказала мать. — Просто это другая работа, вот и все.
— Ну ладно, — сказал отец. — Кому и судить, как не тебе. Ты же у нас образованная.
Мать в отличие от отца училась в школе до пятнадцати лет. В комоде наверху хранилось свидетельство, сообщавшее гравированным каллиграфическим почерком, что она преуспела в родном языке, естествознании и домоводстве.
— Однако задания для подготовки к экзаменам ему давал отец — едва мать предлагала какую-нибудь тему для сочинения, отец обходил стол со словами: «Это его ничему не научит», твердо клал на лист маленькую мозолистую руку, всю в ссадинах, с ногтями, черными от угля, и печатными буквами, фыркая и пыхтя, выводил у верхнего края: «ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ», «ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА», «ПОЕЗДКА НА АВТОБУСЕ». Часто он стоял позади его стула, дожидаясь, пока он начнет, а тогда слегка нагибался и смотрел, как на бумаге появляются слова. Или отходил в сторону, насвистывая сквозь зубы, и, подождав немного, кричал:
— Будешь столько времени раскачиваться, так, черт подери, экзамен кончится, прежде чем ты начнешь!
— Надо же ему подумать, — говорила мать. — А оттого, что ты стоишь у него над душой, толку все равно не будет.
— А если я не буду стоять у него над душой? Он и не начнет даже. — Но он все же отходил, подхватывал на руки Стивена, который уже умел бегать, поднимал его повыше и говорил: — Вот когда ты возьмешься за учебу, только искры полетят. Мы им еще покажем. Черт подери, так оно и будет.
У Стивена были отцовские голубые глаза, но лицо круглое, как у матери, с таким же вздернутым носом и таким же выражением — словно внутри пряталось застенчивое, почти немое существо и робко выглядывало наружу. Он начинал говорить, и мать, когда давала ему что-нибудь, несколько раз повторяла название предмета и кивала. А играя во дворе с малышами из соседних домов, Стивен разговаривал совсем свободно — он бегал, вскидывая короткие, чуть кривые ножонки, и кричал: «Моя! Моя!», или какому-нибудь мальчишке постарше: «Брось! Брось!»
— Скажи «Колин», — просила мать.
— Колин, — говорил он, задирая голову и сосредоточенно сдвигая брови.
Пока Колин дописывал сочинение, отец обычно уже начинал собираться на работу и, натягивая брюки или застегивая рубашку, заглядывал ему через плечо, чтобы проверить, много ли он написал, перевернул ли страницу. Он глядел на строчки ровных, неторопливо выведенных букв и говорил:
— Две страницы! За десяток слов тебе никто отметки не поставит.
— Да оставь его в покое, — говорила мать.
— Нет уж! — говорил отец. — Если человека оставлять в покое, он никакого образования не получит.
Он принес из конторы красный карандаш, чтобы проверять сочинения, и в ожидании нетерпеливо чинил его над огнем, оборачивался и спрашивал:
— Ну, кончил? Мне через полчаса на работу. — Он взглядывал ему через плечо, смотрел на часы и говорил: — Вот допишешь это предложение, и хватит!
Не успевал Колин встать, как он садился на его стул и добавлял:
— Ты не уходи. Будем разбирать ошибки.
Он читал, прищурившись, кривя губы, а когда сомневался, то оборачивался и спрашивал:
— Как пишется «шествие», Элин?
А когда мать, продолжая гладить или мыть посуду и даже не подняв головы, отвечала, он говорил:
— Разве там нет еще одного «вэ»? — и нетерпеливо добавлял, когда она начинала объяснять: — Да ладно, ладно. Я же просто спросил. Лекции мне слушать некогда.
— Так хочешь ты знать или нет?
— Ну, ладно, — говорил он и сильнее прижимал к бумаге кончик красного карандаша, старательно перечитывая каждое слово, которое написал сам, и в конце каждого предложения, если считал его правильным, ставил маленькую галочку. — Это правильно, — говорил он про себя, — и это.
Ему очень нравилось писать красным карандашом, и свободное место внизу он использовал для пометок: «Превосходно», «Можно было бы и лучше», «Не думаешь о том, что пишешь» или: «К экзаменам надо готовиться больше». Рядом он ставил отметку по десятибалльной системе. Из принципа он никогда не ставил ему ниже трех и лишь редко — выше семи. В заключение он выводил большую галочку, начиная ее в нижнем левом углу и доводя почти до верхнего правого, и с росчерком ставил свои инициалы: Г. Р. С. — Гарри Ричард Сэвилл.
Некоторое время спустя, когда ему надоело читать сочинения Колина, он принес домой учебники по математике, которые взял у приятеля на шахте. На внутренней стороне переплета каждой книги была карандашная надпись печатными буквами «КНИГА СЭМА ТЁРНЕРА», а в двух под надписью были нарисованы женские фигуры, которые отец попытался стереть, но безуспешно.
Простые и десятичные дроби, на которые было большинство задач, они в школе еще не проходили, и он растерянно смотрел на цифры, которые выглядели непривычно маленькими и стояли друг над другом. Отец тоже в них не разбирался и сначала брал книгу сам, садился в кресло у огня, списывал цифры, кашлял, осыпал их сигаретным пеплом, стирал, охал, и часто сердито притоптывал ногой и чесал в затылке.
— Дай-ка я погляжу, — говорила мать.
— Черт подери! — говорил он, отдергивал книгу или прикрывал ее ладонью. — Я этим занимаюсь или не я?
— Ну, ты, — говорила она.
— А тогда не мешай.
Она возвращалась к своей работе, а он охал, притоптывал, потом вскакивал, бежал к столу и переписывал для Колина примеры на клетчатую бумагу из блокнота, который когда-то принес с шахты, чтобы рисовать изобретения. При этом он чесал в затылке так, словно опасался, что их вообще решить нельзя.
Потом списывал тот же пример для себя и принимался решать его на краешке стола — шептал что-то, охал, стирал. Потом поднимал голову, спрашивал Колина, решил ли он, и услышав, что нет, с облегчением возвращался к своим вычислениям. Когда он подходил проверять пример, то ни на секунду не присаживался, точно ожидая, что его самого вот-вот поправят. Он то нагибался через плечо Колина, то возвращался к своему листку на другом конце стола, сверялся с ним, а потом ставил галочку или крестик.
Примеры становились все сложнее, терпение отца истощалось, а Колин после целого дня в школе уставал все больше, и мать начинала возражать против их занятий. Часто, когда Колин ложился спать и нерешенные примеры роились у него в голове, он слышал их раздраженные голоса на кухне. Отец говорил:
— Ладно, я больше палец о палец не ударю. Пусть идет работать в шахту, как все остальные. Чем он лучше-то?
А когда он утром спускался вниз, мать говорила, едва отец возвращался с работы:
— Вовсе ему не обязательно идти работать в шахту.
— А какую еще он тут работу найдет?
— Не знаю, — говорила она, а отец снимал башмаки, хватал красный карандаш и брался за примеры, не доделанные накануне, или вытаскивал из жилетного кармана решение, написанное для него кем-то на работе. — Что толку его заставлять, — добавляла она, если он не может.
— Нет, может, — говорил он. — А путается он потому, что ты кудахчешь вокруг него, как наседка.
— Нет, не может, потому что устает, — говорила она и брала на руки Стивена, который всегда начинал плакать, когда они ссорились, и цеплялся за ее юбку.
— Пусть лучше сейчас устает, зато потом не будет уставать, как я устаю.
— Так ты давай ему время подумать, не подгоняй его.
— Да кто его подгоняет, — говорил отец и топал ногами в носках, но никакого звука не получалось, и тогда он ударял кулаком по столу так, что дребезжали чашки. — Черт меня подери, — добавлял он, — если я не разберусь в какой-то там запятой и в числителях со знаменателями.
А в другие дни, когда Колин входил в кухню, отец поднимал голову от тарелки, мигал ресницами, еще мохнатыми от угольной пыли, и говорил:
— Умножь две целых пять десятых на семь. В уме. Так сколько это будет? — и смотрел на него светло-голубыми глазами в черных ободках. Потом, услышав его ответ, быстро опускал их, говорил: — Ну правильно. — И тут же. — Как пишется «география»? Побыстрей, побыстрей. Да разве же там «е», а не «и»! — Раздраженно мотал головой, когда мать его поправляла, и добавлял: — Я ж его просто хотел проверить! — и в ярости стучал кулаком по столу.
А потом у отца появилось другое занятие. Луг возле дороги, ведущей из поселка на юг мимо Клуба и Долинки, был разбит на огородные участки по пятьсот — тысяче квадратных ярдов, и по вечерам, а также утром в воскресенье мужчины отправлялись туда с лопатами и граблями вскапывать твердую землю бывшего коровьего пастбища. Отцу дали участок близко от дороги. Когда остальные приходили или уходили, он окликал их, и часто Колин, который помогал ему нести лопату, оставался копать один. Отец сидел у живой изгороди, курил и разговаривал с мистером Стрингером, или с мистером Батти, или с мистером Шоу.
— Э-эй, копай прямее, — покрикивал он и добавлял, поворачиваясь к своему собеседнику: — Да раньше, чем у нас тут что вырастет, война уже кончится.
Он покупал рассаду по дороге с работы и втыкал ее в грядки аккуратными рядами — бледно-зеленые листочки капусты на желтых стеблях, цветную капусту и спаржу. Колин переворачивал дерн и разбивал большие куски, а отец граблями разравнивал землю, выбирал камни и пучки травы. Присев на корточки у конца грядки, он доставал из жилетного кармана пестрый пакетик, отрывал уголок и высыпал на ладонь маленькую кучку семян. Зажав их в кулаке, он тряс его над грядкой, точно стаканчик с игральными костями, нагибаясь или приседая на корточки, а потом подошвой нагребал на них землю. Пройдя грядку, он подбирал прут, накалывал на него пустой пакетик и втыкал его там. Так он посеял морковь и свеклу. Горох и фасоль лежали в больших пакетиках в кармане пиджака, и он сажал их по-другому — делал пальцем ямку и опускал в нее одну горошину или одну фасолину. Наконец, когда все пакетики опустели, он нарезал прутьев с живой изгороди и принялся втыкать их над грядками крест-накрест. Иногда он отрывался, шел туда, где Колин продолжал копать, и говорил:
— Ну-ка, дай мне, а то мы здесь до полуночи проторчим! — Он глубоко загонял лопату в землю и переворачивал тяжелые куски дерна. — Могли бы прежде распахать луг, чем сразу распределять участки. Не земля, а камень.
Близость Клуба была соблазнительна, и многие, принеся с утра лопаты и грабли, уходили, едва приближался час его открытия, и возвращались только перед обедом, чтобы захватить свои инструменты, а отец Батти просто валился на траву под изгородью и спал, раскинув руки, раскрыв рот и громко храпя.
— Почему бы и не выпить, — говорил отец. — Но не люблю я, когда человек своей меры не знает.
Однако, разговаривая с мистером Батти, он стоял перед ним чуточку боком, смотрел на его багровое лицо снизу вверх с какой-то робостью, повторял: «Верно, Тревор, верно!», смеялся и прижимал ладони к пиджаку.
Отец работал на участке с большим усердием. Он ухаживал за грядками так же старательно, как шил или стряпал, когда мать болела. Когда по улице проезжала тележка молочника и на мостовой оставались конские яблоки, он говорил: «Ну-ка беги, собери их». Вечером Колин относил навоз в ведре на участок и разбрасывал его по грядкам, а отец уходил на соседний участок потолковать с мистером Батти или с мистером Шоу. Он говорил:
— Подергал бы ты сорняки. Оглянуться не успеешь, все уже заросло.
Мистер Риген не захотел взять участка, но он часто заглядывал к ним на луг в воскресенье или вечером, когда выходил из Клуба, помахивая тросточкой, которую обязательно брал с собой, если шел куда-нибудь дальше угла улицы или двора шахты. Он стоял в своем котелке у изгороди, опираясь на тросточку, и говорил:
— Нет-нет, я дальше не пойду, — и добавлял, указывая на свои ботинки, которые всегда сверкали: — Не хочу доставлять старухе лишних хлопот.
— Если они сами его не замечали, он окликал отца из-за изгороди, раздвигал ветки тросточкой и говорил:
— Ну, Гарри, отлично вы тут поработали.
А позднее, когда на грядках поднялись темные кустики свекольной ботвы и под зелеными пушистыми перышками проглянула ярко-оранжевая морковь, он говорил:
— Ну, Гарри, да их прямо хоть на выставку, — а потом добавлял, если отец выдергивал морковку, чтобы показать ему: — Ну, Гарри, я бы не отказался съесть завтра за обедом парочку-другую таких красоток, — и удивленно качал головой, когда отец выдергивал еще несколько.
— Да что тут, мы же всего сами не съедим, — говорил отец и обязательно выдергивал еще несколько для миссис Блетчли.
Мистера Блетчли совсем недавно призвали в армию. В отличие от тех, кто работал на шахте, у него не было брони, и вскоре после того, как миссис Блетчли и Блетчли в слезах проводили его с маленьким чемоданчиком до станции, там по путям между вагонами уже расхаживала с шестом какая-то женщина в линялом комбинезоне, а мистер Блетчли приехал потом домой в короткий отпуск уже в форме, загорелый и словно бы довольный, и после этого они его больше не видели. Новости о нем они узнавали только от Блетчли — по дороге в школу он перечислял, сколько человек его отец убил на прошлой неделе, сколько взял в плен и какую территорию единолично отбил у врага.
— Так сколько он их там убил? — спрашивал Батти, а услышав ответ, ошеломленно смотрел на Блетчли и говорил: — Чем же это он их?
— Голыми руками, — говорил Стрингер. — Чтоб столько поубивать, нужна армия, не меньше.
— Пулеметом можно, — объявлял Батти, почему-то кидаясь на защиту Блетчли, если его цифры и подвиги вызывали сомнение.
Иногда по воскресеньям они уходили погулять часок перед чаем. Прогулка требовала приготовлений. Отец чистил туфли матери и свои башмаки — тер их щеткой, а потом тряпкой так, словно хотел протереть насквозь, а Колин чистил свои и Стивена. Потом они умывались, и, пока мать натягивала на Стивена черные штанишки и курточку, Колин надевал праздничный костюм. Отец спускался тоже в костюме. Лицо его было красным и лоснилось. Он нагибался к Колину, осматривал его уши, шею, руки. Потом они ждали несколько минут, пока мать поднималась в спальню переодеться. Отец стоял перед зеркалом на кухне, вытряхивал на ладонь помаду из белого флакончика, втирал ее в волосы, разделял их на косой пробор и аккуратно зачесывал назад, покрикивая через плечо:
— Осторожнее! Не вертись! Не запачкайся! Стой смирно!
Наконец мать спускалась в своем лучшем пальто, темно-коричневом, доходившем ей почти до лодыжек, задвигала засов на задней двери и запирала ее изнутри, ключ опускала в карман отца и говорила: «Носовой платок ты взял? А деньги?», даже не обернувшись к зеркалу, в которое отец, хотя и кончил приглаживать волосы, все равно то и дело поглядывал. Потом они выходили через парадную дверь.
Парадной дверью они пользовались только в таких случаях, и отец, чувствуя на себе взгляды из окон по ту сторону улицы, тщательно ее запирал, дергал для проверки и прятал ключ в тот же карман, где уже лежал ключ от черного хода.
— Не понимаю, чего мы ее запираем? — говорил он матери. — Что у нас можно украсть?
— Просто удивительно, сколько всего могут отыскать воры, если уж войдут в дом, — отвечала мать, оглядывала окна, проверяя, все ли в порядке, и они выходили на улицу.
Колин вел Стивена, а мать под руку с отцом шла сзади. Время от времени они делали ему замечания: «Поднимай ноги выше! Не шаркай! Вынь руки из карманов. Пора тебя подстричь. Теперь понятно, почему на тебя ботинок не напасешься!» А если они старались идти аккуратнее, сзади слышалось: «Ну что ты еле ноги волочишь? Иди быстрее. Мы сейчас вам на пятки наступим».
Они неизменно шли через поселок к Парку, и отец обязательно окликал всех встречных, даже если знал их только в лицо: «Добрый день, Джек, добрый день, Майк!», — а они нередко глядели на него с недоумением, но кивали в ответ.
— Этого парня на прошлой неделе поймали в шахте со спичками, — объяснял он матери, а она говорила:
— Этого? Ты что-то путаешь. Он водит грузовик.
— Нет-нет, — говорил отец. — Он шахтер, я его хорошо знаю, — и оглядывался, но редко продолжал спорить.
В Парке они неторопливо гуляли по дорожкам, которые вели к качелям и декоративному пруду. Вокруг, нередко с детскими колясками, прогуливались другие семьи или, если день был сухой, располагались на траве — мужчины спали, женщины сидели выпрямившись, вязали и переговаривались друг с другом, а дети играли возле качелей.
— Никаких качелей в воскресенье, — говорил отец, стоило Стивену поглядеть в ту сторону. — Не сходи с дорожки и не пачкай ботинок.
Обычно на обратном пути Стивен начинал проситься на руки, он хныкал, дергал отца за руку и канючил:
— Пап! Возьми меня!
А отец говорил:
— Сам пойдешь. Какая же это прогулка, если тебя будут таскать на руках. Да я бы тогда не стал надевать хороший костюм.
Однако он брал его за руку, и Стивен повисал между ним и матерью, а Колин шел впереди всех или, если уставал, то сзади. Отец по временам оглядывался и покрикивал:
— Да иди же! Чего ты отстаешь, — и добавлял, обращаясь к матери: — Лошадь на поводу тащить и то легче.
Когда они подходили к двери, отец отпирал ее, мать входила первой, брала чайник, ставила его на очаг и только тогда снимала пальто. Отец разгребал золу, подкладывал уголь, а потом тоже снимал пальто, подходил к столу, на котором уже были расставлены чашки, и помогал заваривать чай.
Зимой воздушные налеты возобновились и к ним приехал пожить его дед. Это был невысокий щуплый человек с прямой спиной и густыми седыми волосами, которые он, как и отец, стриг по-мальчишески коротко. Глаза у него тоже были светло-голубые, и кожа вокруг них собиралась в смешливые морщины.
— Ну и большой же у тебя парень, Гарри, — говорил он, брал Колина за локоть, притягивал к себе и щупал его бицепсы.
Он сажал Стивена на колени и напевал дребезжащим голосом:
— Ну-ка, ну-ка, догони меня, у меня есть пенни для тебя.
— В каком кармане? — спрашивал Стивен и принимался его ощупывать.
— Э-эй, Стив, — говорил старик. — Да ты такой же шустрый, как твой отец.
Последнее время дед жил у брата отца, но брата призвали в армию, и он приехал к ним. Во рту у него было всего два зуба — один вверху, другой внизу, — и мать через несколько дней повела его к зубному врачу.
— В прошлый раз они мне весь рот изуродовали, — сказал он.
Вернулся он совсем без зубов.
— Будут готовы через полмесяца, — сообщил он отцу. — А как мне до тех пор обходиться?
— Ничего, папаша, — сказал отец. — Будем тебя пивом отпаивать.
— Пиво, — сказал он. — Сколько я на свете живу, пиво еще никому пользы не приносило.
Когда начинали выть сирены, он забирался под стол и сидел там, куря трубку. Старое бомбоубежище давно заменили другим — из кровельного железа. Такие бомбоубежища имелись теперь в каждом огороде, но многие были залиты водой или забиты мусором, и никто ими не пользовался.
— Да не боюсь я их, — отвечал он, когда отец уговаривал его пойти в чулан под лестницей. — Я никаких бомб не боюсь.
Он сидел под столом, вытянув ноги, пригнув голову, и посасывал трубку. А если отец и мать начинали уговаривать его вместе, он становился на четвереньки или ложился на бок и хватался за ножку стола.
— Вы идите, идите туда, — говорил он. — А мне и тут хорошо. Что я им за объект такой?
А позже, когда ему сделали зубы, он зажимал трубку между ними и сидел под столом с неподвижной улыбкой на лице.
Зубы были крупные и очень белые, и он теперь часто сидел на крыльце, чтобы не пропустить мистера Шоу, или миссис Шоу, или миссис Блетчли и улыбнуться им, чтобы они сказали:
— Да вы на двадцать лет помолодели, мистер Сэвилл.
— Так уж и помолодел, — отвечал он и в этот день, и на следующий, и на следующий.
Перед сном он вынимал зубы, чистил их под краном, опускал в банку с водой, уносил к себе в комнату и ставил на стул у кровати. Он спал в той же комнате, где прежде спал солдат, и на той же кровати, а Стивена оттуда перевели в комнату Колина.
Дед всегда ходил в костюме. Костюм был синим, он был великоват ему — рукава съезжали на пальцы, брюки складками ложились на башмаки. Каждый вечер он вешал его на плечики, брюки снизу, пиджак сверху, и иногда, прежде чем лечь, звал мать:
— Элин! Элин! Поди сюда, повесь мой костюм, — и нетерпеливо переминался с ноги на ногу, пока она не приходила и не вешала плечики на крюк, вбитый в стену.
Колин сквозь стенку слышал, как она говорила:
— Повесили бы на спинку стула, ничего с ним не случилось бы.
— Нет уж! Я его двадцать лет ношу, Элин.
— Вы его купили два года назад, — говорила она.
— И вовсе нет, — отвечал он. — Я его давно купил.
Особой его симпатией — из-за костюма — пользовался мистер Риген, и мистер Риген платил ему тем же.
— Хороший костюм — это хороший костюм, — говорил мистер Риген. — И в этом смысле его ни с чем и сравнить нельзя.
А когда дед показывал мистеру Ригену свои зубы — улыбался или даже вынимал их, — мистер Риген говорил:
— Хорошие зубы любое лицо делают красивей, вот что я вам скажу. Это, — добавлял он, — я ведь говорю человеку, чье лицо, извините за выражение, и так хоть куда.
А когда они вместе ходили гулять — в Клуб или на огородные участки, посмотреть, как работают Колин и его отец, — он говорил:
— Вот я хожу с вашим папашей, Гарри, и у меня одна забота: не допускать до него женщин. — И когда отец смеялся, он добавлял: — Погодите, вернется он к вам с прогулки женатым.
Бабушка умерла задолго до рождения Колина, и дед много лет жил вдовцом.
— Он про все говорит «двадцать лет назад», — объясняла мать, — потому что столько времени прошло со смерти его жены.
— Да, — говорил дед. — Прекрасная была женщина. Таких больше нет.
В то время Колин не так уж редко видел и родителей своей матери. Они жили в соседнем поселке, в четырех милях от них, и по субботам мать иногда ездила к ним на автобусе и брала с собой его и Стивена. Они жили в длинном одноэтажном доме, разделенном на крохотные квартиры, предназначенные для стариков. В каждой квартире была одна комната с альковом, где за занавеской стояла железная двуспальная кровать, и еще альковом поменьше, который служил кладовой. Парадная дверь выходила прямо на тротуар, а задняя — в крохотный дворик с уборной и загородкой для угля. Иногда по субботам отец накладывал уголь в мешок и привязывал мешок поперек рамы велосипеда. Они с Колином шли пешком четыре мили, толкая велосипед, и высыпали уголь в загородку.
— Мне его продают со скидкой, — говорил отец. — Если бы они сами его покупали, выходило бы дороже.
А когда они возвращались домой и Колин сидел на раме между отцовскими руками, отец говорил:
— Мать тебе рассказывала, чем занимался ее отец, когда я с ней познакомился?
— Он был фермером, — объясняла мать.
— Арендатором, арендатором, — почти кричал отец. — И держал свиней. Свиней разводил. И чтобы близко подойти к этому дому, надо было по уши влюбиться.
Отец откидывался на спинку стула и хохотал. Мать сердилась, а он добавлял:
— Ты же знаешь, девочка, я тебя люблю. Я бы на тебе все равно женился.
— Мы не только свиней держали, — говорила мать, повернувшись к Колину и не глядя на отца. Щеки у нее краснели, глаза становились большими.
— Но пахло-то одними свиньями! — Отец хохотал и бил себя по колену, а если курил, то начинал кашлять, поперхнувшись дымом. — Хлопни меня по спине, — говорил он. — Сильнее, сильнее. Я тебя прощаю.
Родители матери были, пожалуй, даже старше деда. Их фамилия была Суонсон — вышитая на куске материи, она висела над каминной полкой в их комнате: «Эдит и Томасу Суонсонам в день их Золотой Свадьбы», а ниже была вышита дата и более мелкими буквами: «От Гильдии Стариков». Надпись окружала каемка из розовых цветов, между которыми раскрывали крылья синие птички.
Дедушка Суонсон либо сидел у огня, горевшего в высоком кирпичном камине почти на уровне его колен, либо лежал на кушетке у задней стены. Когда они, постучав, входили, он обычно оставался там, где был, и только приподнимал голову. Бабушка говорила: «Том, нас пришла навестить Элин», он медленно переводил на них темные глаза и снова опускал голову на кушетку или на спинку кресла. У бабушки было маленькое круглое лицо, и казалось, будто она все время надувает щеки, всегда ярко-красные, особенно зимой. Когда она улыбалась, ее белесоватые, узкие, как щелочки, глаза совсем исчезали. Она часто путалась, называла Колина Стивеном или именем какого-нибудь другого внука, которого он в жизни не видел.
— Хочешь конфетку, Барри, или яблочко? — спрашивала она, а когда он не отвечал, взглядывала на него поблескивающими серыми глазками и говорила: — Уж и не разберу, который это из них.
Иногда мать уходила от бабушки в слезах. Рано или поздно бабушка говорила:
— Вот состаришься, а от родных дочек и помощи никакой.
А мать говорила:
— Но я же вам помогаю, мама. Гарри привозит уголь, я приезжаю и обстирываю вас.
Иногда мать бралась за уборку. Дед и бабушка сидели у огня, а она надевала фартук, который захватывала с собой, наливала ведро под краном в углу и мыла пол. Потом мыла приступку у входной двери и каменную плиту под ней, терла ее желтым камнем, и, высохнув, плита отливала тусклой желтизной. А мать уже мыла заднюю дверь, перестилала двуспальную кровать, полировала латунные прутья и шишки, брала у соседки стремянку и протирала маленькие окна за плотными занавесками. Стирала она в сарае за домом. Колина она внутрь не пускала: ей было стыдно, что кто-нибудь увидит, как она берет воду из колонки и хлещет бельем по камню. И пока она стирала, он играл на пыльной площадке между сараем и домом или сидел у огня рядом с бабушкой. Развесив белье, мать возвращалась и говорила:
— Когда высохнет, скажите миссис Тёрнер, она снимет.
— Как-нибудь справимся, — говорила бабушка.
— Мне пора. Надо еще поспеть с ужином, а Гарри скоро вернется с работы, — добавляла мать.
— Не беспокойся, — говорила бабушка. — Как-нибудь обойдемся.
А когда они возвращались домой и отец замечал, что она плакала, он говорил:
— Да не обращай внимания. Просто они такие. Делай, как считаешь нужным.
— Хоть бы раз спасибо мне сказала. Хоть бы раз, — говорила мать.
— Ну, так и не жди, что скажут, — говорил он.
— Если бы я совсем ничего не делала, вот тогда пусть бы жаловалась.
— Угу. Тогда бы ей туго пришлось.
Когда она плакала, отец отводил глаза в сторону.
В автобусе на обратном пути кондуктор иногда спрашивал:
— Случилось что-нибудь, голубушка? — и наклонялся к ней, держась за спинку сиденья.
Она вытирала глаза, сморкалась и открывала кошелек.
— Это все старость с людьми делает, — говорила она, а иногда говорила: — Ничего от других не жди, и тебе всегда будет спокойно.
Тем не менее на рождество и ко дню рождения она возила родителям подарки, а иногда пекла для них пирог.
— Ради такого дня надо прощать, — говорила она, когда отец сердился, а он отворачивался и говорил:
— Пусть-ка попробуют, каково им без тебя придется. Живо хвосты подожмут.
В дни рождения, а иногда и по субботам она готовила для них обед. Дедушка Суонсон лежал на кушетке, глядел в потолок, и жиденькие прядки совсем белых волос свисали на щеки, а бабушка сидела в качалке у огня и говорила:
— Хватит и двух картофелин. — Или еще: — Нам бы этой капусты до конца недели хватило, Элин, а ты ее всю извела.
— Я вам еще куплю, мама, — отвечала мать. — Сегодня же.
— Ну, раз у тебя есть деньги, так конечно.
Иногда мать нагибалась над кастрюлями и утирала навертывающиеся на глаза слезы, но бабушка словно ничего не замечала.
— С тобой никакого терпения не хватит, — говорил отец, когда они возвращались, сердился, стучал кулаком по столу. И тут же добавлял: — Нет, нет, ты сиди. Я тебе чай приготовлю. Как раз успею до работы.
Дедушка Сэвилл воевал в первую мировую войну. Он сидел с газетой в руках, откинув голову, сдвинув очки в черной оправе на кончик носа, и разглядывал фотографии. Текста он никогда не читал.
— Погляди-ка, Колин, — говорил он и показывал ему фотографии то сгоревшего здания, то танка с разбитой башней или валяющегося без гусениц в яме. — Теперь воюют не так, как прежде. Тогда солдаты дрались лицом к лицу. А теперь просто бомбят женщин и детей или издалека бьют снарядами по людям, которых в глаза не видели.
Когда перед сном Колин уже надевал пижаму и мать кончала осматривать его уши и шею, дед говорил:
— Ну-ка, малый, присядь на пять минут.
Мать говорила недовольно:
— Он еще не прочитал молитву и заснет поздно.
Но дед отвечал:
— Ты и до трех не сосчитаешь, Элин, как я уже кончу.
Или, когда он уже лежал в постели, погасив свет, дед входил и говорил:
— Не спишь, малый? Меня они тоже спать отправили. Сидят там, радио слушают. Нынче люди что хочешь будут слушать. В одно ухо влетает, в другое вылетает.
Деду довелось побывать в России. Иногда он окликал мистера Ригена на улице или звал его со двора:
— Заходите, заходите, хозяйка нам чайку заварит. — А когда мистер Риген входил и садился у стола, аккуратно поддернув брюки, дед говорил: — Я вам рассказывал про то, как я был в России?
Мистер Риген отвечал:
— Да как будто рассказывали.
А дед говорил:
— Мы явились царя спасать. Нет, вы только подумайте! Я всю жизнь был социалистом, а меня призывают в армию, чтобы я стрелял в рабочих.
— Война — неприятная штука, — говорил мистер Риген, — даже в самые лучшие времена. — Он был только на год старше последнего призыва, и, когда дед кончал говорить, мистер Риген добавлял: — Служащий на шахте, вроде меня, важен для добычи угля не меньше, чем любой шахтер, если не больше. Но вы думаете, мне дают броню? Нет, не дают. На днях подходит ко мне один из владельцев и говорит: «Нам придется взять вместо вас пенсионера или кого-нибудь из конторщиц». А ведь, чтобы занимать мое место, нужен многолетний опыт.
— Вы когда-нибудь снег видели? — спрашивал дед.
— Снег? — говорил мистер Риген.
— Топаешь по снегу день за днем и проваливаешься вот по сих пор.
— Да-да, конечно, сухарик, — говорил мистер Риген, когда мать ставила перед ним чашку. — Вы очень любезны. А, имбирные! Самые мои любимые.
— Москва! — говорил дед. — Высадились в Севастополе, в Крыму, протопали четыреста миль и столько же обратно. Волки? С кем мы только не дрались. Даже с женщинами.
— С женщинами? — говорил мистер Риген и прихлебывал чай.
— Они приходили по ночам, когда все спали — с палками, с лопатами, — и старались захватить припасы, — говорил дед. — Да одна женщина за секунду-другую десяток мужчин в клочья разорвет.
— Что верно, то верно, — говорил мистер Риген. — Если бы воевали женщины, так любая война кончалась бы вдвое быстрее, а то и раньше.
— Когда мы отплыли, нас обстреляли из орудий.
Мистер Риген кивнул и сунул в рот сухарик.
— Наступали со всех сторон. Севастопольские высоты, — говорил дед. — Мы пошвыряли с корабля все, что могли, и набрали полный трюм женщин и детей. Аристократы. Сотни и сотни. Когда мы пришли в Стамбул, их не пускали на берег, пока мы их не обезвошили.
— Стамбул? Это ведь в Турции? — говорил мистер Риген.
— Накачали в трюмы дезинфицирующей жидкости, и они в ней уже не знаю сколько часов плавали. Когда я сошел на берег, одна женщина давала мне золотое ожерелье, чтобы я на ней женился и взял ее в Англию.
— Предложение очень соблазнительное, — говорил мистер Риген и закидывал ногу на ногу.
— От них отбою не было. Бери все, что душе угодно. Они ничего не пожалели бы, только помани.
— Колин, — говорила мать, — возьми-ка ведро и сходи за углем.
— Малому вреда не будет, Элин, послушать, откуда явились его предки, — говорил дед.
— Ирландская революция, — говорил мистер Риген, — была совсем такая же.
— Значит, вы там воевали, мистер Риген? — говорил дед.
— Нет-нет. Но моего дядю убили в Белфасте.
— A-а, «Черные повязки», — говорил дед.
— Да, да, — говорил мистер Риген и качал головой.
Если отец возвращался и заставал их за разговором, он говорил мистеру Ригену:
— А про гарем в Константинополе папаша вам рассказывал?
— Нет-нет, Гарри, вот про это он, по-моему, не упоминал, — говорил мистер Риген и подмигивал, а отец добавлял:
— Вы его ногу посмотрите. Ну-ка, папаша! — И дед вздергивал штанину и показывал длинный шрам на икре. — Во! — говорил отец. — Это ему стражники памятку оставили, когда он перемахнул через стену.
— Когда обратно лез, — говорил дед, улыбаясь новыми зубами.
— Когда обратно лез, мистер Риген, — говорил отец.
— Просто чудо, что я вообще без ноги не остался, — говорил дед и заливался смехом, а отец вставал и хлопал его по спине, чтобы он откашлялся.
Перед сном Колин читал две молитвы, которым его научила мать, когда он начал ходить в воскресную школу. Он стоял на коленях у кровати, положив голову на руки.
— Господи, благослови маму, папу и маленького Стива. И сделай Колина хорошим мальчиком. Аминь. — И потом: — Господи, защити нас на эту ночь, избавь от наших страхов, и пусть ангелы хранят наш сон до утренней зари. — Тут он добавлял от себя: — Боженька, дай мне сдать экзамен. Аминь, — прижимал голову к одеялу, повторял эти слова три раза и только тогда ложился.
К ним заезжал дядя. Он был такой же невысокий, как отец, с такими же белобрысыми волосами, голубыми глазами и даже с такими же усами, хотя был моложе. Он входил без стука и говорил:
— Элин! Как поживает самая наша любимая девушка?
У матери краснели виски, она отворачивалась к огню, к чайнику, заваривала чай, словно ждала его прихода, и говорила:
— Ты никогда не стучишься, прежде чем войти?
А он отвечал:
— Никогда, если прихожу в гости к любимой сестренке.
— К невестке, — поправляла она.
А он отвечал:
— Меня что же, не поцелуют по такому случаю?
Его призвали в армию, и он служил в авиации: обычно он приходил в форме, подсунув пилотку под погон на плече. Голубой грузовик с эмблемой военно-воздушных сил на кабине он оставлял за домами на пустыре. Он целовал мать в щеку, стискивал в объятиях, а потом становился спиной к огню, хлопал в ладоши и говорил:
— Ну, кто хочет поразмяться раунд-другой? — несколько секунд боксировал с воображаемым противником и продолжал, если никто ничего не говорил: — А как насчет чашки чая? — И тут же добавлял: — Эй, Стивен! Эй, Колин! Поглядите-ка, что у меня в кармане.
Обычно он приносил им по шоколадке или же совал им в руки по монете.
— Не говорите мамаше, откуда они у вас, не то она их заберет. — И добавлял еще громче. — Смотрите, чтобы она не услышала!
Приходил отец, серьезным голосом говорил:
— Как поживаешь, Джек? — и пожимал ему руку, прежде чем сесть к столу, а иногда добавлял: — Чаем тебя хоть напоили?
— Закипает, Гарри, — объявлял он, снова хлопал в ладоши и поглядывал на мать. — Жалко, что я не шахтер, честное слово. Сражаться на внутреннем фронте, чего уж лучше.
— Да я с тобой хоть сейчас поменяюсь, — говорил отец. — Раскатываешь на грузовике и горя не знаешь. Покрышка лопнет — вот и весь твой риск.
— Не беспокойся. Они к нам на аэродром каждую ночь наведываются, — говорил дядя.
— Что-то не похоже, чтобы он беспокоился, а, папаша? — говорил отец, а дед качал головой и спрашивал:
— Ты нам чего-нибудь привез, Джек? Что там у тебя в грузовике?
Они шли к грузовику и заглядывали внутрь. Иногда дядя говорил:
— Давай, Колин, лезь сюда. — И они усаживались на широком сиденье, пахнущем бензином и автолом. Стивен пристраивался у Колина между коленями, а мать говорила:
— Ты далеко их не вози, Джек. Скоро обед.
— Только по поселку прокачу, — отвечал дядя, перекрикивая рев мотора, и газовал, чтобы он скорей прогрелся, будоража обитателей соседних домов.
Он всегда гнал машину. Они трогались рывком под визг шин и точно так же останавливались. Из-за маленького роста дядю снаружи почти не было видно. Он подкладывал под себя подушку, но все равно привставал, чтобы лучше видеть дорогу, подтягивался за руль и перед каждым поворотом говорил:
— Ну-ка, ну-ка, что там такое?
А если кто-нибудь оказывался на дороге, он кричал в окошко:
— Нет, вы только посмотрите, ходить не умеют, не то что ездить!
— Как он был Полоумный Джек, — говорил отец, когда они возвращались, — так полоумным и остался.
— Что есть, то есть, — говорил дядя, а если отец спускался вниз, вздремнув перед ночной сменой, говорил. — Только почему вы ложитесь и встаете не как люди? Я ведь к вам еду и думаю: ты на работе, а моя красавица-невестка одна скучает.
— Вот и хорошо, что я по ночам работаю, — говорил отец, помаргивая, садился за стол и смотрел на брата.
За несколько недель до экзаменов Колин опять начал писать по вечерам сочинения и решать примеры, и отец сидел за столом напротив, исправлял ошибки, а иногда, если уходил в ночную смену, оставлял листы на буфете и поправлял утром.
— Чему равна десятая часть трех десятых? — спрашивал он, когда Колин утром спускался в кухню. — Лишнего времени соображать у тебя не будет. Как пишется «гиппопотам»?
Накануне экзаменов ему и остальным ребятам, которые должны были их сдавать, выдали в школе новую ручку, новый карандаш и новую линейку, и они отнесли их домой. Колин лег спать пораньше, и мать зашла к нему в комнату и подоткнула одеяло, а отец заглянул к нему, собираясь на работу, и сказал:
— Думай о чем-нибудь приятном. Ну, о каникулах, что ли. И сразу заснешь. Лишний час сна до полуночи стоит четырех утром.
А когда отец вышел, пришел дед и сказал:
— Спишь, малый? Купи себе чего-нибудь, — и сунул ему в руку монету. Когда дверь закрылась, он зажег свет и увидел, что это полкроны.
Он никак не мог уснуть. Он слышал, как отец выкатил велосипед во двор и окликнул миссис Шоу, которая вышла взять угля. Потом, словно всего через несколько минут, он услышал, что дед ложится в постель, напевая, как он часто делал в последнее время, «Скала Веков, прими меня» — мало-помалу его голос перешел в неясное бормотание и оханье. Еще позже он услышал, как мать разгребает золу, задвигает засов черного хода, поднимается к себе в спальню, что-то говорит Стивену, которого на эту ночь она взяла к себе, и снова спускается, чтобы принести ему воды. Он не спал всю ночь — переводил пятые доли в десятые, а десятые доли фунта в шиллинги и пенсы, повторял про себя по буквам: «окружность», «кенгуру» — и все слова, которые отец заставил его выучить наизусть. Он все еще пытался перевести доли ярда в футы и дюймы, когда вдруг почувствовал, что мать трясет его за плечо. Она говорила:
— Пора вставать, Колин. Я сейчас согрею тебе воды умыться.
Когда он сошел вниз, его одежда висела на ручке кресла у огня — брюки выглажены, носки аккуратно заштопаны. На краю очага стояли начищенные ботинки. Мать поднялась пораньше, чтобы выгладить его рубашку, и она висела на плечиках перед очагом.
— Я почистила тебе ботинки, чтобы ты не запачкал рук ваксой, — сказала мать.
В раковине стоял тазик с горячей водой, и над ним поднимался пар.
Чуть позже вернулся с работы отец. Он вошел, катя перед собой велосипед. Плечи его пальто и кепка были мокрыми, за колесами велосипеда по полу протянулся темный след.
— Только сейчас начался, — сказал он. — Холодище такой, что вот-вот снег пойдет. — Он снял пальто, встряхнул его и добавил:
— А у тебя есть листок, чтобы положить в карман? Для черновика. — Он пошел к раковине, вымыл руки, потом вырвал листок из конторского блокнота и аккуратно сложил. — Его линейка и ручка тут? — спросил он у матери, взял их с полки, осмотрел перышко и сказал: — Хлипкое какое-то. Нажми разок, и сломается. У нас есть для него запасное, Элин?
— Им там все дадут, — сказала она. — Пусть себе спокойно собирается.
— Ну да, конечно, — сказал отец. Он стоял у стола, поглаживая ладонью спинку стула. Потом посмотрел на него, на мать и обвел кухню беспомощным взглядом.
— Помни, что я тебе говорил, — сказал он. — Сначала подумай, а уж потом пиши. Начеркаешь лишнего, и тебе снизят отметку.
В кухню вошел Стивен, отец подхватил его на руки и сказал:
— Ну вот. У нас что, еще один ученый в доме растет? — Стивен вырывался, тянулся к столу, где стояла его овсянка. — Если он будет решать примеры не хуже, чем ест кашу, все будет в порядке, — добавил отец. — Беспокоиться нам будет нечего.
Дед сошел вниз в пижаме и сказал:
— Где мой чай? Мне сегодня чаю никто не принес, Элин.
А когда мать ответила:
— У нас ведь сегодня есть дела поважнее, — он поглядел на стол и сказал:
— Овсянка! От нее мозги хорошо работают.
— Ты что же, не будешь ее есть, Колин? — спросила мать.
— Нет, — сказал он, — не хочется.
— Съешь чего-нибудь, — сказала мать. — На пустой желудок много не напишешь.
— Это у него нервы, — сказал отец. — У меня у самого такое чувство, когда я выхожу в ночную.
— Ну, пусть возьмет яблоко, — сказала мать. Она глядела на него и стискивала руки. — Как только кончится, он сразу захочет есть.
Он взял ручку, карандаш и линейку, сунул в один карман сложенный листок, а в другой положил яблоко, которое дала ему мать. Когда он надел свой черный габардиновый дождевик и кепку, мать сказала:
— Нет, не сюда. Сегодня тебе можно выйти через парадный ход.
Она пошла за своим пальто, говоря через плечо:
— Я тебя провожу до автобуса.
А он сказал:
— Нет, я лучше один.
— Ну, как хочешь, — сказала она.
Она открыла дверь, держа Стивена на руках, и сказала:
— Стив, а ты поцелуешь его на счастье?
Стивен замотал головой, брыкнул ее и отвернулся, а отец сказал:
— Ну, желаю удачи, малый. И помни, что я тебе говорил.
— Угу, — сказал Колин и потряс руку, которую ему протянул отец, смущенно, даже покраснев немного.
Было еще совсем темно. Моросил дождь. Дальше по улице миссис Блетчли и миссис Риген уже шли к автобусной остановке с Блетчли и Майклом Ригеном. Из их ранцев торчали оранжевые ручки и карандаши.
— Ты ничего не забыл? — спросила мать. — Деньги на обед?
— Нет, — сказал он, не глядя на нее.
— Не забывай про вчерашний день, — сказал дед. — Надо будет, и еще найдется.
Когда он обернулся на углу, мать стояла в дверях. Она помахала ему, и он помахал в ответ, а потом свернул за угол и быстро зашагал к остановке.
Там в полутьме стояли толпой ребята, их матери и двое-трое мужчин с лицами, еще измазанными угольной пылью. Повсюду виднелись оранжевые линейки, ручки и карандаши.
— А ластик у тебя есть? — спросил Блетчли.
— Нет, — сказал он.
— Без ластика нельзя. — Блетчли вынул из кармана резинку. — Этот вот для карандаша, а этот для чернил, — сказал он, показав сначала один конец, а потом второй. — А промокашка у тебя есть?
— Нет. — Он мотнул головой.
Блетчли открыл ранец и вынул сложенную пополам промокашку. У Ригена в ранце лежала такая же промокашка и такая же резинка. А кроме того, мешочек с конфетами, шоколадка, апельсин, яблоко и пузырек с чернилами.
— У тебя и чернил нету? — сказал Блетчли. — Ты же ничего написать не сумеешь!
Подъехал автобус, в мокром асфальте блеснуло отражение замаскированных фар. Первым влез Блетчли. Он поцеловал мать, и она стояла у двери, пока он поднимался по ступенькам. Их было двенадцать ребят, и, когда все сели, матери и двое-трое шахтеров встали у окон — женщины на цыпочках — и махали им. Впереди села учительница, и автобус тронулся.
Светало, и шофер выключил покрашенные синей краской лампочки. По стеклам ползли мелкие капли, Живые изгороди по обеим сторонам шоссе поникли от сырости, на краю луга жались друг к другу коровы. Стекла скоро запотели, и, чтобы смотреть наружу, надо было все время протирать их. Блетчли сидел впереди, поставив ранец на колени — белая мазь на внутренней их стороне еще не стерлась. Риген, который сидел на одной из задних скамей, заплакал. Его худое лицо сморщилось, лоб стал сине-белым, а щеки — малиновыми.
В конце концов учительница поднялась, прошла по проходу и наклонилась к нему, а когда они остановились в другом поселке и в автобус влезли еще ребята в мокрых от дождя пальто, учительница вышла и принесла Ригену кружку воды из соседнего дома. Когда они тронулись, он рыдал у себя на сиденье, так и не сняв ранца, его грудь содрогалась от внезапных спазм, в горле что-то булькало.
— Его отец говорил, что он получит хорошую трепку, если не сдаст, — сказал Блетчли, усаживаясь рядом с Колином. — А тем, кто ревет, сбавляют десять баллов. Они глаз с тебя не спускают. Ты это знаешь? — добавил он, наклоняясь через проход к Ригену. — Тебя, наверное, уже записали в несдавшие, Майк.
Школа, куда их привезли, была кирпичной, с высокими окнами в зеленых рамах и с асфальтовым двором. Напротив поднимались арки железнодорожного виадука, а по другую сторону двора бежал ручей, запруженный пустыми канистрами, рваными матрацами и ржавым железным ломом.
У стены здания укрывались от дождя кучки ребят, все с оранжевыми ручками и линейками. Двери школы еще не открыли. Их нижние филенки были испещрены отпечатками грязных подошв.
У ворот остановился еще один автобус, во двор вошли еще ребята, растерянно глядя вокруг — на школу, на арки виадука, по которому паровоз тащил товарные вагоны, выбрасывая черный дым и клубы белого пара, заволакивавшие двор.
— Чего им понравилось это место? — спросил Блетчли, и Риген помотал головой.
— Каждый год выбирают другую школу, — сказал кто-то. — На следующий год, может, придет очередь вашей школы, только тогда вы потеряете все льготы.
— Тоже мне льготы, — сказал Блетчли. — А уж для тех, кто тут живет, и подавно.
Светлые, коротко остриженные волосы мальчика, который заговорил с ними, были аккуратно причесаны на косой пробор. На нем была белоснежная рубашка и вязаный галстук в красную и синюю полоску. Авторучка торчала из нагрудного кармана куртки, на котором была нашита эмблема его школы — красная роза на белом фоне, а чуть ниже свиток с надписью «En Dieu Es Tout»[2].
Блетчли, не спуская глаз с серебряного колпачка авторучки, сказал:
— Значит, ты уже здесь бывал? — Он так и не поглядел на его лицо.
— Не здесь, — ответил мальчик. — А экзамен я уже один раз сдавал. Это мой последний шанс. — Он засмеялся и сунул руки в карманы.
— А как их сдают? — спросил Блетчли, и Риген тоже повернулся к нему — он все еще время от времени судорожно всхлипывал.
— Не в экзаменах дело, — сказал мальчик. — А просто их сдает очень много народу. И уж тут как кому повезет.
— Как повезет? — сказал Блетчли и кивнул, словно в этом отношении он мог быть совершенно спокоен. Его лицо начало надуваться, глаза выпучились.
Позади них открылась одна из зеленых дверей, и из нее вышла женщина с колокольчиком. Она посмотрела на небо, потом на виадук и начала звонить — почти одновременно с другой учительницей, которая вышла из второй двери.
— Мальчики в эту дверь, девочки в ту, — сказала она. — Идите в класс с вашим инициалом.
Школа была построена квадратом, и классы размещались вдоль каждой стороны. Он вошел в класс с надписью на двери: «Фамилии от С до У». Там между доской и партами стояли мальчики, один был из их школы, но он знал его только в лицо. Маленькая седая женщина сказала:
— К партам приколоты листки с вашими фамилиями и экзаменационными номерами. Найдите свою фамилию, сядьте, сложите руки на груди и не разговаривайте.
На доске за ее спиной было написано мелом: «Не разговаривать!»
Его фамилия и номер были приколоты к первой парте у двери. Рядом лежала розовая промокашка, чернильница в металлическом кольце была полна. Он поднял крышку парты, заглянул внутрь, потом разложил на парте линейку, ручку и карандаш и скрестил руки на груди.
Мальчик со светлыми волосами сел за парту у стены напротив, снял колпачок с авторучки, осмотрел перо, надел колпачок и поставил ручку в стаканчик на парте. Сбоку от него за тремя большими окнами виднелся двор и арки виадука. По стеклам ползли капли, оставляя змеящийся след.
Учительница прочла фамилии по списку, отмечая галочкой присутствующих, а потом прошла по классу, собирая записки, что им позволено сдавать экзамены. Его записку подписал отец.
Вернувшись к своему столу, она взяла печатный лист и прочитала вслух правила сдачи экзаменов. В класс принесли линованную бумагу. Перед ним на парту положили несколько двойных листов, вложенных один в другой, точно тетрадь. На первом было напечатано: «Фамилии не пишите. Поставьте свой экзаменационный номер и больше ничего на этой странице не пишите».
В классе наступила тишина. Ее нарушало только позвякиванье молочных бутылок в коридоре и шум грузовиков на шоссе. Иногда по виадуку проходил товарный поезд.
Некоторые мальчики писали быстро, не поднимая головы, наклоняясь над партой так низко, что почти касались лбом бумаги, другие смотрели на потолок и на сидящих вокруг, по нескольку раз макали ручки в чернильницу, водили пером по краю, чтобы сбросить лишние чернила, и начинали медленно писать, но через минуту снова выпрямлялись и глядели в окно.
У стены напротив мальчик со светлыми волосами писал, далеко отодвинув стул, небрежно вытянув руку, словно готовясь оттолкнуть парту, встать и выйти из класса. Он держал авторучку в левой руке, писал, слегка наклонив голову вправо, и время от времени взглядывал на вопросник. Колпачок авторучки, надетый теперь сверху, поблескивал, отражая свет из окна. Он слегка выпячивал губы, словно пожевывал щеки изнутри.
Мальчик рядом писал на промокашке свою фамилию, налегая грудью на парту и прижимаясь щекой к ее крышке. Он обмакивал перо в чернила и ставил точку над точкой, пока не получалась буква. Он приподнял голову, полюбовался результатом, снова прижался щекой к парте и начал окружать свою фамилию сложными завитушками.
Через некоторое время учительница сказала:
— Осталось полчаса. Сейчас вы должны отвечать на вопрос восьмой или девятый.
Девятый вопрос занимал целую страницу. Ему предлагалось переписать рассказ о кораблекрушении, расставляя знаки препинания и исправляя орфографические ошибки. Самый последний вопрос не занимал и двух строчек: «Сколько слов вы можете составить из слова „кинематограф“?»
Несколько мальчиков перестали писать, скрестили руки и смотрели на учительницу.
— Если вы уже кончили, — сказала учительница, — то не тратьте времени напрасно. Прочтите еще раз ответы и посмотрите, нет ли у вас ошибок. Я уверена, что не у всех все правильно.
Наконец она сказала:
— Через две минуты я попрошу вас положить ручки. Допишите фразу и промокните страницу.
Когда они положили ручки, она сказала:
— Пока я буду собирать листы, не разговаривайте. И не вставайте, пока я не разрешу.
На площадке для игр к нему подошел мальчик со светлыми волосами и спросил:
— Ты на сколько ответил?
— Почти на все, — сказал он.
— Я только чуть-чуть не успел, — сказал мальчик. — По-моему, они были труднее, чем в прошлом году. Ну, да все равно.
В другом конце площадки Риген ел апельсин, а Блетчли — яблоко. Риген так и не снял ранца.
— Как твоя фамилия? — сказал мальчик.
— Сэвилл, — сказал он.
— А моя Стэффорд, — сказал мальчик. — Обе на «эс»!
Подошел Блетчли и спросил:
— Сколько у тебя получилось слов из «кинематографа»?
Он ответил: «Девятнадцать», и Блетчли сказал:
— Только и всего? А у меня — двадцать семь. «Монета» у тебя есть?
— Нет, — сказал он.
— А у меня тридцать четыре, — сказал Стэффорд.
— Тридцать четыре, — сказал Блетчли, и его лицо вокруг щек и носа стало красным. — А «ноги» у тебя есть?
— Есть, — сказал Стэффорд, держа руки в карманах. — И «нитка».
— «Нитка», — сказал Блетчли, багровея. — У меня она тоже есть.
Когда они вернулись в класс, им раздали вопросы по математике.
Всякий раз, когда Колин поднимал голову, он видел, что Стэффорд сидит все в той же позе — небрежно протянув руку к листку, словно не желая касаться парты, столь же небрежно наклонив голову набок, иногда взглядывая на какую-то точку прямо перед собой чуть повыше доски и сразу же возвращаясь к своим цифрам, которые он писал очень быстро. Когда он что-нибудь зачеркивал, то слегка взмахивал кистью, точно что-то стряхивая, и на мгновение наклонял голову вперед.
Время теперь шло быстрее. Несколько вопросов были связаны с переводом простых дробей в десятичные и десятичных в простые — примеры вроде тех, которые он решал дома, и, когда он кончил, у него хватило времени просмотреть еще раз всю работу, прежде чем учительница сказала:
— Положите ручки. Сядьте прямо. Ничего больше не трогайте. Работы оставьте на партах перед собой. Я их сейчас соберу.
Собрав работы, она добавила:
— Те из вас, кто будет обедать здесь, встаньте в очередь в конце коридора, а те, кто пойдет домой, выходят через главный вход.
— Ты примеры хорошо решаешь? — спросил Стэффорд, когда они стояли в очереди.
— Не очень, — сказал он.
— Десятичные дроби, — сказал Стэффорд. — Мы их в школе только начали проходить. В прошлом году было легче.
Когда они вошли в зал, Блетчли уже сидел там за столиком, что-то писал на бумажке, показывал мальчику, сидящему рядом, потом качал головой и тыкал в бумажку вилкой. Риген с ранцем за плечами стоял в конце очереди и рылся в карманах, ища деньги. Потом он подошел к женщине у двери и помотал головой. Она записала его фамилию и впустила его.
— После обеда проверка умственных способностей, — сказал Стэффорд. — В прошлом году был такой вопрос: «Без ног, а в землю уходит». Что это?
— Не знаю, — сказал он.
— Дождик. — Стэффорд засмеялся и откинулся на спинку скамьи. Он ел, как и писал, далеко отодвинувшись от стола.
— Ты все примеры решил? — спросил Блетчли, когда он проходил мимо.
— Да, — сказал он.
— Я кончил на полчаса раньше. Но мне не позволили выйти. А какой у тебя ответ в девятом? Восемьдесят четыре?
— Нет, — сказал он.
— Ну, так, значит, ты наврал, — сказал Блетчли и, поглядев на Стэффорда, пошел к двери.
После обеда он вышел погулять, а когда вернулся, двор был полон ребят. Риген сидел на крыльце и ел яблоко. Блетчли стоял рядом с ним, прислонясь к стене, и ел апельсин.
Когда они вошли в класс, учительница, которая уже стояла у стола, сказала:
— Некоторые мальчики писали на промокательной бумаге. Это запрещено. Вся исписанная промокательная бумага заменена на новую, и у тех, кто станет писать на ней, пусть совершенно посторонние вещи, будут серьезные неприятности.
Им раздали листки с вопросами — после каждого вопроса было пустое место, чтобы вписывать ответ.
Учительница поставила сумочку на стол, сняла часы с запястья и положила их перед собой. Пока они читали вопросы, раздавался скрип пододвигаемых стульев, а иногда кто-нибудь охал или вздыхал, но потом в классе стало тихо. Снаружи во дворе залаяла собака, по виадуку опять прошел поезд. Подхваченные ветром клубы пара заволокли окна.
Первый вопрос был таким: «Докончите этот ряд: 7, 11, 19, 35…» А второй таким: «Если человек в пустыне пройдет пять миль на северо-северо-восток, пять миль на юго-юго-восток, пять миль на восток-юго-восток, пять миль на запад-юго-запад, пять миль на юго-юго-запад, пять миль на северо-северо-запад, пять миль на запад-северо-запад, пять миль на восток-северо-восток, то: 1) в какую точку он придет и 2) опишите, но не рисуйте, какую фигуру образуют его следы на песке».
Возможно, он увидел, как Стэффорд отвечал именно на этот вопрос — он водил ручкой по запястью, поглядывал на учительницу за столом и, лизнув палец, стирал чернила с кожи. Еще был вопрос: «Какая фигура здесь лишняя и почему — прямоугольник, параллелограмм, круг, ромб, треугольник, квадрат?»
Его сосед снова прижался щекой к парте и, прикусив язык, выводил ручкой какую-то фигуру прямо на крышке. Глаза у него были скошены к самому носу. Мальчик в следующем ряду нахмурился и смотрел на учительницу из-под насупленных бровей.
Наконец учительница сказала:
— Осталось двадцать минут. Сейчас вы должны отвечать на восемнадцатый или девятнадцатый вопрос, если отвечаете по порядку.
Сзади кто-то охнул, а потом еще кто-то засмеялся.
Когда работы были собраны, им разрешили выйти во двор.
— Знаешь, что написал мальчик рядом со мной? — сказал Стэффорд. — На вопрос про человека, который ходил по пустыне? — Он шагал рядом с ним, сунув руки в карманы, пристукивая каблуками. — Против «в какую точку он придет?» он написал: «Психованный». Я увидел, когда она собирала листы.
Сразу после обеда поднялся ветер, он гнал по двору вихри бумажек, они прилипали к стене школы, снова взлетали и кружились в воздухе.
— У меня чернила кончились, — сказал Стэффорд. — Придется набрать школьные, а от них резина портится. — Он развинтил ручку и показал ему. — Хочешь конфету? — прибавил он. — Они подкрепляют силы. Я совсем про них забыл. — Он побежал через двор, доставая из кармана листок, и присоединился к ребятам у дверей, которые сравнивали ответы.
Риген стоял, прислонясь к стенке, все еще с ранцем за спиной, сунув руки в карманы и горбя плечи от ветра. Подошел Блетчли и сказал:
— Ты как на седьмой ответил? Они чуть не все понаписали «ромб», потому что не знают, что такое ромб.
— А что же там лишнее? — спросил он.
— Круг, — сказал Блетчли. — Только в нем нет прямых линий. — Лицо у него покраснело, глаза слезились от ветра. Он достал кусок шоколада из ранца, который держал под мышкой. — У нас одного сняли с экзамена, — сказал он. — Написал ответы на бумажке и хотел кому-то подбросить. Слышал, какой крик был?
— Нет, — сказал он.
— Вон он стоит.
Блетчли указал, но он не понял на кого. Когда они вернулись в класс, на партах лежали чистые листы, а женщина за учительским столом курила сигарету, но сразу ее погасила, едва они открыли дверь.
Потом, когда они выходили, Стэффорд сказал:
— Ты о чем писал?
— О войне, — сказал он.
— А я про гудок на шахте, подающий сигнал тревоги. Я никогда никаких несчастных случаев не видел, а ты?
— Нет, — сказал он.
— А еще ты о чем писал?
— Мое любимое занятие.
— А я — об исторической личности. Про короля Канута.
— А ты про него много знаешь? — спросил он.
— Нет, — сказал Стэффорд, — не очень. — Они дошли до автобусов на улице за оградой, и он сказал: — Который твой? — а когда Колин показал, добавил: — А я на том, сзади. Ну, всего. Еще увидимся, — но остался стоять в кучке мальчиков, пока он поднимался по ступенькам.
Он сел. Блетчли, который сидел сзади, наклонился через спинку и сказал:
— Знаешь, что отчудил Риген? Написал в сочинении про санитарку, которая пишет домой родителям. — И захохотал у него над ухом.
Риген, который сидел рядом с Блетчли, положив ранец на колени, с легкой улыбкой посмотрел на него, потом на школу и на школьный двор, где в гаснущем свете ребята гоняли мяч.
— Так ведь есть же и санитары, — сказал мальчик позади Блетчли, приподнявшись на сиденье.
— Санитары, — сказал Блетчли, поглядел на Ригена и, откинувшись на спинку, хлопнул себя по колену. Он вздрогнул и насупил брови. Колени у него покраснели от ветра, и он держал их раздвинутыми.
Автобус выехал из поселка. Из-под двери сильно дуло, и в проходе взлетали и падали старые билеты. Темнело, небо за окнами сливалось с полями и деревьями. Внутри автобуса загорелись тусклые синие лампочки.
По небу ползли низкие серые тучи. Кто-то на заднем сиденье запел.
Миссис Блетчли ждала на автобусной остановке с миссис Риген.
— Что же это вы так долго, мистер? — сказала она шоферу.
— Разве по таким дорогам быстро поедешь, хозяйка, — сказал он, закурил сигарету и, притоптывая по асфальту, положил руки на пробку радиатора, чтобы согреть их.
— Ну, как ты, сдал, Йен? — спросила она у Блетчли, затянула ему шарф потуже и застегнула верхнюю пуговицу его пальто. — Ты насмерть простудишься. Ну, и как же это было?
— Очень легко, — сказал он. — Риген написал сочинение про санитарок.
— Про санитарку, — сказал Риген матери на всякий случай.
— Ну что же. Это очень хорошо, — сказала миссис Блетчли. — Идем скорее домой, тебе надо съесть чего-нибудь горячего.
Они пошли по улице все вместе. Блетчли вытащил из ранца листок и начал в темноте показывать матери вопросы. Она посветила на листок фонариком и сказала не глядя:
— У тебя все отлично, Йен, я вижу.
Миссис Риген вела Ригена за руку и несла его ранец.
— Льготы льготами, но, наверное, можно было бы устраивать проверку полегче.
— Наверное, — сказала миссис Блетчли, похлопывая ладонями руку Блетчли в перчатке, чтобы согреть ее.
У парадных дверей своих домов они пожелали друг другу спокойной ночи и вошли, а Колин пошел вокруг, чувствуя, что торжественный день кончился и ему снова положено довольствоваться черным ходом.
В кухне на развернутой газете стоял вверх колесами отцовский велосипед, с заднего колеса свисала цепь. Рядом, присев на корточки, что-то ковырял отец. Дед спал у очага.
— Ну, как ты, справился? — сказал отец, не поднимая головы. — А мы уже думали идти за тобой к автобусной остановке.
— Ничего, — сказал он.
— А какие были вопросы?
— Ну… — сказал он, — ничего. — И пожал плечами.
Отец несколько секунд внимательно смотрел на него, потом отвел глаза.
— У меня цепь лопнула, — сказал он. — А мне через час на работу. Ты не видел, тут на полу звено не валялось?
— Нет, — сказал он.
— Утром не видел?
— Нет, — сказал он и помотал головой.
Отец еще поискал на полу, под буфетом, под столом и поднялся на ноги.
— Ну ладно, — сказал он. — Покажи-ка.
Колин достал из кармана листки и положил на стол, потом снял пальто.
— А чай есть? — спросил он.
— Есть, есть, — сказал отец, нагибаясь над столом и разглядывая листки. Он боялся запачкать их грязными руками и попросил: — Ну-ка, переверни вот этот. Тридцать четвертый. По-моему, легкий.
По лестнице спускалась мать. Она прикрикнула на Стивена, которого только что уложила, закрыла за собой дверь и сказала:
— Мне так и показалось, что это ты. Ну как? Трудно было? — Она взяла чайник, налила его и поставила на огонь.
— Он тут с собой кое-чего принес, — сказал отец, кивая, посмеиваясь. Дед у очага открыл покрасневшие слезящиеся глаза и тупо поглядел в потолок, зевнул, наклонился вперед и провел ладонью по лицу.
— О-хо-хо, — сказал он. — Подкинула бы ты угля в огонь, Элин. Я совсем замерз. — Потом поднял голову и спросил: — Ну, так как же, правильно ты отвечал?
— А в двенадцатом что у тебя получилось? — сказал отец, взял листок, свой красный карандаш и начал вычислять, стараясь не касаться клеенки замасленными руками.
— Не помню, — сказал он.
— Один фунт три шиллинга шесть пенсов, — сказал отец, глядя на листок, потом зачеркнул результат и начал снова. — Тут какая-то загвоздка. Ты-то ее хоть заметил?
— Ну, а теперь освободи стол, дай ему выпить чаю, — сказала мать.
Велосипеда отец так и не починил. Он пошел попросить велосипед у мистера Шоу, а когда вернулся, сказал:
— Ничего тут не трогайте. Утром я разберусь.
Стол был завален листками с расчетами. Некоторые были смяты.
— Если в одиннадцатом ответ не тридцать ярдов, так уж и не знаю, что тут делать. Спрошу у Тёрнера. Он разберется.
Когда он задергивал занавески, ложась спать, то увидел, что идет снег. Крупные хлопья неслись из темноты и прилипали к стеклу. Огород уже побелел, заметнее стали все ямы, а в дальнем конце у забора тянулась темная полоса.
Утром отец вернулся весь облепленный снегом. Ледяные корочки слетали с его пальто и кепки, шипели на очаге, растекались лужицами по полу.
— Ну ладно, — сказал он. — Куда ты убрала примеры? Он похлопывал руками в рыжих перчатках и вытирал ноги о половик. Снег намерз на его бровях и тонкой корочкой окружал губы.
Снег лежал несколько дней. Во дворах виднелись только бугры бомбоубежищ и верх штакетника.
На второе утро отец Колина вернулся на час позже. За спиной у него была связка досок и две металлические полосы.
— Я их с фургона снял, — сказал он, развязывая доски на пороге.
Снег налип на его башмаки — он оббил их о стену снаружи — и на брюки до самых колен. Пальто на спине у него обмерзло.
— Пришлось-таки покрутить педали, — сказал он и стукнул велосипед о стену, чтобы стряхнуть застрявший между спицами снег. Доски были одинаковой длины, а в заржавленных железных полосах были просверлены дыры.
— Мне Гаррис все подогнал на работе, — сказал он. — Осталось только собрать их, я за минуту управлюсь.
Когда Колин пришел из школы обедать, в кухне у стены стояли сани, собранные только наполовину. Они были длинными и низкими. У очага лежали две металлические полосы и молоток. Одна из полос была погнута.
— Он их старается согнуть так, чтобы приладить вот сюда, — сказала мать, показывая на узкие деревянные бруски, к которым предстояло привинтить полозья.
— В жизни не слыхивал такой ругани, — сказал дед. — То есть в одном доме от одного человека за одно утро. Непонятно, как еще стены не покраснели.
Когда он вернулся домой к чаю, сани были готовы. На полу еще валялись обрезки досок и щепки, а отец, перевернув сани, чистил полозья.
— Сойдет, — сказал он. — Три пары очков надеть надо, чтобы что-нибудь заметить.
Спереди в досках были прожжены два отверстия и к ним привязана толстая веревка.
— Пей скорее чай, — сказал он, — и пошли.
Отец одел Стивена и ждал снаружи, двигая сани взад и вперед, чтобы счистить остатки ржавчины с полозьев. Когда он повез их, за ними по снегу протянулись два бурых следа.
— Нет-нет, ты сиди, — сказал отец, пристраивая Стивена у него между колен. — Чем больше их нагрузить, тем лучше.
Отец надел веревку на плечи и потащил сани, наклоняясь вперед. Шляпки гвоздей в подошвах его тяжелых шахтерских башмаков посверкивали, снег налипал на шнурки и сразу отваливался. Он хрустел под полозьями, сани подпрыгивали и скрипели. Уже начинало смеркаться, и, проходя мимо окон, отец окликал приятелей, иногда стучал в стекло и говорил:
— Гоните его вон, хозяйка. Гоните его вон. Пусть подышит свежим воздухом.
У склона, поднимающегося к Парку, отец сказал:
— Теперь слезай, Колин, — и добавил, когда они начали взбираться на холм: — Хочешь, повези немножко. Со Стивеном они легче пушинки.
В Парке на фоне снега виднелись темные фигуры, и, когда они подошли ближе, он узнал Батти, Стрингера и мистера Стрингера. Батти тащил вверх по склону санки, на которых сидел Стрингер, и болтал ногами.
— Что это у тебя, Гарри? — сказал мистер Стрингер.
— Тобогган, — сказал отец.
— Какой еще тобогган? — Мистер Стрингер подошел к ним. — И пяти минут не выдержит, — сказал он.
— Я тебя единым духом обгоню, — сказал отец.
— Ладно, — сказал мистер Стрингер. — Сейчас посмотрим.
В сумеречном свете можно было разглядеть утрамбованный спуск, уводивший к заснеженным клумбам и декоративному пруду.
— Э-эй, пошевеливайся, Малькольм, — сказал мистер Стрингер. — Тащи сюда санки. Мы на спор пошли.
Мистер Стрингер, как всегда, был в безрукавке с расстегнутым воротом, брюки заправлены в носки, на ногах легкие ботинки.
— Поедешь со мной, Колин? — сказал отец. Он сидел на санях, придерживая между колен Стивена. — Когда я кивну, — добавил он, — толкай сзади, а как мы разгонимся, вскакивай сам.
Мистер Стрингер уже уселся на свои сани. Они были чуть выше отцовских и с ковриком, чтобы сидеть, но коврик успел промокнуть, и на нем намерз снег. Он приставил ладони ко рту и закричал тем, кто был внизу:
— Эй, вы там! Посторонитесь! — И добавил: — Как пить дать пришибем кого-нибудь. Ну, сколько ставим? Полкроны?
— Сначала примеримся, — сказал отец.
— Ладно, — сказал мистер Стрингер. — Жди моей команды. — Он снова закричал и замахал руками тем, кто был внизу. Потом сказал: — Нy-ка, подтолкните как следует! Готовы? Ну ладно, давай!
Они толкали сани вниз по склону и кричали.
— Быстрей, — командовал мистер Стрингер. — Быстрей! Вот я сам слезу и подтолкну! — Его сани первыми взяли разгон, и Батти со Стрингером вскочили на них сзади.
Их сани тоже набрали скорость, и отец крикнул:
— Прыгай, Колин, ты нас опрокинешь! — Однако расстояние между ними все увеличивалось.
Колин обхватил отца за шею, а отец перекинул ноги на одну сторону, потом на другую.
— Опрокинемся, что я говорил! — крикнул он, хохоча, когда сани на полдороге вдруг свернули, накренились и выбросили их в сугроб.
Отец лежал под ним, болтая ногами в воздухе. Перед саней исчез под снегом. Снизу доносились крики мистера Стрингера, затем с заключительным воплем он направил свои сани между качелями.
— Недалеко и быстро! — сказал отец и добавил, когда Стивен, облепленный снегом по брови, начал плакать: — Немножко снегу тебе только на пользу, голубчик.
— Пап, я домой хочу, — сказал Стивен.
— Нет, мы еще разок прокатимся, а может, и больше, — сказал отец.
Когда мистер Стрингер поднялся на вершину, он сказал:
— Так на сколько мы уговорились? С тебя десять шиллингов.
— Как бы не так, — сказал отец. — Мы еще не напрактиковались.
— С этой штукой практикуйся не практикуйся, — сказал мистер Стрингер, — ты к ней хоть колеса присобачь, хоть мотор, все равно она с места не сдвинется.
— Я сейчас один съеду, — сказал отец и подтащил сани к спуску.
— Какую фору тебе дать? — сказал мистер Стрингер.
— Еще чего, — сказал отец. — Трогаемся разом.
Мистер Стрингер сел прямо, и Батти его подтолкнул.
— Валяй, па! — кричал Стрингер. — Быстрее!
Отец Колина бежал за санями, толкая их, а когда они взяли разгон, вскочил на них и вытянул ноги, чтобы рулить.
— Приехали! — крикнул мистер Стрингер на половине склона. Он схватился за отцовские сани и повернул их поперек. — Слезай, приехали! — крикнул он, и его короткая фигура вырисовалась на фойе снега, словно он повис в воздухе.
Его сани вместе с отцовскими врезались в сугроб. Немного погодя они увидели, что мистер Стрингер стоит, стряхивая снег с головы и плеч. Он говорил:
— Я бы тебя все равно обогнал, Гарри.
— Он меня за ноги схватил, — сказал отец, когда они выбрались на вершину. — Я бы его на милю побил. Я его уже обходил.
— На милю! — сказал мистер Стрингер. — Пришлось его схватить, чтобы он нос себе не расквасил.
Отец подхватил Стивена на руки и сказал:
— Ну-ка, давай прокатимся.
— Пап, я домой хочу, — сказал Стивен и прижался к отцу, потому что мистер Стрингер сказал:
— Хочешь, я тебя согрею? Поедешь у меня на спине, малый?
— Напугался, — сказал отец. — Он же первый раз на санки сел.
На вершину поднялись еще люди и тут же поехали вниз. Снизу, от качелей, донеслись отголоски их криков.
— Съеду еще раз, — сказал отец, — а потом отведу его домой. — Он спустил Стивена на землю и добавил: — Покатай его тут, Колин.
Но Стивена это не успокоило, и отец сказал:
— Ну, ладно. Съедем все вместе.
Однако Стивен не согласился сесть между колен отца и отказался уцепиться за его спину, а когда мистер Стрингер взял его к себе на санки, заплакал еще громче.
Отец уже подталкивал сани.
— Значит, на кружку пива, Гарри, — сказал мистер Стрингер.
Колин разогнал сани и вспрыгнул отцу на спину. Отец охнул. При каждом толчке он снова охал. Сзади неслись крики мистера Стрингера.
В лицо Колину бил снег. Он всем телом ощущал, как изгибается отец, выбрасывая ноги в сторону, чтобы повернуть сани. Они проскочили между столбами цепных качелей.
— Держись, держись! — сказал отец, когда Колин еще сильнее вцепился в его спину и уперся подбородком ему в шею.
Под полозьями хрустел снег, отец перекидывал ноги с одной стороны на другую. Сани вылетели на нетронутый снег у подножья холма, описали широкую дугу и остановились под изгородью.
— Вот это мы проехались! — сказал отец. — Полторы дистанции, можно сказать. — Колин встал, а он все еще лежал на санях и охал. — А, черт, ты целую тонну весишь, — сказал он. — Спину мне сломал, не иначе.
Мистер Стрингер ждал их на склоне.
— Я уж подумал, что ты домой поехал, только мы тебя и видели, — сказал он. — Ну, с меня полторы кружки.
— Конечно, можно было бы, да я уж решил остановиться, — сказал отец. Он посадил Стивена себе на спину и сказал: — Отнесу-ка я его домой. Ему тут вроде бы не нравится.
— Я пойду с тобой, — сказал мистер Стрингер. — Там уже час как открыто. — Он провел ладонью по рукам и груди. — Ишь ты, с меня прямо течет.
Колин увидел их, когда они выходили из ворот Парка. Отец со Стивеном на спине остановился, закурил сигарету и протянул спичку мистеру Стрингеру. Потом они свернули на дорогу, ведущую к поселку.
Через некоторое время он остался на спуске один. Когда он мчался вниз, слышен был только шорох полозьев по снегу. Из Парка не доносилось ни единого звука. Небо очистилось от туч. Ледяная дорожка убегала из-под санок к подножию холма.
Теперь каждый вечер, едва вернувшись из школы, он шел с санками в Парк. Иногда с ним шли Батти и Стрингер, иногда один Батти — он скользил вниз по склону, взмахивая тяжелыми башмаками, а потом ему надоедало втаскивать санки наверх, и он уходил домой. Отец отправился с Колином в Парк еще только один раз — на второй вечер. Его интерес к саням угас, как только он кончил их мастерить. Он скатился разок, а когда поднялся назад на холм, закурил сигарету и сказал:
— Катайся, малый. А я для этого уже староват стал. — Потом повернулся уходить и добавил. — Пора на работу собираться. Ты же знаешь, мать беспокоится, если я запаздываю.
Часто он оставался на спуске последним, нарочно дожидаясь, когда остальным надоест кататься и они уйдут. Они медленно выходили из ворот, таща за собой санки, и их голоса замирали вдалеке. Иногда внизу, когда санки уже останавливались, он продолжал лежать, прижимаясь щекой к намерзшему на доски снегу, при каждом вздохе мимо его глаз проплывало легкое облачко пара, а склон поблескивал, и было тихо-тихо, только издалека доносились чуть слышные голоса, собачий лай, стук хлопающих дверей. Во второй вечер взошла луна, она сияла на небе ярким диском, и спуск между сугробами блестел, как металлическая лента. Когда стало совсем темно, в небе, в той стороне, где был город, точно негнущиеся пальцы, сходясь и расходясь, медленно задвигались лучи прожекторов.
Каждое утро, вернувшись домой, отец рассказывал о новых несчастных случаях, которые сам видел, — грузовик слетел с насыпи, легковой автомобиль потерял управление и врезался в стену; на фабрике стоял лютый холод и никто не мог работать, труба обрушилась, потому что лед расколол кирпичи.
— И как я только домой добрался! — говорил он, если ночью снова шел снег. — Поздновато для такой погоды. Неделю назад на ветках уже почки набухали. А теперь — чистая Антарктика. Того и гляди, я обернусь в пингвина, а вы утром только глаза вытаращите: кто такой?
Отец слепил снеговика почти с себя ростом, сверху нахлобучил старую кепку, а под ней из кусочков угля сделал глаза, нос, усы и большой рот. Блетчли, который тоже слепил снеговика у себя во дворе, по утрам расстреливал их снеговика камнями — сбил голову, а потом посшибал пуговицы, пальцы, которые отец сделал из щепок, доску, разделявшую ноги. В конце концов снеговик рухнул. Его рябое от угольной пыли туловище еще лежало во дворе, даже когда снег кругом растаял.
В последний раз, когда Колин пошел в Парк с санками, полозья всю дорогу скрежетали по асфальту, а спуск был весь в бурых проталинах.
Весной дед уехал от них назад к дяде.
— Я еще вернусь, — сказал он перед отъездом. — Такой уж у меня девиз: «Не засиживайся на месте». — Он нагнулся и поцеловал его. — Ты за ними приглядывай, Колин, береги их. Ты ведь знаешь, им без присмотра не обойтись.
Когда его чемодан поставили в автобус, он сел впереди, закурил и, посматривая в окно, кивал им.
На следующий день отец сказал:
— Похоже, Колин, у нас в доме заведется еще один малыш.
— Когда? — сказал он.
— Ну, не через месяц и не через два. — Он положил руку ему на плечи и засмеялся. — Не беспокойся, — сказал он. — Будете со Стивом его нянчить.
Колин теперь часто играл со Стивеном. Брат был такой же коренастый и белобрысый, как отец. Его голубые глаза смотрели чуть обиженно, недоуменно, рассеянно, и когда он шел с Колином на пустырь или — с наступлением весны — в Парк, то, почти не отрываясь, глядел себе под ноги, спотыкался и оступался, неуклюже раскидывал руки, стараясь удержать равновесие. Ребята прозвали его Тюленем.
— Тоже, ходить не умеет, — говорил Батти. — Мы что, ждать его нанялись?
И часто Колин отставал, дожидаясь Стивена, вел его за руку и в конце концов сажал себе на спину.
— Смотри, не оставляй его одного, — говорила мать. — Если он замешкался, подожди. Ты о нем должен думать, а не о своих приятелях.
Как-то он взял Стивена на реку. Они отправились туда на велосипедах — одни ехали в седлах, другие на рамах, остальные бежали сзади. Потом останавливались и менялись местами. Добирались они до реки чуть ли не полдня. Потом долго играли на желобе для загрузки барж углем и лазали по опорам моста. Когда они вернулись домой, было уже совсем темно.
Мать стояла в дверях.
— Где вы были? — сказала она.
Стивен прикорнул у него на спине. Оба они были вымазаны угольной пылью с желоба.
— Отец вас ищет. Он весь поселок обегал. — Она взяла его за локоть. — А что со Стивом?
— Я его нес, — объяснил он.
— Нет, вы посмотрите на него! Куда ты его таскал?
Вернулся отец и увел его наверх.
— А если бы Стивен упал в воду? А ты бы застрял в желобе?
Ремень хлестал Колина по ногам. Внутри у него все сжималось от боли.
Он не пошел вниз. Он слышал, как мать укладывала Стивена, потом ее шаги у двери. Она остановилась. Потом раздался ее голос.
— Все в порядке? — спросила она.
— Да, — сказал он.
— Ну, ты понял?
— Да, — сказал он.
Она просунула голову в комнату, поглядела на него, потом тихо прикрыла дверь и спустилась вниз.
В начале лета объявили результаты экзаменов. Через три месяца после того, как он ездил их сдавать. После утренней молитвы он стоял в школьном зале, в задних рядах, и услышал, как прочли его фамилию. Она была последней в списке. Первой назвали фамилию Блетчли — он направлялся в школу в соседнем поселке, где учились и девочки. Его же фамилия значилась в списке мальчиков, принятых в городскую классическую школу. Поступивших отпустили раньше, он помчался домой и влетел в кухню. Там никого не было. Мать возилась наверху. Она вышла на площадку и остановилась, глядя вниз.
— Я сдал, — сказал он. — Меня приняли в классическую.
— А! — сказала она и начала медленно спускаться по ступенькам.
— А папа дома?
— Пошел в лавку. Он сейчас вернется.
— Блетчли тоже сдал.
— Да?
— Его берут в Мелшем-Мэнор.
— Это хорошая школа.
— А Риген не сдал.
— Ну, — сказала она, — тут удивляться нечему.
Они ждали возвращения отца.
Услышав его шаги, мать наклонилась к очагу и переставила чайник.
Отец, нагнувшись, вытирал ноги о половик, потом поднял голову и вдруг увидел лицо матери.
— Что это с тобой? — сказал он.
— Им сообщили результаты, — сказала мать. — Результаты экзаменов.
— Ну и как же? — Отец замер и поглядел на него почти сердито, словно ожидая удара.
— Я сдал, — сказал он.
— Сдал? Сдал?
— В классическую.
— Черт подери, малый!
Отец весь покраснел.
— А ты не ошибся? — сказал он.
— Нам в зале прочли. И тех, кто сдал, отпустили раньше.
— Я лучше сяду, — сказал отец.
Он сгорбился в кресле и положил руки на стол.
— Я знал, что ты сумеешь сдать. Что я тебе говорил? — Он посмотрел на мать.
— Да, — сказала она. — Мы знали, что он сумеет.
— Расходов будет много, — сказал отец. — Там у них форма, — добавил он.
— Как-нибудь справимся, — сказала она и засмеялась.
— Угу. Что-нибудь придумаем, — сказал он и покачал головой. — Просто не верится.
Со двора пришел Стив. Мать подхватила его на руки.
— А что твой старший брат сделал? — сказала она.
— Всего только показал, — добавил отец, — что он тут всех способней.
— Погоди, вот Стивен подрастет.
— Угу. У нас их двое таких будет, — сказал отец.
— Если не трое, — сказала мать.
— Угу.
Отец засмеялся, а потом хлопнул в ладоши.
— Вот погодите, я расскажу на шахте! — сказал он.
Колин отправился с матерью в город покупать форму. За свою жизнь он побывал там раза два-три, но запомнилась ему только поездка после начала налетов. Следы разрушений еще сохранялись, но уже больше года не было ни одной бомбежки. Они переехали через реку и поднялись по склону на том берегу. Магазин, где продавалась школьная форма, был в центре города, напротив собора. Прежде чем войти, они рассмотрели форму, выставленную в витрине. Она была надета на ярко-розовый манекен мальчика с голубыми глазами, красными губами и щеками — суконная, синяя, с золотым кантом. Эмблема школы, ее герб, занимала почти весь нагрудный карман куртки.
— Как она тебе?
Из магазина вышел мальчик. Он был в фуражке, под его дождевиком Колин заметил форменную куртку.
— Ну, пойдем, — сказала мать.
Она выбирала форму почти час. Все, что она купила, было ему велико, особенно куртка и брюки.
— Чтобы он не так быстро из них вырос, — объяснила она продавцу.
— Но с другой стороны, — сказал продавец, ставя галочку перед их фамилией в списке учеников, — когда они станут ему впору, вида уже никакого не будет.
— Это что же, плохой материал? — сказала мать.
— Материал-то хороший, — сказал продавец. — Да ведь на мальчиках все горит, — добавил он с улыбкой.
— Был бы материал хороший, а носить он будет аккуратно, — сказала она.
Колин стоял перед зеркалом в форменной куртке с золотым кантом. Продавец, перепробовав несколько размеров, надел ему на голову большую фуражку. От пуговки на макушке расходились золотые полоски шнура.
— Голова у него вряд ли вырастет, — сказал он, когда мать спросила, нет ли размера побольше.
Дождевик доставал ему ниже колен, почти до щиколоток.
— Запас года на три-четыре, — сказал продавец и затянул пояс, такой длинный, что его хватило бы на кого-нибудь вдвое толще — пряжка застегнулась где-то на спине.
— Ну, пожалуй, подойдет, — сказала мать, но ее глаза были устремлены на вешалку со следующим размером.
— Мне кажется, такого запаса вполне достанет, — сказал продавец.
Он выписал общую сумму.
— Чеком или наличными? — спросил он.
— Наличными, — сказала мать и покраснела.
Каждая бумажка у нее была сложена вчетверо. Она положила их на прилавок одну за другой, сказала: «Мелочь у меня есть», порылась в узком кошельке и достала монеты. Она еще дома точно подсчитала, сколько понадобится денег, даже с учетом больших размеров.
— Снимать не будете или завернуть? — спросил продавец. Он был пожилой, с проседью в волосах. Такой костюм, как у него, Колин до сих пор видел только на мистере Ригене.
— Если можно, заверните, — сказала мать.
Колин переоделся. Мать смотрела, как он надевает свою старую курточку, и одернула воротник. Потом поправила ему галстук. Они стояли у прилавка и ждали.
Продавец вернулся с пакетом.
— Если вам что-нибудь понадобится, миссис Сэвилл, — сказал он, — мы будем рады вас обслужить. — Он улыбнулся, подал Колину пакет через прилавок и добавил: — Наверное, вы сами его понесете, молодой человек.
А открыв перед ним дверь, он сказал:
— Ну, желаю успеха.
Выйдя из магазина, мать остановилась. Она развернула чек, проверила цену каждой вещи, пересчитала деньги, оставшиеся в кошельке, потом слепо посмотрела по сторонам.
— До автобуса еще час, — сказала она, глядя через крыши на башню собора с часами. — Можно бы и на поезде поехать, но только я взяла обратные билеты.
Они стояли у витрины, и он видел в стекле их отражения — мать в длинном коричневом пальто, достающем почти до лодыжек, он в коротком дождевике, купленном несколько лет назад. Позади них простирался необъятный город — витрины магазинов, толпы прохожих, автобусы, автомобили.
— Можно пойти посмотреть на школу, — сказала мать.
Про это она говорила еще дома, и отец сразу захотел поехать с ними. Однако мать воспротивилась.
— Мы едем покупать ему форму, — сказала она. — А школу посмотрим в другой раз.
Отец начал настаивать, и она добавила:
— Я не хочу, чтобы меня торопили, когда я выбираю ему одежду.
— Времени, наверное, хватит, — сказала она теперь и спросила дорогу у какого-то прохожего.
С центральной площади они свернули под арку старинного здания. Она была длинная и такая широкая, что под ней могла свободно проехать машина. С одной стороны мощенного булыжником прохода была булочная, с другой — маленькое кафе. Колин увидел деревянные панели на стенах, темные балки на потолке. Они вышли на узкую улицу, по обеим сторонам ее были магазины, а дальше она сливалась с широкой магистралью, которая по диагонали вела назад, к центральной площади. Над тротуарами смыкались ветки деревьев. Магазины сменились жилыми домами — низкими, кирпичными, черными от сажи. Над пологими шиферными крышами торчали высокие печные трубы.
— Очень интересный район. По-моему, я тут раньше никогда не бывала, — сказала мать.
Она рассматривала дома по обеим сторонам улицы. Перед некоторыми были маленькие садики, где густо росли деревья, другие выходили прямо на тротуар, и они могли заглянуть в гостиные, а если дверь была открыта, то и в узкую переднюю.
— Уж, наверное, жить в них стоит дорого. Посмотри, какие они старинные. — Она остановилась у подъезда и прочла дату, выбитую на камне над дверью. — Тысяча семьсот девятнадцатый год. А другие, по-моему, и еще старше.
Школа стояла на пригорке далеко от улицы. Это было длинное низкое здание с высокими стрельчатыми окнами. В центре торчали две башенки с парапетом, по сторонам загибались два крыла. Построена она была из камня, широкая полоса газона вела к двум оббитым гвоздями дверям.
По траве, несомненно, никто не ходил, а двери были закрыты наглухо. Усыпанная гравием дорога двумя полукружиями уходила к концам здания. Чугунные створки ворот, подвешенные на чугунных столбах, были открыты. Между главным зданием и другим, тоже каменным, но более высоким и узким, которое стояло в глубине, мелькали фигуры в знакомой уже форме.
— Занятия идут даже по субботам, — сказала мать.
Они стояли у ворот и смотрели на низкий каменный прямоугольник.
— И по субботам?
— Но только утром, так сказано в письме. А по вторникам и четвергам вторая половина дня посвящается спорту.
По дороге к воротам спускался мальчик. Он надел фуражку, вскинул ранец на плечи и перебежал улицу у них за спиной.
— Погляди, какие они чистенькие, — сказала мать.
Они пошли назад к центральной площади. Мимо промчался автобус. Колин в первый раз почувствовал, как огромен город. В прошлом это было только слово, только смутные воспоминания о башнях и куполах да высокий тонкий шпиль, который он увидел из автобуса на той стороне долины. Теперь это были узкие улочки, и массивные здания, и магистрали — он уже заблудился среди них.
— Ничего, через неделю ты привыкнешь, — сказала мать.
Они ждали автобуса на остановке за собором.
— Надо будет поговорить с Коннорсами. Их сын учится тут. Ну, и знает дорогу, — добавила она.
В автобусе, когда он наконец подошел, Колин сидел молча. Он смотрел, как мелькают за окном городские окраины, река, поля, рощи, вересковая пустошь.
— На обед я там буду оставаться? — спросил он.
— На второй завтрак, — сказала мать и добавила: — Не можешь же ты лишний раз ездить в такую даль. — Она поправила пакет, лежавший у нее на коленях. Тебе и без этого придется вставать ни свет ни заря. И возвращаться ты будешь поздно. Да еще домашние задания. На них полагается час. Нет, кажется, там написано — полтора.
Дома они развернули пакет с формой. По требованию отца он поднялся к себе и надел ее.
Он спустился в кухню и увидел лицо отца. Отец смотрел на куртку, на большую эмблему, вышитую золотой ниткой на кармане, на золотой кант по швам куртки, доходивший до воротника, на фуражку с пуговкой и на золотые полоски, на эмблему спереди, на широкий козырек. Он поглядел на носки с двумя золотыми полосками по отвернутому краю. Его губы раздвинулись. Он заулыбался.
— Ого-го! Я бы его и не узнал.
— Вот теперь он выглядит прилично, — сказала мать.
Стивен застыл в дальнем конце кухни.
— Ну, а это что значит? — сказал отец.
Он провел пальцем под эмблемой.
— «Лейбор ипс волаптас», — прочел он вслух.
— Не знаю, — сказал Колин и помотал головой.
— А в магазине вы не спросили?
— Нет. — Мать тоже потрогала эмблему и провела пальцем по желтой нити.
— Лейбор… — сказал отец. — И еще что-то. Ты думаешь, они там все лейбористы-социалисты?
— Ну уж нет, — сказала мать.
— Это ведь одна из самых старинных школ в стране. Понимаешь? — добавил отец.
Он перестал улыбаться и покачал головой.
— Я даже и не думал, что мы этого добьемся. Кем мы были, и погляди, чего достигли.
Как-то вечером он пошел к Коннорсам. Они жили на другом конце поселка в отдельном коттедже. Коннорс был высокий, сумрачный, белобрысый — он учился в этой школе уже четвертый год. Его отец подарил Колину регбистскую рубашку в золотую и синюю полоску и стоптанные бутсы. А Коннорс обещал в первый день довести его до школы и договорился встретиться с ним на автобусной остановке.
Когда Колин вышел, Коннорс вышел вслед за ним.
— Я, пожалуй, предупрежу тебя, — сказал он. — Отец говорит, что так будет лучше.
— О чем? — сказал он.
— Новичков в первый день ловят в туалете и обмакивают.
Он уставился на лицо Коннорса — тупое, тяжелое, с красными щеками, словно он разговаривал с ним откуда-то издалека.
— А как?
— Дергают цепь.
Он представил себе это и помотал головой.
— А еще что? — спросил он.
— Ну, иногда, — сказал Коннорс, — они суют твою голову в раковину, полную воды. И считают до десяти, очень медленно, а потом отпускают.
Все лето его преследовало это видение — унитаз и раковина. Он приучал себя держать голову под водой и медленно считал до десяти. Как-то утром мать застала его в такой позе. Вода из раковины плескалась на пол.
— Что ты делаешь? — сказала она.
— Ничего, — сказал он и добавил: — Умываюсь.
По вечерам в постели он приучался задерживать дыхание. В конце концов он решил, что вытерпит, а если нет — так захлебнется.
Блетчли теперь иногда ходил в форме своей новой школы. Она была проще и строже его собственной: только эмблема на куртке и на фуражке. Он надевал ее, когда шел в воскресную школу, или за покупками, или гулять с матерью. Ему купили новый ранец, и он сидел у себя на крыльце, вытаскивал свою линейку, свою ручку, свою готовальню и показывал их Ригену, который не сдал экзаменов и смотрел на них с оглушенным видом, а потом, когда Блетчли убирал их, все так же ошеломленно смотрел куда-то в сторону. Еще Блетчли купили подарок за то, что он сдал экзамены, — красный велосипед с белыми целлулоидными щитками и загнутыми вниз ручками руля. Каждый вечер он катался на нем по улице взад и вперед.
— Мы бы тебе тоже чего-нибудь купили, не беспокойся, — сказал отец, — если б не такие расходы. А тут то да се, и новый братик или сестренка не за горами, вот лишних денег и не осталось.
Они обсуждали, не отправить ли его к дяде, к младшему брату отца, который жил в городе.
— Нет, лучше все-таки, чтобы вы дома остались. Вы оба, — сказал отец. — Когда время подойдет, я попробую перевестись в дневную, и будем спать все трое дома.
Он играл на улице, смотрел, как Блетчли катается на велосипеде, играл в крикет со Стрингером, Батти и братьями Батти. Смотрел, как другие ребята снова пошли в школу. В классической школе занятия начинались на две недели позже, и он в одиночестве бродил по поселку. Иногда он видел, как Коннорс катит куда-то на велосипеде, или встречал кого-нибудь из мальчиков, которых тоже приняли в городскую школу, но их ничто не объединяло, кроме затянувшихся каникул. Он приучал себя держать голову под водой все дольше.
Когда настал его первый школьный день, мать сказала, что проводит его до остановки. Время еще только шло к семи, и улицы были пусты. Он стоял в дверях, всем телом ощущая, что на нем форма. Мать надевала пальто.
— Я пойду один, — сказал он.
— А если Коннорс не придет? — сказала она.
— Сяду в автобус и без него.
— А в городе как же?
— Спрошу у кого-нибудь дорогу.
Она стояла на крыльце в распахнутом пальто и смотрела ему вслед. На углу он не помахал ей, только оглянулся и сразу пошел к остановке.
Она была в центре поселка, напротив пивной. До автобуса оставалось еще двадцать пять минут, и там никого не было. Он нес дождевик на руке, перекинув через плечо ранец — свой старый ранец, в котором ничего не лежало. Он сначала собирался взять регбистскую рубашку и стоптанные бутсы, но потом раздумал, хотя мать и настаивала.
Мимо проехал грузовик. За окном пивной виднелись смутные очертания напольных часов у стены. Но циферблата он различить не мог.
К пивной со стороны шахты подошел шахтер и сел на краю канавы, свесив руки между колеи. Потом подошел еще один. Потом двое или трое. Он отступил к витрине магазина, и их голоса доносились до него, как неясное бормотание.
Наконец из-за угла вышел Коннорс с каким-то мальчиком. Коннорс был без фуражки, и, если бы не потрепанный ранец, который он держал под мышкой, никто не догадался бы, что он едет в школу. Он был в длинных брюках, а школьную куртку — если он ее надел — полностью закрывал серый дождевик.
Коннорс мельком взглянул на него, кивнул и продолжал разговаривать с другим мальчиком. Они остановились у пивной среди шахтеров, и Коннорс постукивал каблуком по стене позади себя.
Второй мальчик был старше. Он держал потрепанный, стянутый ремнем чемоданчик. Из кармана его куртки торчала свернутая фуражка с эмблемой какой-то другой школы.
Колин ждал. Шахтеры напротив заметили его — ярко-синюю куртку, блестевший на солнце золотой кант, фуражку, новенький дождевик, перекинутый через руку. Один кивнул остальным, все захохотали.
Он стал смотреть в другую сторону. Остановка была на перекрестке двух шоссе в центре поселка — главное пересекало его с востока на запад, а шоссе с юга, от станции, за знаками «остановка обязательна» уходило на север, к Парку и старому помещичьему дому, сужаясь на гребне холма.
Оттуда и должен был появиться автобус, громыхая вниз по склону. Дважды он слышал рев мотора, и дважды с холма в клубах пыли скатывался грузовик.
Раздался новый взрыв смеха, и он покосился на витрину позади себя, на свое отражение — козырек фуражки, четкие линии куртки. В витрине были выставлены юбки, блузки, чулки и женское белье. Он уставился на дома напротив, где за магазинами на перекрестке шоссе круто уходило вниз. Он думал о том, что сейчас делают дома мать и Стив.
Появился автобус. Он летел вниз с холма, сверкая окнами, и остановился на углу. Шахтеры возле пивной поднялись на ноги.
Колин подождал, но Коннорс все еще разговаривал с мальчиком, прислонясь к стене.
Он влез в автобус и сел внизу.
За ним влезли еще пассажиры — мужчина в дождевике, женщина с корзинкой. Он услышал, как зашаркали их подошвы у него над головой. Потом стало тихо, только слышались бормочущие голоса шахтеров да иногда с треском вспыхивала спичка.
Коннорс вытащил книгу и перелистнул страницы, мальчик взял у него книгу и опять прислонился к стене. Подошел кондуктор. Шофер влез в кабину. Заработал мотор. Только когда кондуктор дал звонок, Коннорс отошел от стены. Он взял книгу из рук мальчика, сунул ее в ранец, что-то сказал ему, взмахнул рукой и вскочил на площадку. Автобус набирал скорость. Коннорс поглядел на Колина, кивнул и, ничего не сказав, быстро поднялся наверх.
Внизу, кроме него, сидело только двое пассажиров — оба шахтеры, оба чернолицые и оба засмеялись, когда кондуктор окликнул их как старых знакомых. Колин смотрел на их красные губы, на белые зубы, на обведенные черным белки глаз, а сквозняк доносил до него запах угольной пыли от их одежды.
Он прислушивался, но Коннорс все не спускался.
Кондуктор взял у него деньги. Он поставил ранец на колени и положил сверху дождевик.
Они проехали мимо проулка, ведущего к шахте. За ее двором он увидел крышу школы и ближе — столб дыма и пара над трубой рядом с копром. По проулку бежал шахтер и махал рукой. Но автобус не остановился.
Он откинулся и смотрел, как исчезают последние дома поселка. Вскоре позади уже виднелись только огороженные поля, верхний конец трубы и силуэт копра.
В автобус влез мальчик в новой, как у него, форме; с мальчиком была его мать.
Они проехали мимо большого каменного дома за обсаженной деревьями оградой, автобус перевалил через горбатый мостик, и он увидел пруд, весь в круглых листьях кувшинок. Дальше шоссе круто поднималось к домам. Там в автобус вошли девочки. На них были голубые платья и желтые соломенные шляпы. Когда они влезли наверх, он услышал голос Коннорса. Автобус наполнился; с гребня холма он увидел вдалеке город: силуэты башен и одинокий шпиль.
Наконец они спустились к реке, у бетонного причала стояли баржи. Одинокий шпиль и городские башни вновь мелькнули над шиферными крышами. Впереди возник крутой склон. Автобус, погромыхивая, медленно взобрался на него.
— Конечная остановка. Выходите, — объявил кондуктор.
Напротив поднимались стены собора.
Колин увидел Коннорса — он сошел с автобуса и, разговаривая с девочками в желтых соломенных шляпах, зашагал к центральной площади.
Вокруг из переполненных автобусов вылезали ребята и группами шли куда-то. Он последовал за самой большой группой и по мощенному булыжником проулку вышел на улицу с магазинами.
Была половина девятого. Группы, выходившие из проулка, смешивались с другими, и по обоим тротуарам двигались сплошные синие толпы.
Двери школы были закрыты. По каменным ступенькам можно было спуститься на большую площадку для игр. Там прогуливались фигуры в синих с золотом куртках. Деревянный забор отделял площадку от мощеного двора за школой.
Зазвонил колокольчик, синяя толпа разделилась на две, растекаясь к концам темного каменного здания.
Он поднялся по каменным ступенькам. У дверей стояли мальчики в плоских шапочках с кисточками. Они окликали ребят, торопливо входивших внутрь.
С той стороны двери стоял Коннорс.
— Куда ты делся? — сказал он. — Я всю площадку обыскал. — Он взял его за плечо. — Справка о здоровье у тебя есть? — добавил он.
Он достал листок, который ему дали дома. Внизу листок подписала мать, а потом, после спора, и отец.
— Третий «А». Значит, ты у старика Ходжеса, — сказал Коннорс.
— А когда обмакивают? — спросил он.
— Так тебя еще не сцапали?
Он помотал головой. Может, его не тронули из-за его роста? Или просто не заметили?
— Значит, на перемене обмакнут, — сказал Коннорс и отпустил его плечо. — Если что-нибудь, я за тобой пригляжу.
Коридор был полон ребят. На стенах рядами висели фотографии регбистов, снятых всей командой. Каменные ступеньки вели на второй этаж.
Коннорс оставил его перед дубовой дверью. Комната внутри была очень высокой — такой высокой, что потолок смыкался с крышей. Одну стену почти всю занимали стрельчатые окна с частым переплетом, остальные три стены были совершенно голые. Большие парты стояли четырьмя рядами по всей длине класса. В проходах между ними толпились мальчики — большинство, как и он, в новенькой форме, некоторые даже не сняли фуражек. Они смотрели на потолок, на высокие окна, на массивные квадратные парты, на пустые стены.
Вошел какой-то человек. У него был белый воротник, как у священника. Одежда у него была темная, лицо красное, седые волосы начинались где-то у макушки широкой бахромой закрывали затылок и двумя белыми пучками торчали из-за ушей.
— Снять фуражки! Снять фуражки! Разве в помещении носят головные уборы? Что у вас за манеры? Никаких фуражек в помещении!
Еще остававшиеся на головах несколько фуражек были сняты.
— Садитесь, не стойте по сторонам, — сказал учитель.
Он пошел к большому столу в конце класса.
— Что вы делаете, мальчик! — крикнул он.
Несколько ребят, подчиняясь его распоряжению, уже сели.
— Вы что же, садитесь раньше наставника?
— Нет, сэр, — ответил один из них.
— Ждите, пока я не сяду. — Он откинул голову. — Вот тогда вы сядете, когда сяду я.
Мальчики встали. Учитель сел. Поверх синего костюма на нем была надета длинная черная мантия.
— Теперь, джентльмены, будьте любезны сесть.
Колин нашел свободное место в конце ряда. Парты впереди были все заняты.
— Начнем с начала, — сказал учитель. — Я буду называть ваши фамилии. Вы поняли?
— Да, сэр, — сказали некоторые мальчики.
— Тот, чью фамилию я назову, подойдет сюда, отдаст мне справку, я имею в виду справку о здоровье, и вернется на свое место.
Он подождал ответа.
— Да, сэр, — сказали почти все мальчики.
— Сидите прямо. Разгильдяи и бездельники мне в третьем «А» не нужны.
Он начал называть фамилии и ставить галочки в журнале.
— Не сюда! Не сюда! Вы в третьем повышенном, мальчик, а не здесь. С умниками, а не с этими тупицами первогодками.
Мальчик вышел.
Колин услышал свою фамилию и тоже пошел к столу. Он отдал справку, она была развернута, расправлена, положена в стопку, и он вернулся на место.
— Все правильно. Присутствуют все, — сказал учитель. Он завинтил колпачок на ручке, снял очки, которые надел, когда начал читать фамилии по журналу, и, медленно повернув голову, обвел взглядом класс. Шепот стих.
— Моя фамилия Ходжес, — сказал он. — Не Боджес. Не Коджес. И даже не Доджес. Мистер Ходжес, вы поняли? — Он снова обвел их взглядом. — Весь этот год я буду вашим классным наставником. И горе, — добавил он, — тому мальчику, у которого случится какая-нибудь неприятность. Я не люблю неприятностей. Я питаю отвращение к неприятностям. Неприятности и я друг другу противопоказаны. Вы можете убедиться в этом по цвету моего лица. Сейчас вы увидите, как оно слегка краснеет. Оно становится совсем красным, едва возникает хотя бы намек на неприятность. Оно багровеет, и горе тому, кто окажется передо мной, когда мое лицо багровеет. Я творю невообразимые и ужасные вещи, когда мое лицо багровеет. Я достаточно страшен, когда мое лицо красно, но я даже не могу выразить, на что я способен, когда оно багровеет. А потому я не желаю, чтобы в этом классе случались хоть какие-нибудь неприятности — ни на моих уроках и ни на чьих других.
Он подождал, чтобы его лицо стало менее красным.
— Сегодня предстоит сделать очень много. Кому-нибудь из вас может стать невыносимо скучно. В этом случае я хочу, чтобы вы глядели не на меня, не на вашего соседа, не на пол, не на парту, а в потолок. Когда вы смотрите в потолок, вы, по моему убеждению, не способны ничего натворить. Я хочу, чтобы, ощутив приближение скуки, вы обращали взгляд вертикально вверх и безмолвно — так, чтобы вас ни в коем случае никто не слышал, — повторяли про себя таблицу умножения. Я хочу, чтобы вы повторяли умножение на два, умножение на три и так до умножения на двенадцать. В конце утренних занятий я проверю, как вы знаете таблицу умножения, и горе тому, кто хотя бы раз ошибется. Я питаю глубокое отвращение к мальчикам, которые ошибаются, и особенно к таким мальчикам, у которых было все утро для того, чтобы предотвратить ошибки. — Он помолчал. — Вот вы, мальчик, сколько будет двенадцатью семь?
Мальчик на передней парте поднял руку.
Поднялись еще две-три руки.
Мальчик, к которому был обращен вопрос, густо покраснел.
— Двенадцатью семь. — Учитель подождал. — Полагаю, мне часто предстоит видеть вас среди тех мальчиков, чьи взгляды будут особенно долго устремлены вертикально вверх. Так сколько же это? Сколько же это? Сколько же это, мальчик?
— Семьдесят два, сэр, — сказал один из мальчиков.
— Сколько-сколько?
— Восемьдесят четыре! — выкрикнуло несколько голосов.
— Прискорбно. Требования при отборе учеников для этой школы с каждым годом все более снижаются. Это вопрос для семилетних. А вам уже сколько исполнилось?
Покрасневший мальчик пробормотал, сколько ему лет.
— Что? Что? Что вы сказали?
— Двенадцать, сэр.
— Двенадцать? Двенадцать чего? Недель? Месяцев? Часов? Кроликов, наконец?
— Лет, сэр.
— Ах лет!
Он помолчал, кивая головой.
— Я вижу, нам тут предстоит большая работа. Очень большая.
Он снова помолчал, оглядывая их.
— Я собирался прибавить, что хочу, чтобы те умники, которые считают, будто они знают таблицу умножения туда и обратно, чтобы они при помощи того же процесса, а именно почтительно возведя глаза к потолку, припомнили бы и повторили какой-либо любимый духовный гимн. Пусть это будет иудейский гимн, католический гимн, методистский гимн, или англиканский гимн, или даже буддийский гимн, если он им так нравится. Но каков бы ни был источник, это должен быть хвалебный пеан, обращенный к Всевышнему, бдящему над нами всеми. Вы поняли?
Он помолчал.
— После того как таблица умножения будет подробнейшим образом проверена, я обращусь к гимнам и вызову кого-нибудь из вас ад хок… что значит «ад хок», мальчик?
Еще один мальчик густо покраснел.
Учитель помолчал.
Однако никто руки не поднял.
— Ад хок. Ад хок. Какой бы это мог быть язык? Немецкий? Голландский? Абракадабрский?
Он помолчал.
— Кто-нибудь тут слышал про латынь?
Поднялось несколько рук.
— Быть может, ад хок — это латынь?
— Да, сэр, — сказал кто-то.
— Умный мальчик. Латынь. Латынь. — Он снова помолчал. — «Ад хок» по-латыни значит «специфически предназначенный для этой цели». Другими словами, я попрошу у некоторых индивидов специфических доказательств безмолвного — повторяю, безмолвного! — запоминания их любимого хвалебного пеана Всемогущему Богу. И да спасет вас Всемогущий Бог, если пеан этот не будет у вас готов. — Он остановился и по очереди оглядел их лица. — Какой жалкий сброд. Какое скопище кислолицых тупиц. Вот я сижу против сорока мучнолицых пудингов, а вам дана привилегия сидеть передо мной. — Он остановился и задумчиво поглядел в потолок, где от стены к стене изгибались ребра нескольких арок. Он некоторое время созерцал их, потом сказал: — Я жду, что с этой минуты буду видеть перед собой не просто сорок сосредоточенных лиц, прилежно повторяющих таблицу умножения и свои любимые духовные гимны, но сорок бодрых лиц — не ухмыляющиеся лица, но улыбающиеся, не хохочущие, не скалящие зубы и клыки, но радостные лица, не унылые, но приятные для созерцания в любую минуту, когда я подниму голову.
Он посмотрел на свои часы, вытащил их из жилета под мантией и положил на стал перед собой, затем снова открыл журнал и надел очки.
— Итак, мальчики, — сказал он. — Начинайте.
Позже внесли еще несколько парт. И стопки учебников. Оберточная бумага была снята с пачек ярких разноцветных тетрадей. Некоторых мальчиков учитель пересадил на другие места.
— Вот этому олуху — вам, вам! — придется пересесть сюда, поближе ко мне. Если расстояние между нами уменьшится, мне будет легче наблюдать за вами, так пусть же гора идет к Магомету.
В конце концов каждому было указано его место.
Колин сидел сзади. Чуть ниже его локтя проходила труба с горячей водой, из дыры в полу доносились запахи стряпни. В окно ничего не было видно, потому что его голова не доставала до подоконника.
Им раздали учебники, почти все старые и потрепанные. Зазвонил колокольчик, они встали возле парт, строем вышли в длинный коридор, по которому колонны мальчиков двигались к стеклянным дверям в дальнем его конце. Старшие ученики велели им идти туда же.
За стеклянными дверями был зал, еще более высокий, чем класс, и со сводчатым потолком. Почти всю дальнюю стену занимало большое окно с частым переплетом. Под ним находились деревянные подмостки с пюпитром, кафедрой и десятком стульев. В зале стояли тесно сдвинутые скамьи. В глубине винтовая лестница вела на узкую галерею с органом, трубы которого занимали почти всю стену. Там тоже стояли скамьи, и на них уже сидели мальчики.
На подмостки поднялся Ходжес, через зал прошло еще несколько фигур в мантиях. Их класс провели вперед. Мальчики рядами сели на полу. Стулья на подмостках медленно заполнялись. Потом зал затих. Голос произнес нараспев какое-то имя. Справа от Колина появилась фигура в плоской четырехугольной шапочке и в мантии. Лицо под шапочкой было острым, худым, с широким ртом, тонкими губами и узкими глазами. Без всякого выражения оно проплыло по залу и вознеслось над подмостками. Быстрый взгляд по сторонам, и снятая четырехугольная шапочка водворилась на полочку под кафедрой.
— Доброе утро, ученики, — сказала фигура.
Позади них в зале раздался приветственный ропот. Зал был полон. В полосах света, косо падавших из окна, плясали пылинки и колыхалось теплое марево.
— Это Циркуль — услышал он шепот сбоку, другие головы тоже повернулись, и тут прямо над ними раздалось название гимна. С подмостков из-за директора на них смотрел Ходжес.
Гимн был пропет, мальчики сели. Высокий мальчик в форменной куртке поднялся на подмостки, встал за пюпитром и начал читать Библию. Ноги у него дрожали, и, когда он закрывал книгу, его голос осекся.
— Помолимся, — сказал директор.
Ходжес продолжал есть их взглядом даже во время молитвы, его лицо все больше наливались краснотой, особенно заметной из-за белого воротника.
Другие учителя были столь же немолоды. Среди них сидели три женщины, тоже в мантиях, свои сумочки они поставили на пол рядом с собой.
Наконец молитвы кончились и мальчики сели.
— Я рад перед началом учебного года приветствовать в нашей школе всех новых учеников, — произнесла фигура на кафедре. — Я не сомневаюсь, что к концу этого дня они будут знать все школьные порядки. Те, у кого возникнут вопросы, могут обратиться с ними к своим классным наставникам. И разумеется, я рад приветствовать всех наших старых учеников. — Директор взял с полки четырехугольную шапочку и, слегка кивнув фигурам позади себя, сошел с подмостков.
Когда директор повернулся, чтобы уйти, учителя и учительницы на подмостках встали и теперь медленно выходили через дверь напротив.
Они вернулись назад в класс.
Вошел Ходжес. Он сердито подошел к своему столу, сел и подождал, пока не замер последний шорох.
— Некоторые в этом классе, — сказал он, — молятся Всевышнему с открытыми глазами.
Он помолчал.
— И молятся, сунув руки в карманы.
Он надел очки и снова положил перед собой часы.
— Теперь на утренней молитве я стану бдительно следить за поведением этого столь явно распущенного класса, и горе тому, кто не будет молиться с надлежащим благоговением. Глаза закрыты, ладони сложены, мысли сосредоточены на важнейшем: небеса и искупление или же длительное пребывание в аду.
Он помолчал и посмотрел вокруг.
— Итак! Я сообщу вам расписание на эту неделю.
Каждому ученику была выдана небольшая продолговатая записная книжка. На переплете черными буквами было напечатано: «Дневник», а внутри страницы были разделены на столбцы по дням недели.
— Это важнейший ваш документ, — сказал Ходжес. — Имейте его при себе всегда. В соответствующих случаях наставники в месте, отведенном под их уроки, будут записывать вам поощрения или, наоборот — хотя я уверен, что в нашем классе этого ни с кем не случится, — порицания. В конце каждого семестра подводится итог похвалам — или же замечаниям. Получившие определенное число первых будут приглашаться в кабинет к мистеру Уокеру. Получившие определенное число последних также будут приглашаться в кабинет мистера Уокера, но с иной целью, совсем иной. Мальчикам, попавшим в эту категорию, придется свести знакомство, если можно так выразиться, с неким представителем растительного царства, которого в здешних краях именуют Лозаном — хотя и не те, кто приходит с ним в слишком близкое соприкосновение. Мальчики, в чьих дневниках появляются записи, не делающие им чести, должен я прибавить, открывают Лозану свои тылы, если мне будет позволено так выразиться. — Он умолк, поправил очки, оглядел класс, затем встал, повернулся к доске и начал писать расписание уроков.
Потом им раздали еще тетради. В какую-то минуту Ходжес, заглянув в журнал, сказал:
— Сэвилл? Кто здесь Сэвилл?
Колин встал.
— Ваша фамилия Сэвилл, мальчик?
— Да, сэр.
Головы впереди быстро повернулись.
— Она пишется с одним «эл», мальчик, или с двумя?
— С двумя, сэр, — сказал он.
— С двумя «эл». В вашей фамилии два «эл», а не одно «эл»?
— Да, сэр.
Мальчики вокруг засмеялись.
— Так почему же в журнале я вижу одно «эл»?
— Не знаю, сэр. — Колин мотнул головой.
— В вашей справке только одно «эл», мальчик. — Он взял в руки справку, все еще лежавшую на его столе.
— Она всегда писалась с двумя «эл», сэр, — сказал он.
— Подойдите сюда, мальчик, — сказал Ходжес.
Он вылез из-за парты. В классе было тихо, и, пока он шел по проходу к столу учителя, его шаги гулко отдавались в тишине.
— Это одно «эл» или два? — сказал учитель. Он указывал худым пальцем на подпись отца. Колин уже давно замечал, что его отец подписывается по-разному, иногда с двумя «эл», иногда с одним.
— Одно, сэр.
— Одно, сэр. — Учитель посмотрел на него поверх очков. — Итак, вы признаете, что я не ошибся?
— Да, сэр.
— Отлично, Сэвилл с двумя «эл». Идите на место.
Класс захохотал. Он пошел к своей парте.
— Итак, Сэвилл с двумя «эл», либо ваш отец не знает, как правильно пишется его фамилия, — (хохот), — либо ее неправильно записал я. — Он снова заглянул в журнал. — Занятие отца. — Он что-то записал на листке. — По-видимому, «работает на горнодобывающем предприятии» должно означать, что он работает на угольной шахте. Это верно?
— Да, — сказал он.
— Да… а дальше?
— Да, сэр.
— Однако есть много людей, которые могут с полным основанием сказать, что они работают на угольной шахте. Например, управляющий угольной шахтой имеет право сказать, что он работает на угольной шахте.
Он подождал ответа.
— Да, — сказал Колин и добавил: — Сэр.
— Полагаю, что этой должности он, конечно, не занимает.
Колин молчал, не зная, что ответить.
— Он не управляющий, Сэвилл?
— Нет. — Он помотал головой.
— Нет… а дальше?
— Нет, сэр, — сказал он.
— И по-видимому, не заместитель управляющего?
— Нет, — сказал он.
— Работает ли он в конторе или, как они выражаются, под землей?
— Под землей.
— Он руководит там работой или сам выламывает уголь?
— Он выламывает уголь, — сказал Колин.
— Рубает уголек?
— Да, сэр.
Класс хохотал.
— Другими словами, Сэвилл, он шахтер?
— Да, сэр.
— Почему же он не мог так и написать?
Ходжес нагнул голову и несколько секунд писал в журнале.
— Ну, Сэвилл с двумя «эл», вы можете на это ответить?
— Нет, сэр. — Он помотал головой.
— Что означают слова, написанные на вашей куртке? Ходжес поглядел на эмблему.
— Я полагаю, вам известно, что на вашей куртке написаны слова?
Он не сразу понял, о чем говорит учитель.
— Под этим довольно пышным гербом, символически расположенным у вашего сердца, написаны три слова. Могу ли я предположить, что вы их прочли?
— Да, — сказал он и опустил голову.
— И вероятно, — добавил учитель, — вам известно, что они значат.
Он ничего не ответил.
— Итак, понятны они вам или нет?
— Нет, — сказал он.
— Должен ли я из этого заключить, мальчик, что вы не знаете девиза вашей школы?
Он ничего не ответил.
— Вы думали, что слова эти служат просто для украшения?
— Нет. — Он мотнул головой.
Учитель помолчал.
— Откуда вы, Сэвилл?
— Из Сэкстона, сэр, — сказал он.
— А Сэкстон, по-видимому, расположен где-то в здешних краях?
— Да, сэр.
— Сколько вам лет, Сэвилл?
— Десять, сэр.
— И вы умеете читать?
— Да, сэр.
— В таком случае не будете ли вы так любезны прочесть вслух эти три слова?
Он не мог разглядеть их как следует и почти вывернул шею.
— Лейбор ипс волаптас, — сказал он.
— Боже великий, да вы понимаете, что вы говорите?
Он уже не пытался отвечать. Лицо Ходжеса словно расплывалось в тумане.
— Лабор, лабор, лабор, — сказал Ходжес. — Ипсе, ипсе, ипсе. — Он взмахнул руками. — Волюптас, волюптас, мальчик. — Он застонал. — Садитесь, Сэвилл. Кажется, мне дурно.
Он достал носовой платок и вытер лоб.
— «Лабор ипсе волюптас», — сказал он. — Кто-нибудь знает, что может означать эта фраза?
Поднялось несколько рук.
— Ну, мальчик? Ну, мальчик? — Он помолчал. — Отвечайте правильно. Если не знаете, лучше прямо сознайтесь, как Сэвилл. Итак, мальчик?
— Труд — это удовольствие, сэр, — ответил кто-то.
— Труд — это удовольствие. Совершенно верно. Совершенно верно. — Он снова вытер лоб. — Труд есть удовольствие, Сэвилл. Вы поняли? Вы слышали?
— Да, сэр, — сказал он и встал.
— Труд есть удовольствие, Сэвилл, и — если мы вернемся к исходной теме — это утверждение точно и недвусмысленно.
— Да, сэр, — сказал он.
— Тогда как «работает на горнодобывающем предприятии» никак не может считаться точным и недвусмысленным определением профессии, Сэвилл. Подобное псевдоопределение может скрывать множество грехов.
— Да, сэр, — сказал он.
— Тогда как «шахтер», или, точнее, «углекоп», как определение профессии вносит в вопрос всю необходимую ясность и позволяет избежать недоразумений. Если кто-нибудь говорит мне, что он углекоп, я тотчас понимаю, какую работу он выполняет, даже если, — прибавил он, вновь вытирая лоб, — даже если мне неизвестно, как он эту работу выполняет. Например, пользуется ли он киркой или управляет машиной.
Он помолчал.
— Итак, он пользуется киркой, Сэвилл?
— Да, сэр, — сказал он и добавил: — Иногда.
— Ах так! — Ходжес несколько секунд вперял в него взгляд. — Мне кажется, в этом классе зреют семена мятежности. — Он сделал паузу. — Я замечаю в характере Сэвилла определенную степень непокорности, нежелание принимать наставления. — Он снова сделал паузу. — Мне придется следить за Сэвиллом. А также еще кое за кем, чье поведение на протяжении двух последних часов не укрылось от моего внимания. — Он оглядел класс. — Садитесь, Сэвилл. Я буду с нетерпением ждать возможности выслушать ваши ответы во время арифметической проверки, а также гимн, несомненно помеченный печатью вашей личности.
Раздали еще тетради. Они написали на обложках свои фамилии, класс и название предмета. Снова зазвонил колокольчик.
— Звонят для меня, а не для вас, — сказал Ходжес, когда головы обернулись к двери. — Пятнадцать минут перемены вы проводите на площадке для игр за школой, а не, разрешите вам заметить, на лестнице, туда ведущей. Внутри здания не остается никто. Те, кому положено молоко, найдут его в крытой галерее внизу. Выпив его, сразу отправляйтесь на площадку.
Они выходили из класса по рядам.
Крытая галерея представляла собой заложенные кирпичом арки, выходившие на площадку за школой. Центральная арка была оставлена открытой, и там выдавалось молоко. Снаружи во дворе толпами ходили мальчики. В сумрачном полусвете внутри он различил несколько дверей и мерцающие отблески огня в котельной.
— Значит, тебя все-таки приняли, — сказал кто-то.
Он отвернулся от ящиков с молоком и увидел светловолосого мальчика, который, прислонившись к стене галереи, пил из бутылки.
— Ты в каком классе? — спросил Стэффорд.
— В третьем «А».
— А я в третьем повышенном.
— Где это?
— Напротив вашего.
Стэффорд улыбнулся.
— Нравится тебе здесь? — добавил он.
— Ничего.
— Значит, ты экзамены сдал?
Он кивнул.
— А я провалился.
— Так как же тебя приняли? — спросил он.
— Платным учеником. — Стэффорд пожал плечами. Он выглядел точно так же, как прежде, только куртка была другой. Из кармана торчал серебристый колпачок авторучки.
— А какая разница между третьим «А» и третьим повышенным? — спросил он.
— Ну, у нас, кроме латыни, кажется, есть еще греческий, — сказал Стэффорд. — А у вас только латынь. — Он снова улыбнулся. — Допил молоко? Пошли на площадку, — добавил он.
Они прохаживались взад и вперед.
— Тебя в туалете обмакивали? — спросил Стэффорд.
— Нет. — Он помотал головой.
— По-моему, они никого не обмакивают. Только пугают. Я знаю троих, кого приняли в прошлом году, и они все говорят, что никого не обмакивают.
Мимо пробегали мальчики. Один схватил его, закрутил на месте, что-то кому-то крикнул и, продолжая кричать, побежал дальше. По краю площадки тянулись бомбоубежища, похожие на приземистые домики без окон. Металлическая решетка на низком кирпичном основании отгораживала площадку от улицы. Сбоку стоял желтый кирпичный дом.
— Там живет Циркуль. И еще ученики, которые домой только на каникулы уезжают. Не то двое, не то один, — сказал Стэффорд. Большие окна дома выходили прямо на площадку. — Он, кажется, не очень-то любит учить, — добавил Стэффорд.
— А почему?
— Не знаю. Говорят, когда он наказывает кого-нибудь тростью, то сам плачет.
Колин поглядел на дом. В окне он увидел какую-то фигуру, но на таком расстоянии нельзя было понять, мужчина это или женщина.
— У него две дочки — заглядишься, — добавил Стэффорд.
Зазвонил колокольчик. Гонявшие мяч остановились. Толпа фигур в синих куртках ринулась в школу.
— Ты тут ешь? — сказал Стэффорд.
— Да, — сказал он.
— Ну, так увидимся.
Стэффорд хлопнул его по спине и, кого-то окликая, побежал к каменной лестнице.
День тянулся медленно. На большой перемене он Стэффорда не видел. Они обедали в узком помещении, которое до перестройки было частью галереи — под окнами в заложенных арках стояли столы и деревянные скамьи. Потом он опять пошел на площадку. Там играли в регби, Коннорс бежал с мячом, из-под куртки у него торчал край рубашки. Некоторое время он стоял у края площадки с другими мальчиками, стараясь оттянуть минуту, когда ему все-таки придется пойти в туалет. В конце концов он решился, но там никого не было. Обычные кабинки и умывальники. Судя по цвету раковин, умывальниками никогда не пользовались.
Днем, как и утром, у них было два урока. Но уже настоящих, с другими учителями. Ходжес не то нарочно, не то на самом деле забыл про таблицу умножения. Про гимны он тоже забыл. После большой перемены он только заглянул в класс, чтобы отметить что-то в журнале и объявить, какой у них будет урок.
— По сравнению с мистером Плэттом, который сию минуту начнет обучать вас вашему родному языку, джентльмены, я — сущий ангел. На вашем месте я бы слушал его с величайшим вниманием, и горе тому мальчику, который не сразу выполнит его приказание!
Он быстро вышел, взмахнув мантией, на ходу снимая очки, проводя ладонью по голове.
Некоторое время в классе стояла тишина. Потом впереди зашептались. Кто-то засмеялся. В коридоре снаружи раздались голоса, кто-то что-то сказал, голоса стихли.
Шепот в классе продолжался. Утром многие мальчики, закончив списывать расписание в дневник или выводить свои фамилии на обложках тетрадей и на учебниках, сразу откидывали головы и уставлялись в потолок. И теперь тоже несколько голов было задрано, широко раскрытые глаза смотрели тупо, носы под глазами морщились, губы под носами шевелились.
Из глубины класса появился человек. Он был коротконогий, коренастый, с густыми черными волосами. В стеклах его очков отражался свет, и глаза оставались невидимыми. Стекла были толстые, лицо ниже очков тяжелое, нос короткий, как и ноги, рот широкий, губы мясистые, а подбородок выдавался вперед.
Он выждал, пока мальчики на передних партах не осознали его присутствия. Затем в полной тишине прошел через весь класс, положил стопку книг на стол, откашлялся, вытер рот носовым платком, поглядел вокруг и сел.
— Меня зовут, — сказал он, — мистер Плэтт.
Он вглядывался в них еще несколько секунд.
— Ваших фамилий я не знаю, но вскоре, — сказал он, — я, вероятно, их запомню.
Он снова выдержал паузу.
— Утром вам должны были выдать учебники с зеленым корешком, озаглавленные «Основы английской грамматики». Я попросил бы вас, когда я скажу, тихо вынуть учебник с зеленым корешком. И еще я попросил бы вас, когда я скажу, достать тетрадь в синей обложке с надписью «Английская грамматика». — Он помолчал. — Учебник, тетрадь, ручка, линейка. Чернила для тех, у кого нет авторучек, уже, я полагаю, налиты в чернильницы. Итак, достаньте то, что я назвал.
Урок этот не сохранился в памяти Колина. В классе было жарко, из дыры в полу все еще поднимались запахи стряпни, и его сморила дремота. Он прислонил голову к стене, ощутил прохладу деревянной панели и до звонка, возвестившего окончание урока, не замечал ничего.
Перемена была очень короткой. Фигура мистера Плэтта в черной мантии исчезла из класса, и через минуту-другую на ее месте возник высокий светловолосый человек в костюме спортивного покроя. Он сказал, что его зовут мистер Уэлс. Он преподавал французский язык. Они повторяли за мистером Уэлсом гласные звуки. У него был маленький рот с узкими губами. Глаза были голубые, нос длинный и острый. Он показывал, как нужно произносить французские гласные, и по классу прокатывались смешки, когда он растягивал рот, чтобы произнести «э», опускал челюсть, выговаривая «о», потешно складывал губы трубочкой, показывая, как получается «ю».
Ученики хором повторяли звуки, записывали простые слова, Уэлс вызвал двух-трех человек, и каждый произносил гласные поодиночке — в классе слышался сдавленный смех, но Уэлс его как будто не замечал.
Он, весь красный, стоял у стола и повторял гласные так, словно упражнялся у себя дома перед зеркалом. Этот урок, как и предыдущий, длился три четверти часа. Все уже ждали звонка, и, когда он зазвенел, в классе стало шумно.
Но урок продолжался, и мальчики затихли. Из коридора доносились шум и крики, хлопали двери, шаркали подошвы. Потом крики раздались за окнами.
Уэлс продолжал писать на доске слова, а они списывали. Наконец учитель обернулся на шум снаружи.
— Что, был звонок? — Он обвел их взглядом.
— Да, сэр, — ответили почти все.
— Запишите домашнее задание, — сказал он. — Если не ошибаюсь, завтра я у вас с утра. — Он объяснил, какие слова они должны выучить наизусть.
Уэлс собрал свои книги с таким же рассеянным видом, с каким вошел, и направился к двери. Несколько мальчиков проскочили в нее перед ним.
По дороге к автобусной остановке он посматривал по сторонам, но Коннорса нигде не было. На остановке уже выстроилась очередь. Первые несколько миль он ехал стоя. Когда он поднялся на крыльцо, было уже шесть — он вышел из дому больше десяти часов назад.
Отец спустился на кухню и слушал, сидя за столом, пока мать собирала чай.
— Значит, вы уже начали заниматься?
— Французским, — ответил он и сказал еще про грамматику.
— А на дом вам что-нибудь задали?
— Учить уроки дома нам велели час.
— Ну, тебе пора за них браться, — сказал отец.
— Пусть сначала выпьет чаю. И отдохнет, — сказала мать. Они смотрели, как он ест.
— А учителя у вас какие?
— Их там называют наставниками.
— Наставники. Наставники. А какие они?
— Строгие очень.
— Так ведь иначе, наверное, толку не добьешься.
Он достал свой дневник.
Отец взял его, перелистал страницы.
— А это для чего?
— Чтобы отмечать, кто хорошо трудится, а кто плохо.
— Верят, значит, в труд, — сказал отец.
— У них и девиз такой: «Труд — это удовольствие». — Он потрогал эмблему на куртке.
Отец засмеялся.
— Ну, уж не там, где я тружусь, — сказал он. — Тот, кто написал такое, никогда на шахте не бывал.
Он прочел расписание, низко нагибаясь над страницей.
— Латынь, ага, ага. Химия, физика — порядком для одной недели. Четыре математики. Родной язык четыре раза. Да нет, пять, — добавил он, ведя пальцем по строчкам.
Немного погодя отец начал собираться на работу. Он стоял во дворе, подтягивая седло.
— Регби у тебя, значит, завтра.
— Угу, — сказал он.
— Ты уж выложись по-настоящему.
— Угу, — сказал он.
Отец поглядел на него.
— Они не важничают, не задираются?
— Нет, — сказал он.
— Может, тебе там не по себе?
— Нет. — Он помотал головой.
— Это очень хорошая школа.
— Ну, ладно, ладно, — сказала мать. — Не лучше, чем он того заслужил.
— Пожалуй, что и так, — сказал отец.
Он сел на велосипед.
— Ну, удачи тебе на завтра, если утром не увидимся, — сказал он.
Колин стоял во дворе и смотрел ему вслед. Потом поднялся к себе в комнату. Сидя на кровати, он произносил гласные, заучивал указанные учителем слова.
Через час к нему вошла мать.
— Пора тебе ложиться, голубчик. И так уж засиделся.
— Я еще не все слова выучил, — сказал он.
— Но ведь ты просидел, сколько вам велели.
— Я же их не выучил.
— Я дам тебе записку, что ты учил, сколько положено, — сказала она.
Он начал раздеваться. На пустыре за окном играли Батти и Стрингер. Прежде чем лечь, он спустился вниз.
— Ты не пиши, — сказал он. — Я сам ему объясню.
— Не беспокойся. Я ему напишу. Ты ведь учил, — сказала мать.
— Я сам ему объясню, — сказал он. — А тебе писать не надо.
Она смотрела, как он поднимается по лестнице. Лежа в кровати, он слышал, как она ходит по кухне, и слышал, как Стивен за стеной ворочается с боку на бок. Наконец двери были заперты, окна закрыты, и мать медленно поднялась по лестнице.
Она вошла к Стивену. Он услышал, как скрипнула кровать, когда она подоткнула одеяло. Она приотворила дверь его комнаты.
Он лежал тихо, и дверь закрылась.
Солнце еще не зашло, из-под занавески пробивался свет. Он уснул, а в ушах у него отдавались голоса Стрингера и Батти.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Узкая дорожка вилась позади больших кирпичных домов, а потом выводила к огромному спортивному полю, разбитому на игровые поля и площадки. За изгородями еще несколько площадок уходили к близкому горизонту, ограниченному деревьями и домами.
В середине главного поля натянутые веревки ограждали разметку для крикета. Там, где дорожка выводила на поле, стоял кирпичный павильон, а рядом с ним еще один, поменьше — деревянный, выкрашенный зеленой краской. Он выглядел обветшалым, доски внизу начинали подгнивать. Там уже раздевались мальчики его возраста.
Две тускло освещенные комнаты были полны ребят. Он вдруг заметил, что кто-то сбросил его одежду с колышка. В конце концов он сложил ее в ранец и, выждав, чтобы все ушли, повесил ранец на уже занятый колышек возле двери.
Младших мальчиков собрали у дальней стороны поля. Там стояли два учителя — Плэтт, коротконогий и коренастый, и еще один, которого он видел в первый раз, тоже невысокий, но щуплый. Он то и дело медленным нерешительным жестом приглаживал редкие седые волосы. Глаза у него были темные и влажные. Он спрашивал у мальчиков их фамилии, сверялся со списком, который держал в руке, и кивал.
На площадках у концов поля взад и вперед бегали другие ребята, там проверялись фамилии, звучали свистки, а возле высоких, выкрашенных в школьные цвета сине-желтых ворот мальчики ростом со взрослых мужчин начали разминку.
— Кто из вас, мальчики, играл в регби по правилам союза? — спросил Плэтт и дунул в свисток. — Будете вы слушать, что вам говорят! — закричал он.
Колин прыгал на месте. Его бутсы были стоптаны по внешнему краю, рубашка была ему велика. Он подвернул рукава, а низ продернул между ногами. Когда он бежал, то чувствовал, как ее край болтается сзади.
— Те, кто играл в регби по правилам союза, — сказал второй учитель, — станьте вот здесь.
Он отошел к столбу ворот, и вокруг него собралась кучка ребят.
— Кто-нибудь играл в регби по правилам лиги? — сказал Плэтт.
Двое-трое мальчиков подняли руки.
— Нам здесь профессионалы не требуются. — Он хохотнул. — Но пока мы с выводами торопиться не будем, — добавил он и обвел их взглядом.
— В это время года в здешних краях играют в три спортивные игры, — сказал Плэтт. — В футбол — игру, которую, по моему мнению, следовало бы оставить для девочек. В регби по правилам лиги — чаще всего ради денег. И наконец, в регби по правилам союза — это честная и справедливая игра, принятая в наших старейших университетах, а также в школах с почтенными традициями. Это игра, которая была придумана джентльменами, а потому, естественно, в нее играют, как подобает джентльменам, о чем следует твердо помнить всем, кто будет играть в нее под руководством мистера Хепуорта и моим. — Он протянул руку в сторону щуплой фигуры у ворот. — Мы, разумеется, хотим подобрать команду для встреч с младшими учениками других школ. У вас у всех будет возможность состязаться за место в ней, но все вы, и особенно те, кто усвоил манеры профессионалов, должны помнить, что и мистер Хепуорт, и я выше всего ценим джентльменское поведение и неукоснительное соблюдение правил при любых обстоятельствах. Драки, злобность, неоправданные пробежки с мячом и прочее, что отличает игру профессионалов, должен вас предупредить, школе короля Эдуарда не требуются. Хорошенько это запомните. — Несколько секунд он озирал фигуры в полосатых рубашках, потом добавил: — Ну так вот, те, чьи фамилии я назову, строятся вон там.
Немного времени спустя нескольких мальчиков отослали с поля. Они уходили медленно, цепляя ногу за ногу, некоторые с полным равнодушием. Потом со стороны павильона донеслись их голоса: они перекликались, выбегая из дверей после душа.
К концу дня на поле их осталось не больше половины. Колин бегал взад и вперед. Он никогда еще не играл в регби. В первый раз получив мяч, он кое-как отбросил его мальчику, который был выше и плотнее.
— Вы! Вы там! Вы что, никогда не передавали мяч? — сказал Плэтт.
Колин взял овальный мяч и прижал его к груди.
— Шнуровка повернута в том направлении, куда вы хотите послать мяч. Держат мяч вертикально. Вот так. А теперь попробуйте.
Он бросил мяч.
Плэтт покачал головой.
— Постойте пока в сторонке, — сказал он.
Колин стоял с другими мальчиками у края поля и ждал, что их сейчас отошлют. Остальные группы уже уходили. Только старшие мальчики еще бегали с мячом.
— Вы! Вы там, мальчик! — позвал Плэтт.
Он побежал назад.
— Вы знаете, как строят схватку, мальчик? — сказал Плэтт.
Он опустил голову и просунул руку под локоть мальчика рядом. Они просунули головы между боками стоявших впереди. Он увидел, как в плотный круг игроков влетел мяч и проскользнул у него под ногами.
Игра продолжалась. Мяч задержался у него в ступнях. Он подхватил его и побежал.
Он проскочил мимо одного мальчика, потом с противным хрустом налетел на других.
Он свалился им под ноги. Увидел носки и пятки, взлетающие возле самого его лица, отпустил мяч и откатился в сторону.
— Хорошо сыграно, мальчик! Вот так и надо, — сказал Плэтт.
Он снова бежал с мячом. Он сшиб кого-то с ног. Теперь игра доставляла ему смутное удовольствие. Но он не старался привлекать к себе внимание.
Потом игра кончилась, и Плэтт прочел фамилии:
— Николс, Бирсфорд, Джонс, Сэвилл. — На нем список кончался. — Те, кого не назвали, в следующий раз пойдут к мистеру Ходжесу на поле Спайоп-Коп, — сказал мистер Плэтт.
Учителя ушли. Двое-трое мальчиков ушли с ними. Остальные пошли туда, где играли старшие. Они называли и показывали друг другу игроков: Своллоу, Трэнтер, Смит-старший, Корнфорт. Земля дрожала, когда они пробегали мимо. После каждого столкновения в дерне оставались бурые шрамы.
Он пошел в павильон. Руки и ноги у него ныли. В глубине комнаты был умывальник, но мальчики почти все одевались сразу, не смывая грязи.
К автобусной остановке он еле брел. Бутсы натерли ему ноги, плечи болели от тяжести ранца. В автобусе он заснул, приоткрыл глаза, когда их тряхнуло на горбатом мостике, но заставил себя очнуться, только когда автобус, громыхая, въехал в поселок.
Вечером он засиделся над уроками совсем допоздна. Кроме французского, надо было приготовить математику и латынь. А с латынью, как он ни бился, у него ничего не получалось.
— Ты три часа ее учишь, — сказала мать. — Мне самой давно пора ложиться, а уж про тебя я и не говорю.
— Нет, я должен справиться, — сказал он.
— Дай мне тетрадку, — сказала она. — Я ему напишу, что ты устал.
Он прикрыл тетрадь рукой.
— Да ведь если ты будешь так себя изводить, то к концу недели наверняка заболеешь.
Он лег спать, так и не доучив. Утром он опоздал на свой автобус и уехал только через полчаса.
Утренняя молитва уже началась. Он и еще несколько ребят ждали снаружи. Потом их впустили, записав фамилии.
— Что такое? Один мальчик опоздал сегодня утром? — сказал Ходжес, когда проверял журнал после большой перемены. — Да неужели Сэвилл с двумя «эл»? Уж не потому ли, что выяснял, как пишется его фамилия?
— Нет, сэр, — сказал он.
Тетрадь по латыни он уже сдал.
— Отличился, как я слышал, на спортивном поприще. Так мне сообщили мистер Плэтт и мистер Хепуорт. — Он смотрел на него поверх очков через весь класс. — Регби никаких привилегий вам не дает, мальчик. Как бы прекрасно вы ни играли. Вы поняли это, Сэвилл с двумя «эл»?
— Да, — сказал он.
— Ну-с, два «эл», надеюсь, мне не придется больше видеть пометку «опоздал» против вашей фамилии. — Он снял очки. — Покажите мне ваш дневник.
Он пошел с дневником к столу.
— Я запишу вам замечание, два «эл», в предостережение не только вам, но и всем остальным. — Ходжес поглядел по сторонам и достал ручку. — Замечание в самом начале учебного года — вещь очень-очень скверная. Оно задает тон дневнику, изменить этот тон нелегко, особенно новичку. А ведь наставники всегда смотрят в его дневник, чтобы узнать, что он за мальчик.
— Я опоздал на автобус, — сказал он.
— Все мы опаздываем на автобус, два «эл», если лежим в постели, пока не опоздаем на автобус, — сказал Ходжес.
Он промокнул замечание, написанное красными чернилами, и отдал ему дневник.
— Пусть это послужит уроком всякому, кто склонен опаздывать на автобусы, — сказал он. — Ну-с, идите на место, два «эл».
Он сел и открыл дневник. В графе для замечаний было написано: «Третье утро в школе с опозданием, Дж. Т. X.»
Он поднял руку.
— В чем дело, два «эл»? Что-нибудь случилось?
— Вы тут написали неправильно, — сказал он.
— Что такое, Сэвилл?
Он увидел, что глаза за очками прищурились. Лицо Ходжеса налилось краснотой.
— То, что вы написали у меня в дневнике, — сказал он.
— Что такое, мальчик? — Ходжес помолчал. — Вы знаете, как надо обращаться к наставнику, Сэвилл?
— Да, сэр, — сказал он.
— Это первое «сэр», которое я услышал, Сэвилл, с того момента, как вы встали.
— Вы так записали замечание, сэр, что получается, будто я опоздал три раза подряд.
Ходжес опять помолчал.
— Прочтите мне, что там написано, Сэвилл.
— «Третье утро в школе с опозданием», — прочел он вслух.
Ходжес помолчал.
— Мне кажется, это совершенно ясно, — сказал он. Потом вынул ручку. — В таком случае дайте мне ваш дневник еще раз, Сэвилл.
Он прошел через весь класс к столу. Звонок на урок уже отзвенел.
— Я запишу вам второе замечание, Сэвилл, за дерзость. Мне незачем объяснять вам, насколько серьезная вещь два замечания за один день. Три замечания за неделю — и я обязан доложить о вас мистеру Уокеру. В пятницу в это время я снова попрошу вас подать мне дневник. И если окажется, что какой-нибудь другой наставник счел нужным подтвердить мое мнение о вас, от меня уже больше ничего не будет зависеть.
Он записал второе замечание теми же красными чернилами, тщательно промокнул и отдал ему дневник. В дверь уже вошел учитель.
— Вы все поняли, Сэвилл?
— Да, — сказал он и пошел на свое место.
— Меня редко вынуждали записывать два замечания сразу, — добавил Ходжес, оглядывая класс. — Я думаю, мистер Хепуорт согласится со мной, что наставнику особенно грустно исполнять подобный долг, когда речь идет об ученике из его собственного класса. Не могу выразить, насколько прискорбно мне то, что произошло. Во всяком случае, надеюсь, что теперь положение ясно и в будущем ничего подобного не повторится. Достаньте учебники и тетради для урока мистера Хепуорта. О случившемся, если меня к тому не вынудят, я больше упоминать не буду.
Он вышел, на ходу снимая очки, и в полной тишине закрыл за собой дверь.
Хепуорт несколько секунд простоял молча. Потом провел рукой по волосам и медленно пошел через класс к столу.
— Пожалуйста, откройте атласы на странице тридцать первой, — сказал он.
После уроков Колин долго ждал возле учительской. Ходжеса он не увидел.
Потом он ждал снаружи.
Наконец из дверей вышел Плэтт с портфелем в руке и направился к воротам. Он подошел к нему и прикоснулся к фуражке.
— В чем дело, мальчик? Я слушаю, — сказал Плэтт. Пальто у него было расстегнуто — он явно торопился.
— Мистер Ходжес еще в учительской, сэр? — сказал он.
— Ходжес? У него сегодня последних уроков нет. Он сразу уходит домой. А в чем дело?
— Я хотел подать жалобу, сэр.
— Поговорите с ним утром, если это что-нибудь важное. Или оставьте записку в канцелярии.
Он добрел до остановки, еле удерживая слезы.
— Что это с тобой? Что-нибудь случилось? — сказал отец, едва он вошел.
Он показал ему дневник.
И увидел, как белеет лицо отца.
— Черт подери! Утром я туда съезжу.
— Не надо, — сказал он. — Ты только хуже сделаешь.
— Не сделаю, не беспокойся.
— Я сам с ним поговорю.
— Не беспокойся, малый. Я все улажу.
— Ничего ты не уладишь, раз занесли в дневник!
— Занесли, так вынесут, — сказал отец.
— Ты ничего сделать не можешь, — сказал он. — Только хуже будет.
— Не беспокойся, малый. Я все выясню.
Утром отец поехал в школу. После звонка на большую перемену Колина вызвали к директору. Директор сидел за письменным столом. По стенам вокруг тянулись полки с книгами, окно выходило на площадку, полную ребят. На стене висели фотографии в рамках, а в углу стоял большой глобус на деревянной подставке. Рамка на деревянной каминной полке заключала похожий на маску профиль. Глаз его был закрыт, черты чем-то напоминали худое лицо директора.
Из-под кустистых бровей на него смотрели бледно-голубые глаза.
— У меня сегодня утром был ваш отец. По поводу замечаний мистера Ходжеса, — сказал директор.
— Да, сэр. — Он кивнул. — Он говорил, что поедет в школу.
— Оказывается, вы опоздали утром на третий день после начала занятий и возражали против того, как мистер Ходжес сформулировал замечание в вашем дневнике. По его словам, вы держались с ним настолько дерзко, что это было равносильно нарушению дисциплины.
— Да, сэр.
— Судить о вашем поведении — право наставника, Сэвилл. А в данном случае не просто право, но и прямая обязанность мистера Ходжеса. Он не только очень опытный педагог, но и относится к мальчикам вашего возраста с большим пониманием и симпатией. Если у него сложилось такое мнение, значит, оно верно, и я на это мнение полагаюсь. Я весьма не одобряю мальчиков, которые, провинившись, не находят иного выхода, как жаловаться родителям, после чего те являются в школу с самым превратным представлением о том, что произошло.
— Я просил отца не ездить, сэр. — Он смотрел мимо худого, острого лица на площадку внизу.
— Он сказал, что вам трудно дается выполнение домашних заданий, Сэвилл.
— Да, сэр.
— Если вы не успеваете закончить их за полтора часа, вам следует указать на это в тетради и сообщить о ваших затруднениях преподавателю этого предмета, а не сидеть до такого позднего часа, что утром вы не можете проснуться вовремя и опаздываете на автобус.
— Да, сэр.
Директор взглянул на свой стол.
— Мне жаль, что это произошло в первые дни вашего пребывания в школе. Мистер Ходжес, чтобы его позиция была совершенно ясна, выразил готовность снять эти замечания и обратился ко мне с просьбой выдать вам новый дневник. Боюсь, однако, что я не могу и не хочу допустить ничего подобного. Дневник существует для того, чтобы его все видели, и он — самый важный ваш школьный документ. Надеюсь, вы извлечете из этого случая полезный урок и поймете, что наставники и наставницы видят свой долг вовсе не в том, чтобы карать вас за проступки; они здесь для того, чтобы учить вас, помогать вам, а в случае необходимости указывать, как и почему вы поступаете неверно. Надеюсь, вы теперь понимаете, что должны доверять их мнению. В конце триместра прошу вас прийти ко мне с дневником, и он покажет нам, каковы ваши успехи и прилежание.
Он вышел из кабинета. В канцелярии седая секретарша с красным загорелым лицом подняла голову от работы, улыбнулась и спросила:
— Вам что-нибудь велено мне сказать?
— Нет. — Он помотал головой.
— Ну, тогда идите, Сэвилл, — сказала она.
Он пошел по коридору. Звонка к началу уроков еще не давали, и он спустился на площадку.
Прислонившись к забору, он поглядел на окно директора. Цветные стекла, вставленные у его середины в ромбы частого переплета, слагались в школьный герб с девизом. Из кабинета он этого не заметил.
Вечером отец был каким-то притихшим.
— Он все-таки справедливый, этого у него не отнимешь, — сказал он. — И Ходжес тоже. Я с ними обоими говорил, — добавил он.
Колин в первый раз видел, как отец отступил от своего прежнего убеждения.
— Они сказали, что на них это никак не повлияет. В смысле оценок, — добавил он.
— Ну, теперь все улажено и позади, — сказала мать.
— Да, воздух, можно сказать, прочистился, — ответил отец. — Только смотри, на автобус больше не опаздывай, — добавил он.
Неделю спустя на тренировку пришел Стэффорд. После первого дня Сэвилл иногда разговаривал с ним на площадке за школой, а один раз они ушли из школы вместе и расстались у проулка, который, как он уже знал, вел к вокзалу. В четверг, когда Колин вышел из раздевалки, Стэффорд стоял посреди поля, упершись руками в бока, и словно не замечал, что происходит вокруг. Он ковырял каблуком дерн, посматривал по сторонам и поглаживал волосы медленно, почти растерянно, словно предпочел бы уйти и заняться чем-нибудь полегче.
Играл он в задней линии. Он был тонким, почти хрупким. По большей части он стоял, сложив руки, жевал травинку, заговаривал с другими игроками, а иногда подбирал камешки или комки земли и отбрасывал их в сторону. Получив мяч, он побежал так неторопливо, что, казалось, его обязательно должны были схватить — медленно, почти сонно сворачивал, увертывался, ускользал от протянутых рук, оставляя позади одного игрока, второго, третьего, и, наконец, словно ему наскучила такая легкость, отбросил мяч другому мальчику, который тотчас попал в захват.
— Больше энергии, Стэффорд. Больше энергии, — сказал Плэтт. Он сделал пометку в своем списке и кивнул Хепуорту.
Всего их отобрали тридцать. Иногда они менялись рубашками и играли против недавних партнеров. Остальных отослали. Основу составляли мальчики, учившиеся третий год или хотя бы второй; из новичков взяли только Стэффорда, Колина и еще двоих.
В перерыве их собрали в круг на середине поля.
— С этих пор все вы, — сказал Плэтт, — будете приходить сюда по вторникам и четвергам. Вы — ядро нашей команды младшего подросткового возраста. Вам все понятно, Стэффорд?
Стэффорд лежал на траве, подложив руки под голову, и смотрел в небо. Колин покосился на него, и ему показалось, что глаза Стэффорда закрыты.
После слов Плэтта он приподнял голову.
— Да, сэр, — сказал он.
— Это не слишком для вас неудобно, Стэффорд? — сказал Плэтт.
— Нет, сэр. — Стэффорд медленно приподнялся и сел. Он провел рукой по волосам. — Я немножко устал.
— Ничего, Стэффорд, — сказал Плэтт.
Продолжая разговаривать с мальчиками, Плэтт медленно двигался по кругу, жестикулировал, называл фамилии, что-то советовал, коротко рассказывал о планах на предстоящий сезон и под конец оказался совсем рядом с местом, где сидел Стэффорд.
— Капитаном будет Гаррисон, — сказал он, указывая на высокого плотного мальчика с толстыми ногами и волосами почти такими же светлыми, как у Стэффорда. — Он в команде уже третий год, и, если он будет вам что-то советовать, слушайте его. — Одной рукой он приподнял Стэффорда и поставил его на ноги. — Во втором тайме вы будете играть у Гаррисона, Стэффорд. И пожалуйста, больше энергии.
В разгар игры Стэффорд получил мяч почти прямо напротив Колина. Он бросился к нему, чтобы схватить и повалить. В глазах Стэффорда появилась легкая настороженность, он отступил в сторону, странно изогнулся и мгновение спустя, когда ему, казалось, некуда было деться, проскользнул мимо Колина, уже готовясь увернуться от тех, кто набегал сзади. Он метнулся к боковой линии, юркнул между двумя мальчиками, обогнул третьего и под одобрительные выкрики Плэтта и Хепуорта приземлил мяч между столбами ворот.
Он медленно пошел назад. Щеки у него раскраснелись, глаза блестели, словно его вынудили сделать что-то, чего он не хотел.
— Стэффорд, вы могли бы побежать по прямой, — сказал Плэтт. — Прямо через середину — самый короткий и самый быстрый путь.
— Да, сэр, — сказал Стэффорд. Он стоял, уперев руки в бока, и щеки у него еще пылали румянцем.
Наконец через несколько секунд после того, как мяч опять был введен в игру, раздался финальный свисток.
Стэффорд уже бежал куда-то неторопливой рысцой. Переодеваясь, Колин увидел, как он вышел из павильона старших, где был душ. Еще позже, свернув в проход, он услышал, что его кто-то нагоняет, обернулся и увидел Стэффорда, который улыбался и махал ему рукой.
— Плэтт любит придираться, — сказал он. — Верно?
— Да, по-моему, он все берет на заметку, — ответил Колин.
Волосы Стэффорда были аккуратно расчесаны. Фуражки он не надел.
— А ты где играл на прошлой неделе? — спросил Колин.
— На Спайон-Коп. А теперь меня сюда прислали.
В его тоне не было ни гордости, ни желания похвастать. Наоборот, он словно говорил о досадном недоразумении, которое собирался исправить в самом ближайшем времени.
— В команду тебя, конечно, возьмут, — сказал Колин.
— Ты думаешь? — Он уже забыл про регби и оглядывал куртку, проверяя пуговицы, шарил в карманах. В руке он нес аккуратную парусиновую сумку.
— Ну, раз Гаррисон капитан, а ты играешь у него.
— А он чушка. Ты видел, как он переваливается, когда бежит? — Стэффорд ускорил шаг, словно торопясь уйти подальше от поля. — Я решил получить справку.
Колин посмотрел на него.
— От врача. — Они вышли из прохода. — Если получить справку, что тебе вредно играть, то два дня после утренних уроков можно делать что хочешь. Как ты думаешь? Мы бы вместе в кино ходили.
— Откуда же я возьму справку?
— Я тебе достану. Это очень просто. — Они проходили мимо школы, но Стэффорд даже не оглянулся. Потом дальше по улице он посмотрел на свое отражение в витрине, остановился, достал гребешок и расчесал волосы.
Колин стоял и ждал.
— Тебе что, все это нравится? — сказал Стэффорд.
— Что это?
Стэффорд пожал плечами.
— Ну, бегать по полю. И терпеть, когда эта жирная чушка на тебя плюхается.
— Нет, — сказал он.
— А как тебя по имени? Справку я тебе достану. Даже лучше будет, что двоих освободят, а не одного.
— Колин.
— Ладно, Коль. Положись на меня.
Он свернул в проулок, ведущий к вокзалу.
Колин смотрел ему вслед. Он не обернулся.
Никакой справки он не получил. Он даже не узнал, достал ли Стэффорд справку для себя, хотя как-то спросил его об этом, — ни о каких справках Стэффорд больше не упоминал. Он избегал его, как только мог: Колин видел, как его приятель бежит по проходу с другими ребятами или, если он оказывался впереди, старательно замедляет шаг, поджидая, чтобы его кто-нибудь догнал. В школе они почти не встречались. Колин иногда видел, как он, ссутулившись, сунув руки в карманы, приваливается к ограде в дальнем конце площадки или у забора, ковыряет носком дерн, смеется, окликает других ребят, которые всегда подходили к нему и к которым он сам никогда не подходил. Как-то во вторник Колин нагнал его в проходе.
— А ты сегодня здорово играл, — сказал он.
Стэффорд посмотрел на него. Он шел один, держа парусиновую сумку под мышкой.
— Ну, это… Плэтт вроде был доволен. Меня включили в команду на следующую субботу. Мне Хепуорт сказал.
— Кем ты будешь?
— Полузащитником схватки.
Стэффорд шел, пристукивая каблуками.
— И еще меня, кажется, назначили заместителем капитана.
— Кто тебе сказал?
— Плэтти.
Когда они дошли до проулка, Стэффорд посмотрел на него.
— Ты как ездишь в школу?
— На автобусе.
— А на поезде никогда не ездишь?
— Нет, — сказал Колин.
— Ты где живешь? — спросил Стэффорд.
— В Сэкстоне.
— Мой поезд там останавливается. И туда и обратно. Доедешь вдвое быстрее, чем на автобусе.
— На поезде дороже.
— Ну, уж столько-то у тебя наберется.
— Да нет. — Он помотал головой.
— Что, у твоего отца даже на это денег не хватит?
— У него есть другие расходы.
Стэффорд медленно оглядел его посветлевшими глазами.
— Ну, так до завтра, — сказал он и ушел, насвистывая, размахивая сумкой, которую теперь взял в руку.
На следующей неделе его взяли запасным. Он мучился с латынью. Все время между пробуждением и сном было занято движением: он вставал, бежал на автобус, а дальше — час езды через поселки, приближение города, путь до школы, утренняя молитва, уроки, большая перемена, обед. После обеда — запах стряпни из галереи внизу, жужжащий голос учителя, короткая интерлюдия усталости, сонливость, вызванная духотой в плохо проветриваемом классе. Бодрость возвращалась только к концу дня. На последнем уроке он оживал, потом торопливо собирал книги и шагал по узким улицам к автобусной остановке у стен черного собора.
По вечерам он иногда играл на пустыре за домом, а все остальное время занимали домашние задания. Поселок становился для него чужим, всего лишь источником неудобств, потому что был далеко от города. Отца он почти не видел: утром он обычно уходил раньше, чем отец возвращался с работы, а если отец работал в дневную смену, он к его возвращению уже спал, и дома по вечерам они бывали вместе, только когда отец работал в утреннюю смену, но теперь он начал бояться этих вечеров, проверки тетрадей и отметок.
— Не такие уж они хорошие, а? Что это за буква с минусом? Что она означает?
— Гамма, — сказал он.
— А что такое гамма и с чем ее едят? — сказал отец.
Он объяснил, по какой системе ставятся отметки.
— Да ведь это просто те же баллы — от одного до десяти. — Отец посмотрел на него с внезапным гневом, вокруг его глаз разлилась знакомая белизна.
— Еще есть дельта, — сказал он. — Тоже отметка.
— Значит, еще и дельта. А с чем ее едят? — сказал отец.
— Меньше гаммы с минусом.
— Значит, дельта — это ноль, — сказал он. — Не понимаю, почему нельзя сделать по-простому: десять из десяти, один из десяти. Какой смысл приплетать сюда всякие слова?
Отец медленно пролистывал каждую тетрадь, изучал отметки, галочки, зачеркнутые места — все до мельчайшего исправления.
— Это бы даже я сумел решить. Значит, ты не слушал.
— Дай ему хоть дома побыть спокойно, — говорила мать.
— Кем же это побыть? Лентяем? Бездельником? И пусть все делает кое-как? А ведь ему только надо постараться немножко.
— Ну, дай ему отдохнуть хоть дома-то, — уговаривала она.
— Нет, ты посмотри, — кричал он и совал ей в лицо тетрадь. — «Примечание»! Он три года назад это правильно писал!
— Ну, а ты-то как пишешь «примечание»? — спрашивала она.
— Он, черт побери, в школе учится. А я малограмотный.
Лежа в постели, Колин слышал, как спорят родители — либо на кухне над его тетрадями, которые утром обычно лежали не так, как он оставил их с вечера, либо ближе к ночи у себя в спальне, если отец работал в утреннюю или дневную смену.
— Ну ладно. Физика у него не идет. Так пусть пойдет! И с латынью то же самое. Не такие уж они и трудные. Раз шестьсот других учеников с ними справляются, значит, и он может.
По вечерам он начал проверять, как Колин выучил уроки. К концу первого триместра отец научился спрягать латинские глаголы, научился составлять короткие латинские фразы и алгебраические уравнения, различать закиси и окиси, щелочи и кислоты и умел определить на карте, где хвойные леса, а где лиственные. Когда отец работал в ночную или дневную смену, он писал ему записки — поправки к сделанному накануне домашнему заданию или замечания по поводу какой-нибудь контрольной, обстоятельно и обычно не слишком складно растолковывая краткие пометки недовольного учителя на полях.
Как-то в субботу его поставили играть в матче против другой школы. Отец приехал поглядеть.
Встречались вторые команды и команды младшего возраста. Отец, не знавший расположения полей, сначала постоял там, где играли старшие. И перешел на поле младших, когда игра шла уже пятнадцать минут. Маленький, в пальто — поздняя осень не баловала теплыми днями, — он был единственным взрослым, не считая Плэтта и Хепуорта. Его крики гремели над полем.
— Давай! Давай! Жми! Хватай его!
А Плэтт и Хепуорт, поглядывая на него, восклицали заметно тише: «Больше скорости, школа Эдуарда, больше скорости!» и «Капитана поддерживайте! Капитана!»
— Хватай его! Хватай его! — кричал отец.
— Больше скорости, школа Эдуарда! — крикнул Плэтт, но его голос потерялся в бурных выкриках отца.
В перерыве между таймами принесли апельсины.
Плэтт вышел с подносом на поле и раздал их, а едва они были съедены, отвел Колина в сторону.
— У вас другой рубашки нет, Сэвилл?
— Нет, — сказал он.
— Я послал Хопкинса к сторожу за другой. — Он показал на запасного, который уже возвращался. — Во-первых, она велика, а во-вторых, цвета школы совсем слиняли.
— У меня другой нет, — сказал он.
— Тогда вам придется купить новую. Если вы хотите играть в школьной команде, боюсь, в таком виде вас на поле не пустят.
Он отошел к другим мальчикам.
— Давай, школа короля Эдуарда! — закричал отец. — Покажи им в этом тайме! — Весь красный, сжимая кулаки, он прохаживался у края поля.
— Чей это, собственно, отец? — сказал Стэффорд.
— Не знаю, — сказал Гаррисон и мотнул головой.
— Если бы ему самому надо было играть, он бы так не орал!
— Если бы он соображал хоть что-нибудь, — сказал Гаррисон, — так вообще бы не орал.
Игра шла как-то непонятно. Противники почти все были старше и крупнее их; его затягивал водоворот рук и ног, он стукался головой о замерзшую землю, коленки у него были разбиты в кровь и локти тоже. Дважды он бежал с мячом и дважды летел с ним на землю, ему заламывали руки, вырывали мяч из его скрюченных пальцев, на его ладони наступали тяжелые бутсы.
— Стэффорд, держать мяч! Держать, Стэффорд! — все чаще кричал Плэтт.
Однако Стэффорд, получая мяч, прекрасно видел выжидательно застывших или мчащихся на него игроков противника и тут же старательно передавал его то в одну сторону, то в другую. В его игре была какая-то странная сосредоточенность, точно он все время решал, как и от чего уклониться.
— Держать, Стэффорд! Вперед по центру! — крикнул Плэтт.
Колин принял мяч и передал его Стэффорду. Он увидел удивление на лице Стэффорда, напряженность в его взгляде, увидел, как он быстро поискал глазам кого-нибудь из своих игроков. Но рядом никого не было. Он побежал — медленно, все еще поглядывая по сторонам. Увернулся от игрока противника, потом от другого, небрежно, по-прежнему неторопливо, почти с высокомерным презрением, выжидая, что к нему подбежит кто-нибудь из своих. Но никто не подбежал: все старательно отставали.
Он метнулся к боковой линии. Вся команда ощущала, что Стэффорд обязан бежать. Он увернулся еще от одного игрока противника, а затем без малейшего напряжения, почти остановившись и больше уже никого не высматривая, подождал, пока подбегут остальные, медленно шагнул вбок, и они рванулись туда, куда наклонялось его тело, а он прыгнул совсем в другую сторону. И пересек линию зачетного поля.
Плэтт, Хепуорт и отец Колина вскинули руки вверх, Стэффорд приземлил мяч, оглянулся, взял мяч под мышку и пошел назад.
— Я сам ударю, — сказал он, когда подошел Гаррисон, отступил на шаг, ударил ногой, и мяч, описав дугу над головами подбегающих игроков противника, пролетел между столбами.
Упершись руками в бедра, Стэффорд пошел назад. Щеки у него побелели, глаза сверкали.
Когда они уходили с поля после конца игры, его догнал Стэффорд.
— Больше мне так не пасуй.
— Да ведь другого никого не было.
— Тогда делай как я. Падай или смотри в другую сторону.
Он заметил, что возле поля отца нет. Отец стоял у начала прохода. Лицо у него было красное, руки он засунул поглубже в карманы и притоптывал ногами, стараясь их согреть.
Они пошли в душевую.
Когда он вышел, отец все еще ждал возле прохода.
— Мне еще надо пить чай с той командой, — сказал он.
— Ничего, — сказал отец. — Ты не торопись. А я подожду тут.
— Пойдем вместе, — сказал он. Для приемов служил склад спортивного инвентаря, над которым жил сторож. В открытую дверь он увидел, что ящики и коробки сдвинуты в сторону и посередине поставлен деревянный стол.
— Нет-нет. Ты иди. А мне и тут хорошо, — сказал отец и добавил: — Чай ведь только для участников и устроителей.
На столе расставили тарелки с бутербродами и печеньем. В глубине комнаты было широкое окно, выходившее ко двор, за которым было их поле. Из-за живой изгороди торчали столбы ворот.
Вошел Плэтт с Хепуортом и двумя учителями, которые сопровождали команду чужой школы. Вошли остальные игроки. Стэффорд, аккуратно причесанный, сидел в стороне, из кармана его куртки торчали авторучки. Хепуорт похлопал его по спине, но он только на секунду поднял глаза и одним из первых вскочил, взял у двери свою парусиновую сумку и вышел во двор.
Когда Колин последовал за ним, он увидел, что отец разговаривает со Стэффордом. Было ясно, что он его остановил и теперь, размахивая руками у него за спиной, обсуждает игру.
— А, вот и Колин, — сказал он. — Ты в какую сторону идешь, малый?
— Я иду на вокзал, — сказал Стэффорд, с удивлением оглядываясь на него.
— Ну, так нам по дороге, — сказал отец. — Мы на автобусную остановку.
Они свернули в проход.
— Ты многого добиться можешь, если не будешь себя жалеть, — сказал отец.
— Нет, мистер Сэвилл, для меня эта игра слишком груба, — сказал Стэффорд.
Отец засмеялся и с удивлением посмотрел на него.
— Груба? Это почему же? — сказал он.
— Ну, не знаю, — сказал Стэффорд. — Если бы вы сами играли, так поняли бы. Особенно когда ногами бьют не по мячу, а по тебе. — В его движениях появилась подтянутость, он тщательно выговаривал каждое слово.
Отец посмотрел на него с любопытством.
— Ну, есть вещи и потруднее. А мяч гонять — одно удовольствие.
— В таком случае, я надеюсь, мне удастся их избежать. Глупо самому напрашиваться на трудности, — сказал Стэффорд.
Он остановился напротив проулка, ведущего к вокзалу.
— Тебе, значит, туда? — сказал отец.
— Если я потороплюсь, то еще успею на ближайший поезд, — сказал Стэффорд и протянул руку. — Было очень приятно познакомиться с вами, мистер Сэвилл. — Он повернулся и подхватил сумку под мышку.
— Ты здорово играл, малый, — сказал отец.
Он стоял и смотрел, как Стэффорд перешел улицу и скрылся в проулке.
— Ловкий паренек. Мог бы один выиграть эту встречу, если бы постарался.
Продолжая разговаривать про Стэффорда, они пошли к остановке.
— А кто был тот, с черными волосами? — сказал отец.
— Плэтт.
— Он подошел ко мне и спросил, кого я дожидаюсь.
— А что ты ему сказал?
— Что тебя жду. — Отец засмеялся. — Разве вы не слышали, как я вопил, говорю. — Он снова засмеялся.
— Он сказал, что мне нужна новая рубашка. Если я хочу играть в команде.
— Что, он думает, рубашки на деревьях растут, что ли?
В автобусе, однако, он сказал:
— Исхитримся как-нибудь. — И тут же добавил: — Жалко, что он со мной про рубашку не заговорил. Черт подери, я бы его обрубашил как следует, твоего мистера Плэтта. Я, пожалуй, напишу ему.
— Не надо, — сказал он.
— Я еще подумаю, — сказал отец.
В конце месяца мать уехала в больницу, и по утрам они со Стивеном ходили завтракать к миссис Шоу. Отец работал в утреннюю смену и возвращался домой днем, так что вечером он сам укладывал Стивена. Но по утрам он приходил в комнату Колина в пять часов, ставил возле его кровати будильник и шептал:
— Я ухожу. Смотри не проспи.
Выдираясь из сна, он тупо смотрел на отцовское лицо.
— Так я пошел. Миссис Шоу присмотрит за Стивом. Не опоздай на автобус, — добавлял он.
Он слышал, как отец проходит по дому, захлопывалась задняя дверь, ключ поворачивался в замке и падал в щель почтового ящика. И не успевал он заснуть, как уже звенел будильник. Один раз он проспал, и его разбудил громкий стук в дверь — это пришла миссис Шоу.
С тех пор как он начал учиться в городской школе, он никогда еще так не уставал. Каждый вечер он смотрел в окно автобуса на поля и поселки, на терриконы, на мелькающие вдали пруды и озера, а внутри у него все сжималось: он словно видел, как отец, землисто-бледный, с воспаленными глазами, моет посуду или устало берется за стряпню — точно и отца, и Стивена, и его самого забыли и бросили.
Однажды утром в воскресенье он даже пошел к миссис Шоу почистить ее медные тарелки. Его одолевали воспоминания о том, как все было в прошлый раз. Ни ему, ни Стивену не позволяли навестить мать, и каждый вечер он смотрел, как отец выкатывает велосипед, а седельная сумка топорщится от пакета — может быть, чистое белье или фрукты, а иногда книга, которую он взял у кого-нибудь на работе. Потом он ждал два часа, чтобы увидеть, как отец подъедет к крыльцу, угасший, не в силах больше волноваться и тревожиться.
— Ты что же это не спишь?
Он делал вид, что доканчивает домашнее задание или читает книгу при свете очага.
— Тебе уже давно пора спать, — добавлял отец. — У меня же есть ключ. — И все-таки за тревогой пряталась радость, что он еще не лег.
Они сидели рядом у огня, пока грелся чай.
— Она молодцом. И выглядит хорошо, — говорил отец. — Долго она там не пробудет, не беспокойся.
И он начинал рассказывать ему про свою работу, про шахту, о Фернли, Робертсе, Хопкерке и Маршалле — новые имена и старые имена — и о несчастных случаях в забое: обрушился свод, застряла врубовая машина, откатчика придавило породой.
Отцу теперь больше не с кем было разговаривать. И часто Колин ложился на два часа позже своего обычного времени. Отец поднимался наверх вслед за ним.
— Ну, спи. Я погашу лампу. И поставлю тебе будильник на семь.
Но будильник всегда звонил в половине седьмого: в последнюю минуту, словно опасаясь, что он разоспится, отец отводил стрелку на полчаса.
— Не валяйся. Как зазвонит, сразу вставай. Если миссис Шоу проспит, ты в школу опоздаешь.
Ему часто казалось, что отцу хочется, чтобы он встал с ним и проводил его на работу: одеваясь в кухне, отец вдруг начинал громко кашлять или, налаживая во дворе велосипедный фонарик, попадал лучом в его окно.
Когда Колин вставал, ему надо было разбудить брата, стянуть с него одеяло, одеть его. Стивену еще не было четырех лет, он скучал без матери и часто плакал.
— Ма-ам! — тревожно звал он и прислушивался, словно думал, что она вернулась ночью.
— Она скоро приедет, — уговаривал он его.
— Ма-ам! — звал младший брат.
Он натягивал на него штанишки, рубашку, чулки. Стивен умел одеваться сам, но теперь всегда отбивался и капризничал. Иногда малыш лежал, уткнувшись головой в подушку, и хныкал, а он сидел на краю кровати и бессильно ждал. Только тиканье часов и страх опоздать заставляли его снова тормошить брата.
— Стив, она нам уже завтрак приготовила.
— Ма-ам! Где мама?
— Ты что, завтракать не хочешь? — спрашивал он.
— Я к маме хочу. Ма-ам! — снова звал Стивен.
Иногда он продолжал плакать и у миссис Шоу.
— Ну, ничего, он скоро развеселится. Я дам ему почистить мою медь. А днем мы с ним пойдем на качели.
Она сажала его к себе на колени и сидела выпрямившись. Стивен, бледный от слез, пугливо прислонялся к ее тощей груди.
— Не беспокойся. Ему будет хорошо. А тебе в школу пора. Ну, не плачь. Скоро папа придет. «Нет, это не мой Стив. Это не наш Стив, — скажет он. — Наш Стив никогда не плачет».
В школе была холодная пустота. Он ничего не чувствовал с той минуты, когда входил в ворота, до той минуты, когда выходил из них. Только в автобусе его опять начинала грызть тревога, словно ноющая боль, словно что-то внутри тянуло его вниз.
Родился мальчик. Как-то, когда он вернулся из школы, отец поджидал его, улыбаясь, одетый в праздничный костюм. Он только что побывал в больнице у матери.
— Просто красавец. И вот такой огромный. Ты бы какое имя ему выбрал? Мать думает — Ричард.
— Угу, — сказал он.
— Тебе нравится?
— Угу.
Вошел Стивен.
— Ну-ка, ну-ка! — сказал отец и подхватил его на руки. — Хочешь братишку? — Он растопырил пальцы. — Ножки у него вот такие тонюсенькие. — Он поднял мизинец. — Черт подери, ну и рад же я!
Мать вернулась из больницы. Отец поехал за ней со Стивеном.
— Можно, я пропущу школу? — спросил он. — Ты записку напишешь.
— Нет, это для них причина неуважительная. Вот ты приедешь домой, а она уже тут. — Он засмеялся его огорчению и потер макушку. — А ты вот о чем думай: к чаю-то тебя будут ждать два брата!
Весь день его душило волнение. Мать присылала ему из больницы записки, и он брал их с собой в школу. День за днем он ожидал, что в них обнаружится какой-то особый смысл, перечитывал их снова и снова, старался понять, что скрыто в этих словах: «Я очень без тебя скучаю», «Надеюсь, Колин, ты приглядываешь за Стивом», «Надеюсь, в школе у тебя все хорошо», «Постарайся вставать вовремя», «С любовью». В конце каждой записки стояли крестики, означавшие поцелуи, а мать целовала его редко, почти никогда.
Потом он забыл записки на кухонном столе.
— Тебе они больше не нужны? — спросил отец и, когда он кивнул, бросил их в огонь.
И вот теперь, возвращаясь из школы, он сел впереди, словно надеялся увидеть мать на шоссе.
Спрыгнув с автобуса, он кинулся домой бегом.
В кухне никого не было.
Он взбежал по лестнице, открыл дверь в комнату родителей, потом к себе, к Стиву.
Он спустился вниз, выглянул во двор, зашел в комнату напротив кухни.
В доме стояла тишина.
Он вернулся на кухню, вышел на крыльцо и оглядел ряд дворов. Уже смеркалось. Над шахтой клубилось огромное облако пара.
Он подошел к двери миссис Шоу. И услышал внутри голос матери, потом ее смех и смех мистера Шоу.
Его стука никто не заметил. Он постучал еще раз.
Раздался голос отца:
— Никак кто-то пришел.
Он услышал смех матери, пронзительный, визгливый. Потом скрипнула щеколда и дверь отворилась.
— Да это же ваш Колин! Входи, малый! — Мистер Шоу, все еще смеясь, отступил в сторону. — Входи, входи, Колин. Погляди, какой у тебя брат.
Мать стояла посреди кухни прямо под электрической лампочкой. На ее ногу и юбку ложились отблески огня в очаге. На руках она держала младенца, завернутого в белую шаль, — она только что взяла его у миссис Шоу, которая наклонялась, вытягивая палец, чтобы погладить его по щеке.
— Колин, голубчик, — сказала мать. — Ты сегодня рано вернулся.
Отец стоял у огня, в руке он держал рюмку. Стивен сидел за столом и грыз сухарик.
— Ну, здравствуй, голубчик, — сказала мать. Она наклонилась, свободной рукой обняла его за плечи и прижала губы к его щеке.
— Погляди на своего братика. На кого он похож, как по-твоему?
Она опустила маленького пониже. Из складок шали выглядывало красное сморщенное личико.
Он поглядел и помотал головой.
— Ну как, похож он на меня? — сказал отец. Лицо у него было красное. Он прислонился к стене, посмотрел на мистера Шоу и засмеялся. — А может, на почтальона, а?
— Ну, что вы его сбиваете, — сказала миссис Шоу. Возле пустой тарелки стояли пустые рюмки и бутылка.
— В здешних местах, — сказал отец, — поди разберись!
Миссис Шоу снова засмеялась.
— Да будет вам, Гарри, — сказала она, повернулась к маленькому и погладила его лобик.
— А Колин молодчина, — сказал мистер Шоу. — Заботился о братишке прямо как отец.
— А чай мы пить будем? — спросил он.
— Чай ему подавай! А сам только-только домой вернулся, — сказал мистер Шоу. И снова засмеялся.
— Ну, за третьего, — сказал отец и допил рюмку. — Еще один голодный рот, — добавил он.
— Верно, Гарри. Ты бы поостерегся. — Мистер Шоу снова засмеялся. — Не то одной коляской не обойдешься, еще и новый дом понадобится.
— Нет уж, этот будет последним, — сказал отец. — Трое есть, и хватит. — Он причмокнул, потом снова засмеялся. — Не каждый день у нас есть что праздновать, — добавил он.
— Ничего, Гарри, ты скоро что-нибудь еще подыщешь, — сказал мистер Шоу.
Они снова засмеялись.
— Тут, по-моему, есть двое голодных ребят, — сказала миссис Шоу. — И один, не в пример другому, не первый раз домой возвращается. — Она погладила щечку младенца. — Ну весь в вас, Элин, — добавила она.
— Будем все-таки надеяться, что он вырастет похожим на меня, — сказал отец.
Колин пошел к двери.
— Про затемнение не забудьте! — сказал мистер Шоу. Свет в кухне погас. Мать, прижимая маленького к груди, остановилась у двери и ногой нащупала порог.
— На ступеньках не споткнитесь, Элин, — сказала миссис Шоу.
Они пошли через двор. Отец остался на кухне, и он услышал его голос.
— Нет уж, я никуда не уйду, тут ведь еще капельки две наберется, — сказал он.
Мистер Шоу засмеялся.
Стивен что-то крикнул. Со двора донесся голос отца.
— Зажги свет, голубчик, — сказала мать и добавила. — Да не закрывай ты двери.
Она вошла, держа младенца так, что его головка прислонялась к ее плечу.
— Ну вот, голубчик. Вот мы и дома, — сказала она и положила его на стул.
— Дай-ка мне пеленку, — сказала она, не оборачиваясь. — Возьми в шкафчике.
Он открыл шкафчик у очага и достал пеленку.
Младенец заплакал.
— Я же его кормила совсем недавно. Значит, он не от голода, — сказала она.
Он мелко перебирал ножками, водил перед лицом сжатыми в кулачки руками.
— Тише, маленький, тише! Я пойду с ним наверх.
Она поднялась по лестнице, и он услышал, как она ходит по спальне.
Кухонная дверь открылась. Вошел отец.
— Она что, наверх его унесла? Укладывать баиньки? — сказал он и снял пиджак. Лицо у него было красное, воротничок расстегнут.
— Ну вот. Видел своего братишку?
— Угу, — сказал он.
— Что я тебе говорил, малый? Вот она и вернулась.
Отец, покачиваясь, подошел к очагу и распустил галстук.
— У старины Шоу по такому поводу и бутылочка нашлась, черт подери. — Он рыгнул и схватился за грудь. — Пора и на боковую. Я ведь сегодня не ложился, сам понимаешь. А в пять уже на работу. Ну, да ты и сам знаешь, — добавил он. — Ты-то здесь не первый день живешь, а?
Он сел на стул и закрыл глаза. Вошел Стивен. В руке он держал еще один сухарик.
— Где мама? — сказал он.
Мать спустилась на кухню. Лицо у нее тоже было красное, как у отца.
— Может, он часок поспит, — сказала она. — Как бы из-за этого шума он вовсе не рассонился.
Она поглядела на стол.
— Что ты делаешь, голубчик? — сказала она.
— Уроки, — ответил он и нагнулся над учебником.
— А хоть разок нельзя их не делать? — сказала она.
— Нет, — сказал он и помотал головой.
— Колин работал прямо молодцом, — сказал отец. — Дом прибирал не хуже хорошей хозяйки. Полы натирал, кастрюли мыл. Я возвращаюсь, а у него уже огонь горит, — добавил он.
Его голова медленно опустилась на грудь. Через минуту он захрапел.
— Отец лишнего хлебнул, — сказала мать. — Ему сразу в голову ударяет.
— Я пойду в ту комнату, — сказал он и взял учебники.
— А тебе удобно будет, голубчик? Это ты правильно. Пусть поспит, — сказала мать. — А чай я тебе сейчас соберу, — сказала она ему вслед. — Потерпи минутку.
Он вошел в нижнюю комнату и задернул занавески. Там было очень холодно. Камин не топили уже несколько недель.
Он зажег свет и начал читать. Из-за стены время от времени доносился голос матери и слышался ритмический храп отца.
— Посильнее сгибай, — сказал Батти.
Он прижимал согнутую ветку к груди, в другой руке у него было ружье.
— Оттяни еще и привязывай.
Колин привязал ветку и отрезал конец веревки ножом, который ему протянул Батти.
Со стороны хижины донесся вопль Стивена.
— Ты бы сюда своего несмышленыша не таскал, — сказал Батти. — Того и гляди выдаст, где у нас хижина.
За последние полгода Батти сильно вырос. Его туловище и ноги еще вытянулись, худое лицо под шапкой рыжих волос сидело на длинной шее. Он перерос всех своих братьев, и даже отец, когда они разговаривали, смотрел на него снизу вверх, а голова матери еле доставала ему до плеча.
Привязав ветку, они пошли назад к хижине, и он увидел, что со Стивеном играет Стрингер — расхаживает с ним на плечах под деревьями. Стивен хватался за веточки и растерянно смотрел по сторонам широко раскрытыми глазами, не зная, чего ждать от Стрингера. Даже когда Колин был рядом, они часто подбивали Стивена на что-нибудь опасное: влезть на сухое дерево, забраться на шаткую кровлю, пройтись по узкой тропке между двумя бочагами или залезть в топкое место, где сами они никогда не ходили. Он провалился до колен, и только тогда они его вытащили. Но в Стивене была какая-то невозмутимость, и ее ничто не могло нарушить.
— Эй, Стрингер! — крикнул Батти. — Мы еще одну устроили.
— Да хватит тебе ловушек, Лолли. Как бы нам самим в них не угодить, — сказал Стрингер.
Он снял Стивена с плеч и поставил его на землю. Стивен убежал в хижину, он раскраснелся, и глаза у него стали совсем синими.
— А чего ты там делаешь, Языкатый? — спросил Батти.
— Ты это про что, Лолли? — сказал Стрингер.
— Про школу, где Языкатый учится, — сказал Батти.
Стрингер взял у Батти свое ружье.
— Надо бы туда как-нибудь смотаться. Помашем ему, — сказал Стрингер, — сквозь решетку.
Стрингер засмеялся и прицелился из ружья. Он сел на перевернутый ящик у двери.
Было слышно, как внутри Стивен мешает в печурке.
— Вы что, так и сидите на одном месте? — сказал Батти. — Или вас куда-нибудь водят?
— На некоторые уроки мы уходим. Но обычно сидим у себя в классе.
— А на какие уходите-то? — сказал Батти и, прищурившись, посмотрел на Колина.
— На химию, — сказал он.
— Большая, значит, школа.
— Конечно, большая.
— А по вечерам там уборщицы шлендают, верно?
— Они приходят, когда мы уходим, — сказал Колин.
— Ну, уборки-то им небось хватает, хочешь на спор?
— Да, наверное, — сказал он. — Конечно, перед уходом мы составляем стулья, — добавил он.
— Куда же это вы их ставите?
— На парты.
Батти скосил на него глаза.
— Ну, а где ваш директор держит свои книжки и всякое такое?
— В кабинете для учебных пособий.
— А это где?
— Рядом с канцелярией.
— Небось ты туда заходил? За новыми книжками или еще за чем.
— Нет, — сказал он.
Батти отвел глаза, а потом сказал:
— Вы ведь два дня уходите на поле мяч гонять, и, значит, там никого не остается. — И добавил: — В школе то есть.
— Иногда остаются.
— А, так, значит.
— Да ты знаешь, чего Лолли надо? — сказал Стрингер.
— Заткни пасть, а то я заткну, — сказал Батти.
Он заглянул в дверь.
— Чего там твой несмышленыш стряпает?
Они вошли в хижину.
— А что такое «Предприятие Батти», тебе известно? — сказал Стрингер.
Батти забрал у Стивена кастрюльку и заглянул внутрь.
— Крупнейшее промышленное предприятие на весь Сэкстон, — сказал Стрингер.
— А у тебя будет крупнейшая блямба на весь Сэкстон, если ты не заткнешься.
— Лолли у нас фельдмаршал, а то и почище.
Батти помешал в кастрюльке. Он вытащил нож и открыл лезвие.
— Ихних двоих на той неделе судить будут.
— Сказано тебе или нет? — Батти взмахнул ножом.
Стивен смеясь поднял руку.
— День на шахте вкалывают, а ночью идут в другое место подрабатывать.
Батти прыгнул на него, но Стрингер отскочил.
Стивен, все еще смеясь, выглянул в дверь. Стрингер уже бежал через болото.
— Он у меня дождется, — сказал Батти. Он потер лезвие ножа о рукав. — Понюхает вот этого.
Он снова взял кастрюльку.
— Нам со Стивеном домой надо, — сказал Колин.
— Ты что ж, есть не будешь? — сказал Батти.
— Нам домой пора.
— Колин, можно? — сказал Стивен.
В кастрюльке была фасоль с хлебным мякишем.
— Тебе давно спать пора, — сказал он.
— Ладно, поешь на дорожку, — сказал Батти. — Он поставил кастрюльку. — Тебе первому. — Он подцепил несколько фасолин на кончик ножа. — Ешь, несмышленыш. Что, вкусно?
Они выбрались на шоссе только через час. По холму от поселка, ведя велосипед, спускался отец. Он поглядывал через изгородь на отстойники.
— А, вот вы где! Я вас уж не знаю сколько времени разыскиваю. — Он сел на велосипед. — Того и гляди на работу опоздаю. Ну, живо домой. И скажи матери, где я вас нашел.
Он проводил отца взглядом, посадил Стивена на спину, чтобы идти быстрее, и донес его так до самого дома.
— Что же это такое? — сказала мать. — Отец вас всюду ищет. Он на работу опоздает.
— Мы его видели. Около отстойников, — сказал он.
— Вы что, играли там? — сказала она разгибаясь.
Она пекла хлеб, и на очаге стояли формы с тестом.
— Ты что, Стивена туда водил?
Он не успел ответить — она ударила его по лицу.
— Раздевайся сейчас же, — сказала она. — Посмотри, в каком ты виде.
Она отвела Стивена к раковине в углу и вымыла ему ноги. Потом вымыла ему руки по плечи и умыла лицо.
Наверху заплакал маленький.
— Ты только погляди на его шею! Купался он, что ли, в этой мерзости? — сказала она. — Нет, ты понюхай его рубашку. — Она поднесла к его носу одежду Стивена. — И свою тоже.
Он лег спать и лежал, прислушиваясь, как мать вынимала Ричарда из колыбели. Они со Стивеном теперь спали в одной комнате. Стивен, весь в слезах, уснул. Он перевернулся на другой бок и прижал руку к щеке — кожа еще горела. Он уснул, чувствуя вокруг себя вонь отстойников.
— Подтянуться! Подтянуться! — сказал Плэтт.
Он стоял у линии зачетного поля, подняв воротник, замотав шарф на шее, глубоко засунув руки в карманы пальто.
— Подтянуться! Больше скорости!
По краям поля белели пятна снега.
Колин принял мяч и налетел на живую стену. Он выбросил вперед руку.
Раздался свисток. Он продолжал бежать. Его схватили за воротник, за локоть, его зацепили за ноги. Он упал. Его щека вжалась в снег.
Снова раздался свисток.
— Штрафной! — сказал судья.
Он ткнул в Колина.
— Если вы еще раз ударите противника кулаком, мне придется удалить вас с поля, — сказал он.
Плэтт весь красный стоял у края поля.
Игроки отошли. Штрафной удар был пробит.
— Следи за собой, Сэвилл, — сказал Гаррисон. Он тоже покраснел.
Пальцы у него не слушались, ноги онемели от холода. Он побежал принять мяч, почувствовал, как мяч отскочил от его рук, и пригнулся, готовясь занять свою позицию в схватке.
Стэффорд принял мяч. Он ударил ногой, мяч описал высокую дугу и упал в зачетном поле.
— Хороший удар, Стэффорд! — крикнул Плэтт.
Стэффорд теперь часто бил ногами. Это было проще передачи и много безопаснее пробежки с мячом — в конце игры его форма оставалась почти такой же чистой, как в начале. Он откинул волосы со лба и, приподняв плечи, затрусил к мячу.
У дальнего конца поля стоял каменный павильон. Выкрашенные белой краской рамы были почти неотличимы от полосок снега на карнизах и у декоративных печных труб. Дальше в легкой дымке тянулась цепь лесистых холмов. Припорошенные снегом поля смыкались с темными силуэтами рощиц. Небо над ними было ясным, утренний туман выпал инеем.
— Больше энергии, школа Эдуарда! Больше энергии! — крикнул Плэтт.
Их привезли на автобусе и перед матчем водили по школе: дортуары с рядами кроватей, рабочие комнаты старших учеников с книжными полками, каминами и окнами в глубоких проемах, библиотека, гимнастический зал со сверкающим полом без единого пятнышка, зимний теннисный корт, лаборатория, за высокими окнами которой они на секунду увидели вдали гряду лесистых холмов.
Вокруг школы поднимались могучие деревья, они окаймляли поле, и, когда солнце опустилось ниже, неясные тени, похожие на ребра, протянулись по дерну.
Игроки построили схватку. От их спин поднимался пар, дыхание белыми клубами вырывалось у них изо рта. Они ждали мяча, а потом неторопливо побежали, и Стэффорд небрежным пинком послал мяч в зачетное поле. Все вокруг стыло в унынии и безнадежности. Возгласы Плэтта, свистки судьи, крики игроков долгими отголосками замирали среди деревьев.
— Вперед, школа Эдуарда! Вперед! — сказал Плэтт.
Они бегали то туда, то сюда.
На поле темнело.
— Посмотри, у меня, по-моему, пальцы распухли, — сказал Хопкинс. — Пошевелить не могу.
В схватке его место было рядом с Колином. Высокий, плотный, с широким лицом, он походил на Гаррисона, хотя был ниже, — та же неуклюжая, почти небрежная медлительность. Колени у него покраснели от холода. Зубы стучали. Наклоняясь вперед, он охнул — по его щеке и подбородку текла кровь.
— Уйдешь с поля? — спросил Колин.
— Не пустят, — сказал Хопкинс. — Что бы ни было, — добавил он хмуро, — мы должны выиграть.
Колин вяло побежал за мячом — он бежал так медленно, что мяч откатывался все дальше. Он вдруг ощутил бесцельность спорта, которой прежде не замечал, — долгие усилия, чтобы достигнуть чего-то, что в лучшем случае продлится лишь мгновение.
— Больше скорости, школа Эдуарда! Больше скорости! — кричал Плэтт.
Над деревьями медленно взлетали грачи, кружа, они поднимались все выше, а когда игра кончилась, вновь опустились на деревья.
— Тройное ура в честь школы короля Эдуарда! Гип-гип…
— Ура!
— Гип-гип…
— Гип-гип…
— Тройное ура в честь школы святого Бенедикта, — сказал Гаррисон.
Они шли к павильону под замирающие отголоски.
— На следующую игру я не включу вас в команду, Сэвилл.
Плэтт, все так же держа руки в карманах, шагал рядом с ним. Колин не поверил бы, что он заговорил, если бы не слышал его голоса.
— Я особенно не терплю грубости на поле. Она бросает тень на игрока и, что важнее, на команду.
— Да.
— Сегодняшнюю игру я не скоро забуду.
— Да.
Он ждал. Остальные игроки уже ушли вперед.
Плэтт отвернулся, словно ничего не произошло. Он весело окликнул судью.
Колин снял бутсы — ноги у него были натерты. Он медленно побрел к дверям павильона, из которых уже валил пар.
На обратном пути он сидел один.
Стэффорд сидел сзади с Гаррисоном и Хопкинсом. Они пели. Остальные почти все собрались вокруг — опирались на спинки, становились коленями на сиденья.
Плэтт сидел впереди рядом с шофером. Время от времени он оглядывался и улыбался.
Солнце зашло. Автобус катил сквозь темноту. Колин различал за окном деревья, линию холмов на смутном фоне неба. В окошке напротив он видел собственное лицо над выпуклой спинкой сиденья — бледный овал, темные тени под глазами, всклокоченные волосы, еще влажные после душа.
— Ты что, не хочешь петь? — спросил Стэффорд, шлепаясь на сиденье рядом с ним.
— Нет.
— Пойдем сядем сзади.
— Нет, спасибо.
— Да мне и самому неохота. Но так уж полагается.
— Хорошая была игра, Стэффорд, — оглянувшись, окликнул его Плэтт.
— По-моему, мы неплохо себя показали, сэр, — сказал Стэффорд.
Плэтт улыбнулся, кивнул и отвернулся.
— Ну, я пошел назад, — сказал Стэффорд.
— Ладно, — сказал он.
Стэффорд ухватился за спинку сиденья впереди, встал и пошел назад по проходу.
— Пока.
— Пока.
Пение продолжалось. Оно замерло, только когда автобус въехал в город.
Когда он добрался до дому, родители уже легли.
— Где ты пропадал? — сказала мать.
— Играл, — сказал он. — Я не думал, что это так далеко.
— Я два раза ходила на остановку.
— Нас возили на автобусе.
— Так почему же ты не мог раньше вернуться?
Он пошел к лестнице.
— Не разбуди Ричарда, когда будешь раздеваться.
Но через минуту после того, как он осторожно скользнул к себе в комнату, за стеной раздался привычный плач.
— Господи боже ты мой, будет в этом доме когда-нибудь покой? — крикнул отец из темноты их спальни.
— Десятичная система означает, что все исчисляется в десятках, в нашей же стране, мальчик, нам дана привилегия считать все по двенадцати, — сказал Ходжес.
Он оперся локтем о стол.
— Приведите пример использования десятки в денежной системе, Сэвилл.
— Десятишиллинговый банкнот.
Ходжес покачал головой.
— Возможно, я не расслышал необходимого дополнения к этому ответу? — сказал он.
— Сэр, — сказал он.
— Итак, десятишиллинговый банкнот, Что-нибудь еще?
— Десятифунтовый банкнот.
— Десятифунтовый банкнот.
— Двадцать шиллингов в фунте, — сказал кто-то.
— Уокер, может быть, вы жаждете привести какой-нибудь пример?
Уокер, маленький, белобрысый, с красным носиком, задумался и помотал головой.
— Итак, других примеров мы не услышим?
Уокер снова помотал головой.
— В таком случае, Уокер, где используется число двенадцать?
— Двенадцать пенсов в шиллинге, сэр, — сказал он.
— Двенадцать пенсов в шиллинге. Блистательно. Еще что-нибудь?
— Нет, сэр, — сказал Уокер.
— Ну, а полупенсы, Уокер? — сказал Ходжес.
— Двадцать четыре полупенса в шиллинге, сэр, — сказал Уокер.
— Блистательно, Уокер. Что-нибудь еще?
— Нет, сэр.
— Вы совершенно уверены, Уокер?
— Сорок восемь фартингов в шиллинге, сэр.
— Уокер, насколько я могу судить, медленно пробуждается от своей обычной летаргии, — сказал Ходжес. — Что вы делаете, Уокер?
— Пробуждаюсь от моей обычной летаргии, — сказал Уокер.
— А какое слово мы употребляем, чтобы отличать нашу систему от так называемой метрической, Сэвилл?
— Не знаю, — сказал он.
Ходжес покачал головой.
— Кажется, я опять не расслышал необходимого дополнения?
— Сэр, — сказал он.
— Сэвилл не знает. Кому-нибудь это известно? Уокер, я полагаю, это превосходит ваши умственные способности?
— Что, сэр? — сказал Уокер.
— Как мы называем систему, опирающуюся на число двенадцать, а не десять? — сказал Ходжес.
— Имперской системой, — сказал кто-то.
— Почему «имперской», Уокер? — сказал Ходжес.
— Она, наверное, связана с королем, сэр?
— Возможно. Вполне возможно, Уокер, — сказал Ходжес.
Он посмотрел по сторонам.
— Вряд ли мне нужно упоминать в классе, уже давно постигающем этот предмет, что такое название происходит от латинского слова…
Он сделал паузу.
— От латинского слова «империалис». Империалис. И означает оно…
— Имеющий отношение к королям, сэр, — сказал кто-то.
— Ну, не совсем к королям. К власти, Стивенс. К повелеванию.
Он снял очки и потер их о мантию.
— Империум — повеление, владычество. Другими словами, система, которая в данном случае имеет отношение к империи.
— Да, сэр, — сказал Уокер.
— Некоторые злополучные государства пользуются десятичной системой, потому что им больше не на что опереться, Стивенс.
Стивенс кивнул.
— Мы же в нашей стране и в тех землях, которые составляют нашу империю, наши владения, Стивенс, пользуемся системой, которая на радость и на горе присуща только нам. То есть присуща повелевающей нации. Империалис, империум. Нации, приобщенной власти, владычеству, Стивенс. Сколько пенсов в фунте?
Стивенс замялся. Он поднял руку, потом опустил ее и мотнул головой.
Это был бледный мальчик с худым лицом. Он сидел прямо перед Колином. Волосы у него были жидкие и длинные, они сальными прядями свисали с его узкого затылка. На спине у него был горб, а ноги у колен вздувались, словно их соединяли шарниры.
— Двести сорок, — прикрывшись ладонью, шепнул Колин в затылок Стивенсу.
— В чем дело, Сэвилл? — сказал Ходжес.
Голова Стивенса задергалась.
— Вы подсказывали ему ответ, Сэвилл? — сказал Ходжес.
— Да, — сказал он.
— Будьте добры встать, Сэвилл.
Класс обернулся.
— Ваша фамилия Сэвилл, если не ошибаюсь?
— Да, — сказал он.
— Может быть, я заблуждался, полагая, будто ваша фамилия Сэвилл, с двумя ли, с одним ли «эл», тогда как в действительности она все это время была Стивенс?
— Нет, — сказал он.
— Так сколько же пенсов в фунте, Стивенс?
— Не знаю, сэр, — сказал Стивенс и мотнул головой.
— Вы не знаете, мальчик? Во имя всего святого, как вы попали в эту школу? На такой вопрос мне ответил бы и пятилетний ребенок.
Стивенс опустил голову и заплакал.
— Не хнычьте, Стивенс, — сказал Ходжес. — Я задал вам легкий вопрос. В этом классе на него ответит любой.
Поднялось несколько рук.
— Сэвилл, не могу ли я получить ваш дневник?
Он достал дневник из внутреннего кармана куртки, сообразил, что Ходжес хочет, чтобы он подошел к его столу, и вылез из-за парты.
— О, разумеется, когда вам будет удобно, Сэвилл. Могу ли я требовать, чтобы вы считались с кем-нибудь, кроме себя! — Он поглядел на Стивенса. — Мне предстоит внести в дневник Сэвилла порицание за дерзость, и вы, Стивенс, получаете несколько драгоценных мгновений, чтобы найти подходящий ответ. Под подходящим ответом, поскольку мы, если не ошибаюсь, занимаемся здесь математикой, я, естественно, подразумеваю верный ответ. Вы поняли, Стивенс?
— Да, сэр, — сказал Стивенс и опустил голову еще ниже.
— Принцип приобретения знаний, Сэвилл, заключается не в том, чтобы приобретать их за кого-нибудь другого, но в том, чтобы приобретать их в положенной — во всяком случае, для этого учебного заведения — мере на сугубо личной основе. Как вы можете выучить что-то, если за вами сидит некто, готовый сделать это за вас? — Он открыл дневник. — Я вижу, вам записана похвала. География, мистер Хепуорт. Не слишком удовлетворительная работа для первого триместра. — Он сделал запись красными чернилами в графе напротив несколько демонстративным движением, чтобы дать классу почувствовать свой гнев. Потом промокнул дневник, протянул его мимо Колина и, вперив взгляд в Стивенса, добавил: — Так к какому же заключению вы пришли, Стивенс?
Только секунду спустя Ходжес осознал, что все еще держит дневник.
Стивенс ответил, потом по требованию Ходжеса повторил свой ответ громче, после чего учитель сказал:
— Вы можете теперь взять свой дневник, Сэвилл.
— Благодарю вас, сэр, — сказал он.
— Сэвилл! Ну-ка, вернитесь назад, — сказал Ходжес.
Он повернулся в проходе, увидел, как краснота медленно поднимается к глазам Ходжеса, и пошел назад к столу.
— Я заметил, что мои ласковые увещевания, Сэвилл, не оказывают должного воздействия. В ваших манерах я улавливаю дерзость, которая, как я замечаю, растет день ото дня, несмотря на все мои старания ввести ее в должные границы. Я попрошу директора поговорить с вами. Сегодня же я больше не желаю видеть вашу физиономию. Уберите тетрадь, выйдите из класса и станьте у двери.
Он сложил учебники и тетради в парту, закрыл крышку и, ни на кого не глядя, прошел к двери, открыл ее и вышел. Коридор был пуст. Он закрыл за собой дверь.
Он стоял, прислонившись к стене. Мимо прошел мальчик постарше. В конце коридора он оглянулся на него и, все еще глядя назад, начал подниматься по лестнице.
Из класса напротив доносилось монотонное бормотание учителя. За дверью у него за спиной слышался тихий голос Ходжеса, а иногда голос отвечающего мальчика, скрип стула или парты. В соседних классах тоже жужжали голоса. Он услышал рев грузовика, проезжающего по шоссе.
Дверь канцелярии открылась, вышла секретарша. Ее лицо разрумянилось и было почти веселым. Она пошла по коридору, держа под мышкой какие-то бумаги.
— Из класса выгнали? — сказала она.
— Да, — сказал он.
— Это ведь класс мистера Ходжеса? — сказала она.
— Да.
Она кивнула, поправила бумаги под мышкой и пошла по коридору к учительской в дальнем его конце.
Через минуту она появилась снова и прошла мимо, словно не замечая его. Ее каблуки звонко постукивали по каменным плитам пола.
Она вошла в канцелярию и закрыла дверь.
В школе стояла тишина. Он расслышал где-то вдалеке сердитый голос какого-то учителя, называющий какую-то фамилию.
За дверью позади раздался смех, а затем четкие выкрики «сэр! сэр!», пока Ходжес ждал ответа.
И снова смех.
Дверь открылась, вышел мальчик, посмотрел, направился по коридору к входным дверям и скрылся за ними.
Он вернулся через минуту-другую и вошел в класс.
Колин ждал. Он тыкал носком ботинка в пол, ерзал спиной по стене.
Послышались шаги. По лестнице в ближнем конце коридора кто-то спускался.
На мгновение вырисовавшись черным силуэтом на фоне окна, в коридоре появилась высокая фигура в мантии. Он увидел массивное лицо с крупными чертами. Короткие черные волосы торчали, нависая над тяжелым лбом. Толстые пальцы широкой руки сжимали несколько книг.
Колин шагнул к двери и стал возле нее, заложив руки за спину.
— Что вы тут делаете? — сказал учитель. От него пахло табаком. Зубы у него были крупными и неровными.
— Мне велели выйти. За дерзость, — сказал он.
— Ваша фамилия?
— Сэвилл.
— Какой урок?
— Арифметика.
— А, класс мистера Ходжеса?
— Да.
Учитель помолчал.
— В чем же заключалась ваша дерзость, Сэвилл?
— Я подсказывал.
Учитель некоторое время смотрел на него, потом покачал головой.
— Мы здесь не любим дерзости, — сказал он. — Пользы она никакой вам не приносит, а, пропуская урок, вы задаете себе лишнюю работу.
— Да, — сказал он.
Высокий учитель нахмурился.
— Отойдите от стены, — сказал он и, быстро шагнув мимо него, открыл дверь.
Ходжес, застигнутый на половине какого-то рассуждения, умолк.
— В коридоре стоит мальчик, который говорит, что его выслали из класса за дерзость, — сказал высокий учитель.
За дверью стало совсем тихо.
— Совершенно верно, мистер Гэннен, — сказал Ходжес внушительно, словно отвечая от имени всех.
— Я хотел бы добавить к этому разболтанность, мистер Ходжес, — сказал высокий учитель. — Он стоял так, словно его послали в коридор подпирать стену. — Он повернулся к Колину. — Расправить плечи, подбородок убрать, руки за спину, — скомандовал он.
— Полагаю, кто-нибудь посмотрит, как он стоит, мистер Гэннен, — сказал Ходжес. — Я рад, что вы довели до моего сведения еще один проступок.
— Я сейчас пойду обратно, — сказал высокий учитель, — и пригляжу не только за ним, но и за каждым, кто воображает, что его высылают из класса развлекаться.
Он вышел и закрыл дверь.
Из-за нее донесся шумок.
— Стоять на шаг от стены, — сказал высокий учитель. Он поправил книги под мышкой и, не оглядываясь, пошел к учительской в дальнем конце коридора. Дверь за ним закрылась.
Класс у него за спиной затих, только еле слышался голос Ходжеса.
Вдруг распахнулась дверь канцелярии.
В коридор вышел директор, оглянулся и пошел к двери в ближнем конце.
Дверь за ним захлопнулась.
Мимо прошел какой-то мальчик.
В классе за его спиной хлопнула крышка парты.
У него заныли плечи.
Из класса напротив канцелярии вышел мальчик, вошел в канцелярию и снова вышел, держа в руке колокольчик.
Он шел по коридору и звонил.
В классе у него за спиной раздалось шарканье. Дверь дальше по коридору распахнулась, из нее высыпали ребята.
Из двери позади него появился Ходжес. Он откинул голову, словно собираясь пройти мимо.
— Я решил, Сэвилл, пока не доводить ваше поведение до сведения мистера Уокера. Поскольку оно теперь известно мистеру Гэннену и поскольку, как вы, вероятно, знаете, мистер Гэннен является заместителем директора, я пока удовлетворюсь нынешним положением, а именно тем, что я и мистер Гэннен указали вам на дерзость вашего поведения. Если же что-либо подобное повторится, у меня не останется иного выхода, кроме как привести в исполнение мое первоначальное намерение. Вы поняли, Сэвилл?
— Да, — сказал он.
— Разрешаю вам вернуться к вашей парте и приготовить книги и тетради для урока, который, как я надеюсь, останется ничем не омраченным.
— Да, — сказал он.
Ходжес пошел дальше, и его захлестнул поток фигур, выливавшийся из дверей по обе стороны коридора.
Он вернулся в класс и откинул крышку своей парты.
— Что он тебе сказал? — спросил Стивенс.
— Так, ничего, — ответил Колин.
— Погляди-ка. Твою школу обокрали, — сказал отец. Он сложил газету и провел пальцем по строчкам. — Унесли имущества на двести сорок фунтов. — Он погрузился в заметку. — Проникли в здание через разбитое боковое окно. Кто-то из местных, так они считают.
— Куда только теперь не вламываются, — сказала мать. — Даже не думают, много ли можно там найти. В больницы, в церкви, что ни день, то кража со взломом.
— А вот банки что-то мало трогают, — сказал отец.
— Еще бы. Не беспокойся, там-то они меры принимают.
— Можно, я пойду погуляю? — сказал Колин.
— А по дому ты все сделал? — сказал отец.
— По-моему, все, — сказала мать.
— Ну, а уроки?
— Я их завтра после обеда сделаю.
— У тебя завтра воскресная школа, — сказал отец.
— Ну, пусть погуляет, — сказала мать.
Она выглядела измученной и поблекшей. После рождения Ричарда ее лицо так и осталось землисто-бледным. Когда они ходили за покупками, она говорила: «Возьми корзинку, Колин. Я теперь ничего тяжелого поднимать не могу». В дни стирки она дожидалась его возвращения из школы, и весь вечер он помогал ей на кухне: наливал воду в лохань, мешал толстой палкой белье, вытаскивал лохань наружу и сливал воду в водосток. Иногда она оставляла стирку и сидела у огня совсем белая или, сутулясь над раковиной, пыталась стирать руками в холодной воде.
— А у тебя для него больше никакого дела нет? — сказал отец.
— На сегодня он уже наработался, — сказала мать.
Колин вышел на заднее крыльцо. Стивен с двумя-тремя другими малышами играл на пустыре.
— Смотри, к обеду не опоздай, — сказала мать.
Он пошел в Долинку. Дым с шахты стлался над поселком.
Зарядил дождь. В канаве текла бурая жижа. От трубы газового завода тянулось облако черного дыма. За оградой смутно виднелись очертания полного газгольдера.
Хижина была заперта. Он отодвинул доску, влез внутрь и зажег свечу. Две темные тени выскользнули под дверь.
Печурка была горячей. Он подложил дров, и пламя начало лизать металлическую трубу.
По железным листам крыши дробно стучали капли, словно кто-то барабанил по ней пальцами.
Потом со стороны отстойников донесся глухой визг.
Он схватил палку.
Со стороны отстойников снова донесся визг, потом он услышал снаружи чавкающие шаги.
Ключ повернулся в замке, цепь соскользнула с крючка, металлическая щеколда поднялась, и дверь открылась.
Батти с ящиком под мышкой заглянул внутрь.
— Вроде я тебя тут не запирал, а, Коль?
— Я пролез под стеной, — сказал он.
— Это под какой же?
Батти оглядел хижину.
— Ну ладно. — Он поставил ящик. — Ты чего, взломщиком заделался?
— Давай я починю, — сказал он.
— А, ладно.
Батти нагнулся и сдвинул доску на место.
— Хочешь, так оставайся.
Колин сел у огня.
— Давай оставайся, у меня и обед есть.
— Какой обед? — сказал Колин.
— Я жратвы принес! — Батти показал на ящик.
— Меня к обеду дома ждут.
— И еще кое-что найдется! — Он снова показал на ящик.
— А что?
Батти открыл ящик, достал сверток, развернул газету и показал ему кусок мяса.
— Это у меня на вечер. Стрингер придет, и еще парни.
Он вынул бутылку.
— Джин, — сказал он. — Глотнешь — так тебя насквозь и прожжет.
— Я попробую вечером выбраться, — сказал Колин.
— А хочешь, так сейчас отхлебни.
Он начал отвинчивать крышку.
— Мне идти надо, — сказал Колин и пошел к двери.
Батти вышел за ним с бутылкой в руке.
— Ну, бывай.
Он поднес бутылку ко рту, сделал небольшой глоток и закашлялся.
— До скорого, — сказал Колин.
— Может, ты потому уходишь, что я пришел? — сказал Батти.
— Нет, — сказал он.
Он зашагал под дождем. Над трясиной раздавался шорох, точно частый топоток. Дым печурки сизыми гирляндами завивался вокруг кустов. Когда он вышел на шоссе, ноги у него были мокры насквозь.
— Что-то ты рано. До обеда еще час, — сказала мать.
— Да я подумал, что надо вернуться, — сказал он. — Помочь с обедом.
— Помочь! Две загадки в одно утро! — сказала мать.
— Прибавить! Прибавить! — командовал Гэннен.
Колин закрыл глаза. Он вошел в поворот и побежал быстрее. Когда он открыл глаза, то увидел, что остался последним — остальные участники забега цепочкой растянулись впереди. По примеру Стэффорда в предыдущем забеге, на финише он прибавил скорости и пришел пятым.
— Не повезло, Сэвилл, — сказал Макриди. Высокий, худой, с рыжеватыми усами, он стоял у финишной черты и записывал фамилии. — Чуть быстрее, и вы бы попали в финалисты. Первые четверо побегут на соревнованиях в субботу.
Он отошел. К нему через поле шел Гэннен.
— Сэвилл! — Он помахал рукой.
Колин побрел к нему, всем своим видом показывая, сколько сил он вложил в забег.
— Вы валяли дурака, Сэвилл. Вам ничего не стоило прийти вторым или третьим.
— Я не мог быстрее.
— Не хотели, Сэвилл. Валяли дурака. Это плохо кончится. В каких еще видах вы участвуете?
— Прыжки в длину, сэр, — сказал он.
— Я приду посмотреть, как вы прыгнете, Сэвилл. Вы поняли?
— Да, — сказал он.
— А разве вы не бежите в эстафете?
— Нет. — Он помотал головой.
— А, и от эстафеты отвертелись! — Он достал записную книжку и сделал пометку.
— Я вас все-таки включил в эстафету, и, если вы не побежите в полную силу, я вас подгоню хорошим пинком. Поняли, Сэвилл?
— Да, — сказал он.
— В субботу в два тридцать.
Колин пошел к павильону. Оттуда с парусиновой сумкой под мышкой вышел Стэффорд.
— Чего это тебя Гэннен остановил? — сказал он.
— Думает, что я бежал не в полную силу.
— Бежать надо в полную силу, — сказал Стэффорд, — но только укорачивать шаг. Просто поразительно, сколько на этом теряешь времени.
Он достал гребешок и причесал волосы.
— Ты в субботу в чем-нибудь участвуешь? — спросил Колин.
— Нет, — сказал Стэффорд. — Я от всего избавился.
Он упруго побежал к проходу, окликая каких-то ребят. Колин посмотрел ему вслед, а потом вошел в павильон переодеться.
— Вот это больше похоже на дело, Сэвилл.
Колин пошел туда, где оставил форменную куртку, и надел ее.
— Ты хорошо прыгнул, Колин, — сказал отец.
Оставшиеся участники по очереди разбегались и прыгали.
— Который твой? — спрашивал отец, поднимаясь на цыпочки, чтобы за спинами впереди разглядеть колышки, вбитые по краю ямы для прыжков.
Учителя нагнулись над колышками, толпа разошлась.
— Подождем, узнаем, на каком ты месте, — сказал отец.
Гэннен обернулся.
Мимо прошел мальчик.
— Вы третий, Уолтерс. А вы второй, Сэвилл, — сказал Гэннен.
— Второй! — сказал отец и вдруг потряс его руку. — А еще в чем ты участвуешь?
— В эстафете, — повторил он: еще дома он перечислил все виды программы.
— Ну, ты уж пробеги хорошо.
Он пошел с отцом через поле.
Они сели на откосе под живой изгородью. Начались следующие забеги. Прямо под ними была линия финиша. Центр поля пересекала короткая дорожка, а справа от них у павильона находилась яма для прыжков в высоту.
Учитель с рупором объявлял забеги.
— Назови-ка мне их всех.
Колин показал на Гэннена, который все еще стоял у ямы для прыжков в длину с карандашом и пачкой листков в руке; он показал ему Плэтта, которого отец помнил, а потом Ходжеса, который в священническом воротнике вместе с Макриди тянул рулетку на беговой дорожке.
— Его я тоже знаю, — сказал отец.
Мальчики в белых майках, разминаясь, неторопливо бегали взад и вперед. Раздавались свистки, на дорожку выходила одна группа бегунов за другой. На доске в середине поля выводились мелом цифры, потом стирались.
Когда объявили эстафету, он спустился на дорожку. Он бежал предпоследний этап, на повороте перед финишем. Его команда пришла второй.
Он пошел в павильон и быстро переоделся. Когда он вышел, отец ждал его у двери. Они вместе пошли по проходу.
— А где тот паренек? — сказал отец. — Ну, который не любит стараться.
— Он не вышел ни в один финал.
— Другого и ждать нельзя было, — сказал отец. — Умен не по летам, ну, и хитрющий вдобавок.
На остановке они встали в очередь — по субботам люди приезжали в город за покупками. Мимо проходили ученики его школы с родителями.
— Хорошая школа, очень хорошая, — сказал отец.
— Откуда ты знаешь?
— А видно по тому, как они одеваются. — Он помолчал. — И как все организуют, — добавил он.
Колин ничего не сказал.
— Они заставляют тебя развернуться как следует, вот что.
— Да, — сказал он.
— Не то что там, где я работаю. — Отец засмеялся. — Где я работаю, там начальство одно норовит — поприжать тебя как следует.
Подошел автобус. Они влезли наверх. Отец опустился на сиденье рядом с ним.
— Что ты в этой школе учишься, для меня все. Ты это помни, малый, что бы там ни случилось.
В сарае стоял верстак, лежали части разных машин, покрышка от трактора, всякие лопаты и заступы, вилы и грабли, а к стене был прислонен мотоцикл — единственный предмет здесь, не требовавший починки.
— Раненько ты явился, — сказал старшой. — Вроде бы без четверти восемь. — Он достал часы из жилетного кармана. — Выспался, значит?
— А вы с хозяином говорили?
— Он сказал, чтобы я тебя взял. — И добавил: — Он сегодня сам сюда заедет.
— А сколько я буду получать? — сказал Колин. Накануне он спросил только, не найдется ли для него работы.
— Мне про это, парень, ничего не известно. Я ведь тут за старшого, и все. Хозяин тебе сам скажет.
Колин сел на кучу мешков у двери. Снаружи на изрытом колеями дворе стоял трактор, а дальше под навесом — сноповязалка. Сараи и навесы сбились в тесную кучку посреди полей. Их крыши опирались на столбы, такие низкие, что даже он, входя, наклонял голову. Только там, где стояла сноповязалка, крыша была повыше.
Старшой снял пиджак и пошел к трактору. Он поджег лоскут, сунул его в отверстие спереди и начал крутить заводную ручку.
Колин встал и вышел вслед за ним.
— Отойди-ка, — сказал старшой. — Он, когда заводится, может и взбрыкнуть.
Он рванул ручку.
— Прогревается-то не сразу.
И снова рванул.
В моторе раздался негромкий сосущий звук.
Старшой выхватил тлеющие остатки лоскута, затоптал их и схватил еще один. Из жилетного кармана он вынул зажигалку, щелкнул, сунул пылающую тряпку в отверстие, быстро крутнул ручку и отскочил, когда мотор взял.
Из вертикальной выхлопной трубы вырвалось облако дыма. Несколько секунд старшой слушал, как работает мотор, потом уменьшил обороты и пошел назад через двор, вытирая руки ветошью.
— Надолго хочешь устроиться или только на каникулы? — сказал он.
— На каникулы.
— Значит, учиться не бросаешь?
— Нет.
— А вот и Джек.
Во двор въехал мужчина в комбинезоне. Он спрыгнул с велосипеда и поставил его в сарай.
— Вон кролик объявился, тот, что вчера приходил насчет работы, — сказал старшой и добавил. — А тут заикнись про работу, так только пыль завьется.
У приехавшего было длинное худое лицо, тощие, костлявые руки, редкие, коротко остриженные волосы. Закатив велосипед в сарай, он снял куртку и открыл сумку, висевшую на руле.
— Позавтракать, что ли. Дома так и не успел, — сказал он, вытащил бутерброд и сел на мешки рядом с Колином.
Старшой принес из глубины сарая косу, обмотанную мешковиной и перевязанную веревкой. Он неторопливо развязал узлы и освободил клинок.
Появился третий человек, низенький, плотный, с кривыми ногами. Он выглядел старше первых двух. Он пришел по тропинке, которая тянулась через поле вдоль живой изгороди. На нем тоже была кепка, а с плеча свисал на веревке небольшой коричневый мешок.
— А вот и Гордон! Лучше поздно, чем никогда, — сказал второй, откусил еще кусок и убрал остатки бутерброда в сумку.
— Джек, а сноповязалку надо бы смазать, пока хозяин не приехал, — сказал старшой. Он прислонил косу к мешкам, еще раз ушел в глубину сарая и вернулся с зубчатым ножом сноповязалки, тоже аккуратно завернутым в мешковину.
— А малый, значит, пришел, — сказал кривоногий. Он снял кепку и вытер лоб. — Черт! Колосья нынче рано высохнут. — Он посмотрел на Колина и снова перевел взгляд на поле.
— Начинать, пожалуй, рановато, — сказал старшой. Кроме ножа сноповязалки, он принес небольшую косу, наточил ее на бруске и подошел к мешкам.
— Умеешь с ней управляться? — сказал он.
— Да, — сказал Колин.
— Ну, так у меня есть для тебя работка.
Он повел его через двор. Трактор выплевывал клочья дыма, подрагивая на массивных шинах.
Старшой перешел изрытый колеями проселок, и они перелезли через забор. Большой луг уходил вниз к железнодорожной насыпи. По нему там и сям были разбросаны купы деревьев, среди высокой травы широкими полосами тянулись заросли крапивы.
У забора паслись лошади.
— Скоси-ка мне ее, — сказал старшой, указывая на крапиву. — Значит, косу ты в руках держал?
— Да, — сказал он.
— Всегда коси от себя. Не вздумай повернуть косу.
Трава была вся в росе. Пока они шли от забора, он успел промочить ноги.
Старшой направился назад к сараям.
Он работал быстро. Оглядел огромный луг, пересчитал ближайшие заросли и быстрее замахал косой.
Солнце жгло сильнее. Легкий туман, висевший над полями, когда он вышел из дому, давно растаял. С безоблачного неба лился зной.
Лошади, когда он подошел к ним, подняли головы. Он протянул двум, которые стояли поближе, по пучку травы.
На проселке показался автомобиль и, не остановившись у сараев, поехал дальше, к видневшемуся в отдалении дому.
По насыпи прогромыхал поезд. Лошади подняли головы, а одна вдруг помчалась галопом вокруг луга, и он почувствовал, как земля содрогается под ее копытами.
Проехал назад автомобиль. За стеклом мелькнула светловолосая голова, машина выехала на шоссе и скрылась из виду.
Теперь позади него на лугу лежали кучи скошенной крапивы и чертополоха. Он переложил косу в другую руку. Лошади, подергивая хвостами, ушли от жары в тень деревьев.
Рокот трактора замер.
Через час вернулся старшой. Он окликнул его от забора и замахал рукой.
Во дворе кривоногий натачивал косу. Старшой кончал точить другую. Трактора и сноповязалки нигде не было видно. Второй мужчина все еще сидел на мешках.
— Где же это ты был? — спросил он, дожевывая бутерброд.
— Ты готов, Джек? — сказал старшой.
— А как же, Том, — ответил он. — Уж который час дожидаюсь.
Они свернули за сараи и пошли по колее у края пшеничного поля вдоль металлической ограды, за которой склон постепенно поднимался к большому каменному дому. Пшеница полегла от ветра, и старшой иногда нагибался и приподнимал колосья концом косы. Среди них попадались совсем почерневшие.
— Черная гниль. Да уж, Смитти не обрадуется.
Остальные двое, однако, не обратили на его слова никакого внимания. Кривоногий с косой на плече шел сзади, разговаривая с костлявым, который все еще жевал бутерброд; свою сумку он нес в руке.
Они вышли на широкое поле, которое ровной волной поднималось к близкому горизонту. Нижний его край граничил с пастбищем и был отделен от него изгородью из боярышника и чахлой рощицей.
— Вот отсюда и пойдем, Гордон, — сказал старшой. — Ты как выберешь, вверх или вниз?
— А я с Джеком пойду или с мальчонкой? — сказал кривоногий.
— Для начала он пусть при мне останется, — сказал старшой.
— Ну, тогда мы вниз! — Костлявый захохотал, укладывая сумку и куртку под изгородью.
Они повернули в разные стороны. Кривоногий скашивал колосья по краю поля, а костлявый, нагнувшись, шел за ним, вязал колосья в снопы и прислонял их к изгороди. Старшой направился вверх по склону, взмахивая косой со спокойной небрежностью, точно рассеянно подметал комнату. Потом он вернулся туда, где Колин подбирал колосья, докончил сноп и сам связал второй.
— Ну, понял? — сказал он и пошел к оставленной косе.
Руки у Колина уже распухли и были все в ссадинах, а теперь он то и дело резал ладони соломой и царапал их о стебли чертополоха, попадавшиеся среди колосьев. По примеру костлявого он прислонял снопы к изгороди.
Солнце пекло. Они медленно двигались вверх по склону.
— Руки-то у тебя нежные, — сказал старшой, снова останавливаясь. — Вечером, когда домой вернешься, подержи их в соленой воде.
Солнце поднималось все выше. Кривоногий и костлявый внизу под склоном казались теперь двумя темными пятнышками. За изгородью на пастбище медленно двигались коровы, узкий проселок уходил вдаль, к группе домов — больших, кирпичных, затененных деревьями. Еще дальше, за другими пшеничными полями, темнел зубчатый хребет террикона, а над ним черным туманом висела полоса расходящегося дыма и взметывались облака пара, огромные, как холмы.
По колее от сараев к полю ехала машина. За ней клубилась пыль.
Из машины вылез краснолицый дюжий мужчина. Он снял фетровую шляпу, вытер лоб и поглядел туда, где работали Колин и старшой.
— Работай, работай, это Смитти, — сказал старшой.
Разглядывая снопы, краснолицый пошел вдоль изгороди. Колин продолжал вязать колосья, пока сзади не раздался голос:
— Как дела, Том?
— Да ничего, — сказал старшой. — К вечеру, думаю, обкосим.
— Надо бы в один день уложиться. Такая погода долго не продержится. — На нем были брюки-галифе. Молочно-голубые глаза посмотрели на Колина. Он покачал головой. — А это что еще за фу-ты, ну-ты, всего ничего?
— Это Колин, — сказал старшой.
— Сколько тебе лет, парень? — сказал фермер.
— Одиннадцать, — сказал Колин.
— Если кто спросит, говори — четырнадцать. — Он поглядел на старшого. — Ну, а работает он как?
— Хорошо работает, — сказал старшой, подмигнув фермеру, и кивнул. — Он вон там чертополох косил, так не меньше половины в руках унес.
— Домой, на сено, что ли?
— Да не иначе, — сказал старшой.
— А тебе работа подходит? — сказал фермер.
— Да, — сказал Колин.
— И долго ты собираешься у нас пробыть? Или тебя завтра и след простынет?
— До середины сентября, если надо, — сказал он.
— Значит, мы месяца два можем на тебя рассчитывать. — Он с улыбкой поглядел на старшого. — Вот и есть у нас работник до конца страды, а, Том?
— Да, уж теперь за уборку можно не беспокоиться, — сказал старшой.
Фермер поглядел на руки Колина.
— Где ты живешь, парень? — сказал он.
— В Сэкстоне.
— Ого! Далековато отсюда. — Он поглядел вниз на двух других. — А как твоя фамилия?
— Сэвилл.
— Сэвилл из Сэкстона. Ну, буду помнить. — Он повернулся к старшому. — Я заеду завтра поглядеть, как вы начнете.
Он медленно спускался по склону, осматривая колосья, поговорил с кривоногим и костлявым, потом пошел к машине.
Они работали еще некоторое время, а потом сделали перерыв, чтобы поесть, и, пропыленные насквозь, вернулись к сараям.
Старшой сел в стороне. Кривоногий и костлявый устроились в другом конце двора. Они лежали в тени дерева и разговаривали. Кривоногий больше молчал, но зато часто смеялся словам своего собеседника.
Колин сидел на мешках у входа в сарай. Мать дала ему с собой бутылку холодного чаю и хлеб с яичным порошком.
В час дня старшой вынул часы.
— Джек, Гордон! — Он медленно поднялся на ноги и взял косу. Свой термос он унес в сарай и поставил возле мотоцикла. Из сарая тянуло запахом соломы и машинного масла.
Те двое все еще лежали под деревом.
Они пошли назад на поле. Из-под их ног поднимались клубы пыли. Они опять двинулись вверх по склону.
К середине дня они добрались до вершины холма.
— Придется сегодня часок-другой поработать сверхурочно, — сказал старшой. Он вынул часы из кармашка брюк, куда переложил их, когда снял жилетку. — Ты можешь остаться на лишний час или два? — сказал он.
— Да, — сказал Колин. — Сколько надо, столько и останусь.
В поле старшой почти все время молчал. Если он останавливался, то лишь для того, чтобы наточить косу, или оглядывался, рассеянно смотрел на снопы, которые связал, и кивал головой.
Работая, Колин подсчитывал, сколько получит денег. Восемь часов в первый день — семьдесят два пенса. Семьдесят два пенса равны шести шиллингам. За сверхурочный час еще девять пенсов плюс четыре с половиной, за два сверхурочных часа — два шиллинга три пенса, а всего за день это выйдет больше восьми шиллингов. Даже без сверхурочных он, по его расчетам, мог за одну неделю заработать тридцать три шиллинга. Чем больше он считал, тем больше прибавлялось у него сил. Он почувствовал, что готов работать хоть до темноты. Да и день уже шел под уклон.
Они работали до семи часов. На то, чтобы обкосить поле, у них ушло три часа утром и шесть днем. Когда они вернулись к сараям, у него еле хватило сил сесть на велосипед.
— Завтра в восемь, — сказал старшой.
— Смотри, спозаранку не являйся! — сказал кривоногий и засмеялся вместе с костлявым. Они стояли у навеса, пока старшой запирал дверь сарая. Наконец кривоногий пошел напрямик через поле, а костлявый поехал на велосипеде по проселку.
Колин поехал за ним. У деревянной калитки, выходившей на шоссе, его обогнал старшой на мотоцикле, помахал костлявому и повернул к дальним домам.
Перед каждым подъемом он слезал с велосипеда и вел его рядом. Когда он добрался до дому, было почти девять часов. А утром он уехал в семь — больше тринадцати часов назад. Он прислонил велосипед к стене и, пошатываясь, вошел в кухню.
Стивен в пижамке стоял у очага — мать подстригала ему ногти.
— Где ты был? — спросила она и осеклась, увидев, в каком он состоянии.
Он посмотрел на свое лицо в зеркале над раковиной: красное, почти малиновое, в грязных потеках пота, волосы и брови совсем седые от пыли.
— Мне просто надо умыться, — сказал он.
— Но где ты был?
— Мы работали сверхурочно, — сказал он.
Вода перестала щипать кожу. Он намылил руки до плеч, намылил лицо, ополоснул волосы под краном.
— Ужин тебе давным-давно готов, — сказала мать.
— Поставь его на стол, — сказал он.
— Ты что же, — сказала мать, — теперь все время будешь возвращаться чуть не ночью?
— Ничего, — сказал он. — Втянусь, и все будет в порядке.
На следующий день они жали. Старшой вел трактор, Гордон — кривоногий — сидел на сноповязалке у длинного рычага и следил, как работает нож, как вяжутся снопы и медленно, через правильные промежутки, сползают вбок. Колин и костлявый складывали их в копны. Вдвоем они собирали снопы по шести рядам — сносили их парами и укладывали в копны по восемь пар в каждой, слегка наклоняя внутрь, чтобы они не падали.
— А знаешь, что бы я сделал, если б командовал на войне? — сказал костлявый. — Я бы собрал всяких животных, заразил бы их холерой, бешенством, дизентерией, бери-бери и каждую ночь сбрасывал бы их на Германию. И никаких бомб не надо было бы, и самолетов куда меньше тысячи. За неделю можно было бы облететь всю страну и накидать на парашютах мышей и крыс. Где-нибудь возле больших городов и рек. И возле ферм — ну, знаешь, во время жатвы.
Он поглядел по сторонам, словно представляя себе, как на окрестные поля падают крысы и мыши.
— За неделю можно было бы всю страну насквозь пройти. Никакого сопротивления — кто в больнице, а кто дома валяется. Гитлер! Да там никто и на ногах бы толком устоять не смог.
Позже, когда они добрались до угла поля, он закурил сигарету.
— А с подводными лодками я бы вот что сделал: обвел бы ночью их порты электрическим кабелем и скрепил бы его с электрическим проводом. И чуть какая поплывет и заденет по нему, я бы сразу его включал. Они бы у меня попрыгали! Сразу всплыли бы, как рыба, если ее в кипяток кинуть.
Костлявый работал медленно. Он часто останавливался, глазел по сторонам, смотрел, как трактор и сноповязалка срезают стену колосьев, легко наклонялся, несмотря на свой высокий рост, и брал снопы, сгибаясь и разгибаясь еле заметным движением.
— Нечего надрываться-то. Деньги свои мы все равно получим.
Они спустились к подножию холма, и в тени рощицы, под деревьями, он увидел пруд. Ветки купались в воде.
Они с костлявым ходили по стерне между рядами снопов, и вокруг поднималась сухая пыль. Параллельно изгороди вдоль длинной стороны поля единственный ряд копен уходил вверх, к гребню.
Дойдя до самого низа, они повернули. Трактор медленно взбирался на склон над ними. Время от времени он останавливался, кривоногий слезал на землю и очищал ножи или выдергивал застрявший сноп. В такие минуты наступала тишина и было слышно, как вдалеке лает собака или кто-то окликает кого-то в большом доме за деревьями. Костлявый тут же усаживался в тени изгороди, закуривал и словно засыпал с сигаретой во рту, а Колин продолжал работать и складывал в копны и его снопы. Костлявый поднимался с земли, когда трактор снова трогался или появлялся из-за гребня.
Широкая полоса стерни уже протянулась по всем четырем сторонам поля.
— Долго еще до обеда, как по-твоему? — сказал костлявый. Часов у него не было. Свою сумку он захватил на поле и время от времени, когда они продвигались дальше, возвращался за ней к изгороди и переносил ее на другое место впереди. — По солнцу тридцать пять минут осталось, — добавил он. — Больше, чем на минуту-другую, я не ошибусь, хоть поспорим.
Теперь он все время посматривал на трактор и каждый раз, когда трактор останавливался, выпрямлялся со снопом в руках, проверяя, не собирается ли старшой объявить перерыв.
— Том, глядишь, и до часу проработает. Он ведь на время не смотрит. Ну, если старик Гордон ему не напомнит, неизвестно, сколько еще мы тут проторчим.
Однако через несколько минут трактор остановился. Грохот стих. Клочья синего дыма больше не плыли над полем.
Кривоногий уже шел по стерне, но старшой что-то подвинчивал в сноповязалке.
— Ага! Обед! — сказал костлявый.
Он схватил сумку и рысцой затрусил к колее.
Колин не торопясь шагал за ним. Когда он добрался до двора, кривоногий и костлявый уже лежали под деревом. Старшой появился только минут через двадцать. Он вошел в сарай, перебрал там несколько гаечных ключей, вышел с парусиновой сумкой через плечо и сел на пороге открытой двери. Позади него в полутьме поблескивал его мотоцикл.
— Вроде бы я ее наладил, Джек.
— Я ж говорил, что гайки надо поослабить.
Некоторое время они перекликались через двор.
— А как тебе копнится, малец?
— Ничего, — сказал Колин.
— Совсем загнал того вон лодыря или еще не очень?
— Это кто же лодырь? — сказал костлявый.
— Ты, Джек, ему голову дурацкими идеями не забивай.
— Да откуда у Джека идеям-то взяться, Том? — сказал кривоногий.
— А вот наберусь у того вон студентика, — сказал костлявый.
Они захохотали.
Через час они пошли назад на поле.
Было еще жарче, чем накануне. Теперь они поднимались по склону, низко нагибаясь к земле. Трактор остановился, и старшой с кривоногим больше часа тоже укладывали снопы.
— Надолго их не хватит, — сказал костлявый. — Раз уж трактор есть, что за охота спину ломать.
Вскоре трактор снова тронулся.
— Ну, что я тебе говорил? — Костлявый с решительным видом уселся под изгородью, и Колин продолжал работать один.
Потом приехал фермер. С ним была девочка и еще мужчина в гольфах, который держал в руках ружье. Мужчина с ружьем и девочка пошли за сноповязалкой, огибая квадрат еще не сжатой пшеницы.
— Кроликов стрелять, — сказал костлявый. — Они скоро, как блохи, оттуда запрыгают. Я и сам примеривался добыть парочку-другую.
Фермер, ожидая приближения сноповязалки, проверил копну, переложил снопы, а потом принес еще два и добавил к ней.
— Тут работать хорошо, — сказал костлявый. — У него не то две, не то три фермы, и он тут подолгу не задерживается. Эти поля самые дальние. Вот Смитти на Тома и полагается.
Раздался выстрел. Над стерней поднялось облачко дыма.
— Да если кролик прямо перед ним сядет, он все равно промажет. Это его сынок. А она дочка. Смотри не зевай. — Он засмеялся. — Таких красоток поискать.
Немного погодя, когда мужчина с ружьем и девочка подошли ближе, Колин поглядел на них. Он увидел румяное лицо, светло-каштановые волосы, снова повернулся к копне и не разгибался, пока они не прошли.
Некоторое время спустя фермер уехал: все трое сели в машину, и она скрылась из виду, подпрыгивая на ухабах.
Стало еще жарче.
Они копнили теперь один ряд, поднимаясь по склону. Им оставалось пройти еще полторы стороны поля. Они замкнули ряд, начатый старшим и кривоногим, и двинулись по гребню холма.
— Напиться он нам ничего не привезет, и не жди, — сказал костлявый. — Вот там, где я прежде работал, хозяйка все время на поле приходила — то эля принесет, то фруктовой водички. Не работа, а одно удовольствие, вот что я тебе скажу.
Возле дальних садов, по-видимому, был теннисный корт. Там мелькали одетые в белое фигуры, и до поля доносились приглушенные расстоянием удары по мячу.
Над ними пролетели самолеты — так высоко, что видны были только два следа, две узкие белые борозды, словно прожилки в бездонной синеве.
Теперь он двигался в неторопливом, размеренном ритме: утренняя легкость исчезла, он старался точно рассчитать, сколько еще времени остается до вечера. Они работали молча, и костлявый все реже пристраивался полежать, свернувшись в тени копны или раскинувшись в тени изгороди. Если Колин тоже останавливался передохнуть, он насмешливо покрикивал:
— Берегись, парень, вот он заметит, что ты сложа руки стоишь. Лодырь-то здесь только один, и тот я.
Под вечер вернулся фермер. Из автомобиля снова вылезли три фигуры.
Трактор остановился вверху на склоне, старшой слез на землю, и приехавшие подошли к сноповязалке.
— Он нас на сверхурочные не оставит, — сказал костлявый. — Только Тома и Гордона. А нас отправит восвояси.
И действительно, через несколько минут фермер махнул им из-за полосы еще не сжатой пшеницы, тянувшейся посередине поля, точно узкая дорога.
Кончай, значит. А ведь мы могли бы еще часа два поработать.
В дальнем конце ноля молодой мужчина с ружьем громко закричал.
Бегущий кролик перевернулся и забил лапами в воздухе.
Из пшеницы выскочил второй кролик — меховой мячик, катящийся по стерне.
Молодой мужчина снова выстрелил, меховой мячик взлетел в воздух, судорожно задергался и упал на бок.
— Вы оба можете идти, — сказал фермер. — Сейчас уже начало шестого. Мы сегодня кончим жать, а копнить будем завтра с утра, чтобы не начинать нового поля, пока роса не сойдет.
Он держал за уши кролика, изо рта у кролика текла кровь.
— Ну, а ты как справляешься, молодой человек? Наловчился или за тебя все Джек делает?
— Да нет, мистер Смит, иной раз он и сам исхитряется, — сказал костлявый.
Девочка взглянула на него, лицо ее было красным от солнца. Она стояла на полдороге между ними и автомобилем и следила за своим братом.
Отбросив волосы с глаз, она крикнула и показала на несжатую пшеницу.
Молодой мужчина выстрелил еще раз.
— Мы сегодня с добычей, — сказал фермер.
Джек, зажав под мышкой свою сумку, уже шел по колее и отряхивался от пыли. Под деревьями он закурил, прикрывая сигарету ладонью, потому что вдруг поднялся легкий порывистый ветер.
Молодой мужчина прицелился и выстрелил туда, куда указывал кривоногий со сноповязалки. В автомобиле залаяла собака.
Девочка пошла к ней.
— Смотри, чтоб пес не выскочил, Одри, — крикнул фермер. — Пока еще не все сжато, пусть там остается.
Колин спустился на колею. Девочка, раскрасневшаяся от жары, стояла, держась за дверцу, и разговаривала с собакой.
Когда он проходил мимо, она обернулась.
— Это какая собака? — сказал он.
— Колли.
Она еще раз быстро взглянула на него, потом прикрикнула на собаку.
На ее шее и над локтями, там, где кончались короткие рукава, виднелась мелкая сыпь.
— Она на кроликов обучена? — спросил он.
— Да нет.
Она открыла машину и ухватила собаку за ошейник, не дав ей выпрыгнуть.
Нагнувшись, все так же держа собаку за ошейник, она пошла по полю.
Колин пошел дальше и на ходу заглянул в машину: патроны, термос, жестяные кружки и что-то завернутое в белое полотенце — наверное, бутерброды.
Он пошел к сараям, отряхиваясь от пыли.
Когда они пришли утром, поле было сжато и снопы лежали рядами поперек склона. Колин работал со старшим внизу. Копны поднимались, как маленькие домики. Следы тракторных шин на стерне серебрились росой.
— Сколько вы вчера подстрелили кроликов? — сказал он.
— Четырех. — Старшой засмеялся. — Зато шуму подняли на целых двадцать.
— А сколько часов у вас вышло сверхурочных? — сказал он.
— Тебе-то что? — Старшой засмеялся. — Этой работы мало, хочешь еще?
Но позднее, когда они шли к сараям, он добавил:
— А вообще-то вчера тебе дело тоже нашлось бы. Завтра надо начинать новое поле. Значит, сегодня придется задержаться, чтобы его обкосить.
Однако старшой с Гордоном ушли на второе поле сразу после обеда, и Колин с костлявым остались работать одни. Костлявый сразу этим воспользовался и подолгу лежал под изгородью, лишь иногда оставляя ее тень, но уж тогда работал быстро, так как Колин в одиночку успевал сделать довольно мало.
— Нет, они побольше от нас потребуют, знаешь ли.
Подниматься и спускаться по склону приходилось все меньше — половина снопов была уже сложена в копны. В середине поля солнце пекло сильнее, чем на колее или по краям, пыль поднималась гуще, запах соломы казался сильнее и удушливее. Его одежда насквозь пропиталась потом. Поджившие было ладони снова кровоточили.
В рощицу у подножия холма пришли играть какие-то ребята. Он увидел их, когда они еще шли по дороге со стороны скрытого деревьями дома. Они принесли с собой ялик, перетащили его через изгородь и спустили в пруд. Около часа он слышал их крики, видел блеск воды — над деревьями время от времени взлетали столбы брызг. Наконец, когда они с костлявым дошли до изгороди, он поглядел на пруд.
На середине его был островок, заросший куманикой. У самой воды виднелось большое гнездо. Из рощицы тянуло запахом гнили.
Трое мальчиков в ялике гребли к островку. Двое были в плавках, и один из них, пока Колин наблюдал за ними, прыгнул в воду и под вопли двух других принялся энергично толкать ялик вперед, осыпая их градом брызг.
Один из оставшихся в ялике был в майке и шортах, Колин узнал Стэффорда: встав на середине ялика, он отдавал команды второму мальчику в плавках, который никак не мог справиться с веслом.
— Левей! Левей бери! — крикнул Стэффорд пловцу, который изо всех сил колотил по воде ногами.
Ялик ткнулся в берег, и Стэффорд, наклонившись, ухватился за ветку. Он удерживал лодку, пока второй мальчик вылезал на берег. Пловец, все еще в воде, поднялся на ноги. Плечи у него были в черной грязи.
Стэффорд отпустил ветку, схватил весло и оттолкнулся.
— Эй, Невил, — крикнули двое на острове. — Э-эй! Нее-е-вил! Греби назад.
Стэффорд, стоя в ялике, оперся на весло. Отголоски его смеха замерли под деревьями.
— Эй! Свинья ты! — кричали мальчики на острове.
На темном фоне деревьев их ноги и торсы казались совсем белыми.
— Эй, Невил, плыви назад!
Стэффорд опустил весло в воду, нащупал дно и подтолкнул ялик к берегу.
— Да Невил же!
Стэффорд захохотал, ялик качнулся. Мальчики принялись брызгать в его сторону.
— Да ну же, Нев! Плыви назад.
Стэффорд помотал головой и, все еще смеясь, опустился в ялике на колени.
— Тут такой ил, что вброд не перейти, — сказали мальчики.
— А вы доплывите, — сказал Стэффорд.
— Так мелко же, — сказал один из мальчиков.
Стэффорд снова встал, утирая глаза.
— Свинья ты. Пригони лодку назад.
— Сами пригоните.
— Ну, брось, Нев, имей совесть, — сказали они.
— Сколько дадите? — сказал он.
— Сколько тебе надо?
— А сколько у вас есть?
— Да откуда же? — Они указали на свои плавки.
Стэффорд выбрался на берег и сел рядом с яликом.
— Ну, брось, Нев, имей совесть.
Возможно, Колин переступил с ноги на ногу или кто-то из мальчиков на острове посмотрел в его сторону.
Стэффорд обернулся. Несколько секунд он растерянно смотрел на него. Потом приставил ладонь к глазам.
— Привет, — сказал Колин и кивнул.
Стэффорд встал, продолжая растерянно смотреть на него. Мальчики на острове снова закричали:
— Кто это, Нев? Давай плыви сюда!
— А, так это ты, — сказал Стэффорд негромко. Его голос словно угас. — Что ты здесь делаешь? — добавил он.
— Работаю, — ответил Колин и показал на поле позади себя.
— Как работаешь?
Он снова показал на поле.
— Копны складываю.
— Зачем?
— Деньги нужны.
Стэффорд повернулся к ялику. На поле он даже не посмотрел.
— Значит, работаешь?
Колин кивнул.
— Ну, еще увидимся. — Стэффорд влез в ялик и оттолкнулся от берега.
Костлявый на поле окликнул его. От сараев по колее ехал автомобиль, подпрыгивая и пыля.
Он пошел назад и уже складывал копну, нагибаясь к снопам, когда автомобиль остановился и из него вылезли фермер, старшой и кривоногий.
Они работали до самого вечера. Фермер копнил вместе с ними. В шесть часов он сходил к автомобилю и принес термос с чаем. Они сидели в тени изгороди, пили чай из жестяных кружек и ели бутерброды, которые он тоже привез с собой.
Много раньше, почти сразу после того, как подъехал фермер, из рощицы вышел Стэффорд. За ним шли два мальчика и несли ялик. Они посмотрели туда, где он работал рядом с четырьмя мужчинами. Стэффорд шел немного впереди, мальчики продолжали оглядываться на него, но Стэффорд вышел на дорогу, не повернув головы. Он исчез за деревьями, скрывавшими дом. Мальчики, совсем белые на темном фоне, с трудом перетаскивали ялик через изгородь.
— Нев! Нев! — услышал он их голоса.
Когда он добрался домой, уже давно смерклось. У его велосипеда не было фонарика, и он ехал в прохладной тьме, полузакрыв глаза. Его жизнь обрела новую инерцию. Он мог думать только о рядах копен, о поле, где им предстояло работать завтра, потому что на прежнем все снопы были уже в копнах — он мельком увидел его в сумерках, проезжая мимо. Он смыл пот и пыль и лег спать, отмахнувшись от аханья матери и вопросов отца.
Он оцепенело вытянулся на кровати и сразу заснул.
На этой ферме он проработал семь недель: восемь полей были обкошены и сжаты, снопы сложены в копны. С другой фермы привезли красную молотилку, которую тащил трактор со шкивом, таким же большим, как задние колеса. Один раз он увидел двух мальчиков с островка — они катили на велосипедах по дороге, которая вела от большого дома мимо сараев к шоссе. Они как будто не заметили его. У обоих были каштановые волосы. Они ехали и весело пересвистывались. Иногда он слышал их крики, доносившиеся из-за деревьев, окружавших дом.
Пшеница была обмолочена. В конце седьмой недели, в субботу, они работали сверхурочно, и поздно вечером фермер сказал, чтобы он больше не приходил.
— Ты парень дельный, ничего не скажешь, но у меня тут весь хлеб уже убран.
Фермер отдал ему деньги здесь же, на поле.
Утром он взял велосипед и снова отправился на поиски — заглянул на фермы, где уже справлялся о работе, побывал на новых, еще дальше от поселка. Поздно вечером, когда он уже возвращался и до дому оставалось три-четыре мили, он увидел поле, где работал трактор со сноповязалкой, но никто не копнил. Он свернул к усадьбе, до которой было несколько сотен ярдов, и договорился, что утром начнет работать.
Усадьба стояла у подножия холма, за ручьем, и к дому надо было идти через мостик. Фамилия фермера тоже была Смит.
— Придется тебе одному потрудиться, — сказал он. — Разве что я завтра кого-нибудь подыщу. Мне два поля надо сжать, а копнить некому.
Однако на следующее утро у ворот стояли двое мужчин в темно-коричневой военной форме — один высокий, худой, с длинными черными волосами, другой маленький, широкоплечий, коротко остриженный блондин с белесыми глазами.
— Это Фриц, — сказал фермер, показывая на низкого, — а это Луиджи, — добавил он, указывая на черноволосого, который согнулся и потряс ему руку. — Оба военнопленные, так что, если они попробуют сбежать, ты уж мне скажи. — Фермер засмеялся, и несуразная пара засмеялась вместе с ним. — К шести им надо быть в лагере, так, коли они упрутся, тащи их к воротам. — Он повернулся к нему, подмигнул и сказал быстро и невнятно: — Они ничего, я их и прежде брал; только не гляди, как они работают.
Следующие две недели он копнил с итальянцем и немцем. Первый был пехотинцем и попал в плен в пустыне, второй — летчиком, и его сбили над южной Англией. При нем они объяснялись знаками и жестами, но, оставаясь с ним с глазу на глаз, и тот и другой начинали говорить по-английски — довольно бегло и лишь с легким, словно насмешливым акцентом.
Как-то на поле приехал отец. Колин увидел, что он прислонил велосипед к калитке и стоит возле изгороди.
Он медленно пошел к нему, утирая лицо.
— Вот, значит, где ты работаешь.
Поле было на нижнем склоне холма, за усадьбой. В ясную погоду на горизонте виднелся город — шпиль собора, башня ратуши с конической крышей. Но этот день был пасмурным, и дальний край широкого поля терялся в тумане.
— А это твои военнопленные? — Отец посмотрел на поле между копнами, туда, где высокий итальянец и коренастый немец поднимали снопы, кричали друг на друга, бросали их на землю. У них была манера разбирать готовые копны, потому что один утверждал, что другой забрал его сноп. Они всегда работали каждый сам по себе, но обязательно почти рядом.
И теперь они начали ссориться.
— Ты никуда не годишься.
— Это ты никуда не годишься.
— Ты дрянь.
— Это ты дрянь.
— Schweinhund [3].
— Bastard [4].
Они подрались, и движения их были такими же нелепыми, как перебранка.
Отец засмеялся. Он с недоуменным интересом смотрел, как длинное, словно бескостное тело итальянца извивается вокруг приземистой, плотной фигуры белобрысого немца.
— Ах ты! — Он вытер глаза. — Непонятно, как они хоть что-нибудь делают, — добавил он.
— Почти все делаю я, — сказал Колин. Ему хотелось, чтобы отец посмотрел на копны, на их прямые ряды, на то, как они правильно выстроились по склону. Отец улыбнулся.
— Я смотрю, головы у них крепко привинчены, — сказал он.
Оба теперь катались по земле, скрывались за снопами, снова появлялись — то немец наверху, то, через секунду-другую, итальянец.
— А часового к ним не приставляют? — сказал отец.
— Я никаких часовых не видел, — сказал Колин.
— Так ведь они сбегут.
— По-моему, они сами бежать не хотят, — сказал он и мотнул головой.
Лагерь для военнопленных находился в миле оттуда, возле шоссе. Как-то он проехал мимо, возвращаясь в Сэкстон, — почти от самого шоссе начинались ряды деревянных бараков, окруженных колючей проволокой и буйной живой изгородью. Часовых не было видно, только какой-то солдат, сняв рубаху, возился в моторе автомобиля.
— Они что, весь день вот так и куролесят? — сказал отец.
— Иногда работают понемножку, — сказал он. — Только зачем им это нужно? — добавил он.
— Да ведь они воевали против нас, малый. Ты что, забыл? — сказал отец.
Военнопленные поднялись на ноги. Они отряхнули друг друга и в заключение с церемонным поклоном обменялись рукопожатием.
— В театре это, может, и сгодилось бы, но ведь они должны вкладывать свою долю в общие усилия. — Отец обвел рукой поля вокруг. — Каждый сноп, сжатый здесь, высвобождает место в судовых трюмах.
Он крепче сжал столбик калитки.
— А если они не хотят помогать, так пусть бы те, кто их охраняет, сажали их под замок, вот как я на это смотрю, — сказал отец. Внезапно на его лице мелькнула нервная, полная предвкушения улыбка: военнопленные увидели его и, окликнув Колина, пошли к ним.
— Это мой отец, — сказал Колин и добавил с некоторым вызовом: — Он приехал поглядеть, как вы работаете.
— Как работаем? — Широкое загорелое лицо немца повернулось к длинному печальному лицу итальянца.
— Как работаем? — сказал итальянец, передразнивая его акцент.
— Мы оставляем всю работу Колину, мистер Сэвилл, — сказал немец почти без акцента, с такой небрежностью в голосе, что отец поглядел на него с некоторой тревогой и даже словно чуть было не вытянулся и не отдал честь.
— Он сил не жалеет, — сказал отец и поглядел на поле. После его первой рабочей недели отец без конца повторял: «Тебе платят как подростку за работу взрослого мужчины. Фермеры своей выгоды не упустят, я уж знаю», и теперь добавил: — Плохо только, что он-то сил не жалеет, а другие этим пользуются. — Он повторил: — Да, пользуются, — словно опасаясь, что немец его не понял.
— О, мы ему помогаем как можем, — сказал немец и добавил: — Мы помогаем Колину как можем, Луиджи. Помогаем.
— Помогаем, — сказал итальянец и медленно поклонился отцу, с некоторым смущением уставив на него темные глаза.
— Назад, за работу, Луиджи, — сказал немец и добавил: — За работу!
Итальянец поклонился, еще несколько секунд смотрел на отца, потом повернулся и медленно пошел по полю.
— Пожалуй, их тоже понять можно, — сказал отец. — Будь мы с тобой военнопленными у них, так, наверное, тоже не очень бы старались. Что-то ведь они все-таки делают, — добавил он и повернулся к своему велосипеду.
— Ну, так я поеду, — сказал он.
Колин смотрел, как отец выезжает на проселок. Несколько минут спустя он увидел его на дороге, которая вела через поля. Его маленькая фигура низко наклонялась над рулем. Возможно, он не сообразил, что его еще видно с поля, потому что ни разу не оглянулся.
— Ваш отец тоже фермер? — сказал немец, когда он вернулся к снопам.
— Шахтер.
— Шахтер? Он не фермер, Луиджи. Он работает под землей. — И, опустив руку с растопыренными пальцами, он взмахнул ею, словно лопатой.
— А… — сказал черноволосый и заговорил по-итальянски.
— Луиджи говорит: он копает золото?
— Уголь, — сказал он.
— Уголь, — сказал немец и добавил: — Карбон.
— А… — снова сказал итальянец и печально покачал головой.
— Когда вы станете старше, вы тоже будете шахтером? — сказал немец.
— Нет.
— Кем же вы будете? — Его белесые глаза пристально смотрели на него.
— Я пока не решил, — сказал он.
— Фермером?
— Нет, — сказал он.
— Солдатом?
Он мотнул головой.
— Вы расстанетесь со своей прекрасной страной? Поедете путешествовать по свету?
— Не знаю, — сказал он.
— В Италию не ездите, Италия плохо, — сказал немец.
— Германия плохо, — сказал итальянец.
— Поезжайте на Средиземное море, — сказал немец. — Синие волны, синее небо. — Он взмахнул рукой. — Совсем не так, как у вас тут. Поезжайте в Африку. Поезжайте в Грецию. Только не в Италию. Италия — плохо.
— Германия плохо, — сказал итальянец, и, когда Колин нагнулся к снопам, они снова подрались.
С этой фермы он ушел за два дня до начала занятий в школе. Вечером он завернул в усадьбу, чтобы получить свои деньги. Дверь на кухню была открыта, жена фермера что-то пекла в духовке.
Это была невысокая полная женщина, ее лицо пылало от жары. Иногда по вечерам, когда он работал сверхурочно, она приносила на поле чай и горячие булочки. Чай был в бидоне, уже подслащенный и с молоком. Теперь она подошла к нему с большим круглым пирогом в руках.
— Это я для тебя испекла, голубчик. На память о нас.
— Он от одного свежего воздуха раздобрел, — сказал фермер. — Погляди-ка, какими мускулами обзавелся. И вырос за это время на фут, не меньше.
Пирог она засунула в бумажный пакет. Колин положил его к себе в сумку вместе с деньгами.
— И он еще военнопленных сторожил, — добавил фермер.
— Да неужто? — Жена фермера пошла проводить его до двери.
— Заправский был часовой, — крикнул фермер из полутьмы кухни.
С мостика он оглянулся на дом. Фермер тоже подошел к двери.
— Понадобится тебе работа, так приходи.
Когда Колин выбрался на шоссе, он все еще стоял в дверях и махал.
— Сколько тебе заплатили? — спросил Стэффорд.
Он рассказал ему про ферму и про военнопленных.
— Я на каникулах много не работаю, — сказал Стэффорд и добавил: — Туда я на один день приехал. К Торнтонам. Они живут в том доме за деревьями.
Он шагал рядом с ним, держа парусиновую сумку под мышкой, и насвистывал сквозь зубы.
— В регби ты в этом триместре играть будешь? — спросил Колин.
— На этой неделе я получил травму. — Стэффорд мотнул головой. — Может, попозже. Еще ничего не решено.
Когда они дошли до проулка, ведущего к вокзалу, Стэффорд сказал:
— Если хочешь, я провожу тебя до остановки. Поеду со следующим поездом.
Они свернули под арку к центральной площади. Со стороны школы толпами шли мальчики, к ним присоединялись стайки девочек в школьной форме.
Стэффорд вдруг кого-то окликнул, и с тротуара напротив ему помахали две девочки. Одна что-то крикнула и показала назад, в сторону вокзала.
Стэффорд улыбнулся и помотал головой.
— Погляди-ка. — Он схватил Колина за локоть и показал на витрину. — Как они тебе? — сказал он.
В центре витрины была установлена деревянная дощечка с гербом их школы, а рядом лежали цветные шарфы.
— А есть и ничего. — Стэффорд наклонился к витрине и прижался лбом к стеклу.
Потом открыл дверь и придержал ее.
Пожилой лавочник уже заметил их. Он, по-видимому, узнал Стэффорда, так как быстро вышел из-за прилавка.
— Чем могу служить? — сказал он, когда Колин вошел следом за Стэффордом.
— Мы хотели бы посмотреть шарфы, — сказал Стэффорд. — Те, которые на витрине. — А когда хозяин отодвинул стеклянную панель, вынул поднос с шарфами и вернулся с ними к прилавку, он добавил: — Нет, не школьные, мистер Уэйнрайт, а вон те, штатские. — И сам засмеялся своим словам.
— Ах, штатские, — сказал хозяин и заулыбался.
Они были шелковые. Он расстелил их на прилавке.
— А талоны у вас с собой, сэр? — сказал он.
— Они разве продаются по талонам?
— К сожалению. — Лавочник покачал головой.
— А что продается без талонов?
— Да очень многое, — сказал лавочник. — Булавки для галстуков, например. Вот такие вам подойдут? Ведь вы ищете кому-то подарок? — добавил он.
— Да, — сказал Стэффорд и покосился на Колина.
Лавочник поставил перед ними подносик с булавками.
— Как тебе вот эта? — сказал Стэффорд и взял булавку двумя пальцами.
Она была серебристая, в форме гусиного пера. Колин увидел, что кончик сужен и раздвоен, словно его заточили и расщепили для употребления.
— Тебе нравится?
— Да, — ответил он. Ему хотелось поскорее уйти из лавки.
— Так я ее беру, Уэйнрайт, — сказал Стэффорд и достал из внутреннего кармана бумажник.
— Она довольно дорогая, — сказал лавочник.
— Я так и подумал, — сказал Стэффорд. Он вынул деньги. — А можете вы ее завернуть? То есть как следует, в коробочке.
На улице Стэффорд взглянул на свои часы и добавил:
— Мы не опоздали к твоему автобусу? Когда он отходит?
— Еще можно успеть.
— Ну, так бежим, — сказал Стэффорд.
Они побежали через площадь. Стэффорд, увертываясь от машин, держался с ним рядом.
— Беги, я не отстану, — сказал он.
Автобус уже подошел к остановке.
Стэффорд встал рядом с Колином в очередь и, когда они были почти у самых дверей, сказал:
— На вот, бери. Надеюсь, она тебе пригодится. — Он протянул ему коробочку. — Ну, бери и садись. Не то автобус уйдет.
Он сунул коробочку ему в руку.
— До завтра! — крикнул Стэффорд, уже вернувшись на тротуар.
Он смотрел, как светлая голова Стэффорда мелькает в потоке прохожих, быстро удаляясь к центральной площади — еще секунда, и толпа поглотила светловолосую фигуру.
Дома он открыл коробочку.
— Какая красивая! Откуда она у тебя? — сказала мать.
— Подарок, — сказал он и добавил: — От одного моего друга в школе.
— Но ведь до твоего дня рождения еще далеко, — сказала она.
— Я знаю, — сказал он и мотнул головой.
— Что же у вас там, дарят подарки ни с того ни о сего?
— Да, — сказал он. — Дарят.
— А ты ему что-нибудь купил, раз так?
— Нет, — сказал он. — Куплю, наверное.
— Хорошо, голубчик, — добавила она. — Смотри, не забудь.
На следующий день он Стэффорда в школе не увидел. Он заглянул в его класс сразу после последнего звонка, но все уже ушли. Он побежал на вокзал. На платформе Стэффорда не было.
В понедельник он увидел Стэффорда на другом конце площадки, когда они возвращались с большой перемены, но не стал догонять его и не окликнул. В следующий раз они встретились днем во вторник. Стэффорд выходил из павильона, уже переодевшись. Он помахал ему, что-то крикнул и неторопливо побежал через поле.
Он ни разу не упомянул про булавку. Колин ее почти не носил — только иногда по воскресеньям, когда шел после обеда в воскресную школу. Теперь он был уже «христовым воином». Ходил он туда по-прежнему с Блетчли и реже — с Ригеном, который после своего провала на экзаменах часто болел.
Блетчли по воскресеньям надевал костюм — раньше он ходил в церковь в своей школьной форме, но она выцвела, и теперь он носил темно-синий суконный костюм — длинные брюки и двубортный пиджак. Они с Блетчли и Ригеном по-прежнему были в одной группе — к концу их скамьи было прикреплено знамя с рыбой. С ними занимался сам священник — низенький, дородный, в очках с толстыми стеклами, он закидывал голову и говорил в потолок, дожидаясь после каждого слога, чтобы раздалось эхо, и только тогда произносил следующий:
— Я… я — жду… жду — ти… ти — ши… ши — ны… ны.
Он громко пел у пюпитра, а иногда исчезал позади лакированных скамей и поднимался к органу, откуда следил за учениками при помощи зеркала, повернутого под углом.
Без мистера Моррисона, которого можно было обхаживать, Блетчли часто задремывал. Он клал локоть на барьер прямо под знаменем, упирался щекой в ладонь, заслоняя глаза, и принимал позу завороженного внимания. В полумраке церкви невозможно было разобрать, слушает он или нет. Когда священник задавал вопрос, он поднимал руку — медленно, машинально, в полусне, — и, если священник обращался к нему, его приходилось осторожно будить.
Риген за прошедший год сильно вытянулся. По примеру Блетчли он тоже начал носить брюки, и они делали еще заметнее худобу его костлявого туловища, завершающегося массивной луковицей головы. Иногда он проходил через дворы, сунув руки в карманы, заглядывал в окна и открытые двери, но отшатывался и отворачивался, стоило его окликнуть. Он учился теперь в городе, в частной школе: каждое утро мать провожала его на станцию к поезду, каждый вечер встречала на платформе и шла с ним домой через поселок, держа его за руку.
— Прямо жених и невеста, — говорил отец, когда они проходили мимо их окна. — Ригена она до парня и не допускает.
— Просто он очень впечатлительный, — говорила мать. — Он всегда был такой, даже совсем малышом. Вот у нее и вошло в привычку его оберегать, — добавляла она.
— Дать бы ему хорошего пинка, и всю впечатлительность с него как рукой сняло бы, — говорил отец. — Я бы его за неделю от таких чувствительностей-впечатлительностей отучил, будь моя воля.
— Да ты сам у нас впечатлительный дальше некуда, — говорила она.
— Я-то? Когда надо, так конечно, — говорил отец. — И повпечатлительней буду, чем эта бледная немочь.
— Вот-вот. Мы это знаем, Колин, верно, голубчик? Мы знаем, какой у тебя впечатлительный отец, — говорила она ему.
— У меня хватает впечатлительности, чтобы в шахте работать, — добавлял отец.
— Да неужели?
— И всем вас обеспечивать.
— Так уж и всем?
— А какая еще впечатлительность от человека требуется? — говорил он.
Стивен уже ходил в школу. Теперь он почти не бывал дома и забегал, только чтобы поесть. Если бы они не спали в одной комнате, Колин его совсем не видел бы. Брат вел зыбкое существование, легкое, как пушинка. Он перепархивал от одного интереса к другому, все время менял занятия, менял приятелей, и по дворам часто разносился его возбужденный смех — громкий, резкий, как куриное кудахтанье.
На малыша он не обращал внимания, а тот научился стоять много раньше обычного — он твердо упирался ножонками в пол и посматривал по сторонам голубыми глазами. Его переполняла буйная, почти сумасшедшая энергия, и стоило не уследить за ним, как он выползал во двор и куда-нибудь исчезал — его находили то на улице, то на кухне у Батти, а то даже по ту сторону пустыря.
Мать без конца с ним воевала, ее раздраженный голос разносился по всему дому, и Колин, пытаясь учить уроки у себя в комнате, в конце концов кричал ей:
— Мама, я не могу заниматься в таком шуме.
— А что мне, по-твоему, делать? Знаками с ним объясняться? — кричала она с лестницы.
— Но я не могу заниматься под сплошной крик.
— Ричард! Иди сюда! — громко звала она, снова думая только о малыше.
Утром в воскресенье Колин иногда ходил с ним гулять, и к ним порой присоединялся Блетчли, если у него не было ничего интереснее. Они шли в Парк.
— Только в Парк, и больше никуда! — говорила мать. — Мне надо будет пойти по делу в ту сторону, и я погляжу, как вы там.
— Ну, так и взяла бы его с собой, — говорил он.
— Гарри! — кричала мать. — Ты слышишь, как он со мной разговаривает!
— Не распускай язык, когда говоришь с матерью, — добавлял отец.
— С этой коляской я себя просто дураком чувствую, — говорил он.
— Пришлось бы тебе делать то, что мне приходится, ты бы еще и не таким дураком себя чувствовал, — кричал отец, который во время их перепалок всегда находил себе дело в другой комнате.
— Почему его нельзя просто оставить во дворе? — спрашивал он у матери.
— Потому что он там оставаться не хочет, — говорила мать. — И по-моему, ты гордиться должен, что гуляешь с братом.
— Ничего я не горжусь, — говорил он, но совсем тихо, чтобы не навлечь на себя возмездия.
— Не понимаю, почему ты должен с ним нянчиться, — добавлял Блетчли, на ходу пиная колеса коляски.
И все-таки он с Блетчли и Ричардом, а иногда и со Стивеном продолжал по утрам в воскресенье ходить в Парк. Там гуляло много ребят и девочки из школы Блетчли, с которыми Блетчли обменивался обидными кличками, а иногда — если ему удавалось подойти поближе — и тычками. Надежда увидеть девочек и влекла их туда, а позже помогала выдерживать полтора часа скуки в воскресной школе. После школы они уже без коляски бродили по дорожкам Парка или по полевым тропинкам, следуя за тоненькими фигурками в юбках. Нередко девочки оборачивались на насмешливые выкрики Блетчли и сами начинали его дразнить:
— Жирный, Брюхан, — кричали они. — Кто это с тобой, Брюхан? Где он потерял свою коляску?
Блетчли в самых ярких красках описывал свою школьную жизнь, не скупясь на эпизоды в кустах, окружавших их школу — перестроенный помещичий дом, — и на еще более поразительные происшествия в ее стенах. Эта школа была очень не похожа на школу короля Эдуарда, но, по-видимому, еще больше она была не похожа на то, о чем рассказывал Блетчли, которого там, судя по всему, презирали и терпеть не могли точно так же, как в поселке. Но Колин питал по отношению к своему толстому приятелю какую-то непонятную лояльность и вставал на его защиту, если Блетчли при нем дразнили или грозили избить.
— Брюхан — парень хороший, — говорил он Батти, который, завидев эту глыбу жира, тут же начинал вопить: «Покажи-ка свои коленки, Брюхо» или: «Поделись костюмчиком!»
— Реклама он хорошая для пудингов, — отвечал Батти, а как-то добавил: — Ну чего, драться будем? Что хочу про Брюхо кричать, то и кричу.
Они сцепились и дрались полчаса — сначала на улице, потом в чьем-то дворе, потом на пустыре. Он дрался с Батти так, словно готовился к этому не один год. Он был спокоен, сосредоточен, уверен в себе, бил Батти изо всех сил и увертывался от его длинных цепких рук. Лицо Батти покрылось кровью. Краем глаза он заметил братьев Батти на краю пустыря и другие фигуры во дворах и у заборов. Голос мистера Ригена прокричал:
— Бей его! Крепче бей! — Он стоял у забора весь красный, без воротничка, в одном жилете.
Под конец Батти прижал его к земле и бил по глазам и рту. Он махал кулаками, стараясь дотянуться до красной фигуры, но Батти небрежно прижимал его коленом и был недосягаем.
— Бей, бей его! — кричали братья Батти.
Батти поднялся. Его братья продолжали кричать. Он медленно утер рот тыльной стороной руки.
— Давай! Изукрась его как следует! — кричали его братья.
Батти отошел. Он поглядел через плечо, когда Колин поднялся на ноги, но не остановился.
— Валяй, бей его! — кричали его братья.
— Он молодцом дрался. — Отец вышел из дома и стоял теперь у забора.
Мистер Риген уже поднимался к себе на крыльцо.
— Он молодцом дрался, лучше не скажешь! — крикнул отец.
Батти перелезал через забор у дальнего конца домов.
— Ты же мог его побить! — сказал отец. — Надо было поднырнуть ему под руки, а не держаться на расстоянии. С такими надо входить в ближний бой.
— Ну что, доволен? — сказала мать, стоя в дверях. — Из-за чего это вы?
— Так просто, — сказал он.
— Оно и видно, что так просто. Ты погляди на свои глаза: совсем заплыли.
— Да, синяки будут здоровые, — сказал отец.
— Ты на его рот погляди! — крикнула мать.
— Придется ему и завтра помалкивать. — Отец засмеялся. — Ничего не вижу, ничего не скажу. Вот мы и дождались минутки покоя.
Однако позже, когда отец собирался на работу и нагнулся, натягивая башмаки, он добавил:
— Когда дерешься с тем, кто выше тебя, ныряй ему под руки. Можешь мне поверить. Я знаю, о чем говорю. Бей снизу вверх. Так куда крепче получается.
Он уже надел рабочую одежду и теперь принялся приплясывать прямо в тяжелых башмаках.
— Левой, еще раз левой, а потом правой! Раз-два, и бей изо всей мочи. Если бы ты немножко поупражнялся, так справился бы с ним.
Он продолжал говорить о драке и когда уже медленно ехал на велосипеде через двор.
— Все это чепуха, — сказала мать. — Дерись как умеешь, а отца не слушай.
Он услышал голос отца, потом голос матери и топот Стивена, бегущего по коридору. И тут же, словно рассердившись на эту суматоху, заплакал малыш.
Он пошел в спальню родителей и выглянул на улицу. К штакетнику был прислонен красный велосипед с белыми щитками — динамо, электрические фонарики, резиновые манжеты на круто изогнутом руле.
Снизу из коридора донесся голос отца, непривычный, словно придушенный. Что-то сухим вежливым тоном сказала мать. Затем она неожиданно рассмеялась — по-видимому, в ответ на какие-то слова или жест того, кто с ними говорил.
— Заходи! Заходи, малый! — сказал отец и громко добавил: — Колин! К тебе пришли!
На кухне возле очага стеснительно улыбался отец, мать, стискивая руки, стояла у стола, а Стивен — перед стулом, не решаясь сесть. Малыш, утихомиренный кусочком хлеба, ползал по полу.
Стэффорд как будто не замечал их растерянности. Развалившись на стуле, он стянул с рук перчатки, потом небрежно поднял ногу и снял зажим.
— А до вашего поселка дальше, чем я думал, — сказал он. — На автобус я опоздал, ну, и поехал на велосипеде. Подходящих поездов тоже нет: только пятичасовой, а обратный поздно ночью.
Ни кухня, ни ее хозяева, казалось, не вызывали у него ни малейшего любопытства, словно он уже много лет постоянно бывал здесь. Сняв зажимы, он положил их на стол рядом с перчатками и начал расстегивать куртку.
— Холмы у вас тут жуткие, — добавил он. — Хорошо еще, что велосипед у меня трехскоростной, а то бы полдороги пришлось идти пешком.
— Да, чтобы жить в здешних местах, требуется силенка, — сказал отец. — Тут от трехскоростных игрушек толк невелик.
— Я и сам заметил. Надо будет поднатужиться, — улыбаясь, сказал Стэффорд с йоркширским выговором.
Малыш, вдруг распознав в нем чужого, ухватился за стул, встал на ножки и заплакал.
— Ну, будет, будет! — сказала мать и быстро подхватила его на руки. — К тебе гости пришли, а ты плачешь. Как нехорошо!
— А это Стивен, брат Колина, — сказал отец.
Стэффорд кивнул. Мельком взглянув на Стивена, он расстегнул последнюю пуговицу и пригладил волосы.
— Может, чаю выпьешь? — сказал отец.
— С удовольствием. Или просто воды.
Он в первый раз посмотрел на Колина.
— Привет! — сказал он. — Вот я и приехал.
— Нет уж, чаю! — сказал отец. — Не беспокойся. У нас тебе пустую воду лакать не придется.
— Пить, — сказала мать.
— Пить. Лакать, — сказал отец. — Все это слова. Если у человека в горле пересохло, какая ему разница?
Немного погодя Колин пошел показать Стэффорду поселок.
— Он ещё таких мест не видел, — сказал отец. — То есть где люди работают.
— Я ведь живу почти в таком же месте, — сказал Стэффорд. По настоянию отца он откатил свой велосипед через коридор и кухню во двор.
— Где же это? — спросил отец.
— В Спеннимуре, — сказал Стэффорд.
— А, знаю, знаю! — Отец засмеялся. — Там еще большой завод. Как он называется-то?
— Стаффордский. Он принадлежит нашей семье, — сказал Стэффорд.
Отец побледнел и словно еле устоял на ногах.
— А, так ты из этих Стэффордов, — сказал он и взглянул на мать.
Потом, когда они отошли от дома, Стэффорд захлопал в ладоши.
— Твоего отца прямо ошарашило, — сказал он. — Он и правда не знал или только вид сделал?
— Конечно, не знал, — сказал Колин и помотал головой.
— Люди как-то странно к этому относятся. То есть к деньгам. Словно они имеют хоть малейшее значение.
— Для тех, у кого их нет, — сказал он, — наверное, имеют.
— А что, собственно, изменяют деньги? — сказал Стэффорд, взглянул на него и качнул головой. Они шли через дворы — обычным путем Колина. Он не ответил, и Стэффорд начал с интересом смотреть по сторонам. Через открытые двери он заглядывал в темные кухни, освещенные только огнем в очаге. — Меньше денег — меньше забот, — добавил он, словно повторяя чьи-то слова.
Они вышли на улицу.
— Что ты хочешь посмотреть? — сказал он.
— А что ты делаешь по воскресеньям? — сказал Стэффорд.
— Хожу в воскресную школу. — Он неопределенно махнул рукой в сторону церкви.
— Нет, правда? — сказал Стэффорд и с интересом посмотрел туда. — Только сейчас, наверное, уже поздно, — добавил он.
— Если хочешь, пойдем в Парк.
Стэффорд поглядел на дома вокруг.
— Ты всегда тут жил или вы сюда переехали?
— Всегда, — сказал он.
— По дороге в школу я проезжаю вашу станцию, только поселка оттуда не видно, — сказал он таким тоном, словно, сидя у окна вагона, каждый раз этому удивлялся.
Они миновали перекресток и начали подниматься по холму к Парку.
Навстречу им шли Стрингер и Батти. У Батти в руке была палка, и он бил по кустам у дорожки. Увидев Колина, он что-то сказал Стрингеру, и тот подобрал с земли камень. Ружья у него с собой не было. Он задумчиво перебрасывал камень из руки в руку.
— Кто это, твой дружок, Языкатый? — сказал Батти.
— Он из нашей школы, — сказал он и добавил: — Это Лолли, а это Стрингер.
Стэффорд, держа руки в карманах, кивнул и хотел идти дальше.
— А кудай-то ты прешь без разрешения? — сказал Стрингер.
— Куда я иду? — сказал Стэффорд и мотнул головой.
— Да, кудай-то ты собрался? — сказал Стрингер, уязвленный и сбитый с толку его правильным выговором.
— А у когой-то я должен спрашивать разрешения? — сказал Стэффорд, передразнивая Стрингера.
— А это ты нюхал? — сказал Стрингер, поднося кулак к его лицу.
— И не собираюсь, — сказал Стэффорд с запинкой, глядя на стрингеровский кулак.
— Так понюхаешь. Без разрешения туда никому ходе нет.
— А у нас есть разрешение, Колин? — сказал Стэффорд. Он с некоторой тревогой поглядел на Батти, а потом почти с неохотой оглянулся на Колина.
Стрингер тоже повернулся к Колину и начал размахивать кулаком у него перед глазами.
Решив, что Батти вмешиваться не станет, он изо всех сил ударил Стрингера по носу.
Стрингер попятился и закрыл лицо.
— Поберегись! Поберегись, Языкатый, — сказал Батти.
Он подошел ближе, похлопывая палкой по ладони.
— Поберегись, — сказал он и стал похлопывать реже, переводя взгляд с Колина на Стэффорда и как будто не зная, с кого начать.
— Ну, мы пошли, — сказал Колин.
Секунду все было так, словно ничего не произошло. Колин сделал шаг вперед и краем глаза заметил, что Стрингер замахивается на него. Прежде чем он успел обернуться, Стрингер ударил его ногой, потом кулаком и побежал вниз, что-то крича.
Батти, брошенный в одиночестве, стоял, широко расставив ноги, поглядывал на вершину холма и по-прежнему помахивал палкой.
— Получишь свое, когда пойдешь назад, — сказал он. — Я приведу наших.
Он отступил на несколько шагов, повернулся и пошел вниз, похлопывая палкой по ладони.
— Пойдешь назад, тогда узнаешь!
— Вот узнаешь! — крикнул Стрингер снизу.
— Кто они такие? — сказал Стэффорд.
— Строят из себя главных в поселке, — сказал Колин, но его охватило раздражение, точно Стэффорд вынудил его сделать что-то, чего он не хотел.
— Только грозятся, наверное, — сказал Стэффорд.
— Конечно, — сказал он и свернул ко входу в Парк. Ворота там, как и ограда школьной площадки, были давно сняты.
В Парке по дорожкам прогуливались редкие парочки. У качелей и железной карусели толпились ребята.
День был пасмурный. По небу, поднимаясь из-за шахты, ползли серые тучи. С полей налетал легкий ветер.
— А здорово! — сказал Стэффорд, вдруг опрометью сбежал по склону, окликая его, и взобрался на большую качалку с лошадиной головой.
Колин медленно спустился за ним. Стэффорд стоял на полозе качалки и изо всех сил раскачивал ее.
— Влезай с того конца, — сказал он.
Колин влез.
На спину лошади взобрался еще какой-то мальчик, и Стэффорд засмеялся. Он стремительно раскачивал качалку, нижние перекладины гремели, незнакомый мальчик уцепился за ручку и вопил.
— Давай, Колин, раскачивай! — сказал Стэффорд.
Колин почти машинально встроился в ритм его движений. Возле головы Стэффорда взлетала и опускалась лошадиная морда с выпученными глазами и раздутыми железными ноздрями.
В движениях Стэффорда была непривычная лихость. Куртка билась у него за спиной, лицо раскраснелось, глаза смотрели с непонятной сосредоточенностью.
— Давай, Коль! — сказал он.
Мальчик на качалке привстал.
— Давай! — сказал Стэффорд.
Мальчик соскочил, движение качалки замедлилось.
Она еще не остановилась, а Стэффорд уже спрыгнул и побежал к карусели. Крутившие ее ребята почувствовали его вес и сразу слезли.
— Подтолкни-ка! — крикнул он.
Высокий и широкоплечий мальчик разогнал карусель, вспрыгнул на нее, уселся и заболтал ногами.
Колин стоял и смотрел. Стэффорд взобрался на железную перекладину, ухватился обеими руками за тросы и стоял, широко расставив ноги.
— Разгони ее! Пошибче! — крикнул он мальчику.
Мальчик спрыгнул. В рваной куртке, в тяжелых, подбитых гвоздями башмаках, он бежал по бетонному кругу. Верх карусели гремел, ударяясь о железный столб.
— Ну, держись крепче! — сказал мальчик. — Стэффорд что-то крикнул, распластавшись между тросами. Карусель гремела, раскачивалась, мелькали перекладины и тросы.
— Прыгай, Коль! Прыгай! — кричал Стэффорд. Теперь он смеялся. Волосы у него взъерошились, куртка билась сзади на ветру.
Но несколько секунд спустя он вдруг слез с перекладины, вращение карусели замедлилось, и мальчик снова затопал по бетонному кругу.
Стэффорд соскочил на землю, карусель качнулась.
— Коль, а ты чего не сел? — сказал он и, не дожидаясь ответа, пошел к качелям.
Фигуры на сиденьях между цепями взлетали и опускались.
Колин сел на бетонную скамью у края площадки. Стэффорд взмыл между железными столбами, засмеялся, дернул цепи и крикнул:
— Давай, Коль! Залезай! До чего здорово!
Качели понеслись назад, и волосы Стэффорда встали дыбом.
Он взлетал все выше, пригибался, потом выпрямлялся и на мгновение повисал в воздухе, откинув голову.
— Коль!
Ему показалось, что Стэффорд сорвался: цепи ослабли, доска повернулась почти ребром. Стэффорд потерял равновесие, пригнулся, съежился, потом осторожно, неуверенно сел на доску.
Он перестал раскачивать качели и лениво болтал ногами, взлетая и опускаясь все медленнее и медленнее. Потом соскочил на землю.
— А ты разве не хочешь? — Он сел на бетонную скамью, сгорбился, похлопал себя по груди и, напевая, поглядел по сторонам.
Мимо неторопливо шла компания девочек, которых Колин встречал, когда гулял в Парке с Блетчли.
— А Брюхан где? — крикнула одна из них.
— Кто это? — сказал Стэффорд. Он наклонился и провел ладонью по голове, приглаживая волосы.
— Они учатся в Мелшем-Мэнор, — сказал Колин.
Стэффорд вскочил.
— Пошли! — сказал он. — Поглядим, что в той стороне.
Он шагал по самому краю дорожки, задевая каблуком дерн. Поравнявшись с девочками, он что-то сказал. Колин услышал, как они засмеялись, а одна взвизгнула и вздернула голову.
Стэффорд пожал плечами и тоже засмеялся.
Когда Колин нагнал его, Стэффорд, все еще смеясь, обернулся и пошел спиной вперед.
— А Беренис вы знаете? — добавил он.
— Беренис Хартли?
— По-моему, ее фамилия Хартли, — сказал он.
Девочки снова засмеялись. Выговор Стэффорда заинтересовал их даже больше, чем его вопросы.
— А твоя фамилия не Хендерсон? — спросила одна.
— Джонс, — сказал Стэффорд и захохотал.
— Джонс мясник или Джонс пекарь?
— Джонс влюбленный, — сказал Стэффорд.
— Вы послушайте, что он городит, нет, правда, — сказала другая девочка.
— Нет, правда, ты знаешь Беренис Хартли? — спросила еще одна.
— И очень хорошо, радость моя, — сказал Стэффорд.
— Нет, правда, что он городит!
— По-моему, он по уши влюблен, — сказала четвертая.
— Сейчас я по уши влюблен не то в двоих, не то в троих, — сказал Стэффорд.
— Нет, правда, ну что он городит! — сказала третья.
— По-моему, все девочки из этой школы одна другой лучше, — сказал Стэффорд.
— А ты в какой школе учишься, красавчик? — спросила одна из них.
Они засмеялись и взяли друг друга под руки.
— Я школу бросил. Мы туда больше не ходим, верно, Колин? — сказал Стэффорд.
— Языкатый ходит. Верно, Тарзан? — сказала одна из девочек.
— А почему вы его Тарзаном зовете? — сказал Стэффорд.
— Его так Брюхан прозвал. Верно, Тарзан? — сказала другая.
— Он стра-ашно сильный, так Брюхан говорит, — сказала третья.
Девочки засмеялись.
— Малы вы еще, чтобы школу бросать, — добавили они.
— Ну, бывает, я туда заглядываю, радость моя, — сказал Стэффорд. — Когда есть настроение, как говорится.
— Нет, правда, что он городит! — сказали они.
— А для меня местечка не найдется? — сказал Стэффорд и сделал движение, словно собираясь встать между ними.
— Так мы и позволили! — сказала одна из них.
— А уж тому, кто знает Беренис Хартли, и вовсе! — сказала другая.
Они пошли дальше.
Стэффорд посторонился, давая им пройти, и пригладил волосы.
— Поломойки, — сказал он. — Не люблю таких. — Он начал насвистывать, засунув руки в карманы, постукивая каблуком по дерну и лениво поглядывая по сторонам.
— А у вас лавки сегодня открыты? Есть хочется, просто не могу.
— Так пойдем домой, — сказал Колин. — Выпьем чаю.
— Не хочется затруднять твоих родителей. То есть у них и так, наверное, хлопот хватает.
— Они ведь тебя все равно ждут, — сказал он.
— Ну ладно, пойдем, — сказал Стэффорд и поглядел на холм. От церкви спускались фигуры — группы девочек в ярких пальто и мальчики, которые шли за ними по обочинам.
По середине дороги шел Блетчли с Ригеном. Блетчли, широкий и толстый, с трудом умещался в костюме, а Риген, высокий и худой, словно существовал отдельно от своей одежды, темный костюм с длинными брюками подчеркивал нескладность движений его развинченной фигуры.
— Смотри, чтобы мистер Трабшоу тебя не заметил, — сказал Блетчли, имея в виду священника. — Он сегодня спрашивал, почему тебя нет, и я сказал, что ты болен. — Он с беспокойством посмотрел на Стэффорда.
На Ригене был алый галстук с длинной латунной булавкой, под которой свисала тоненькая латунная цепочка. Глаза у него были большие и навыкате, черты длинного худого лица с тех пор, как он вытянулся, стали резче, тяжелую выпуклость на затылке теперь прятали длинные, достающие до воротника волосы. Он поглядывал на Стэффорда и нервно теребил галстук.
Колин познакомил их. Блетчли кивнул.
— Ты ведь сдавал экзамены на бесплатное обучение? — сказал он.
— Это какие же? — сказал Стэффорд.
— Экзамены, которые дают право на бесплатное обучение, — сказал Блетчли.
— Что-то такое как будто было, — сказал Стэффорд.
— Так в какой же ты школе учишься? — сказал Блетчли.
— А я не так уж часто захожу в школу, — сказал Стэффорд. Он стоял, засунув руки в карманы, и оглядывался по сторонам. Потом посмотрел на Ригена. — А ты в какой школе учишься? — добавил он.
— В школе святого Доминика, — сказал Блетчли. — Там надо платить за обучение. На экзаменах он провалился, — добавил он.
— Но ведь такие школы самые лучшие, — сказал Стэффорд. — Я теперь жалею, что не пошел туда.
У Блетчли побагровела шея.
Мимо прошел мистер Моррисон с красноглазой женщиной, которая играла на рояле. Блетчли приложил руку к школьной фуражке, улыбнулся и ткнул пальцем в Колина.
— Он наверняка скажет Трабшоу, и тебе будет хорошая выволочка, — сказал он и крикнул двум проходившим мимо девочкам: — Где же сегодня ваши дружки?
— А тебе какое дело, Брюхо? — сказали они.
Блетчли засмеялся, дернул фуражку за козырек и поглядел на Стэффорда.
Риген нервно переминался с ноги на ногу.
— Вот опоздаешь на свой скрипичный урок, — сказал Блетчли.
— Теперь у меня по воскресеньям занятий нет, — сказал Риген.
— Майк играет на скрипке. Он виртуоз, — сказал Блетчли и снова засмеялся, не спуская глаз со Стэффорда. — Ты бы послушал, как он играет. Точно кошку пополам перепиливает.
— А у кого ты занимаешься? — спросил Стэффорд.
— Я в город езжу. Ты, наверное, не знаешь, — сказал Риген. Лицо у него потемнело, на висках появились белые пятна, словно мазки краски.
Шея Блетчли начала вздуваться, краснота медленно всползала по его щекам.
— У мистера Прендергаста? — сказал Стэффорд.
— А ты его знаешь? — сказал Риген.
— Я сам там два раза в неделю занимаюсь.
— Правда? На скрипке?
— На рояле, — сказал Стэффорд.
— Правда? — сказал Риген, радостно глядя на Стэффорда.
— Скрипкой я занимался два года назад. Я туда хожу по средам и пятницам после школы.
— А я по вторникам, — сказал Риген.
— Я брал уроки игры и на скрипке, и на рояле, но теперь я занимаюсь постановкой дикции, — сказал Блетчли. — На дворе трава, на траве дрова. Сшит колпак не по-колпаковски. Шел грек через реку.
Он старательно отчеканивал скороговорки, глядя на Стэффорда.
— Мы ведь к тебе шли, — сказал Стэффорд, глядя на Колина, и быстро посмотрел в сторону поселка.
— А мы идем в Парк, — сказал Блетчли, кивнув на Ригена, и снова уставился на Стэффорда. — Пошли с нами. Познакомлю с парой девок из нашей школы.
— Мы там уже были, — сказал Стэффорд и отвернулся. — Так идем? — спросил он Колина.
Блетчли пошел к Парку. Он взял Ригена за локоть, словно испугавшись, что Риген пойдет с ними.
— Пока, Тарзан, — сказал он.
— Прямо два клоуна, — сказал Стэффорд. — Нет, ты посмотри на них, — добавил он, оглянувшись.
Две фигуры, одна раздувшаяся, как воздушный шар, другая высокая и гибкая, точно ободранный прут, медленно двигались по дорожке, ведущей к качелям. Блетчли уже что-то кричал и махал рукой группе девочек. Пройдя мимо, девочки разом обернулись, и их смех рассыпался по склону холма.
— Брюхо! — услышал Колин их крики, и через секунду от деревьев донеслось эхо. А может быть, они крикнули то же во второй раз: хотя Блетчли все еще держал Ригена за локоть, у него был такой вид, словно он готов ринуться на них. Девочки с визгом бросились врассыпную по траве, а потом, смеясь, снова собрались вместе ниже по склону.
— Деревенский Ромео, — сказал Стэффорд и в первый раз за весь день засмеялся весело, не стараясь задеть Колина.
Они спустились с холма. Батти и Стрингера нигде не было видно. У пивной по краям канавы и возле стен расположились шахтеры. Светлые волосы Стэффорда, его непривычная внешность привлекли их внимание, и они принялись отпускать шуточки:
— Фу-ты ну-ты! Джек, да погляди же!
— Откуда ты такой взялся, парень?
— Так это же не парень, а девка!
Хохот сидящих и тех, кто в одиночестве стоял на мостовой, преследовал их почти до самого дома.
— Что с ними? — сказал Стэффорд. — Неужели они никогда не видели прилично одетого человека?
— Они всегда так, — сказал он. — С чужими. Относятся с недоверием ко всему, чего не знают.
— Странно, что сюда вообще хоть кто-то приезжает, — сказал Стэффорд. — То есть тут ведь ничего интересного нет, — добавил он.
— А я не знал, что ты играешь на рояле, — сказал Колин.
— Да я, собственно, и не играю. По правде говоря, я не на все уроки хожу. Прендергаст, у которого я занимаюсь, об этом помалкивает. Если он расшумится, меня вообще возьмут, а так он свою плату все равно получает.
Он шел, сунув руки в карманы, и постукивал каблуком по краю тротуара.
— Вот приезжай ко мне, — сказал он, когда они подходили к дому. — Мы найдем чем заняться. Не то что тут. — Он пожал плечами. — Хотя, конечно, разница невелика, — добавил он.
Они вошли в кухню. Стол там был уже накрыт. Пока они шли через дворы, Стэффорд опять внимательно заглядывал в открытые двери и окна, а теперь он остановился на пороге, словно смутившись при виде накрытого стола, — как будто кухня вдруг изменилась или он ошибся домом. Потом увидел Сэвилла, который сидел в кресле у огня, неловко держа на коленях развернутую газету, вошел внутрь, слегка нагнув голову, и пригладил волосы.
— Значит, всюду побывали, — сказал отец, сложил газету и встал. — Только смотреть у нас тут особенно нечего, — добавил он.
— Мы ходили в Парк, мистер Сэвилл, — сказал Стэффорд и опустился в кресло напротив отца. Он говорил таким тоном, словно Парк был чем-то необыкновенным.
— A-а! Ну что же. Конечно, ничего интересного там нет, — сказал отец и положил газету на буфет. — Никакие достопримечательностей, это так. Хотя прогуляться по окрестностям можно неплохо.
— Только глядите, чтобы он не повел вас в Долинку! — сказала мать. — Последние несколько лет он только туда и ходит.
— А где это? — спросил Стэффорд и повернулся к нему.
— У канализационных отстойников, — сказал отец.
— За газовым заводом, — сказала мать.
— Когда там идешь, прямо хоть нос затыкай, — засмеялся отец.
Малыш, заинтересовавшись Стэффордом, ухватился за стул и встал. Стэффорд протянул к нему руки.
— Он у нас робкий, разве что есть захочет, — сказал отец. — Мы его сейчас как следует накормили, чтобы не буянил.
— Ну, ничего подобного, это ты выдумываешь, — сказала мать.
Она открывала банку консервированных фруктов на доске у мойки. Поглядывая на Стэффорда, она переложила их в вазочку, подошла с ней к столу и остановилась в нерешительности, не зная, подать ли их сейчас или подождать.
— Вы любите фрукты, Невил? — спросила мать, чуть запнувшись на его имени.
— Очень, миссис Сэвилл, — сказал Стэффорд, поворачиваясь в кресле.
— Консервированные, — сказала она, все еще держа вазочку в руке.
— Консервированные еще лучше, — сказал Стэффорд и снова повернулся к малышу.
— Мы, знаешь ли, всегда по воскресеньям едим консервированные фрукты, — сказал отец и добавил: — Ну, когда гости приходят.
Малыш отпустил стул, пополз через кухню к двери, которую Стэффорд не закрыл, встал и заковылял на крыльцо.
— Это куда же ты собрался? — сказал отец неуверенным голосом и неловко поднялся с кресла. Присутствие Стэффорда подействовало на него как-то странно: он, казалось, не знал, куда себя девать — взял малыша на руки, тут же поставил его на пол, закрыл дверь, подошел к столу, передвинул тарелки и ложки, переставил стул.
Чайник на очаге запел.
— Закипает, — сказала мать.
Они сели за стол. Мать разложила компот. Никто не знал, начать ли с него или с хлеба и джема — тоненькие ломтики хлеба, уже намазанные маслом, лежали на тарелке посреди стола, а рядом отдельно в вазочке стоял джем. В конце концов они последовали примеру Стэффорда, который принялся за компот. Мать протянула ему тарелку с хлебом и спросила, не возьмет ли он кусочек.
— Вы очень любезны. Благодарю вас, — сказал Стэффорд. Он явно не привык есть компот с хлебом.
Вошел Стивен. Лицо у него было запачкано машинным маслом, колени исцарапаны.
— Где ты был, Стивен? И в воскресенье! — сказала мать.
Она встала и пошла с ним к раковине. За столом воцарилась некоторая растерянность, потом отец, громко чмокнув, отхлебнул чай.
Струя падала в раковину у самого лица Стивена, Его руки были уже оттерты, колени вымыты. Мать отвела его к столу, вся красная оттого, что ей пришлось нагибаться.
— Ешь компот, — сказала она, когда Стивен потянулся за джемом.
— Почему он в вазочке? — спросил Стивен. — А банка где?
— Мы не всегда подаем его на стол в банке, — сказала мать, тревожно взглянув на Стэффорда.
— Чтой-то раньше ты его в вазочку не клала, — сказал Стивен.
— Не чтой-то, а что-то, — сказала мать.
Стивен уже доел компот и выжидательно оглядывал стол.
— Можно взять вашу тарелочку, Невил? — сказала мать.
Она встала и наклонилась за тарелкой через стол. Ее собственный компот стоял нетронутый.
— Налить вам чаю? — добавила она.
Стэффорд протянул ей свою чашку. Отец озабоченно следил за ними, потом с улыбкой кивнул и начал угощать Стэффорда.
— А джему? — сказал он.
— С большим удовольствием, мистер Сэвилл, — сказал Стэффорд.
Когда компот был доеден и хлеб тоже, мать собрала грязную посуду и поставила на середину стола тарталетки с джемом и рулет.
— Ого-го! И где же мы все это прятали? — сказал отец.
— Ну что ты говоришь, отец? — сказала мать. — Невил подумает, что для нас это какая-то редкость!
— Редкость и есть, — сказал отец, засмеялся, и изо рта у него разлетелись крошки. — Черт подери, — сказал он, нагибаясь к столу, — приезжай-ка к нам почаще, Невил.
Мать раздала им чистые тарелки и, совсем красная, близоруко нагнувшись к блюду, нарезала рулет на ровные куски.
Стэффорд съел кусок рулета, съел тарталетку.
— Скушайте еще одну, — сказала мать, пододвигая к нему блюдо.
На каждого была одна тарталетка и один кусок рулета.
— Не могу, миссис Сэвилл, я домой не доберусь! — сказал Стэффорд. — Я уже давно за чаем так не наедался, да еще такими вкусными вещами. Видите ли, дома у нас чай редко бывает.
— Как же так? — спросила мать, словно удивившись, что Стэффорд испытывает подобные лишения.
— Видите ли, мы обычно обедаем в семь. А если я за чаем поем, то к семи у меня не будет аппетита, — сказал Стэффорд.
— Ах, обед! Да, я понимаю, — сказала мать и отвела глаза. — А вас не будут бранить? Что вы сейчас поели?
— По воскресеньям мы обедаем позже, — сказал Стэффорд. — Вечером к нам обычно приезжают гости, и раньше восьми никому не хочется есть.
— Ну, тогда ничего, — сказала мать отчужденно, словно это снимало с нее всякую ответственность за то, что Стэффорд сыт.
— Ну, коли лишнюю тарталетку никто есть не хочет, возьму-ка ее я, — сказал отец.
— Собственно, это моя тарталетка, — сказала мать.
— Я не сообразил, девочка, — сказал отец.
— Конечно, если бы Невил взял еще, я была бы рада, — сказала мать.
— Нет-нет, бери ее ты, — сказал отец. — Ведь она твоя. — Он свирепо поглядел на Стивена, который явно подбирался к тарталетке.
Мать ела молча. Малыш, привязанный шарфом к стулу, перестал грызть сухарь и тихонько захныкал, прося пить.
Колин перегнулся через стол и поднес к его губам чашку с отбитой ручкой, из которой он всегда пил. Малыш глотал, прикусывая край, болтая руками.
— Вот это был чай, так чай, — сказал отец, глубоко вздохнул и допил свою чашку. — Кто бы и откуда бы ни приехал, а вкуснее все равно не едал.
— Ну, не знаю, — сказала мать. — Все-таки с карточками ничего по-настоящему сделать нельзя.
— Карточки не карточки, а лучше быть не может, вот что! — сказал отец. Он достал сигарету и чиркнул спичкой.
— Ничего, если мистер Сэвилл будет курить? — сказала мать.
— Ну конечно, миссис Сэвилл, пожалуйста, не обращайте на меня внимания, — сказал Стэффорд.
Отец поспешно задул спичку.
— Если хотите, так можете встать из-за стола, — сказала мать.
— Давай-ка, мать, мы поможем тебе с посудой, — сказал отец.
— Нет, я предпочту помыть ее сама, — сказала она и добавила: — Если хочешь, Колин, пойди с Невилом в гостиную.
— Угу. Я там затопил камин, — сказал отец.
Колин посмотрел на Стэффорда: встав из-за стола, Стэффорд, казалось, не знал, что ему делать дальше. Он взялся было за спинку своего стула, словно собирался отодвинуть его, но посмотрел по сторонам и не нашел для него места.
— Мы здесь сами уберем, — сказал отец. — Гостям это не полагается, знаешь ли.
Они прошли в соседнюю комнату. Хотя огонь в камине горел, там было холодно и пахло сыростью. Стэффорд посмотрел в окно на улицу.
— Пожалуй, мне пора, — сказал он. — Я ведь быстрее, чем за час, домой не доберусь.
Он приподнял занавеску и нагнулся к стеклу, потом отпустил ее и быстро оглядел комнату. Оттого, что окно было маленьким и его закрывали занавески, тут было темнее, чем на кухне, куда свет попадал и через открытую заднюю дверь.
— А где это место, про которое говорила твоя мать?
— Недалеко, — сказал Колин. — Там всегда околачиваются эти двое. Ну, те, которые остановили нас на дороге.
— А я бы еще раз с ними встретился. — Стэффорд поднял голову и поглядел на него. Его глаза блестели. — Поедем на велосипеде или пешком пойдем? — добавил он.
— Лучше пешком. Там велосипед оставить негде.
Он крикнул матери, что они пойдут погулять.
— Очень не задерживайтесь, а то Невилу поздно будет возвращаться, — сказала мать и вышла из кухни в коридор, когда он открыл дверь.
Тучи немного поредели, и сквозь разрывы кое-где пробивались солнечные лучи. В Долинке над трубой газового завода курился дым, колокол газгольдера между металлическими опорами опустился почти до земли.
Стэффорд выломал ветку из живой изгороди и бил на ходу по траве и бурьяну. Он посматривал по сторонам с таким видом, точно бывал здесь уже много раз, — казалось, его не интересует, куда они идут.
Тропа вилась между кирпичными отстойниками и терялась в болоте по ту их сторону.
Колин пошел вперед через камыши. Среди деревьев у заброшенной шахты мелькали фигуры и слышался собачий лай, а с шоссе доносился натужный рев автомобиля на крутом подъеме.
Из кустов взлетали птицы. Запах газа сменился запахом гниющего ила. Стэффорд с настороженным любопытством смотрел на заросли камыша, на темную воду между ними. Он задумчиво горбился. Колин останавливался перед каждым трудным местом и ждал его. Наконец впереди открылась полянка с хижиной Батти. Из трубы шел дым.
На пороге стоял Стрингер. Он целился из ружья в сторону тропы.
— Я вас услышал, Языкатый. Ближе не подходите, — сказал он.
— Колин, это один из них? — сказал Стэффорд.
— Тот, которому я дал в нос, — сказал он.
На лице Стрингера виднелась запекшаяся кровь.
— А он выстрелит? — спросил Стэффорд.
В листьях над их головами что-то просвистело.
Стрингер быстро нагнулся, дернул ствол вниз, вложил пульку, защелкнул ствол и снова прицелился в них. Он выстрелил.
— Лучше бы найти укрытие, — сказал Стэффорд.
И поднял руку, заслоняя лицо.
Стрингер, перезаряжая ружье, попятился в хижину. Ставни на окнах задвинулись. Секунду спустя из-за косяка высунулась рука, ухватила конец веревочной петли и захлопнула дверь.
Стэффорд стоял на краю поляны, не зная, идти вперед или нет.
— А Лолли тут? — крикнул Колин.
— Нас тут много, Языкатый, — ответил Стрингер. Закрытая дверь приглушала его голос.
Колин пошел через поляну к хижине. За ставнем раздался хлопок выстрела.
Он встал вплотную к двери и подождал. Стэффорд по ту сторону поляны махал рукой.
— Ты тут, Лолли? — сказал Колин.
— Мы все тут, Языкатый, — сказал Стрингер.
Он услышал скрип придвигаемого к двери стола, лязгнула цепь. Колин нажал на дверь, и она подалась.
— Если попробуешь войти, Языкатый, — сказал Стрингер, — я выстрелю.
— Мы только посмотрим, — сказал он.
— Сделай еще шаг, и я стреляю, — сказал Стрингер.
Колин открыл дверь и заглянул внутрь. Печурка топилась. У стены горела свеча.
Стрингер прижался щекой к прикладу.
— Я тебя предупреждал, Язык, — сказал он.
— Мы только посмотрим, — повторил Колин и добавил: — А я думал, что Лолли тут.
— Он придет. Он сейчас придет. И приведет своих, — сказал Стрингер.
— Убрал бы ты ружье, — сказал Колин и вошел.
Он повернулся спиной к Стрингеру и потрогал печурку.
— Если Лолли скоро придет, — сказал он, — так я его подожду.
Он подошел к двери и махнул Стэффорду.
— Иди сюда, — сказал он. — Тут только Стрингер.
Стэффорд медленно прошел через поляну и заглянул внутрь.
— Просто блеск! — Он покосился на Стрингера, потом быстро оглядел хижину. — Вы тут и готовите? — Он наклонился над печуркой.
— Лолли вам даст, — сказал Стрингер. — Уходите, пока время есть.
Стэффорд отвел глаза от печурки и с беспокойством поглядел на придвинутый к двери стол, на стулья и шкафчик, а потом на Стрингера.
— Останемся? — сказал Колин.
— Ничего против не имею, — сказал Стэффорд и снова оглядел хижину.
— Лолли за своими пошел, — сказал Стрингер и шагнул к двери.
— Дай-ка попробовать ружье, — сказал Стэффорд.
— Вот ты его сейчас у меня попробуешь, — сказал Стрингер и медленно навел дуло на голову Стэффорда.
Стэффорд нагнулся к печурке и потрогал ее ладонью.
— Надо дров подложить, — сказал Колин.
— Только попробуй тронь дрова, — сказал Стрингер.
Стэффорд взял чурбачок, приоткрыл заслонку и бросил его на угли.
— Не трогай, кому говорят, — сказал Стрингер.
Стэффорд подошел к шкафчику. Его дверца была прихвачена железной скобой с висячим замком. Стэффорд отодвинул ставень и посмотрел наружу.
— Я тоже могу привезти ружье, — сказал он и поглядел на Стрингера. — Поновее этого.
— Только попробуй еще раз сюда прийти, — сказал Стрингер и быстро обернулся.
В дверях стоял Батти. В руке у него была все та же палка.
— Лолли, живей зови своих, — сказал Стрингер. — Языкатый пришел со своим дружком.
Батти еще постоял, потом шагнул внутрь.
— Вам кто позволил сюда прийти? — Он посмотрел на Колина, потом, не так уверенно, на Стэффорда.
— Он сюда силой вломился, Лол! — сказал Стрингер.
Колин сел на стул.
— Мы просто пришли посмотреть, — сказал он.
— Посмотрели, ну и катитесь отсюда, — сказал Батти.
Он стоял у печурки и смотрел вокруг.
— Катитесь, кому говорю. Не то по шее дам.
Стэффорд пошел к двери. Он прошел мимо Стрингера, чуть пригнул голову в дверях и вышел наружу.
— И ты тоже катись, — сказал Батти.
Колин встал со стула.
— И больше не приходи. Слышишь?
Стрингер засмеялся. Он снова поднял ружье и прицелился Колину в голову.
Он вышел. Стэффорд стегал прутом по грязи у стены хижины. Он посмотрел на крышу, на железную трубу и крикнул Батти:
— А местечко у вас отличное!
— Вот мы и хотим, чтоб оно таким и осталось, — сказал Батти. Он стоял на пороге хижины, а из-за его спины торчал ствол духового ружья.
— Так себе дыра, — сказал Стэффорд, когда они шли через болото. — А вонь — задохнуться можно. — Он бросил прут и раскинул руки, чтобы легче было удерживать равновесие на зыбкой тропе. — Не понимаю, как они терпят. Ну и дыра!
В листьях над головой Колина что-то свистнуло.
— Наверно, запах скоро перестаешь замечать, — сказал он. — Наверно, к нему привыкаешь. — Он шел впереди, раздвигая кусты, и останавливался, поджидая Стэффорда.
Они вышли на шоссе.
Стэффорд поглядел на поселок.
— Ну, мне пора, — сказал он и соскреб грязь с подметок о бордюрный камень. — Нет, правда, задохнуться можно.
— Ну, для тайного убежища место все-таки хорошее, — сказал Колин.
Стэффорд пожал плечами.
— Когда ты приедешь к нам, я покажу тебе мою хижину. И тонуть в грязи тебе не надо будет.
Они поднимались по шоссе к поселку. Голубизна в разрывах туч начинала темнеть. Далеко, у самого горизонта, шел дождь — смутные серые полосы косо протянулись от неба к земле.
— А в котором часу ты должен возвращаться домой? — спросил Колин.
— По-разному. Обычно, если я и задерживаюсь, никто ничего не говорит.
Он шел, шаркая подошвами по асфальту, а иногда подходил к обочине и вытирал ботинки о траву.
— До чего же липучая. Не ототрешь, — добавил он.
Начал накрапывать дождь. Они побежали. На крыльце у Ригена стоял Блетчли.
— Эй, где вы были? Лучше бы с нами пошли, — крикнул он. В дверях стоял Риген без куртки. — Мы попозже опять пойдем.
— Куда? — сказал Стэффорд и поглядел на него.
Блетчли дернул головой, словно не желая произносить этого слова. Он заглянул через плечо Ригена в коридор и дальше, в кухню.
— В Парк. Хочешь? — добавил он громче. — Мы могли бы в церковь зайти.
Колин стоял у своей двери и ждал. Стэффорд нерешительно остановился, потом медленно подошел к нему.
— Нет, мне пора ехать, — сказал он.
В кухне было прибрано. Там сидел отец и слушал радио. Велосипед Стэффорда был прислонен к отцовскому велосипеду у буфета. На полу перед очагом играл Стивен.
— Мы вкатили твой велосипед в дом. Вроде бы дождь собирался, — сказал отец.
— Ну, зачем вы затруднялись, мистер Сэвилл, — сказал Стэффорд. — Он ведь привык мокнуть.
Он взял зажимы, нагнулся и прихватил брюки.
— Значит, уезжаешь, Невил? — сказал отец.
— Мне пора, мистер Сэвилл, — сказал Стэффорд.
Он поглядел вокруг, ища свои перчатки.
— Перчатки, перчатки, — сказал отец, открыл ящик и вынул их. — Я их, понимаешь, убрал, чтобы мелюзга к ним не подобралась. Все хватают, только отвернись.
Он подошел к лестнице.
— Элин! Элин! Невил уезжает.
— Я сейчас, — откликнулась мать сверху почти шепотом.
— Малыша укладывает, — сказал отец. Стэффорд повернул велосипед к черному ходу. Отец забрал у него велосипед и добавил:
— Нет, сегодня через парадный ход.
Он прокатил велосипед по коридору, открыл дверь, нагнулся, подхватил его и вынес на улицу.
Стэффорд застегнул куртку, поднял воротник, надел одну перчатку и с другой в руке пошел за ним по коридору. Потом остановился, повернулся и протянул руку матери, которая спустилась с лестницы.
— До свидания, миссис Сэвилл, и большое спасибо за чай, — сказал он.
— Было очень приятно познакомиться с вами. Надеюсь, вы еще приедете, — сказала мать.
— В следующий раз я, пожалуй, приеду на поезде, — сказал Стэффорд.
— И лучше бы в субботу, — сказала мать.
Стивен вышел за ними на улицу. Стэффорд вскочил на велосипед. Дождь уже шел по-настоящему.
— Эдак скоро придется фонарики включить, — сказал отец.
Блетчли все еще стоял на крыльце у Ригена. Он помахал рукой. Через секунду к нему присоединился Риген. Их нелепо контрастирующие фигуры тесно прижались друг к другу.
— Ну, до завтра, — сказал Стэффорд и, пригнувшись к рулю, оттолкнулся от края тротуара.
Стивен бежал за ним и махал, потом остановился и не спускал глаз со Стэффорда, пока тот не скрылся из вида.
Мать вошла в дом. Отец стоял, поджидая Стивена.
— Ну как он, хорошо провел время?
— Наверное, — сказал Колин. — А что для него такое особенное нужно?
— Может, ему непривычно бывать у таких, как мы.
— Да почему? — сказал он и мотнул головой.
— Я ведь не знал, что он из тех Стэффордов.
— А они что, такие важные? — сказал он.
— Ну, в здешних краях важней их, пожалуй что, никого не найдется. Ты у матери спроси: ее отец работал у них. Давным-давно. Еще когда мы не поженились.
— Конечно, это семья с положением, — сказала мать. — Ну, да он вряд ли захочет еще раз сюда приехать.
— А почему, собственно? — сказал он.
— Ты, малый, еще много чего не понимаешь, — сказал отец. — Хотя мне он так даже понравился.
Он взял учебники и поднялся наверх.
Он делал уроки и слышал, как они разговаривают внизу, слышал голос отца, переодевающегося на работу, усталый, медлительный, и голос матери, раздраженный, ворчливый. Он спустился вниз, только когда Стивен пришел ложиться спать.
Мисс Вудсон неторопливо точила карандаш. Корзина для бумаг, в которую падали стружки, стояла прямо перед камином, где дымилась груда спекшихся углей. В классе все замерли, следя, как острое узкое лезвие перочинного ножичка, который она несколько секунд назад достала из своей большой черной сумки, скоблит заостренный конец и как последняя тоненькая стружка планирует в соломенную пасть корзины.
— Две трети, выраженные в десятичных дробях, равны — чему?
Стивенс, мальчик с горбатой спиной, поднял руку. Это было оборонительное движение: мисс Вудсон обязательно спросит кого-нибудь из тех, кто не поднимет руку.
— Две трети, выраженные в десятичных дробях.
Большие черные глаза устремились на них, черные густые брови медленно поднялись. Очки были медленно сдвинуты вверх по широкой платформе носа мисс Вудсон.
Поднялась рука Уокера, и руки почти всех остальных тоже — в едином дружном движении.
— Я рада видеть столько поднятых рук.
Маленькое серебристое лезвие защелкнулось, перочинный ножик с ручкой из слоновой кости вернулся в большую черную сумку.
— Две трети.
Сумка, стоявшая до сих пор на столе, была спущена на пол рядом с его ножкой. Маленькая плотная фигура мисс Вудсон, увенчанная пышным гребнем иссиня-черных волос, опустилась на стул с круглой спинкой позади стола.
— Две трети.
— Мисс! Мисс! — сказали два-три мальчика.
— Две трети.
Ее большие глаза скользнули неторопливым взглядом по одному ряду, потом — в обратном направлении — по другому и остановились на Стивенсе.
Его прикованные к ней глаза, расширенные, испуганные, вдруг опустились.
— Стивенс!
— Ноль… — сказал Стивенс. Его рука все еще была поднята, словно ее пришпилили к стене.
— Ноль целых, Стивенс… — сказала мисс Вудсон и выжидательно умолкла.
— Ноль целых, — сказал Стивенс, потом добавил: — Шесть.
— Шесть. — Она быстро оглядела класс, и ее глаза снова остановились на Стивенсе. — Что-нибудь еще, кроме шести?
— Мисс! Мисс!! — повторяли несколько мальчиков.
— Две трети, выраженные в десятичных дробях, составляют?..
Она подождала.
— Уокер?
Уокер благоразумно убрал руку на более безопасное место почти у самой парты, но тем не менее что-то — возможно, его красный носик — привлекло внимание мисс Вудсон.
— Не знаю, мисс, — сказал он и мотнул головой.
— Уокер не знает. Интересно, — добавила она, — относится ли это… — она помолчала, — и ко всем остальным?
— Мисс, мисс! — повторяли чуть ли не все мальчики.
— Сэвилл!
— Ноль целых, шесть, шесть, — сказал он, — в периоде.
— Ну что же, — сказала она. — Надеюсь, вы все это слышали. — Очки в толстой оправе были медленно сдвинуты вниз. — Уокер!
— Ноль целых, шесть, шесть в периоде, — сказал Уокер.
Поднятые руки опустились.
— А чему равна одна треть, выраженная в десятичных дробях, Уокер?
— Ноль целых, три, три в периоде, — сказал Уокер.
— А если бы я попросила вас дать мне две трети фунта, Уокер, сколько вы мне дали бы?
— Две трети, мисс? — сказал он. Его глаза расширились, нос стал еще краснее. Ноги под партой переминались.
— Две трети, Уокер, — сказала мисс Вудсон.
— Две трети фунта — это будет… — сказал Уокер, лихорадочно шевеля сплетенными пальцами. — Две трети…
— Стивенс!
— Да, мисс?
— Что это за «да, мисс»? Две трети фунта, Стивенс, в шиллингах и пенсах.
Голова Стивенса задергалась, его лицо просветлело от ужаса, даже волосы затрепетали, и он сгорбился еще больше обычного, словно стараясь соскользнуть под нарту.
— Мисс, мисс! — повторяли двое-трое мальчиков.
И вновь дружным защитным жестом почти все подняли руки.
— Две трети фунта, Стивенс.
Взгляд Стивенса оторвался от глаз мисс Вудсон, медленно перешел на дверь позади нее, потом безнадежно скользнул по стене и примерно на полпути задержался на низком прямоугольном окне, которое выходило на подпорную стенку подъездной дороги. Сквозь частую проволочную сетку не было видно ничего, кроме изъеденных временем камней.
— Двенадцать шиллингов, мисс. Примерно, — сказал он.
— Двенадцать шиллингов, Стивенс. Примерно, — сказала мисс Вудсон. Ее губы растянулись, внезапно стали видны два ряда крупных неровных зубов. — Если двенадцать шиллингов равны двум третям фунта, чему равен остаток? — сказала она.
— Мисс, мисс! — повторяли несколько мальчиков.
— Восемь шиллингов, мисс Вудсон, — сказал Стивенс.
У него дрожали уже и губы. В глазах стояли слезы.
— Равен, Стивенс, равен. Если двенадцать шиллингов соответствуют двум третям, чему соответствует остаток?
— Одной трети, мисс.
— А одна треть, по вашему расчету, Стивенс, равна восьми шиллингам. В таком случае чему равны три трети?
— Мисс! — сказали несколько мальчиков.
— Двадцати четырем шиллингам, — сказал Стивенс.
— А сколько шиллингов в фунте, Стивенс?
— Двадцать шиллингов, мисс, — сказал он.
— Так сколько же шиллингов и пенсов составляют две трети фунта, Уокер?
— Вы мне, мисс? — сказал Уокер.
— Что это за «вы мне, мисс?», Уокер? Или я стенку спрашиваю? — сказала она. — Отвечайте, не то я вас выдеру.
Она медленно поднялась из-за стола и пошла по проходу между партами, глядя в окно в глубине класса. За ним виднелась площадка для игр: между кирпичными бомбоубежищами трусила черная собачонка.
— Не знаю, мисс, — сказал Уокер.
— Идите к столу, Уокер, — сказала мисс Вудсон.
Уокер встал. Чуть наклонив голову набок, он осторожно проскользнул между своей партой и мисс Вудсон.
— Станьте лицом к доске, Уокер, — сказала мисс Вудсон.
Он повернулся к доске, заложив руки за спину, расставив ноги.
— Возьмите лежащий перед вами кусок мела.
Уокер взял мел из деревянного желобка под доской.
— Напишите на доске «один фунт», Уокер.
Уокер, вытянув руку вверх, написал: «один фунт».
— Теперь, Уокер, разделите один фунт, — сказала мисс Вудсон, — на три. Четко и подробно. Мы все хотим убедиться в вашем невежестве, — добавила она.
— Единица на три не делится, мисс, — сказал Уокер. Он стоял, крепко сжимая белую палочку в поднятой руке.
— О господи! А что мы делаем в подобных случаях, Уокер? — сказала мисс Вудсон.
Она осталась у задней стены и смотрела на Уокера и доску через весь класс.
— Превращаем фунт в шиллинги, мисс Вудсон, — сказал Уокер.
— Так покажите нам, как действует ваша блистательная логика, Уокер, — сказала она. — Двадцать шиллингов, разделенные на три.
— Двадцать, деленное на три, дает шесть, — сказал Уокер. — И два в остатке.
— Два чего, Уокер? Два уха, два глаза, два локтя?
— Два шиллинга, мисс.
— А как мы делим их, Уокер?
— Превращаем их в пенсы и делим на три, мисс, — сказал Уокер.
— И каков же ответ, математический гений?
— Восемь пенсов, мисс.
— Так чему же равна одна треть фунта, Уокер?
— Шести шиллингам восьми пенсам, мисс Вудсон, — сказал Уокер.
— Идите на место, гений, — сказала мисс Вудсон.
Она медленно пошла по проходу.
— Когда я задам вам следующий вопрос, чтоб я не видела опущенных рук. Чему равны две трети фунта?
Все, кроме Стивенса, мгновенно подняли руки.
— Так чему же равны две трети фунта, Стивенс?
Он что-то быстро писал пальцем на крышке парты.
— Вы моете парту, Стивенс? — сказала мисс Вудсон. — Или стараетесь ее отполировать?
— Нет, мисс, — сказал Стивенс и мотнул головой.
Несколько мальчиков засмеялись.
— Я не дам вам больше ни секунды, Стивенс. Две трети фунта — отвечайте сразу же!
— Шестнадцать шиллингов восемь пенсов, мисс.
Мисс Вудсон сняла очки и с неожиданным, не свойственным ей раздражением ударила ладонью по парте.
— Что это за ответ, Стивенс? — сказала она, глядя ему прямо в глаза.
Темноволосый мальчик помотал головой. Казалось, эти двое заняты каким-то своим разговором: Стивенс еще больше сгорбился, мисс Вудсон наклонялась к нему, их разделяли какие-то дюймы.
— Так чему же равны две трети фунта, Стивенс?
— Я не знаю, мисс, — сказал Стивенс и снова мотнул головой. Он всхлипнул, сжал голову обеими руками и стукнулся лбом о парту.
Секунду мисс Вудсон смотрела на его волосы, потом с чем-то похожим на стон, на самозабвенный, придушенный вопль, она медленно выпрямилась.
— Кто в этом классе не знает, чему равны две трети фунта? — сказала она.
Все руки были подняты.
— Две трети фунта, — повторила она почти нараспев.
— Мисс! Мисс! — выкрикивали почти все.
— Ну, Уокер?
— Тринадцать шиллингов четыре пенса, мисс, — сказал он.
— Тринадцать шиллингов четыре пенса, — сказала мисс Вудсон. — А чему это равно в десятичных дробях?
— Ноль целых, шесть, шесть в периоде, мисс, — сказал он.
— А чему равны в десятичных дробях шесть шиллингов восемь пенсов?
— Ноль целых, три, три в периоде, — сказал Уокер.
— А теперь весь класс — чему это равно?
— Ноль целых, три, три в периоде, — сказал весь класс.
— А какую часть фунта составляет ноль целых, три, три в периоде?
— Одну треть фунта, мисс Вудсон, — сказал класс.
Она опустилась на стул. Стивенс упирался в парту лбом и тихо всхлипывал, сжимая голову руками. Его горб торчал, точно упрекая класс.
— Никто не знает, где-нибудь требуется судомойка? — сказала мисс Вудсон.
— Левой, левой. Левой, — говорил Картер. — Левой, мальчик. Левой. Левой. Правую поднять к щеке, мальчик. Нельзя открываться.
Он ткнул правой перчаткой в лицо Колина.
— Выше, выше! К подбородку, мальчик, — говорил Картер.
Он поднял перчатку к подбородку и получил более сильный удар по ребрам. Хотя Картер был почти одного с ним роста, его руки вдруг стали словно вдвое длиннее. Левая ткнула его в лицо, правая под ребра, и секунду спустя он ударился о канат, и зал — то есть та его часть, которую он мог видеть, лежа на спине, — медленно закружился у него над головой.
— Вставайте, Сэвилл, — сказал Картер. — Это еще не нокаут.
Холодная вода пролилась на его макушку, сбоку приплясывали фигуры в белых майках и с большими пухлыми перчатками коричневого цвета на руках. Преподаватель физкультуры протащил его под канатом, вызвал другого мальчика и вернулся на ринг.
Он сидел на скамье возле ринга и ждал, когда опять придет его очередь.
Картер был в красных тренировочных брюках и в майке. Маленький рост, лицо с почти точеными чертами — кукольные глаза, крохотный носик. Длинные волосы он аккуратно зачесывал поперек головы, и при каждом ударе концы прядей подпрыгивали.
Он боксировал с мальчиком из старшего класса и держал левую руку вытянутой.
— Нанеся удар, не ждите, Томпсон, — говорил он. — Прощупайте левой и, если ничего больше делать не собираетесь, отступите. Не болтайтесь без толку на средней дистанции.
Он еще раз продемонстрировал, в чем заключалась ошибка Томпсона.
— Ну-ка, пригласим опять малыша Сэвилла, — сказал Картер. — Он хотя бы может показать вам, как избегать этого.
Колин поднырнул под канат.
Он обмял одну перчатку о ладонь, потом другую. Учитель подозвал старшеклассников, вытер полотенцем шею и руки, потом лицо и грудь. Полотенце он повесил на канат, протянутый между верхушками столбиков в мягких чехлах.
— Остерегайтесь встречного удара, Сэвилл. Я могу нанести его в голову или в корпус, а то и левой. Не делайте того, что делает Томпсон, — нанеся удар, не топчитесь на месте.
Колин стал в стойку. Картер пригнулся. Перед тем как продемонстрировать удар, он всегда поднимал голову, но теперь, сдвинув брови, он глядел на него между перчатками, точеное лицо угрожающе наклонилось — Колин словно вел бой с большой обезьяной, со свирепым шимпанзе.
Он ударил левой и отступил, потом снова ударил левой, но, как и в первый раз, даже не коснулся подпрыгивающей головы Картера. Едва он выбрасывал руку, как маленькая голова ускользала. Он ударил правой, промахнулся, ударил левой, примериваясь к дистанции. По лицу Картера словно бы скользнула улыбка.
Колин шагнул вперед. Ему казалось, что надо все время идти на сближение: самый стремительный встречный удар он успеет принять на перчатки. Он оттеснил Картера из одного угла ринга в другой, потом в третий. Теперь он непрерывно наносил удары левой и один раз с удовольствием почувствовал, как дернулась голова учителя, мельком заметил растерянность на его лице, а затем тоже пригнул голову, поднял правую руку к щеке и, входя в ближний бой, выбросил ее вперед. Левой он ударил Картера в голову, отступил, измеряя расстояние до подбородка учителя, отвел правую руку назад и тут же ощутил в груди острую жалящую боль. В глазах у него вспыхнули цветные искры, на секунду все утонуло в красноватой мгле, в синем тумане, и мгновение спустя он увидел над собой железные балки потолка, усеянные круглыми шляпками болтов.
— Первое правило в боксе, — сказал Картер, — никогда не терять головы.
Гимнастический зал был полон голосов, слышался привычный дробный стук тренировочной груши о металлическую стойку. Возле ринга подпрыгивали две фигуры. Может быть, они все-таки подумали, что он поскользнулся.
Он медленно поднялся с пола, почувствовал, что ему в руки сунули полотенце, вдохнул его запах, запах пота и пыли, и когда наконец поднял голову, то увидел Картера на ринге с одним из старшеклассников. Он парировал удары, давал указания, снова парировал.
— Можете идти переодеваться, Сэвилл, — сказал учитель через плечо и продолжал давать наставления своему противнику.
Он повесил полотенце на канат и прошел через зал в раздевалку. Лампочка в проволочной сетке тускло освещала пыльный пол.
Когда он кончил переодеваться, вошел Картер. На шее у него висело полотенце, только что приглаженные иссиня-черные волосы лежали поперек головы, точно ровный тонкий слой черного лака.
— Стараться меня уложить нет никакого смысла, — сказал он. — Моя обязанность — учить. Мне платят не за то, чтобы я изображал тренировочную грушу, и я не собираюсь ее изображать. Вы поняли?
— Да, — сказал он и добавил: — Сэр.
— Машите кулаками, сколько хотите, на площадке для игр или, например, у себя дома. А здесь вы выходите на ринг для того, чтобы кое-что узнать о боксе — не так уж много, но все-таки. Вы поняли?
— Да, — сказал он.
— Если вам захочется прийти еще раз, я буду рад. Если нет, расстанемся по-хорошему. — Картер протянул руку.
После некоторого колебания Колин пожал ее.
Уходя, он поглядел за раздвижные двери в зал. На полу лежала широкая полоса солнечного света, пригашенного матовым стеклом. Фигуры старшеклассников в белых майках, пританцовывая, то появлялись на свету, то ускользали в тень — они выпрямлялись, резко ныряли вниз, и, закрывая за собой дверь, он еще слышал их неровное, прерывистое дыхание.
Вечерело. Из контор начинали выходить служащие, и узкие улочки, ведущие к центральной площади, мало-помалу заполнялись людьми. Стайками шли девочки в зимней форме — синие юбки, белые блузки и синие пальто, достающие почти до щиколоток. Вместо соломенных шляпок на них теперь были береты. К ним присоединялись компании мальчиков из старших классов, они толпились на тротуарах вокруг площади, собирались перед большими окнами отеля, стояли, прислонясь к стене, уткнув носок ботинка в асфальт или расставив ноги, небрежно сунув руки в карманы, сдвинув фуражку на затылок.
Автобус был полон. Он сел наверху. Закрытые окна запотевали. Мимо проносились поля. Пассажиры вставали, снизу по узкой лестнице возле него поднимались другие. Когда он сошел в поселке, у него подгибались колени.
Задувал холодный ветер. Солнце зашло. Он шел по узким улочкам, испытывая странное ощущение, словно его подвесили в воздухе.
— Война кончится, еще и года не пройдет, это уж точно, — сказал отец.
Он сидел на крыльце с мистером Ригеном спиной к кухне. Тени на земле перед ними протянулись уже далеко.
Они сидели так почти час, и до Колина у кухонного стола время от времени доносился голос мистера Ригена, а иногда, прежде чем сказать что-нибудь, мистер Риген оглядывался, посмеивался и кивал:
— Вот наглядный урок нам всем — мальчик, который долго лямку тянуть не будет. Ему все дороги открыты, Гарри.
Отец смеялся, потом озабоченно оглядывался, проверяя, как он занимается.
— Шел бы ты в комнату, чтобы не отвлекаться, — посоветовал он.
Колин поглядел на него и помотал головой: матери не было дома, она поехала к своим родителям, и ему не хотелось сидеть взаперти.
— Стоит ей кончиться, все пойдет по-другому, — сказал мистер Риген. — Хватит жить нищими, точно тебя камнем придавило, выскребывать пропитание, как крысы.
— Навряд ли так уж все переменится, — сказал отец и снова оглянулся через плечо на истертые половички, на обветшалую мебель. — До войны жилось туго, так не думаю, чтобы после стало намного легче.
За последний год отец попритих; он уже не хватался за газету с прежней жадностью, не кричал, чтобы они замолчало, едва по радио начинали передавать последние сводки. Словно какой-то жизненно важный вопрос, которому он отдавал всю свою страсть, вдруг разрешился, и ему приходилось искать, чему теперь посвятить себя; словно чувства, которые прежде обуревали его, когда он читал в газете или слушал по радио сообщения о боях, о наступлениях, об оружии, захваченном у противника, искали теперь другого выхода, другого кипения событий, чтобы сосредоточиться на них. Теперь он был ответственным за противовоздушную оборону по их улице, и в чулане под лестницей хранился латунного цвета насос с деревянной ручкой и пожарный шланг. В большом заброшенном доме возле шахты был устроен пост противовоздушной обороны: две комнаты привели в жилой вид, и там сменные дежурные кипятили себе чай и спали, а когда начинали выть сирены, прислонялись к стене снаружи, курили и рассеянно поглядывали на двор шахты. Налеты теперь бывали редко. Как-то ночью два самолета бомбили город, и на следующее утро Колин по дороге в школу увидел из окна автобуса торчащий среди груды развалин дом со срезанным фасадом.
— Больше не будет безработицы, — говорил мистер Риген. — Не то что в прошлый раз: офицеры продают шнурки для ботинок, ни работы, ни крова над головой для тех, кто вернулся.
Каждый раз, когда он наклонялся вперед, открывались его подтяжки. Он пришел без пиджака, но поверх жилета надел джемпер. Подтяжки кончались петельками, и под ними виднелся верх подштанников.
— Да откуда же быть разнице, — сказал отец. — Те, у кого были деньги, так при них и остались, а у кого их не было, так и сейчас нет.
— А, дайте только ей кончиться, и будет большая перетряска, — сказал мистер Риген. Он курил трубку — недавнее приобретение, и запах ее чувствовался в самой глубине кухни. Дым голубоватым маревом повисал в воздухе над крыльцом. — Слишком много народу перебито, слишком много стран пострадало, чтобы все осталось, как прежде.
— Ну, может быть, кое-что и станет получше, — сказал отец со вздохом и без всякой убежденности в голосе.
Во дворе раздались шаги.
В прямоугольнике двери появилась миссис Шоу.
— И какие же великие проблемы вы решаете? — сказала она. — Привели мир в порядок или еще нет?
— Немножко его закруглили, миссис Шоу, — сказал мистер Риген. — Убрали острые углы.
— Вот те на! А я про них ничего не знала, — сказала миссис Шоу.
— Да уж не сомневайтесь, поглаже стал, — сказал отец. — Риген только рот раскроет, и все в ажуре.
— Ну, я себя таким уж замечательным философом не считаю, Гарри, — сказал мистер Риген. Он поднялся и поклонился миссис Шоу. Вновь мелькнули петли подтяжек и белые тесемочки. — Просто у меня есть общий взгляд на положение вещей, а именно что оно улучшается.
— Да, уж ухудшаться ему некуда, — сказала миссис Шоу.
— Что-то нынче вечером у нас во дворе грустно! — сказал мистер Риген. Он предложил свое место на крыльце миссис Шоу, но она, поблагодарив, отказалась, и, поддернув у колен брюки в узкую полоску, он снова сел. — Если не ошибаюсь, близко время весны, когда мысли молодых людей обращаются к любви. И мысли молодых женщин, если не ошибаюсь.
— Что-то я тут молодых людей не замечаю, да и молодых женщин тоже, если уж на то пошло, — сказала миссис Шоу, слегка взвизгнула и рассмеялась. — А вы как считаете, миссис Блетчли?
Сбоку донесся голос миссис Блетчли:
— Я стараюсь держаться подальше от этих двух кавалеров, миссис Шоу. Особенно когда они друг другу подыгрывают.
— Ах, дамы, дамы, да разве мы будем друг другу подыгрывать? — сказал мистер Риген. Он снова встал, на этот раз, по-видимому, для того, чтобы поклониться миссис Блетчли, которую заслонял косяк. — Неужто, видя двух столь очаровательных представительниц прекрасного пола, человек вроде меня или вроде мистера Сэвилла будет способен кому-то подыгрывать, даже если мы совсем голову потеряем? Каждый сам за себя в нашем мире, миссис Блетчли.
— Нет, вы только его послушайте! — сказала миссис Блетчли, взвизгнула, как миссис Шоу, а потом засмеялась, только не так громко. — У него не язык, а просто ложка с сахаром. Что угодно подсластит — проглотишь и не заметишь. Хорошо еще, что он живет через две двери, а не рядом, — добавила она. — А то не обобраться бы нам хлопот.
— Неужто я позволил бы кирпичным стенам, не говоря уж об окнах и дверях, разлучить меня с теми, кем я восхищаюсь, миссис Блетчли? — сказал мистер Риген.
Они обе снова засмеялись — слева и справа от открытой двери раздалось визгливое хихиканье.
— Нет, вы только его послушайте! — сказала миссис Шоу.
— Ах, красоте можно много лет поклоняться с почтительного расстояния, миссис Блетчли, — сказал мистер Риген. — Самые беззаботные из нас могут таить в груди страсть, на удивление ближайшим своим друзьям. Верно, Гарри? — добавил Риген.
— Он, конечно, может, что-то и скрывает ото всех, — сказал отец и тревожно оглянулся на дверь, точно ему не очень хотелось, чтобы Колин узнал про эту сторону жизни мистера Ригена.
— О, миссис Блетчли! Какие тайны самые незаметные из нас прячут подчас в сердце своем! — добавил мистер Риген. Его большая голова легким движением поворачивалась из стороны в сторону, худая шея покраснела, словно показывая всю меру чувств, которые вдруг преисполнили его при виде этих двух женщин. — Пусть каждый занят своим каждодневным трудом, но ведь наступает минута, когда он поднимает глаза и видит в какой-нибудь дальней двери, в каком-нибудь дальнем окне головку, личико, прелестную ручку или очаровательное ушко, миссис Блетчли. Как догадаться, чья прелестная ручка, чье прелестное ушко, чье личико, чей стан и так далее зажгли в нем этот огонь? И как догадаться, кто же тайно лелеет жаркое томление в своей груди?
— Сахару-то, сахару! — сказала миссис Блетчли и засмеялась даже еще пронзительнее.
— Будь я на пяток лет помоложе, пожалуй, я перескочил бы через ваш забор, заставил бы затрепетать ваше сердечко, — сказал мистер Риген и привстал.
— Мистер Риген! — сказала миссис Блетчли. — А что, если бы мистер Шоу был сейчас дома или мистер Блетчли?
— Да уж, не будь кому за ним приглядывать, он, пожалуй, такого натворил бы! — сказала миссис Шоу.
И снова по обеим сторонам двери раздалось визгливое хихиканье.
— Будь мистер Блетчли здесь, — сказал мистер Риген, — я бы напомнил ему, какое сокровище он покинул. Но пока он сражается за короля и родную страну, неужто я позволю себе приударить за его супругой?
— Вам только палец протяни, — сказала миссис Блетчли. Ее голос стал еще пронзительнее и вновь перешел в хихиканье.
— Это что, приглашение, миссис Блетчли, или всего лишь предположение? — спросил мистер Риген. Он встал и отвел назад локти, словно готовый перескочить через забор прямо с крыльца.
— Ох! — сказала миссис Блетчли и взвизгнула. Ее визг словно эхом отозвался по другую сторону двери.
— Держи меня, Гарри, держи меня! — сказал мистер Риген, опуская руку на плечо отца. — Перед такой женщиной разве устоишь!
— Ох! — снова сказала миссис Блетчли, но уже дальше от двери.
— Неужто, миссис Блетчли, вы закроете дверь на засов и оставите красавца вроде меня томиться снаружи? — сказал мистер Риген и, взмахнув рукой, вскинул ногу, точно уже перелетал через забор одним прыжком.
От соседней двери вновь донеслось пронзительное хихиканье, а затем что-то сказала миссис Маккормак со своего крыльца.
— Мистер Риген опять взялся за свое, миссис Маккормак, — сказала миссис Блетчли. — Говорит, что мне и у себя дома не укрыться, — добавила она.
С соседнего крыльца было дано несколько советов, и мистер Риген, словно укрощенный, опустил ногу, опустил руку и, не снимая ладони с плеча отца, медленно сел на приступку.
— Их три против одного! Мне ли спорить, что женщинам всегда достается все самое лучшее.
Со двора донесся общий визг.
— С каких это пор женщине достается хоть что-нибудь хорошее, мистер Риген? — сказала миссис Шоу.
— Хоть что-нибудь? — сказал мистер Риген. — Все самое лучшее только ей да ей, — добавил он. — Лучшие из нас, — он хлопнул себя по груди, — в самом соку. Лучшая часть нашей получки вечером в пятницу. И лучшая часть дня в полном ее распоряжении: лежи себе полеживай на диване с коробкой конфет под рукой. Разве вы видели женщину в шахте? Разве вы видели, чтобы женщина на передовой защищала родную страну?
— Кто бы говорил! — сказала миссис Блетчли. — Сидите себе спокойненько в конторе, в камине уголь горит, а передовую разве что в газете видели.
— Господи, да когда хоть один мужчина взял верх над женщиной? — сказал мистер Риген. Все еще держась за плечо отца, он посмотрел в кухню. — Берегись этих валькирий, парень, — добавил он. — Колдуньи они. Все до единой.
— Уж мы вас околдуем, не беспокойтесь! — сказала миссис Блетчли. — Фу-ты ну-ты, и петлица для гвоздички!
— Господи, навалились на меня со всех сторон! — сказал мистер Риген. — Не отступить ли нам на кухню? — добавил он. — Мужчине просто из дому выйти нельзя!
— И женщине тоже! Особенно когда вы близко или этот, другой красавчик, — сказала миссис Блетчли и захлебнулась хихиканьем.
— Господи, Гарри! Они и к тебе подбираются! — сказал мистер Риген и вскочил так стремительно, словно хлынул дождь. Он почти никогда не заходил к ним в дом и теперь только одернул жилет и джемпер, вежливо поклонился сперва в сторону миссис Блетчли, потом в сторону миссис Шоу и, все еще кланяясь, пошел через двор.
— Любит Риген чесать языком, — сказал отец, медленно поднимаясь на ноги и входя в кухню. — Если бы он хоть вполовину так работал, то давно разбогател бы, а не посиживал бы тут на крыльце для провождения времени.
Он подошел к очагу и поставил на него чайник. Однако его лицо все еще сохраняло оживление после разговора на крыльце. Он скрутил из газеты фитилек, сунул его в огонь, быстро выпрямился и прикурил от фитилька сигарету.
— Ну, да миссис Блетчли, когда даст себе волю, еще почище будет. Такого наговорит, что уши вянут, — добавил он.
Однако болтовня мистера Ригена, казалось, на него подействовала — он словно испытывал радостное возбуждение, но старался его не выдать.
— У твоей матери на это нет времени, — добавил он. — Можешь мне поверить. — Он как будто хотел принять меры предосторожности, чтобы она не узнала про этот разговор. — А они всегда рады языком трепать, и никакого соображения.
Он несколько секунд постоял у стола, рассеянно глядя на учебники и тетради, потом повернулся к огню.
— Тебе нравится жить тут? — сказал он, опершись рукой на полку, и оглянулся, потому что не услышал ответа. Чайник, придвинутый к самому огню, запел.
— В этом доме? — спросил он.
— В этом доме. В этом поселке. Я все думаю, не переехать ли нам, — сказал отец.
— А куда? — сказал он.
— Не знаю. — Отец покачал головой, словно разговор на крыльце заставил его задуматься. — Только подальше отсюда.
— Подальше не получится, — сказал он. — Тебе же все равно нужно будет ездить на шахту.
— Так я бы ушел.
— А какую другую работу ты найдешь? — сказал он.
— Пожалуй, что и никакую. — Отец покачал головой. — Только и гожусь, что рубить уголь. Вот и весь итог моей жизни, — добавил он.
Он отошел к раковине, вытряс чайничек для заварки, ополоснул его под краном и вернулся с ним к очагу.
— Мы могли бы в город переехать. Тебе бы в школу было ближе. — Он нагнулся, налил горячей воды в чайничек, опять пошел с ним к раковине и ополоснул его.
Потом насыпал в него чай и стал ждать, чтобы чайник закипел.
— Ты все-таки подумай, — сказал он. — Я ничего против твоего мнения делать не хочу. С матерью я говорил, только она и слушать не желает. Она из тех, кто к месту привыкает.
И несколько секунд спустя, словно вызванная мыслью отца, в кухню со двора вошла мать. Она держала на руках маленького. Стивен цеплялся за ее пальто. Лицо у нее было бледное.
— Ну, что вы двое тут без меня поделывали? — сказала она.
Они лежали на двуспальной кровати, как два каменные изваяния на могильной плите. Кровать с металлическими прутьями в изголовье и изножье, с латунными шарами на столбиках стояла в алькове, отделенном от остальной комнаты занавеской, подвешенной на толстой деревянной палке. Занавеска была отдернута. Комнату заполнял звук медленного, тяжелого дыхания, прерывистого, как пыхтение паровоза.
Их маленькие головы терялись в пухлости общей подушки. Он вспомнил, какими они были прежде — круглое румяное лицо бабушки, ее маленькие руки с короткими пальцами и тупыми ногтями, высокую костлявую фигуру деда, его темные печальные глаза и словно развинченные руки и ноги. Теперь их ничто не соединяло, кроме подушки под их головами и лоскутного одеяла, под которым почти не угадывались их тела. Кожа у них была желтой, рты раскрыты, веки опухли, щеки провалились.
— Они уснули, — сказала мать, стоя в ногах кровати, словно перед его приходом долго велась бесплодная битва. Мать захотела, чтобы он простился с дедушкой и бабушкой перед их смертью, и он приехал сюда прямо из школы на автобусе, на котором никогда прежде не ездил. Он уже не воспринимал их как живых людей, в этих лицах было что-то смутное, застывшее, неузнаваемое: в полумраке их белесоватая, как бумага, кожа словно светилась призрачно и жутко. Плечи матери непривычно сутулились: от усталости, схожей с раскаянием, а может быть, от растерянности — это было бы ему понятнее. Она смотрела на их головы так, словно открыла ящик и увидела какой-то загадочный предмет — непонятный, необъяснимый, будящий невнятные воспоминания.
— Все-таки лучше, что они вот так, вместе… — добавила она. — Через час придет моя сестра, и мы поедем домой.
У камина стояло ведро с водой, в нем плавала щетка. Ковер был свернут, каменный пол от камина до черного хода чисто вымыт. В комнате стоял запах мыла, но он не заглушал душного, почти смрадного запаха, исходившего от кровати. На окне была задернута только одна занавеска, и узкая полоска света пересекала кресло, в котором обычно сидела бабушка, и облезлую кушетку в глубине комнаты, на которой прежде всегда лежал дед и молча курил трубку.
— Они весь день ничего не ели, — сказала мать, все еще не отводя взгляда от кровати, словно рассыпанные по ее жизни отдельные части очень важного, очень нужного целого вдруг собрались воедино, по это ничего ей не открыло и ничем не помогло. Руки у нее покраснели после мытья пола, завернутые выше локтя рукава были мокры. Фартук, который она захватила из дома, тут почему-то казался непривычным. Он никогда еще не видел ее такой беззащитной; внезапно она заплакала и достала платок из кармана фартука. Приподняв очки, она утерла глаза.
— Жизнь им выпала такая тяжелая, такая тяжелая. У них никогда ничего не было. И я им одни заботы доставляла.
Она выжидательно умолкла. Он снова посмотрел на кровать. Теперь он не испытывал ничего, кроме ужаса, — страшные, совсем одинаковые головы, точно две головы одного тела, объединенные подушкой, объединенные симметричными зубчатыми полосами лоскутного одеяла.
— Они так хотели, чтобы ты у них почаще бывал, Колин, — сказала она, говоря уже от их имени, но ему вспомнились только отчужденные, почти хмурые взгляды. — Они так гордились, что ты сдал экзамены, — добавила она и посмотрела на головы, словно ожидая, что одна из них вот-вот приподнимется, подтвердит ее слова, разомкнет распухшие веки, прищурится на него, с возгласом одобрения или ликования упадет на подушку и опять задышит медленно, прерывисто, хрипло. Точно горло у них было чем-то забито, точно под лоскутным одеялом их стискивали невидимые руки и выдавливали из них жизнь.
— Бедная мама, — сказала мать, и он перевел взгляд на нее, потому что ему было странно слышать, как его мать называет кого-то мамой.
По ее лицу медленно расползался воспаленный румянец, в расширенных глазах блестели слезы. Она тоже смотрела на него, точно теперь искала у него защиты от этих фигур на кровати.
— Надо взять себя в руки, — сказала она и снова утерла платком слезы. — Ты чего-нибудь поешь? — добавила она почти спокойно, так, словно он только что вернулся домой, и повернулась к газовой горелке у камина.
— Нет, — сказал он и мотнул головой.
— Ты что-нибудь ел? — спросила она.
— Нет, — повторил он.
Он отталкивал от себя эту сторону жизни своей матери. Он смотрел, как мать домывает пол — на рваные чулки, на рваное платье и на воспаленные, в ссадинах руки, все в мыльной пене, смотрел, как щетка рывками движется взад и вперед.
— Дай я домою, мама, — сказал он.
— Не надо, — сказала она. — Ты же в форме.
Он сидел возле двери на стуле с прямой спинкой. Мать задернула занавеску алькова — теперь оттуда доносилось только приглушенное хрипение. Комнату вновь заполнило тикание часов на каминной полке.
Мать на время забыла про него. Он смотрел на ее спину, рыхлую и бесформенную, на склоненный затылок. Она стояла на коленях в другом углу, и он увидел, что подошвы ее ботинок протерты насквозь, до стелек. В середине каждой дыры, там, где протерлась и стелька, темнело пятно.
И опять безнадежность и усталость сковали все вокруг. Он хотел только одного: встать, уйти и увести с собой мать и больше никогда сюда не возвращаться. Дыхание по ту сторону занавески будет раздаваться и раздаваться — такая же неотъемлемая принадлежность комнаты, как тикание часов, как потрескивание огня и шуршание щетки, медленно разгоняющей по полу мыльную воду.
— Может, мне пойти погулять? — сказал он.
— Что, голубчик?
Мать вздрогнула и посмотрела на него через плечо, словно удивившись, что он тут.
— Я подумал: может, мне пойти погулять? — сказал он.
— Так ведь ты только сейчас пришел, милый.
Он увидел в ее глазах мольбу не оставлять ее одну в этой комнате — не важно, пришел ли он сейчас или уже давно сидит здесь.
— Я просто подумал, что, может, тебе так удобнее будет. Ну, пока ты моешь пол, — добавил он.
— Нет, голубчик, там я уже кончила, — сказала она, взялась было за щетку, но тут же снова оглянулась на него. Она словно всматривалась в даль дороги. В ней даже было что-то от девочки: растерянность, пристыженность. — Жизнь их не жалела, — сказала она, и из ее глаз опять хлынули слезы. — Ты даже представить себе не можешь, какой тяжелой была тогда жизнь.
Он перевел взгляд с мокрого от слез лица на протертые ботинки, рваные чулки, обтрепанный подол платья. Перед ним словно была маленькая девочка, сестренка, и о чем-то просила, о чем-то отчаянно умоляла, прежде чем исчезнуть навсегда.
— Он три года не мог найти работы. Нам жить было не на что. А он бы много сделал, выпади ему случай. Да только он его так и не дождался. Не то что теперь, голубчик, — добавила она. — Теперь, если ты хоть чего-то стоишь, всегда найдутся люди, которые рады будут тебя взять. А тогда самый умный, самый старательный человек никому не был нужен, пусть он готов был работать хоть за троих.
Она отвернулась. Он слышал ее всхлипывания. Ее горе вторило хриплому дыханию в алькове и отрывистому тиканию часов. Он поглядел над ее головой на высокие прямоугольники картин над кушеткой: коровы по колено в воде, а позади них лиловатые горы со снежными вершинами, сельский домик с соломенной кровлей среди моря цветов под изломами пышных ветвей могучего дуба.
Мать уже снова терла пол, медленно водя щеткой взад и вперед, словно старательная девочка. Она глухо всхлипывала, почти с озлоблением, и вдруг захлебывалась рыданием; это было новое для него горе, тоскливое, безнадежное, которому нет утоления. Стоящая на коленях женщина была чужой, незнакомой: кто-то встреченный случайно, кто-то неведомый, захваченный за тем, чего он не мог понять. Потом пришла его тетка. Он ее почти не знал. Когда-то очень давно они были у нее в гостях — в старом доме, ютившемся в глухом переулке соседнего городка. И как-то он видел ее в этой самой комнате, когда они с матерью приехали навестить бабушку и деда, еще как будто здоровых. Она была сложена плотнее, чем его мать. Волосы у нее уже поседели, черты круглого лица были грубее и резче. Она отвернула занавеску и посмотрела на две фигуры в кровати с полным спокойствием, словно уборщица, вызванная навести порядок в доме. Положив продуктовую сумку на узкий столик, она поставила чайник на огонь и принялась хлопотать в комнате — передвинула стулья, расправила ковер.
— Ну, и как твоя школа? Тебя там на профессора обучают, что ли? — сказала она. — Нет, вы только поглядите на его фуражечку. А куртка-то, куртка-то, Элин. Прямо студент. — Она даже не обернулась к нему и только поглядывала на него краешком глаза, а потом исчезла в алькове. Он услышал шуршание откинутого одеяла, короткий вздох, покряхтыванье, оханье, и она вышла из-за занавески, держа под мышкой скомканную простыню.
— Это что, его книжки? А ранец-то, ранец! Эрик с Гордоном прямо позеленели бы от зависти. Им-то не до книжек, и так еле концы с концами сводим. — Продолжая говорить, она вышла во двор и вернулась без простыни, с ведром в руке. — Так ты, значит, пол помыла? Вот это дело. А то у меня все руки не доходят. Ну, да в будущем году они с учебой кончают. Попотеют годик на фабрике, а потом и в армию. Да чего от них и ждать-то. Они не так чтоб уж очень старательные, — добавила она.
Мать сидела на краешке стула. Когда вошла тетка, она надела пальто, поискала сумку, а потом села, так и не застегнув пальто, поставила сумку возле себя и рассеянно смотрела наружу через незанавешенную половину маленького окошка. Тетка, ничего не замечая, отдернула занавеску до конца и впустила в комнату вечерний свет.
— Нам пора на автобус, — сказала мать, но только еще больше сгорбилась на стуле. Она сидела боком к столу, положив на него руку, и теперь, когда занавеска была отдернута, смотрела на огонь в камине.
— А чаю на дорожку не выпьешь, Элин? — сказала тетка, но не стала ждать ответа и даже не повернула головы. Ее широкая фигура вновь скрылась в алькове, и оттуда донесся более долгий вздох, а потом опять послышалось оханье и покряхтыванье.
Мать вздрогнула и обернулась.
— Погоди, я тебе помогу, — сказала она и скрылась за занавеской, задернув ее за собой.
Заскрипели пружины кровати, и ее словно бы сдвинули с места. Он услышал пыхтение тетки, вздохи матери и прерывистое, замедленное дыхание двух фигур на кровати.
— Ну вот, — сказала тетка, появляясь из-за занавески. — Чем быстрее их заберут, тем лучше будет. Разве в таком доме мыслимо ходить за ними как следует!
— А как же ты одна останешься? — слабым голосом спросила мать, выходя из алькова. — Может, нам еще подождать?
— Скоро Редж с Дэвидом забегут, — сказала тетка. — А вы езжайте, покуда можно.
Мать взяла сумку и застегнула пальто. Она беспомощно обвела взглядом тесную комнатушку, сделала было шаг к алькову, потом сказала:
— Ну, так я поеду, Мэдж, если ты без меня обойдешься.
— Поезжай, поезжай, — сказала тетка. — Ничего с ними не случится. Старые башмаки самые крепкие.
Мать кивнула. У двери она быстро наклонила голову, вытерла глаза платком, высморкалась, сунула платок в карман и взяла Колина за руку.
— Ты собрался, голубчик?
Тетка, однако, словно ничего не замечала: не переставая говорить, она наклонилась над огнем, подгребла тлеющие угли к чайнику и охнула, вдохнув горячий воздух. Потом выпрямилась и оглянулась.
— Так вы, значит, уходите? — сказала она, увидев, что они стоят на пороге. — Ты когда опять-то приедешь, Элин? — добавила она.
— Завтра утром, — сказала мать. — Отправлю Стивена в школу и сразу приеду.
— А как Стивен? — спросила тетка, словно стараясь задержать мать. Она вышла вслед за ними на крыльцо, вытирая руки о фартук.
— Если можешь, привези чаю, — крикнула она, а когда мать ответила, просто кивнула.
— Она совсем расстроена, только показывать этого не хочет, — сказала мать, когда они отошли от дома, и в ее глазах снова заблестели слезы. — Она всегда им помогала. И деньги им давала, когда у них не было. А ведь ей самой на жизнь не хватает, — добавила она.
Они шли к автобусу между рядами одинаковых домов, и мать говорила не умолкая, не слушала ответов на свои вопросы, но ее рука крепко держала его запястье и не разжалась, даже когда они дошли до остановки.
Смеркалось. Они сидели внизу. Поля за окнами растворялись в темноте. Когда последние дома остались позади, мать умолкла. Она сидела, поставив сумку на колени, и смотрела мимо плеча шофера, на смутную полосу шоссе впереди. Только когда показался их поселок, она вдруг сказала:
— Наверное, ты их больше не увидишь. — И добавила: — Да и мне их уже недолго видеть, если бог смилостивится.
А когда они вышли из автобуса, она снова взяла его за руку и не выпускала ее, пока они не подошли к своей двери.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
— «Настало лето, — читал вслух мистер Плэтт. — Цветы отягощают пчелы, над изгородями вьются птицы. Хмельной напиток, настоянный на лепестках и ароматах, пьянит все чувства. Тоскою зимней сердце не томится: унылый труд, забытые обеты — все позади, и в нем царят улыбки и летний жар».
Он положил контрольную работу и посмотрел на класс поверх очков. Его взгляд медленно скользнул по партам, добрался до Стивенса и с угрюмой злостью остановился на Колине.
— Как прикажете это понять, Сэвилл? «Разберите систему образов этого стихотворения», а на вашем листе я нахожу лишь высокопарные, лишенные размера и, с вашего позволения, на редкость беспомощные вирши, которые вы изволили сочинить сами и озаглавили, — он быстро взглянул на лист, — «Строки, написанные в классной комнате четвертого „Б“, глядя в окно во время пасхальных экзаменов». — Он медленно обвел взглядом учеников. — Я не вижу даже намека на разбор и не нахожу ни единой, хотя бы косвенной, ссылки на заданное стихотворение, если только не счесть ваш опус слабой и в подобном контексте, должен я прибавить, грубо оскорбительной пародией на его признанные достоинства. Вордсворт писал стихи, и если бы он в праздную минуту досуга ознакомил меня на полях своей контрольной работы со своим толкованием «Бродил я один», то, осмелюсь предположить, я не был бы недоволен. При условии, что он ограничился бы полями, и при условии, что на предложенный ему вопрос он ответил бы полностью. Людям же с небольшим дарованием или, как в данном случае, вовсе без всякого дарования полезнее прямо, просто и без экивоков воздать должное истинному таланту, вместо того чтобы в подражание ему кропать собственные чудовищно банальные стишки. — Он снова взглянул на лист. — «К. Сэвилл»! С тем же успехом вы могли бы подписаться «В. Шекспир». — По классу прошелестел смешок. — Не мыслишь ли ты, о бард Колин, что игрою в регби приобрел ты право на подобные чудасии?
Класс разразился хохотом.
— Ответствуй же, певец Сэвилл! Ты слышал вопрос, отрок?
— Да, сэр, — сказал он и кивнул.
— Красноречивые излияния его сердца сковала немота. Оледенило их дыханье трезвой мысли. Считаешь ли ты это великим шедевром, о юный Сэвилл?
— Нет, сэр, — сказал он и мотнул головой.
— Дозволено ли нам, смиренным твоим поклонникам, рассеянным вокруг, воспользоваться сим твоим твореньем для излияния своих восторгов?
— Да, сэр, — сказал он и кивнул.
— «Настало лето, — прочел Плэтт еще раз. — Цветы отягощают пчелы». Отягощают ли пчелы летом цветы, Уокер?
— Да, сэр, — сказал Уокер и добавил: — Нет, сэр.
— Они могут льнуть к цветам. Они могут опылять цветы, Уокер. Они могут заползать в цветы, Стивенс. Они могут посещать цветы. Они могут кружить над цветами или опускаться на них. Но я искренне сомневаюсь, что пчелы, эти полезные насекомые с жалами, способны отягощать их. — Он поправил очки, опустил глаза на лист и прочел дальше: — «Хмельной напиток, настоянный на лепестках и ароматах, пьянит все чувства». Ах, бард Колин, бард Колин, да, если об этом прослышит налоговое управление, не миновать тебе беды. Каким образом настаиваешь ты сей хмельной напиток, любезный, а главное, имеешь ли ты на это соответствующее разрешение?
Ребята хохотали, откинувшись на партах. Сидевшие впереди оборачивались, соседи смотрели на него через проходы, о выражении лиц тех, кто сидел сзади, он мог легко догадаться.
Окна были открыты. Ноги, мелькавшие за ними, замерли, и с подпорной стенки свесились, с любопытством заглядывая внутрь, маленькие головы.
— «Тоскою зимней сердце не томится: унылый труд, забытые обеты»… Не кроется ли, о бард Колин, тут намек на разбитое сердце? На умудрившее тебя милование с некоей особой противоположного пола? — Он снова оглядел класс, поправил очки, прищурился на лист и добавил: — «Улыбки и летний жар». Вот это — поистине приятное обещание. Обычно скучный, чтобы не сказать угрюмый, лик нашего глубоко чувствующего друга в летние месяцы, если я верно толкую его заверения, посветлеет и даже, как он нам грозит, озарится улыбкой!
Вновь грянул хохот. В окна заглядывали сверху головы побольше. Кто-то начал хлопать крышкой парты.
Мистер Плэтт положил сочинение.
— Как вы увидите, Сэвилл, когда я раздам контрольные работы, ваша оценка заметно ниже той, которую вы могли бы получить, если бы ответили на вопрос в меру скромно и обстоятельно и, само собой разумеется, — добавил он, — более или менее правильно.
Он начал раздавать контрольные. Они переходили из рук в руки, от парты к парте, а тем, кто сидел близко, он нетерпеливо вручал их через склонившиеся головы.
— Паттерсон, Джексон, Свей, Кембридж, Берсфорд, Кларк… Сэвилл!
Контрольная поползла по партам — каждый быстро заглядывал в нее и нырком передавал дальше.
— Ротери, Джилл, Фенчерч, Мэдли, Кент.
По классу прокатывались шепотки. Мальчики раскрывали контрольные, заглядывали в конец, снова раскрывали. Он увидел свою отметку, красную линию, проведенную сбоку от стихотворения, поправки в ответах на другие вопросы, положил контрольную и скрестил руки на груди.
Мистер Плэтт отдал последнюю работу и несколько секунд выжидал, задумчиво постукивая по зубам кусочком мела.
— Некоторые из нас не в ладах с поэзией, но куда больше среди нас тех, — добавил он, — кто не в ладах с орфографией.
Колин прижал руки к груди. Мистер Плэтт читал фразы из других работ, над партами смущенно возникали фигуры и снова садились, на доске выводились слова.
— Но вернемся к вам, — сказал Плэтт и добавил, повышая голос: — Ведаешь ли, что я к тебе взываю, отрок?
Класс поспешно засмеялся.
— Как напишешь ты «интеллектуальность», о бард?
Он машинально встал под новый взрыв хохота, услышал повторение вопроса, начал медленно произносить «интеллектуальность» по буквам, где-то в середине запутался и сел, а Плэтт воскликнул:
— Джилл! Джилл! Конечно, вы всего лишь жалкий математик, но, может быть, вы скажете ему, как оно пишется?
Позади Колина слово было быстро отчеканено по буквам.
— Ужели муза посещает тебя, о бард, не только вне этих стен, но и прямо в классе?
Он снова медленно встал.
— Не соблаговолишь ли ты, о бард, ответить дома на вопрос, отринутый тобой в контрольной, и не принесешь ли мне его для проверки завтра рано поутру? Ты понял все?
— Да, — сказал он и добавил: — Сэр.
— Но помни, бард, рифмованные строки, иль белые стихи, иль разновидности любых таковых мне не нужны. Удовольствуйся презренной прозой, которой тебе следовало бы воспользоваться с самого начала, отрок.
— Да, — сказал он и, убедившись, что Плэтт больше ему ничего говорить не собирается, снова сел.
— Мне мнится, отроки, что зазвучал колокол, призывающий меня к утренней чашке кофе. — Плэтт приложил маленькую плотную ладонь к уху, словно стараясь лучше расслышать звон, слабо доносящийся из коридора наверху. — Он, мнится мне, сзывает вас к принятью пищи, а Сэвилла к тому ж зовет на тайное свиданье с музой, быть может, под аркадой, отроки, иль даже на площадке для игр. Ты внемлешь ли, о бард? Иль трезвый свет дня и будничная проза урока по литературе загнали ее в какую-нибудь жалкую и темную дыру, откуда вызволить ее способен лишь ты, и ты один?
Колин встал вместе с остальными. Снова раздался совсем уж было замерший смех.
— Склоняй слух к словам своих наставников, отрок, — сказал Плэтт, с книгами под мышкой направляясь к двери. — Помни, что они прожили много больше лет, нежели ты, и, без сомнения, в младости своей рьяно тщились состязаться с бессмертным Бардом. Что не помешало им двадцать лет спустя кончить свой путь за учительским столом, за каковым милостью судьбы они могли бы водвориться много раньше, ежели бы не расточали время на подражания, подобные тому, которое нам довелось услышать нынче. Истинно, истинно… — Он поднял ладонь, остановив в дверях толпу мальчиков. — Итак, ваш наставник сказал, отроки, отверзните уши и слушайте.
Колин неторопливо пошел к галерее, взял свою бутылку молока и прислонился к стене. Мимо по одному и группами проходили в столовую учителя — они пили там кофе. Прошел Гэннен, туго стянув мантию на животе, мисс Вудсон близоруко щурилась и поправляла очки, Ходжес приглаживал пучки волос, двумя белыми клыками торчащие из-за ушей.
— Они всегда к кому-нибудь цепляются, — сказал Стивенс. Он прислонился к стене рядом с ним и пил молоко, совсем ссутулившись.
— Ну, а что им еще делать? — сказал он, допил молоко и пошел к ящикам. — Все-таки придает интерес уроку.
— Для кого придает, а для кого и нет, — сказал Стивенс и, не допив молоко, пошел с ним на площадку, но тут же его оттерла толпа бегущих навстречу ребят. — По-моему, у тебя получилось здорово, — сказал он, нагнав Колина. — Плэтту в жизни так не написать.
— Угу, — сказал он и остановился около места, где начинался футбольный матч. Поле отмечали брошенные в кучи куртки, и между ними сновали фигуры в майках.
— А ты что-нибудь еще сочинил? — спросил Стивенс.
— Нет, — сказал он и мотнул головой.
— Он, наверно, тебе и отметку здорово снизил, — добавил Стивенс.
— Да, снизил, — сказал он.
— Хочешь купить авторучку? Тебе я дешево отдам, — сказал Стивенс.
Он распахнул куртку и показал колпачки нескольких ручек, торчащих из внутреннего кармана.
— В магазине такую меньше чем за два, а то и за три фунта не купишь, — сказал он.
— Где ты их взял? — сказал он.
— В городе, — сказал Стивенс. — Бери вот эту большую, — добавил он. — С ней стихов напишешь, сколько захочешь.
— У меня есть ручка, — сказал он.
— Так в нее же чернил меньше входит. И перо хуже. — Пальцы Стивенса скользнули по карману, он вытащил большую ручку и отвинтил колпачок.
— Я моей обойдусь, — сказал он, повернулся и неторопливо пошел назад.
— Я ее тебе за пять шиллингов уступлю. За четыре. За три шиллинга и шесть пенсов, — сказал Стивенс.
— Да нет у меня денег, — сказал он.
— Плати понемножку каждую неделю. Не беспокойся, оглянуться не успеешь, как разочтемся, — сказал Стивенс и добавил: — А то пошли со мной, будем вместе их прихватывать. Вдвоем легче, чем одному.
Мимо пробежал Уокер, потом Джилл — высокий, худой, в очках. На бегу он выворачивал ступни, почти как Батти.
— Двоих легче изловить, чем одного, — сказал он, следя за тем, как Стивенс прячет ручки во внутренний карман.
— Со мной не поймают, — сказал Стивенс, искоса поглядел на него и улыбнулся, открыв мелкие клинышки зубов. — Пошли как-нибудь на большой перемене, я тебе покажу.
— Нет, ты уж сам этим занимайся, — сказал он, засмеялся и повернул к галерее.
— Если захочешь какую-нибудь особенную, я тебе ее устрою, — сказал Стивенс. — Только смотри, никому ничего, я ведь это только по дружбе.
Он пересек двор и прошел по полутемной галерее к себе в класс. Огонь в камине угасал. Он подложил в него угля, сел за свою парту, достал контрольную и начал читать. «Настало лето. Цветы отягощают пчелы, над изгородями вьются птицы. Хмельной напиток, настоянный на лепестках и ароматах, пьянит все чувства. Тоскою зимней сердце не томится: унылый труд, забытые обеты — все позади, и в нем царят улыбки и летний жар».
Он вычеркнул «настоянный», написал «из лепестков и ароматов» и принялся читать еще раз, уже медленнее.
Стэффорд взял сумку под мышку и прислонился к витрине, отражавшей его фигуру и фигуры двух девочек, с которыми он разговаривал. Через центральную площадь, которая с приближением часа пик все больше заполнялась людьми, медленно проезжали машины. Перед магазинами и перед отелем стояли другие компании — мальчики в форменных куртках и фуражках, девочки в синих пальто по лодыжку и в маленьких синих беретах.
— С Одри ты ведь знаком? — сказал Стэффорд. — Она тебя видела на ферме, где ты работал летом. — Он указал на более высокую из девочек, тоненькую, светловолосую, с румяным лицом. Теперь он ее узнал. — Это ферма ее папаши, — добавил Стэффорд, засмеялся и повернулся к другой девочке. У нее были темные волосы, темные глаза и нос с горбинкой. Она поглядела на Колина и тоже засмеялась.
— А это Мэрион, — сказал Стэффорд, плотней прислонился к витрине и засунул руки в карманы.
— Он говорил, что он хорошо работал, — сказала высокая и поправила ремень ранца на плече. — Не хуже взрослого мужчины, — добавила она, и Стэффорд, наклонив голову, снова засмеялся.
— Так он же и есть мужчина, — сказал он второй девочке, и они засмеялись все трое, неуверенно, нервно, взглядами приглашая Колина посмеяться вместе с ними.
— А Джек еще там? — спросил он. — И этот, кривоногий.
— Гордон, конечно, там, — сказала она. — Он же много лет там работает. И Том еще там. А этот ушел. Кажется, на шахту, — добавила она.
— Колин и про шахты знает, — сказал Стэффорд. — Он только о работе и думает, и ему все про нее известно.
— А что, сезон регби уже кончился? — сказала темноволосая, задумчиво повернулась и поглядела на другие группки дальше по тротуару.
— Целиком и полностью, — сказал Стэффорд, постукивая каблуком по каменной облицовке под витриной. — Мы ждали, что вы придете посмотреть, но так и не дождались. Прекрасные поклонницы не про нас. Не то нам бы удержу не было, — добавил он.
— Мы ходим только на матчи первой команды, — сказала темноволосая, хихикнула и снова обвела взглядом другие группки.
— По-моему, у Своллоу волосы — умереть, — добавила она. — А Одри прямо влюблена в Смита.
— В старшего или в младшего? — сказал Стэффорд.
— В старшего, конечно. — Темноволосая засмеялась и подтолкнула Одри локтем. Одри покраснела еще больше и тоже засмеялась.
— Мне пора, — сказал Колин. — Автобус уйдет через пять минут, а до следующего почти час.
— А ты домой на автобусе ездишь? — сказала черноволосая. — Ведь на поезде быстрей. И в очереди стоять не надо.
— И в купе у нас весело. Эти вагоны без коридоров, — сказал Стэффорд. — Раз сели, деваться им некуда, на ходу дверь не откроешь.
Темноволосая опять засмеялась.
— Стэффорд дождется, сообщат про него в школу, помяните мое слово, — сказала она и взмахнула ранцем.
— Туннели один за другим, а лампочки можно вывинтить, — сказал Стэффорд.
Белокурая девочка покраснела. Она взглянула на Колина и быстро перевела глаза на дом напротив.
— Бренда говорила, что скажет про тебя. Входит в класс, а у нее юбка порвана, и мисс Уилкинсон выслала ее вон, зашивать. — Она сняла берет и встряхнула головой. Темные волосы отлетели назад. — Жалко, что Своллоу на нашем поезде не ездит. Мы бы потрясающе провели время.
— Ты для Своллоу еще мала, — сказал Стэффорд.
— Я ни для кого не мала, радость моя, — сказала она и опять поглядела по сторонам.
— Давай приезжай в субботу, Колин, — сказал Стэффорд. — Поезд у вас на станции останавливается в час. Сойдешь на Суиннертонском разъезде. Я тебя встречу.
— Ладно, — сказал он, кивнул, поправил ранец и сошел на мостовую.
— Пока, красавчик! — крикнула темноволосая, и, поднявшись на противоположный тротуар, он увидел, что все трое смеются: белокурая девочка по-прежнему глядела на дом напротив, а темноволосая, привстав на цыпочки, ухватилась за плечо Стэффорда и что-то оживленно, с улыбкой говорила, придвинувшись к самому его лицу, хранившему равнодушное выражение.
Расчерченные живыми изгородями поля сменились лесом, потом совсем близко от окна замелькали большие рыжие камни, вкрапленные в откос выемки.
Минуту спустя поезд подошел к станции — к деревянной платформе со скамейками под навесом.
Колин спрыгнул на платформу, женщина с младенцем, сидевшая под навесом, вошла в вагон и захлопнула за собой дверь.
Он отдал билет мужчине с тачкой, который полол садик у входа на станцию, и пошел по дорожке, к гребню холма, где за забором виднелось шоссе. На станционном дворе стояла подпертая ящиками старая тележка, среди бурьяна торчал ржавый каркас грузовика — без колес, мотора и капота. Где-то на линии раздался гудок. Там, где дорожка выходила на шоссе, вдруг возник всадник, лошадь трусила по обочине. Дорожка упиралась в покосившуюся деревянную калитку. Из щелей между досками пробивались стебли травы и репейник.
По склону медленно взбирался велосипедист, сгорбив спину, пригнув голову почти к самому рулю. Добравшись до верха, он начал распрямляться, увидел Колина и замахал рукой.
— Привет! — сказал Стэффорд, подъезжая к нему. — Давно ждешь?
Колин показал на поезд, исчезающий среди полей. Темная полоса дыма уплывала назад, к выемке.
— Нам туда, — сказал Стэффорд, кивая в ту сторону, откуда приехал. Внизу виднелось несколько крыш. — Давай садись.
Колин сел на раму, Стэффорд повернул велосипед и оттолкнулся от земли.
Велосипед завилял, потом набрал скорость и выпрямился. Они неслись к домам внизу.
— Держись крепче! — сказал Стэффорд.
Они мчались все быстрее, Стэффорд вопил и шаркал подошвами по асфальту.
— Внизу поворот. Держись крепче. Тормоза не берут.
Велосипед повернул, вылетел на обочину и оказался на гаревой дороге. Тормоза заскрипели, схватывая колеса, велосипед дернулся, почти остановился, но Стэффорд потерял равновесие. Он уперся ногой в землю, их развернуло, Колин уцепился за его запястья, за руль, стукнулся о стену, и на него навалился Стэффорд.
— Здорово съехали! Только немножко не туда, — сказал Стэффорд и со смехом дернул Колина за руку. Дорога тянулась между высокими подстриженными изгородями с воротами справа и слева. — Хочешь, веди ты, — сказал Стэффорд. — Только если ты сядешь на раму, мы доберемся быстрее.
Он повел велосипед назад к шоссе.
Колин сел на раму, но оказалось, что колени Стэффорда упираются в его ноги, и в конце концов он перебрался на седло и ухватился за плечи Стэффорда, который пригнулся и крутил педали стоя.
Они проехали мимо церковной ограды с аркой над калиткой, в стороне среди могучих деревьев стоял большой каменный дом. Дальше справа и слева вдоль узкого шоссе отдельными тесными группами стояли небольшие каменные дома.
Стэффорд ехал медленно, его голова поднималась и опускалась в такт движению ног, он то выпрямлялся, то опять пригибался, чтобы удержать равновесие. Перед небольшим косогором он остановился.
— Теперь уж недалеко. — Он указал вперед.
Колин соскочил на землю.
Поднявшись по склону, он увидел сбоку от шоссе большой кирпичный дом, перед которым узкой полосой протянулся запущенный сад. За домом виднелся пруд с голыми илистыми берегами и чуть дальше — кирпичное строение без крыши, из двери которого, когда они приблизились к дому, вышла свинья в сопровождении стаи гусей.
От шоссе к дому вела дорога, вся в рытвинах и лужах. Вдоль нее по бурьяну вились многочисленные тропинки, сходясь у обрамленного колоннами подъезда с портиком.
Стэффорд слез с велосипеда и свернул на боковую тропинку. Она петляла между лужами и смыкалась с мощенной плитами дорожкой, которая вела к боковой двери. Стэффорд прислонил велосипед к стене, снял зажимы с брюк и, не вытирая ног, не счистив глины с ботинок, вошел в открытую дверь. Он крикнул:
— Мама! Ты вернулась? — И, не дожидаясь ответа, поманил Колина за собой в кухню.
Ее окна выходили на задний двор. Пол не был ничем покрыт. На столе у стены стояли тарелки с сандвичами и пирожными. Под окном была раковина с одним краном, а рядом газовая колонка для подогрева воды. Две двери напротив, по-видимому, вели в комнаты.
— Бери скорей! — сказал Стэффорд.
Он стоял у стола, приподнимая верхние ломтики сандвичей, потом отобрал два и один из них протянул Колину.
— Это тоже захватим, — добавил он, хватая с одной тарелки пирожное, а с другой кусок кекса. — Пошли во двор. Или ты хочешь посмотреть дом? — Он быстро съел сандвич и взял еще один. — Ну, идем, — сказал он. — А то сюда сейчас кто-нибудь явится.
Дорожка из каменных плит вела к заросшей бурьяном лужайке. Дальше начиналась полоса засохшей грязи, окружавшая пруд. Там бродили гуси, а возле кирпичного строения без крыши рылась в земле свинья.
Гуси загоготали, но Стэффорд словно не видел их и не слышал: продолжая жевать сандвич, он поманил Колина за собой, несколько раз беспокойно оглянулся на дом и пошел вокруг пруда к забору, отделявшему огород от густой рощицы.
Забор был в нескольких местах сломан, кое-как подправлен и снова сломан. В десятке шагов за ним между стволами виднелась деревянная хижина. Очень низкая, ниже их роста, она была сколочена из разнокалиберных досок и накрыта листом кровельного железа.
Стэффорд перелез через забор, торопливо пошел к хижине, подныривая под ветки, согнулся и юркнул внутрь, даже не оглянувшись на Колина.
Вход был завешен куском мешковины. На полу лежал отсыревший лоскут ковра.
— Я сюда прихожу по ночам, — сказал Стэффорд. — Захвачу чего-нибудь поесть и иду сюда.
Однако он лежал, подпирая голову рукой и словно отстраняясь от всего, что было вокруг.
— Она, конечно, не очень. Я ее год назад построил, — добавил он. — Да еще брат как-то влез в нее и развалил.
Сырость мало-помалу просачивалась сквозь одежду Колина. Скорчившись в тесноте, он различал только бледное пятно волос Стэффорда, смутный овал его лица и медленное движение руки, подносящей ко рту кусок кекса. Доев кекс, он замер без движения. Его лицо было похоже на маску: неразличимые глаза, полосы тени около носа и губ.
— У вас лучше, — сказал он. — У Лолли.
— Да, — сказал Колин и кивнул.
— Ну, конечно, — сказал Стэффорд, — я ее один строил. Помогать мне тут некому.
Он говорил шепотом, словно под деревьями вокруг прятались невидимые люди.
— Иногда я кого-нибудь сюда привожу. Только знакомых у нас поблизости почти нет, — добавил он.
По ту сторону забора снова прерывисто загоготали гуси. Где-то залаяла собака.
Стэффорд приподнял мешковину и выглянул наружу.
За стволами виднелся дом на косогоре над грязным прудом. Из боковой двери вышла женщина и посмотрела на пруд, на сарай, а потом, прислонив к глазам ладонь, на рощицу. Она немного постояла так и вернулась в дом.
— Я иногда прихожу сюда ночью. Когда все заснут. И беру с собой чего-нибудь поесть. У меня есть свечка. — Стэффорд отпустил мешковину.
Перед самым лицом Колина вспыхнула спичка, но укрепленная в консервной банке свеча была вся мокрая: фитиль затрещал, разбрызгивая искры, и погас. Они снова остались в темноте.
— Кекс вроде бы неплохой. А как тебе пирожное? — сказал Стэффорд.
— Ничего, — сказал он.
— С чем был твой сандвич?
— С мясным паштетом.
— Она еще их мажет паштетом из крабов, но они не очень вкусные.
Со стороны подъездной дороги донесся рокот автомобильного мотора. Стэффорд снова приподнял мешковину. К дому, подпрыгивая на выбоинах и поднимая тучи брызг, приближался автомобиль. Он скрылся за углом в направлении парадной двери.
Стэффорд отпустил мешковину.
— Хочешь, пойдем ко мне в комнату, — сказал он. — У меня там есть кое-что.
Но он продолжал лежать, постукивая по стенке каблуками. Железный лист над их головой угрожающе погромыхивал.
— А то сходим на ферму, тут, за рощей. Или, если хочешь, съездим к Одри Смит. Мэрион Рейнер живет всего в миле оттуда. Можно поехать по тропке напрямик через поля. У них есть лошадь. Покатаемся.
Но он по-прежнему лежал, опираясь на локоть, и пошевелился, только услышав шум еще одной подъезжающей машины. Он приподнял мешковину и, изогнув шею, выглянул наружу. Начинался дождь, на поверхности пруда расходились первые круги, по крыше рассыпалась дробь капель.
— Ну, значит, домой, ничего не поделаешь, — сказал он. — Я так и знал, что будет дождь, но думал, может, прояснится. — Он высунул ноги в узкий вход и выбрался наружу. Колин вылез вслед за ним. Капли шуршали в ветках, стучали по железному листу. Пруд покрылся рябью, но гуси продолжали плавать взад и вперед.
— Ну, быстро! Войдем через кухню, — сказал Стэффорд. Он обогнул пруд, взбежал по мощеной дорожке, нерешительно остановился перед дверью, заглянул внутрь и только тогда вошел. К дому подъезжал третий автомобиль, за стеклами маячили бледные лица. Стукнула распахнувшаяся парадная дверь, чей-то голос что-то сказал.
Тарелки с сандвичами и пирожными исчезли. Стэффорд посмотрел на пустой стол, заглянул в буфет, потом открыл узкую дверь рядом. За ней была кладовая, освещенная маленьким окошком.
— Пусто, — сказал Стэффорд. — Ну, пошли.
Он пригладил волосы, одернул куртку и открыл внутреннюю дверь. До них донеслись звуки голосов.
— Если кто-нибудь тебя увидит, кивни, и все.
Они вошли в большой холл с голыми стенами. По одной наискось тянулись перила лестницы, завершавшейся площадкой с балюстрадой. Входная дверь была открыта. Снаружи на ступеньках под портиком стояла женщина в голубом платье. Она что-то говорила людям, вылезавшим из машины. Из-за двери сбоку донесся звук голосов и взрыв смеха.
— Айрин, ради всего святого! — воскликнул кто-то.
— Это мама. Она опять со своими дамами. — Стэффорд торопливо взбежал по лестнице и остановился только на площадке. Они увидели, как женщина в голубом входит в холл, низким, почти мужским голосом что-то говоря приезжим.
— Нам сюда, — добавил Стэффорд. — Моя спальня в самом конце.
Они прошли мимо открытой двери, и Колин увидел две узкие кровати, стоящие рядом. В конце узкого прохода на выкрашенной красной краской двери висел плакатик. Стэффорд порылся в кармане и достал ключ. На плакатике было написано: «Посторонним вход воспрещен!» Внизу стояли инициалы: Н. К. С.
Стэффорд отпер дверь и вошел. Комната была узкая, с двумя окнами — в глубине и сбоку. Пол, как и в холле, был без ковра, стены без обоев. У двери стояла узкая кровать, рядом с ней комод, за ним шкаф и письменный стол. Посреди комнаты лежали картонные коробки, и Стэффорд, едва заперев дверь, принялся их убирать.
— Так, мелочи, — сказал он, затолкал часть коробок под кровать, а остальные поставил на комод, на шкаф и на стол. На каждом окне была синяя занавеска — одно выходило на пруд и кирпичное строение без крыши, другое на поля, начинавшиеся сбоку от дома.
— Если хочешь, садись на кровать. Хотя обычно, — сказал Стэффорд, — я сижу на полу.
Дождь тихонько стучал по желобам над окнами. Звук голосов в холле замер. Со стороны дороги донесся еле слышный шум еще одного автомобиля.
— А что это за собрание у твоей матери? — спросил Колин.
— Не знаю, — сказал Стэффорд. — Всегда одни только женщины. И засиживаются иногда чуть не до ночи.
Он растянулся на животе и пошарил под кроватью. Потом встал, весь красный. В руках у него было духовое ружье.
— Хочешь, можем пострелять. Давай по гусям! Расстояние самое подходящее.
Из ящика стола он вытащил коробку с пульками, зарядил ружье, открыл окно и тщательно прицелился. Раздался негромкий хлопок выстрела, но белые птицы продолжали плавать, все так же вытягивая шеи.
— Целься выше, с поправкой на расстояние, — сказал Стэффорд, перезарядил ружье и протянул ему.
Колин прицелился наугад в середину стаи, приклад толкнул его в щеку, и один гусь внезапно привстал на воде и захлопал крыльями.
— Метко! — сказал Стэффорд, перезарядил ружье и добавил: — А теперь давай по Хрюку. Вон он в хлеву.
За открытой дверью виднелся свиной зад. Стэффорд положил локти на подоконник и долго целился. Волосы упали ему на лоб, левый глаз был зажмурен. Наконец он нажал на спусковой крючок.
— Тоже метко! — сказал он, когда свиной зад скрылся в темноте и через секунду в проеме двери показалось рыло. — Он любит, когда по нему стреляют. Словно его почесывают. — Он вложил в ствол новую пульку. — Давай опять по гусям! — Защелкнув ствол, он снова навел его на пруд.
Чуть позднее на лужайке под окном появился мужчина в спортивной куртке с кожаными заплатами на локтях и фетровой шляпе. Он, по-видимому, только что слез с велосипеда: его брюки были подвернуты и прихвачены зажимами над гигантскими башмаками. Он был высокий, широкоплечий и слегка сутулился. Из-под шляпы выбивались пряди седых волос. Спустившись к пруду, он неожиданно оглянулся на дом.
Стэффорд, который перезаряжал ружье, увидел мужчину в шляпе, только когда снова прицелился. На секунду он замер, с недоумением глядя вниз, затем быстро спрятал ружье за подоконник.
— Невил, ты опять стреляешь из этой штуки? — крикнул мужчина, и от стены дома отозвалось эхо.
— Мы стреляем по воде, папа, — сказал Стэффорд.
Он высунулся из окна и тоже кричал.
— А не по гусям? — крикнул мужчина.
— Да нет же! — ответил Стэффорд и замотал головой.
Мужчина отвернулся к пруду. По-видимому, он принес гусям корм: они один за другим выходили на берег. Он принялся ощупывать их перья.
— Если ты хоть раз по ним выстрелишь, я отберу у тебя ружье, — крикнул он наконец, еще раз оглянувшись на дом.
Он пошел по берегу к хлеву, зовя свинью. Внезапно она выскочила из двери и побежала к нему.
— Это мой старик, — сказал Стэффорд. — Понимаешь, он всю жизнь мечтал стать фермером. И наверное, стал бы, будь у нас побольше денег.
Он сунул ружье под кровать, вытащил оттуда небольшую картонную коробку и сказал:
— Видал? Сейчас я тебя сниму.
Он вынул фотоаппарат, похожий спереди на черную гармошку, поднес его к правому глазу и засмеялся.
— Только тут темно. Пойдем вниз. Ты меня щелкнешь, а я тебя. — Он нагнулся к зеркальцу в дверце шкафа, достал из кармана куртки гребешок и причесал волосы. Потом еще раз нагнулся к зеркальцу, вытащил ключ и отпер дверь.
Они спустились вниз. В холле мать Стэффорда прощалась с уезжающими женщинами.
— Ты не видел отца, Невил? — сказала она и повернулась к одной из женщин. — Это мой сын.
Стэффорд наклонил голову, а она добавила:
— Мой младший сын, следовало мне сказать.
Женщина засмеялась и пошла к двери.
— Так ты его не видел, Невил? — спросила она еще раз.
— Он на заднем дворе, мама, — сказал Стэффорд громко, точно отвечал не только ей, но и той женщине.
— Ну, я перехвачу его где-нибудь тут, — сказала миссис Стэффорд, поглядела на Колина и улыбнулась. — Это и есть твой приятель?
— Мы хотим пойти поснимать, — сказал Стэффорд от кухонной двери.
— Только, пожалуйста, не залезайте в грязь, — сказала его мать. — А когда вернетесь, займись чаем. — Она уже стояла на крыльце и говорила через плечо.
Они прошли через кухню. На столе по-прежнему ничего не было.
Снаружи к стене был прислонен большой велосипед. Заднее колесо наполовину прикрывал брезентовый чехол, с седла свисала большая черная брезентовая сумка.
Дождь перестал. Дул легкий ветер. Стэффорд поглядел на строение без крыши и пошел вдоль дома.
— Лучше с той стороны, — сказал он. — Там светлее.
Они шли мимо окон. В маленькой квадратной комнате мужчина в темном костюме читал газету. Услышав их шаги, он поднял голову, увидел Стэффорда и тут же опять перевел глаза на газету.
С другой стороны дома тянулись ряды кустов. Жерди, опора будущей живой изгороди, отделяли сад от пшеничного поля в зеленой дымке всходов над ровными бороздами.
Стэффорд протянул ему фотоаппарат, показал, куда смотреть, и объяснил, на какой хромированный рычажок он должен нажать.
— Следи, чтобы фигура была точно в середине, — сказал Стэффорд.
Он прислонился к жерди с легкой улыбкой, пригладил волосы и крикнул:
— Ну, чего ты возишься? Не могу же я без конца улыбаться!
Он снова улыбнулся, повернув тонкое, почти нежное лицо. Из бокового окна на них смотрели какие-то женщины. У подъезда стояла машина.
Колин нажал на рычажок и отдал аппарат.
— Теперь давай я тебя сниму, — сказал Стэффорд.
— Не надо, — сказал он. — Я и не хочу вовсе.
— Нет, надо, — сказал Стэффорд. — Может, кто-нибудь выйдет и щелкнет нас вместе.
Он рассеянно поглядел по сторонам, выбирая подходящее место.
— Я попробую снять тебя на фоне дома, — сказал он.
Он несколько секунд наводил аппарат.
— Стань левее, — крикнул он. — Еще, еще. И подойди чуть поближе. — Потом он сказал: — Да улыбнись же! У тебя вид прямо как у покойника.
Затвор щелкнул, Стэффорд опустил аппарат, оглядел его и перемотал пленку.
— Может, снимем Хрюка? А то и старика с ним? — сказал он.
На крыльцо вышли женщины. Миссис Стэффорд остановилась позади них в дверях. Высокая, угловатая, сложением она напоминала своего мужа. Волосы у нее были седые, лицо худое, с торчащим носом. Она рассеянно поглядела на них, когда они проходили мимо, и повернулась к женщинам, садившимся в машину.
На заднем дворе мистер Стэффорд с сеном на вилах вошел в строение без крыши, и сено проплыло над стеной с той стороны.
Гуси вернулись к пруду. Одни лениво покачивались на воде, другие кормились у берега. Когда Стэффорд проходил мимо, они подняли головы и отплыли. Его отец вышел из кирпичного строения с вилами в руках. Фетровая шляпа была сдвинута на затылок. Он поглядел на них.
— Что ты затеял? — спросил он, посмотрел на аппарат и, не дожидаясь ответа, пошел к сарайчику позади кирпичного строения.
— Мы думали, может, ты нас снимешь, — сказал Стэффорд, приглаживая волосы, и покосился на Колина.
— Мне некогда, — сказал мистер Стэффорд, скрылся в сарайчике и вновь появился с сеном на вилах. — Если тебе нечего делать, вычисти хлев.
— Так ведь надо только нажать, — сказал Стэффорд и пошел за ним, показывая ему аппарат.
— Твоя мать все еще сидит со своими дамами? — сказал мистер Стэффорд, оглянувшись на дом.
— Они уже разъезжаются, — ответил Стэффорд и протянул ему аппарат.
— Не приставай! Займись делом, а не вертись под ногами, — сказал мистер Стэффорд, поднял сено над головой и быстро зашагал к кирпичному строению.
Черты лица у него были крупные, нос длинный, мохнатые брови нависали над молочно-голубыми глазами. Его рот, когда он оглянулся на них, был раздраженно оскален.
— Ведь Дуглас же дома? Или Джон? — добавил он. — Так попроси их. Они все равно ничего не делают.
Стэффорд пожал плечами и отвернулся.
— Может, мама нас снимет, — сказал он. — Ну, неважно. Пойдем поглядим, не найдется ли чего-нибудь поесть, — добавил он.
Они пошли к дому.
— Все деньги идут его братьям. То есть то, что приносит завод. Будь у него больше денег, мы, наверно, купили бы ферму. — Он снова пожал плечами и добавил: — Хотя их у нас вроде бы достаточно.
Когда они вошли в кухню, там у стола стоял, нагнувшись, широкогрудый мужчина. У него были светлые волосы и крупные черты лица. Он поглядел на них и продолжал намазывать маслом кусок хлеба. Ему было лет двадцать с небольшим. Под мышкой он держал открытую книгу.
— А для нас что-нибудь осталось, Дуги? — сказал Стэффорд.
Мужчина покачал головой, зажал хлеб в зубах, перехватил книгу в руку, взял чайничек с заваркой и пошел к двери. Он нетерпеливо забормотал, стараясь не выронить хлеб, и дернул головой в сторону двери. Стэффорд подошел и открыл ее.
— Это Дуглас, один из моих братьев, — сказал Стэффорд. — Он студент, у него каникулы. Джон тоже тут. Он в отпуске.
— А сколько у тебя братьев? — спросил он.
— Четверо, — сказал Стэффорд. — Понимаешь, я самый младший. У нас разница в восемь лет.
Он открыл дверцу кладовой, заглянул внутрь, потом повернулся к двери, через которую ушел его брат.
— Мама! Поесть чего-нибудь найдется? — крикнул он, подождал ответа и мотнул головой. — Уехала, наверное. Она часто в это время уезжает, если есть кому подвезти.
Он позвал еще раз, подождал и вернулся в кухню.
— Можно сварить по яйцу. Ты яйца любишь? — Но он продолжал в нерешительности стоять у окна, глядя на задний двор, на своего отца, который снова вышел из сарая с сеном на вилах и понес их в хлев без крыши.
— Сколько у вас свиней? — сказал Колин.
— Ну, во-первых, Хрюк, — сказал Стэффорд. — А еще матка с поросятами. Их не то шесть, не то семь, а может, и больше. Я не считал.
В дверь заглянул мужчина, который раньше читал газету в маленькой комнате, увидел, что на кухне, кроме них, никого нет, и сразу ушел.
— Это Джон, — сказал Стэффорд, хмуро водя пальцами по столу. Вдруг он поднял голову и добавил: — Знаешь что, пошли ко мне. У меня там есть одна штука.
Он взял со стола фотоаппарат и вышел в холл.
В доме стояла тишина. Дверь в комнату, где раньше разговаривали женщины, была открыта. Там у камина сидел с книгой Дуглас, жевал хлеб и запивал его прямо из чайника.
— Закрой дверь, а? — крикнул он, когда они проходили мимо.
Стэффорд дернул дверь на себя. Когда они поднимались по лестнице, распахнулась входная дверь, на пороге, смеясь, появился высокий нескладный мужчина, снял фуражку военного летчика, повесил ее на колышек и что-то крикнул через плечо. Снаружи донесся ответ и тут же раздался женский смех.
— Мама дома, Нев? — спросил вошедший, снова крикнул что-то в открытую дверь и лениво поглядел на лестницу. Он был в форме военно-воздушных сил: туго затянутый пояс, пара крылышек на нагрудном кармане.
— Кажется, уехала, — сказал Стэффорд и добавил: — Ты в увольнении или что?
В дверь вошли две женщины и еще один мужчина. Первый, ничего не ответив, увел их в комнату в глубине холла. Дверь за ними закрылась, кто-то назвал какое-то имя, и снова послышался смех.
— Это Джефф, — сказал Стэффорд, глядя на дверь так, словно колебался, не пойти ли ему туда. — А старик даже не знает, что он приехал. Но может, он прислал телеграмму.
Они поднялись по лестнице. Стэффорд достал ключ, отпер дверь, и они вошли. Снизу донесся еле слышный крик, и грянула танцевальная музыка, но после нового крика музыка сразу стихла и сменилась неясным ропотом где-то возле лестницы.
Стэффорд закрыл дверь, положил аппарат на письменный стол и вытащил из ящика дощечку с ручками, стеклянной трубкой и мотками проводов. К ее краю были присоединены наушники.
— Сейчас настрою, — сказал Стэффорд. — Вот послушай.
Стэффорд начал водить проводком по прозрачному камешку в трубке, царапая кончиком его поверхность. Другой рукой он надел наушники на Колина.
В наушниках раздался слабый голос, потерялся в треске, замер, зазвучал громче и, наконец, сменился музыкой.
Стэффорд сидел у окна, смотрел наружу, брал наушники, когда наступала его очередь, но к уху прижимал только один, не отводя взгляда от кирпичного хлева.
— Хочешь, я тебе достану точно такой же? — сказал он. — Положишь под кровать и будешь слушать ночью. Когда кристалл сносится, заменишь на другой.
Он встал, подошел к двери, прислушался к звукам, долетавшим снизу, оглянулся на Колина и добавил:
— А они не знают, что Джеффри здесь. Он приезжает домой, как получит увольнительную, а где стоит его часть, не говорит.
Он стоял у двери, опираясь на нее и выставив ногу, словно ждал, что его сейчас позовут снизу.
— Дай я попробую настроиться на другую станцию, — сказал он наконец. Он оставил дверь открытой, вернулся к окну и сел, рассеянно посматривая в сад.
Потом, когда смех и голоса внизу стали громче, Стэффорд встал и вышел на площадку. Он перевесился через перила и глядел на двух мужчин в форме, на трех женщин в пальто и в шарфах, обмотанных вокруг головы, на двух других своих братьев — того, что читал книгу, и того, что читал газету. Мужчины надевали плащи и фуражки. Брат, читавший газету, по-видимому, уезжать не собирался: он остановился в дверях, а когда снаружи донесся шум заработавшего мотора, помахал рукой.
Наконец Стэффорд вернулся в комнату. Он сел на кровать.
— Хочешь, возьми его себе? — сказал он, вертя в руках приемник. — А я себе другой достану. Это просто.
— Я сам могу собрать такой, — сказал Колин.
— Знаешь, сколько времени их собирают? Бери этот, — сказал Стэффорд. — Сейчас отыщу коробку, чтобы тебе удобнее было его везти.
Он порылся в шкафу, потом под кроватью. В конце концов вывалил содержимое какой-то коробки на пол и боком всунул в нее дощечку детекторного приемника. Наушники он положил сверху.
— Оставь лучше себе, — сказал Колин.
— Да я же им почти не пользуюсь, — сказал Стэффорд. — А к рождеству мне настоящий подарят. Ну, и тогда мне этот совсем не нужен будет, — добавил он.
Колин ушел в семь. В комнате напротив входной двери накрывали на стол, из кухни доносился запах жареного мяса и овощей. Братья, двое мужчин в форме и три женщины уже вернулись. На столе стояла бутылка вина, а в соседней комнате, где были мистер и миссис Стэффорд, брат в форме и еще кто-то, чмокнула пробка, зазвенели рюмки и раздался смех, сразу оборвавшийся, когда Стэффорд вышел за ним на крыльцо и мать окликнула его от двери комнаты.
— Ты опять куда-то собрался, молодой человек? — сказала она. Из-за ее плеча выглядывали лица.
— Это малыш Невил, — сказал кто-то, и раздался смех.
— На станцию, — сказал Стэффорд.
— Через пять минут мы садимся обедать, — сказала миссис Стэффорд. — Какие еще станции?
Стэффорд пожал плечами и поглядел на Колина.
— Ты ведь знаешь дорогу на станцию? — сказала миссис Стэффорд и поглядела на Колина из глубины холла.
— Да, — сказал он и кивнул.
— Ну вот. А Невил, если уйдет, не вернется домой до ночи. Он вечно где-то шатается, — сказала она. — И не думай, — добавила она, поглядела на Стэффорда и скрылась в комнате.
Стэффорд снова пожал плечами. Он стоял на крыльце, сунув руки в карманы. Из дома доносились обрывки танцевальной музыки. У крыльца стоял автомобиль, а когда Колин пошел к воротам, в них въехала еще одна машина и запрыгала на ухабах, разбрызгивая лужи.
— Ну, пока! — сказал Стэффорд и взмахнул рукой.
— Пока! — крикнул он и, держа под мышкой коробку, пошел к шоссе.
У входа на платформу стоял другой контролер. Подошел поезд, почти пустой. Он сидел в купе один, смотрел на темнеющие поля за окном, а потом поглядел на коробку и провел пальцем по гладкому черному эбониту наушников Стэффорда. Некоторое время спустя он вынул их и надел. Оставив дощечку в коробке, он водил проволочкой по кристаллу и вертел ручку, но не услышал ничего, кроме треска. Поезд замедлил ход, за окном мелькали стоящие на платформе фигуры — станция. Он снял наушники и сидел, держа коробку на коленях. Всю дорогу от станции он бежал не останавливаясь. Отца дома не было. Мать мыла посуду в раковине и даже не обернулась. Он поднялся к себе в комнату, где уже спал Стивен, и в темноте начал водить по кристаллу, словно в надежде услышать звуки какого-то другого мира или отголоски того, в который ненадолго заглянул.
Они сидели в маленьком полукруглом бельэтаже — партер был виден даже из задних рядов. Ребята впереди швыряли вниз бумажки, а иногда спички. Капельдинерши светили фонариками между рядами, покрикивали в проходах, но без толку.
Одри и Мэрион сидели рядом между Стэффордом и Колином. В самом начале фильма Стэффорд положил руку на спинку кресла Мэрион, а через несколько минут сунул ладонь ей под мышку. Одри сидела рядом с Колином прямо и неподвижно. Локтем, опиравшимся на ручку, он задевал ее локоть. Ее колено на несколько секунд соприкоснулось с его коленом, а потом она отодвинулась или, быть может, он сам — он не понял кто.
Фильм мелькал и мелькал на экране между двумя занавесами. Когда он кончился, вспыхнул свет. Стэффорд снял руку со спинки кресла и вынул из внутреннего кармана портсигар.
— Закуришь? — сказал он небрежно и, наклонившись, протянул его Колину.
— Нет, спасибо, — сказал он и мотнул головой.
— Мэрион, радость моя? — сказал Стэффорд.
— Спасибо, радость моя, — сказала Мэрион.
— Одри, радость моя?
— Нет, спасибо, Невил.
Некоторое время они молчали. В фойе был буфет, и по проходу сновали ребята. Одну из дверей открыли, и в зал слабо проникал уличный шум. Под бахромой портьеры пробивалась полоска дневного света.
Стэффорд поднес зажженную зажигалку к сигарете Мэрион, потом к своей. Клубы дыма проплывали у самого лица Одри. Стэффорд снова положил руку на спинку кресла Мэрион.
— А картина так себе, — сказала Мэрион.
— Не спорю, — сказал Стэффорд и рассеянно, почти небрежно провел рукой по ее волосам, глядя на головы внизу.
— А как называется вторая? — сказала Мэрион.
— Не знаю, — сказал Стэффорд. Он мотнул головой и передвинул сигарету из одного угла рта в другой. Мэрион сжимала сигарету в пальцах, приложив руку к щеке. Она чуть выпятила губы и держала голову совершенно прямо.
— Хочешь чего-нибудь пожевать, Смитти? — сказал Стэффорд.
— Нет, спасибо, — сказала Одри и качнула головой. Когда зажгли свет, ее локоть медленно соскользнул с ручки кресла и прижался к боку.
— Хочешь, я схожу принесу чего-нибудь? — сказал Колин.
— Нет, спасибо, — сказала она еще раз.
— А тебе чего-нибудь принести, Колин? — сказал Стэффорд.
— Нет, спасибо, — сказал он.
Стэффорд поглядел на другие парочки: несколько мальчиков из их школы, несколько девочек из женской школы. Колин знал их только в лицо. Он сидел, упорно разглядывая складки тяжелого занавеса и головы внизу — почти все детские.
Стэффорд окликнул ребят впереди, и какой-то мальчик подошел к ним, оперся на спинку соседнего кресла и взял сигарету.
— Привет, радость моя, — сказала Мэрион.
— Привет, Мэрион, — сказал мальчик, нагнулся к зажигалке Стэффорда и тут же выпустил большой клуб густого дыма.
— Ты разве сегодня не с Ширли? — сказала она.
— Сегодня я с Айлин, моя дорогая, — сказал он и подмигнул Стэффорду. Стэффорд засмеялся.
— Я бы ее поостереглась, лапочка, — сказала Мэрион, неторопливо затягиваясь. Она держала сигарету у рта так, словно целовала себя в ладонь. Мальчики продолжали смеяться. Она скрестила ноги, и Стэффорд, глядевший вниз, положил руку ей на колено. — Ну-ну, дорогой мой! — сказала она и, зажав сигарету в губах, отодвинула его руку.
Свет погас. Начался второй фильм, и Мэрион откинулась на спинку. Когда Колин покосился в ту сторону, он увидел, что их головы прижаты друг к другу. Тлеющие кончики зажатых в пальцах сигарет краснели над ручками кресел.
Он придвинул локоть к локтю Одри и уставился на экран.
Когда они вышли на улицу, Стэффорд сказал:
— Ну что, погуляем или выпьем чаю?
— А где же подают чай в такое время? — сказала Мэрион.
— У рынка есть местечко, куда я иногда заглядываю, — сказал Стэффорд. Он обнял Мэрион за талию, но она одернула пальто и сбросила его руку.
— Нет, правда, если нас увидят на улице, нам такую головомойку устроят! Мисс Уилкинсон, во всяком случае, этого так не оставит, — сказала она. — Скоро добавят правило, чтобы мы в школьной форме не смели даже разговаривать с мальчиками. Верно ведь? — Она обернулась к Одри.
Они шли парами, Стэффорд с Мэрион впереди, и темноволосая девочка часто оглядывалась на подругу и что-нибудь ей говорила. Обсуждали они главным образом своих одноклассниц и мальчиков, о которых знали из их разговоров.
— Берут подстилку и идут в Братлейскую рощу. Нет, правда, если их кто-нибудь увидит, их сразу исключат.
— У меня тоже есть подстилка, — сказал Стэффорд.
— Ну, меня это не интересует, — сказала Мэрион. — Нет, правда, дай им палец, и они всю руку отхватят.
Они подошли к рынку. Укрытые брезентом прилавки тянулись перед кирпичным зданием старинных торговых рядов — за их арками виднелись еще прилавки, освещенные газовыми фонарями. По углам площади разместились четыре крохотных магазинчика. В окне одного из них были выставлены плюшки. Продавщица разливала чай.
— Ну, так как же, дамы? — сказал Стэффорд. — Нет, нет, старина, я угощаю, — добавил он, когда Колин начал шарить у себя в карманах, хотя денег у него все равно не было — ничего, кроме обратного билета.
Они стояли у прилавка, пили чай и ели плюшки.
— Ну и как же, дамы, мы проведем время в следующую субботу? — сказал Стэффорд. Он стоял с чашкой посреди тротуара, и прохожие обходили его по мостовой.
— Мы с Одри проведем его прекрасно, верно, Одри? — сказала Мэрион. — А про вас с Колином я не знаю, — добавила она со смехом и поставила чашку с блюдцем на прилавок.
— Сердца в них нет, Колин, — сказал Стэффорд.
— Просто мы ни с кем не хотим идти, верно, Одри? — сказала Мэрион.
Одри тряхнула головой. На ней было светлое пальто с меховым воротником. Рукава были тоже оторочены мехом. Кончики ее прямых волос были подвиты. Мэрион была в жакете с косыми карманами. Голову она обмотала шелковым шарфом.
— Вы же не знаете, какие еще приглашения мы получили, — верно, Одри? — сказала Мэрион.
Одри отпила только несколько глотков чая, а плюшку, которую ей принес Стэффорд, она не тронула вовсе. Когда они собрались идти, Колин спросил ее, можно ли ему взять эту плюшку.
— Конечно, бери. Я не хочу есть, — сказала она, обрадовавшись его просьбе.
Он доедал плюшку на ходу. За рынком они попали в густой поток прохожих — девочки шли под руку, а Колин и Стэффорд по бокам, если их не оттирали встречные.
— Не желаешь ли прогуляться по парку, радость моя? — сказал Стэффорд.
— Это тебе хочется там гулять, и мы знаем почему. Верно, Одри? — сказала Мэрион.
Одри посмотрела на Колина и улыбнулась.
— У этого молодого человека только одно на уме, — добавила Мэрион.
Одри засмеялась и тряхнула головой. Ее волосы взметнулись над воротником. Улицы города теперь заполнялись толпами. На тротуарах становилось тесно, и люди шли по мостовой.
— Мы могли бы созерцать деревья, не говоря уж об утках и иных принадлежностях нетронутой природы, — сказал Стэффорд.
— Нет, вы послушайте, как он выражается, — сказала Мэрион. — Вот к чему приводит изучение латыни!
— А вы разве не учите латынь? — сказал Стэффорд.
— Одри учит. А я занимаюсь современными языками, — сказала Мэрион.
Они прошли через центральную площадь и начали спускаться к вокзалу по крутому, мощенному булыжником проулку. Девочки теперь шли впереди. Здесь прохожих было относительно немного.
— Мы смотрим на твои ножки, Мэрион, — сказал Стэффорд.
На Мэрион были чулки со швом, на Одри — белые гольфы.
— Я бы попросила вас глядеть на что-нибудь другое, — сказала Мэрион. Юбка закрывала ее ноги до половины икры.
— А на что другое? — сказал Стэффорд.
— Будь ты джентльменом, радость моя, тебе не нужно было бы спрашивать, — сказала Мэрион, слегка покачивая юбкой.
— Я мог бы смотреть и повыше, но ведь мы видим только твою спину, лапочка, — сказал Стэффорд.
— Обойдешься, радость моя, — сказала Мэрион и крепче прижала локоть Одри. — Верно, Одри, дорогая? — добавила она.
Они подошли к лестнице, которая вела на привокзальную площадь.
— И вообще нас ждут дома к чаю, верно, лапочка? — Мэрион повернулась к лестнице, и они с Одри быстро взбежали по ступенькам.
— Послушайте, по лестнице надо подниматься осторожнее, — сказал Стэффорд. — Вы и не представляете, сколько показываете тем, кто идет сзади.
Но девочки только крепче сцепили руки и, лавируя между такси, со смехом побежали через площадь к черному каменному вокзалу. Он был низкий, с островерхой крышей, каменной башенкой, увенчанной часами, и широким железным навесом. Девочки скрылись внутри.
— А когда поезд? — спросил Колин.
— Обычно мы ездим пятичасовым. Но наверное, народу будет много, — сказал Стэффорд. — Вот четырехчасовой часто отходит почти пустой, и можно занять все купе. — Он покосился на него. — А ты разве не поедешь?
— У меня нет денег. Только обратный билет на автобус.
— Я тебе одолжу. Я сейчас богатый, — сказал Стэффорд. — Отдашь, когда сможешь. — Он взял его за локоть и добавил: — Они же думают, что ты с нами едешь.
Он уступил, и Стэффорд купил ему билет. Через калитку в деревянном барьере они прошли на перрон. Девочки ждали в дальнем его конце. Они стояли на тележке носильщика и глядели через ограду на улицу внизу. Через туннель под вокзалом проезжали двухэтажные автобусы.
За концом перрона рельсы пологой дугой уходили к реке. Вдали виднелась широкая панорама лесистых холмов, начинающихся чуть ли не от самой окраины города. Среди них кое-где вставали терриконы.
— А ну, поглядим, во что вы сумеете попасть, — сказал Стэффорд и протянул девочкам несколько медяков.
— Мне не нужно, — сказала Одри и отдала монеты Колину.
Мэрион уже перегнулась через перила. Она уронила медяк, и они смотрели, как он, подпрыгнув, покатился по булыжнику вниз. Стэффорд уронил свой медяк: он ударился о крышу автобуса и отлетел на мостовую. Девочки засмеялись и отдернули головы.
— Нет, правда, радость моя, если ты не перестанешь, они сюда придут, — сказала Мэрион. Она бросила второй медяк и засмеялась, потому что прохожие внизу, услышав звон монеты, начали задирать головы.
— Так ведь можно и поранить кого-нибудь, если попасть в голову! — сказала Одри.
— Мы же их не бросаем, а только роняем, верно, лапочка? — сказал Стэффорд.
Показался поезд. Паровоз, пыхтя, замедлил ход и встал перед мостом.
Из первого купе вышли два человека, и Стэффорд быстро прыгнул туда. Он спустил шторки на окнах, а когда они вошли, закрыл дверь и запер ее.
— Садитесь возле окон, девочки, — сказал он. — Так, будто все места заняты.
Он опустил окно и осторожно выглянул наружу.
— Надо озабоченно вертеть головой, тогда никто сюда не войдет. Подумают, что полно, — сказал он, тревожно оглядывая перрон. Вдоль поезда хлопали двери. Раздался гудок. Поезд дернулся, пошел, снова почти остановился, потом, набирая ход, прогромыхал по мосту. Сквозь стенку доносился перестук паровозных рычагов.
— Ну и темнота! Кто это? — сказал Стэффорд. Он поднял окно, спустил штору и теперь шарил рукой по диванчику.
Девочки завизжали.
— Эй, Колин, поди сюда, помоги мне, — сказал он.
Девочки снова завизжали.
— Чья же это рука? — сказал Стэффорд. — Э-эй! — добавил он. — Я нашел какую-то ногу!
Мэрион взвизгнула.
Колин обнаружил, что обнимает Одри. Он притянул ее к себе, прижался губами к ее щеке, потом снова — но на этот раз поцеловал ее волосы.
Он услышал, что она смеется.
Она попыталась отодвинуться. Он крепче сжал руки. На секунду их губы встретились.
Колеса загрохотали — поезд шел по глубокой выемке.
Потом грохот стих.
— Нет, правда, — сказала Мэрион из дальнего конца купе. — На это я не согласна.
Шторка взвилась вверх.
В купе хлынул дневной свет.
— Нет, правда, он жуть какой, — сказала Мэрион. Она прижималась к стенке. Стэффорд лежал, вытянувшись во всю длину диванчика.
Колин отпустил Одри, откинулся на спинку, покосился на Одри и снова посмотрел на Стэффорда.
— Я пересяду к тебе, Одри, — сказала Мэрион, проскользнула мимо протянутой руки Стэффорда и упала на диванчик рядом с Одри. — Нет, правда, они жуть какие, ведь верно? — сказала она.
Стэффорд встал на колени и протянул руку к шторке.
— Ну-ка, посмотрим, что мы найдем на этот раз, — сказал он, опустил шторку и закрепил ее. Мэрион и Одри снова завизжали. Колин почувствовал, что к нему кто-то прижимается, и протянул руку.
Его ладонь дотронулась до локтя Одри, он обнял ее за талию, наклонил голову, нашел ее губы, и они прильнули друг к другу, но их тут же начала толкать Мэрион.
— Нет, правда, — сказала Мэрион, — он жуть что такое! — и снова взвизгнула, гораздо громче, чем прежде.
— Пощупай-ка, — сказал Стэффорд. — Вот, оказывается, что на ней надето.
Шторка взвилась вверх.
— Нет, правда! — сказала Мэрион. Лицо у нее было красное. Она одернула юбку и застегнула жакет. Потом подняла вторую шторку, перешла к окнам напротив и подняла остальные шторки.
Стэффорд откинулся на спинку. Он пригладил волосы и начал насвистывать, рассеянно глядя на поля, проносящиеся под насыпью.
Они въехали на мост. Темная лента воды извивалась между низкими полузатопленными берегами.
— Нет, правда, он такой жуткий! — сказала Мэрион. Она достала гребешок из кармана, встала перед одной из застекленных картин, которые украшали купе, и начала причесываться.
Одри сидела рядом с Колином, положив руки на колени. Она смотрела мимо него в окно напротив, за которым, точно зубчатый хребет, вырисовывался силуэт города.
— Ты сойдешь в Сэкстоне? — спросил Стэффорд.
— Да, — сказал он. — Зачем же мне дальше ехать.
— Ну, так и я там сойду, — сказал Стэффорд.
— Только послушайте его! Обиделся! — сказала Мэрион. — Ему же оттуда десять миль идти.
— А ты где сходишь, Одри? — спросил Колин.
— В Дрейтоне, — сказала она. Это была одна из станций за их поселком.
— Значит, мне возвращаться домой с этим лапальщиком, — сказала Мэрион. — Разве что он сойдет в Сэкстоне со своим дружком.
— Может, и сойду. А может, и не сойду, — сказал Стэффорд.
— Нет, правда, он жуть что такое. От него всего ждать можно, — сказала Мэрион. Она села в дальнем углу.
— Держись от меня подальше! — добавила она, когда Стэффорд пересел к ней.
Он некоторое время сидел, скрестив руки и посматривая то на Одри, то на Колина.
— Нет, правда, я же ничего не делал. И почему она рассердилась?
— На свету-то конечно, — сказала Мэрион.
— Давайте спустим шторки. У меня от света глаза болят, — сказал он.
— Через мой труп, лапочка, — сказала Мэрион.
Некоторое время они молчали. Поезд подошел к станции. Захлопали двери. Раздался гудок.
Вдоль платформы заклубился дым.
Вагон дернулся. За окнами опять поплыли огороженные поля.
— Нет, правда! — снова сказала Мэрион, когда Стэффорд поднял руку и осторожно обнял ее за талию. Он поцеловал ее в щеку.
— Ну вот, радость моя. Я же ничего плохого не думал.
— Что-то это было совсем не так, радость моя, — сказала Мэрион.
— Зато ведь теперь так, радость моя, — сказал Стэффорд и еще раз поцеловал ее в щеку.
Мэрион повернулась к нему. Сплетя руки, они молча целовались.
Колин обнял Одри одной рукой. Он почти не прижимал ее к себе и боялся взглянуть на нее, боялся увидеть ее лицо. Они не отрываясь смотрели на поля и изгороди, слегка покачиваясь в такт подрагиванию вагона.
Поезд снова остановился. Стэффорд в тревоге прыгнул к двери. Он старательно высовывался из окна, пока не раздался гудок, а тогда упал на сиденье, протягивая руки к Мэрион. Когда поезд тронулся, они уже молча целовались.
За окнами опять тянулись поля, потом промелькнул копер. Поезд прогрохотал по выемке, откосы заволокло паром.
Наконец за окнами по обеим сторонам появились поля, примыкающие к Сэкстону. За гребнем поднялся террикон.
— Мне сходить, — сказал Колин и стоя ждал, пока Стэффорд искал его билет. Едва поезд нырнул в узкую выемку, он подошел к двери.
— Ну, пока, — сказал он и, покраснев, кивнул. Стэффорд обнимал Мэрион одной рукой и даже не повернул головы.
— Ты здесь сходишь, лапочка? — сказала Мэрион, словно только сейчас заметила, что он стоит у окна, опускает стекло, нащупывает ручку. — Ты что же, не поцелуешь Одри на прощание?
Он быстро нагнулся и чуть дотронулся губами до ее щеки.
— Ну, пока, — сказал он, сошел на платформу, захлопнул дверь и поглядел внутрь.
Одри сидела все так же. Раскрасневшаяся, с растрепавшимися волосами, она смотрела на него из глубины купе. Он скосил глаза на платформу, с нетерпением дожидаясь, чтобы поезд тронулся. Мимо прошел контролер, подергал дверь и пошел дальше, проверяя другие двери.
Наконец впереди махнули флагом. Раздался гудок. Паровоз тронулся, и платформа задрожала.
— Что ты тут делаешь? — сказала она.
— Да так. Подумал и приехал, — сказал он.
Она прислонилась к калитке и поглядела назад, на дорогу, ведущую к дому.
— Мама тебя первая увидела, — сказала она. — И спрашивает: «Что это за молодой человек там катается взад и вперед?»
— Да я просто хотел мимо проехать, — сказал он.
— А чей это велосипед? — сказала она.
— Нашего соседа. — И добавил: — Он мне его часто дает. Они за стеной живут.
Шоссе здесь огибало вересковый пустырь. Напротив, выше по склону, точно межевые камни, торчали дома. Ее дом стоял в стороне, среди деревьев. От шоссе его отделяло поле ревеня. Зажатая между живыми изгородями дорога, которая вела от шоссе к дому, была вся в глубоких рытвинах. Там и сям на ней блестели лужи.
— Может, поедем куда-нибудь. — Он выжидающе замолчал.
— А куда?
— Куда хочешь. Только я далеко не могу. Мне через час надо быть дома. — Он снова замолчал. — Или я оставлю велосипед тут и пройдемся немножко?
— Я не очень-то люблю ходить, — сказала она.
Встав на перекладину, она раскачивала калитку. На ней было пальто. Волосы были стянуты у затылка в «конский хвост».
По шоссе за пустырем проехал автобус и остановился возле домов. Из него вышло несколько человек. Она поглядела туда.
— Ты давно видела Мэрион? — сказал он.
— Мы вчера катались верхом. — Она неопределенно махнула в сторону дома. — И она осталась пить чай.
От автобусной остановки к ним шел мужчина в галифе. Колин узнал ее брата.
— Привет, Одри, — сказал он, посмотрел на нее мимо Колина и толкнул калитку. — Не боишься нажить неприятности?
— А тебе какое дело? — сказала она.
— Смотри, не попадайся старикам, — сказал он, кивнул на дом и зашагал к нему, равнодушно ступая прямо по лужам.
— Джонатан, — сказала она и ткнула пальцем себе за спину. — Он тоже с нами ездил, — добавила она.
— Может, сходишь за своим велосипедом? — сказал он.
— Откуда ты знаешь, что у меня есть велосипед? — сказала она.
— Да я не знаю, — сказал он. — Просто подумал.
— Хочешь, встретимся сегодня вечером, — сказала она медленно, облокачиваясь на калитку.
— А где?
— Я в церковь поеду, — сказала она. — И Мэрион тоже. Ну, так после службы.
— А в какую церковь?
— Святого Олафа.
— Это где?
— В Брайерли. Я туда на автобусе езжу.
Значит, семь миль, прикинул он. На велосипеде меньше чем за час не добраться.
— А когда служба кончается? — сказал он.
— Иногда в половине восьмого, иногда в восемь, — сказала она.
— Может, я и приеду, — сказал он и повернулся к велосипеду.
— Я тебя провожу немножко, — вдруг сказала она и спрыгнула с калитки. Потом беспокойно оглянулась на дом и добавила: — Они ведь смотрят.
Она шла рядом с ним, взмахивая полами пальто. Он вел велосипед по краю дороги.
Когда они поравнялись с автобусной остановкой, она снова оглянулась на свой дом.
— Пожалуй, я пойду назад, — сказала она. Щеки у нее покраснели. Она взглянула на дома выше по склону, словно ей не хотелось, чтобы кто-нибудь из знакомых увидел, как она с ним разговаривает.
— Может, я подъеду к церкви, — сказал он.
— Я позвоню Мэрион, — сказала она. — Чтобы она позвонила Стэффорду.
Он сел на велосипед.
— Ну, пока. — добавила она и помахала рукой, уже не глядя на него. На вершине холма он обернулся — она закрывала калитку и бежала по дороге к дому.
— Я тебя везде чуть не час искал, — сказал отец.
— Я ездил к Стэффорду, — сказал он.
— Это еще для чего?
— За учебником. — Он захватил учебник с собой из дома, а теперь вынул его из-за пазухи и бросил на стол. — Он мне нужен, чтобы сделать каникулярные задания, — сказал он.
Отец несколько секунд смотрел на учебник.
— И ты только туда ездил? — сказал он.
— Быстрее я не мог, — сказал он.
Отец покачал головой и ткнул пальцем в сторону двери.
— Твой братишка весь изревелся. Он же любит, чтобы ты с ним играл, сам знаешь.
— Я торопился как мог, — сказал он.
— Есть вещи поважней учебников! — сказал отец и добавил: — А миссис Шоу хватает хлопот с Ричардом, сам знаешь.
Мать была больна. Она лежала в больнице — ее увезли туда на второй день. Когда отец уезжал на работу, Колин присматривал за Стивеном и Ричардом. Но сегодня, решив съездить к Одри, он отвел Ричарда к миссис Шоу, а Стивена оставил играть на пустыре. В кухне все было прибрано. Перед тем как уехать, он вымыл посуду, подмел пол и застелил кровати. Он был уверен, что обернется за час.
— Я же объяснил мистеру Шоу, — сказал он. — Когда просил у него велосипед.
— Ну, а мистера Шоу сейчас нет дома, — сказал отец и нагнулся к очагу с зажженной спичкой. Стивен, который плакал на крыльце, вошел в кухню, сел на стул и принялся тереть глаза. Из-за стены, от миссис Шоу, доносились долгие пронзительные вопли Ричарда.
Колин взял учебник: он вспомнил, что на титульном листе написана его фамилия.
— Я обещал приехать вечером, если буду свободен, — сказал он.
— Куда это? — сказал отец и обернулся к нему.
— К Стэффорду.
— А что там у Стэффорда такое, чтобы к нему шляться?
— Я сказал, что приеду, если не буду тебе нужен дома, — сказал он.
— А ты мне нужен. Что же, по-твоему, я один тут должен вертеться? — сказал отец.
— Я просто подумал, что, может, ты сегодня останешься дома. Мне нужно проверить одну работу, — сказал он.
— Вот и проверяй ее тут. — Отец обвел рукой кухню, вдруг заметил, что пламя разгорелось слишком сильно, и прикрыл его газетой.
Некоторое время он стоял у очага.
— Не так уж много мы от тебя просим, — добавил он.
— Я же тебе всегда помогал.
— Угу, — сказал отец. — А сколько раз тебе напоминать приходилось?
Он сдернул газету. Пламя снова взвилось кверху.
— Чего ты столько угля наложил! Сейчас же лето, — добавил он.
Вечером отец собрался на работу. Колин проводил его до двери.
— Ты же сам соображать должен, — сказал отец на прощание. — У тебя два малыша на руках. Ну, и нечего шляться.
Отец запер дверь на улицу и взял ключ с собой.
Он накормил Стивена и уложил его. Ричард уже крепко спал за сеткой своей кроватки.
Он закутал Стивена в одеяло, прочел ему сказку, а потом сидел и ждал, чтобы он заснул. Было почти восемь.
Он постучался к миссис Шоу.
— Вы за ними не присмотрите? — сказал он. — Мне нужно съездить к другу за учебником.
— Что это тебе вдруг столько учебников понадобилось! — сказала миссис Шоу.
— Можно я еще раз возьму велосипед мистера Шоу? — добавил он.
— Это, голубчик, ты уж у него спроси, — сказала она.
— Придется мне брать с тебя за износ покрышек, — крикнул из кухни мистер Шоу. — То на ферму ездишь, то теперь за учебниками. Ты с ним все-таки поаккуратней, — добавил он.
— А отцу ты говорил, что поедешь? — спросила миссис Шоу, выходя за ним во двор.
— Я говорил, что, может быть, съезжу. Я постараюсь побыстрей, — сказал он.
Он поехал через двор. Миссис Шоу стояла на крыльце с ключом в руке и смотрела ему вслед.
До церкви он ехал почти час. Она стояла у перекрестка на некотором расстоянии от Брайерли. Позади нее был большой помещичий дом, где размещалась воинская часть. Дом и церковь окружала одна невысокая каменная ограда.
На ней сидели солдаты. Солнце заходило, и от деревьев у шоссе тянулись длинные тени. Двери церкви были закрыты. Его никто не ждал.
Он поехал по шоссе к ферме от одной автобусной остановки к другой. Его с ревом обогнала машина и унеслась вперед, оставляя за собой шлейф пыли. Когда он въехал на холм над фермой, время близилось к половине десятого. Он скатился по вересковому склону и медленно проехал мимо калитки. Ни во дворе, ни на дороге никого не было видно. Деревянная калитка была заперта.
Он вернулся, слез с велосипеда и некоторое время смотрел на дом.
Из-за гребня выехал автобус и затормозил у остановки. Из него, смеясь, вышли несколько человек, помахали оставшимся в автобусе и пошли через пустырь. Автобус проехал мимо, за темными стеклами маячили бледные лица.
Он сел в седло, прислонился к калитке и продолжал смотреть на дом.
Смеркалось. Солнце спряталось за цепь холмов.
Он еще подождал у калитки, потом включил фонарики и медленно въехал вверх по холму. На гребне он снова остановился и долго смотрел на ферму, потом пустил велосипед вниз по противоположному склону.
Ему показалось, что они втроем поднимаются по склону навстречу, но, приблизившись к смутным фигурам, он увидел мужчину, женщину и ребенка. Он поехал дальше, медленно крутя педали. У него не оставалось никаких сил, и он ничего не чувствовал.
— Значит, ты все-таки сделал по-своему, — сказал отец, разбудив его. Он увидел, что кровать Стивена пуста. А ведь он собирался встать пораньше и приготовить отцу завтрак, чтобы предупредить расспросы о том, что было вчера.
— Я немножко проехался, — сказал он.
— А послушать миссис Шоу, так ты почти три часа пропадал.
Отец ополоснул лицо, но вокруг глаз остались черные ободки. Он еще не переоделся и даже не снял длинного плаща, из кармана которого торчала свернутая кепка. Его лоб над самыми глазами пересекал красный рубец от ее края.
— Стивен на кухне с огнем балуется. Ричард в кроватке кричит благим матом. Это, по-твоему, значит приглядывать за братьями? Не успею отвернуться, а ты уже удираешь куда-то. Ты взрослым считаешься, не то я задал бы тебе хорошую трепку. Мать больна, я на работе, а ты шляешься неизвестно где, хоть я тебя предупредил, чтобы ты сидел дома.
— Мне нужно было проверить то задание, — сказал он.
— Задание? Какое задание? За уроки можешь и потом сесть. — Он добавил: — До конца каникул еще полтора месяца. Валяешься тут в кровати.
— Я же хотел устроиться на работу, — сказал он.
— Тебе пока работы и здесь хватит, малый. За братьями приглядывать. Я, как переоденусь, поеду в больницу. А о чем мне по дороге думать? О том, что у тебя и минуты не находится помочь нам?
— Так я же помогаю, — сказал он.
— От такой помощи как бы нам еще хуже не стало, — сказал отец.
Когда он спустился вниз, отец умывался под краном. Стивен сидел на стуле и смотрел, как он надевает брюки, потом жилет — на мочке его уха еще белел клочок пены, оставшейся после бритья.
— Он со мной просится, — сказал отец, показывая на Стивена. — Никак ему не втолкуешь, что детей туда не пускают.
— Пап, я снаружи подожду, — сказал Стивен.
— Откуда я знаю, что тебе там в голову взбредет? — сказал отец. — Если ты на брата похож, тебя сразу след простынет.
— Я никуда не уйду, — сказал Стивен и пошел за своей курточкой. — Я буду стоять, где ты велишь, — добавил он, вернувшись, и наклонил голову, чтобы удобнее было вдеть руки в рукава.
— Нет, ты с Колином останешься, — сказал отец. — Мне и без того забот хватает.
Стивен побелел и заплакал, не спуская глаз с отца.
— Реви сколько влезет, — сказал отец. — Я тебя все равно не возьму. Правила ведь не зря придумывают.
Однако в дверях он оглянулся на Стивена. Ричарда он уже увел к миссис Шоу.
— Ну ничего, я скоро вернусь, — сказал он, глядя, как Стивен уткнулся лбом в спинку стула. — И может, я что-нибудь привезу, если ты будешь умником, — добавил он и поглядел на Колина. — Это и к тебе относится. Не вздумай опять шляться. Накорми его обедом, и Ричарда тоже. На миссис Шоу всего не сваливай. И посмотри в буфете.
Когда отец уехал, он увидел кастрюлю с уже почищенным картофелем. Промытая капуста лежала в дуршлаге. В буфете он нашел четыре колбаски с запиской сверху: «Для воскресного обеда». Значит, отец вернулся даже раньше, чем он думал.
Он поиграл со Стивеном, потом зашел за Ричардом, посадил его в креслице на колесах и отправился с ними в Парк.
— Твой отец очень рассердился, — сказала миссис Шоу. — Из-за вчерашнего. Лучше бы ты не бросал их одних, — добавила она.
— Угу, — сказал он и пошел через двор.
— А с обедом у тебя все в порядке, голубчик? — спросила она.
— Угу, — сказал он.
— Может, помочь надо? — сказала она, глядя им вслед.
В Парке почти никого не было. Он посадил Ричарда на качели и легонько его покачивал. День был ясный, и солнце озаряло весь склон. Кое-где над полями низко висела туманная дымка. В одном месте полоса тумана закрывала железнодорожную насыпь, которая, точно крепостной вал, загибалась к дальнему лесу. Ближнее поле только что сжали, и люди там укладывали снопы в копны, а где-то дальше слышался глухой дребезжащий стук трактора. Над поселком, точно воздушный шар, плыло от шахты большое круглое облако дыма.
В Парке были одни ребятишки. Только выше по склону какой-то мужчина косил траву. По шоссе громыхали грузовики, со стороны шахты доносилось пыхтение паровой машины, сбоку, почти загороженный склоном, торчал верх копра, там вращалось колесо с невидимыми спицами.
Стивен куда-то убежал. Колин сел на качели и медленно покачивался, отталкиваясь носком ботинка от земли. На мгновение ему представилось, что мать умерла, а отец все время на работе или, того хуже, вообще куда-то уехал. Что с ними тогда будет? Он посмотрел на Ричарда, на крохотные, крепко сжатые кулачки, на льняные волосы, на маленькое сосредоточенное лицо, то приближающееся, то удаляющееся в такт замирающему движению качелей.
По насыпи медленно шел поезд под длинным вымпелом темного дыма. Вдали над его видимыми терриконами и трубами тоже поднимался дым. У подножия склона, на ровном участке, примыкавшем к железной дороге, мальчишки гоняли мяч. Около декоративного пруда девочки играли вокруг детской коляски.
Он снова раскачал Ричарда, потом усадил его на лошадь-качалку. Косарь шел поперек склона, ритмично взмахивая косой. Иногда он кричал на ребятишек, разбрасывавших валки, или останавливался и отбивал косу, рассеянно поглядывая на лес вдали.
На гребне появились три фигуры. Две сидели на велосипедах, третья стояла, опираясь на велосипед, и махала рукой. Ветер донес его имя.
Стэффорд, продолжая махать, вскочил на велосипед и покатил вниз по склону, сидя боком на раме и широко расставив локти.
— Мы заезжали к тебе домой, — сказал он, соскакивая на землю. — Соседка сказала, что ты, наверное, тут.
Подошел Стивен и ухватился за его руку.
— А почему ты вчера не приехал? — сказал Стэффорд.
— Не выбрался, — сказал он и мотнул головой.
— Когда кончилась служба, мы подождали у церкви. Потом поехали к Мэрион, — сказал Стэффорд. — Ее отец развез нас по домам, — добавил он и показал на вершину холма. — Вон они обе. Мы подумали, может, тебе дадут велосипед.
— Мне за братьями надо присматривать, — сказал он.
— А нельзя их к кому-нибудь отвести? — сказал Стэффорд.
— Еще нужно для них обед приготовить, — сказал он.
— А мы захватили бутерброды. Чтобы устроить пикник. Можно поехать в лес Брайерли. Мы бы там здорово время провели, — сказал Стэффорд.
— Колин, — сказал Стивен и потянул его за рукав.
— Мне же надо за ними присматривать, — сказал он.
У него за спиной заплакал Ричард, вдруг заметив, что рядом никого нет.
— Они специально за тобой приехали, — сказал Стэффорд и снова кивнул в сторону холма. — И все Одри. Это она придумала, — добавил он.
Колин взглянул туда. Мэрион что-то кричала. Она замахала рукой.
Он пошел к качалке, снял Ричарда и посадил его в креслице.
— Нет, правда, что, тебе обязательно надо за ними присматривать? — сказал Стэффорд.
— Маму в больницу положили, — сказал он.
— А что с ней? — сказал Стэффорд. Он поглядел на колеса велосипеда и начал выдергивать сухие травинки, застрявшие между спицами.
— Не знаю, — сказал он.
— А ты оставь их у соседки, — сказал Стэффорд. — Ей что, трудно один раз за ними приглядеть?
Он мотнул головой я снова посмотрел на холм. Он услышал свое имя. Мэрион опять замахала. Одри нагибалась над велосипедом почти у самых ворот.
Он покатил креслице вверх по склону. Стэффорд ехал по дорожке, привстав, чтобы легче было крутить педали.
Сторож в деревянной будке засвистел и замахал палкой. Стэффорд соскочил и подождал Колина.
— Она очень хочет, чтобы ты поехал. Что нам там втроем делать? — добавил он.
Стивен шел сбоку, держась за креслице. Одри, словно потеряв всякую надежду, уже повернула велосипед к воротам.
— Ты что, сегодня в дочки-матери играешь? — сказала Мэрион, когда он выбрался на гребень. Она поглядела на заплаканное лицо Ричарда, потом на Стивена — он тоже захныкал, словно почувствовав опасность.
— Сегодня я не могу, — сказал он, крепко сжимая ручку креслица.
— Нет, правда, они оба твои? — сказала Мэрион. Она засмеялась, наклонив голову. Ее черные волосы были стянуты лентой на затылке. Одри, словно ей хотелось остаться незамеченной, уже выкатила велосипед за столбы ворот.
— Мне надо присматривать за братьями, — сказал он, мотнул головой и остановился, не зная, пойти ему за Одри или нет.
— Нет, правда, мы тебя подождем, — сказал Стэффорд. — Отвел бы ты их к какой-нибудь родственнице. Кто-нибудь же у тебя есть?
— Нет, — сказал он и мотнул головой.
— Ну, тогда мы, пожалуй, поедем, — сказал Стэффорд. — Это Одри придумала, — добавил он снова.
Мэрион повернула велосипед.
— Нет, правда, ты бы с ней хоть поздоровался, — сказала она.
Колин покатил креслице к воротам. Одри у обочины уже готовилась сесть на велосипед.
— Я сегодня не могу, — сказал он. И добавил: — Я вчера вечером приезжал. К церкви. Только опоздал. Потом я поехал к твоему дому. Но Стэффорд говорит, что вы были у Мэрион.
— Да, недолго, — сказала она.
Она поглядела на Стивена, на дыры в его свитере, на обтрепанные рукава. Носки у него сползли, он хлюпал носом. Ричард, правда, выглядел чистеньким, но он опять плакал и тряс креслице.
— Сегодня мне надо присматривать за братьями, — сказал он, а Стэффорд крикнул:
— Нам пора, лапочка.
— А то бутерброды зачерствеют, — сказала Мэрион.
— Я постараюсь выбраться как-нибудь вечером, — сказал он.
— Маме не нравится, что ты бродишь около дома, — сказала она. Она села на велосипед. Стэффорд и Мэрион уже катили под уклон. — Она говорит, что это неприлично.
— Лучше прямо зайти за тобой? — спросил он.
Она покачала головой.
— Мы как-нибудь еще приедем, — сказала она, оттолкнулась и медленно отъехала, а потом перестала крутить педали и покатила вниз по склону.
— Не понимаю я тебя, — сказал отец, когда вернулся домой. — Мать больна, а ты ничего делать не хочешь, чтобы помочь. Можно подумать, что тебе надоело жить с нами.
Он стоял неподвижно в дальнем углу и не отвечал.
— Язык у тебя отнялся или как? — добавил отец.
— Ну, а что я могу сказать?
— Ты можешь сказать, что я зря про тебя так думаю. Да мало ли что ты можешь сказать, — ответил отец. — Мне вот уже пора опять на работу, а я сегодня даже не прилег. Ты про это для начала и скажи.
— А мне нечего про это говорить. — Он пожал плечами.
— Потому и нечего, — сказал отец, — что это правда.
Мать вернулась домой только через три недели. Она сама настояла на том, чтобы ее выписали, хотя еле держалась на ногах. Отец дал в больнице расписку, что берет ответственность на себя.
— Уж лучше я тут ничего делать не буду, чем там, — сказала она. — Лежать на спине я и дома могу.
Но вернулся к ним словно кто-то другой. Ее мать и отец оба умерли перед самой пасхой, и после похорон она словно начала таять и как-то, когда он был в школе, упала в кухне без сознания. На следующий день отец отвез ее в больницу. Теперь, вернувшись, она весь день сидела молча где-нибудь в углу, а по ночам ворочалась без сна на двуспальной кровати. Теперь вся домашняя работа легла на него: по понедельникам он стирал под ее присмотром, и иногда она со стоном поднималась с кресла, чтобы показать ему, как надо стирать вот эту рубашку, вот эту блузу; по средам он убирал верхние комнаты, мыл полы в спальнях, а по пятницам убирал нижнюю комнату, кухню и уборную во дворе. По субботам он ходил за покупками. Пока она лежала в больнице, ему трижды удалось выбраться на ферму, но он ни разу не видел Одри, хотя в последний раз он не стал ждать у ворот, а прямо пошел к дому. Залаяла цепная собака, дверь открыла высокая белокурая румяная женщина и на его вопрос, дома ли Одри, только покачала головой, а когда он повернулся, чтобы уйти, она окликнула его и сказала:
— Она еще не в том возрасте, чтобы за ней заходили кавалеры. И я буду вам очень признательна, если вы перестанете кататься взад и вперед перед воротами.
Он хотел написать ей письмо. Он нашел их номер в телефонной книге и два раза решал позвонить ей, но в последнюю минуту, когда он уже брал трубку, у него не хватало духа.
Как-то, когда он ходил за покупками, заехал Стэффорд, но не стал его ждать.
— То у нас одно, то другое, и одно другого хуже, — сказал отец как-то вечером, собираясь на работу. — Если бы не это, ты бы мог куда-нибудь наняться. И было бы у нас лишних десять — пятнадцать фунтов. А то ты сидишь здесь безвылазно и до начала занятий ни гроша не заработаешь.
— Я же хотел поискать работы, — сказал он.
— Хотеть-то ты хотел, — сказал отец. — Да что толку от хотения, если ты никуда пойти не можешь. Вон Стивен захочет. Или Ричард, только какая от этого польза будет?
— Ну, а если бы я устроился работать? — сказал он. — Как бы мама одна управлялась в доме?
— Так я-то о чем говорю? Надрываться мы надрываемся, а все там же остаемся, где были. И не для чего стараться. Что мы ни делаем, что ни говорим, а все остаемся при прежнем. Не вижу я в этом смысла. То есть больше не вижу. Ну, никакого смысла.
Отец пнул ножку стола. Что-то в нем изменилось по сравнению с прежним. Словно что-то в нем умерло. Он казался пришибленным и уже больше не говорил о том, чтобы переехать в другое место или хотя бы в другой дом. Работа была для него не просто привычкой, она стала своего рода необходимым условием его бытия: домой он возвращался, как солдат в отпуск с фронта, — его подлинная жизнь, его подлинные заботы были связаны с чем-то далеким, скрытым от них, невидимым, даже непередаваемым. Теперь он разговаривал с Колином уныло и безнадежно, а мать, словно чувствуя себя виноватой, вставала и пыталась взяться за какую-нибудь работу, но он тут же ее останавливал:
— Оставь! Колин все сделает. А то сразу опять угодишь в больницу. Помнишь, о чем доктор предупреждал? Я дурака свалял, что взял тебя оттуда.
— А каково мне сидеть и слушать все это? — говорила она. — Будь я здорова, ничего этого не было бы.
— Будь ты здорова, так еще что-нибудь приключилось бы, — говорил он мрачно. — Прямо проклятие на нас лежит. Ведь как мы старались чего-то добиться! А посмотри, чем все кончилось. — Он обводил рукой кухню. — И нет у нас ничего, и надеяться нам не на что.
Мать плакала и прижимала к глазам фартук — хотя она ничего не делала, но фартук все равно надевала, чтобы хоть так поддержать свою решимость. Отец уезжал на работу или — если разговор начинался утром — уходил наверх спать, а она еще долго тихонько всхлипывала, пряча лицо в ладонях, или брала на колени Ричарда и прижималась лбом к его щеке.
Однако теперь она понемногу пробовала работать — когда отца не было дома. Если Колин мыл посуду или подметал, она подходила к нему, брала у него из рук тряпку или щетку и говорила:
— Не надо. С этим я и сама справлюсь. — В ее голосе слышалась горечь, словно ей было невыносимо смотреть, как он возится на кухне.
И она говорила, чтобы он принес угля, вымыл окно, снял белье с веревки, считая все-таки, что такая работа ей еще не по силам. Каждый день после обеда она ложилась в постель, а когда отец был дома, сидела, не вставая, в кресле, точно хотела показать ему, что отдыхает и ни о чем не тревожится.
Но чем больше она показывала, как старается выздороветь, тем безнадежнее становилось настроение отца. Теперь он возвращался по утрам совсем измученный, с темными кругами у запавших глаз, с ввалившимися щеками. Крепко сжав губы, он тут же придумывал для себя занятие — перекапывал огород, чинил забор и даже мыл окна, хотя они были вымыты всего несколько дней назад. От участка у шоссе он давно отказался, и когда не мог найти для себя дома дела, то садился в кресло и спал одетый, с открытым ртом, громко всхрапывая. Стивен боязливо поглядывал на него из угла, а Ричарду строго приказывалось не шуметь. Если же они будили его, тряся за плечо, говорили, который час, напоминали, что у него почти не остается времени выспаться перед работой как следует, отец приоткрывал мутные, покрасневшие глаза и с несвойственной ему прежде злобой кричал:
— Да отвяжитесь вы! Оставьте меня в покое! Я и тут могу выспаться!
Мать окликала их из нижней комнаты:
— Да оставьте вы его в покое, ради бога! Он сам знает, где ему лучше отдыхать.
Отец, щуря глаза, слепо поворачивал голову на ее голос, откидывался на спинку кресла и снова начинал храпеть. Лицо у него было пустым и серым, как булыжник, но и в забытьи он, казалось, следил за ними. Глаза его оставались полуоткрытыми.
Как-то утром, когда отец спал наверху, а мать бесшумно начала подметать кухню, она вдруг пошатнулась, рухнула на стул и, схватившись за грудь, привалилась к столу. Колин растерялся от неожиданности: он стоял, не понимая, серьезно это или нет, не зная, что ему делать. Мать все цеплялась за стол, словно пыталась встать, а может быть, и продолжить уборку. Колин окликнул ее, но продолжал стоять у стола, ожидая, не скажет ли она, что он должен делать. Ее лицо исказилось, глаза закатились.
— Папа! — крикнул он. — Папа!
Отец спал наверху.
Он бросился к лестнице, снова закричал и тут же услышал, что мать зовет его почти обычным голосом:
— Мне бы кресло, Колин. — И громче, яснее: — В гостиную, Колин.
Мать прижималась лбом к столу, уронив на него руки, не в силах пошевелиться. Колину вдруг показалось, что она притворяется — что она легко встанет сама, если захочет. Он уже несколько лет почти не прикасался к ней и не помнил, обнимала ли она его хоть когда-нибудь.
Он взял ее под локоть и попытался поднять. Ноги у нее подламывались, руки бессильно свисали по бокам. Он подхватил ее под мышки, повернулся к двери и увидел отца, который в рубашке и подштанниках глядел на них мутными глазами, не понимая, что происходит. Казалось, он сейчас ринется вперед. Потом на его лице появилось недоумение, и, словно проснувшись, он растерянно вошел в кухню, спрашивая мертвым голосом:
— В чем дело, малый? Что случилось?
— Гарри, — сказала мать и еще раз почти крикнула: — Гарри!
— Я здесь, родная, — сказал отец, подхватил ее и резко, почти грубо прижал к себе.
— Она хотела пойти в ту комнату, — сказал Колин. — Прилечь на кушетке.
— Держись за меня, Элин, — сказал отец. — Держись за меня, родная.
Он приподнял ее, протащил через коридор и уложил на кушетку.
— Затопи камин, малый, — сказал он, нагнулся к решетке и добавил, обращаясь не то к нему, не то к самому себе: — Принеси-ка одеяло, надо ее хорошенько укутать.
Колин поднялся наверх и взял одеяло со смятой отцом постели.
Когда он спустился, мать вытянувшись лежала на кушетке, а отец растирал ей ступни. Ее ноги дрожали мелкой дрожью, и он увидел, что руки у нее тоже начинают дрожать. Ее подбородок задергался. Все ее тело сотрясалось.
— Поезжай за доктором. Разыщи его. Скажи, что срочно. — Он закутал мать в одеяло, как будто решил отправиться за доктором сам. — Живее! Бери мой велосипед, — сказал он. Он был без носков, рубашка расстегнута.
Ричард, который играл на кухне, тихонько пробрался в комнату и теперь стоял, прижавшись к косяку.
— Мам! — позвал он. — Мама! — И всхлипнул.
— Да поезжай же, чего ты ждешь! — сказал отец.
Он поехал к врачу на другой конец поселка.
Когда он вернулся, отец сидел на кухне и пил чай. Растерявшись от удивления, он спросил:
— А мама? Ей лучше?
— Угу. Ей сейчас полегчает. А доктор где? — спросил отец.
— Мне сказали, что он приедет, как только сможет.
— Это когда же? Черт подери, когда доктора нужны, так их не дождешься.
Колин прошел в комнату. Мать тихонько постанывала. Она была без очков. Укрытые одеялом ноги мелко дрожали. Вошел отец, держа в руках чашку.
— Не трогай ее, — сказал он и поставил чашку. Руки у него тряслись.
Он присел сбоку и начал медленно растирать ей ступни, а когда она застонала громче, выпростал из-под одеяла ее руки и принялся тереть их, повторяя испуганно и хрипло, словно тоже постанывал про себя:
— Тебе сейчас полегчает, родная. Сейчас доктор придет. Тебе сейчас полегчает, родная. Надо только потерпеть немножко.
Доктор приехал через час, Колин сидел на кухне с Ричардом. Доктор что-то говорил с шотландским акцентом, потом он услышал бормотание отца, тихие, невнятные ответы матери.
Наконец доктор вышел из комнаты, на ходу завинтил колпачок авторучки и сунул ее в нагрудный карман. Отец проводил его на крыльцо.
Минуту спустя с улицы донесся удаляющийся шум автомобиля.
— Сходи-ка в аптеку, — сказал отец, возвращаясь с листком бумаги в руке.
Когда он вернулся, мать лежала наверху в постели.
— Говорил же я, что она ничего не должна делать, — сказал отец. — Ей нельзя поднимать ничего тяжелого, и вниз нельзя спускаться, пока доктор не осмотрит ее еще раз. Ну, только в туалет. Видишь, что получается, если не выполнять указаний.
Ее припадок напугал отца. И придал ему сил. Он снова сам взялся за домашнюю работу и, не успев войти в дом, начинал выискивать, что еще не сделано: гладил свою одежду, стирал, мыл полы, протирал окна, охотно, старательно, без следа недавнего раздражения. Теперь, когда она не выходила из спальни и доктор навещал ее через день, когда над ними опять нависла угроза больницы, их жизнь снова почти вошла в прежнюю, привычную колею. Теперь отец знал, что от него требуется, и стряпал матери еду, носил наверх подносы, спал на кушетке, насвистывал, когда возился на кухне, и каждый вечер, перед тем как уехать на работу, поднимался в спальню поцеловать мать на прощание.
— Ухаживай за ней хорошенько, — говорил он Колину, когда спускался. — Следи, чтобы у нее все было, что ей может понадобиться. И присмотри, чтобы Ричард не вскакивал и не плакал, когда ты его уложишь.
Перед тем как лечь спать, Колин заходил к матери. Она лежала, откинувшись на подушку, иногда читала газету, а иногда дремала. Спокойно посмотрев на него, она говорила: «А ты уже умылся, голубчик?» или «Двери ты запер? Отец ведь не забыл взять ключ?» В ее словах слышалась растерянность, точно он был не он. Она вдруг привставала, трогала его волосы, приглаживала челку странным вопросительным движением, как будто не могла сразу вспомнить, кто это.
По утрам, если отец задерживался на шахте, он относил в спальню чашку чая, тихо ставил поднос на стул у кровати, прислушивался к дыханию матери, но не будил ее и не отдергивал занавески. Потом, подняв с постели Стивена и Ричарда, он на цыпочках спускался по лестнице. Иногда она сонно окликала его:
— Это ты, Колин? Который час? — ждала, чтобы он вошел в спальню, и добавляла: — Ты не отдернешь занавески, голубчик?
А иногда она говорила:
— Подай мне пальто, я сойду вниз.
Она шла сама через двор к уборной, бледная, исхудавшая, и даже не поднимала глаз, если кто-нибудь с ней здоровался, а потому миссис Шоу и миссис Блетчли только смотрели на нее с крыльца, скрестив руки на груди.
— Как мама себя чувствует, Колин? — спрашивала миссис Шоу и покачивала головой, не дожидаясь его ответа. — Она плохо выглядит, ей бы лечь в больницу, — говорила она ему.
Как-то в воскресенье, когда отец работал в утреннюю смену, Колин взял вечером его велосипед и поехал к церкви святого Олафа. Служба еще не кончилась. На ступеньках террасы старого господского дома сидели солдаты, двое-трое гоняли мяч между деревьями, из окон со старинными каменными переплетами свешивались солдатские головы, перекликающиеся голоса будили эхо в церковном дворе.
Он ездил взад и вперед по шоссе напротив церкви, пока не увидел, что причетник отворил дверь и заложил в петли крюки на створках. Тогда он остановился под деревом и начал ждать. Из церкви выходили девочки и мальчики. Люди постарше задерживались у калитки, разбившись на небольшие кучки, и разговаривали. Он увидел Одри, Мэрион и других девочек, которых знал в лицо. Они собрались в кружок у каменной ограды и смеялись, поглядывая на мальчиков. Наконец двое-трое мальчиков неторопливо направились к шоссе. И несколько девочек тоже.
Колин еще немного постоял под деревом, потом, когда первая группа ребят скрылась за поворотом, он медленно поехал следом. Одри посмотрела на него, и Мэрион тоже, и обе оглянулись на шоссе, наверное, решив, что он приехал со Стэффордом. Увидев позади только компанию мальчиков, они опять повернулись к подругам. Колин в нерешительности остановился, но других знакомых у него тут не было, и он медленно поехал дальше. Впереди показались дома, он спрыгнул с велосипеда, снял зажимы и подождал, пока девочки не прошли мимо. Ни Одри, ни Мэрион не оглянулись на него. Правда, Мэрион бросила быстрый взгляд в сторону шоссе, но обращен он был ко всему миру, ехидный и язвительный — суженные глаза, вздернутые брови и губы, растянутые в усмешку.
Когда прошли нагоняющие их мальчики, Колин влез на велосипед и медленно поехал за ними. На автобусной остановке они столпились у деревянной скамьи, разговаривали и смеялись. Иногда какая-нибудь девочка бросалась бежать и под науськивание остальных за ней кидался мальчик, догонял ее, она визжала, прижатая к живой изгороди, а он ухмылялся и не давал ей вырваться.
Парочка убежала в проулок, два-три мальчика принялись их окликать, и между движущимися фигурами он увидел на скамье Одри. Она вдруг улыбнулась и покачала головой.
Через некоторое время стоявшие расступились, и он увидел Мэрион. На ней была оранжевая шляпа и туфли на высоком каблуке. Она подошла к изгороди, где он стоял, придерживая велосипед, и, оглянувшись на мальчиков, которые смотрели на них, сказала:
— Одри велела тебе передать, что не хочет больше тебя видеть. Я бы не пошла, только она просила.
Мальчики на остановке что-то сказали про них и засмеялись вместе с девочками. Мэрион, чувствуя взгляды зрителей за спиной, пожала плечами и вздернула голову.
— Что-нибудь передать ей?
— Я бы хотел с ней поговорить, — сказал он. — Если, конечно, она сможет оторваться от этих зубоскалящих дурней.
— Зубоскалящие дурни, как ты их назвал, входят в число моих друзей, — сказала Мэрион.
— Если она сможет оторваться от некоторого числа твоих друзей, — сказал он, получая удовольствие от саркастической витиеватости, которая давала выход его чувствам.
— Но она же не хочет! Ну хорошо, я ее спрошу, — сказала она, пошла к остановке и громко повторила его слова Одри, которую заслоняла живая стена.
Одри что-то тихо ответила.
Мэрион обернулась и крикнула:
— Она не хочет с тобой разговаривать, лапочка. Я же тебе сказала.
Ее лицо под оранжевым колоколом шляпы казалось бледным.
Он сорвал травинку с обочины и прихватил ее краешком губ. Он увидел, что рука у него трясется. По всему его телу пробегала дрожь.
Минуту спустя несколько мальчиков и две девочки пошли по шоссе и свернули в проход между домами. Из-за поворота показался автобус и, громыхая, подъехал к остановке.
Сошел один человек. Мэрион и Одри, а за ними остальные мальчики влезли внутрь. Он увидел их в заднее стекло, когда автобус проехал мимо: машущая рука, а за ней на миг — чуть улыбающееся лицо Одри. Автобус скрылся в облаках пыли.
Он вскочил на велосипед и погнался за автобусом. Он снова проехал мимо церкви — солдаты теперь сидели на ограде, — заметил клубящуюся на боковом шоссе пыль, решил, что ее поднял автобус, и свернул туда же.
Полчаса спустя, не догнав автобус ни на одной из остановок, он лениво развернулся, покатил назад под уклон, снова увидел церковь — на ограде уже никого не было — и поехал в сторону поселка. Когда он добрался до дома, уже совсем смерклось.
— Ну, и как там Стэффорд? — сказал отец, когда он вошел в кухню. — Тебе что, опять учебник понадобился?
— Я передумал, — сказал он и мотнул головой.
Когда он брал у отца велосипед, то сказал, что ему нужно съездить к Стэффорду.
— Так где же ты столько времени пропадал? Тебе уже давно пора спать.
— Так, катался, — сказал он. — Подумал, что надо бы в церковь зайти.
— В церковь? — сказал отец.
— Я опоздал, — сказал он и мотнул головой.
— А чего это тебя вдруг в церковь потянуло? — сказал отец так, словно решил, что это как-то связано с болезнью матери.
— Ну, я подумал, что хватит мне туда днем ходить. По вечерам лучше, — сказал он. — Я уже велик становлюсь для воскресной школы, — добавил он.
— Это ты сам решай, — сказал отец. — А может, ты камеру проколол или еще что? — добавил он.
— Нет, — сказал он и добавил: — Хочешь, я встану пораньше и приготовлю тебе завтрак?
— Не надо. Я же по утрам и не ем ничего, — сказал отец и пошел к лестнице, тревожно на него поглядывая. — Ты все-таки не задерживался бы так поздно, — добавил он.
Потом у себя в комнате он услышал, как отец сказал:
— А Колин-то вроде на свидание ездил. Уж очень вид у него обалделый. Я его таким никогда не видел.
Дверь закрылась, и ответ матери слился в неясное бормотание.
Потом из спальни донесся тихий смех, скрипнула кровать. А он провалился в сон, больше всего измученный ездой на велосипеде.
Он начал ходить в церковь вечером в воскресенье с Блетчли и Ригеном. Миссис Блетчли и миссис Риген с сыновьями, но без мужей ходили в церковь в воскресенье утром. Однако по вечерам он, Блетчли и Риген садились в глубине северного придела, подальше от кафедры и прямо за скамьей, на которой сидели девочки из школы Блетчли. Они обменивались записочками, вложенными между страниц молитвенника, и Блетчли, когда во время молитвы девочки опускались на колени, часто хватал какую-нибудь перчатку и передавал Ригену, а Риген, весь красный, закрыв глаза, совал ее в карман.
Риген стал теперь бледным узколицым подростком. У него был выпуклый лоб, но главенствовал на его лице длинный нос с плоским вздернутым кончиком. Падающие на шею волосы, которые он отпустил, чтобы замаскировать вытянутый затылок, постоянно раздражали его отца. Часто по вечерам, заглушая звуки уже совсем большой скрипки, на которой теперь упражнялся Риген, над дворами разносился крик:
— По-твоему, это красиво, а по-моему, вид у него самый слюнтяйский. По-твоему, он умеет играть на скрипке, а по-моему, мяучит хуже кошки. По-твоему, он выглядит благородно, а по-моему, как девка.
Потом мистер Риген выходил во двор и снова кричал:
— Ты его не оставляй одного дома, а то сразу их обкорнаю!
Он сердито шагал мимо дверей и садился рядом с отцом на крыльце или рассеянно проходил через свой огород к забору и кричал шахтерам, которые играли на пустыре в крикет:
— Бей! Бей сильнее! — Его лицо краснело, шея вздувалась так, что воротничок, казалось, вот-вот лопнет. — Да сильнее же, черт подери! Так у вас ничего не получится.
В присутствии Блетчли Риген хранил почтительное молчание. Блетчли завел манеру, сказав что-то, вдруг замедлять шаг и ждать, чтобы Риген повернул голову, остановился и — как бы он ни спешил — наклонился всем телом в его сторону или даже шагнул назад. Лицо Ригена выражало тогда терпеливую усталость, и он смотрел не на Блетчли, а куда-то поверх его головы. Если же, как бывало не так уж редко, Риген продолжал идти, не заметив, что Блетчли остановился, Блетчли продолжал стоять с пренебрежительной усмешкой на губах. Обнаружив, что его друга нет рядом, Риген с тем же выражением терпеливой усталости возвращался к тому месту, где ждал Блетчли, уже подняв брови, изнывая от желания продолжать свои словоизлияния. Все это время Риген не произносил ни слова, но одного его присутствия и привычно выжидательного взгляда было достаточно, чтобы вдохновить Блетчли на бесконечные описания его школьной жизни, подвигов его отца на войне, блистательных успехов каких-то дальних родственников или же на рассуждения о последних политических событиях.
В этом году кончилась война — раньше, еще весной. Праздновала вся улица. На пустыре были сдвинуты переданные через заборы разнокалиберные столы, застланные скатертями всех цветов и уставленные всевозможными тарелками с угощением. На стуле стоял патефон, и после еды начались танцы на траве. Пары спотыкались о кирпичи и бутылки, звуки их голосов отражались от стен, сливались с однообразным, почти тоскливым ритмом музыки.
Дети бегали у столов, хватали угощение, смотрели на танцующих, сбившись в кучки, и передразнивали их движения. Потом шахтеры расчистили место в стороне от столов и устроили состязания: жены наперегонки везли в тачках своих мужей; связанные по двое, бежали, спотыкаясь, на трех ногах, визжали и хохотали; мужья таскали жен на руках, а жены — уже к вечеру — пытались поднимать мужей. Среди всех этих мечущихся фигур, заложив большие пальцы в карманы жилета, со свежим белым носовым платком в нагрудном кармане, но на этот раз без котелка, расхаживал мистер Риген. Иногда он отделялся от толпы зрителей, вынимал из кармана брюк еще один белый носовой платок и объявлял, что подаст сигнал к началу следующего состязания. Он проверял, не переступил ли кто-нибудь из участников линию старта и правильно ли они стоят — кого-то отодвигал назад, кого-то подталкивал вперед, обеспечивая заметное преимущество тем, кто, по его мнению, не мог выиграть, а затем под визг и крики готовился торжественно подать сигнал к новому взрыву визга и криков.
— Когда я махну платком — вот так. Но прежде я скажу: «Готовы? Внимание!»
Он неторопливо, почти насмешливо потряхивал платком у себя над головой и взмахивал им только тогда, когда недовольные выкрики становились совсем уж оглушительными.
Потом, убедившись, что все съедено и небольшой запас напитков истощился, он всецело посвятил себя этой обязанности и даже трусил рядом с участниками по пустырю и давал советы, если же продвижение их по характеру состязания было медленным, бежал к финишной черте и оттуда подсказывал тем, кому симпатизировал, как им лучше обойти ближайших соперников, а то и будто случайно оказывался на пути тех, кто, по его мнению, жульничал или заведомо превосходил остальных.
У нескольких дверей колыхались флаги, поперек улицы были протянуты шнуры с маленькими треугольными флажками. Кое-где на фасаде висели плакаты, приветствующие возвратившихся домой демобилизованных членов семьи, и по пустырю там и сям неприкаянно бродили фигуры в форме — цвета хаки, голубой и темно-синей. Один солдат, закатав рукава рубашки, принимал участие в первых состязаниях, но потом растянулся на траве под забором и заснул с открытым ртом.
Вечером шахтеры сидели небольшими группами на пустыре, пожевывая травинки, собирались темными кучками у дверей. Двое-трое передавали столы назад через заборы, а женщины стояли во дворах, скрестив руки, или разбирали тарелки, чашки и блюдца. Все вокруг сковало вялое оцепенение, только миссис Шоу, до конца праздника без устали хлопотавшая у столов, переходила от двери к двери и спрашивала, не надо ли помочь перемыть посуду. Батти и его братья, которые днем ни в чем не участвовали и только смотрели, теперь, устроившись в центре пустыря с отцом Стрингера и еще двумя-тремя мужчинами, лениво подбрасывали монеты, и время от времени до открытых дверей долетали их возгласы: «Фиг тебе, Джефф!», «Ну, бросай», «Выиграл! Выиграл!», а вокруг, глазея, стояли ребятишки.
— Такого теперь долго ждать придется, — сказал отец, когда он наконец притащил стол и с помощью Колина внес его в кухню. — Здешнее радушие года на два истощилось. Ты видела, как миссис Маккормак переживала, что ее тарелки перебили? А женщина, которая умяла фруктовый рулет, вовсе даже не с нашей улицы.
— А по-моему, такие праздники надо бы устраивать почаще, — сказала мать, — и собираться вместе, не только когда война кончается. Вот теперь видно, что можно сделать, если захотеть.
— Угу, — сказал отец, тяжело опускаясь на стул у стола. — Они так перепились, что завтра половина на работу не выйдет.
— Ну, он, по обыкновению, преувеличивает, — сказала мать, повернувшись к Колину. — Раз в жизни повеселился от души и не хочет в этом признаться.
Действительно, во время состязаний отец был не менее заметен, чем мистер Риген, но как участник — он то бежал через пустырь, связанный с миссис Блетчли, то полз через него на руках, а миссис Шоу держала его за ноги и, заливаясь смехом, толкала перед собой, точно тачку. Возможно, теперь он потому старательно отрекался от радости, которую все это ему доставляло, что мать почти весь праздник суетилась у столов, обходила кухни, собирая бутерброды, и пыталась унимать детей, которые хватали пирожные, едва их успевали положить на тарелки. Теперь она, вся красная, стояла у раковины и составляла вымытую посуду.
— Чем ворчать, ты бы лучше вытер все это, — добавила она.
Отец взял полотенце, посмотрел в окно, протер одну тарелку, увидел кого-то во дворе, сказал: «Погоди-ка, я сейчас», бросил полотенце и исчез за дверью.
Некоторое время спустя они услышали его хохот, его голос, что-то отрицавший, голос миссис Маккормак, голос миссис Блетчли, а потом громкий визг — они не сразу узнали голос миссис Шоу.
— Да, уж он, конечно, совсем не веселился, — сказала мать, протягивая полотенце Колину. — Ему что одна война кончилась, что другая началась — лишь бы расхлебывал кто-нибудь другой.
Вид у матери был усталый и поблекший. С тех пор как он ее помнил, она постепенно, понемногу угасала — рождение Стивена, рождение Ричарда, болезни по очереди отнимали у нее что-то невосполнимое, и хотя она каждый раз как будто поправлялась, но становилась все более слабой, опустошенной, растерянной. Словно ее жизнь неведомо для них иссякала, и она, не в силах что-либо изменить, беспомощно наблюдала происходящее с тайным гневом, виновато, со стороны.
— А вот ты не очень-то праздновал, — сказала она. — Не то что Батти и стрингеровский парень — они за обе щеки уписывали. Уж они не только своего, но и чужого не упустят.
— Ну, я больше дома был, — сказал он, пожимая плечами.
— Конечно, вы с Йеном и Майклом Ригеном чувствуете себя выше всего этого, — сказала она.
Однако Блетчли и Риген, хотя и не принимали участия в развлечениях на пустыре, нанесли заметный ущерб угощению, утащив несколько полных тарелок на кухню к Блетчли, где и съели все без помехи, пока миссис Блетчли хлопотала на пустыре.
— Ты все-таки чувствуешь себя выше? — спросила мать.
Он покачал головой.
— Скорее я чувствую себя чужим.
— За это мы должны благодарить твою школу? — сказала она.
— Вы же сами хотели, чтобы я там учился, — сказал он.
— Да, — сказала она. — Не сердись, голубчик. Я ведь не жалуюсь.
— Если на то пошло, — сказал он, — я и там себя своим не чувствую.
Он взял еще одну тарелку и вытер ее. Мать, наклоняясь над раковиной, подлила горячей воды из чайника, который стоял рядом, и провела ладонью по груде грязных тарелок. Потом выпрямилась, перемыла их и составила рядом с раковиной.
— Просто это твой возраст. — Она поглядела на него и улыбнулась. — Разве ты там один такой?
— Наверное, нет.
— И другие мальчики тоже себя своими не чувствуют?
— Откуда я знаю!
— Вот ты убедишься, что от жизни нельзя получить больше, чем ты в нее вкладываешь, — сказала она.
— Да, — сказал он. — Наверное, это так.
— А разве сегодня ты не мог быть со всеми? — спросила она.
— Нет, — сказал он и мотнул головой. — То есть, наверное, мог бы. Но только, — он оглянулся на кухню, — я остался здесь.
Потом вернулся отец, потирая руки, раскрасневшийся, с блестящими глазами.
— Ну, будет чем вспомнить этот день, — сказал он, словно веселой бодростью набрасывая покров тайны на то, чем сейчас занимался. — Когда вместе столько пережито, так и попраздновать в самый раз. — Он удивленно обвел взглядом чистую посуду на столе и добавил: — Это как же, девочка? Ты что, всю ее уже перетерла?
В его жизни выделилась третья — и последняя — часть. Сперва была его жизнь в поселке, потом его жизнь в школе, но теперь вступила в свои права важнейшая сторона его бытия, которую он прежде не осознавал, — жизнь в самом себе, и она заслонила остальные две. В школе он начинал ощущать, что значит учиться в привилегированных старших классах, принадлежать к иерархической верхушке, которая пользуется всеми благами и не испытывает никаких притеснений. Его продвижению из класса в класс сопутствовал переход из одной возрастной группы регбистов в другую. Летом ему предстояли первые экзамены, а потом — если он их сдаст — шестой, выпускной класс. Стэффорда он почти не видел. Затянутые водоворотом классических языков, ограждаемые на матчах и тренировках свитой поклонников, они теперь встречались редко, но и эти мимолетные встречи были отмечены скорей враждебностью, чем памятью о прежней короткости. В школе Колин держался особняком, а в каникулы работал на разных фермах, но гораздо ближе к поселку, чем в то первое лето. Несколько раз он видел в городе Одри, а также Мэрион — они болтали с мальчиками на центральной площади. Они слегка кивали ему, во всяком случае Мэрион, но, как и Стэффорд, словно совсем забыли о их прежнем знакомстве. Одно время он сблизился с красноносым Уокером, но тот ничем не интересовался и умел только увиливать от занятий, а потом с Берсфордом, другим своим одноклассником, и Берсфорд познакомил его со своей сестрой, которая была немного старше их. Колин иногда шел с ней до ее автобусной остановки, обсуждая книги, которых не читал, и международное положение. У нее были темные волосы и крупный римский нос. Больше всего она, пожалуй, привлекала его полным отсутствием интереса к своей внешности. Как-то они условились встретиться в городе в субботу и после кино пошли погулять в городском парке. Почему-то после этого они, точно по обоюдному согласию, перестали встречаться вовсе, а потом он мало-помалу разошелся с Берсфордом и снова остался в полном одиночестве, если не считать случайных разговоров с мальчиками вроде Коннорса, с которым он иногда ехал из школы в одном автобусе.
Как-то вечером они с Блетчли, возвращаясь домой из поселкового кинотеатра, нагнали девочку в темном пальто и темном берете. Она обернулась на их шаги, увидела Блетчли и сказала:
— А, Йен! Каким ветром тебя сюда занесло?
— Я здесь живу, Шейла, — сказал Блетчли. По-видимому, этот вопрос его задел, так как он добавил воинственно, почти язвительно: — А тебе-то что тут понадобилось?
— А я тоже тут живу, — просто ответила она, сняла берет и встряхнула волосами. На берете был аист — эмблема школы, где учился Блетчли.
Блетчли курил. Его отец некоторое время назад демобилизовался, и после его возвращения домой Блетчли внезапно начал разыгрывать из себя взрослого. Он не только курил, но и попытался — хотя и не очень успешно, так как еще почти не брился, — отпустить усы. В результате с соседнего крыльца могло показаться, что двое мужчин соперничают из-за внимания одной женщины, и миссис Блетчли не только не зачахла от этих нежданных перемен, но, наоборот, обрела новую жизнь и энергию. И, словно бы утверждая новое положение, начала курить сама.
Теперь Блетчли демонстративно сунул в рот зажатую в кулаке сигарету, выпустил облако дыма и прищурился сквозь него на Шейлу.
— Я думал, ты живешь в Шафтоне, — сказал он.
— Мы там и жили, — сказала она. — А сюда переехали неделю назад. Я зашла к Джеральдине Паркер. Вот и задержалась. — Она встряхнула волосами. — А вы-то где гуляли? — добавила она.
— Были в киношке, — сказал Блетчли и выпустил еще одно облако дыма, придерживая сигарету в уголке рта. Он махнул рукой в ту сторону, откуда они шли. Кинотеатр, построенный за несколько месяцев до начала войны, стоял на краю пустыря напротив Шахтерского клуба. Девочка тоже шла откуда-то оттуда.
Глаза у нее были темные, как и волосы, на которые она старалась обратить их внимание, а лицо худое, бледное, почти белое, отчего губы казались еще краснее, и сосредоточенное, даже суровое. Она держалась с невозмутимостью взрослой женщины и шла рядом с Блетчли так, словно они весь вечер провели вместе.
— Это Колин, — сказал Блетчли, когда она наконец поглядела на него.
— Он ведь в школе короля Эдуарда учится? — спросила она.
— А вы что, знакомы? — сказал Блетчли, вынул изо рта сигарету и тоже поглядел на Колина, словно заподозрив, что эта встреча вовсе не так уж случайна.
— Я про него слышала, — сказала она.
— Шейла из нашего класса, — сказал Блетчли таким тоном, точно это делало его судьей всего, что она могла бы сказать. — Ее к нам из другого города перевели.
— Да, мы в разных местах жили, — сказала она, кивнув, и показала на поперечную улицу. — А сейчас вот тут живем. Ну, наверное, теперь мы будем часто встречаться. Ты в какие дни обычно ходишь в кино?
— Как когда, — сказал Блетчли, словно среди множества разнообразных занятий не всегда мог выбрать время для кино.
— Ну, наверное, встретимся в автобусе, — сказала она и кивнула Колину. На ходу она обернулась, крикнула: — Спокойной ночи! — и помахала рукой. Блетчли вынул сигарету изо рта и небрежно подвигал ею возле уха.
— Как ее фамилия? — спросил Колин.
— Ричмонд, — сказал Блетчли. — Она к нам поступила в прошлом году, и их с этой Джеральдиной Паркер водой не разольешь.
Больше он ничего не прибавил, пока они не дошли до дома, а тогда сказал, остановившись на крыльце, чтобы закурить еще одну сигарету:
— По-моему, она за тебя зацепилась. Верно?
— Не знаю, — сказал Колин. — Я ничего не заметил.
— Наверное, мне следует тебя предупредить, — сказал Блетчли. — Мать у нее разводка. Некоторые ребята, с которыми она гуляла, ее того. — Ну, да конечно, — сказал он, — такое всегда преувеличивают.
— Угу, — сказал он.
— Ну, пока, что ли, — сказал Блетчли.
Он пнул дверь носком ботинка, толкнул ее плечом и исчез за ней, держа руки в карманах.
Через минуту сквозь кухонную стену донесся голос мистера Блетчли, окрепший, если не полностью обновленный за то время, пока он воевал:
— Сам выбросишь сигарету или хочешь, чтобы я ее выбросил?
— Ничего моего ты не выбросишь! — крикнул Блетчли, но на один-два децибела тише.
— Все выброшу, что захочу. И не только сигареты. — Секунду спустя раздался настоящий вопль: — Сколько их еще у тебя в кармане?
— Не твое дело.
Послышалось шарканье, потом снова вопль.
— Прекрати! Прекрати, Артур, — донесся голос миссис Блетчли.
— Я прекращу! Я ему по морде прекращу, если он еще попробует мне дерзить! — раздался крик мистера Блетчли.
— Вот ему война хоть какую-то пользу принесла, — сказал отец, отрываясь от газеты, которую читал у очага. — Не то что Йену и его матери.
— Живи и жить давай другим, — сказала мать, наклоняясь над раковиной.
— Не беспокойся, я столько времени этого дожидался, так, по мне, чем он больше их прижмет, тем лучше, — добавил отец, сложил газету и подошел к стене. — Давай! Давай! Добавь ему, Артур, — крикнул он, точно мистер Риген, но за стеной почти сразу же воцарилась полная тишина.
Он увидел, что она сходит с автобуса, пробежал через двор пивной и оказался впереди нее, когда она завернула за угол.
— Ты далеко собралась? — сказал он.
Она поглядела на него спокойно, как и в тот раз, словно давно уже шла рядом с ним, словно они только что вместе ехали в автобусе и всю дорогу разговаривали. Потом сняла берет, встряхнула волосами с инстинктивным кокетством и посмотрела мимо него на магазины напротив.
— Мне нужно к Бенсону, а потом я пойду домой.
— Ну, так нам по дороге, — сказал он.
— Я сейчас, — сказала она. — Мне только лекарство взять. Оно уже готово.
Она вошла внутрь и с независимым видом встала в очередь, но почти тут же что-то спросила у человека за прилавком, подошла к нему и после короткого разговора достала деньги из кошелька.
Ее лицо выглядело еще более худым, кожа обтягивала скулы. Они словно встретились во время путешествия. Она перехватила его взгляд и улыбнулась.
— Тебе что, не нравится учиться? — сказала она.
— Нет, — сказал он. — По-настоящему, пожалуй, нет.
— Так почему ты не бросишь школу? — сказала она.
— Ну, я обязан учиться.
— По-моему, никто ничего делать не обязан, — сказала она и снова улыбнулась — спокойно, глядя вдаль, туда, где улица разделялась на шоссе, которое вело к станции, и дорогу, уводившую в Долинку. — А где ты живешь? — добавила она, словно решив переменить тему.
— Стена в стену с Блетчли. Или наоборот, — добавил он. — Блетчли живет стена в стену со мной.
Она кивнула и некоторое время шла молча, улыбаясь, словно это показалось ей забавным, а потом сказала:
— По-моему, над Йеном зря смеются. Потому что он такой крупный. А он куда умнее, чем про него думают. — Она нахмурила брови и прищурилась, как будто вспомнила пример, доказывающий эти скрытые качества Блетчли.
— А! Он такой толстокожий, что ему все нипочем, — сказал он, больше чтобы поддразнить ее.
— Ну, толстая кожа ни от чего не спасает, — сказала она и замолчала.
Они прошли мимо чуть подсвеченных магазинных витрин, мимо въезда в гараж и перешли на другую сторону. Слева была маленькая католическая церковь, к которой почти примыкал дом священника, за ней перестроенный каменный особняк, где помещался клуб консерваторов-унионистов.
— Что ты делаешь по вечерам? — спросил он.
— Дома сижу, — сказала она. — Мать почти каждый вечер работает, а мне надо приглядывать за сестренкой. Раза два в неделю я езжу к знакомым в Бейлдон. То есть к дяде. Мы там раньше жили.
— А твоя мать что делает? — спросил он.
— Служит в баре. «Герб Стэвингтонов». Знаешь?
Он мотнул головой. Казалось, одна взрослая женщина рассказывает про другую.
— Ну, а сегодня вечером ты свободна? — спросил он.
— Еще не знаю, — сказала она. — Но наверное, смогу освободиться. Попрошу соседку. Она разок-другой соглашалась посидеть у нас, когда мне нужно было уйти. — Ее лицо вдруг стало озабоченным, уголки глаз опустились, брови привычно насупились, губы сжались. — А куда ты хочешь пойти?
— Ну, например, в кино.
— Столько времени у меня не будет, — сказала она.
— Так пойдем погуляем.
— А где тут гуляют? — Она поглядела на него.
— Где хочешь.
— Я же тут ничего не знаю, — сказала она.
— Ну, так я могу тебе показать кое-какие красивые места, — сказал он.
— Только к дому не приходи, — добавила она. — Я тебя встречу на углу. В семь будет удобно?
Он смотрел, как она идет по узкой улочке между двумя рядами маленьких кирпичных домов, двери которых открывались прямо на тротуар. Она не оглянулась. Где-то в середине улочки она остановилась, достала ключ, толкнула дверь и вошла.
Когда он подошел к углу, она была уже там. Она зачесала волосы назад и завязала их лентой. Ее темно-зеленое пальто, решил он, перешло к ней от матери. Оно доставало почти до лодыжек, до аккуратно подвернутых белых носков. Туфли у нее были на низком каблуке — те же, что и раньше, подумал он.
— Через поселок нам лучше не ходить, — сказала она. — А то встретим кого-нибудь, кто знает мою мать. Она сегодня работает, так что я долго гулять не могу.
Они повернулись и, засунув руки в карманы, пошли на юг, в сторону станции. Там, где шоссе разветвлялось, он после некоторого колебания повел ее к Долинке.
Они прошли мимо освещенных газом окон Шахтерского клуба, мимо кинотеатра и за последними домами начали спускаться в сумрачную туманную низину — к газовому заводу и отстойникам.
— Воздух тут не то чтобы душистый, — сказала она и засмеялась.
— У тебя есть велосипед? А то мы могли бы куда-нибудь съездить, — сказал он.
— Нет, — сказала она и покачала головой.
— Я обычно беру велосипед отца, — сказал он. — Только ему это не очень нравится. Он ведь на нем на работу ездит.
— А где он работает? — спросила она равнодушно, глядя на дальние поля.
— В шахте.
Едва он упомянул про отца, ее интерес угас.
— А куда ведет эта дорога? — сказала она, когда они начали подниматься на противоположный склон.
— Далеко, — сказал он. — В Стокли. В Брайерли. В Монктон. — Он показал на деревья у заброшенной шахты слева от них. — Если хочешь, пойдем туда, — добавил он.
— Ладно, — сказала она. — Вообще-то я не слишком люблю ходить по дорогам.
Он нашел пролом в живой изгороди и придержал ветки. Мелькнули ее икры над белыми носками, обтрепанный край пальто.
Он повел ее между темными буграми заросших отвалов.
— А тут сыро? — сказала она, нагибаясь и проводя рукой по траве.
— Я подстелю тебе куртку. — Он снял куртку и положил ее на землю. От сырости его сразу пробрала дрожь.
Склон был обращен к поселку. Прямо под ними за деревьями смутно виднелись отстойники, болото и темный силуэт газгольдера. Огни поселка тянулись до террикона и копра, над которым поднимался беловатый столб дыма. Дальше за шахтой неровные цепочки огней обрисовывали теперь холм с церковью и старым господским домом.
Он сел рядом с ней.
— Я тут играл, когда был маленьким. — Он показал вниз. — Давным-давно. У нас была хижина. Мы прятали в ней еду и всякие вещи. И еще устраивали ловушки для тех, кто на нас нападал.
— А кто они были такие? — спросила она. — Которые нападали.
— Да они же так ни разу и не напали.
Она засмеялась, откинувшись назад, и расстегнула пальто. На ней была блузка с юбкой.
— Лучше сядем на него, — сказала она. — Оно больше твоей куртки, и тебе теплее будет.
— А! — сказал он. — Мне и так хорошо.
Но она все-таки встала, сняла пальто и расстелила его на земле между ними.
— Тебе нравится твоя школа? — спросил он.
— Ну ее, — сказала она. — Я все равно в будущем году брошу учиться. Мне надо идти работать. Мама развелась, ты, наверное, знаешь, а отец ей алиментов почти не платит.
Она сидела, подтянув колени к подбородку, обхватив их руками, и покачивала головой. Ее глаза были рассеянно устремлены вниз, на туман в темной Долинке.
— А что случилось с вашей хижиной? — спросила она.
— Не знаю, — сказал он и тоже посмотрел на Долинку. — Развалилась, наверное.
Она откинулась назад, легла, опираясь на локоть, и поглядела на него снизу вверх. Ее лицо пряталось во мгле, темные глаза были почти неразличимы, рот стал темной полосой. Это словно была уже не она, не она прежняя.
Он прилег рядом, и она, выпрямив руку, опустила голову на пальто.
Он почувствовал под ладонями тонкую материю блузки.
Она приподняла голову. Их губы беззвучно сомкнулись.
— А у тебя много девочек было? — спросила она, когда он наконец отодвинулся.
— Да нет, — сказал он. — Не очень.
Она улыбнулась. Ее лицо у его плеча повернулось, остались только одни глаза, поблескивающие в темноте.
— А почему ты спросила?
— Ну, ты так обнимаешься, — сказала она.
Она снова закрыла глаза, приподняла лицо, и, притянутый этим движением, он прижался ртом к ее рту.
Ее язык скользнул между его губами.
— Действует? — сказала она и прибавила, осторожно отодвинув голову: — Ну, там, и вообще.
У его пояса заерзали пальцы, и через секунду он почувствовал, как по его животу скользнула холодная ладонь.
— Нравится? — сказала она и добавила: — Дай руку.
Он ощутил мягкую гладкость кожи, потом шершавость.
Он оцепенел, словно пригвожденный к земле. Она еще глубже засунула язык ему в рот и тихонько стонала, подергиваясь всем телом.
В кустах выше по склону послышалось какое-то движение, она замерла, потом отодвинула голову.
— По-моему, за нами подглядывают, — сказала она. — Ну и пусть. Что нам, тут полежать нельзя!
Они отодвинулись друг от друга и лежали, глядя вверх. В кустах было тихо.
— Я, пожалуй, пойду, — сказала она. — Мне все равно уже пора, — добавила она. — Я ведь только на час ушла.
— А мы еще увидимся? — спросил он.
— Когда захочешь. Мне удобнее всего по средам и еще по четвергам. Я тогда обычно захожу к подруге.
— А в другие дни я мог бы встречать тебя на остановке, — сказал он.
— Да, конечно, — сказала она без особой охоты.
Она подняла пальто, он куртку. На секунду она прижалась к его плечу.
— Мы всегда можем найти какое-нибудь удобное место, — сказала она и, закрыв глаза, придвинула к нему лицо, а потом пошла по тропке, которая вела между заросшими отвалами к шоссе. На склоне над ними скользнул смутный силуэт.
— Тут, наверное, всегда кто-нибудь бродит, — сказала она. — Слишком близко от поселка.
Они выбрались на шоссе и до первых домов шли обнявшись. Перед первым фонарем она опустила руку, а когда они вошли в круг света, повернула голову и нахмурилась.
— Посмотри-ка, — сказала она. — У меня все в порядке? — Она застегнула пальто, поправила носки и, улыбаясь, ждала, пока он ее оглядывал.
— Два-три пятна на спине, — сказал он.
— От травы? — сказала она.
— Глина, — сказал он.
— А! — сказала она. — Это отчистится.
Она дернула ленту, и волосы рассыпались у нее по плечам. Моргая от света, они прошли мимо кинотеатра, мимо дверей Клуба, где шумели шахтеры, и добрались до угла ее улицы, не встретив никого, кто ее знал бы.
Она быстро придвинулась к нему, чмокнула его в щеку и, ничего не сказав, пошла по улице. Он смотрел, как она проходит через круги света под газовыми фонарями, потом из черной тени донесся звук захлопнувшейся двери.
Они встречались раза два в неделю, уходили в поля и рощи за господским домом, лежали в темноте под живыми изгородями или среди кустов где-нибудь в лесу. Иногда она снимала юбку, расстегивала блузку, спускала ее с плеч и глядела на него снизу вверх — неясная белизна на фоне черной земли. Она протягивала руки, приподнималась, обнажая грудь, обнимала его за шею.
— Нет, не надо, — говорила она, когда он прижимался к ней, и отодвигалась, а иногда плакала, отворачивалась и говорила: — Я навидалась, чем это кончается. Что же, ты думаешь, я сама не хочу? — и гладила его ладонями, впивалась в него губами, стонала и вздыхала.
Как-то вечером они возвращались через поселок и встретили его отца, который ехал на работу. Медленно крутя педали, он проехал мимо, потом сзади из темноты донесся его голос:
— Колин, это ты?
Отец остановился, поставил ногу на край тротуара и ждал его ответа, посматривая на Шейлу.
— Твоя мать беспокоится, куда ты запропал. Ты что, не знаешь, что скоро уже десять? — Голос у него был глухой, придушенный, словно кто-то звал из-под каменной плиты.
— Я домой иду, — сказал он. — Вот только провожу Шейлу.
— Ну, побыстрее, — сказал отец и отвернулся, нащупывая ногой педаль. — Тебе еще рано разгуливать в такое время.
На следующий вечер, когда он вернулся из школы, отец ждал его на кухне. Стивен и Ричард уже были выдворены в соседнюю комнату и играли там. Из-за двери доносился голос матери.
— Ну, кто она такая? — сказал отец. — Как ее зовут и откуда она?
— Ее зовут Шейла. Она живет в поселке. — Он отошел в угол к буфету посмотреть, не найдется ли чего-нибудь поесть.
— Ну, а фамилия? — сказал отец.
— Ричмонд.
— Я никаких Ричмондов не знаю. На какой улице она живет? — Отец сидел у стола выпрямившись, упираясь кулаками в колени.
— Они недавно приехали, — сказал он и назвал улицу.
— Ах, вот что! — сказал отец. — Самый скверный квартал в поселке. Там такие живут!
— Да ведь не от нее зависит, где ей жить, — сказал он.
— Не от нее, так от кого-то другого, — сказал отец. — А чем ее папаша занимается? — добавил он.
— Не знаю, — сказал он и мотнул головой.
— И вот, значит, с кем ты все время шлялся. А говорил, что гуляешь с Йеном и Майклом Ригеном.
— Не все время. Иногда я и с ними ходил, — сказал он.
— Это когда же? После дождичка в четверг? — сказал отец. — А как ее мать смотрит на то, что она разгуливает допоздна? — добавил он.
— Откуда я знаю?
— Должны же они о чем-то думать. Не все же такие рохли, как мы тут.
— Ее родители развелись, и мать работает, так что на ней все хозяйство лежит.
— Господи! — Отец стукнул кулаком себя по лбу. — Она что, работает, девка эта, или еще в школе учится?
— Ее Йен знает, — сказал он. — Она с ним в одном классе.
— Да уж, об заклад побьюсь, Йен ее знает, — сказал отец. — Раз за ней нет никакого присмотра, так ее еще много кто знает.
— Больше я это обсуждать не хочу, — сказал он. — Ты ее не знаешь, не то ты, наверное, не нашел бы нужным говорить такие вещи.
— Куда же это вы ходите по вечерам? — спросил отец, словно не услышав его последних слов. — Куда вы ходите в такое время?
— Мы ходим в кино. Мы ходим гулять. Иногда мы ходим в Парк, — сказал он.
Дверь открылась, и вошла мать. Из комнаты донеслись голоса его братьев.
— А ты что скажешь? — спросил отец. — Ты знала, что он чуть ли не каждый вечер гуляет с девчонкой?
— Догадывалась, — сказала мать, моргая за стеклами очков.
— И в секрете держала, черт подери, — сказал отец.
Мать закрыла за собой дверь.
— А ругаться ни к чему, — сказала она, и глаза у нее словно стали еще больше.
— Я не ругаюсь. Хоть одно черное слово я сказал? — Он встал из-за стола, подошел к очагу, постоял возле него и вернулся назад к столу. — Черт подери, тут выругаешься. Куда они, по-твоему, ходят и чем занимаются в такое время? Ты что, и спросить его не хочешь? — Он стукнул кулаком по столу, стукнул еще раз, потом сел и беспомощно поглядел на мать.
— Почему ты не пригласишь ее к нам? Или она не захочет прийти? — сказала мать.
— Нет, почему же, — сказал он. — Мне кажется, ей будет приятно.
— Вот и хорошо, — сказала мать и добавила, повернувшись к отцу: — Ну что, ты доволен? Познакомишься с ней, посмотришь, какая она.
— А толку-то! — сказал отец и снова повернулся к огню, словно знал много такого, о чем не мог ей рассказать.
— По-моему, он просто забыл про то, как был молодым, — сказала мать.
— Нет, не забыл, — сказал отец, упрямо глядя на пламя.
— Ну, если человек сам озлобился, это еще не причина других озлоблять, — сказала мать и, подхватив на руки Ричарда, который вошел в кухню, прижала его в груди.
— Вовсе я не озлобился, — сказал отец, — а просто знаю жизнь получше других некоторых.
— Что-то ты знаешь, — сказала мать. — А о чем-то никакого представления не имеешь.
— Угу. Никогда я ничего не знал и теперь не знаю, — сказал отец, подошел к очагу, взял свои шерстяные носки, рубашку, выцветшие брюки и пошел с ними к лестнице, потому что ему уже пора было переодеваться на работу.
Приглашение ее почему-то смутило. Он встретил ее вечером у остановки школьного автобуса и прошел с ней через поселок до угла ее улицы.
— А зачем мне к вам идти?
— Ну, им хочется с тобой познакомиться, — сказал он, тщетно пытаясь взять ее за руку.
— А когда они этого захотели? Мы ведь с тобой давно гуляем, — сказала она. — После того как твой отец тебя увидел?
— Отчасти, — сказал он. Но он гордился ею и был бы рад показать ее родителям.
— Придется тебе передать им мои извинения, — сказала она. — По субботам и воскресеньям это неудобно. А будние дни, боюсь, у меня все заняты. Придется им отложить смотрины до другого раза.
— Просто их интересует, какая ты, и ничего больше, — сказал он.
— Почему? — сказала она. — Они что, опасаются, как бы мы не поженились? — От раздражения ее щеки покрылись румянцем, каким-то детским, беззащитным, глаза потемнели.
— Ну, потому что я столько времени провожу с тобой и так к тебе отношусь. Они думали, что тебе приятно будет с ними познакомиться, — сказал он и добавил. — Я ведь был бы рад познакомиться с твоей матерью, если бы ты меня пригласила.
Она засмеялась — зло, сощурив глаза.
— Только этого не хватает.
— Я был бы рад.
— Ты был бы, да я-то не была бы. И она тоже. Ведь она даже не знает, что есть такой ты.
— А почему не знает? — Он вызывающе поглядел на ее дом, словно собирался пройти по улице и постучать в дверь.
— Да потому, что она на мне живого места не оставит, если узнает, что я столько времени провожу с кем-то. То есть с мальчиком. Я ей говорю, что хожу к Джеральдине Паркер. Мне пока везет, — добавила она. — У нее нет привычки проверять.
— Ну, а если она тебя сейчас увидит? — сказал он, все еще глядя в сторону ее дома.
— Скажу, что иду домой с автобуса.
— А если она тебя еще где-нибудь увидит?
— Вот увидит, тогда и посмотрим.
Она уже шла по тротуару, снимая берет, словно хотела, чтобы здесь ее не считали школьницей, а признавали взрослой женщиной.
— Когда встретимся? — сказал он, нагнав ее у первой двери.
— Понятия не имею, — сказала она. — И дальше не ходи. Мне и без того нелегко с тобой встречаться.
— Так, может, тебе лучше вообще со мной не встречаться? — сказал он и остановился.
— Дело твое, — сказала она. — Как хочешь. — И испуганно отвернулась, узнав голос, донесшийся от двери в дальнем конце улицы. Она побежала, а он пошел назад — главным образом ради нее — и обернулся на углу, но она уже вошла в дом.
— Так, значит, она не придет? Ничего другого я и не ждал, — сказал отец.
— Наверное, она про тебя наслышалась, вот и не захотела прийти, — сказала мать, но по ее лицу было видно, что она расстроилась.
— Ну, а я кое-что помню про твой дом, — сказал отец. — Такое, что любого отпугнуло бы, а уж ухажеров и подавно.
— Ну, одного-то не отпугнуло, — сказала мать.
— Угу. Только потом он об этом пожалел, — сказал отец и отвернулся, увидев, что ее щеки начинают краснеть.
Она сняла очки и медленно вытерла глаза.
— А, к черту! Все мы говорим вещи, о которых потом жалеем, — сказал он. — Но об одном я никогда не жалел, — девочка, — добавил он. — О том, что я на тебе женился.
— Вот в такие минуты правда и выходит наружу, — сказала она, утирая глаза уголком фартука.
— Всему причиной эта девчонка и что он дома бывать перестал, — сказал отец. — Веди он себя как нормальный парень, ну, как соседский Йен, мы бы друг на друга не накинулись.
— Ты же всегда ругаешь Йена, — сказала она.
— Да нет. Наверное, в чем-то и он хорош.
— Ну и нечего копаться, — сказала мать.
— Только дыма без огня не бывает, — добавил отец.
— А ты того гляди целый пожар устроишь, хотя и нет ничего, — помолчав, сказала мать и ударила кулаком по столу так, что отец хмуро обернулся, надел шлепанцы и медленно пошел к двери.
— Не жалуйся, что я тебя не предупредил, Элин, — сказал он, напирая на ее имя так, словно Колина здесь вообще не было. — И не беги ко мне, когда дело до беды дойдет. — Он закрыл дверь, оставив за собой последнее слово.
— А она придет? То есть когда-нибудь потом? — спросила мать, когда тяжелые шаги отца раздались у них над головой.
— Не знаю, — ответил он. — Да наверное, и не стоит. Возможно, я как-то не так сказал, словно она обязана прийти.
— А если тебе не так часто с ней встречаться? И возвращаться пораньше, — сказала она. — Отец ведь из-за этого сердится.
— Может, я с ней вовсе встречаться не буду, — сказал он, пожимая плечами, а когда она попыталась его расспрашивать, добавил: — Все это чепуха. Оставили бы вы нас в покое, мама, только и всего.
Он избегал тех мест, где мог бы встретиться с ней, и уезжал после школы с более поздним автобусом. Как-то вечером он и Стэффорд стояли перед отелем на центральной площади и разговаривали с девочками, среди которых были Мэрион и Одри.
— Ну, и как поживает наш поденщик, лапочка? — сказала Мэрион. — Все еще репу сажает?
На что Стэффорд яростно обернулся и сказал:
— Прекрати свои жаргонные шуточки!
— Ах, радость моя! — сказала Мэрион. — Вы только его послушайте. А все потому, что некоторые девочки берегутся и не позволяют, чтобы их тискали, точно кошек.
— А некоторые кошки дразнятся, да и додразнятся, — сказал Стэффорд, отчеканивая слово за словом, чтобы все вокруг полностью могли оценить эффект.
— Если бы я не знала, что он подлец, я бы влепила ему пощечину, — сказала Мэрион и добавила, посмотрев на Одри: — Ну как, ты идешь? — Однако сама не сдвинулась с места.
Одри за прошедшие два года еще похудела, ее шея стала длиннее, черты лица обострились, но она по-прежнему легко краснела — когда Колин подошел к ним, по ее щекам и шее разлился знакомый румянец.
Чуть позади них стояла третья девочка, с тонким лицом, высокая, светлоглазая. Она наблюдала их перепалку с легкой улыбкой.
Одри ничего не ответила, но высокая светлоглазая девочка тронула Мэрион за локоть и сказала, хотя та даже не обернулась:
— Мне пора, Мэрион. До завтра. — Она поглядела на Одри, потом на Колина, поправила висящую на плече сумку и пошла через мостовую к углу напротив.
— Кто это? — спросил Колин, глядя ей вслед.
Одри посмотрела на него с удивлением.
— Это Маргарет. Она ездит на автобусе. — Она снова перевела взгляд на Мэрион и добавила: — Мне ведь тоже давно пора.
Однако когда через некоторое время он пошел к автобусу, она все еще стояла у входа в отель с Мэрион и Стэффордом. Стэффорд, засунув руки в карманы и небрежно прислонившись к стене, постукивал каблуком по облицовке. Он крикнул:
— Пока, Коль! — И махнул ему с такой небрежностью, словно они стояли тут вместе каждый вечер.
На соседней остановке Колин увидел ту девочку. Когда его автобус отошел, она все еще стояла там, высокая, сдержанная, с лицом тонким, как у фарфоровой статуэтки.
— Ты столько времени от меня бегал. Откуда мне было знать, что ты хочешь меня видеть? — сказала Шейла, когда он пошел за ней от автобусной остановки вместе с Блетчли и другими ребятами. — Я думала, ты нарочно от меня прячешься. И Джеральдина тоже так думала, — добавила она, указывая на белокурую девочку с круглым детским лицом, которую он заметил только сейчас, когда она, словно по какому-то тайному сигналу, отделилась от хохочущей, распевающей компании позади и нагнала их.
— Может, поговорим, когда ты будешь одна? — сказал он.
— А я и сейчас одна, — сказала она.
Белокурая девочка, которая шла по другую руку Шейлы, осторожно поглядела на него.
— Ты свободна в среду вечером? — сказал он, стараясь говорить тихо и спокойно, словно между ними все было как прежде.
— В среду я иду к Джеральдине.
— Ну, а в четверг? — Он перечислил все дни недели, но она либо качала головой, либо смеялась, либо отвечала:
— По-моему, я тебе уже говорила. Моя мать работает по вечерам.
Наконец, убедившись, что все бесполезно, он замедлил шаг, и Блетчли, который, обогнав остальных, шел за ним следом и покровительственно улыбался, теперь взял его под руку и сказал:
— Не связывайся ты с ней, старик! — И добавил: — На твоем месте я бы поставил точку.
— Я еще немножко погуляю, — сказал он.
Блетчли пожал плечами, сунул руку в карман куртки, поправил ранец и зашагал назад к перекрестку.
Несколько минут спустя Колин свернул за угол и пошел по ее улице, посматривая на окна и двери, пока не узнал подъезд, который запомнил с того раза, когда поздно вечером, простившись с ней, тихонько прокрался сзади, чтобы точно узнать, в какую дверь она войдет, а потом даже прижался ухом к филенке, но ничего не услышал — внутри царила полная тишина. Теперь, когда улицу еще озаряло заходящее солнце, он увидел грязное пятно и щербины вокруг разболтанной деревянной ручки — вот бы взяться за нее, постучать, открыть дверь и войти, кивнув тем, кто внутри, так, словно он бывал тут уже много раз. Окно возле двери, запыленное, все в рябинах от дождевых капель, было задернуто красной занавеской, подвешенной криво и с белесой выгоревшей полосой посредине. Когда он проходил мимо, из дома не донеслось ни звука, и он пошел дальше по выщербленному тротуару, а потом остановился и некоторое время смотрел назад. От двери к двери перебегали ребятишки, за ними, тявкая, трусила собачонка. Он обогнул угол и пошел назад через дворы, стараясь и тут угадать ее дверь, с надеждой посматривая то на один черный ход, то на другой.
Во дворах никого не было, если не считать женщины, которая вышла на крыльцо вытряхнуть скатерть. За стеклами окон маячили какие-то лица и фигуры. Он подождал еще немного, потом сунул руки в карманы, ощущая на себе взгляды людей, сидевших во дворах напротив, зашагал к углу и снова вышел на улицу. Там он поглядел в ее дальний конец и, не вынимая рук из карманов, медленно, все еще надеясь, что его догонят, побрел назад к перекрестку и к своей улице.
— «Осени седые семена мне сердце ранят неведомым томленьем. Лежу средь трав, седых от горя, и прижимаю их мягкий шелк к лицу: недоумение и ярость питают мою тоску, земля опалена слезами. Я жаждал прикосновения, необоримого, как смерть, но наносила мне она лишь раны, что умерщвляли плоть и у меня исторгли боли вопль, которого, теперь я знаю, она искала».
Он зачеркнул «томленьем» и написал «гореньем», зачеркнул «гореньем» и вернул «томленьем». Он прочел все с самого начала, проборматывая слова, нагибаясь в полумраке к листу, пока не заныла спина, а тогда взял блокнот с колен и поднял его к глазам. Наконец, решив, что больше ничего прибавлять и исправлять не нужно, он положил карандаш в карман куртки, засунул блокнот за пазуху, встал, отодвинул задвижку, спустил воду и вышел во двор.
Он закрыл за собой дверь и пошел к дому.
— Не понимаю, чем ты там занимаешься, — сказала мать. — Я полчаса жду. Разве ты не слышал, как я подходила к двери?
— Слышал, — сказал он.
— У тебя что, запор? — сказала она.
— Нет, — сказал он.
— Ну, ничего не понимаю, — сказала она отцу и сошла с крыльца. Ее шаги быстро прошуршали по шлаку.
— Ты там читаешь, что ли? — сказал отец. — Так почему там, а не тут?
— Я ведь не знал, что она ждет, — сказал он.
— Это еще как? Что же, по-твоему, она дверь для смеха дергала?
— Ну, я забыл.
— Забыл? — сказал он. — Что, по-твоему, мы во дворце живем? Уборная у нас одна на всех.
— Хорошо, извини, — сказал он и пошел к лестнице.
— Куда это ты идешь, позвольте узнать? — спросил отец.
— Мне надо кончить одно задание, — сказал он.
— Ну, кончай, да только побыстрее, — сказал отец. — Не дом, а монастырь какой-то! В уборную не войдешь, кто-то там мудрствует.
Он закрыл дверь своей комнаты, протиснулся между своей кроватью и кроватью Стивена и сел на единственный стул — отец год назад сколотил его из досок и брусков, которые извлек из бывшего бомбоубежища. Он достал блокнот, открыл его, перечитал написанное и печатными буквами вывел название: «ОСЕНЬ». Услышав внизу на кухне голос Стивена, он нагнулся, вытащил из-под кровати деревянный ящик, подсунул блокнот под стопку учебников и сделал вид, что проглядывает их, когда минуту спустя дверь распахнул светловолосый голубоглазый Стивен и сказал:
— Колин, а ты чего делаешь? Ты уже кончил? А то мне спать пора.
Шоссе загибалось влево. Впереди маячили два велосипедиста, но, когда он добрался до поворота, они скрылись из вида. Риген плелся где-то далеко позади — а может, даже и вообще отправился обратно, пришло ему в голову, когда он улегся в траву за кюветом и принялся жевать стебелек. Однако через несколько минут на середине шоссе показалась высокая нескладная фигура. Риген шел медленно, сунув руки в карманы, а когда увидел, что он ждет, посмотрел на него с полным равнодушием и ничего не сказал, даже поравнявшись с ним, — только сел рядом и вздохнул. Потом вытянул ноги и откинул тяжелую голову. Длинные темные пряди упали ему на лицо.
— Если хочешь, подождем автобуса на следующей остановке, — сказал Колин.
— Нет. Я ничего. — Риген закрыл глаза и, оттопырив нижнюю губу, попытался сдуть волосы с лица. Его худые щеки побагровели, ноздри расширились, на виске дергалась голубоватая жилка.
Некоторое время оба молчали, убаюканные тишиной, зноем и щебетом птиц. Издалека с полей донесся стук трактора, и Риген приподнялся, решив, что это автобус.
Но ничто не нарушало покоя уходящих вдаль полей и перелесков.
— Может быть, пойдем? — сказал Колин. — Часа через полтора начнет темнеть, а, по правде говоря, — добавил он, — я не очень представляю, где мы.
— Ну и что? — сказал Риген, снова растягиваясь на траве. — Вернемся поздно — так вернемся поздно. — Он закрыл глаза, выпятил губу и снова подул себе на лицо. — Что ты думаешь делать после школы? — сказал он потом.
— Не знаю, — сказал Колин. — Может быть, поступлю в колледж.
— А мне, наверное, в армию идти.
— Значит, ты ни в колледж, ни в университет поступать не попробуешь?
— А как? — Риген широко открыл глаза и уставился на листья у себя над головой. — Я же аттестата не получу, — сказал он. — Ну, да это мне все равно. Я считаюсь малокровным, так что в армию меня, может, и не возьмут.
— А как твоя школа, хорошая? — спросил Колин. Он изредка встречал Ригена на улицах города в темной фуражке с красной кокардой школы святого Доминика и в куртке с красными кантами, но в таких случаях Риген всегда старался ускользнуть или делал вид, будто не видит его.
— Ну, учат там хорошо, если ты хочешь учиться, — сказал Риген. — А нет, так на тебя никто внимания не обращает. В любом случае, — он медленно поднялся на ноги, — я могу поступить в оркестр какого-нибудь танцзала. Или даже организовать свой оркестр. Так для чего мне колледж!
— А где бы ты его организовал?
— В поселке. Или в Брайерли. Или в Шафтоне. Ну, где угодно! — Он взмахнул рукой, вытянув длинные тонкие пальцы. — Дома я про это не говорю. Мать хочет, чтобы я поступил в музыкальный колледж. Только, по-моему, он мало что может дать. Отец говорит, чтобы я попробовал устроиться на работу в совете графства или в какой-нибудь бухгалтерской конторе.
Колин встал.
— Пойдем все-таки.
— Ты в любом случае попадешь в армию, — сказал Риген. — И Блетчли тоже. Хотя, возможно, сначала получишь отсрочку. Мать потому и хочет, чтобы я и дальше учился музыке. Она думает, если я стану студентом, так через год-другой мне уже не надо будет опасаться призыва.
— Его что, отменят? — спросил он.
— Наверняка, — сказал Риген.
Они отправились на эту прогулку с утра. Днем расположились возле озера, по которому плавали две-три лодки, а потом решили найти путь домой покороче и пошли наугад. Шли они уже около двух часов, но вокруг все оставалось незнакомым. Однако Ригена как будто совсем не интересовало, заблудились они или нет.
— Видишь ли, танцевальных залов не так уж много. И можно давать уроки. Или открыть клуб. — Откинув назад длинные волосы, он проделал что-то вроде танцевального па. Его ноги, маленькие и изящные, легко постукивали по асфальту. — Я этому по книге научился. В общем-то, просто, надо только поймать ритм. В сущности, все сводится к тому, чтобы одна нога следовала за другой. — Ободренный этими планами на будущее, а может быть, просто отдохнув, Риген теперь шел чуть впереди. Он вскинул руки, прищурил глаза и с невероятной для него смелостью пританцовывал, мурлыча мотив, а потом поглядел на Колина и добавил. — И раз-два-три. И раз-два-три, — приглашая последовать его примеру.
Колин засмеялся — он редко видел, чтобы Риген бывал чем-то увлечен, — и через секунду точно так же вскинул руки и начал выделывать па, наклонив голову, чтобы точнее копировать движения Ригена. Они танцевали рядом, а потом сзади рявкнул клаксон, они отпрыгнули, и мимо промчался автомобиль. За стеклом мелькнули два удивленных лица.
— Вот видишь, это всем интересно, — сказал Риген, помахал вслед исчезающей в облаке пыли машине и снова вышел на середину шоссе. — Что скажешь, о Лотарио? Станцуем?
Колин старательно двигал ногами, следуя наставлениям Ригена, который глядел на него и смеялся, а потом прислонился к столбу и сказал:
— Нет, малый, некоторых учи не учи, все едино. — Тощая фигура с массивной головой, отягощенной выпуклостью на затылке, перегнулась пополам, руки бессильно повисли. Весь красный, Риген задыхался и стонал от хохота. — Ты будешь моим первым учеником, идет? А если найдутся еще такие, я в два счета разбогатею.
Но тут к Ригену вернулась его обычная застенчивость. Он пригладил волосы, и они пошли дальше.
Гулять на весь день с Ригеном его отправил отец. Возможно, он рассчитывал на благодарность мистера Ригена, который после национализации угольной промышленности пользовался, по слухам, особым влиянием на шахте в поселке. С тех пор как кончилась война, отец становился все неспокойнее. Одно время ввели карточки на хлеб. Не хватало одежды и продуктов. Он снова, как за три года до этого, попробовал перейти на шахту в поселке и подал заявление на место штейгера, но, насколько было известно Колину, ответа не получил. Вот почему, уступив настояниям отца, он и пригласил Ригена на эту прогулку. Сначала они отправились к озеру — главным образом потому, что, по сведениям Ригена, где-то там находилось кафе, принадлежащее знакомому его отца, и можно было рассчитывать на даровой обед. Однако сведения эти оказались на поверку если не ложными, то, во всяком случае, неточными. Кафе они нашли — деревянный домик у дороги, выкрашенный зеленой краской, но, когда они спросили хозяина, к ним вышла смуглая курчавая женщина, которая, когда Риген назвал себя, скосила глаза к орлиному носу и ядовито указала на доску с написанными мелом ценами. В конце концов они ушли, ничего не купив.
Ощущение ненужности и бесцельности становилось все сильнее. В павильоне у озера они купили себе поесть — самую малость, и мысль о том, чтобы вернуться в поселок новым, более коротким путем, была подсказана тайным желанием поскорее положить конец прогулке. Риген все больше уставал, и Колин ушел вперед в надежде найти какой-нибудь знакомый ориентир, но, так ничего и не увидев, уныло сел у обочины, дожидаясь своего спутника.
Однако теперь они шагали очень бодро. Риген насвистывал танцевальный мотив, а иногда что-то бормотал себе под нос, точно ему не терпелось признаться в чем-то, но он еще не знал точно в чем. Наконец он поглядел на Колина и сказал:
— А твои родители что для тебя наметили?
— Они считают, что мне лучше всего стать учителем. Да и какой у меня выбор?
— А чтобы ты в контору шел работать, они не хотят?
— Вроде бы нет. — Он мотнул головой.
— А что ты будешь преподавать?
— Язык и литературу. Может быть, географию. Все-таки самые интересные предметы.
— А меня ни один предмет не интересует, — сказал Риген. — Все они один другого стоят.
Они поднялись на холм.
Впереди протянулась равнина с перелесками, над которыми кое-где высились терриконы. Далеко справа, у самого горизонта, Колин увидел знакомый силуэт копра.
— По-моему, я знаю, где мы, — сказал он.
— И я знаю, — сказал Риген и, прищурившись, посмотрел туда же. — Мы совсем не в ту сторону пошли. И теперь до ночи не вернемся.
Но несколько минут спустя их догнал грузовик. Он остановился, и шофер спросил, не подвезти ли их.
— А, Риген! Брайен Риген. Я Брайена знаю, — сказал он, когда узнал, куда им нужно, и спросил, как их зовут. — Мне про твоего папашу кое-что известно, про что лучше не упоминать, — добавил он, повернувшись к Ригену. — Просто скажи, что тебя подвез Джек Хопкрофт, и погляди, какое у него будет лицо.
Полчаса спустя он высадил их у дороги, ведущей к поселку, и уехал, громко сигналя.
— Хороший был день, — сказал Риген, когда они вошли в поселок. С каждым шагом к нему возвращалась обычная неловкость. — Только ты не говори, про что я тебе рассказывал — про танцы и оркестр, ну, про все это.
— Конечно, — сказал он.
— Да я так, — сказал Риген. — Ведь, если отец узнает, на этом все кончится.
Зажглись фонари. На тротуары и стены домов легли круги желтоватого газового света. Из низины у шахты поднялся туман и медленно затягивал примыкающие к ней улицы. Их шаги громко отдавались в сгустившейся тьме. Из двери Ригена вырывался свет, озаряя фигуру его матери, костлявой, как он, но не такой высокой. Майкл, увидев мать, сразу замедлил шаг и, если бы она его не окликнула, наверное, перешел бы на другую сторону.
— Это ты?
— Мы сбились с дороги, мама, — сказал он, вступая в полосу света. Его голос, его ссутулившиеся плечи вдруг напомнили Колину тот вечер во время войны, когда они вернулись домой после экзаменов.
— Ничего, — сказала его мать и добавила: — Это ты, Колин, голубчик? — Она отошла от двери и пощупала одежду Ригена. — Ты не промок?
— Нет, — сказал Риген. — Мы почти все время ходили.
— Ты не зайдешь, Колин? — сказала миссис Риген. — Майкла кое-что дожидается в духовке, но ему одному много будет. Я не люблю, чтобы он наедался на ночь.
— А, пиликатель явился! — внезапно взревел голос внутри дома, проем двери на секунду закрыла огромная тень, и на крыльцо вышел мистер Риген. Однако, увидев Колина, он заговорил совсем другим тоном. — Ну что, ребятки, нагулялись? Мать понять не могла, куда он запропастился: то подогревала ужин, то остужала, чтобы он не перестоялся. Сами мы тоже без него не садились. Кто же знал, что он так задержится.
— Мы отлично погуляли, — сказал Риген, не скрывая облегчения. — Только заблудились на обратном пути. Вот поэтому и задержались. Нас грузовик подвез.
— Грузовик? — сказала миссис Риген и снова ухватилась за его рукав.
— Тебе просил передать привет Джек Хопкрофт, — сказал Риген.
— Хопкрофт? Хопкрофт? — сказал мистер Риген, поглаживая подбородок, и внимательно поглядел сначала на жену, потом на Ригена. — Хопкрофт. — По-видимому, ни сыну, ни матери эта фамилия ничего не говорила, и мистер Риген добавил: — Что же, можно наконец сесть за стол и поужинать.
Колин пошел дальше, к своему крыльцу.
— Ну и как? — спросил отец, словно он только что вышел.
— Ничего, — сказал он. — Домой нас подвез шофер грузовика. Мы в кабине ехали.
— Ну, Брайен будет доволен, — сказал отец, словно не услышав.
Пришло письмо с результатами экзаменов. Он получил примерно те отметки, каких ожидал, хотя мать удивилась, что отметка по языку и литературе относительно невысока.
— Я думала, это твой любимый предмет, голубчик.
— Просто самый легкий, — сказал он.
— Основу я ему дал хорошую, — сказал отец. — А почему он себя на экзамене показать не мог, этого я уж не понимаю.
— А что показывать? Когда тебя экзаменуют, все обессмысливается, — сказал Колин. — «Проиллюстрируйте на примерах роль природы в поэзии Вордсворта», — добавил он. — Неужели стихи читают для того, чтобы искать примеры?
— Ну, если это нужно для того, чтобы получить хорошую работу, — сказал отец, — так даже я набрал бы примеров, только держись. А ведь я книг не читаю, — добавил он. — Если б ты вкалывал в забое, живо что-нибудь придумал бы, не беспокойся.
— Но он же в забое не работает, — сказала мать.
— Сейчас нет, — сказал отец, — но при таком старании он скоро туда угодит.
— Ну, все-таки это неправда, — сказала она.
— Правда тут одна: кто-то в шахте работает, чтобы содержать его в роскоши, пока он соблаговолит выучить два-три примера. В этом-то и дело, — добавил он в сторону Колина.
Было решено, что он все-таки пойдет в шестой класс. Летом он опять работал на ферме, на той же самой, где когда-то копнил снопы с двумя военнопленными: вставал рано, возвращался каждый вечер поздно и в конце концов скопил деньги на велосипед. Как-то вечером он поехал к Стэффорду, но не застал его дома. В сентябре он вернулся в школу загорелый и окрепший.
Зимой заболел дед. Жил он в отдаленном городе, и отец только теперь узнал, что его взяли в муниципальный приют для престарелых. Как-то в субботу отец поехал туда с Колином. Они ехали на поезде по непривычным равнинам восточного побережья. Город стоял у устья реки — над крышами однообразных кирпичных домов виднелись подъемные краны порта. Приют был на окраине, и они сели в автобус. Они увидели старинное серое здание и несколько новых сборных домиков. Спальня его деда была на верхнем этаже — длинная голая казарма с железными кроватями у стен. Когда они вошли туда вслед за сестрой, там не было никого, кроме его деда и еще одного человека, но вскоре вернулись другие старики. Они сидели сгорбившись на своих кроватях, курили, вяло разговаривали.
Дед, казалось, спал. Он очень одряхлел с тех пор, как Колин видел его в последний раз. Крупный крючковатый нос торчал между провалами глаз, точно костяная перемычка, щеки запали, беззубый рот ввалился. Колин физически ощутил, как потрясен отец.
— Пап? — сказал отец, а сестра добавила:
— Мистер Сэвилл! К вам пришли, голубчик.
Молочно-голубые глаза деда медленно открылись, несколько секунд он тупо смотрел прямо перед собой, потом поглядел на сестру и с возрастающим недоумением уставился на отца и Колина.
— Пап? — сказал отец. — Ну как ты?
— Ничего, — сказал дед, словно отец уже давно был тут, а потом добавил: — Это ты, Гарри?
— Мы приехали, как только узнали, — сказал отец.
— А кто это? — сказал дед, растерянно глядя на Колина.
— Твой внук. Ты же его помнишь.
— Колин, — сказал дед неуверенно и опять поглядел на сестру.
— Почему ты не сообщил, где ты теперь живешь? — спросил отец.
— Не люблю я людей по пустякам затруднять.
— Пап, мы бы о тебе хорошо заботились, — сказал отец.
— Обо мне и тут неплохо заботятся.
— Но дома-то жить все-таки лучше.
— Мне и тут неплохо, не беспокойся, — сказал дед и добавил: — А где Джек? Он с тобой тут?
— Он завтра приедет или послезавтра, — сказал отец.
— А я подумал, может, он с тобой тут. — Дед закрыл глаза.
— Ему вредно утомляться, мистер Сэвилл, — сказала сестра, поговорила с двумя-тремя стариками и вышла.
Отец принес себе стул. Колин некоторое время стоял возле кровати и смотрел на голову деда. Отец сидел рядом. Сумку с едой, которую он привез ему, сестра велела оставить у дежурной.
— Вид у него не слишком хороший, — сказал отец, и дед, словно разбуженный его голосом, снова открыл глаза.
— Ты еще тут?
Колин принес стул для себя. Некоторое время он сидел по другую сторону кровати. Потом отец поднял голову и сказал:
— Если хочешь, Колин, подожди снаружи. Чего тебе тут делать?
Лицо у него сразу осунулось, глаза покраснели.
Колин прошел по каменным плитам коридора мимо зарешеченных окон и по бетонной лестнице спустился в вестибюль. Сумка с едой, которую привез отец, все еще стояла на столе дежурной. Он немного подождал, а потом вышел на улицу и начал ходить взад и вперед, поглядывая на окна верхнего этажа и стараясь определить, за которым из них лежит его дед.
Минут через двадцать из дверей вышел отец.
Он, по-видимому, плакал и на секунду, пока спускался по ступенькам подъезда, вдруг словно преобразился в копию того, кто лежал там, наверху. Рассеянно кивнув Колину, он повернулся и пошел к автобусной остановке.
— Он не хочет отсюда переезжать, — сказал отец, когда Колин нагнал его. — И они считают, что тут ему будет лучше, чем в домашних условиях.
Они шли молча, замкнутые теснотой серых улочек. Вдалеке раздавались пароходные гудки, а где-то близко играл оркестр и слышался отрывистый рокот барабана.
Отец вытер нос. Вытер глаза. Когда они подошли к остановке, он немного успокоился.
— Тяжело это. — Он поглядел по сторонам. — Жизнь его не баловала. Я все вспоминаю, каким он был раньше. Знаешь, мы с ним на одной ферме работали. Его тогда уволили, а я нашел ему место, и так мы вдвоем туда и приходили. Вот прямо вижу его. Точно сейчас это было.
В автобусе он умолк, погрузившись в свои мысли. Даже потом, в поезде, он почти ничего не говорил, а когда через два часа они добрались до дома, он присел к столу и на расспросы матери только качал головой и говорил:
— Не могу я. Так это тяжело.
Глаза у него были красные, кожа на щеках и лбу казалась воспаленной.
Две недели спустя пришла телеграмма. Отец был в дневной смене и вернулся домой поздно вечером. Он вошел в кухню, глаза у него были обведены черными кругами. И тут мать сказала:
— Тебе телеграмма.
Отец, возможно, не был готов к тому, что она могла содержать, или слишком устал, чтобы думать. Он небрежно ее распечатал, начал медленно читать, вдруг по-детски вскрикнул, повернулся, точно теряя равновесие, и прислонился к стене напротив двери, закрыв лицо рукой.
— Гарри… — сказала мать, взяла телеграмму и прочла ее, а отец как-то рассеянно сел на стул, снял башмаки и пошел к раковине умываться. Потом, когда мать поставила на стол ужин для него, он все так же рассеянно пошел к двери. Они услышали, как заскрипели половицы в спальне. Мать сразу начала хлопотать у очага, словно ничего не произошло.
— Ну же, Колин. Разве тебе нечем заняться? Уроки ты кончил? Если не станешь копаться, у тебя хватит времени почистить ботинки, — говорила и говорила она и даже почти не остановилась, когда минуту спустя они услышали у себя над головой всхлипывания отца, пугающие, леденящие.
Зима кончилась. В пасхальные каникулы для школьников была устроена экскурсия. Их поселили в пансионате у подножия горы. Как-то вечером он и Стэффорд пошли пройтись до соседней деревушки. С горбатого мостика над устьем ручья открывалась ширь озера. Из домиков позади них доносилось пение.
Стэффорд остановился.
На таком расстоянии казалось, что несколько мужчин и женщин поют песню без слов. Только она нарушала тишину, окутывавшую деревню. Вверх в светлое небо поднимались струйки дыма, темные силуэты домов казались валунами, разбросанными под склоном. На вершине горы, встающей над деревней и мерцающей гладью озера, в лунном свете поблескивал снег.
Стэффорд прислонился спиной к парапету. По дороге он закурил и теперь с легкой улыбкой выпустил облако дыма. Голова его была откинута, локти упирались в парапет.
— Знаешь что? — сказал он. — Меня прочат в Оксфорд.
— Кто? — спросил он.
— Гэннен. Это значит дополнительные занятия латынью. Меня внесли в список сдающих на стипендию.
— А сам ты разве не хочешь? — сказал он.
Стэффорд покачал головой.
— Зачем мы, собственно, живем, как по-твоему?
Возможно, он не слышал пения, потому что погасил сигарету, перегнулся через парапет и бросил ее в укрытый мглой ручей. Из черной тени иногда вдруг поднимались почти светящиеся пенистые гребни. Стэффорд ударил носком ботинка в каменную кладку.
— Наверное, все-таки стоит постараться, — сказал он.
Стэффорд пожал плечами, посмотрел вверх, в холодную безоблачную бездонность неба, с какой-то злостью покосился на луну.
— По-моему, таких усилий это, в сущности, не стоит. А что стоит? Ты знаешь?
— Нет.
— А и знал бы, так мне не сказал бы. Уж очень ты трудолюбивый. И наверное, тебя вполне удовлетворит хорошее место, собственный дом, машина, жена и все такое прочее.
— Нет, — сказал он и отвернулся.
Возможно, Стэффорд и слышал пение, но считал, что это радио: он поглядел на домики с той же злостью, с какой смотрел на луну. Где-то открылась дверь, и тут же залаяла собака.
— Какая это все-таки дыра! Наверное, здесь даже бара нет. — Он медленно отодвинулся от парапета, еще раз стукнул носком по камню и, сунув руки в карманы, зашагал к домикам. — Что мы, в сущности, такое, если уж на то пошло? — сказал он. — Нечто летящее сквозь ничто в никуда, насколько я могу судить. — Он остановился, поджидая Колина. — Через миллиард лет Солнце сожжет Землю, и все, что люди когда-либо делали, думали, чувствовали, рассеется с облаком дыма. — Он засмеялся. — Впрочем, нам этого увидеть не придется. Но вот в воображении… По правде говоря, я это все время ношу в себе. — Он шел в темноте, постукивая носком ботинка по бордюрному камню, и от стен отдавалось эхо. — Тебе-то легко, — добавил он. — Ты явился из ничего, тебя поманили морковкой образования, и ты рвешься к ней, как взбесившийся бык. Никакого труда не жалеешь. Где мне до тебя! Ведь я способен видеть, — продолжал он медленно, — что лежит по ту сторону.
— И что же лежит по ту сторону? — сказал Колин. Теперь он шел рядом с ним, сунув руки в карманы.
— Ровным счетом ничего, старик, — сказал Стэффорд и засмеялся. — Убери морковку, и не останется ровным счетом ничего. Только такие, как ты, выползают из грязи и верят. Погоди, вот добьешься своего, тогда увидишь. Сядешь и задумаешься: «Неужто это все?» — Он снова засмеялся и посмотрел на него в темноте.
Дома остались позади, и они вышли на каменную дамбу, совсем рядом блестело озеро.
— Что нам рассказывал Хепуорт об этих горах? Вот это озеро и эта У-образная долина. Их десять тысяч лет назад прокопал ледник. Сейчас на берегу стоит десяток домишек, в них живет горстка людей, которые испытывают бог знает какие лишения, беды и экстазы, а через десять тысяч лет новый ледник сотрет все это без следа. Ледник или атомная бомба. Так какой же смысл страдать и терпеть?
Колин молчал. У их ног волны озера бились о каменный скат с глухим, почти свинцовым звуком.
— Наверное, ты веришь в божественный промысел и во все эти сказочки, — сказал Стэффорд. Он нагнулся и смотрел на воду так, словно внезапно забыл, что рядом с ним кто-то есть.
— Я не знаю, во что я верю, — сказал Колин.
— В материальный прогресс, подкрепленный малой толикой религиозных суеверий. Это я читаю по твоему лицу, — сказал Стэффорд. — Ты даже в регби играешь всерьез. А уж что может быть бесцельнее спортивной игры? Нет, правда, мне иной раз хочется просто кинуться на землю и хохотать.
— По-моему, это и есть самое трогательное.
— Трогательное? — Стэффорд поглядел на него и покачал головой.
— Если ничто не имеет смысла, а мы тем не менее продолжаем находить в этом смысл.
Стэффорд засмеялся. Он откинул голову, и в лунном свете его волосы внезапно засияли светлым ореолом.
— Трогательное? Я бы сказал, жалкое.
Он достал сигарету, закурил, бросил горящую спичку в озеро, поежился и, поглядев, добавил:
— Пошли назад. Дальше идти некуда. Забавно, насколько это символизирует то, о чем я говорил. — Однако позднее, когда они уже лежали в постелях, Хопкинс храпел, а Уокер постанывал во сне, он добавил:
— Так, значит, ты видишь во всем этом какую-то цель, Колин?
Стэффорд лежал на спине, подложив ладони под голову. Сквозь тонкие занавески просвечивала луна, и по комнате разливалось слабое холодное сияние.
— Я, собственно, никогда не пытался ее определять, — сказал он.
— Ты что, неспособное мыслить животное? — Стэффорд наклонил голову в его сторону, но только чтобы лучше расслышать ответ.
— Нет, — сказал он.
— Боишься сознаться, что веришь в божественный промысел? — сказал Стэффорд.
— Нет, — сказал он.
— Значит, сознаешься?
Колин помолчал. Он смотрел на Стэффорда, который так и не повернулся к нему, но по-прежнему наклонял голову в его сторону.
— Только когда все теряет смысл, этот смысл наконец становится нам ясен, — сказал он.
— Да неужели?
Теперь Стэффорд посмотрел на него — почти с бешенством.
— Например, от этой поездки я получаю большое удовольствие, — сказал он.
— А, и я тоже! — сказал Стэффорд. — То есть, наверное, получаю. Я этого не анализировал. Во всяком случае, не так, как ты. — Он выжидающе умолк. — Но если божественного промысла не существует, не кажется ли тебе, что все это — довольно-таки жуткая шутка? Если наш мир, как все миры, рано или поздно взорвется, разлетится космической пылью, так какой же смысл хоть в чем-нибудь? Словно человек, не жалея времени и сил, до мелочей продумывает собственные похороны. Я не в состоянии понять, зачем это. Если бог намерен допустить, чтобы этот мир исчез, как исчезают все миры, зачем же было населять его нами? Чтобы было кому его восхвалять? Неужели ты искренне веришь, что он ищет аплодисментов? Или его вообще не существует — во всяком случае, в форме, которая подходит под определение, ограничивающееся сферой химических реакций?
Хопкинс охнул во сне, Уокер снова свистнул сквозь заложенные ноздри.
— Ты погляди на Хоппи. Послушай его. Ты считаешь, что вот это — воплощение божественной цели?
Подействовала ли на него поздняя прогулка и свежий ночной воздух или убаюкивающее журчание этого голоса, но Колин почувствовал, что проваливается в сон. Он приоткрыл глаза, увидел, что замолкший Стэффорд, вновь заложив руки за голову, смотрит в потолок, и больше уже ничего не сознавал, пока его не разбудили голоса Хопкинса и Уокера и доносящиеся снизу удары гонга.
Они подходили к границе снегов. Внизу простирались хвойные леса и поросшие дроком холмы, отливали ртутью узкие озера. Прямо под ними с уступа на уступ падал ручей, убегая к деревне, и вот здесь, на подъеме, Стэффорд задержался, оглянулся на Колина и с небрежной улыбкой сказал:
— По-твоему, в этом заключена божественная цель или мы — муравьи, функционирующие механически, ползающие по изъеденному эрозией камню? — Не дожидаясь ответа, он посмотрел вверх, туда, где за круглым озерком плоский, вытянутый треугольник вершины терялся в клубящемся тумане. Гэннен, в башмаках с шипами и бриджах, с палкой в руке и маленьким рюкзаком за спиной, оглянулся и сказал:
— Кажется, я слышу голос скептика?
Мальчики, поднимавшиеся впереди, обернулись.
— Вы так оцениваете открывающийся внизу вид, Стэффорд?
— Просто, сэр, он навел меня на некоторые размышления, — сказал Стэффорд.
— Я не возьму на себя смелость приписывать чему-нибудь божественную цель, тем более сейчас, взирая на море хитрых физиономий ниже по тропе, — сказал Гэннен. — И все же, взирая на пейзаж вокруг, даже я, историк, хорошо знакомый со всеми самыми темными сторонами человеческой натуры, испытываю подъем духа, радостное упоение и чуть ли не готов усмотреть в этом нечто неземное. Ведь все мы, как может сказать нам мистер Макриди, биолог, — конечный результат эволюции, длившейся несколько миллионов лет, и, стоя лишь на пороге существования человека, кто может решить, какое значение вложено в человеческую жизнь? В грядущие годы человечество, возможно, протянет свои щупальца к Луне, за пределы солнечной системы, а то и к другим галактикам. Мы с вами стоим сейчас перед вершиной горы, и кому дано предугадать, где будет стоять человек, например, через тысячу лет? Бог, Стэффорд, как мог бы сказать философ, есть состояние непрерывного становления, а мы, как могли бы сказать психологи, суть элементы его сознания.
Стэффорд улыбнулся. Он поглядел мимо Гэннена и мальчиков, растянувшихся по тропе туда, где по склону к ним поднимался маленький седой Хепуорт со второй, отставшей группой.
— Стэффорду, разумеется, ни философы, ни психологи не нужны, — сказал Гэннен. — Он принадлежит к современной школе, к скептикам, которые видят в человечестве случайный плод биологического детерминизма. Муравьев, ползающих по изъеденному эрозией камню, если я правильно его цитирую. Хопкинсу, конечно, все равно, что мы такое, как и Уокеру — лишь бы ему елико возможно скорее добраться до удобного сиденья и погреться у огня.
Макриди достал из рюкзака небольшую фляжку и приложился к ней. Он откинул голову, закрыл глаза, а потом, сунув фляжку обратно, с тупым недоумением уставился на вздымающийся перед ним пик.
В пансионат они вернулись совсем уже вечером. Шел дождь. В дверях стоял Плэтт с ребятами, которые не ходили на гору. Едва увидев Гэннена, он замахал рукой и закричал:
— Мы уже собрались идти вас разыскивать.
— Самое обычное восхождение, Плэтт, — сказал Гэннен, сбрасывая рюкзак и обводя взглядом измученных мальчиков. — Если не считать момента, когда мы чуть не посыпались в пропасть, день, можно утверждать, прошел без происшествий. Хотя, — добавил он, — нам пришлось просить Стэффорда, чтобы он призвал на нас благословение божье. Дело в том, что, спустившись с вершины — с которой, кстати, мы ровно ничего не увидели. — Мак и я было заблудились. Если бы солнце, механически функционируя, как мог бы выразиться Стэффорд, не выглянуло на минуту из-за туч, мы бы еще долго не вернулись.
Позже, когда горячий пар заполнил коридоры, Стэффорд, обмотанный полотенцем, багровый после ванны, вошел в их комнату и сказал:
— Раньше я как-то не замечал, что Гэннен сентиментален. Пожалуй, я брошу историю: теперь уж ни одному его слову верить нельзя. — Он улегся на кровать, нащупал сигареты в кармане куртки и добавил: — Нет, правда, с таким преподавателем какой у меня шанс получить университетскую стипендию?
Отец с помощью Ригена все-таки устроился на шахту в поселке. Однако ни к чему хорошему это не привело. Теперь, работая рядом с соседями и знакомыми, он терялся, чувствовал себя незащищенным. Он был назначен штейгером и во время смены отвечал за весь забой, но получал теперь меньше, чем прежде, когда подрабатывал сверхурочно, и даже меньше, чем простые шахтеры в его смене. Домой он возвращался куда более измученным, хотя ему уже не нужно было после конца работы проезжать шесть миль. Он задремывал в кухне, уронив голову на спинку кресла, бессильно раскинув руки. Вокруг глаз еще чернела угольная пыль, рот был открыт, он постанывал во сне. Мать боялась его потревожить: Стивен и Ричард ходили в доме на цыпочках, и стоило им стукнуть или скрипнуть чем-нибудь, как она расстроенно шикала на них.
На доме эта перемена тоже сказалась к худшему. Словно каждый день в него вносилась частица шахты — ее пыль, ее мгла, ее чернота заполняли комнаты, и осью всему служила скорченная, обессиленная фигура отца, а мать, братья и он сам опасливо двигались вокруг, буквально отчужденные друг от друга. Тишину нарушало только шиканье матери, усталое дыхание отца, переходившее в храп, и боязливый шепот братьев: испуганно раскрыв глаза, они неслышно шли к лестнице или выскальзывали за дверь, и тут же со двора доносились их голоса, полные облегчения.
— Да мне-то что, чего он там думал? — сказал отец, когда в конце года они обсуждали, сдавать ли ему на университетскую стипендию. — Но если он думает о колледже, так ведь ему надо проучиться лишний год.
— В колледж он может поступить в будущем году, — сказала мать. — Чтобы выйти учителем. Еще год ему надо учиться, если он будет поступать в университет, — добавила она.
— Пусть так выбирает, чтобы побыстрее начать работать, — сказал отец. — Только, конечно, не в шахте.
Как-то вечером Гэннен приехал поговорить с родителями. Колин высчитал, когда примерно он доберется до поселка, и предложил пойти встретить его на автобусной остановке, но отец воспротивился:
— Мы ж не принца какого ждем. Сам дойдет, как все прочие.
— Какие прочие? — сказала мать. — Если бы нас почаще люди навещали, хоть порядку было бы больше.
— Порядку? А чем тебе тут не порядок? — сказал отец, обводя взглядом голые половицы, кресла с торчащими пружинами, вылинявшую скатерть на столе, закопченные стены. — Он ведь не инспектировать нас придет, а дать совет.
Но когда Гэннен пришел, дверь ему открыла мать, а отец стоял на кухне, наклонив голову, выжидая, чтобы его позвали, и только потом пошел в нижнюю комнату, куда мать пригласила Гэннена. Комната выглядела даже более убогой, чем кухня, там было холодно и дуло. Через несколько минут Гэннен сам предложил им перейти на кухню.
— Давайте лучше посидим в столовой, — сказал он, и это тактичное определение успокоило мать: она быстро вышла в коридор и широко распахнула дверь.
— Ну зачем, пускай остаются, — сказал Гэннен, когда она погнала Стивена и Ричарда из кухни назад в комнату.
Гэннен грузно опустился в кресло, его руки легли на торчащие пружины, и казалось, будто его крупное тело схвачено капканом.
— А я не знал, что тут подрастают еще два Сэвилла, — сказал он. — Свежее пополнение для первой команды, — добавил он и поглядел на Колина.
— Чего-чего, а силенки у них хватает, — сказал отец, севший на стул у стола. Лицо у него раскраснелось.
Мать собрала чай. Однако только час спустя, когда Гэннен уже начал прощаться, отец наконец сказал:
— Ну, так что же, мистер Гэннен? Как вы считаете?
— Я считаю, что Колину следует поступить в университет, — сказал учитель. Он стоял на пороге парадной двери и смотрел назад, в освещенный коридор.
— Угу, — сказал отец неопределенно, словно учителя вовсе здесь не было, а он прислушивался к голосу, доносящемуся из другой комнаты.
— Если я как-то могу помочь, — сказал Гэннен, — дайте мне знать. — Он шагнул назад в коридор и пожал руку матери, а потом отцу.
— Я провожу вас до остановки, если хотите. Я покажу ему дорогу, — добавил Колин, обращаясь к отцу.
— Если нетрудно, — сказал Гэннен, который остановился на крыльце, видимо довольный, что пойдет не один. — Я ведь далеко не сразу нашел ваш дом, — добавил он.
Уже стемнело. Над шахтой висела желтая луна, и на фоне облачной гряды вырисовывалась вершина террикона. Некоторое время они шли молча. Улицу затягивал легкий туман. Их шаги звонко отдавались между домами.
— По-вашему, они согласятся? — сказал Гэннен.
— Не знаю, — сказал он. — Представления не имею.
— Конечно, я отдаю себе отчет, с какими это связано трудностями, — сказал учитель, словно уже не сомневался, что потерпел неудачу. — Уже то, что они довели вас до шестого класса, большая их заслуга, — добавил он.
Свет фонарей падал на укутанные фигуры встречных.
— Кем вы хотели бы стать в идеале? — спросил учитель.
— Не знаю, — сказал он и добавил: — Поэтом.
Гэннен улыбнулся. И посмотрел на него.
— А вы пишете стихи?
— Немного.
— Но все-таки.
— Очень мало.
— Вы не похожи на поэта, — сказал Гэннен примерно так же, как говорил с ними в классе. — Мне всегда казалось, что поэты — худосочный народ. Во всяком случае, все мои знакомые поэты были такие. Впрочем, у меня на них никогда не хватало времени. — Затем, словно решив, что был слишком резок, он добавил: — Насколько я понимаю, они просто проходили определенную стадию. Во всяком случае, каждый раз это подтверждалось. В большинстве неплохие были ребята. И вскоре так или иначе начинали преподавать, как и все мы, грешные. — Он засмеялся. Его голос далеко разносился по улице. — В любом случае поэзией много не заработаешь. Это вообще не профессия. А чем бы вы хотели заняться, чтобы зарабатывать себе на жизнь?
— В конце концов буду преподавать, — сказал он.
— А на поле во время схватки вы сочиняете? — спросил Гэннен, явно довольный его признанием.
— Нет, — сказал он. — Там уж не до этого.
— Иногда, насколько помнится, я замечал у вас определенную апатичность, — сказал учитель, посмотрел вперед и добавил: — Это уже остановка? Я бы ее не нашел. — Он указал дальше по улице. — По-моему, я слез где-то там.
Когда наконец появился автобус, Гэннен протянул ему руку.
— Надеюсь, вы объясните родителям, какие это даст вам преимущества, — сказал он, — не упоминая про поэтическое призвание. На вашем месте я бы ограничился перечислением профессий, доступ к которым открывает университет, — добавил он, влез в автобус, не оглянувшись, прошел вперед и сел там, словно уже забыв о том, куда он ездил и зачем.
В этом году он постоянно играл в первой команде, выступал за школу на легкоатлетических соревнованиях, а в пасхальные каникулы нанялся на ферму и начал готовиться к июньским экзаменам. Это было чуть не самое счастливое время в его жизни. Даже регби его увлекало, потому что игру приходили посмотреть девочки — Одри, и Мэрион, и сдержанная тихая Маргарет, которая всегда стояла чуть в стороне от их шумной компании. Даже тренировки два раза в неделю доставляли ему теперь удовольствие: с нападающими занимался Гэннен, а с остальными — Картер, преподаватель физкультуры. Нападающие играли между собой, строили схватку с игроками второй команды, отрабатывали отражение захвата, прорывы, вбрасывание, а также позиции в схватке, часами, как им казалось, толкая металлический тренажер. Гэннен командовал: «Ниже, ниже, спину не прогибать, нажим вверх», просовывал мускулистую руку между торсами, пригибал головы, ставил бьющие по мячу ноги в правильное положение, а с другого конца поля доносились выкрики Картера — Стэффорд передавал мяч или с другим игроком разучивал удары по воротам издалека.
В конце концов было решено, что он пойдет в колледж. Гэннен больше не упоминал ни о том, как был у них, ни о своем разговоре с его родителями. Когда он сказал ему, что поступает в колледж, Гэннен, который стоял у своего стола, кивнул и добавил:
— Хорошо, что вы все-таки не бросаете учиться. — Он собрал свои книги. — Если я могу чем-нибудь помочь, то буду рад.
Колледж находился в соседнем городе, и он поехал туда на автобусе, чтобы подать заявление о приеме. Бесконечные коксовые печи и фабрики, заводы и склады, улицы, тесно застроенные домами, глухие стены и рекламные щиты наконец уступили место небольшому парку. В конце асфальтового проезда стояло кирпичное здание колледжа, справа и слева протянулись два спортивных поля.
Человек, который разговаривал с ним, казалось, был удивлен. Невысокий, с черными волосами, гладко зачесанными назад, темнобровый, темноглазый, он сидел за своим столом с непроницаемым видом.
— Откровенно говоря, я думаю, что вы делаете ошибку, — сказал он. — Лучше останьтесь в школе еще на год. Получите степень. Мы вам будем только рады, но я искренне считаю, что для вашей подготовки требования здесь слишком низки. — Он добавил: — Ну, и вдобавок служба в армии. Ведь так вы просто получаете отсрочку на два года.
— И все-таки я хотел бы подать заявление, — сказал он.
— Нас вполне устроит, если вы поступите к нам. Я имел в виду только ваши собственные интересы. — Он говорил и быстро писал что-то на листе перед собой.
Стэффорд, откинув голову, медленно выпускал дым из ноздрей — отголоски его звонкого беззаботного смеха замирали среди деревьев. Он был в смокинге, под подбородком был безупречно завязанный черный галстук. В сумраке его светлые волосы, казалось, испускали слабое сияние.
За одним из столиков в одиночестве сидела Маргарет. На ней было голубое платье, волосы стягивала лента. Она держала в руке бокал, который ей, по-видимому, только что принесли, — краем глаза он успел заметить фигуру, ускользнувшую к компании Стэффорда.
— Тут кто-нибудь сидит? — сказал Колин, подходя.
— Нет, — сказала она. Белокурые волосы, не очень густые, она завязала на затылке в «конский хвост». Платье с короткими рукавами и пояском было без всякой отделки, если не считать большого белого воротника.
Некоторое время они молча смотрели на группу по ту сторону лужайки, откуда вскоре донесся громкий смех Мэрион.
— Ты часто здесь бываешь? — сказал он.
Она улыбнулась.
— Нет. Я тут в первый раз.
— Ну, а почему сегодня такое исключение?
— Я получила приглашение, — сказала она. — Как и ты.
— Ты тоже в этом году кончаешь?
— Нет. — Она покачала головой. — Я еще в выпускном классе. То есть только перешла. — Она добавила: — А ты кончаешь, мне Мэрион рассказывала.
У нее были прозрачные серые глаза, чуть впалые тонко обрисованные щеки и слегка вздернутый нос — лицо, исполненное такой хрупкой нежности, что в сумерках, подумалось ему, оно кажется выточенным из льда. И в ней была та светлая легкость, которую он заметил, еще когда в первый раз увидел ее на центральной площади и потом — в очереди на автобус. Ни тогда, ни после он с ней не разговаривал, если не считать вечеринки, устроенной первой командой на рождество, когда он танцевал с ней.
— А что ты думаешь делать теперь? — спросила она.
— Поступаю в колледж. — Он пожал плечами.
— А в армию тебя не призывают?
— У меня отсрочка.
— А Стэффорд остается еще на год.
— Да, — сказал он и добавил: — Принести тебе чего-нибудь выпить?
— Спасибо, у меня еще есть, — сказала она.
Некоторое время они молчали. Под деревьями медленно, неловко танцевали две-три пары. Патефон заиграл новую мелодию. Родители Мэрион, устроившие вечеринку, совсем недавно переехали в этот дом на краю города над самой долиной — высокий кирпичный особняк с крутой щипцовой крышей. Лужайка сбоку от дома и деревья вокруг нее были иллюминированы — ветер покачивал длинные гирлянды китайских фонариков, подвешенные между ветками. По краям лужайки стояли белые металлические столики. Мэрион в платье с открытыми плечами чмокнула его, когда он пришел, притворно удивилась его подарку — хотя на столе позади нее лежала целая груда коробок и пакетов — и, пожав его локоть, быстро отошла, едва появился Стэффорд.
Солнце скрылось за деревьями, и фонари словно загорелись ярче.
— Потанцуем? — сказал он.
— С удовольствием.
Она встала из-за столика, вышла на траву и приподняла руки.
Он вел ее, только чуть придерживая.
Они медленно двигались по краю лужайки. Оттуда, где сидела компания Стэффорда, доносились взрывы смеха, дымок от сигарет проплывал под фонариками, которые светляками мерцали на красном фоне заката.
Потом они ушли в сад. Между деревьями вилась дорожка. Она выводила на лужайку поменьше, к каменному парапету и обсаженной розами террасе. Внизу под ними сверкали огни города. Солнце уже зашло, и последние отблески догорали высоко в небе на западе. Прямо напротив, на севере, черными силуэтами вставали купола, башни и высокий шпиль собора. Он сжал ее пальцы, а когда она не отняла руки, слегка обнял за талию.
Позади них звучали приглушенные деревьями и мглой голоса и медленная, почти тоскливая музыка танца.
— Ты живешь в городе? — спросил он.
Она покачала головой.
— Не совсем. Примерно в миле от него. — Она неопределенно махнула рукой в сторону долины. — Мой отец врач. И мы обосновываемся поближе к месту его работы.
— Вероятно, то же справедливо в отношении каждого человека, — сказал он.
— Разве? — Она поглядела на него. — Да, пожалуй. Хотя не всегда это осознаешь, — добавила она.
Несколько секунд они неловко молчали, глядя туда, где за садами соседних домов виднелся холм с фундаментом замка. Немного ниже тянулась зубчатая линия развалин с единственным огромным проемом окна в обрушившейся каменной стене.
— Ты куда-нибудь ходишь? — спросил он. — То есть тебя кто-нибудь приглашает?
— Иногда, — сказала она и засмеялась. — Странный вопрос! Ну, а если бы я ответила «нет»?
Он мотнул головой.
— А знаешь, как тебя прозвали у нас в школе?
— Нет. — Он снова мотнул головой.
— Хмурый мыслитель.
Она засмеялась, откинув голову.
— Не понимаю почему.
— Да, — сказала она. — Самому это понять трудно.
Сзади раздался голос Хопкинса.
— Вот вы где! А вид потрясающий! — Он обвел долину пустым взглядом.
— Потанцуем еще? — спросил Колин.
— Если хочешь, — сказала она и добавила: — Ничего не имею против.
Она отодвинулась от него и пошла назад к большой лужайке.
Стэффорд приехал на машине. Он научился править прошлым летом. Это был автомобиль его матери, и он приезжал на нем в школу. Когда Колин некоторое время спустя собрался уходить, Стэффорд окликнул его:
— Хочешь, я тебя подвезу, старик? — Он стоял у края лужайки, одной рукой обнимая Мэрион, которая, когда из дома вышли ее родители, приготовилась прощаться с гостями.
— Но ведь ты же еще не уезжаешь, Нев? — сказала Мэрион.
Колин взглянул на Маргарет.
— Я обещал проводить Маргарет до автобуса, — сказал он.
Мэрион засмеялась.
— А почему не до ее двери, Сэвверс? — сказал Стэффорд и посмотрел на смуглых толстых родителей Мэрион, словно демонстрируя странности этого чудака.
— Наши остановки рядом, — сказал он. — Я как раз успею на последний автобус.
— Мы и Колина домой отвезем, — сказал Стэффорд и поклонился Мэрион.
Было уже совсем темно. На лужайку из окон дома падали яркие полосы, сливаясь с кругами света от фонариков на деревьях.
Две-три пары еще танцевали.
Когда машина остановилась перед подъездом, из дома появилась Мэрион в меховом палантине. Ее родители после недолгих препирательств с ней на крыльце пошли выпроваживать остальных гостей.
Стэффорд подошел к Маргарет и Колину, которые ждали на лужайке.
— А странно, что мы больше никогда здесь не встретимся, — сказал он. От ворот доносились голоса последних гостей. Кто-то кого-то окликал. Они шли по улице небольшими группами и парами. — Все расходятся, каждый своим путем. Через двадцать лет нам вспомнится этот вечер, и мы подумаем: а что произошло с ними всеми? Девушки давно замужем, у них самих сыновья и дочери почти такого же возраста. А мальчиков, как любит выражаться Гэннен — или это Плэтт? — разбросало по всем четырем сторонам света. Как странно! — Он попыхивал сигаретой, глядя на опустевшую лужайку. — И тогда покажется, будто мы здесь вообще никогда не были.
Со стороны подъезда донесся голос Мэрион.
— Ну, пора доставить тебя домой, Мэгги, — сказал Стэффорд.
Она жила в маленькой деревушке, на старинные каменные домики которой теперь со всех сторон надвинулся разросшийся пригород. Дом прятался в темноте — от калитки в каменной ограде дорожка вела через небольшой сад к освещенному окну.
Колин вылез из машины и проводил ее до калитки.
— Как с тобой связаться? — спросил он.
— Можно позвонить, — сказала она. — Посмотри на «Дормен» в телефонной книге.
— У тебя будет свободное время на следующей неделе? — спросил он.
— Мы уезжаем. — Она остановилась, и ее лицо скрывала тень ограды. На столбе рядом с калиткой он различил надпись белыми буквами на деревянной дощечке: «Р. Д. Дормен, врач». — Я буду месяц гостить у подруги.
— Где? — спросил он.
— Во Франции.
Он стоял, постукивая носком о калитку.
— Ну, так всего хорошего, — сказал он.
— Я могу тебе написать, если хочешь, — сказала она.
— Конечно.
— Напиши сюда и приложи свой адрес. Письмо мне перешлют.
— Ладно, — сказал он.
Стэффорд в машине нажал на клаксон.
— Ну, так позвольте поблагодарить вас за приятный вечер, — сказал он.
— До свидания, — сказала она и добавила, открывая калитку: — Он правда был очень приятным. Так я буду ждать письма. — И пошла по дорожке к дому.
Когда он вернулся к машине, Стэффорд одной рукой обнимал Мэрион.
— Куда, старик? — сказал он.
— Высади меня на остановке. Может быть, автобус еще не ушел.
— Нет-нет, мы доставим рыцаря домой. Как знать, увидим ли мы его еще когда-нибудь, верно, лапочка? — Он отпустил Мэрион и нажал на стартер.
Когда они приехали, улица была погружена в темноту. Колин вылез и остановился у дверцы Стэффорда. Стекло было опущено. Бледное лицо Мэрион выдвинулось из мрака.
— Нет, он правда здесь живет? — сказала она.
— Дорогая, не хами, — сказал Стэффорд.
— Я не хамлю. Мне интересно, только и всего, — сказала Мэрион. — В прошлый раз ты заставил меня ждать на углу.
— Не обращай на нее внимания. Вот как я, — сказал Стэффорд, выглядывая из мглы автомобиля. Через секунду в окно просунулась его рука. — Ну, бывай, старик.
— Всего, — сказал он, сжал руку Стэффорда и медленно встряхнул ее.
— Загляни как-нибудь. — Стэффорд включил мотор.
— Ну, едем же, радость моя, — сказала Мэрион.
— Спокойной ночи, Мэрион, — сказал Колин.
— Спокойной ночи, радость моя, — сказала Мэрион.
Машина тронулась, на повороте замедлила ход, а потом, набирая скорость, понеслась по шоссе.
Риген бросил школу и поступил в бухгалтерскую контору. Из тех ребят, с которыми Колин играл в детстве, Батти, проработав у бакалейщика — поездив с заказами на велосипеде по поселку, — пошел на шахту, как раньше все его братья. Стрингер начал работать на шахте сразу после школы.
Коннорс тоже устроился на шахту — по словам его отца, готовясь к административной работе. Мистер Моррисон стал директором воскресной школы. Шейлу он часто видел в поселке. Через год после их недолгого знакомства она вышла замуж за шахтера, и в девятнадцать лет уже была матерью двух детей.
Из всех своих прежних знакомых чаще всего он встречал Ригена. Его контора была в том же городе, что и колледж Колина, — в восемнадцати милях от Сэкстона, он каждый день ездил туда и обратно на поезде, и они постоянно садились в один вагон.
За последние два года Риген даже еще вырос. В нем было теперь больше шести футов, и он носил костюмы, сшитые по мерке у портного. Рубашки ему шила мать. По субботам он во фраке играл в оркестре танцзала, а по нечетным вечерам давал уроки музыки детям в поселке. В поезде он всегда садился напротив Колина, скрестив ноги. Из его нагрудного кармана торчал белый носовой платок. Если он не разбирал ноты или не читал журнал «Бухгалтерское дело», то посвящал Колина в свои планы, ограничиваясь пока ближайшим будущим. Фамилии музыкальных светочей мира эстрады упоминались в его излияниях все чаще: тот чуть было не зашел в «Бальный зал», где он играет, другой написал, что намерен туда зайти в самом близком времени, третий пригласил его на прослушивание, и он непременно пошел бы, но задержали непредвиденные дела в конторе. Некий дирижер джаза, у которого связи на радио, сказал, что окажет ему содействие, хотя тот факт, что он играет на скрипке, а не на трубе, не на саксофоне «и даже не на кларнете», добавил он грустно, конечно, очень ограничивает его возможности. Его глаза, ярко блестевшие, пока он описывал свои радужные надежды, неизменно гасли и темнели, едва за окнами появлялись унылые улицы поселка.
— Я слышал от Прендергаста, — сказал он как-то, отрывая взгляд от нотного листа, — что твой приятель Стэффорд намерен поступить на семейное предприятие.
— Но он как будто собирался в Оксфорд, — сказал он.
— После Оксфорда, — сказал Риген. — Он получил стипендию.
— Для занятий музыкой?
— Боже великий, конечно, нет! — сказал Риген тоном, который, по его мнению, подходил данному случаю. — Он ведь специализировался по какому-то другому предмету.
— По истории?
— А не по экономике? — сказал Риген. Его интерес к теме угас так же быстро, как возник. — Кстати, на рояле он, по-видимому, даже бренчать толком не умеет.
В то первое лето он писал Маргарет во Францию, а в ответ получал непонятно бессодержательные письма; но почему-то особенно его тревожили и задевали орфографические ошибки и погрешности против синтаксиса. Одно письмо он даже отослал обратно, все в пометках красными чернилами. Она долго не отвечала, а потом пришло сухое, вежливое послание, каждое слово которого, как указывалось в подстрочном примечании, было выверено по словарю. Он тут же отправил ей письмо без знаков препинания, со всеми неправильностями и неграмотностями живой речи — и опять начал получать ответы с прежними ошибками и неуклюжестями. В последнем письме он условился встретиться с ней в городе в первую субботу после ее возвращения.
Он увидел ее еще издали — она ждала у магазина возле собора. На ней было короткое светлое пальто и голубое платье, зачесанные назад волосы стягивала лента. Она загорела. Он увидел свисающую с локтя сумочку, туфли на высоком каблуке. Только когда она обернулась и узнала его, он сообразил, что на мгновение принял ее за незнакомую взрослую женщину.
Они гуляли по улицам, потом сидели в кино, старательно отодвинувшись друг от друга, и, наконец, когда пора было уже возвращаться, спустились на Соборный мост, оперлись на парапет и долго смотрели на мутную коричневую воду. Когда они вышли из кино, он взял ее за руку, а тут, на мосту, слегка обнял за плечи и продолжал в нерешительности смотреть вниз.
Наконец он повернулся к ней и неловко чмокнул ее в щеку. Секунду спустя она повернулась к нему, и он поцеловал ее в губы — медленно и по-прежнему нерешительно. Потом снова отвернулся к реке — он не хотел больше ее целовать, не хотел, чтобы она заметила его нерешительность.
— Встретимся опять? — спросил он.
— Да, — сказала она и добавила: — Если хочешь.
— Я могу приехать в субботу.
— Хорошо, — сказала она и улыбнулась, словно он придавал этому излишнюю важность.
Они пошли назад, на остановку. Подошел ее автобус. Он увидел, как она, поднявшись в салон, помахала ему. Потом автобус тронулся, и она села впереди.
Они виделись почти каждую субботу. В их встречах было какое-то непринужденное спокойствие. На третий раз она спросила, не хочет ли он познакомиться с ее родителями.
— Им хотелось бы познакомиться с тобой, — добавила она, — если ты, конечно, ничего против не имеешь. Они все спрашивают, куда я пропадаю.
— Разве ты им не говоришь, что встречаешься со мной? — сказал он.
— Конечно, говорю, — сказала она с удивлением. — Вот почему они тебя и приглашают.
Они условились, что на следующей неделе он приедет прямо к ним.
Когда он добрался до их дома, уже смеркалось. Сад, который он тогда видел только мельком, оказался гораздо больше, чем ему помнилось. Дом стоял на пригорке, на котором прежде деревня кончалась — дальше вниз по склону долины протянулись кирпичные муниципальные дома, а с другой стороны, выше по склону, стояли старинные каменные дома с серыми сланцевыми крышами. Ее дом, хотя и кирпичный, имитировал старину — небольшие двустворчатые окна, оштукатуренные стены второго этажа с перекрещивающимися балками. Сад и лужайка с ухоженными цветочными клумбами создавали ощущение простора. Розы, теперь почти отцветшие, вились по трельяжам у стен дома, сплетались над выкрашенным в зеленую краску крыльцом, обрамляли дорожки по обеим его сторонам. Высокая каменная ограда отделяла сад от старой деревни.
Он еще не дошел до крыльца, как дверь распахнулась и навстречу ему вышла Маргарет в легком зеленом платье. Волосы у нее были стянуты лентой.
— Значит, ты все-таки сумел выбраться.
— Я не слишком рано? — сказал он.
— Папа как раз кончил прием.
Она взяла у него дождевик, и он вошел в широкую, обшитую деревянными панелями прихожую, которая пересекала дом и кончалась дверью черного хода. По сторонам были двери в комнаты и лестница, ведущая на второй этаж.
Маргарет проводила его в освещенную комнату, дверь которой была открыта. Там у стола сидела с шитьем светловолосая женщина со свежим румяным лицом. Она сняла очки, сложила работу и встала из-за стола.
— Значит, это Колин, — сказала она и с некоторой застенчивостью пожала ему руку. — Я очень рада, что вы пришли, — добавила она и повернулась, жестом приглашая его сесть. — Отец Маргарет сейчас спустится.
В квадратной, вделанной в стену железной печке горел огонь. Он сел в кожаное кресло возле нее.
— Будете пить чай? — сказала миссис Дормен.
— Мы же сейчас уходим, — сказала Маргарет.
— Возможно, Колин хочет пить, он ведь долго ехал сюда, — сказала ее мать. — Дай ему передохнуть.
— Так ты хочешь чаю? — спросила Маргарет.
— Не откажусь, — сказал он, глядя на ее мать.
— Поставь чайник, Маргарет, — сказала миссис Дормен. — Для нас всех. Папа, так или иначе, попросит чаю.
Маргарет посмотрела на него, покачала головой, возвела глаза к потолку и быстро вышла из комнаты.
— Вы ведь живете далеко отсюда, Колин, — сказала миссис Дормен, садясь на кушетку поближе к огню. Невысокая женщина с приятными правильными чертами лица и светло-серыми глазами. Свою внешность Маргарет во многом унаследовала от нее.
— В Сэкстоне, — сказал он и объяснил, где это.
— Вы теперь будете учиться в колледже, если не ошибаюсь.
— Да, — сказал он.
— А жить собираетесь дома или в общежитии?
— В общежитии, — сказал он. — Кажется, они там это предпочитают.
— Молодым людям, по-моему, бывает полезно на некоторое время расстаться с родным домом. Ну, в определенном возрасте, — сказала она.
— Да, — сказал он.
— Ваш отец работает в поселке или где-нибудь еще? — сказала она.
— В поселке.
— А, да-да, — сказала она.
— Он работает на шахте.
— О, так у нас с вами есть кое-что общее! — сказала она. — Отец моего мужа работал на шахте. То есть, я имею в виду, в свое время, — добавила она.
Вернулась Маргарет и остановилась у стола, сплетя пальцы.
— Ты, кажется, допрашиваешь его? — сказала она.
— Боюсь, Колин, ваш приход немножко вывел Маргарет из равновесия, — сказала миссис Дормен.
— Ничего подобного, — сказала Маргарет. Она присела к столу и принялась медленно выдергивать нитки из лоскутка.
— А куда вы думаете отправиться сегодня? — спросила ее мать.
— Побродим где-нибудь тут. Или сходим в кино. Кинотеатр здесь рядом, на шоссе, — сказала она, глядя на Колина.
— Только не задерживайтесь допоздна, — сказала миссис Дормен.
— Нет, правда, кто тут выведен из равновесия? — сказала ее дочь.
Минуту-другую спустя открылась дверь и вошел доктор, высокий, с военной выправкой, — свой рост Маргарет, несомненно, унаследовала от него. У него было такое же румяное лицо, как у жены, и кустистые брови над голубыми глазами. Каштановые, почти рыжие волосы были начесаны на лоб. Кожа глянцево поблескивала, словно он только что умылся.
— А, здравствуйте, Колин, — сказал он так, будто они были уже давно знакомы, и протянул ему руку. — А я уже опасался, что не застану вас. Видите ли, я никогда точно не знаю, когда у меня кончится прием. — Повернувшись к жене и Маргарет, он добавил: — А как насчет чая? Или я опоздал?
— У нас дома опоздать к чаю ты не можешь, — сказала Маргарет и пошла к двери. — Я сейчас все принесу.
— Садитесь, дружок. Будьте как дома, — сказал доктор, указывая на кресло, с которого Колин было встал. — Ничего, если я закурю? — добавил он, садясь у стола и вынимая трубку.
— Ничего, — сказал он.
— А вы не курите? — спросил доктор и засмеялся.
— Нет, — сказал он.
— Мудрый человек! Экономите тысячи! — Он поглядел на жену. — Ничего, если я закурю, моя дорогая?
— Конечно, если Колин не против.
Вошла Маргарет и поставила на стол деревянный поднос. Она налила чашку отцу со словами:
— Первую тебе, ведь ты только что с работы.
— Лучше начни с Колина, он же твой гость, — сказал доктор, выпустив клуб дыма. — В этом доме я во всех расчетах последний, — добавил он, повернувшись к Колину, и подмигнул ему над облачком дыма.
— Очень хорошо, — сказала Маргарет, подошла к нему и подала чашку, даже не посмотрев на него.
— Нет уж, на меня не гляди! — сказала миссис Дормен мужу. — Она иногда держится, как школьная директриса. Вы еще в этом убедитесь, — добавила она, обращаясь к Колину.
Позже, когда они собрались гулять, миссис Дормен вышла вслед за ними на крыльцо.
— Ты без пальто? — спросила она в темноту.
— Ведь тепло, — сказала Маргарет. — И мы далеко не пойдем.
— Все-таки возьми кофточку, — сказала миссис Дормен, скрылась на минуту в передней и снова вышла, уже вместе с доктором. Он спустился с крыльца, надевая шляпу. В другой руке у него был черный чемоданчик.
— Ну, развлекайтесь. Только берегитесь простуды, — крикнул он, помахал им рукой и скрылся за углом дома. Минуту спустя раздался шум мотора и сад пронизали лучи фар.
Маргарет вернулась к крыльцу за кофточкой. Когда они вышли за калитку, она взяла его под руку.
— Ну как, было не очень плохо? — сказала она.
— Нет. — Он мотнул головой.
— Давай пройдемся. Мне хочется подышать, — добавила она.
Она на ходу надела кофточку и снова взяла его под руку.
Кирпичные и каменные дома остались позади. Они вышли на гребень над долиной — внизу тускло светились россыпи огней. Дул легкий ветер. Откуда-то от верхнего конца долины, где вставали смутные очертания холмов, доносилось тихое пыхтение паровой машины.
— Тут за оградой поле для гольфа, — сказала она. — Можно пойти туда.
В темноте они отыскали дорожку. За калиткой открывалось озеро мрака, замкнутое темными контурами деревьев и крутым склоном.
Когда они дошли до первого дерева, она остановилась.
— Я рада, что ты приехал, — сказала она. — По-моему, ты им понравился. Понимаешь, я в первый раз пригласила кого-то домой.
Он обнял ее за плели.
— Если хочешь, я приеду к тебе.
— Конечно, — сказал он. — Только у нас немного по-другому.
— В каком смысле?
— Беднее, — сказал он.
— А какое это имеет значение? — сказала она.
— Никакого, — сказал он и мотнул головой.
Дорожка пересекала поле для гольфа и выводила к реке. На более светлом фоне неба вырисовывался силуэт плотины. Они легли на траву.
— Я тут никогда раньше не бывала, — сказала она.
— Никогда?
— Насколько помню. Но мы ведь живем тут всего семь лет.
— А где вы прежде жили?
— В самых разных местах. Но здесь, по-моему, мы осели прочно, — добавила она.
Они лежали рядом.
Он начал называть звезды вверху. Часть неба заслонял абрис древесной кроны.
— А ты за это время еще что-нибудь написал? — спросила она.
В одном из писем он упомянул про свои стихи.
— Кое-что.
— Ты мне их покажешь?
— Не знаю. Возможно, они никуда не годятся.
— Мне они, наверное, понравятся. А если даже нет, я про это умолчу. — Она засмеялась.
— Тогда мне незачем их показывать.
— Нет, правда, я честно скажу свое впечатление.
Через некоторое время они встали. Перед этим он ненадолго завладел ее рукой и теперь снова сжал ее пальцы в своих. Они шли молча, но у калитки она сказала:
— Проводить тебя до города? Я с тем же автобусом вернусь.
— Нет, лучше я попрощаюсь с тобой тут, — сказал он.
— Почему? — сказала она и снова засмеялась.
— В этом больше завершенности, — сказал он. — К тому же твоя мать, наверное, думает, что ты и так уже очень задержалась.
— Ну, какое это имеет значение? — сказала она.
— Очень большое, — сказал он.
— Нет, правда, я совсем не думала, что ты такой, — сказала она.
Они стояли у калитки. Мимо проехала машина и свернула в проезд сбоку. Он различил над рулем силуэт ее отца, потом машина исчезла за углом дома.
— На следующей неделе увидимся? — спросил он.
— Если ты не боишься, что мама будет против, — сказала она.
Как и раньше, он на прощание неловко поцеловал ее в губы. Она неуверенно прижалась к нему, а когда он отпустил ее, добавила:
— Давай встретимся днем и захватим с собой еду. Устроим пикник. Где-нибудь за городом.
— Ладно, — сказал он и назвал час.
— Ты тоже что-нибудь захвати, — сказала она.
Она стояла у калитки и махала рукой в свете уличного фонаря. На углу он встал под другим фонарем, помахал в ответ и пошел к автобусной остановке.
Они бродили среди лесистых холмов к югу от города. По маленькой долине вился ручей и впадал в озеро. С одной стороны озеро окаймляли рододендроны, с другой над ним склонялись ивы, а дальше на склоне раскинули ветви могучие буки. Выше по течению ручья деревья редели. Они свернули туда и вышли на открытое место. Внизу простиралась равнина, слева от опушки поднимался крутой гребень, по его вершине тянулся лес, а склон зарос кустарником. Они сели и развернули оба пакета.
Некоторое время они молча ели.
Потом она без особого интереса заговорила о своей школе — занятия начинались на следующей неделе.
— Большинству девочек совершенно все равно, что они будут делать, — сказала она. — То есть после окончания. Будут они продолжать учиться или нет. Правда, выбор велик: можно стать учительницей, можно медицинской сестрой. — Она провела ладонью по траве и отодвинулась в тень куста. — На самом деле они думают только о том, как бы выйти замуж.
— Вероятно, в этом есть свой смысл, — сказал он.
— Да? — Серые глаза потемнели. — А я так не считаю.
— Почему?
— Кроме замужества, в жизни женщины должно быть еще много другого.
— Согласен, — сказал он. — Но чего именно?
— Да всего! Ей прежде следует найти себя, а уж потом думать о браке.
— Но что может делать женщина? — Он лежал на животе, приподняв голову.
— Например, стать врачом.
— А ты хочешь этого?
— Может быть. А может быть, я займусь языками. Я еще не решила.
— Но ведь на этой неделе тебе придется решить, — сказал он и засмеялся.
— Значит, ты относишься ко мне несерьезно?
— Нет, — сказал он. — Очень серьезно.
— И все-таки смотришь на меня сверху вниз.
— По-моему, нет.
Она промолчала.
— Но что способна делать женщина? — сказал он. — Есть столько сфер деятельности, в которые женщины не внесли сколько-нибудь существенного вклада, что это нельзя объяснить только отсутствием благоприятных условий. Вспомни, сколько женщин обладало досугом, чтобы заниматься живописью, играть на музыкальных инструментах, писать, мыслить, творить, посвятить себя чему угодно. Но ни одна из них не создала ничего выдающегося.
— Потому что от них ничего выдающегося и не ждали — даже они сами. Ты рассуждаешь прямо как Мэрион и Одри. Они считают, что женщина должна быть женственной. Мужчины, мужчины, еще и еще мужчины, что в конечном счете сводится к Хопкинсу и Стэффорду. Как все это жалко!
— Вот почему ты сейчас здесь со мной? — сказал он.
— Вовсе нет, — сказала она. — Если я хочу для себя одного, это еще не значит, что я исключаю другое.
Он снова засмеялся. С соседнего дерева слетела птичка, опасливо запрыгала по траве и принялась клевать крошки.
— По-моему, ты очень самодоволен, — сказала она. — А мне казалось, что ты совсем не такой.
— Да нет же, — сказал он серьезно. — Я просто стараюсь понять.
— Ну, например, ты хотел бы поменяться местом с женщиной?
— Нет, — сказал он. — Но это неправомерный вопрос: я же знаю, что так быть не может.
— А я знаю много женщин, которые хотели бы поменяться местом с мужчиной. И это — как головой об стену биться. Они вовсе не отрицают в себе женщину, но беда в том, что на них смотрят только как на женщин.
— Но как же еще на них смотреть? — сказал он.
— Как на людей! — почти крикнула она, и птичка с испуганным писком взлетела на дерево. — А у тебя законченный умственный склад мещанина.
— Не знаю, — сказал он. — Не думаю.
— Наверное, ты привык, что твоя мать всегда дома и обслуживает тебя. И твоего отца.
— Ну, по-моему, «обслуживает» — не то слово. Хотя она нигде не работает. Кроме дома, — докончил он с ударением.
Она откинулась на траву, подперев щеку ладонью.
— Возможно, я чуточку нетерпима, — сказала она.
— Неужели только внешними условиями можно объяснить, что среди великих композиторов, поэтов, создателей религий, художников и философов нет ни одной женщины?
— А чем же еще? — сказала она. — Человеческую личность можно изменить коренным образом, если изменить условия, в которых она существует, и всю систему мышления. И начать надо с сознательного акта, с акта воли. Я рада, что я женщина. Ведь женщины еще только приступают к открытию своего духовного мира.
Он поглядел в сторону. На гребне возникла фигура мужчины с ружьем. Мужчина постоял, глядя на равнину, откуда доносилось далекое пыхтение паровой машины, потом неторопливо дернул козырек кепки и скрылся за деревьями.
— Тем не менее ведь можно сказать, что люди вроде Ван Гога или Джона Клэра, например, были куда больше стеснены условиями своей жизни, чем тысячи и тысячи эмансипированных женщин, которые располагали не только финансовой поддержкой богатых мужей, но и временем, и всем, что еще нужно человеку, чтобы стать мыслителем, художником, поэтом.
— Боюсь, ты слишком закоснел в своих взглядах и просто не понимаешь, что я имела в виду. Мешают женщине, органически препятствуют ей достичь чего-либо в этих областях определенные элементы ее подсознания.
— Да, — сказал он и с почти безнадежным вздохом перекатился на бок.
— Ты куда? — спросила она.
— Давай поднимемся наверх, — сказал он, — посмотрим на долину. — Он добавил через плечо: — Там был какой-то человек. С ружьем.
И почти сразу из-за гребня донесся звук выстрела.
Наверху он остановился и помог ей взобраться по крутому обрыву. За гребнем протянулся узкий луг, а дальше начинался лес, уходивший вниз, к озеру. Но отсюда были видны только вершины деревьев и треугольный провал долины. У горизонта синим мазком на светлой голубизне неба вырисовывался силуэт города.
— Совсем итальянский пейзаж, — сказал он, подразумевая удивительную прозрачность воздуха: цепь лесистых холмов убегала в бесконечную даль, становясь все более голубой. — Ведь до города по меньшей мере пять миль.
Они некоторое время стояли у обрыва и глядели в ту сторону, откуда взобрались на него. Ниже них мужчина с ружьем шел по краю луга, всматриваясь в деревья.
— Наверное, охотится на лесных голубей.
Из дула вскинутого ружья вырвалось облачко дыма, секунду спустя донесся сухой треск выстрела.
— Вот, пожалуй, еще чисто мужское занятие, — добавил он.
— Какое? — Она взглянула на него.
— Охота. И война, — сказал он. — Тоже определенный склад мышления?
— Да, — сказала она. — Безусловно.
Снизу из леса донесся дальний стук топора. Позади них у подножья гряды начиналась всхолмленная равнина с шахтами и перелесками. Она тоже купалась в голубоватой дымке, словно они глядели на далекое озеро.
— Но ведь это же должно быть очень тяжело, — сказал он. — Вот так делить мир, — добавил он.
— Почему тяжело? — сказала она, и ее глаза просветлели.
— Поглядеть хотя бы вот на это, — сказал он, кивнув в сторону долины внизу. — Поля, возделанные мужчинами по законам экономики, сформулированным мужчинами, — работа в основном мужская. Изгороди, посаженные мужчинами, железные дороги, спроектированные и построенные мужчинами для машин, изобретенных мужчинами. Шахты, где работают только мужчины, снабжающие топливом промышленные предприятия, которыми управляют мужчины. Если следовать такому разделению, перечень получается бесконечным.
— Но какая еще тут возможна точка зрения? — сказала она. — Должна ли женщина смириться с положением прислужницы?
— Она вовсе не прислужница, — сказал он. — Она помогает создавать все это.
Маргарет засмеялась.
— Просто удивительно, как глубоко укоренились эти предрассудки! — Она направилась к тропинке, которая вела вниз.
Он последовал за ней, но, когда вышел на поляну, она уже убрала в сумки пустые пакеты и бумагу. Оставшийся в ее термосе апельсиновый сок она вылила в чашку и протянула ему.
— А странно! — сказал он, усмехнувшись.
— Что странно? — В ее голосе, словно предостережение, появилась почти угрожающая нотка.
— Такое переворачивание мира вверх тормашками. Словно у человека там, где полагается быть голове, торчат пятки. Ведь если женщины органически обладают теми качествами, о которых ты говорила, они так или иначе должны были бы их проявить.
— И проявляли! — сказала она. — Просто у них никогда не было ни экономической, ни духовной свободы для достаточного их развития.
— Не понимаю почему. — Он мотнул головой. — В определенных отношениях ты, как и люди вроде Мэрион и Одри, обладаешь гораздо большей свободой, чем я.
— Свободой — для чего?
— Чтобы найти себя.
— Я этого не вижу.
— С тех пор как я себя помню, мою жизнь определяли обязательства других людей. Мне дали образование, чтобы выполнить определенные обязательства. Я работал на фермах из-за чьих-то обязательств. У меня ни разу даже не было возможности сесть и подумать, чем я, я сам, хотел бы заняться. Меня пустили бегать, как заводную мышь, и стоит пружине раскрутиться, как отец, мать или кто-нибудь облеченный соответствующей властью снова ее заводит.
— Может быть, тебя и подавляют, — сказала она. — Но по-другому.
— Но я-то не хнычу из-за этого. Не то что ты. Не вижу все в черном свете. — Он неопределенно махнул рукой, в которой все еще держал чашку. — Это же значит глядеть на жизнь одним глазом. И осуждать тех, кто смотрит на нее двумя. Ты и девушки вроде тебя обладаете такой свободой, какая мне и не снилась.
Она засмеялась и встряхнула головой, удивленная вспышкой, которую вызвала.
— Да, мы свободны быть тем, что определено для нас заранее. И никакого другого выбора. Иллюзорная свобода! Ну, а ты… ты можешь быть чем захочешь. У тебя есть свобода работать.
— Разве для этого нужна свобода?
— Ты бы знал, если бы тебя до такой работы не допускали!
— Во всяком случае, я не представляю, как это можно было бы изменить.
— Потому что не хочешь, чтобы кто-нибудь что-нибудь изменял, — сказала она. — Тебе и так хорошо.
— Мне хорошо? — сказал он.
Она засмеялась.
— Людям всегда хорошо в привычной обстановке. Они сопротивляются любой перемене. Слишком большими опасностями она чревата. Даже ты, если будешь честен, должен признать это.
— Что признать? — сказал он нахмурившись.
— А то, что я сказала: что тебя это пугает.
— И пусть пугает, — сказал он и гордо выпрямился, чтобы яснее выразить свои чувства.
— Я ведь не говорю, что тебя пугают трудности или встреча с неведомым! Ты боишься, что твое представление о себе как о мужчине раскроется перед тобой с точки зрения тебе непонятной и неприемлемой. Ведь ты так убежденно видишь себя мужчиной, выполняющим мужскую работу, впитавшим мужское мироощущение. Вот что внушают нам школа и семья, такие, как наши.
— Никакого мужского мироощущения я в себе не замечаю, — сказал он. — Во многих отношениях я восстаю против того, чем мне велят стать, хотя прежде даже сам чувствовал, что так надо.
— Ну, вот пикник и кончился, — сказала она, вдруг испугавшись того, что сама же разбередила, и протянула ему свой маленький рюкзак, который он повесил на плечо. Сам он принес припасы в бумажной сумке: сложив сумку, она подсунула ее под клапан рюкзака. — Пойдем дальше? — добавила она. — Или вернемся?
— Пожалуй, пора возвращаться, — сказал он. Солнце уже спускалось к равнине, на склон позади них легли длинные черные тени.
Они неторопливо пошли, огибая подножие гребня. Когда тропка расширилась и можно было идти рядом, он взял ее за руку.
— Странно! У меня такое ощущение, что в каком-то смысле это встало между нами.
— Но что? — Она медленно раскачивала его руку.
— Все это. — Свободной рукой он обвел вокруг. — Даже лес в свое время был сферой мужской деятельности.
— Однако вовсе не обязательно, чтобы это омрачало будущее, — сказала она. — Должна же между мужчинами и женщинами возникнуть ясность. Ведь они могут стать равными друг другу и все-таки быть вместе, разве нет?
— Равными во всем? — сказал он. — Это что-то нереальное. Даже когда женщины получили свободу, используют они ее очень мало.
— Не надо больше об этом, — сказала она, словно с досады воткнула в него колючку, а теперь раскаивалась и была бы рада ее вытащить.
— Просто это выглядит нереальным, вот и все, — сказал он.
— А что реально? — сказала она вдруг и засмеялась. — Только то, к чему ты привык. Будет ли, например, то, что ты чувствуешь, — добавила она, — реальным для твоего отца? Будет ли то, что чувствует он, реальным для тебя? Новое поколение может стать иным — или ты это отрицаешь? Если детей воспитывать так, чтобы они не принимали ничего, кроме равенства, для них твоя позиция будет столь же далекой и чужой, как для нас, например, обычаи викингов или другие социальные традиции, которые не выдержали испытания временем.
Тропа стала шире. Она вела напрямик через лес. Из-за деревьев появился всадник — фигура в котелке и галифе. Когда лошадь проносилась мимо, всадник кивнул им.
— Мужчина или женщина? — спросил он.
— Женщина.
Она засмеялась, и они повернулись, глядя, как из-под копыт взлетают темные комья земли.
— Существуют другие формы неравенства, — сказал он.
— Через них все можно провести одну прямую. Они словно общая точка на графике, — сказала она. — Все линии неравенства пересекаются.
Тропа вывела их к озеру. Под деревом сидел человек с удочкой. Он поглядел на них, открыл стоявшую рядом корзинку и достал бутерброд. Поплавок неподвижно застыл на воде.
— Стэффорд — фаталист. Он верит, что в конечном счете все сведется к нулю, — сказал он. — Иногда я бываю склонен согласиться с ним. Нет-нет да и подумаешь: а какой смысл? Ну, борешься, а ради чего? Все-таки это высокомерная самоуверенность — считать, будто что-то можно изменить и будто лично ты можешь или должен стать орудием перемен. По временам мне невыносимо трудно смотреть даже на такой вот лес. Любая жизнь в определенном смысле делает смерть еще более ужасной.
— Или еще более упоительной, — сказала она. — Жалость к себе — это вернейший признак эгоцентризма, получившего чувствительный удар. Откуда вдруг у Стэффорда фаталистический взгляд на вещи? Что-то я не замечала в нем фатализма, когда его интересы оказывались под угрозой. Просто многое он получает слишком легко. А еще многое, — добавила она, — ему, наверное, вообще не дано.
— Мне всегда кажется, что ему приходилось вовсе не так легко. Хотя, конечно, это никакого значения не имеет, — сказал он, глядя, как она улыбается, и отпустил ее руку.
Они обогнули озеро и вышли на узкое шоссе. Немного подальше была автобусная остановка, и они примостились на низкой ограде.
Мимо медленно проехал мальчик на велосипеде.
— У тебя есть братья или сестры? — спросила она.
— Два брата. Моложе меня. Одному восемь, — добавил он, — а другому пять. — Он помолчал. — У меня был старший брат, но он умер.
— А что случилось?
Он пожал плечами.
— Воспаление легких.
— А когда это было?
— До моего рождения.
— Задолго?
— За шесть месяцев.
Он помолчал.
— Ты поэтому такой хмурый и такой приверженец традиций?
— Ну нет, — сказал он и засмеялся. — Скорее наоборот, — добавил он неловко.
Подошел автобус. Они поднялись наверх, сели впереди и открыли окно. Ветер ерошил им волосы. Они были единственными пассажирами. Погромыхивая, автобус катил к городу. Небольшие дома на горизонте четко рисовались в почти горизонтальных лучах заходящего солнца.
Он сидел, обнимая ее за плечи. Ветер бил им в лицо, и они не разговаривали — только весело вопили, когда автобус скатывался по склону вниз и взлетал на противоположный склон. К ним поднялся кондуктор, чтобы взять плату за проезд, и они расхохотались.
— Это вам что, ярмарка? — Кондуктор на секунду остановился в проходе, подставляя себя ветру, смеясь его силе, покачиваясь в такт движению автобуса, а потом, все еще смеясь и хватаясь за сиденья, пошел к лестнице. — Может, еще прокатимся? — крикнул он им, когда они сошли в городе.
Он ждал с ней на ее остановке.
— Увидимся только через две недели, — сказала она.
— Это еще почему? — спросил он.
— Родители считают, что мне надо две недели позаниматься, ничем не отвлекаясь.
— В общем-то, это разумно, — сказал он.
— Ты так думаешь?
— Нет. — Он мотнул головой.
— Ну, сегодняшний пикник того стоил. Несмотря на споры, — сказала она.
— Да, — сказал он.
Подошел автобус.
— Ты мне позвонишь? — сказала она. — Если хочешь, через две недели опять куда-нибудь отправимся.
— Такое внезапное послушание как-то не вяжется с твоими же собственными доводами, — сказал он.
— Может быть, я просто забочусь о собственных интересах, — сказала она. — Ведь в определенном смысле образование — это способ избежать ловушки. Конечно, если видишь ловушку заранее, — добавила она.
Он смотрел, как она поднимается в автобус, и, только когда автобус тронулся, вспомнил о ее рюкзаке. Он бросился вперед, она наклонилась из двери, схватила рюкзак, что-то крикнула и помахала рукой. Он стоял на углу у собора и смотрел на ее силуэт, пока автобус не скрылся за поворотом.
Они встречались раз в неделю, а иногда он, кроме того, уезжал из колледжа на полдня, чтобы повидаться с ней. После первого двухнедельного перерыва их встречи вошли в определенную колею. Возможно, ее родители пытались возражать, но он этого не замечал. Почти каждую субботу он отправлялся к ней в пригород и, пока Маргарет переодевалась, разговаривал с ее матерью — ее отец, если у него не было приема, обычно играл в гольф на поле позади дома, и, отправляясь гулять, они иногда видели, как он в спортивном костюме бьет по мячу или курит трубку под деревом, разговаривая с другими игроками. Он оглядывался, махал им рукой и тут же возвращался к игре или к разговору.
— Но ведь твоя мать вполне эмансипированная женщина? — говорил он.
Она была одной из первых студенток, принятых в Оксфорд после первой мировой войны. Иногда, чтобы попасть на какой-нибудь митинг или в клуб, она переодевалась мужчиной. Маргарет слушала рассказы матери о том времени как завороженная, избегая глядеть на нее, а один раз, когда миссис Дормен вышла из комнаты, недоуменно спросила: «Но куда же все это делось?»
— Да, конечно, эмансипированная, — отвечала она. — Как все женщины ее поколения. И отказалась от эмансипации, едва ей представился случай выйти замуж и обзавестись детьми. Все это для нее теперь романтика ее молодости! Потому она и любит рассказывать о том времени. Что-то вроде переходного возраста. Эмоции и мысли периода взросления. А теперь она отдает свою энергию всяким заседаниям — Женская лига, женщины-добровольцы и прочее, словно пичкает порошками больного, когда нужна операция.
Ее воинственность была позой, верой, которая порой изменяла ей, а иногда, стоило ему упомянуть об этом, она говорила:
— Ну, довольно, Колин. С меня и так на всю жизнь хватит. — И если они были одни, покусывала согнутый указательный палец.
Иногда приезжал ее брат. После колледжа он отбывал воинскую повинность и был направлен в офицерскую школу: он носил форму с белой эмблемой на воротнике, вытягивался по стойке «смирно» возле печки и снисходительно улыбался Маргарет, если она затевала спор дома.
— Что такое? А? В детстве она была жуткой тиранкой. До того как подросла. Чуть что — сразу реветь. Ну и, конечно, мальчишкам, которые с ней играли, тут же нагорало. Сколько раз мне устраивали выволочку, потому что Маргарет открывала шлюзы в нужный момент! Если вы думаете, будто видели, как плачут женщины, — забудьте, — добавил он. — Тут с нашей Мэг никто не сравнится.
Ее брат был невысок и плотно сложен, как их мать. Когда он стоял рядом с сестрой, ее высокий рост и стройность вызывали у него досаду.
— Чудненько и мило, — говорил он свирепо, когда миссис Дормен ради общего спокойствия соглашалась с каким-то ее аргументом. — Чудненько и мило! Две женщины в одном доме! — И быстро скрывался за дверью, из-за которой тотчас доносилась заключительная фраза: — Вот кого надо бы в армию призывать, а вовсе не нас!
Ее отец, если он был дома, участия в спорах никогда не принимал. Он сидел с медицинским журналом или газетой и курил трубку, наполняя комнату дымом, пока Маргарет наконец не вскрикивала, отмахиваясь обеими руками:
— Зачем ты куришь эту мерзость? Что, если бы женщины вот так загрязняли воздух? Дышать нечем!
— Точно так же, как от женских словоизлияний, — говорил ее брат, потерпевший очередное поражение от младшей сестры. — Только дым куда предпочтительнее, хотя, к сожалению, выбирать нам не приходится. — Он доставал свою трубку и начинал энергично дымить в ее сторону.
Как-то в субботу Маргарет приехала познакомиться с его родителями. Он обещал встретить ее на автобусной остановке, но, то ли нарочно, то ли что-то перепутав, она приехала раньше и постучалась в парадную дверь, когда он еще только собирался выйти из дома. Мать, недоумевая, пошла открывать. Затем он услышал в коридоре голос Маргарет:
— Я не ошиблась номером? Боюсь, я не рассчитала времени и приехала раньше.
Мать вошла на кухню с цветами в руках.
— Погляди-ка, что привезла Маргарет, — сказала она, порозовев, и показала ему букет.
Колин встал. Он еще, не надел ботинки и был в одних носках. Стивен и Ричард, которые, уже умытые и причесанные, играли на полу, вскочили на ноги.
— Послушай, Элин, — донесся сверху голос отца, — есть у меня чистая рубашка?
Мать вышла в коридор, все еще держа цветы — возможно, как сигнал.
— Гарри! Маргарет уже приехала. Рубашка в ящике комода.
Она умолкла, и наступила многозначительная тишина, затем, словно они обменялись какими-то знаками, отец сказал:
— Ну ладно. Значит, в ящике. — И у них над головой протопали его шаги.
— Я не рассчитала времени, — еще раз сказала Маргарет, поглядела на него и добавила: — А это твои братья?
— Вот Стив, — сказал он, указывая на более высокого. — А это Ричард.
— Здравствуй, Стивен, — сказала она. — Здравствуй, Ричард.
— Здрасьте, мисс, — смутившись, сказал Стивен.
— Да не называй меня «мисс»! — Она засмеялась. — Просто Маргарет.
Вошла мать и посмотрела по сторонам, ища, во что бы поставить цветы. В конце концов она налила воды в кувшин и поставила в него цветы.
— Значит, вы уже познакомились с братьями Колина, — сказала она, словно это была великая честь, которой Маргарет сподобилась только как знакомая Колина. Потом она велела Стивену освободить стул. — Ты уж прибери, голубчик, чтобы Маргарет было где сесть.
Колин тоже сел и надел ботинки. Маргарет была в светлом пальто, которое она сняла, едва вошла в дверь, и теперь положила на стул в дальнем углу. Она села возле очага, где пылала большая куча угля.
Минуту спустя в дверь заглянул отец. Его лицо было красным после бритья, воротничок расстегнут. Он неуверенно вошел, пожал руку Маргарет, когда Колин их познакомил, смущенно кивнул и сказал:
— Галстук куда-то задевался. Он не тут, Элин?
В конце концов мать сдернула галстук со спинки кресла, на котором сидела Маргарет.
— Он вечно все бросает где попало, — сказала она, густо покраснев, а потом добавила: — Гарри, бога ради, неужели обязательно надевать галстук на кухне?
— Вы же не обидитесь, Маргарет, если я при вас галстук надену, верно? — сказал отец, посмотрел прямо на нее, потом нагнул голову к треснутому зеркальцу над раковиной. Однако его лицо по-прежнему оставалось сумрачным, растерянным — он словно не знал, как вести себя с такой гостьей.
— Хотите чаю, голубушка? — сказала мать. — Я думала чуть попозже сделать все как следует. — Она стояла, сжав руки, и смотрела на Маргарет сквозь очки. Линзы отражали свет, скрывая выражение ее лица.
— Очень, — сказала Маргарет и добавила: — Если разрешите, я сама. — И пошла с чайником к раковине. Отец, поправлявший галстук, растерянно посторонился, а она налила воды, посмотрела, где плита, увидела, что плиты нет, пошла к очагу и поставила чайник у самого огня.
— Мы на днях установим газовую плиту, — сказала мать, которую это расстроило так, как давно уже ничто не расстраивало, и торопливо нагнулась к очагу, чтобы поставить чайник как следует.
— Вы так на открытом огне и готовите, миссис Сэвилл? — спросила Маргарет.
— Так и готовлю. И это уже сколько лет, Гарри? — сказала мать.
— Да, мы тут порядочное время живем, — сказал отец, не желая подсчитывать. Он не отрывал взгляда от Маргарет.
— Двадцать лет, если не больше, — добавила мать и посмотрела на Колина. Он было привстал, когда Маргарет взяла чайник, но потом снова сел и только отодвигал ноги, чтобы не мешать братьям, которые, уже забыв о Маргарет, снова затеяли игру на полу.
— Да, без малого четверть века, — сказал отец. — А ведь будто только вчера сюда переехали. Совсем налегке, можете мне поверить. Сначала мы жили дальше по улице. Только потом те дома снесли и построили новый ряд.
— Ну, нам особенно жаловаться нечего, — сказала мать, присаживаясь к столу, словно хотела отвлечь отца. — Многие живут куда хуже, уж поверьте.
— Что так, то так, — сказал отец.
— А вы где живете, Маргарет? — добавила мать. — В городе или за городом?
— На самом краю города, миссис Сэвилл, — сказала Маргарет и посмотрела на Колина.
— Да, в предместье, — сказал он.
— И вы полную среднюю школу кончаете? — сказал отец.
— Да, — сказала она и добавила: — Хотя это, конечно, не многого стоит.
— Ну уж нет, это многого стоит, — сказал отец. — Без образования куда пойдешь, — добавил он. — И на что ты годен? Кому-кому, а уж мне вы можете поверить.
— Полно тебе, Гарри, — сказала мать. — Ты многого добился, сам знаешь.
— Угу. Но если б мне образование, так еще неизвестно, чего бы я достиг, — сказал отец. — Вот тут молодежи вроде вас с Колином очень повезло.
Отцу было почти пятьдесят, в его волосах пробивалась седина. Он давно сбрил усы. Кожа у него стала морщинистой, он весь ссохся и казался изможденным. Хотя, разговаривая с Маргарет, он очень оживился, его движения оставались скованными, а голос медлительным, точно он не мог избавиться от власти страшного сна или видения.
— Ну, да мы все кое-чего добились, — добавил он в заключение, как будто решил стряхнуть с себя этот дурман.
Немного погодя они пошли погулять, пока мать собирала на стол. Маргарет предложила помочь ей, но мать отослала их гулять.
— Ведь не могу же я допустить вас до всех моих секретов, не правда ли? — сказала она чопорно, словно отстраняя какую-то угрозу.
Некоторое время они шли молча. Колин повел ее в сторону Парка. Поселок выглядел унылым и заброшенным. Над шахтой висела тишина, и доносилось только еле слышное гудение электромотора. Была глубокая осень, и вся зелень давно пожухла.
— Можно пойти посмотреть церковь. Больше тут ничего интересного нет.
Он свернул на дорогу, ведущую к темному каменному зданию. Ветер нанес под живую изгородь кучи сухих листьев. Дверь церкви оказалась запертой.
— Ты все еще ходишь в церковь? — спросила Маргарет.
— Иногда. — Он пожал плечами.
По заросшей дорожке они пошли к господскому дому. С конца войны там уже не было сторожа. Дом разрушился еще больше. У парадных дверей валялись камни, обвалившиеся с фасада. Окна зияли пустыми проемами.
— Странно, но я не могу представить себе, что ты живешь здесь, — сказала она, указывая на поселок внизу. Над терриконом висела желтоватая мгла. Дома выглядели безжизненными, только кое-где над трубами курился дымок. Воздух был неподвижен.
— Но почему? — Он поднялся на парадное крыльцо, приглашая ее заглянуть внутрь.
— Не знаю, — сказала она, покачав головой, потом пошла дальше и скрылась за углом. Через секунду он пошел за ней.
Она стояла на заросшем заднем дворе. Под бурьяном еле проглядывали каменные плиты и булыжник.
— Здесь был штаб местной обороны, и мой отец участвовал в учениях, — сказал он, кивнув в сторону уже лишившегося крыши амбара, где тогда стояли столы и стулья и хранилась амуниция. С ветки дерева еще свисала веревка, которой был привязан мешок для отработки приемов штыкового боя. Но лестница, которая вела с черного хода на второй этаж, рухнула. — Я привозил сюда Стивена в коляске, ставил ее под деревом, а сам лазал по дому.
— Вы никогда не думали переехать из этого дома? — спросила она.
— Думали, — сказал он. — Мы включены в список. За поселком должны построить новый район. Только работа еще и не начата, — добавил он. — Впрочем, по сравнению с некоторыми нам жаловаться не приходится.
Они пошли назад к шоссе. Он рассказывал ей про их игры, показал со склона Долинку. Потом они вышли к Парку. По косогору тянулись голые темные деревья, качели и карусели на детской площадке изъела ржавчина. Два-три столба упали.
— И тебя не тяготит ваша бедность? — спросила она.
— Тяготит, конечно, — сказал он. — Но она настолько привычна, что по большей части ее не замечаешь. — Он добавил: — И мы жили лучше большинства. Вот что я осознавал в первую очередь.
Некоторое время они сидели на скамье над откосом. Им больше никуда не хотелось идти. Внизу тянулись голые поля, и по одному из них медленно ползал взад и вперед трактор с плугом. По насыпи прошел паровоз без вагонов и скрылся в выемке перед станцией.
— Все-таки тебе повезло, что ты отсюда выбрался, — сказала она. — Я имею в виду — в город, в школу, подальше от всего этого.
— Я думаю, что выберусь отсюда навсегда, — сказал он. — Собственно говоря, меня здесь ничто не удерживает. То есть прочно.
Она посмотрела на него.
— Видишь ли, когда я начну работать, мне нужно будет помогать семье, — сказал он. — Пока Стивен и Ричард не встанут на ноги. А это еще не слишком скоро будет, — добавил он уже безнадежным тоном и отвел глаза.
— Одна тирания заменяется другой, — сказала она.
— Ты так считаешь? Не слишком ли это упрощенно?
— Научить птицу летать, а потом требовать, чтобы она сидела на ветке! — После паузы она добавила: — И у тебя не возникает желания изменить все это?
— А как? — спросил он.
— Ну, чтобы людям вроде тебя не приходилось жить, вот так.
— Я так жить не буду.
— Ты думаешь? — сказала она и добавила: — Но другие будут.
— Да, — сказал он, глядя на деревья внизу. — Однако положение улучшается.
— Неужели?
Внезапно весь тон их разговора стал ироничным, как тогда в лесу.
— Почему ты все время читаешь мне лекции? — сказал он.
— А потому, что ты такой самодовольный, — сказала она. — Такой закоснелый.
— Я бы себя самодовольным не назвал, — сказал он.
— Разумеется. — Она засмеялась. — Это ты из-за самодовольства так думаешь. — После паузы она добавила: — Разве ты не чувствуешь никакой ответственности перед своим классом?
— Каким классом? — сказал он.
— Этим.
Она указала на поселок.
— Ни малейшей.
Она промолчала.
— А что, я обязан ее чувствовать?
— Чувствуют ведь не потому, что обязаны или должны, — сказала она.
— Да, — сказал он. — Но ты-то хотела услышать другое. — Помолчав, он добавил: — Ответственность, которую я чувствую, словами не опишешь.
Несколько минут спустя, ничего больше не сказав, они встали со скамьи и пошли к шоссе.
В поселке мимо них медленно проехал на велосипеде Блетчли в шортах и спортивной куртке. Когда они подошли к дому, он стоял у крыльца, что-то подвинчивая под седлом. По вечерам в воскресенье они иногда еще ходили вместе в церковь, по только по старой привычке.
Блетчли нагнулся еще ниже, его багровые колени глянцевито поблескивали. Он поднял покрасневшее лицо, и его глаза сверкнули.
— Я так и думал, что это ты, — сказал он, придирчиво оглядывая Маргарет, словно мог лишить ее права войти в дом, если она не будет представлена ему по всем правилам.
— Это Маргарет Дормен, — сказал Колин.
Блетчли молча кивнул.
— А это Йен Блетчли, — добавил он. — Наш сосед.
Блетчли снова кивнул и покраснел еще больше, словно заподозрил, что на самом деле она приехала ради него.
— Мы идем пить чай, — сказал Колин, и Блетчли наконец нарушил молчание.
— Приятного аппетита, — сказал он таким тоном, словно то, что ожидало их внутри, должно было подтвердить его давнюю точку зрения на домашнюю жизнь Сэвиллов. Он приткнул велосипед к стене. Вся его огромная фигура словно пылала после недавнего напряжения, ноги ниже края шортов почти светились. Он толчком распахнул дверь и захлопнул ее за собой.
Мать переоделась. Возможно, вначале ее выбило из колеи именно то, что она не успела привести себя в порядок. Впрочем, у нее было всего два платья — коричневое в мелкую крапинку, которое она надела теперь, и темно-серое, домашнее, которое она носила в перемену с юбкой и джемпером.
Кувшин с цветами стоял посреди стола, окруженный тарелками. Прямо к нему было придвинуто блюдо, на котором лежали сандвичи с мясным паштетом. У раковины стояла вскрытая банка компота.
Его братья уже ждали у стола — Стивен неуверенно переминался с ноги на ногу, а Ричард, который недавно плакал, тер лицо фланелевой тряпочкой. Мать, которая кончила накрывать на стол, встретила их улыбкой. И почти сразу со двора вошел отец, докуривая сигарету.
— Вот и отлично, — сказал он, прихлопывая в ладоши и потирая их, словно перед этим произошла какая-то стычка и он теперь изо всех сил старался заглушить ее отголосок. — Ну как, все наше прелестное селение обошли?
— Почти, мистер Сэвилл, — сказала Маргарет, которая при виде отца немного повеселела. — Можно, я вам помогу, миссис Сэвилл? — добавила она.
— Все готово, голубушка, — сказала мать. — Только вот руки помойте, если хотите.
— Помоем, помоем руки, — сказал отец и пошел к раковине, засучивая рукава. Он открыл кран и бодро запел.
Колин вымыл и вытер руки после Маргарет, потом придвинул ей стул, и они сели. Стульев было только четыре, и мальчики стояли сбоку и глядели на сандвичи, изнывая от нетерпения: блюдо было передано сначала Маргарет, потом матери, после чего отец протянул его Колину.
— Ну-ну, не набрасываться, — сказал отец. — Ешьте не торопясь. Дайте хорошей еде, — добавил он, ласково поглядев на Маргарет, — время перевариться.
Когда сандвичи были съедены и мать спросила Маргарет, не хочет ли она еще, на стол был подан консервированный компот. Мать раскладывала его, близоруко наклоняясь над розетками, стараясь, чтобы в каждую попали разные фрукты: она вынула вишню из одной розетки, подложила в нее кусок груши, потом спросила Маргарет:
— Не хотите ли сливок, голубушка? — А когда отец поставил на стол жестянку с двумя проколотыми дырочками, сказала: — Да перелей же их в молочник, Гарри.
— Сливки в банке, сливки в молочнике — какая разница? — сказал отец.
— В молочнике приятнее, — сказала она строго и покраснела, а отец отошел к буфету и терпеливо ждал, пока из перевернутой жестянки медленно вытекало ее содержимое. — Или хотите сливки, снятые с молока? У меня есть нетронутая бутылка, — сказала мать.
— Зачем же, миссис Сэвилл? Такие хорошие сливки! — сказала Маргарет, внимательно следя за выражением на лице отца, а потом с улыбкой взяла у него молочник.
Когда компот был доеден и младшие братья выскребли свои розетки дочиста — Ричард даже встал на цыпочки, поднял локти и, медленно облизывая ложку, смотрел на Маргарет так, словно все угощение привезла она, — из стенного шкафчика был извлечен бисквитный торт.
— Да где же это он прятался? — сказал отец. — А мы-то про него и знать не знали, а? — Он взял нож, готовясь сам его нарезать.
— Ну, если бы ты про него знал, — сказала мать, посмотрев на Маргарет, — так к чаю бы ничего не осталось.
— Верно. Совершенно справедливо, — сказал отец, подавая Маргарет на ноже первый кусок, а мать добавила:
— Неужели нельзя разложить как следует? Ты должен взять тарелку, а не протягивать кусок через стол.
— Ну, в шахте нам времени на правила хорошего тона остается мало, — сказал отец, поглядев на Маргарет.
— Но сейчас ты ведь не в шахте, — сказала мать и добавила, повернувшись к Маргарет: — Хотя, если судить по их манерам, они вовсе из шахты не вылезают.
— Ладно, ладно, — сказал отец, словно ища сочувствия, — некоторые из нас не так всем тонкостям обучены, как другие. Вот я нет-нет да и допущу промашку. Ну, так Маргарет, наверно, меня простит.
— Речь же не о прощении идет, а о том, чтобы поступать в согласии со здравым смыслом, целесообразно, — сказала мать, краснея, но выражения ее глаз не было видно за очками.
— Целесообразно! Еще одно словечко, — сказал отец. — В этом доме за стол без толкового словаря лучше не садиться.
Возможно, это был отголосок стычки, которая произошла, пока они гуляли по поселку.
— Налить вам еще чаю, голубушка? — сказала мать, протягивая руку за чашкой Маргарет и решительно кладя конец этому разговору.
Позже возник новый спор — из-за мытья посуды.
— Сидите, сидите, голубушка. Это я сама сделаю, — сказала мать, когда Маргарет начала убирать со стола, едва они кончили есть.
— Но должна же я как-то отплатить за ваше гостеприимство, миссис Сэвилл, — сказала Маргарет и отнесла к раковине стопку грязных тарелок. Увидев, что крана горячей воды нет, она налила чайник и пошла с ним к очагу.
— Гостям черную работу делать не положено, — веселым тоном сказала мать, быстро забрала у нее чайник и сама поставила его к огню.
— Нет, мы все этим займемся, — сказал отец, снимая пиджак и закатывая рукава. — Черт меня подери, Элин, неужто я буду посиживать и смотреть, как ты посуду моешь? Стив, бери-ка ведро и сбегай за углем! — Он открыл кран и принялся ополаскивать тарелки под шумной струей.
— Я сама все сделаю, голубчик, когда Маргарет уедет, — сказала мать сердито. — И ни к чему все это устраивать.
— Устраивать? Что устраивать? — сказал отец и посмотрел на Маргарет. — Не любоваться же нам на грязные чашки и блюдца. Вот уберем и посидим в чистой комнате.
— Иди-ка с Маргарет в гостиную, — сказала мать Колину. — А мы с отцом вымоем посуду.
В конце концов они ушли оттуда и молча сидели в тесной комнатушке, глядя на улицу. Сквозь стену до них доносились голоса его родителей, потом заплакал Стивен.
Колин пошел на кухню.
— Пусть идет играть, — сказал он. — Оттого, что Маргарет приехала, ему вовсе не надо сидеть дома.
— Нет, голубчик, никуда они не пойдут, раз у нас гостья, — сказала мать.
Стивен насупившись сидел возле двери, а Ричард уже возился на полу под столом.
— Столько хлопот! Ну, ради чего она мучается? — сказала Маргарет, когда он вернулся. Она стояла у окна, скрестив руки на груди, и смотрела на улицу. Блетчли, словно он догадывался обо всем, а может быть, даже прислушивался за стеной к бурлению голосов, медленно выписывал на велосипеде петли перед домом, и его широкое красное лицо ежеминутно поворачивалось в сторону двери — он, несомненно, знал, что Маргарет стоит за занавеской, и словно бы предлагал ей свое общество и свою личность в качестве достойной замены.
— Она просто разнервничалась, — сказал он. — Ей хотелось произвести хорошее впечатление. Ты же первая девушка, которую я пригласил к себе домой, — добавил он и умолк, но она по-прежнему смотрела в окно. — Потребность гордиться своим домом намного превосходит те возможности, которые у нее есть. Она ведь искренне считает вот это гостиной. — Он указал на ветхую мебель, на плохо настеленный линолеум.
— Это ужасно. Это невыносимо! Нет, не думай, — сказала она, — я ей сочувствую. Но быть вынужденной жить так!
— Вот побываешь у нас еще раза два, — сказал он, — и она перестанет напрягаться. И может быть, даже обрадуется, когда ты предложишь перемыть посуду.
— Ты считаешь, что это будет хорошим признаком, шагом в нужном направлении? — сказала она, наконец отвернувшись от окна.
— Все зависит от того, чего ты хочешь, — сказал он и умолк.
Она опять смотрела на улицу. Блетчли возникал за окном и исчезал то в одну сторону, то в другую, точно маятник метронома.
— Как, ты сказал, его зовут? — спросила она.
— Йен.
— Ты его давно знаешь?
— Почти всю жизнь. Нет, просто всю жизнь, — сказал он. — Хотя познакомился с ним по-настоящему, только когда поступил в школу.
— А он еще учится в школе? — сказала она.
— Да, решил окончить и выпускной класс. Думает поступить в университет, — сказал он.
— Ну, хотя бы еще один спасется, — сказала она. — А в поселке есть другие вроде вас?
— Двое-трое, — сказал он. — Но как правило, они все равно кончают шахтой. Хотя и не обязательно этой, — добавил он, показывая на облако дыма, плывущее над улицей со стороны копра.
Когда вопрос о мытье посуды был разрешен и его родители несколько минут чинно посидели с ними, они все вместе вернулись в кухню играть в карты. Ричарда уложили спать пораньше, а Стивену после новых препирательств все-таки позволили пойти гулять, и теперь его голос доносился с пустыря. Они опять выпили чаю и продолжали играть — отец тасовал, торговался громким хриплым голосом, хохотал, пока не начинал кашлять, и играл так небрежно, что Маргарет каждый раз выигрывала.
— Она ж меня прямо ослепляет! Ума-то, ума — с первого взгляда видно.
— Но вы даже не стараетесь, мистер Сэвилл, — говорила Маргарет.
— Не стараюсь? Еще как стараюсь! Но где мне тягаться с такой умницей!
Когда Колин пошел проводить ее до автобуса, было уже темно. На углу она взяла его за руку.
— Ты не жалеешь, что приехала? — спросил он.
— Конечно, нет. Меня же интересуешь ты, а не твои родители.
— Но они часть всего этого.
— Часть, а не целое, — сказала она. — Через две недели я снова приеду, и посмотрим, не станет ли лучше.
В конце концов она освоилась у них много легче, чем он ожидал. Мать не только начала смотреть на цветы и мытье посуды как на нечто само собой разумеющееся, по уже сама давала ей всякие мелкие поручения — сходить за покупками или погладить белье, а как-то, вернувшись из колледжа днем в субботу, Колин застал Маргарет одну на кухне. Повязав волосы шарфом вместо платка, она подметала пол. Стивен с Ричардом играли на пустыре, и, кроме нее, в доме как будто никого не было.
— Твоя мать пошла в магазин, а отец спит, — сказала она. — Стивен с Ричардом где-то бегают. Я их больше часа не видела.
Он помог ей кончить уборку и расставить мебель по местам.
— Ты давно здесь? — спросил он.
— С утра, — сказала она. — Чтобы успеть помочь с обедом. У нас дома осталось мясо. Не пропадать же ему.
— Мы все-таки не настолько бедны.
— Конечно, — сказала она. — Но я подумала, что лишним оно не будет. Ты не сердишься? — добавила она.
— Нет, — сказал он. — Но я не хочу, чтобы твоей помощью злоупотребляли.
— А если и так, ну и что? Раз я приехала, значит, меня это устраивает.
— Но мне кажется, что ты против всего этого, — сказал он.
— Я и против, — сказала она. — Но менять одну тиранию на другую не собираюсь, — добавила она. — Не заниматься домашней работой только из принципа — это ведь тоже тирания.
Когда мать вернулась, они пошли гулять. Теперь все их встречи следовали одному образцу: длинные неторопливые прогулки, а время от времени кино — либо в маленьком поселковом кинотеатре, либо в одном из трех городских. Их одиночество редко нарушал кто-нибудь третий. Он познакомил ее с Ригеном, когда они столкнулись с ним на станции, с миссис Шоу, которая как-то днем зашла к ним на кухню, с миссис Блетчли во дворе. Если не считать таких случайных встреч, они гуляли в молчании, полном ощущения странной, почти торжественной близости, по которому он томился всю неделю в колледже. Их споры, когда они вспыхивали, завершались поцелуями под деревом или в глубине пустынного леска, а ожидая на автобусной остановке или отдыхая на обратном пути возле какого-нибудь скучного пустыря, она рассказывала ему про свои занятия в школе, а он ей — про колледж. Внешний мир почти не вторгался к ним.
В конце года она подала заявление в университет в городе, до которого было около сорока миль, и была принята — пока еще условно, в зависимости от результата последних экзаменов. Он подал заявление о досрочном прохождении медосмотра для воинской службы. Теперь они иногда говорили о своих планах на будущее, о том, чтобы пожениться, прежде чем начнутся занятия в университете. Как-то вечером, когда он зашел за ней, ее отец сказал, что хотел бы обсудить с ним их намерения.
— Пойдемте ко мне в приемную, — сказал он. — Там нам никто не помешает.
Он открыл дверь в глубине прихожей, провел его по коридору в кабинет и зажег свет. Колин сел в предназначенное для пациентов кресло перед письменным столом. Доктор сидел напротив, курил трубку, выбивал пепел, наклонялся вперед, но говорил о погоде и о разных спортивных событиях. Их окружали стеклянные шкафчики, в углу на белом эмалевом подносе выстроились пустые пузырьки и флаконы, у двери стояли медицинские весы с вертикальной шкалой.
— По словам Маргарет, — сказал доктор, — вы думаете пожениться.
— Да, мы это обсуждали, — сказал он.
— Я не собираюсь накладывать никаких запретов. — Доктор Дормен улыбнулся. — Мне просто хотелось бы кое-что уточнить. В общем плане ее жизни. — Он снова принялся неторопливо набивать трубку табаком. — Ведь Маргарет будет всего только девятнадцать, когда она начнет заниматься в университете, — добавил он, подчеркнув последнее слово, точно для него оно было исполнено особого смысла. — Ваши перспективы на ближайшие два года равны, собственно говоря, нулю. С практической точки зрения, имею я в виду. — Он взял спички, резко чиркнул и энергично раскурил трубу. По кабинету поплыли облачка дыма. — Если, например, Маргарет вынуждена будет уйти из университета — что неизбежно, если она будет ждать ребенка, — то она останется без специальности, а мало ли какие неожиданности случаются в жизни! Кроме того, с возрастом ум утрачивает восприимчивость, и если она попробует продолжать образование позже, то обнаружит, что это очень трудно, а то и вовсе невозможно. Ведь в настоящее время для людей в таком положении не существует никаких курсов или специальных программ. А после первого ребенка может появиться второй. И к чему она будет годна в зрелом возрасте? — Он помолчал, глядя на Колина сквозь колеблющийся дым. — Только стоять за прилавком.
— Все это, — сказал Колин, — неприложимо к Маргарет — к такой, какая она есть. По-моему, она твердо решила в любом случае получить университетское образование. Если мы и поженимся, — убежденно добавил он, наклоняясь вперед, — то подождем с детьми. Во всяком случае, до тех пор, пока она не выйдет на свою дорогу, а я не отслужу в армии.
— Тут ни в чем нельзя быть уверенным, — сказал доктор. — И я говорю это не только как отец, но и как врач, — добавил он с улыбкой. — Было бы глупо отмахиваться от общечеловеческого опыта. В конце-то концов для чего существует будущее? Чтобы строить планы, чтобы готовиться к нему. Когда она получит диплом, а вы найдете место, не вижу, что может помешать вам вступить в брак. Не исключено даже, что к тому времени и вы и она найдете кого-то другого. Человеческое сердце очень непостоянно, и в вашем возрасте вас обоих в ближайшие несколько лет могут ожидать самые неожиданные сюрпризы.
Колин молчал. Он не только не был готов к этому разговору, но еще и чувствовал, что его связывают обязательствами, которые он отверг бы, будь у него время обдумать их. Идея о том, чтобы добиваться заранее заданной цели, была не только омерзительна из-за положения, в которое она ставила и Маргарет, и его самого, но он по-прежнему не находил в ней никакого смысла. Он смотрел доктору в лицо и чувствовал, что, услышав еще один-два довода против их брака, женится на Маргарет завтра же.
— Вот несколько мыслей, пришедших мне в голову, — сказал доктор. — Может быть, вы примете их во внимание. Обсудите с Маргарет. А потом мы поговорили бы втроем. Видите ли, мы с ее матерью убеждены, что университетская жизнь сама по себе предъявляет достаточно много требований. И без осложнений и трудностей, связанных с браком. Вы понимаете, что я хочу сказать?
Колин глядел на пустые пузырьки. На стене за головой доктора висел рисунок человеческого тела — путаница разноцветных линий и мышц. В большом стеклянном сосуде с узким горлышком вдруг затрепыхалась ночная бабочка или какое-то другое насекомое.
— Ведь какова продолжительность брака? Тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят лет. Так что такое три года ожидания и полезных занятий в его преддверии? Если у вас обоих будет ради чего стараться, это только поможет вам. Вы оба благоразумны. Другое дело, если бы я говорил с человеком, не способным видеть ничего, кроме сиюминутных радостей.
Колин встал. Кресло давило его.
— Я поговорю с Маргарет, — сказал он. — Хотя с практической стороны мы этого никогда не обсуждали.
— Конечно. В вашем возрасте о практической стороне думают мало. И заниматься ею должны старики вроде нас, — добавил доктор.
Он тоже встал, направился к двери, открыл ее, словно перед пациентом, и, лишь на секунду задержавшись, чтобы оглядеться, погасил свет.
Когда они вошли в гостиную, Маргарет сидела у огня и шила, а рядом ее мать заканчивала на большом листе бумаги не то плакат, не то объявление для собрания, на которое собиралась пойти вечером.
— Чаю? — сказала миссис Дормен и поглядела на лицо мужа, стараясь угадать, чем кончился их разговор.
— Я с удовольствием. А вы, Колин? — сказал доктор, засмеялся, выдохнул последнее облако дыма и, небрежно наклонившись, выбил трубку об угол печки.
Маргарет посмотрела на Колина. Он промолчал. Тихое спокойствие дочери и матери порождало ощущение домашнего уюта, и оно еще усилилось, когда доктор с добродушной улыбкой взял газету и опустился в кресло.
— А сухарики к чаю найдутся? — спросил он жену, которая направилась к двери, и, посмотрев поверх газеты на Маргарет, добавил: — Вы идете гулять или посидите сегодня дома?
— Мы пойдем пройдемся, — сказала Маргарет и снова посмотрела на Колина. — Как ты?
Они ушли, когда миссис Дормен принесла чай.
Они свернули на темное поле для гольфа. Когда они гуляли, он теперь всегда держал ее за руку. Через некоторое время он снял пальто, и они легли на траву. Он уже рассказал ей, о чем говорил с ним ее отец.
— Я согласна бросить школу, чтобы мы сейчас же поженились, — сказала она. — Я не чувствую себя обязанной делать то, чего хотят они. Хотя, естественно, — добавила она, — выслушаю их доводы.
— И все-таки лучше, чтобы ты получила специальность, — сказал он.
Еще в прошлом году она решила, что не будет заниматься медициной, не пойдет по стопам отца, и выбрала языки — главным образом потому, что курс можно было окончить за более короткое время. Даже из-за этого они тогда поспорили. Теперь она отодвинулась от него в темноте и села.
— Разве это не идет вразрез с тем, что ты всегда говорила? Что ты должна быть независима? Что у тебя должна быть своя жизнь? С какой стати тебе отказываться от этого? Что изменилось по сравнению с прошлым годом? — добавил он.
— Не понимаю, почему одно обязательно исключает другое. Если мы поженимся в этом году, я все равно смогу получить диплом. Почему брак должен быть такой уж помехой? Наоборот, он даст определенность, а это только поможет занятиям.
— Ну, а если у нас будет ребенок? — сказал он.
— Разве мы не можем спланировать свою семейную жизнь?
— Можем, конечно. — Он выжидающе замолчал.
— Так что же нам мешает?
— Все это как-то продуманно и взвешенно, — сказал он. — Точно речь идет о покупке костюма или дома. Я всегда искал непосредственности, мгновенных решений. А мы сейчас предопределяем нашу совместную жизнь, точно расстилаем ковер. Мы знаем, когда и что будет, хотя она даже еще не началась.
Он встал, и они пошли дальше. Она взяла его за руку.
— Вот ты все время рассуждаешь про независимость, — сказал он. — Но ведь на деле ты ничего не осуществишь. Ты говорила, что так произошло с твоей матерью, но что ты совсем другая. Я не хочу, чтобы ты выходила за меня замуж, словно это само собой разумеется. Так — нет. Уж лучше поженимся завтра. Или вообще никогда. Я предпочту, чтобы у нас все оставалось как есть, а они пусть прикидывают и рассчитывают.
— Ну, так пусть все остается как есть, — сказала она.
Она пошла проводить его до остановки. Когда автобус тронулся, он оглянулся и увидел, что она стоит под фонарем у обочины. Он чуть было не выпрыгнул из дверей и не бросился назад к ней — такой она казалась тоненькой, хрупкой, почти бестелесной. И это ее страстное желание стать чем-то, желание, которое никогда не сбудется!
Всю ночь, скорчившись под одеялом, он ощущал, что ее нет рядом. Утром в понедельник он не вернулся в колледж и ждал ее у ворот школы. Он заметил ее еще издали, но в школьной форме она казалась непривычно чужой. Она поглядела на него с удивлением, даже с каким-то страхом и, не обращая внимания на любопытные взгляды других девочек, быстро подошла к нему.
— Что-нибудь случилось? — спросила она.
— Нет. — Он мотнул головой. — Просто мне захотелось тебя увидеть, — сказал он.
И все-таки она продолжала смотреть на него со страхом — ее глаза потемнели, рука судорожно сжимала кожаный портфель.
— Я подумала, что-то случилось. — Она вглядывалась в его лицо, словно проверяла, не скрывает ли он чего-нибудь.
— Нет, вроде бы ничего не случилось. Ничего, — сказал он и добавил: — А ты как? Все хорошо?
— У меня? Да, — сказала она неопределенно и перевела взгляд на школьный двор, на других девочек, на учительницу, которая сердито прошла мимо них в калитку. — Они не любят, чтобы мы разговаривали с посторонними около школы, — добавила она.
— Ну, так отойдем, — сказал он.
— Времени нет.
В здании школы прозвенел звонок. Девочки во дворе быстро пошли к дверям. Они окликали друг друга, взвизгивали. Кто-то позвал ее.
— Они, конечно, спросили меня, как мы решили, — сказала она и добавила: — Я сказала, что у нас все остается по-прежнему. Если ничего не произойдет. По-моему, они просто боятся.
— Или озабочены твоей судьбой.
— Вот видишь, — сказала она, — ты тоже непоследователен, как и я. То ты на их стороне, то на нашей.
— Все равно я рад, что повидал тебя, — сказал он. — Целой недели я бы не выдержал.
— Я тоже. Я собиралась позвонить тебе в колледж сегодня вечером.
— О чем? — спросил он и улыбнулся.
— Да так просто, — сказала она и пожала плечами. — Ну, мне пора. Я все равно позвоню, — добавила она и, быстро оглянувшись на школьный двор, поцеловала его в губы.
Здание было большое и квадратное, похожее на фабрику или склад, кирпичные стены покрывала желтоватая штукатурка, вся в разводах и пятнах копоти, зеленая краска на рамах окон, протянувшихся длинными рядами, облупилась — оно выглядело так, словно его долго держали в духовке, и казалось безжизненным, пока он не поднялся по бетонным ступеням и не вошел в обыкновенную дверь, выкрашенную в зеленый цвет. Его остановил человек в армейской форме.
Он назвал свою фамилию, показал повестку и был направлен в комнату на третьем этаже, в конце коридора с бетонным полом. Тридцать-сорок молодых ребят сидели там на скамьях лицом к деревянной перегородке с окошком. Едва он вошел, стеклянная панель в окошке отодвинулась, из него высунулась мужская голова с коротко остриженными волосами и скомандовала:
— Комната Эл-двадцать шесть на четвертом этаже, и живо!
Ребята встали. Некоторые курили, другие продолжали переговариваться, равнодушно поглядывая на открытую дверь.
Из-за перегородки, докуривая сигарету, вышел солдат с более длинными волосами и гнусавым голосом начал читать фамилии по списку.
Колин своей фамилии не услышал. Под понукания солдата со списком последние ребята медленно вышли в коридор.
— Комната Эл-двадцать шесть на четвертом этаже, и живо! — крикнул солдат, повторяя слова первого солдата за перегородкой. Он встал в дверях, замахал руками и добавил: — Да нет же! Вверх по лестнице, а не вниз!
Потом вернулся в комнату, с треском захлопнул за собой дверь и сказал первому солдату — сержанту, как увидел Колин, когда тот вышел из-за перегородки:
— Ну и дурачье!
Колин показал сержанту повестку, и ему было велено сесть на скамью. Он прождал двадцать минут. В комнату один за другим входили другие ребята, озирались вокруг, подходили к окошку, показывали повестки и, позевывая, усаживались на скамьи. Двое-трое закурили. За покрытыми копотью стеклами двух окон виднелось пустое небо.
Через некоторое время скамьи заполнились, из-за перегородки снова вышел солдат с волосами подлиннее, прочел новый список, и все, кроме Колина, потянулись в коридор.
Потом скамьи опять мало-помалу заполнились и вновь опустели, когда сержанту позвонили по телефону и он отправил всех в комнату на четвертом этаже.
Сержант вышел из-за перегородки и сел рядом с солдатом.
Он достал сигареты, одну дал солдату и растянулся на скамье, подложив руки под голову. Зазвонил телефон, он медленно поднялся и пошел за перегородку. Его круглая голова с тяжелым подбородком кивала за стеклянной панелью. Щеки у него стали багровыми. Потом он вернулся, сунул сигарету в рот и снова лег на скамью.
— А ты что здесь делаешь? — сказал солдат с волосами подлиннее, вдруг заметив Колина.
Он показал повестку. Его фамилия была в одном из списков.
— Так после уже две партии прошло!
— Мне велели ждать здесь, — сказал он.
— Кто велел? — спросил сержант.
— Да вы же, — сказал он.
— Плохо слушал! Из них половина на ухо туга, — добавил он в сторону солдата. — «В Эл-двадцать шесть», вот что я сказал. Ну, так иди, да поживее!
Он вышел в коридор. Сзади раздался хохот и оборвался, потому что зазвонил телефон.
Он поднялся по лестнице на четвертый этаж и медленно пошел по коридору с бетонным полом мимо совершенно одинаковых дверей. Наконец он дошел до комнаты Л-29 — кто-то явно перевернул шестерку. Он громко постучал, не услышал ответа и вошел.
Внутри стояли ряды деревянных столиков. За большим столом лицом к столикам сидел солдат с двумя нашивками на рукаве. Он снимал резинку с пакета, в котором были бутерброды, и посмотрел на Колина с удивлением.
— В чем дело? — спросил он. Рядом на столе стоял большой термос.
— Меня прислали снизу, — сказал Колин.
— Наверно, какая-то ошибка. Я только что отправил последнюю партию.
Колин показал ему повестку с фамилией, номером и часом.
— А я уже собрался перекусить, — сказал капрал и начал натягивать резинку на пакет. — Сколько вас там еще осталось? — добавил он.
— Я один.
— Всего один? — Он наклонился, взял из-под стола портфель, уложил в него пакет и термос, застегнул и опять поставил под стол.
— Не понимаю, почему нельзя было подождать. Я уже собрался перекусить, — сказал он еще раз.
Он протянул Колину карточку.
— Не заглядывайте в карточку, пока я не разрешу, — сказал он, показал на столики и добавил: — Я бы сел подальше. Не впереди. Есть у вас карандаш? Ну, найдете на столике.
В конце концов Колин выбрал столик в середине, поглядел, нет ли у капрала каких-нибудь возражений, увидел, что тот снова наклонился к портфелю, и, сев за столик, положил карточку перед собой.
— Готовы? — сказал капрал. Он вынул из портфеля часы и многозначительно поднял их, глядя на него. — Когда я скомандую начинать, у вас будет десять минут, чтобы ответить на вопросы в карточке. У меня ни о чем не справляться. Если ответить не можете, оставьте пустое место.
Он подчеркнутым жестом положил часы перед собой и кивнул.
— Это значит, — добавил он, раздраженно повышая голос, — что вы можете начинать.
Колин взял лежавший на столе карандаш, увидел, что вопрос номер один, как и в первой его экзаменационной работе столько лет назад, связан с определением закономерности ряда последовательных чисел, а потому требует некоторых размышлений, и решил для экономии времени сначала ответить на следующие. Он перешел ко второму вопросу, потом к третьему, вписывая краткие ответы в прямоугольники сбоку, но, ответив на последний вопрос, обнаружил, что нижний прямоугольник остался пустым.
Он проглядел столбец с ответами снизу вверх. Оказалось, что ответ на второй вопрос он нечаянно вписал в прямоугольник, предназначенный для первого. Ответ на третий был в прямоугольнике для второго и так далее. То есть ответы на все тридцать два вопроса, за исключением первого, на который он вообще не ответил, были вписаны на прямоугольник выше нужного.
Он начал старательно рисовать стрелки на полях от вопросов к верным ответам, но тут капрал за столом скомандовал:
— Карандаши положить. Карточки больше не перечитывать и не трогать!
— Я неточно вписал ответы… — начал он, но капрал крикнул:
— Без разговоров, пожалуйста! Если вам надо что-то спросить, поднимите руку.
Он поднял руку. Капрал несколько секунд словно не замечал ее, сосредоточенно глядя на нож, которым чинил красный карандаш.
— Ну, в чем дело? — спросил он наконец, поднимая голову.
— Я хотел указать, что вписал ответы не в те прямоугольники, — сказал он.
— Экзаменационная работа никаким исправлениям не подлежит. Будьте добры, сдайте ее.
Он вылез из-за столика и отнес карточку капралу.
— Карандаш на место положили?
— Да, — сказал он.
— Только зазевайся, и на столах ни одного карандаша не останется. Будьте добры пройти в комнату Эс-двадцать семь на следующем этаже.
— Я просто хотел указать, — сказал он, кивнув на карточку, над которой уже был занесен красный карандаш, — что ответы вписаны неверно. Что ответ на первый вопрос…
Капрал медленно повернулся и посмотрел ему в лицо.
— А ну, катись отсюда! — сказал он.
В дверях он оглянулся и увидел, что капрал ставит по краю карточки аккуратные столбиком красные крестики, автоматически сверяя ответы с лежащим перед ним листом. Капрал поставил еще один крестик и удивленно поднял на него глаза. Он вышел в коридор.
Комната С-27 оказалась обширным залом на верхнем этаже. В середине зала двое-трое пожилых людей в белых халатах стояли возле чугунной печки. Ее железная труба была выведена наружу через широкую, небрежно пробитую дыру в потолке.
По трем стенам зала тянулись занавешенные кабинки, достаточно большие, чтобы в них могли уместиться письменный стол и кушетка. Возле одной из кабинок кучкой стояли ребята из последней партии. Почти все они были раздеты, двое завернулись в полотенца. Они по очереди входили в кабинку, а выйдя из нее, шли в соседнюю. У четвертой стены стоял письменный стол, за которым сидел офицер и два солдата.
Третий солдат отвел его в первую кабинку. Ему велели раздеться. Затем его, голого, отвели во вторую кабинку, дали ему стеклянную баночку и велели помочиться в нее над жестяным ведром, уже полным почти до краев. Выйдя, он отдал баночку солдату, и ее молодцевато отнесли в дальний конец зала, где она получила бумажный ярлычок и была поставлена на деревянный стол среди других таких же баночек.
В третьей кабинке седой человек в белом халате и в очках читал книгу. Он удивленно посмотрел на Колина.
— Я думал, все уже прошли, — сказал он.
— По-моему, я последний, — сказал Колин.
— Садитесь на стул, и посмотрим ваши уши, — сказал врач.
Парусиновый чехол стула был холодным. Врач посветил крохотной лампочкой в одно его ухо, в другое, потом наклонил его голову набок, влил ему в уши какую-то жидкость, заткнул их ватой и сказал громко, приблизив губы к самому его лицу:
— Вернетесь, когда пройдете проверку зрения.
В соседней кабинке подверглись осмотру его зубы и горло. В следующей — живот и ноги, а затем грудь, по которой пожилой врач, сутулясь, водил стетоскопом. В следующей его посадили на стул перед множеством цветных диаграмм. Он называл цифры и фигуры — чтобы расслышать, что говорит врач, глуховатый старичок, ему пришлось вытащить вату из одного уха. Потом он вернулся в кабинку к ушнику.
— Что-нибудь не в порядке? — спросил он.
— Боюсь, это просто грязь, — сказал врач.
— Грязь?
— Вы, богема, все на один лад, — сказал врач, кивнув на его длинные волосы.
Когда он оделся, в зале уже никого не было, кроме людей в белых халатах у печки — их стало заметно больше — и офицера с двумя солдатами за письменным столом.
— Вы не могли бы сказать мне результаты осмотра? — спросил он у офицера, остановившись возле двери.
— Вам сообщат в надлежащее время, — сказал офицер.
— А не мог бы я узнать теперь? — сказал он. — Видите ли, я подавал заявление о досрочном медицинском осмотре.
— А зачем вы его подавали? — сказал офицер.
— Чтобы меня призвали сразу после окончания колледжа, не то мне пришлось бы ждать несколько месяцев.
— Боюсь, я вам ничем помочь не могу, — сказал офицер. — Вам придется ждать, как и всем остальным. Вам сообщат, — добавил он еще раз, — в надлежащее время.
Он вышел и увидел, что на площадке в конце коридора около стола толпятся ребята — некоторые еще застегивали пиджаки и рубашки, другие зашнуровывали ботинки. За столом сидел солдат. Он выкликал фамилии, номера и раздавал какие-то карточки.
Колин остановился и подождал. Через несколько минут он услышал свою фамилию.
— Ограниченно годен, — сказал солдат, взмахивая карточкой над головой. Колин взял карточку, но солдат даже не взглянул на него. У стола уже почти никого не оставалось. Когда солдат отдал последнюю карточку, Колин снова подошел к столу.
— По-моему, тут какая-то ошибка, — сказал он.
— Фамилия? — сказал солдат.
Он показал карточку.
— Фамилия правильная, и номер тоже, но мне кажется, годность поставлена неверно.
— Третья категория — ограниченно годен, — сказал солдат, справившись со списком на столе. — Плоскостопие. Есть у тебя плоскостопие?
— Не замечал, — сказал он.
— Очень многого вы не замечаете, пока не попадете сюда, — сказал солдат.
— Это что, освобождает меня от призыва? — спросил он.
— Совершенно верно. — Солдат заглянул в папку. — С третьей категорией сейчас не призывают. Иди гуляй.
В колледж он возвращался на трамвае. Он сидел на деревянной скамье впереди и рассматривал карточку: его фамилия и имя полностью, а рядом категория — римской цифрой. Трамвай дергался и лязгал на поворотах, стекла дребезжали в деревянных рамах, откидные сиденья стучали о металлические скобы. Он смотрел на улицу, на гладкую ленту асфальта, прорезанную сверкающими рельсами, на блокированные дома по сторонам, на гармоники крыш, на далекие огромные печи в металлической облицовке, на низкий полог дыма, озаряемый отблесками пламени, и вдруг увидел на юге над самыми дальними крышами силуэт холмов, за которыми лежал город, где он учился в школе, а еще на двенадцать миль дальше — поселок. Трамвай покатил вниз. По сторонам тянулись высокие стены, перемежавшиеся узкими зданиями. Он снова посмотрел на карточку и перевел взгляд на ребристый, усеянный билетами пол у своих ног.
— Я уезжаю в октябре, — сказала она.
Она смотрела на него из-под широких изогнутых полей соломенной шляпы с бледно-розовой лентой вокруг тульи.
За концом платформы, там, где путь нырял в выемку, поднимался полумесяц дыма, возвещая приближение поезда. Все лето после окончания школы она предпочитала ездить не на автобусе, а на поезде. И это тоже вносило напряженность в их отношения — лишние расходы, на которых можно было бы экономить.
Был воскресный вечер. Служба в церкви кончилась, парочки и группы разбрелись по полям за поселком, пухлый огненно-красный солнечный диск тонул в мареве над шахтой.
— Если я поступлю на это место в Роклиффе, — сказал он, — мы, наверное, будем видеться реже. Я смогу выбираться только по субботам.
— Ты мог бы, если бы захотел, поискать место поближе к университету, — сказала она.
— Но тогда у меня не будет возможности помогать родителям.
— Не понимаю почему.
— За квартиру же надо платить. У меня тогда почти ничего не останется. А так эти деньги пойдут матери.
— Да, — сказала она и тоже начала смотреть в ту сторону, откуда должен был появиться поезд. Над выемкой медленно вырастало клиновидное облако дыма.
— И в любом случае я не думаю, чтобы мне стоило постоянно болтаться где-то около, а в конечном счете так оно и получится, — сказал он. — У тебя же будет своя жизнь.
Главным образом из-за этого он уже решил, что жениться им пока не следует.
— Ты собираешься следующие три года жить дома? — сказала она.
— Не знаю. — Он пожал плечами. — Всякое может случиться.
— Если ты останешься здесь, навряд ли.
Показался поезд. Из сумрака выемки выдвинулось черное цилиндрическое тело паровоза, вверх по травянистым откосам пополз дым и белые клубы пара. Паровоз загудел, и дым заколыхался под аркой пешеходного мостика.
Платформа задрожала.
— Через год мы, возможно, убедимся, что у нас нет другого выбора. Кроме как пожениться, имею я в виду, — сказал он. — Что это все-таки наилучший выход из положения.
— Да.
Она смотрела на паровоз, который, плавно проплыв мимо, остановился у дальнего конца платформы. С перестуком остановились вагоны.
В одном из последних вагонов открылась дверь, и вышел Риген. В руке он держал футляр со скрипкой. На нем был темный костюм, из нагрудного кармана торчал белый платок. Торопливо проходя мимо, он молча кивнул, взглянул на Маргарет, слегка покраснел и почти побежал к лестнице. Через несколько секунд его высокая костлявая фигура появилась на мостике.
Маргарет вошла в пустое купе. Она опустила стекло, аккуратно сняла шляпу, положила ее на сиденье, высунула голову и поглядела вперед по платформе.
— Значит, это все, что мы можем сделать, — сказала она. — Подождать и посмотреть, что получится. — Она взглянула на него и тут же снова стала смотреть вдоль платформы, но в другую сторону. Ее нежные чуть впалые щеки порозовели, на висках выступили белые пятна.
Захлопнулись другие двери. Мимо прошел дежурный, дергая ручки.
— Ну, так до следующей субботы, — сказал он.
Она быстро наклонилась к нему.
Он поцеловал ее в губы.
— Береги себя, — сказал он. — Я позвоню.
Прогудел гудок. Вагоны дернулись и задрожали. Паровоз, хрипло запыхтев, пополз по рельсам.
Вагоны заскользили мимо платформы. Рука Маргарет махала и продолжала махать, проносясь над концом платформы и мимо сигнальной будки.
Когда он спустился с мостика, его ждал Риген. Футляр со скрипкой он поставил между ног. Над путями таяли последние клубы дыма и пара.
— Я подумал, что подожду и пойду с тобой, — сказал Риген, медленно провел рукой по волосам и, нагнувшись, взял футляр.
Они пошли по шоссе к поселку. Солнце уже скрылось за холмами. Риген шел широким, размашистым шагом, откинув голову, как будто бессознательно пытался удерживать рвущееся вперед тело.
— Откуда ты так поздно?
— Репетировал. — Риген назвал соседний поселок. — Они организуют танцевальный оркестр. Я подумал, что могу играть там в будни, а в городе по субботам. И у меня там урок. — Он добавил: — Собственно говоря, сегодня вечером я играл в церкви.
— В церкви?
Риген переложил футляр в другую руку.
— Меня пригласил священник. День их святого. То есть святого этой церкви. Там было еще трое. Мы составили квартет.
Некоторое время они шли молча. Воздух был неподвижен. До них отчетливо долетали голоса с полей: чье-то имя, взрыв смеха, потом несколько человек заговорили разом. А издалека доносилось пыхтение паровоза — все тише, тише и наконец замерло.
— Я слышал, тебя не взяли по состоянию здоровья, — сказал Риген.
— Да, — сказал он. — Плоскостопие.
— Меня тоже не взяли. Слабые легкие. — Он похлопал себя по груди. — И по-видимому, малокровие. Пожалуй, это и к лучшему. Бессмысленная трата времени, когда у тебя есть цель.
Под гору навстречу им неслась машина. Обдав их пылью, она умчалась дальше, к станции.
Свободной рукой Риген отряхнул костюм.
— Ты скоро женишься на своей невесте?
— Мы не помолвлены, — сказал Колин.
— Да? — сказал Риген. — А мне казалось… Мама что-то такое говорила. — Он почесал в затылке.
— Через два месяца у нее начинаются занятия в университете. Ей еще три года учиться.
— Тяжелая ситуация, — сказал Риген светским тоном.
Промчавшаяся мимо них машина развернулась и нагнала их. Рявкнул клаксон, в окошко высунулась голова.
— Привет, старик! — крикнул кто-то, машина остановилась, голова обернулась назад. — Привет, Сэвверс!
Секунду спустя из машины вылез человек в офицерской форме.
Только когда он, протягивая руку, подошел совсем близко, Колин узнал полускрытое козырьком фуражки загорелое лицо Стэффорда.
— Ну, я пошел, — сказал Риген, когда они пожали друг другу руки. — Не буду мешать старым друзьям предаваться воспоминаниям, — добавил он все тем же светским тоном и, не ожидая ответа, зашагал дальше по шоссе.
— Да садись же! — крикнул Стэффорд. — Я тебя подвезу! — Повернувшись к Колину, он добавил: — Я заезжал к вам. Твоя мать сказала, что ты пошел на станцию. Со старушкой Мэгги Дормен, хотя столько времени утекло.
— Я ее как раз посадил на поезд, — сказал Колин.
— Так ты что же, не провожаешь ее до дому? — сказал Стэффорд, распахивая дверцу перед Ригеном. Он взял у него футляр и положил на заднее сиденье. — Садись спереди, старик. Терпеть не могу, когда сидят сзади.
Они с Ригеном сели рядом, почти прижавшись к рычагу переключения передач, и машина медленно покатила к поселку.
— Я проезжал мимо, — сказал Стэффорд. — И решил тебя проведать. Сколько же это мы не виделись? — Он энергично нажал на клаксон, увидев детей, которые играли у шоссе возле первых домов.
— Два года, — сказал Колин. — Не меньше.
— А как старина Прендергаст? — спросил Стэффорд, взглянув на Ригена.
— Еще жив. Он передает мне некоторых своих учеников, — сказал Риген. — У нас с ним, так сказать, соглашение. Я преподаю скрипку, а он фортепиано.
— Бедняга Пренни, — сказал Стэффорд и добавил: — Так, значит, Мэгги уехала на поезде одна? — Он вдруг прибавил скорости. — А хочешь, поедем в город и встретим ее на вокзале? Если поторопиться, мы обгоним поезд.
— Ну, зачем тебе беспокоиться, — сказал Колин.
— А никакого беспокойства, старик, — сказал Стэффорд. — Ты слышал, что Мэрион учится на медсестру? Теперь ее, кроме как по большим праздникам, и не увидишь.
Он высадил Ригена на углу. Риген взял с заднего сиденья скрипку и коротко кивнул.
— Очень любезно с твоей стороны, что ты меня подвез, — сказал он так, словно Стэффорд только ради этого и приезжал в поселок. — Всего хорошего. Если окажешься как-нибудь в субботу поблизости от Дома собраний, заходи. — Он снова кивнул и попятился, потому что машина рванулась с места. Стэффорд крикнул в окошко:
— Пока, Майк, старина! Поберегись!
Они с ревом пронеслись по улицам поселка и мимо шахты. Стэффорд, небрежно откинувшись, насвистывал сквозь зубы. Его глаза были почти совсем скрыты козырьком.
— Ты давно в армии? — спросил Колин.
— Уже год, старик. Решил с этим сразу покончить. Через год поступлю в Оксфорд. Вот и следовало все заранее расчистить. — Он посмотрел на Колина, снова перевел взгляд на дорогу и резко крутнул рулевое колесо.
Они повернули к городу.
— Твоя мать сказала, что ты получил освобождение. Везет некоторым, — добавил он. — Я было попробовал, да не получилось. Достал врачебную справку, что сердце пошаливает. Но во время осмотра ничего не обнаружилось.
— А у тебя что, сердце не в порядке?
— Вряд ли, старик. — Он снова засвистел сквозь зубы. — Просто решил попробовать, а вдруг что-нибудь выйдет.
Стоило впереди замаячить машине, как Стэффорд ее уже обгонял, и через несколько минут они въехали в город. Солнце зашло, но на долину еще ложились отблески заката. Когда они свернули на привокзальную площадь, под козырьком над входом в вокзал вспыхнули газовые фонари. Стэффорд, не выключая мотора, выскочил из машины, взбежал по ступенькам, и Колин еще не успел вылезти, как он снова появился и крикнул:
— Все в порядке, старик. У нас еще десять минут. Я же говорил, что успеем с запасом.
Он просунулся в окошко, выключил мотор, бросил фуражку на сиденье, провел рукой по светлым, почти белым волосам и оглядел площадь.
— Боже мой! Помнишь, как мы стояли вон там? В тот день, когда были в кино с Мэрион и Одри? — Откуда-то, возможно из багажника, он достал стек и, когда они направились к лестнице, ловко сунул его под мышку и заложил руки в перчатках за спину.
Солдат, стоявший, прислонясь к стенке, у входа в вокзал, молодцевато отдал честь, когда они неторопливо проходили мимо.
Стэффорд вскинул руку, не повернув головы.
— Вот и поезд, старик. Что она скажет, когда вдруг увидит тебя тут?
Но поезд прогромыхал мимо, не замедляя хода. По вокзалу пронесся ветер.
— Наверное, экспресс. — Стэффорд быстрым движением поднял к глазам серебристые часы на запястье и добавил: — Еще две минуты, старик.
Они вышли на перрон. Люди, стоявшие там небольшими группами, оборачивались и смотрели на Стэффорда, который медленно прохаживался взад и вперед. В его фигуре появилась новая, незнакомая выправка, волосы были коротко острижены, отчего тонкое лицо обрело какую-то особую ясность, выражение мальчишеской прямоты, как ни странно в детстве ему не свойственной.
— Через пару недель нас отправляют, — сказал он, внимательно глядя вдоль путей. — В Кению. Хотя я, вероятно, долго там не пробуду.
— А куда еще ты можешь попасть?
— В Малайю, например. Ходят такие слухи. Но точно не знаю. Во всяком случае, я подал рапорт о том, что желал бы получить назначение где-нибудь здесь. Я, знаешь ли, представляю армию на регбийном поле, так что у меня есть маленький козырь. Пойти с него в нужный момент — и дело будет в шляпе, есть у меня такое чувство.
Внезапно над рельсами возникла черная грудь паровоза. Люди на перроне задвигались. Стэффорд улыбался, постукивая стеком по ноге.
— А я уже почти забыл, как выглядит старушка Мэгги. Она все еще ораторствует о женских правах? — Он поглядел на Колина и засмеялся. — Ты-то ведь тогда об этом и не знал. Господи! Ну и идеи же у нее были!
Когда Маргарет вышла из вагона, она уставилась на Колина в полной растерянности и даже попятилась к двери, словно собираясь снова подняться в купе. Он взял ее за руку и невольно засмеялся.
— Как же так? Откуда ты взялся? — сказала она, широко раскрывая глаза, и оглянулась на поезд. — Ты ехал в другом вагоне?
— Меня привез Стэффорд, — ответил он, указывая на фигуру в форме.
Стэффорд с преувеличенной почтительностью щеголевато отсалютовал стеком, а потом с легким поклоном подошел и пожал ей руку.
— Примите изъявления, сударыня. Разрешите сопроводить вас до дома? — сказал он и добавил: — Ты меня совсем забыла?
— Боже мой! — Она отступила на шаг и оглядела его. — Значит, ты тоже стал офицером? — сказала она.
— Совершенно верно, — сказал Стэффорд и добавил: — Но почему тоже?
— Как и мой брат. Он танкист.
— А-а! — Стэффорд на мгновение умолк и поглядел на дома за путями. — Ну, это не то что мы, пехота, можешь мне поверить. — Он согнул руку кренделем и добавил: — Разрешите сопроводить вас к машине?
Маргарет засмеялась, положила руку ему на локоть и, оглянувшись на Колина, направилась к выходу.
Колин пошел рядом с ними.
Она отдала билет контролеру, и они вышли на привокзальную площадь. Стэффорд распахнул дверцу машины.
— Втроем с дамой, Коль, — сказал он, — мы здесь все-таки не уместимся. Располагайся на заднем сиденье, только передай мне фуражку.
Они медленно проехали через город. Уже совсем смерклось. Лучи фар ложились на шоссе впереди. Стэффорд описывал события прошедшего года.
— Кстати, Хопкинс был в одном со мной учебном взводе, — сказал он. — Его взяли в стрелковую бригаду. И вот он теперь в Малайе. Я слышал, что Уокер тоже был направлен в часть подготовки офицеров, но не прошел. Он теперь сержант службы армейского просвещения. Ну, что еще о ком сказать? — Он перечислил других соучеников, с которыми встречался. — Ты и понятия не имеешь, старик, как тебе повезло, — добавил он через плечо. — Жуткая муть. То есть я хочу сказать, что сражаться нам сейчас не с кем, кроме коммунистов и азиатов. Два года жизни, выброшенные на ветер.
Они остановились возле дома Маргарет. Стэффорд поглядел на зеленую калитку в ограде.
— А помнишь, дорогая, тот последний раз, — сказал он, — когда Колин галантно проводил тебя до дома? — Он добавил: — Знаешь, эта шляпа просто великолепна.
— А почему бы вам не зайти? Поздороваться с моими родителями, раз уж вы тут, — сказала она.
— С величайшим удовольствием. По-моему, у нас больше никаких срочных дел нет, верно, Коль?
Он вылез из машины и открыл дверцу. Опираясь на руку Стэффорда, Маргарет шла по дорожке к крыльцу. Она постучала в дверь и быстро попросила Колина, который шел сзади:
— Стань в стороне. Посмотрим, что они скажут!
Когда наконец ее мать открыла дверь, она стояла, опираясь на руку Стэффорда и старательно делая серьезное лицо.
— Как же так? — сказала миссис Дормен совсем как Маргарет на вокзале.
Стэффорд молодцевато отдал честь:
— Это ваша дочь, сударыня? Мы обнаружили ее в окрестностях городского вокзала. Она дала нам этот адрес, но, разумеется, мы не удивимся, узнав, что это еще одна выдумка, наподобие тех, которыми она морочила нас все время, пока мы, пренебрегая всеми опасностями, добирались сюда.
— Это Невил Стэффорд, мама, — сказала Маргарет. — Школьный друг Колина.
— Вот вы где, Колин, — сказала миссис Дормен, вглядываясь в темный сад. Она отступила, пропуская Маргарет со Стэффордом в дверь, пожала Стэффорду руку и добавила: — Идите в гостиную, Маргарет. Папа там.
Колин вошел в дом следом за ними. Доктор встал с кресла у огня, улыбаясь пожал Стэффорду руку и поглядел на него с любопытством.
— А, так вы тоже жертва призыва? — сказал он, указывая на его форму. — Садитесь, садитесь. Можно предложить вам чего-нибудь выпить?
Они остались почти на час. Стэффорд снова рассказывал о всяких случаях во время его обучения, о тестах, которые должен был выполнить, чтобы стать офицером, о матче с командой военно-воздушных сил, в котором участвовал, о том, как его взвод и еще несколько заблудились на маневрах и ему вместе с другими офицерами пришлось переночевать под открытым небом. На шоссе прекратилось всякое движение. Неторопливо пробили куранты в церкви неподалеку.
— Боже, вы только посмотрите, сколько времени! — сказал Стэффорд, ловким движением поднося часы к глазам. — Всем добрым людям уже давно пора спать, и особенно Мэгги: как будет грустно, если это личико поблекнет оттого, что из-за Стэффорда она не выспится. — Он повернулся к миссис Дормен. — На вокзале я восхитился ее шляпой. Она изумительно одета. Просто невозможно поверить, что это та самая девочка, с которой я был знаком два года назад. Она действительно, — он повернулся и прямо посмотрел на Маргарет, — просто загляденье.
Маргарет засмеялась. Слушая рассказы Стэффорда, она раскраснелась, а теперь стала совсем пунцовой.
— Нет, правда, получается, что тогда на меня противно было смотреть. Все-таки я была не такой страшной, верно, Коль?
— О, Колин редко видит что-нибудь вокруг. Он слишком уж поглощен своими размышлениями, есть у него такое свойство, — сказал Стэффорд. — Внешний мир и все его проявления он редко удостаивает взгляда.
Миссис Дормен тоже начала смеяться. Прошло еще почти полчаса, прежде чем они наконец распрощались.
— Нет, я должен запомнить этот адрес, — сказал Стэффорд. — В моей жизни было не много таких чудесных вечеров. Знай я, как у вас приятно, поверьте, — он поклонился миссис Дормен, — я нанес бы вам визит много раньше. Колин скрытен просто до невероятности — припрятывать Маргарет только для себя! И почему судьба так меня обходит! — добавил он, направляясь к двери. — На мою долю достается одна скука, а все по-настоящему интересное случается с другими людьми.
Доктор зажег фонари над дорожкой и вместе с женой и Маргарет стоял на крыльце, пока они шли к калитке. Стэффорд обернулся, попрощался еще раз, подождал ответа и только тогда направился к машине.
— Нет, тебе правда жутко повезло, — сказал он, когда они тронулись. — Невзрачная куколка, в которой прячется бабочка! Очень тонко было с твоей стороны, Сэвверс, из всех наличных девочек выбрать именно Мэг. Она по-настоящему расцвела, а вот остальные, если судить по Мэрион, уже начинают вянуть. На каждой прямо написано «Hausfrau»[5].
На улицах не было ни души. Они свернули на шоссе, ведущее к поселку. Навстречу, сияя огнями, прогромыхал последний автобус.
— Вы с ней что, помолвлены? — спросил Стэффорд.
— Официально — нет. — Он мотнул головой.
— Ну, а неофициально? — Стэффорд на мгновение отвел взгляд от шоссе.
— Я не вполне понимаю, что это значит, — сказал он. — Мы обсуждали, не пожениться ли нам. Ей еще три года учиться в университете. Если мы до того времени не поженимся, так, наверное, поженимся тогда.
— Ты говоришь как-то без особой уверенности.
— В том, что я хочу на ней жениться, я уверен, — сказал он.
— Так в чем же дело? — спросил Стэффорд.
— Во всем, с чем это сопряжено. Всякие планы, предопределенная жизнь. Я думаю, не уехать ли нам вместе за границу.
— А как считает Маргарет?
— Я с ней об этом еще не говорил, — сказал он. — Но я подумал, что мог бы преподавать за границей. Больше свободы и меньше требований. — Он умолк.
— Ты все еще пишешь стихи? — сказал Стэффорд.
— Да, — сказал он.
— И что-нибудь опубликовал?
— Нет. — Он мотнул головой.
— Ну, в любом случае удачи вам обоим, — сказал Стэффорд.
Когда они свернули на их улицу и остановились перед домом, в спальне его родителей вспыхнул свет. Отдернулась занавеска, и минуту спустя свет загорелся в коридоре. Дверь открылась, на крыльцо вышла мать в пальто, надетом поверх ночной рубашки.
— Может быть, зайдете, Невил? — сказала она. — Выпить чашку чаю.
— Вы очень любезны, миссис Сэвилл, — сказал Стэффорд. Он тоже вылез из машины и стоял у капота, постукивая каблуком по колесу. — Я как раз прощался с Колином. Мне пора.
— Ну, я на всякий случай вскипятила воду, — сказала мать. — Я подумала, что, раз он не вернулся, вы решили провести вечер вместе.
— Так оно и было, миссис Сэвилл, — сказал Стэффорд и засмеялся.
Мать взглянула на небо. Сквозь редкий туман проглядывали звезды.
— Такая красивая ночь, — сказала она.
— Удивительная, — сказал Стэффорд и тоже посмотрел вверх. Светлые волосы поблескивали в полосе света, ложившейся из двери, и словно окружали его голову слабым сиянием. — Да, чудесная ночь, — сказал он еще раз, медленно.
— Значит, если хотите, чай вас ждет, — сказала мать и, плотнее запахнув пальто, ушла в дом.
— Да, вечер, полный событий, — сказал Стэффорд, все еще постукивая каблуком по колесу. — Я заходить не буду. Поблагодари от меня твою мать за любезность.
— Хорошо, — сказал он.
— Ну, так я поехал, — сказал Стэффорд и быстро протянул ему руку. — До скорого. Я тебе черкну строчку-другую. Африка. Дальний Восток. Когда получаешь письмо, это все-таки развлечение. В армии жутко много всякой лабуды. Скука зеленая. Наверное, в Оксфорде тоже будет не лучше. Нельзя сказать, чтобы я так уж туда стремился. Тем не менее. Наш долг — не рассуждать. А выполнять и прилагать усилия.
Он сел в машину. Заработал мотор. Свет от приборной доски лег на загорелое лицо, приветственно поднялась рука, и машина тронулась.
Колин смотрел ей вслед, пока она не скрылась из виду, а потом вошел в дом.
Блетчли проучился в школе еще год, сдал на стипендию и уехал в университет учиться на инженера-химика. Иногда по субботам и воскресеньям или на каникулах он проходил по улице в университетской куртке, намотав на шею широкий шарф цветов своего университета, сжимая в зубах трубку, с книгами под мышкой.
Летом, когда Маргарет уехала на каникулы, Колин несколько раз отправлялся со своим приятелем в город на танцы в Доме собраний. Бальный зал занимал весь второй этаж длинного каменного здания с высокими окнами и портиком. К стеклянным дверям зала двумя полукружиями вела широкая лестница. В маленькой нише сбоку продавали билеты.
Снимал помещение и возглавлял оркестр Риген. Его высокая фигура во фраке с разученной непринужденностью изгибалась на краю маленькой эстрады в глубине зала. В руке он держал дирижерскую палочку. Перед каждым музыкантом стоял пюпитр, по всей длине которого переплетались инициалы «М. Р.». Когда они вошли, Риген небрежно кивнул им над головами танцующих, словно их появление само собой разумелось, а немного позже взял скрипку и, встав перед оркестром, начал играть прямо в микрофон.
Блетчли после некоторых колебаний университетской куртки решил не надевать и явился в костюме. Его красное лицо лоснилось улыбкой: он был заранее готов снисходительно или презрительно посмеиваться над тем, что они увидят внутри, однако у дверей остановился и вперил недоуменный, почти обиженный взгляд в худую элегантную фигуру своего друга в глубине зала.
Вдобавок ни одна из девушек вблизи от двери не соответствовала его вкусу, и Блетчли, засунув руки в карманы, некоторое время досадливо смотрел поверх покачивающихся в танце голов, а потом повернулся к Колину и сказал:
— Ну и публика! К нему же только такие и ходят, как мы могли бы сами догадаться, если бы взяли на себя труд подумать! — Капли пота уже выступили на его массивном лице и толстой красной шее, тяжелыми складками поднимающейся из воротничка. Он все-таки не удержался от соблазна и надел полосатый галстук с эмблемой своего университета. — По-моему, тут почти одни шахтеры. А девушек они привели фабричных, не иначе. Я тебе рассказывал про студенческие балы? Затягиваются иногда до часа ночи, а многие девушки и тогда не торопятся вернуться домой.
В перерыве между танцами Риген направился к ним, Его большая голова с длинными волосами, тщательно зачесанными назад и напомаженными, чтобы замаскировать выпуклость на затылке, покачивалась над головами остановившихся танцоров, легкая официальная улыбка освещала бледное лицо. Он слегка кивнул Блетчли и сказал:
— Очень мило, что ты пришел, Йен. Рад, что тебе удалось выбраться. — Он указал в глубину зала и добавил: — Пойдемте к буфету и выпьем.
— Только апельсиновый сок? — сказал Блетчли, идя за Ригеном и разглядывая бокалы в руках тех, кто возвращался от стола у противоположной стены.
— Мы еще не получили разрешения на продажу спиртных напитков, — сказал Риген. — Но вообще, по моему опыту, они плохо сочетаются с танцами. Если бы мы, например, стали торговать пивом, обязательно начались бы неприятности. — Через головы стоящих у стола он крикнул женщине в темном платье и белом переднике: — Три сока, Мэдж.
Колин узнал свою тетку, хотя она совсем поседела и очень растолстела с тех пор, как он в последний раз видел ее много лет назад в единственной комнате деда и бабки. Ему вдруг показалось, что она не хочет его узнавать: она дала ему бокал и сразу протянула второй Блетчли, говоря Ригену:
— Так сегодня без добавлений, Майкл?
— Привет, тетя, — сказал Колин.
— Тетя! Я вот покажу тебе тетю! — сказала она и засмеялась, по тут же изменилась в лице, подперла щеку ладонью и добавила: — Да никак это старший сынок нашей Элин? Ты, что ли, Колин, голубчик? — И опять засмеялась, когда он, раздвинув покупателей, перегнулся через стол, чтобы пожать ей руку. — Когда я его видела в последний раз, он же был вот такой, — сказала она Ригену, опустив руку до края стола. — И такой гордый, и так свою мамочку оберегал, что взрослому мужчине впору. Редж просто не поверит. Вот погоди, я Дэвиду расскажу! Да ты сам их увидишь. Они сюда иногда заглядывают. Попозже. Ну, когда выпьют кружку-другую пивка.
Наконец они отошли от стола, но тетка продолжала смотреть на него поверх голов. Она улыбалась, кивала, машинально раздавая бокалы с соком.
— Вы только подумайте, — услышал он ее голос. — Это же мой племянник! Сколько уж лет я его не видала. Вот бы Редж и Дэвид пришли, пока он тут.
— У вас очень жарко, Майкл, ты не находишь? — сказал Блетчли, проводя пальцем под воротничком.
— Окна держат закрытыми, пока не будут распроданы прохладительные напитки, — сказал Риген. — Но если хочешь, чтобы их открыли, Йен, только скажи.
— Нет-нет. Раз ты так ведешь свое дело, я не хочу быть помехой.
— Может быть, вы хотите потанцевать, — сказал Риген. — У нас есть дамы, которые приходят одни, — добавил он. — Могу вас им представить. Они обычно сидят у самой эстрады.
И той и другой было под тридцать, обе были в одинаковых расклешенных платьях, стянутых в талии, обе сильно накрашены. Одна носила очки, которые сняла, прежде чем пойти танцевать с Блетчли. Ее звали Джойс, а другую Марта. Они танцевали с профессиональной отчужденностью, явно смиряясь с неуклюжестью своих партнеров и в то же время злясь на нее. В ровном ритме они сделали круг по залу, вновь оказались под одобрительным взглядом Ригена и продолжали двигаться вместе со всей тяжеловесно топчущейся толпой.
Под потолком медленно вращались разноцветные лампы. Теперь в конце зала открыли окно, и в него вместе с уличным шумом субботнего вечера врывалась струя прохладного воздуха.
Блетчли откровенно не умел справляться со своими ногами. Время от времени он что-то говорил партнерше, и оба они смотрели вниз: она, близоруко щурясь, скорее всего, вовсе ничего не видя, а он — раздраженно, словно его ноги вытворяли что-то без его согласия. Бычья голова с лоснящимся массивным лбом и щеками наклонялась вниз рядом с нарумяненным и напудренным лицом, после чего, словно огромные ботинки получали невидимый толчок, пара вновь начинала неуверенно двигаться.
Риген объявил, что кавалеры меняют дам. Он отчеканивал слова в микрофон с такой тщательностью, точно каждое вкладывал туда пальцами. Блетчли подошел, слегка поклонился Марте, и она сразу взяла его руку так, словно ей было совершенно все равно, с кем танцевать, а Колин направился к близорукой Джойс, которая, обнаружив, что стоит одна, растерянно оглядывалась по сторонам.
— А, вот вы где, — сказала она. — А я уж подумала, что вы потерялись.
Они ушли через час. Уже совсем стемнело. Все окна зала были открыты. Когда они направились к двери, Риген, который играл на скрипке перед микрофоном, поглядел на них через головы танцующих вопросительно, почти жалобно и, не переставая играть, с улыбкой кивнул, когда Колин знаком показал, что они решили выйти на улицу.
У дверей его перехватила тетка.
— Ты что, уже уходишь? — сказала она. — А Реджа и Дэвида еще нет. Им очень жалко будет, что они тебя не застали.
— Мы, наверное, в следующую субботу опять придем, — сказал он. — Тогда и повидаемся.
— Ну, смотри, ты обещал! — сказала она, засмеявшись, потом ухватила его за руку. — А как твоя мама? Я слышала, у нее года два назад была операция.
— Да нет, это уже давно было, — сказал он. — Сейчас она себя хорошо чувствует.
— Ну, с таким сыном оно и неудивительно. Не то что Редж и Дэвид — они и читать-то толком не научились.
— Возможно, в этом есть свой смысл, — сказал он.
— Что же, зарабатывают они побольше своего отца, — сказала она. — Да не в том, по-моему, дело. От денег счастливее не станешь. Потому я сюда и прихожу, чтобы на людях побыть, где весело.
По лестнице навстречу им поднималась компания парней. Возможно, среди них были и его двоюродные братья. Следом за мокрым от пота Блетчли он вышел на улицу. Из зала донеслись приветственные крики и взрывы смеха.
За открытыми окнами у них над головой гремела музыка.
— Как Риген потом добирается до дому? — спросил Блетчли, вытирая лицо.
— Наверное, на поезде. С двенадцатичасовым, — сказал он.
— Ты что, будешь его ждать? — сказал Блетчли. — А я, пожалуй, пойду на автобус.
— Я тоже, — сказал он.
— Если хочешь знать, — сказал Блетчли, когда они шли к остановке, — так, по-моему, Майкл долго не продержится.
— Он, кажется, доволен тем, как у него идут дела.
— Я кое-что узнал от девицы, с которой мы танцевали. — Блетчли провел носовым платком по шее. — Ему, по-видимому, из выручки почти ничего не остается.
— Как же так?
— Ну, ведь в городе есть настоящий дансинг, «Эмпориум». Там и бар есть, и зал вдвое больше. А к нему ходят только потому, что он за вход берет гроши. В этом весь Майкл. Сплошные фантазии. И ни на йоту здравого смысла. После того как он заплатит за наем зала, заплатит служащим, заплатит оркестрантам, хорошо, если у него очистится два-три фунта. И эта болтовня о выступлениях по радио! Он мне даже про кино что-то плел.
Когда наконец подошел автобус, из его дверей появился высокий жилистый рыжий парень, а за ним выскочил коренастый брюнет. Проходя мимо очереди, Батти остановился, обернулся к Стрингеру, а потом сказал Блетчли:
— Здоров, Брюхо! Как живешь?
— Очень хорошо, — сказал Блетчли. — А ты как?
— И куда же это ты направляешься в такой поздний час, Брюхо? — сказал Стрингер.
— Собственно говоря, домой, — сказал Блетчли.
— А мы приехали послушать ригеновский оркестр, — сказал Батти и посмотрел на Колина. — Может, пошли вместе, Языкатый?
— Мы только что оттуда, — сказал он.
Почти вся очередь уже вошла в автобус.
— Значит, Мик Риген сейчас там, а? — сказал Стрингер. Он недавно отрастил усики, такие же черные, как его глаза и волосы. Они прямоугольным пятном темнели у него под носом. Его лицо и лицо Батти в свете уличного фонаря чисто блестели, как у всех шахтеров после тщательного умывания.
— Да, Майкл там. И играет отлично. Хотя никто этого не замечает, — сказал Блетчли.
— Ну, мы это заметим, Брюхо, — сказал Батти, толкнул Стрингера локтем и захохотал.
— Мы-то заметим, — сказал Стрингер.
— Ну, бывай, Язык, — сказал Батти, подождал ответа и только тогда пошел по улице вслед за удаляющейся фигурой Стрингера.
В автобусе они поднялись наверх. Блетчли достал трубку.
— Думаю, эта парочка вряд ли хорошо кончит, — сказал он.
— Не знаю, — сказал Колин. — Они живут по-своему.
— Рабочая скотинка. Не вижу, на что они могут надеяться. То есть, — добавил Блетчли, — какое будущее лежит перед ними? Танцульки и пиво. — Он выпустил клуб дыма, и Колин вдруг вспомнил доктора Дормена. В такое же время, на этом же самом автобусе он по субботам возвращался в поселок, простившись с Маргарет. Он уставился в окно.
— Я хочу сказать, это же чисто животное существование. Как по-твоему? — говорил Блетчли.
— Может быть, вся жизнь — животное существование, — сказал он, повышая голос, потому что автобус загремел сильнее. Внизу мелькнула черная вода реки.
— Ну, с тем, что вся жизнь — животное существование, я согласиться не могу, — сказал Блетчли, словно обращаясь к остальным пассажирам. — Для чего же тогда наука? Некоторые люди поднимаются над своей средой. А других она засасывает. И они спокойно с этим мирятся, насколько я могу судить. Возьми Батти и Стрингера. Лучше примера не найти. — Еще одно облако дыма проплыло от его сиденья через весь автобус. — Я хочу сказать, что они так и застрянут тут до конца своих дней.
Автобус мчался сквозь мрак. Иногда среди темных полей мелькали огоньки одиноких ферм или светились окна домов, разбросанных по гребню холма. Фары озаряли людей, ждущих на остановке, пассажиры сходили и скрывались в темноте. Позади в небе поблескивали огни дальних поселков и тускло краснело зарево над городом.
— Ну, как дарвиновское происхождение видов, — говорил Блетчли, опять потея в жарком автобусе. — Одни виды приспосабливаются, другие нет. Практически, когда уголь начнут добывать исключительно машинами или вовсе от него откажутся, люди вроде Батти, его братьев и Стрингера лишатся своей функции. А с исчезновением функции исчезает и вид или те его составляющие, которые не способны найти или выработать для себя новую функцию.
Грохот автобуса снова усилился, и Блетчли вскоре умолк, довольствуясь тем, что сильно толкал Колина в бок локтем, чтобы обратить его внимание на какого-либо мужчину или женщину в проходе для иллюстрации своего тезиса, кивал и многозначительно на него поглядывал.
Мрак наконец уступил место огням поселка. Они мчались к нему все быстрее. Блетчли встал и, покачиваясь, пошел к лестнице. Автобус круто повернул перед остановкой, и Блетчли вцепился в перила обеими руками. Когда Колин вышел из автобуса, он уже стоял на тротуаре, выколачивая трубку о каблук.
Они молча шли по улице, и после каждого фонаря перед ними вырастала бесформенная тень Блетчли. Потом их обогнал мистер Блетчли на велосипеде с высоким рулем и с корзинкой у седла. После демобилизации он устроился на сортировочную станцию в соседнем поселке и часто работал в вечернюю смену, как и отец Колина. Колин кивнул ему, но Блетчли словно не увидел отца, и тот проехал мимо, точно ничего другого не ждал. На углу их улицы он медленно слез с велосипеда и, не оглянувшись, скрылся в проходе, ведущем во дворы.
— Это ведь был твой отец? — сказал Колин.
— Он работает в вечернюю, — сказал Блетчли, даже теперь словно не желая его признавать. — Сверхурочно. У меня в университете накопились кое-какие долги, — добавил он. — Вот он и старается, чтобы уплатить их.
— А ты летом работать не собираешься? — сказал Колин.
— Я это взвешивал. Но мне надо столько заниматься, что ни на какую другую работу времени не останется. В конце-то концов, — добавил он, — что еще старику делать? Заниматься вместо меня он не может, ведь так? А работа, которую способен делать он, не для меня. Во всяком случае, у него таким образом появляется цель, есть чего добиваться не ради себя.
Он снова набил свою трубку и, поднявшись к себе на крыльцо, раскурил ее. Оба остановились, каждый у своей двери. Блетчли задумчиво выпустил несколько клубов дыма.
— Бедняга Майкл, — сказал он, поглядев на дверь Ригена. — Мне кажется, все его беды восходят к тому провалу на проверочных экзаменах. Помнишь? Он еще написал сочинение про санитарку. — Он захохотал, и его громоздкая фигура, заколыхавшись, привалилась к стене. — Кстати, как твои дела? — добавил он. До сих пор он ни разу даже не поинтересовался, как прошли для Колина два последние года. — А стоящая ли это профессия, собственно говоря? Одно время я тоже подумывал о преподавании. Но знаешь, как определяют учителя? Мужчина среди детей, ребенок среди мужчин. — Однако он по-прежнему смотрел на дверь Ригена. Под дальним фонарем появился мистер Риген. Его шатало из стороны в сторону, он ухватился за фонарь, потом, сгорбившись, оперся о стену и, судорожно взмахнув рукой, двинулся к своей двери. — Ну, мне пора. Еще часок позубрю, — сказал Блетчли, и в следующую секунду в дверях возникла его мать.
— А, вот и ты, Йен, — сказала она, улыбаясь Колину. — Хорошо провел вечер, голубчик?
— Мы были в дансинге у Майкла, — сказал Блетчли, выдыхая дым прямо ей в лицо. — А вон там его отец выписывает кренделя на пути из такого же заведения, а может быть, из Шахтерского клуба. Только, думаю, он и сам не знает, откуда, если потрудиться его спросить. — Он вошел в открытую дверь и сказал из коридора: — А как насчет ужина, мам?
Изнутри дома, когда дверь уже закрылась, Колин услышал голос миссис Блетчли, голос Блетчли, потом голос его отца.
Дальше по улице распахнулась дверь Ригенов, и на крыльце появилась худая, костлявая фигура миссис Риген.
— Это ты, Брайен? — крикнула она в сторону тени, согнувшейся над сточной канавой, и, не услышав в ответ ничего, кроме оханья, спустилась на мостовую, взяла его под руку и увела в дом.
— Риген? — сказал отец, когда Колин упомянул, что видел его на улице. — Вот уж пропавший зря талант! С его умом всего можно было достигнуть. И стиль у него был, и вкус. А теперь что он такое? Из одного бара в другой на бровях добирается. Если его не выгонят, считай, что ему повезло. И это с его-то стажем! У него теперь чуть не каждую неделю путаница с ведомостями, а ведь он больше тридцати лет зарплату начисляет.
Немного погодя отец вышел через черный ход. Они услышали, как он постучал в дверь Ригенов, потом его голос, вопросительный, мягкий, почти бодрый:
— Может, помочь надо, хозяйка?
Изнутри ему что-то ответили. Он вернулся в дом, хмуро сдвинув брови.
— Нет, им от нас ничего не требуется, — сказал он. — Он валяется в кухне на полу, а она шарит по его карманам. Теперь им ничем не поможешь. Вот что значит жениться. То есть жениться не на той, — быстро добавил он, когда мать подняла голову. — Промахнись в выборе, и твоя жизнь кончена. А выбери правильно, и жизнь у тебя будет настоящая.
Он вдруг увидел ее впереди себя, но сперва не узнал Стэффорда — возможно, потому, что привык видеть его в форме. Ему показалось, что это ее брат, но затем он узнал разворот плеч и светлые волосы. На Стэффорде был темный костюм спортивного покроя. Из нагрудного кармана куртки торчал белый платок.
— А я думал, ты еще не вернулась, — сказал он ей, когда нагнал их. Услышав его шаги, они оглянулись, растерянно отвели глаза и остановились.
— Я приехала только сегодня, — сказала она. — Невил был в Лондоне и подвез меня.
Щеки и лоб у нее были темными от загара.
— У меня увольнительная на двое суток, — сказал Стэффорд. — Ну я и подумал, почему бы не услужить девушке? Тем более что я все равно собирался сюда, — добавил он и указал на свой автомобиль у противоположного тротуара. Его тут же заслонил поток машин, огибавших центральную площадь.
Был вечер. На улицах загорались фонари. Шпиль собора тонул в темнеющем небе.
— Я думала, что ты сегодня позвонишь, — сказала Маргарет. — А завтра собиралась поехать к тебе. Ты получил мою открытку?
— Нет, — сказал он.
— Почта работает из рук вон плохо, — сказал Стэффорд. — Письмо из одного конца города до другого идет чуть ли не неделю. Из Франции в Англию уж и говорить нечего. А с юга Англии на север — так и еще хуже. — Он махнул рукой.
— Ну, значит, завтра увидимся, — сказал он.
— А почему бы тебе не поехать к нам? — сказала она. — Мы просто зашли сюда выпить. — Она указала на отель у них за спиной. — Или пусть Невил завезет чемоданы, а мы поедем на автобусе.
— Да садитесь же в машину. Мы там будем в один момент, — сказал, Стэффорд. Он взял ее за локоть и повел через площадь.
Когда Колин подошел к машине, Стэффорд уже включил мотор. Он посмотрел на них в открытое окно.
— Я позвоню тебе завтра, — сказал он. Эти два лица были странно похожи: одинаково тонкие черты, одинаково светлые глаза.
— А ты сзади, Сэвверс, — сказал Стэффорд. — Домчимся, и глазом моргнуть не успеешь! — Он перегнулся через спинку и отпер дверцу.
— Мне надо домой, — сказал он. — Но я тебе позвоню, — добавил он, поглядев на Маргарет. — Я рад, что ты снова тут.
Она сидела неподвижно и смотрела прямо перед собой в ветровое стекло.
— Ну, если ты предпочитаешь добираться сам, Сэвверс… — сказал Стэффорд. — Я, наверно, поеду завтра через ваш поселок. И заскочу к тебе проверить, дома ли ты.
Машина рванулась с места. Маргарет, вздрогнув, обернулась к нему резким, растерянным движением, точно удерживая крик.
Но тут машина встроилась в общий поток. Еще мгновение он видел их силуэты, профиль машины, а потом их заслонил автобус.
Утром он позвонил, но Маргарет не было дома. Ни она, ни Стэффорд в поселок не приехали.
Вечером он снова позвонил. Трубку снял ее отец.
— А, это вы, Колин! — сказал он. — Боюсь, Маргарет нет дома. И ее матери тоже. Собственно говоря, я их с утра не видел. Я ведь подменяю своего друга и всего несколько минут как вошел в дом. Я ей скажу, что вы звонили, как только она вернется.
Он закрыл дверь телефонной будки — выкрашенной красной краской кабинки, которая стояла на углу за пивной в центре поселка, на перекрестке двух шоссе. Навстречу медленно шел мистер Риген, начиная свой вечерний обход. Он приподнял котелок и приветственно взмахнул тростью.
— Ну, и как поживает интеллигенция? — сказал он. — Моя любезная супруга сообщила мне, что вам суждены ученые занятия. И что некое заведение педагогического характера уже готовится распахнуть свои врата перед старшим сыном Гарри Сэвилла и дать простор его просвещенному воздействию на юные умы. Я ожидаю этого события, позвольте вам сказать, с величайшим предвкушением. Да, с величайшим, — добавил он и перевел взгляд с Колина на дверь пивной. — Однако теперь, когда ты достиг своего золотого века, не забывай тех, кто формировал тебя, — тех, кого замели под ковер, ссыпали в мусорные ведра мира, те отбросы, на которых возрос цветок твоей интеллектуальной эмансипации. — Он водворил котелок на голову с неторопливостью бегуна перед стартом, прикидывающего время и расстояние, затем взмахнул тростью перед его лицом и энергично зашагал к дверям пивной, словно уже забыв о его существовании.
— А почему ты сам к ней не едешь? — спросила мать, когда он вернулся домой.
— Съезжу, наверное, — сказал он. Через два дня он должен был приступить к работе в школе.
— Когда у нее начинаются занятия в университете? — спросила она.
— Только через три недели. — Он добавил: — Она сказала, что думает приехать сегодня. Еще ведь не поздно. — Он посмотрел на стенные часы.
За окном уже темнело.
Мать гладила. Утюг стоял на очаге, она нагибалась к огню, и ее очки отбрасывали красные отблески. Лицо у нее тоже стало красным.
Она взяла утюг тряпкой и лизнула палец.
И вернулась к столу.
Стол поскрипывал под утюгом. Он вышел на парадное крыльцо и постоял там. Может быть, она приедет со Стэффордом на машине.
Он медленно пошел к углу. Мимо проехала машина, и минуту спустя ее мотор натужно взревел на подъеме к Парку.
Он стоял, сунув руки в карманы, постукивая каблуком по краю тротуара. Через улицу перебежала собака и скрылась между домами. Проехал отец Блетчли, сутуло горбя плечи, слез с велосипеда и пошел по проходу во двор.
Со станции донесся шум трогающегося поезда. Он пошел обратно. Она не приехала.
Утром он позвонил. К телефону подошла миссис Дормен.
— А, это вы, Колин! — сказала она, совсем как накануне ее муж. — Маргарет нет дома. Передать ей что-нибудь?
— Я просто хотел узнать, может быть, она приедет, — сказал он. — Или мне приехать к вам?
— Боюсь, я не знаю ее планов, — сказала она так, словно речь шла о ее муже. — Она не говорила, что собирается к вам. Может быть, вы позвоните вечером?
— Хорошо, — сказал он. — Я позвоню.
— Она огорчится, что вы ее не застали. Ей надо сделать в городе кое-какие покупки. У нее еще почти ничего для университета не готово. А ведь несколько дней назад она, казалось, только об этом и думала.
— Я объясню тебе, в чем твоя беда, — сказал отец, когда он вернулся в дом. — У тебя нет никакого занятия. А и начнешь учительствовать, так все равно делать тебе будет почти нечего. Ему ведь учить как орехи щелкать, — добавил он, повернувшись к матери.
— Это ты хотел, чтобы я стал учителем, — сказал он.
— Я не хотел, чтобы ты вкалывал, как я, — сказал отец. Маленький, ссохшийся, он курил, скорчившись в кресле перед огнем в подштанниках и рубашке.
— Но если ты сам хотел, чтобы я выбрал такую профессию, так почему ты теперь ее принижаешь?
— Хотеть-то я хотел, — сказал отец. — Только все равно очень уж она легкая.
— Какой я должен сделать из этого вывод? — сказал он, оглянувшись на мать. Она стояла у раковины и, медленно двигая руками в мутной воде, мыла посуду. — Я получил профессию, а ты ее презираешь.
— Да не презираю я ее, — сказал отец медленно, обводя глазами кухню. — Моя работа — одна только грязь, — добавил он. — Грязь и еще грязь, пот и ругань, какой ты в жизни не слышал. Мы дали тебе образование, чтобы ты получил профессию. Мы тебя вытащили отсюда.
— Так зачем же ты ее принижаешь? — сказал он еще раз. — Как я могу ею гордиться, если ты ее презираешь?
— Да не презираю я ее. Сказал же, что не презираю! — Отец поднялся на ноги и убрал подальше от огня деревянные кубики. — Того, кто выбрался из шахты, я презирать никак не могу, говорят же тебе!
Некоторое время они молчали. Мать в углу медленно мыла посуду и ставила ее на доску сушиться. Колин взял полотенце.
— Я ведь что говорю: не могу же я быть против, верно? — неожиданно добавил отец, обращаясь к матери. Он стоял у очага, ища пепельницу, чтобы погасить сигарету. В конце концов он стряхнул пепел в огонь, а окурок положил на полку. — Он будет получать столько же, сколько я получаю. После тридцати с лишним лет работы в шахте.
Мать ничего не ответила. И только еще сильнее сгорбилась над раковиной.
— Я вот что хочу сказать: коли есть на свете человек, который способен оценить такую работу — два месяца отпуска, а то и больше, ни тебе смен, ни ночной, ни грязи, ни надобности надрываться на шестом десятке, а потом приличная пенсия, и можно стишки пописывать по субботам и воскресеньям, да и по вечерам, причем, толком еще не начав, получаешь столько же, сколько шахтер, — так, уж конечно, человек этот я. Если кому нужен совет, идти ли в учителя, пусть ко мне обращаются: они у меня живо в школы кинутся. Черт подери, уж одно-то я в жизни усвоил: только безмозглый дурак будет делать мою работу. Только идиот с рождения.
Мать отошла от раковины.
— Я, пожалуй, пойду прилягу, — сказала она.
— Что? — Отец отвернулся от очага. Он совсем недавно встал с постели.
— Я, пожалуй, прилягу.
Лицо у нее было пепельно-серым, глаза смутно темнели за стеклами очков.
— Что с тобой? — спросил отец.
— Да ничего.
Она покачала головой и прошла мимо Колина к лестнице.
— Ну, а все-таки? — сказал отец. — Может, послать Стива за доктором?
— Ничего, — сказала мать, и через секунду они услышали ее медленные шаги на лестнице. Потом заскрипела кровать. Отец поглядел на него и сказал:
— Не понимаю, почему тебе обязательно надо ее волновать.
— По-моему, это ты начал, — сказал он.
— Обязательно затевать дома всякие споры, — сказал отец. — И расхаживать с физиономией, от которой молоко киснет. Если Маргарет променяла тебя на Стэффорда, ты сам виноват.
— Почему же я виноват? — сказал он.
— Увяз тут. Увяз со своими писаниями. А он смотрит мир, делает что-то. Он на месте не сидит.
— И я не сижу, — сказал он.
— Да неужто? — сказал отец хмуро. — А как же ты это называешь?
— Я остаюсь тут, потому что должен содержать тебя.
— Меня содержать?
— Нас всех, — сказал он. — Семью.
— Это еще почему?
— Потому что ты не справляешься, — сказал он. — Без этого.
Отец отвел глаза.
— Но ты правда считаешь, что Маргарет такая? Насколько ты ее знаешь? — добавил он.
— Да с женщинами разве разберешься, — сказал отец, но уже спокойнее, и поглядел на потолок. — Надо бы подняться посмотреть, как она.
Немного позже он услышал их голоса в спальне. Потом отец опять спустился в кухню, уже в брюках, постоял у очага, ища сигарету, и в конце концов взял окурок, который оставил на полке. Он нагнулся к очагу за угольком, чтобы прикурить, и дернул головой, когда поднес его почти к самому лицу.
— Она хочет полежать отдохнуть, — сказал он. — И я думаю, все обойдется. Совсем себя не жалеет, сам знаешь. Вот если бы ты хоть немного по дому помогал. Хотя, конечно, ей помогать нелегко, можешь мне поверить.
После обеда отец ушел на работу. Перемыв посуду, Колин отнес матери наверх чашку чая. Она все еще спала, отвернув круглое лицо от занавешенного окна, уткнув его в подушку и загородив одеялом.
Он поставил чашку и пошел к двери, но, закрывая ее, услышал, что мать пошевелилась, а потом раздался ее голос:
— Это ты, голубчик?
Он просунул голову в дверь.
— Я принес тебе чаю, — сказал он. — А есть ты будешь?
Она медленно высвободилась из одеяла.
— Отец ушел на работу? — сказала она.
— Полчаса назад, — сказал он.
— Он пообедал?
— Да, — сказал он.
— У меня для него было мясо. Он его съел?
— Да.
Он выжидающе стоял возле кровати. Мать не притронулась к чаю.
— Может быть, тебе еще что-нибудь нужно? — спросил он.
— Нет, — сказала она. — Ничего.
Позже, когда он подметал кухню, она спустилась вниз, оглянулась по сторонам, готовая взяться за работу, и пошла к раковине, словно собираясь опять мыть посуду.
— Я все убрал, — сказал он.
— Мне надо до завтра выстирать отцовскую рабочую одежду, — сказала она.
— Я выстираю, — сказал он.
— А где Стивен и Ричард? — сказала она, подходя к окну.
— Гуляют, — сказал он.
— А они пообедали?
— Да, — сказал он.
Она взяла у него одежду отца.
— Я постираю. В раковине, — сказала она, придвигая кастрюлю с водой к огню. — Тут надо уметь, а то грязь только заварится. А уж что останется, — добавила она, — того потом не ототрешь.
Он стоял у очага и смотрел, как она стирает.
— А Маргарет так и не заехала? — сказала она.
Он мотнул головой.
— Не надо, голубчик. Никто не стоит того, чтобы из-за них страдать. То есть в твои годы. В твою пору жизни, — сказала она и медленно подняла наклоненную голову. Она прополаскивала одежду в холодной воде под краном. — Того, что отец наговорил, ты к сердцу не принимай. Жизнь у него тяжелая, только и всего. Его бы работу тридцатилетнему делать. Ну, и конечно, он ожесточается.
— Да, — сказал он.
— И тоскует, что у него самого такой возможности не было. Он вовсе не хочет принижать то, чего ты добился.
— Я знаю, — сказал он.
— Ты еще маленьким всегда при себе все держал.
Она умолкла, опустив руки в таз, наклоняя голову над раковиной.
— Я не думал, что был скрытным, — сказал он.
— Да не скрытным! — Она попыталась улыбнуться. В полутемном углу ее лицо было еле различимо. — Я другое хотела сказать: ты не умеешь выражать того, что чувствуешь. Ну, и люди могут этим воспользоваться.
— Я ничего подобного не замечал.
— Конечно, — сказала она и отвернулась к раковине. — Это значит, как бы тебя ни били, ты никогда не сможешь показать другим людям, что ты чувствуешь.
— Ну, не знаю, — сказал он и добавил веселым тоном: — Рубашки дай я постираю. А ты посиди передохни. Если я что-нибудь не так буду делать, ты меня поправишь.
Она села к столу. И ему вспомнилось, как они были у ее родителей: та же бессильная усталость, бессмысленное и жестокое крушение жизни — точно мухи, умирающие в углу.
— Маргарет ведь еще очень молоденькая. Она сама не понимает, чего хочет. И нехорошо, — добавила она, — принуждать ее.
— Но я никогда ее ни к чему не принуждал, мама, — сказал он.
— Да, но ты был слишком уж к ней близок, — сказала она. — У нее возможности не было увидеть кого-нибудь другого. Ты очень многого от нее требовал, пусть она этого и не сознавала. Ну конечно, она начинает сопротивляться. И опирается на кого-нибудь вроде Невила. А в нем много обаяния, этого у него не отнимешь.
— Ну, не думаю, что все настолько уже черно, — сказал он.
— Да, — сказала она. — Наверное.
Она пришла под вечер. Сначала он подумал, что она приехала на автобусе, но потом сообразил, что автобус из города был полчаса назад, и решил, что Стэффорд высадил ее на углу.
Мать спросила, не хочет ли она чаю, и вышла из кухни, закрыв за собой дверь.
Маргарет сидела за столом. Перед ней лежал букет, который она привезла, пальто было аккуратно перекинуто через спинку стула. Колин, когда понял, что мать не вернется, взял чайник с огня и заварил чай.
Она, чуть отпив, поставила чашку. Говорила она о том, как провела лето, про французское побережье, про поездку в Дьепп, про дом подруги, у которой гостила.
Он нашел вазу и поставил в нее цветы.
— Стэффорд еще тут? — спросил он, возвращаясь с цветами к столу.
— По-моему, он уехал вчера, — сказала она.
— А как ты сюда добралась? — спросил он.
— На автобусе. — Она посмотрела на него, потрогала чашку. — Я немножко прошлась.
— По поселку?
— Я поднялась к церкви.
Он стоял у стола и смотрел сверху вниз на ее легкую фигуру, на тонкие черты загоревшего лица, на изящные пальцы, чертящие узоры по краю чашки.
— Может быть, пойдем погуляем? — сказала она.
— Хорошо, — сказал он. — Я сейчас возьму пальто.
Он вышел в коридор. Мать сидела в нижней комнате, выпрямившись, откинув голову, и смотрела в окно. От ее очков отражался свет.
— Мы пойдем погулять, — сказал он.
— Да-да, — сказала она равнодушно, с внезапным отчуждением.
— Я заварил чай.
— Да-да, — сказала она снова.
— Ничего, если ты одна останешься?
— Ничего, — сказала она. — Ты иди, голубчик.
Маргарет ждала у двери. Они пошли через двор.
— Люди здесь бедны по-настоящему, правда? — сказала она, заглядывая в открытые двери.
И вместе с ней он вдруг увидел то, чего сам никогда не замечал: обшарпанные филенки, закопченные стены внутри, темные грязные пятна вокруг выключателей и задвижек, вытоптанную землю и шлак, выщербленные кирпичи, заржавевшие трубы. В прошлом время от времени делались попытки подремонтировать дома: кирпичная кладка кое-где подновлялась, заменялась штукатурка, прокладывались бетонные дорожки. Но уже через несколько недель все следы обновления пропадали под сажей.
— Спасибо, что ты сумела выбраться, — сказал он и взял ее за руку. Они свернули в проход и вышли на улицу.
Дальше они шли молча — по дороге, которая вела мимо Долинки, мимо заброшенной шахты на склоне по другую ее сторону и пересекала железную дорогу в выемке. За дальним концом выемки виднелась станция.
Позади них дым клубами валил из трубы над шахтой и туманной мглой расползался по полям. День был пасмурный, в небе низко висели тучи.
Они свернули на тропинку, которая вела к лесу на склоне справа от них. В плоской впадине у подножия склона лежало мелкое озеро. Песчаный берег кое-где порос соснами. Один конец озера подпирала дамба, другой терялся в болоте. Коровы стояли у берега по колено в воде.
Они пошли по дамбе. Стаи крохотных рыбешек мелькали между стеблями водорослей и плавающим на поверхности мусором. Дальше тропинка поднималась к лесу.
На поляне тлел костер. Голубой дымок курился над грудой обугленных щепок. Рядом лежало искромсанное топором бревно. Колин присел на корточки у костра. Он подул на угли, и скоро щепки снова вспыхнули.
Маргарет села на бревно. Она рассеянно смотрела вдаль между деревьями, туда, где за ветками проглядывала узкая серая полоса воды. Со стороны выемки донеслось пыхтение паровоза, ближе, на опушке, залаяла собака.
— Ты еще будешь видеться со Стэффордом? — спросил он.
— Да, — сказала она, продолжая смотреть на озеро.
Он подбросил в огонь щепок.
— Его ведь должны куда-то отправить?
— Теперь он думает, что вряд ли.
— И все-таки видеться с ним, вероятно, будет сложно, — сказал он.
— Вероятно. — Она помолчала и перевела взгляд на костер. — Он может получить назначение где-нибудь неподалеку от университета.
— Это, конечно, разрешит все трудности.
— Да, — сказала она, всматриваясь в пламя. Оно облизывало еще светлые щепки, дым стлался между деревьями.
Он медленно поднялся на ноги и несколько секунд тоже вглядывался в огонь.
— Мне очень грустно, что все так получилось, — сказала она.
— Тут ведь ничего поделать нельзя, — сказал он.
— Да, — сказала она и добавила. — Только раньше я бы этому не поверила.
— Если ты пойдешь сейчас, то как раз успеешь на автобус, — сказал он.
Она поднялась с бревна.
Они пошли между деревьями, держась в нескольких шагах друг от друга.
— Ты писала Стэффорду из Франции? — спросил он.
— Да, — сказала она и добавила. — Только он написал мне первый.
— Наверно, мне следует написать ему, — сказал он.
— По-моему, — сказала она, — этого делать не нужно. — И добавила. — Он не хотел даже, чтобы я сегодня поехала сюда.
— Но почему? — сказал он.
Они вышли на опушку. Тропа вела мимо озера к высокой живой изгороди у шоссе, ведущего в поселок.
— Он думал, что я могу изменить свое решение. То есть если снова с тобой увижусь.
— Он тебя плохо знает, — сказал он.
— Да, возможно.
— А твоим родителям это известно?
— Да, — сказала она. — Наверное. Они просили передать, чтобы ты заезжал. Они всегда будут тебе рады.
Он пошел вперед и раздвинул ветки, чтобы ей легче было пролезть.
— Наверно, мне не стоило приезжать, — сказала она.
— Нет, — сказал он. — Хорошо, что ты приехала.
Они медленно шли через поселок.
— Все это выглядит как-то странно — теперь, когда ты больше не будешь сюда приезжать. — Он обвел рукой улицу. — Словно лишилось души.
— Все-таки мне лучше было написать, — сказала она.
— Нет, — сказал он. — Я бы не вынес, если бы ты не приехала.
Он стоял с ней на остановке. Она смотрела на его лицо. Когда наконец подошел автобус, он помог ей сесть и пошел к углу, но в последнюю минуту обернулся и увидел, что автобус тронулся. Среди лиц за стеклами он не различил ее лица, но все равно помахал вслед и остался стоять в надежде увидеть, как она идет назад по шоссе, спрыгнув с автобуса на следующей остановке.
Но на шоссе никто не появлялся, и, прождав некоторое время на углу, он пошел домой. На кухне была мать и оба брата. Стол был накрыт — вокруг вазы с цветами стояли тарелки и чашки. Два стула ждали Маргарет и его.
Он поднялся к себе в комнату.
Через несколько минут вошла мать. Она держала в руках чашку — ту самую, которую он принес после обеда ей.
Она остановилась в дверях узкой комнатушки, слепо глядя на кровать, на него.
— Она больше приезжать не будет? — спросила она.
— Нет, — сказал он.
— Не надо, голубчик, — сказала она. — Не плачь.
— Я же ее люблю, — сказал он.
— Свет на ней клином не сошелся, голубчик, — сказала она. — Это просто кажется, будто полюбить можно только одного кого-то.
— Не знаю, — сказал он и добавил. — Для меня это так. И любить я буду всегда только ее одну.
— Нет, голубчик, — сказала она, поставила чашку на пол и присела на край кровати.
Снизу донеслись крики ссорящихся братьев.
— Дня через два все пройдет, — сказала мать. — Только думай о будущем и ни о чем другом.
— Да, — сказал он.
— Вот увидишь, милый, время лечит все раны, — сказала она.
— Да, — сказал он еще раз и прикрыл глаза ладонью.
— Что-нибудь еще тебе принести? — спросила она.
— Нет. — Он отвернулся к стене.
— Ну, тогда я пойду разберусь с ними, — сказала она и встала с кровати. Дверь закрылась.
Он лежал лицом к стене, съежившись на узкой кровати, прижав руки к груди.
Снизу сквозь пол донесся голос матери.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
Школа была расположена на краю одного из соседних поселков — большое одноэтажное здание из красного кирпича с высокими окнами в металлических рамах и зелеными дверями. С трех сторон к нему примыкала площадка для игр, а неширокий газон перед фасадом отделял его от шоссе. Прямо перед окнами директора была клумба в форме ромба.
Позади школы вересковая пустошь тянулась до гребня холма, где виднелся ряд низких блокированных домиков. Ниже школы в глубокой ложбине, также обрамленной блокированными домами, была шахта с тремя большими копрами.
Мистер Коркоран, директор, невысокий коренастый человек с коротко подстриженными волосами и массивным лбом, в первое же утро пригласил Колина к себе в кабинет и сказал:
— Мы здесь поэзии не обучаем. А только простому практическому языку. Поэзией пусть сами занимаются. Мы, так сказать, обеспечиваем их орудиями, а остальное решают их склонности. Мы, если вам угодно, то, чем кузница была для шахты: инструменты они получают от нас, но уголь добывать должны сами.
Собственного класса ему не дали. В списке учителей он значился «подменяющим» и шел то в один класс, то в другой, куда его посылали, — чаще всего в самые слабые. Эта школа была совсем не похожа на школу короля Эдуарда.
Мальчики напоминали ему Батти и Стрингера, девочки были послушнее, хотя иногда огрызались, как те, за которыми они с Блетчли когда-то ходили в Парке. То, что он им объяснял, их не интересовало — ни мальчиков, ни девочек; со скучающим видом, развалившись на парте, они покорно списывали слова, которые не понимали и не могли даже правильно прочесть.
Он с удивлением встретил тут Стивенса — горбуна, позади которого сидел все свои школьные годы и который однажды, может быть из сочувствия, предложил дешево продать ему любую из краденых ручек. Стивенс каждое утро приезжал в школу на мотоцикле с коляской, одетый в коричневую кожаную куртку, всю в складках и трещинах на спине, в кожаном шлеме, защитных очках и шарфе, прикрывающем нижнюю часть лица. После конца занятий он иногда подвозил Колина до автобусной остановки.
— Пойми же, они принадлежат к рабочему классу, — сказал Стивенс как-то вечером, когда они шли к его мотоциклу, стоявшему позади школьного здания. — Ничто из того, чему нас обучали в школе короля Эдуарда, здесь неприложимо. — Рука в кожаном рукаве указала на мутные от сажи стекла. Во дворе гоняли мяч двое-трое школьников, задержавшихся после конца уроков. У стен громоздились кучи угля. Стивенс отбросил куски, рассыпавшиеся у колес мотоцикла. — Я просто вообразить не могу, — добавил он, — чем их можно было бы увлечь. Но во всяком случае, все, чему нас учили в школе и колледже, здесь абсолютно лишнее.
Он проверил мотоцикл, энергично нажал на стартер, взбросил свое маленькое тело в седло, затянул ремень под подбородок и подождал, чтобы Колин сел сзади. Его голос продолжал жужжать, прорываясь сквозь рев мотора. Колин не разбирал слов. Он крепко держался за Стивенса. Мотоцикл развернулся, едва не задев играющих мальчишек, и вылетел на улицу.
Время от времени Стивенс оглядывался — он продолжал говорить, спустив на шею шарф, которым обычно прикрывал рот. Но шум мотора заглушал все.
Они быстро неслись вниз к шахте и к автобусным остановкам у бетонных барьеров возле входа в шахту. Четыре года назад тут работал его отец.
Он слез с мотоцикла и поднял подножки. Стивенс посмотрел вниз, проверяя, все ли в порядке.
— Ты должен понять, — добавил он, заглушая мотор и, очевидно, продолжая речь, которую произносил, пока они ехали от школы, — что рабочий класс — явление относительно новое. Двести лет назад и даже меньше огромные скопления людей в городах и поселках вроде этого и гигантские предприятия, такие, например, как эта шахта, были бы немыслимы. По моему мнению, рабочий класс, как таковой, скоро вообще исчезнет, заменится техническими специалистами в разных областях. И весь революционный пыл, который мы одно время ассоциировали с этим классом, исчезнет навсегда. Так я оцениваю положение. — Он посмотрел на шахтеров, ожидающих в очереди автобусов. — Рабочий класс, боюсь, всего лишь временное явление, а наша работа, увы, заключается в том, чтобы отвлекать и по возможности развлекать это временное явление, пока оно по естественному ходу событий не исчезнет.
Он прибавил газа, и мотор взревел. Шахтеры оглядывались на странную фигуру в седле мотоцикла, маленькую и бесформенную.
— Вот что нас обучили делать. И за что нам платят. Но все равно в конечном счете это напрасная трата времени. Каков, собственно, итог? Еще несколько шахтеров в шахте, еще несколько разбитых голов, еще несколько сломанных рук, еще несколько трупов, извлеченных на поверхность. — Он кивнул. Теперь ему хотелось услышать ответ.
— По-видимому, я не могу смотреть на них на всех как на нечто единое, — сказал Колин. — Как на членов класса.
— Но они же сначала члены класса, а уж потом все остальное, — сказал Стивенс. — Они мыслят, они чувствуют, они презирают, они разрушают, они хитрят, они плодятся и размножаются, они задаются вопросами, они действуют и существуют в первую очередь и всегда как члены одного класса. Рабочего класса. Другими словами, — добавил он, ехидно поглядывая на Колина из-под кожаного шлема, — не стоит уверять меня, будто ты видишь в них личности. — Он засмеялся и снова заставил мотор взреветь. — Боже великий! Они так же лишены чувствительности, как уголь, который будут рубить через несколько лет, и так же тупы, как подпорки вон в той шахте. — Он снова засмеялся, блеснув зубами под шарфом. Потом кивнул и поднял шарф к глазам. — Ну, пока, — сказал он сквозь материю, посмотрел назад, развернулся и умчался в обратном направлении.
Колин перешел к остановке и встал в очередь — единственный человек в чистом костюме среди ждущих автобуса.
Кто-то сплюнул. Кто-то впереди засмеялся. Над головами плыли облачка табачного дыма.
Он стоял, засунув руки в карманы, и постукивал носком ботинка по пыльному асфальту.
Год назад Стивен провалился на проверочных испытаниях. Это был его последний шанс поступить в классическую школу. Теперь он ходил в среднюю школу у них в поселке. Весь прошлый год, приезжая домой из колледжа, Колин занимался с братом, как когда-то отец с ним самим. У отца уже не было ни прежних сил, ни прежнего интереса, и всю оставшуюся энергию он тратил на то, чтобы убеждать Колина заниматься с братом — учить его правописанию, математике, правильному употреблению слов. Он и слушать не хотел, если Колин терял терпение, пытался отложить занятия или ссылался на то, что у него нет времени.
— Ему надо дать ту же возможность, какую дали тебе, — говорил отец. — Ты это все знаешь лучше меня, и значит, ему будет легче. Нельзя же упускать такой шанс, когда мы столько трудились, чтобы чего-то добиться, — добавлял он.
Тем не менее его брат, как и ожидал Колин, как ожидали все они, провалился. У него не было склонности к умственным занятиям. Как и у детей, которых теперь учил Колин. Через два года предстояла очередь Ричарда. Младшие братья были совсем разными. Стивен, крупный и неторопливый, с мощными прямыми плечами, внешне напоминал Колина, но отличался от него характером — более открытым, бесхитростным и прямодушным. Он словно не заметил своей неудачи и продолжал ходить в школу с прежней спокойной покладистостью, а Ричард сопротивлялся, соображал нарочито туго, как будто не мог стерпеть, что от него чего-то требуют. Лицо у него было более тонким, чем у старших братьев, с отцовскими голубыми глазами. И он унаследовал что-то от отцовской натуры.
По вечерам Колин читал с Ричардом: мальчик, скорчившись у его плеча, водил пальцем по строчкам и злился всякий раз, когда его поправляли. Или писал за столом, то и дело косясь по сторонам с глухой досадой. Он зажимал карандаш в зубах, спорил и тоскливо глядел в окно на пустырь, где играли его приятели.
— Делай, что тебе велит Колин, — говорил отец, но отчужденно, уже не разделяя жизни своих сыновей; день ото дня его все больше выматывала ответственность за забой и тесное соседство людей, с которыми он работал, необходимость блюсти свое положение начальника даже вне шахты. Шоу работал в его забое, и, потому что он каждую неделю замерял его выработку, определяя, сколько ему следует получить, они совсем перестали разговаривать. — Видишь, что получилось со Стивеном, — добавлял отец. — В школе плохо слушал, дома уроков толком не учил. Вот и попадет в шахту, как я.
— Ну, сколько можно повторять одно и то же, — говорила мать, которая не меньше отца устала от этой вечной борьбы. — Хотят этого добиться, пусть сами добиваются. А нет, так какой смысл их заставлять?
Однако время от времени Ричард поддавался настояниям отца: хотя ему только исполнилось восемь лет, он иногда по часу прилежно писал, решал примеры и терпеливо ждал, пока брат проверял его работу, аккуратно переписывал исправления, а потом чинно спрашивал:
— Можно я пойду? Я ведь уже все сделал, Колин.
Иногда Колин занимался и со Стивеном: отец все-таки подумывал о том, чтобы через год попробовать перевести его в классическую школу. Однако Стивен глядел на задание с добродушной покорностью, некоторое время пытался в нем разобраться, а потом мотал головой, отодвигал тетрадь, глядел на Колина, улыбался и говорил:
— Это мне не по зубам. В жизни не пойму.
Мало-помалу занятия свелись к тому, что они иногда читали вместе. Стивен внимательно вслушивался и повторял каждое слово, пока не начинал произносить его правильно, а потом, натыкаясь на него в следующей же строчке, снова перевирал. Он безмятежно освобождал себя от необходимости что-нибудь учить.
Как-то в субботу на Майкла Ригена в городе напали грабители, и он две недели пролежал в больнице. Они отобрали у него сорок фунтов и сломали ему челюсть — теперь он заикался. По странному совпадению на следующей неделе в больницу забрали его отца: он упал на улице без сознания. Пролежал он дольше Ригена, потому что у него был инсульт, а когда его наконец выписали, пошли слухи, что ему придется сменить свои обязанности, которые он выполнял тридцать лет, на что-нибудь менее трудное и требующее меньше времени.
Риген по настоянию матери оставил свой оркестр и вернулся в бухгалтерскую контору на полный день. Порой, проходя мимо их дома, Колин видел и слышал, как Майкл в нижней комнате обучает игре на скрипке маленьких мальчиков, но несколько месяцев спустя эти уроки прекратились, после того как у него вышли неприятности из-за его поведения с одним из учеников. Он бродил по улицам поселка — тощая призрачная фигура в длинном пальто и надвинутой на глаза кепке, которая еще увеличивала выпуклость на затылке. Иногда за ним увязывались мальчишки и дразнили его, но он как будто не замечал того, что происходило вокруг, и даже не останавливался, когда Колин заговаривал с ним, а только поднимал измученные глаза, тряс головой или медленно кивал в ответ на какой-нибудь вопрос, словно не хотел или не мог произнести хотя бы слово, и длинные тощие ноги быстро уносили его прочь, точно он вовсе не узнавал никого из прежних знакомых. Его отец иногда выходил, шаркая, на заднее крыльцо, исхудалый, ссохшийся. Одна сторона у него была частично парализована.
— Да, судьба их не помиловала, — говорил отец. — На эту семью точно проклятие легло. Беда никогда не приходит одна. Теперь очередь за хозяйкой. Что-нибудь с ней да приключится, это уж так.
Однако миссис Риген словно приободрилась от этих несчастий. Худая, зеленовато-бледная, почти тень, всегда в одежде блеклых тонов, она теперь разговаривала с соседками у себя на крыльце или на крыльце миссис Шоу, а то даже на крыльце миссис Блетчли и расхаживала от двери к двери, сообщая новости о здоровье мужа, но про сына почти не упоминала. И начинало казаться, будто Майкл вообще никогда не существовал — из дома больше не доносились звуки его скрипки, и на бельевой веревке не сушились его рубашки, которые прежде она с такой гордостью шила для него.
Как-то вечером Колин увидел Майкла на пешеходном мостике над станцией. Прислонившись к парапету, он смотрел вниз на рельсы.
— Ты идешь домой? — спросил Колин.
Риген не ответил. Его худая, задрапированная черным пальто костлявая фигура с плоской кепкой на голове вжималась в камень, словно деревянная подпорка.
— Ты идешь домой? — спросил он еще раз.
Лицо Ригена скрывала тень от козырька. Его пальцы судорожно переплелись.
— Ты идешь домой? — сказал он снова. — Если хочешь, — добавил он, — мы могли бы завернуть куда-нибудь выпить.
— Я не пью, — сказал Риген так тихо, что это могло ему только почудиться. — Я не пью, ты же знаешь, — повторил Риген более внятно.
— Ну, я пошел домой, — сказал Колин.
— Я пойду с тобой, — сказал Риген, глядя туда, где шоссе, огибая станцию, исчезало среди полей за домами, Колин повернулся. Риген, все еще прислоняясь к парапету, продолжал смотреть в сторону, противоположную от поселка.
— Я видел, как ты сошел с поезда, — сказал он опять так тихо, что Колин еле расслышал. От дальнего конца выемки все еще доносился стук колес. — Ты ездил в город? — добавил он и, повернув голову, посмотрел прямо на Колина.
Его лицо было все в слезах. Он смигнул пх с глаз и подождал ответа.
— Я был в кино.
— Один?
— Да, — сказал Колин.
— А куда делась твоя девушка?
— Уехала, — сказал он и замолчал.
— Йен говорил, что она уехала со Стэффордом.
— Да, — сказал он.
— А ты жалеешь, что она уехала?
— Да, — сказал он.
Риген смотрел на него с возрастающим интересом. Он дернул козырек кепки и наконец отошел от парапета.
— Где ты учишь?
— В Роклиффе, — сказал он. — По-моему, я тебе уже говорил.
— Это где прежде работал твой отец?
— Да, — сказал он.
Колину вдруг бросилось в глаза сходство Майкла с миссис Риген. Он словно увидел перед собой ее тощую фигуру, ощутил ту механическую сосредоточенность, которую привык ассоциировать с ней в прошлом.
— А ты думал о том, чтобы уехать из поселка? Переселиться в город или хотя бы в другой поселок?
— Думал, — сказал он.
— И я думал, — сказал Риген. — Мне тут никогда хорошо не было, ты же знаешь.
Он вышел на шоссе, остановился, словно и сейчас его тянуло пойти в противоположную сторону, потом медленно зашагал к поселку.
— Ты слышал, что мой отец болел? — сказал он.
— Да.
— Наверно, он никогда уже не поправится. Не будет таким, как прежде.
— Я его несколько раз видел, — сказал Колин.
— Он все хочет уйти. У него в голове мешается. Все спрашивает, где его котелок и перчатки. — Он постепенно замедлял шаги, словно, чем ближе они подходили к поселку, тем сильнее становилось его желание повернуть обратно. — Иногда ему кажется, будто он в конторе, начисляет заработную плату. Он всегда спорил с шахтерами из-за каждого шиллинга. И теперь вдруг начинает с матерью спорить. Принимает ее за шахтера и ругает штейгеров — как они замеряют выработку, ну и вообще.
— Я давно не слышал, как ты играешь на скрипке, — сказал Колин. — Во всяком случае, порядочное время, — добавил он.
— Да. — Риген мотнул головой. Вид у него был нарочито дурашливый, словно пальто и кепка служили личиной, которую он сознательно для себя выбрал. Он поглядел на Колина и еще раз мотнул головой. — Я ее отдал, знаешь ли.
— Кому? — спросил он.
— А! — Риген пожал плечами. — Понятия не имею. Собственно говоря, ее мать отдала. И контору я тоже бросил. Меня предупредили за две недели. А полагалось бы за месяц. Врач сказал, что мне нужен отдых, ну, и это, пожалуй, вышло к лучшему.
— А полиция так и не выяснила, — спросил он, — кто тебя ограбил?
— Да Батти же, — ответил Риген. — Хотя я, естественно, не мог об этом сказать. Батти, Стрингер и еще двое. Понимаешь, они в тот вечер были в зале. Я всегда забирал в субботу выручку с собой, чтобы отнести в банк в понедельник, а на следующей неделе платил служащим. Зал теперь закрыли. А я думал снять его под школу, знаешь ли. Дневные классы бальных и классических танцев, для детей, знаешь ли. Но плата, пожалуй, не покрыла бы расходов. Когда я немножко поправлюсь, то, возможно, снова буду устраивать танцы по субботам.
Он теперь говорил быстро, больше не обращаясь к Колину, его шаги стали размашистее, глаза под козырьком кепки смотрели рассеянно. Слезы у него на лице высохли, оставив темные потеки.
— Ну, и конечно, я всегда могу устроиться в оркестр. Сейчас большой спрос на оркестрантов. Во время войны, знаешь ли, мало кто учился музыке. Передо мной открыта широкая сфера. И совсем не нужно переучиваться. Даже Прендергаст несколько лет назад советовал мне пойти в оркестр. Он очень огорчался, что я выбрал танцевальную музыку. Но конечно, эта область обещала больше. — Он замолчал и остановился. До первых домов поселка было уже совсем близко. В окнах горел свет, а выше тускло багровело зарево над шахтой. — Маятник, очевидно, качнулся в другую сторону.
Колин тоже остановился и молчал.
Риген словно не знал, куда повернуть. Его глаза были бессмысленно устремлены в одну точку, пальцы вяло переплетены. По щекам опять поползли слезы. На глаза падала тень от козырька.
— Пожалуй, я вернусь на мост. Я там о чем-то думал. Только не помню о чем.
Однако он продолжал стоять посреди шоссе, точно пригвожденный к месту.
— Я пойду с тобой, — сказал Колин.
— Незачем, — сказал Риген, снова говоря так тихо, что он едва расслышал.
— Я с удовольствием прогуляюсь, — сказал он.
— Я предпочту пойти один, — сказал Риген, и в его голосе вдруг появилась та корректная непринужденность, с какой он разговаривал в танцевальном зале.
— А может быть, зайдем ко мне? — сказал Колин. — Выпьем чаю.
— О, я ни к кому в гости не хожу, — сказал Риген.
— Ну, хоть до дверей-то можно. — Но Риген уже повернулся и пошел назад, шагая размашисто и быстро, словно вспомнил, что у него назначена важная встреча.
Колин смотрел, как он спускается по склону. Потом он дошел до поворота перед станцией и скрылся в сгущающемся сумраке.
Он чуть было не побежал за ним, но потом повернулся и пошел к поселку.
— Ведь вы Сэвилл? — спросил более высокий из двух учителей, хорошо сложенный блондин, примерно ровесник Колина. Его крупное худое лицо с румяными щеками слегка побронзовело от загара. Со вторым учителем, по фамилии Кэллоу, который был старше их обоих, он познакомился еще в первый день. Он носил вельветовый пиджак, брюки спортивного покроя и рубашку в клетку. Лицо у него было бледное, с резкими чертами, рот большой и тонкогубый. Теперь он шагнул вперед и сказал, обращаясь к высокому:
— Ну да, Сэвилл. Я же вам говорил. Только вот имени его я не знаю.
— Колин, — сказал он.
Они стояли перед школой, там, где он обычно ждал Стивенса, чтобы доехать с ним до остановки. Кэллоу тоже преподавал литературу; другого Колин часто видел в школе, но фамилии его не знал. Мимо, огибая их, толпами шли дети.
— Это Джерри Торнтон, — сказал Кэллоу. — Он мне говорил, что знает вас, хотя не объяснил откуда.
— Вы ведь приятель Невила Стэффорда? — сказал Торнтон.
— Да, — сказал он.
— Помните, вы работали на ферме Смита? Лет десять назад, если не больше, — добавил он. — Как-то утром я видел, как вы косили бурьян на лугу. И помните троих мальчиков с яликом, которые купались в пруду, когда вы работали в поле? — Улыбаясь, он подождал, чтобы Колин ответил. — Это были Невил, мой брат и я. — Он простодушно засмеялся выражению лица Колина. — Через две-три недели я иду в армию, — добавил он. — Мне дали отсрочку и словно забыли про меня. Ну, я и решил поработать здесь месяц-другой. — Он неопределенно повел рукой в сторону школы. — Немного, но все-таки кое-что для начала.
Колин увидел, что Стивенс появился из-за угла, и помахал ему, а когда Стивенс притормозил рядом, сказал:
— Я сегодня пройдусь пешком.
Стивенс, чье лицо было уже плотно закутано шарфом, пожал плечами и посмотрел на остальных двоих.
— Хотите, подвезу, — сказал он Кэллоу, отогнув шарф.
— Нет, я тоже прогуляюсь, — сказал тот, взглянув на второе седло, и добавил: — А это безопасно?
— О, вполне безопасно, — сказал Стивенс и умчался, смешной, похожий на маленького мальчика, забравшегося на большую машину.
— Наверно, мне следовало бы поехать с ним, — сказал Колин, заметив, как резко Стивенс рванул мотоцикл.
— Вы ведь вместе учились? — сказал Кэллоу.
— Да, — сказал он. Мотоцикл скрылся за поворотом — на таком расстоянии казалось, что он мчится без седока.
Они молча пошли вниз по склону.
— Вы ведь, наверно, знаете про Невила, — сказал Торнтон, когда они дошли до автобусных остановок. Он остался стоять рядом с ними, хотя его остановка была на другой стороне.
— Нет. — Колин поглядел на светловолосого учителя. В нем была та же беззаботность, почти то же «обаяние», что и в Стэффорде.
— Он решил жениться. Его родители просто вне себя. Он ведь должен был вот-вот начать занятия в Оксфорде. Они убеждены, что он намерен все бросить.
— Но ведь это же совершенно в духе Стэффорда, — сказал Колин.
— Разве? — Торнтон взглянул на него и покачал головой. — Я не помню случая, чтобы Невил поступил необдуманно, — сказал он. — Он всегда казался мне предельно расчетливым. — И, словно это прозвучало слишком уж беспощадно, добавил: — Ну, не то чтобы расчетливым, но рассчитывающим все наперед.
— А кто такой Невил? — сказал Кэллоу. Он следил глазами за проходящими мимо школьниками. Вне школьных стен они словно отрекались от тех, с кем в классе могли ощущать определенную близость. Только двое или трое хотя бы поглядели в их сторону.
— О, в сущности, он порядочный пижон, — сказал Торнтон, но без всякого убеждения, словно не берясь передать свое впечатление от Стэффорда. — Блистает во всем, за что бы ни взялся.
— Я в этом особого пижонства не вижу, — сказал Кэллоу и, поморщившись, отвернулся от проходящих мимо школьников.
— Как бы то ни было, он действительно блистает, — сказал Торнтон. — Не знаю, кто его невеста. Но во всяком случае, его родители от нее не в восторге.
— А, — сказал Кэллоу и, возможно, хотел добавить что-то еще, но вместо этого снова поморщился, взглянув на проходящих школьников, и опять отвел глаза.
— Он что, отказывается от Оксфорда? — сказал Колин.
— Не думаю. Невил от очень многого отказывается, но обычно это только прелюдия перед тем, как взяться и сделать. Одно время он говорил, что, может быть, пока останется в армии. Сказал, что выйдет в отставку майором. Наверное, — задумчиво добавил Торнтон, — у него это получилось бы. Ведь Невил такой: стоит ему захотеть, и он добьется. — Он поглядел на шоссе. — А, вон мой автобус! — Он перебежал на другую сторону, помахал им и встал в очередь школьников.
— Я слышал, вы пишете, — сказал Кэллоу. Его бледное лицо чуть потемнело, словно он заговорил о том, что было ему очень близко или причиняло боль.
— Нет. По-настоящему нет.
— Мне говорили, — сказал Кэллоу небрежно, но с заметным облегчением. — Об этом Торнтон упомянул. — Он оглядел поселок, ряды блокированных домов, тянущиеся вверх по склону, мрачную впадину внизу, где торчали копры шахты. — Все-таки скрашивает серость.
— А по-вашему, это все серость?
— Ну, не совсем. Но ведь я не так оптимистичен, как вы.
— Оптимистичен? — Колин посмотрел на него и засмеялся.
— Ведь у меня за спиной уже несколько лет. И не только тут. — Он указал на низкий силуэт школы над гребнем. — Еще в двух. Если у вас нет ничего другого, можно свихнуться.
— Но мне казалось, что вы смирились, — сказал Колин. — Я имею в виду, с необходимостью преподавать тут или в таких же школах.
— А вы смирились?
— Нет.
— Другими словами, — сказал Кэллоу, вновь на мгновение темнея, — предполагаете ли вы остаться тут навсегда?
Он мотнул головой. Уныние поселка, уныние Кэллоу вдруг надвинулись на него. Он почувствовал в Кэллоу разочарование, которое скрывало другое, более глубокое недовольство. Но он еще не понял какое.
— Вы молоды, вы оптимистичны, и у вас еще все впереди, — сказал Кэллоу. Он словно робел перед ним. Вельветовый пиджак, короткая стрижка подразумевали твердость, упорство, даже физическую силу и духовную агрессивность, но его манера держаться опровергала все это.
К остановке подъехал автобус. Его тень упала на них, и Кэллоу вздрогнул.
— Вы поедете? — спросил Колин, двигаясь вместе с очередью.
— Нет, я пойду пешком.
— Вы живете близко?
— У меня тут родственники. Я иногда их навещаю.
Казалось, он ссылается на предлог, который только что придумал. Однако Колин редко видел его по вечерам на остановке.
— Ну, до завтра, — сказал Кэллоу и, ничего не добавив, быстро пошел по тротуару.
В течение следующих нескольких недель он часто разговаривал с Кэллоу. Хотя они ни разу не уехали на одном автобусе — и он так и не узнал, где живет Кэллоу и даже женат ли он, — вниз к остановке они теперь обычно шли вместе. На другой день после первого их разговора, когда он ждал Стивенса у ворот, его друг подъехал на мотоцикле и, заранее отогнув шарф, сказал:
— С твоего разрешения я тебя больше подвозить не буду.
— Конечно, мне вчера не следовало отказываться, — сказал он.
— Если другие люди тебе интереснее, а на меня ты смотришь просто как на источник услуг, то какой мне смысл затрудняться, — добавил Стивенс.
— Как хочешь, — сказал он.
— Наверно, Торнтон распространялся про Стэффорда.
— Да.
— Он мне так и ответил. То есть я его про это спросил, — сказал Стивенс. — Кажется, он женится на твоей бывшей подружке.
— Мне он этого не говорил, — сказал он.
— А я навел справки. — Он прибавил газу, мотор взревел, и между ними проплыло облако сизого дыма. — На твоем месте я бы держался подальше от этих сукиных детей.
— Каких сукиных детей?
— Из школы короля Эдуарда. Они меня измордовали. И тебя тоже.
Он промолчал.
— Если хочешь, я тебя подвезу, — сказал Стивенс. — У меня был скверный день. — Он нагнулся и откинул подножки.
Колин сел в седло. Они покатили под гору. Когда он слез, Стивенс добавил:
— Я бы все это бросил, только у меня ничего другого нет.
— А почему бы тебе не уехать за границу?
— За границу? — Он снова прибавил газу, словно готовый сразу туда умчаться. — А ты почему не едешь?
— Я помогаю семье, — сказал Колин.
— «Я помогаю семье», — сказал Стивенс. — Значит, семья так тебя навсегда к месту и пригвоздила?
— Я у них в долгу, — сказал он.
— Долги для того и существуют, чтобы их не платить. Я в долгу перед всеми, — сказал Стивенс. — И был бы последним идиотом — и они сочли бы меня последним идиотом, — если бы попытался расплачиваться.
— Ну, а верность обязательствам?
— Обязательствам перед кем? — Стивенс помолчал, ожидая ответа. — У человека есть обязательства только перед самим собой, — добавил он.
Колин отвел глаза. От школы спускались Кэллоу и Торнтон. Торнтон помахал рукой.
— Ну ладно, оставляю тебя твоим друзьям, — сказал Стивенс и уехал, больше ничего не добавив.
— Он обиделся? — спросил Торнтон. — Из-за вчерашнего?
— Да, — сказал он.
— По-видимому, вы раньше были дружны с невестой Невила.
— По-видимому, — сказал он.
— Вероятно, я с ним скоро увижусь. Собственно говоря, он советовал мне, когда меня призовут, поступить в его часть. Не знаю, насколько просто это можно устроить. Но если все-таки можно, то он, конечно, все устроит.
Больше ничего не добавив, Торнтон помахал рукой и побежал через дорогу к своему автобусу.
— Ты их когда-нибудь видел? — сказал отец. Он протянул ему квадратный альбом. На сероватых листах цветными карандашами были нарисованы фрукты и цветы. Их яркие контуры отпечатались на папиросной бумаге, проложенной между листами. Рисунки были сделаны без исправлений, со взрослой уверенностью, словно бы без малейших усилий.
— Кто это рисовал? — спросил он, рассматривая три яблока в вазе. Их краснота незаметно переходила в зеленоватость.
— Твой брат. — Отец засмеялся. — Эндрю. — Он показал обложку. На ней были написаны название поселковой школы и непривычное имя его брата «Эндрю Сэвилл». — Ему было только семь лет.
— А как он умер? — спросил Колин, вдруг вспомнив.
— В одночасье. От воспаления легких, — сказал отец. — Еще вчера был здоров, и вдруг — нет его. У него перед тем была операция. Вот он и ослаб, наверно. Я бы все отдал, чтобы он жив остался.
— А что тут можно отдать? — сказал он.
— Ну-у… — Отец замялся и отвел глаза.
Как-то раз, несколько лет назад, он ходил с отцом поставить цветы на могилу брата. Маленькое кладбище у шоссе, ведущего к шахте, пряталось за высокими живыми изгородями. Из могилы торчал закругленный маркировочный камень с написанными краской инициалами отца «Г.Р.С.» и номером. Они обломали плети куманики, выпололи бурьян с продолговатого холмика, вкопали в его центре банку из-под варенья и поставили в банку цветы. «Надо бы каждую неделю сюда приходить, приводить ее в порядок», — сказал тогда отец, но ни он, ни мать, насколько было известно Колину, там больше не бывали. Теперь, глядя на яркие рисунки в альбоме, отец сказал:
— Надо бы сходить посмотреть, как там могила. Времени-то прошло уж порядочно.
— А на маму как это подействовало? — спросил он.
— Ну-у… — Отец заколебался и сосредоточенно уставился на альбом. — Наверно, полпричины в этом.
— Какой причины?
— Да то, что Эндрю умер… — сказал отец.
В доме стояла тишина. Мать уехала навестить сестру и взяла с собой Стивена и Ричарда — после долгих приставаний и хныканий.
— Вот ты и бываешь такой молчаливый и угрюмый.
— Разве я молчаливый и угрюмый?
— Ты сам должен знать, — сказал отец.
— А я не знаю.
— Не я же первый тебе об этом сказал. — Отец покраснел.
— Я не думал, что я угрюмый.
— Да не всегда, — добавил отец. — Так, в последнее время. — Он все еще смотрел на рисунки.
Чашка на блюдце. Колин со странным ощущением, словно кто-то вдруг дотронулся до него, увидел, как точны и совершенны эти эллипсы, безупречно нарисованные его семилетним братом: почти ни единой неправильности ни в линиях, ни в растушевке голубого узора.
— Твоя мать была на четвертом месяце. Вот, наверно, почему. Она тогда в полное расстройство впала. — Отец словно невзначай закрыл альбом. — Ну, в полное, можешь мне поверить. — Некоторое время он молчал. — Тогда все это таким странным казалось.
— Почему странным?
— Ну, как будто он ушел. — Отец поглядел на него. — А потом опять возвратился.
Лицо отца обрело свежесть, словно на миг он вернулся в те дни, когда сам был молод. Он посмотрел на Колина.
— Но я же все-таки не Эндрю, — сказал он.
— Нет.
Колин снова поглядел на альбом — только в буквах имени и фамилии ему почудилась какая-то смутность: словно его брат, несмотря на ясность рисунков, был не вполне уверен, что он — это он.
Отец тоже посмотрел на альбом, который лежал между ними, точно завещание, а может быть, беда или непонятное отрицание — он не знал.
Несколько дней его мысли занимал только этот брат, так случайно вдруг вторгшийся в них. Теперь он спал в самой маленькой комнате — другая, побольше, перешла к его братьям, — и ему пришло в голову, что спит он, вероятно, на кровати Эндрю. На этой же кровати, вспомнил он, во время войны спал солдат. В его памяти всплыли некоторые эпизоды раннего детства: смутно вспомнилась поездка к морю с отцом и матерью и как он стоял в тележке молочника. Эти картины были щемяще знакомы, как и рисунки в альбоме.
Однажды вечером, когда отец был на работе, он заговорил об Эндрю с матерью, выслушал ее сдержанные ответы, а потом прямо спросил, как он умер.
— Ну, зачем говорить о тяжелом? — сказала мать. — Какое это имеет значение через столько лет? — И добавила: — В конце-то концов в счет идет только хорошее.
— А разве Эндрю не был хорошим? — сказал он.
— Он-то был! — И мать рассказала ему о приходе доктора, о внезапной болезни и о виноватых словах врача, когда он осмотрел его брата, уложенного на двуспальной кровати. — А почему это ты вдруг так заинтересовался? — добавила она.
— Ну… — сказал он и объяснил про альбом.
— И где же это отец его нашел? — сказала она.
— Должно быть, наткнулся на него где-нибудь.
— Должно быть, рылся в моих бумагах.
— Каких бумагах? — спросил он.
— О, я кое-что храню, — таинственно ответила мать, словно этого она открыть все-таки не могла. — Во всяком случае, видно, что он стал бы художником. У него не только дарование было, но и характер такой.
— Какой характер? — спросил Колин.
— Ну, характер. — Мать провела пальцем по спинке стула. — Он был очень своевольный.
— В каком смысле? — спросил он.
— Вопросы. Вопросы! — Мать отвернулась. Потом, словно не выдержав молчания, добавила: — Он все время убегал.
— Куда?
— Не знаю. Он как будто и сам не понимал.
Непроницаемость намерений его брата ошеломила его, как, вероятно, ошеломляла мать. Она, не мигая, смотрела прямо перед собой.
— Во всяком случае, он хотел уйти отсюда, — сказала она.
— Почему?
— Зачем ты спрашиваешь? Неужели ты думаешь, что я не ответила бы на эти вопросы, если бы могла?
Она сняла очки. Их отблески больше не скрывали выражения ее лица. Она вытерла глаза краем фартука. Это был сдержанный жест, почти самоотрицание.
— Я его любила, Колин.
— Знаю, — сказал он.
— Так разве, — сказала она, — этого было не достаточно?
Несколько дней спустя он пришел на могилу своего брата и с удивлением увидел, что ее совсем недавно привели в порядок. В землю опять была вкопана банка, и в ней стояли цветы. Перед его глазами всплыл образ брата: непокорный, упрямый мальчик, светловолосый, голубоглазый, плотный, широкоплечий, идет по шоссе от поселка. На миг, стоя у могилы, спрятанной среди кустов, в тени террикона, рядом с шахтой, изрыгающей свой вечный дым и пар, он ощутил, что связан невидимыми узами с тем, кто погребен в этой земле, словно они вдруг слились воедино.
Он оглянулся на шоссе — его отец каждый день проходил мимо этого места. Вон там, в школе возле шахты, Эндрю, по всей вероятности, изрисовал свой альбом. И он вспомнил то, что уже несколько дней назойливо стучалось в его память, — то, как он впервые пошел. Он сидел тогда рядом с родителями возле плотины — той самой, до которой много лет спустя добрался с Ригеном во время их долгой прогулки, — и встал на ноги, чтобы пойти за курицей — за птицей, которая бежала впереди него к воде. Ему живо припомнилась мысль, мелькнувшая у него, когда он услышал возгласы отца и матери: «Я же уже много раз ходил вот так. Почему они удивляются?» Но важно было не их удивление — важным было возникшее в нем убеждение, что он не только уже ходил, по и уже прожил свою жизнь раньше. Словно из тумана проглянули очертания мыса.
Он испытывал странную отчужденность: какая-то часть его сознания была отторгнута, раздроблена, отметена. Он ушел с кладбища и зашагал к поселку. Дым, лязганье, скрипы и особые, присущие только шахте всхлипывания преследовали его. Словно земля выбросила, извергла его из своих недр. Он оглянулся на кладбище, где был в безвестности погребен его брат: от этого ребенка ему словно передалось ощущение возложенной на него миссии, нового обязательства, уязвимости, и он весь похолодел.
В первую очередь это повлияло на его отношения со Стивеном. Его младшему брату была свойственна невозмутимая уверенность. Он никогда ни в чем не сомневался — детская покладистость сменилась здоровым, ничего не требующим спокойствием. Он играл в регби, но без особого увлечения; во время занятий он всегда был рассеян. Его голос на пустыре разносился над дворами, он ни от кого не принимал ни распоряжений, ни советов.
— Ну, как дела, братик? — говорил он, плюхаясь на кушетку рядом с ним. — Плохо себя чувствуешь? — И его плечо давило на плечо Колина, словно старшим был он.
— Ну, выжал какой-то смысл? — добавлял он, когда Колин писал или исправлял тетради за столом. — И что тут такого гениального? — Он с таинственным видом заглядывал через его плечо, словно искал и не находил в этих строчках ключ к душе брата.
Он был теперь крупнее и тяжелее Колина, с мышцами, развитыми не по возрасту. Мало кто из мальчишек в поселке решался задирать его. Но и с такими Стивен никогда не дрался, а брал противника за локти и поворачивал к себе.
— Ну, и чего ты этим добьешься? — спрашивал он дружески, как будто оберегая его от больших неприятностей. Его натура была словно искуплена, очищена и омыта.
— Почему ты не стараешься заниматься как следует? — спрашивал его Колин.
— А зачем? — отвечал Стивен.
— Ну, я же старался.
— Зачем?
— Чтобы помочь тебе, — говорил Колин.
— А зачем?
— Чтобы дать тебе шанс.
— Какой еще шанс?
— Пробиться.
— Ну, я и пробился. — Он смеялся. — А через что надо пробиваться, Колин?
— Разве ты не чувствуешь, что должен вырваться?
— Куда вырваться?
— Отсюда.
Брат обводил взглядом кухню, смотрел в окно наружу.
— Конечно, тут не ахти как, — говорил он. — Но мы же не обязаны навсегда тут оставаться, верно?
— Не обязаны? Судя по тому, как ты занимаешься, мы так тут и останемся.
— Ну, ты-то можешь уехать, когда захочешь.
— И бросить тебя и Ричарда? Ты должен получить свой шанс.
— Да есть у меня шанс. Сколько требуется, столько и есть.
Невозмутимость Стивена выводила его из равновесия — как и спокойствие, с каким принимала ее мать.
— Разве ты не хочешь, чтобы Стивен получил образование? — спрашивал он ее.
— Он же не такой способный, как ты. То есть к учению.
— Но он даже не старается! У него нет никаких склонностей, никакой потребности что-нибудь делать! Он плывет по течению, и все.
— Просто у него уравновешенный характер, — говорила мать.
— Да? — Только это слово как-то указывало, что она и сама над этим думала. — По-моему, точнее было бы сказать, что он готов мириться с чем угодно.
— С чем мириться?
— Со всем этим.
Он безнадежно обводил рукой вокруг: шахта, мрак, вечный запах серы, промозглость, сажа. Все это парализовало его. И спасения не было.
— Неужели он не хочет ничего менять? Он что, собирается здесь жить всю жизнь?
— Ну, мы-то жили и живем здесь, — говорила мать.
— Но у нас ведь есть шанс изменить что-то. Шанс выбраться отсюда.
— Уехать.
— Не обязательно. Но в духовном смысле. Зачем Стивену сразу хоронить себя заживо?
— Почему это так тебя задевает? — говорила она. — Если он доволен, почему ты требуешь, чтобы он стал другим?
— Не знаю, — отвечал он. — Просто я хотел бы для него чего-нибудь получше.
— Но зачем менять его натуру, если он и так счастлив?
— А он счастлив?
— По-моему, да.
— Как дворовый пес. Тупо, по-воловьи. У него нет воли.
Мать уклонялась от этих нападений. В них крылась какая-то двойственность. Брат вызывал у него злость, но в отношении брата к нему не было ни раздражения, ни враждебности, ни ответной злости. Наоборот, Стивен восхищался им. В детстве он слушал рассказы Колина о школе, а потом о колледже как завороженный. Один раз он побывал у него в колледже — Колин водил его по аудиториям, знакомил с преподавателями и студентами, и брат только изумлялся, только восхищался без всякой задней мысли. Все, с чем бы он ни сталкивался, он принимал без рассуждений.
— Чего ты цепляешься к Стивену? — спрашивал отец.
— Он ничего не делает, — отвечал он.
— Просто он такой.
— Не верю.
С таким же раздражением он наблюдал, как Стивен играет на пустыре. Его покладистость, бесхитростность, отсутствие хоть какого-нибудь расчета были особенно заметны со стороны. Его положительность была беспринципна.
— Он ничего не делает, — повторял он.
— А он что, обязан что-нибудь делать? — спрашивал отец.
— Но от меня же ты требовал! — говорил он.
— Как это я требовал?
— Да во всем. Всегда на чем-то настаивал. Наверно, ты будешь доволен, если он пойдет в шахту.
— А что? Если это будет ему по вкусу.
— Но почему я должен был делать то, что мне было не по вкусу? — говорил он.
— И что же тебе было не по вкусу? — спрашивал отец.
— Да все это! — Он указывал вокруг.
— Я думал, ты сам этого хочешь. Ведь у тебя хорошо получалось, — говорил отец.
— Я этого хотел? Или вы хотели этого для меня? Как раньше для Эндрю?
— Чего мы хотели для Эндрю?
— Сделать его хорошим. Сделать его таким, как я.
— Нет, — сказал отец и отвел глаза. Словно он слишком больно его ранил. — Нет, — повторил он и мотнул головой.
— Разве это не правда?
— Нет. Это не правда. А если бы ты это сказал твоей матери, это ее убило бы.
— Так, может, лучше, чтобы она знала.
— Ты ей ничего не скажешь, — сказал отец непонятным тоном, повернулся и встал перед ним, словно заслоняя от него мать.
— Что же мне делать? — сказал он. — Почему я не имею права на ту же свободу, что и Стивен? Не из эгоизма, но ради вашей же пользы?
— Пользы? Какой пользы? И какая польза говорить об этом? — сказал отец; несмотря на свою усталость, он словно готов был избить его.
— Но почему за все должен был страдать я?
— Как это страдать?
— Почему надо было кроить меня по меркам? Почему вы не были довольны мной таким, какой я есть? — сказал он. — Почему мне не позволили расти свободно, как Стиву? — Словно в нем подавляли и замыкали некое зло, а в Стивене ему дали волю излиться, и оно умиротворилось.
— Ты что же, не хотел поступать в эту школу? — сказал отец, но мягко, стараясь его отвлечь. — Когда ты прибежал домой сказать, что тебя приняли, я еще не видел, чтобы ты так сиял.
— Я думал, что вы этого хотите.
— Мы и хотели.
— Так почему же вы ничего не хотите для Стива?
— Я для Стива многого хочу. Но я не стану его принуждать, раз это ему поперек глотки.
— А меня принуждать было можно?
— Я тебя не принуждал.
— Еще как!
— Ни к чему я тебя не принуждал.
— Не силой, — сказал он. — Любовью.
— Нет, — сказал отец. — Это для меня что-то чересчур тонко.
А позже, словно он мучился от раны и не понимал, зачем Колин нанес ее, отец добавил:
— Мы дали тебе ключ. Мы дали тебе ключ, чтобы ты мог отсюда выбраться.
— А я не могу, — сказал он. — Вам нужны эти деньги. Да и в любом случае с моим заработком мне не по карману жить отдельно.
— Так это же всего на два-три года.
— Разве?
— Пока Ричард и Стивен еще учатся. Сам знаешь, во что нам обошлось дать тебе образование.
— Так зачем было давать?
— Угу, — сказал отец. — Я и сам уже начинаю себя об этом спрашивать.
Через несколько недель, вернувшись из школы совсем измученный, Колин увидел, что брат играет на пустыре, и снова начал тот же спор. Стивен выслушивал его гневные обвинения, стоя с рассеянной улыбкой в углу кухни.
— Ну, — сказал отец, — если ты будешь так продолжать, он тебя стукнет.
— Да? — сказал он.
Мать тоже была на кухне.
— Стивен вовсе не такой кроткий, — сказала она, — как тебе иногда кажется.
— Неужели? — сказал он. — Что-то я этого не замечал.
— У него есть свой ум и свои принципы. — Мать гневно смотрела на него сквозь очки, словно он нападал на нее.
— Никакого ума я не замечал, — сказал он. — А что до принципов, так вряд ли он даже слово такое знает.
— Мне кажется, он знает очень много, — сказала она.
— Откуда бы? Я ни разу не видел, чтобы он что-нибудь учил.
— А ему учить и не нужно, — сказала она загадочно. — Он и так знает. — Она поглядела на Стивена, словно провозглашая то, чего не могла выразить.
— Он знает только, как есть, пить, болтаться без дела и пользоваться свободой, которую ему покупают другие, — сказал Колин.
— Ты ему ничего не покупал, — сказала мать.
— Ах так? А мне казалось, что я немало для него сделал. И для Ричарда тоже.
— Это верно, Элин, — сказал отец. — Он за ними приглядывал прямо по-отцовски.
— Да? — сказала она со странным ожесточением. — Он делал то, что хотел. Мы его не заставляли, — добавила она. — Никогда не заставляли.
— Да пусть себе выговорится, — сказал его брат, словно виноват во всем был один Колин и им троим оставалось только набраться терпения.
Колин отвернулся.
— А если хочешь мне что-то сказать, так говори прямо мне. А не отцу с матерью, — добавил брат.
— Все, что мне надо сказать, — ответил Колин, — я вот этим скажу. — Он поднял кулак.
— Драться? Так я не против, — сказал Стивен, словно своим добродушием мог его переубедить.
— Значит, не против?
— Нет.
— Брось, Стив, — сказал отец.
— Оставь их, — сказала мать. — Может, Колин убедится, что Стив не совсем такой, как он думает.
Замкнутые логикой драки, они пошли на пустырь. Возможно, даже тогда Стивен думал, что сумеет разубедить его своим миролюбием, сумеет показать, что вовсе не искал ссоры. Он стоял перед ним, улыбаясь, непонятно спокойный, почти покорный, и поднял кулаки так, словно рассчитывал, будто этого движения достаточно, чтобы его охладить. Но Колин не испытывал никаких колебаний: с яростью, вырвавшейся из самых глубин его натуры, он ударил Стива кулаком в лицо и увидел беспомощность в глазах брата, когда он ощутил удар, — все ту же бесхитростную покладистость, словно его пассивная уверенность наконец была сокрушена. Лицо Стивена залила кровь, взгляд стал страдальческим, он вдруг физически обессилел. Безжалостно, все с той же яростью Колин швырнул его на землю.
Брат лежал неподвижно, словно оглушенный. Потом попробовал приподняться и повалился на бок. Колин ненавидел Стивена, как никого в мире, ненавидел его беспомощность, ненавидел его боль. И отвернулся, когда отец подошел, чтобы помочь Стивену. Мать стояла в дверях и смотрела мимо него. Отблески в стеклах очков прятали выражение ее лица. Казалось, в эту минуту ее внезапно, без предупреждения, без всякой причины рассекли пополам. Она попыталась заговорить, не смогла, потом сказала:
— Зверь, — но тихо, словно не в силах выразить всю глубину своего гнева. — Зверь, — сказала она опять. — Он ведь тебя даже не ударил.
— Хотя ты его и просила.
— Я не просила. — Она отвернулась. — Что плохого он тебе сделал?
— Гораздо больше, — сказал он, — чем ты можешь себе представить.
Он ушел. Когда он открывал парадную дверь, отец привел Стивена на кухню.
— Я ничего, — говорил брат, но его голос звучал глухо, а движения были неуверенными, словно он не понимал, что произошло.
Колин пошел к перекрестку и вскочил в автобус. Через сорок пять минут он был в городе. Он вошел в пивную. Кровь шумела у него в ушах.
Домой он вернулся за полночь. Он успел только на последний автобус до соседнего поселка и четыре мили шел пешком.
Все окна были темными. Парадная дверь была заперта. Он пошел назад к проходу и через дворы.
Задняя дверь тоже была заперта.
Возле окна его комнаты проходила водосточная труба.
После нескольких неудачных попыток он поставил ногу на подоконник кухонного окна, вскарабкался по трубе, поднял раму и влез внутрь.
В доме стояла полная тишина. Потом из соседней комнаты донесся шорох: Стивен или Ричард перевернулся на другой бок.
Он лег на кровать. Его одежда была выпачкана сажей и ржавчиной. От ладоней пахло затхлой водой.
Кашель, потом за пустырем залаяла собака.
Он лежал неподвижно, закрыв глаза.
От его пиджака пахло пивом и сигаретным дымом: эти запахи заглушали вездесущий запах шахты.
— Это Элизабет, — сказал Кэллоу и после некоторой заминки, отступив в сторону, словно он не любил, чтобы их видели вместе, добавил: — Мы решили зайти выпить чего-нибудь.
Она была чуть ниже Кэллоу, с широким грубоватым лицом. Шарф с узором из цветов полускрывал густые темные волосы.
— Идемте с нами, — сказала она и кивнула на бар по ту сторону центральной площади. Уже наступил вечер, и над тротуарами вспыхивали огни.
Ее темные глаза глядели печально, как у врача, осматривающего пациента. Она ждала ответа Колина с легкой улыбкой.
— Вы ведь, кажется, преподаете в той же школе, — сказала она, когда они вошли в бар и сели за столик.
— По мере сил, — сказал он, сбитый с толку выражением ее лица.
— Вот и Фил тоже, — сказала она, говоря о Кэллоу, точно сестра или соседка, но не как близкий друг. — Он постоянно грезит наяву, и никогда нельзя понять, тут он или это только кажется.
— Я не грежу. Школа, в которой мы преподаем, исключает всякую возможность грезить, — сказал Кэллоу. — Наоборот, она уничтожает в человеке любые поэтические склонности.
— Тем не менее ты порой философствуешь, — сказала она. — Запечатлеваешь по вечерам свои мысли и даешь некоторую волю воображению.
Чуть насмешливые отголоски какого-то старого, привычного спора. Она посмотрела на Колина и улыбнулась.
— Колин пишет. И он тебе объяснит, насколько это беспощадное призвание. — Кэллоу поглядел на него, ища подтверждения.
— Неужто двое под одной крышей? — сказала она. По-видимому, она была: ровесницей Кэллоу, если не старше. В уголках ее глаз намечались морщинки. Косметикой она как будто не пользовалась совсем. — Это место, несмотря на твои уверения и его прозаический, чтобы не сказать унылый, вид, обременено поэтическими талантами.
— Я ведь ни на что не претендую. Для меня это просто терапевтическое средство, — хмуро сказал Кэллоу, но, беря рюмку, опять посмотрел на Колина.
— А вы тоже преподаете? — спросил у нее Колин.
— Боже сохрани! — Она покачала головой. В баре она сняла шарф, открыв выпуклый лоб. В выражении ее лица была какая-то невозмутимая уверенность. — Я женщина, ведущая независимую жизнь, — сказала она подчеркнутым: тоном и посмотрела на него в упор, точно приглашая его делать какие угодно выводы.
Кэллоу, угрюмо отгородившись от ее поддразниваний, умолк и медленно допивал свою рюмку, а потом по ее предложению встал и заказал еще по одной.
Через несколько дней он встретил ее на улице. Было субботнее утро, город заполнили толпы людей, приехавших за покупками. Он увидел ее перед входом в магазин, фамильярно взял за локоть и почувствовал, как она вздрогнула от его прикосновения.
— А, это вы, — сказала она, и он решил, что она уже узнала его — увидела издалека и остановилась, поджидая, но сделала вид, будто это вышло случайно.
— У вас какие-нибудь дела? — спросил он.
— Никаких, — сказала она, — которые нельзя было бы отложить.
Они пошли в кафе в проходе под аркой. В том самом проходе, подумал он, пока они ждали за столиком, по которому много лет назад он в первый раз шел с матерью чтобы поглядеть на школу.
— Так вы хорошо знаете город? — сказала она, когда он упомянул про тот день.
— Я здесь получил образование, — сказал он.
— Образование! — Она посмотрела на него прищурившись.
Виски у нее были тронуты сединой, и она рассматривала его так же непринужденно, как вела себя с Кэллоу.
— Вы не придаете ему особого значения? — сказал он.
— Больше, чем многие, — сказала она, — и меньше, чем некоторые.
— Почему вы все время посмеиваетесь над Кэллоу?
— Разве? — Ни его тон, ни само обвинение ее нисколько не удивили. — Он такой надутый старый индюк, — добавила она и, протянув руку через стол, дотронулась до его локтя. — Вы, собственно, тоже, но только несколько более молодой.
Она улыбнулась, темные ресницы прикрыли глаза, узкие веки прятались под выступающим надбровьем.
— Вы замужем? — спросил он напрямик.
— Да, — сказала она. На руке у нее не было кольца.
— Ваш муж здесь? — Он кивнул через плечо на город.
— Не думаю. Однако, — добавила она, по-прежнему улыбаясь ему, — все возможно.
На ней было темно-зеленое пальто с меховым воротником. Коричневый цвет меха придавал ее широкоскулому лицу с узким подбородком выражение скрытой энергии.
— Чем занимается ваш муж?
— В настоящее время ничем.
— Ну, а раньше?
— Это так важно? — сказала она. — По-моему, такие вопросы не слишком вежливы.
В ней была какая-то манерность. Руки у нее были маленькие, пальцы тонкие и красивые. Он смотрел, как она брала чашку: суставы пальцев побелели, на запястье обрисовались голубые прожилки.
— Он работал в фирме своего отца, — добавила она. — Потом ушел, чтобы стоять на собственных ногах. К несчастью, это у него не получилось. Я полагаю, он вернется в фирму и возглавит ее, когда его отец умрет. Видите ли, мы давно не живем вместе.
— Вы развелись?
— Нет, — сказала она равнодушно. — Он хочет, чтобы я к нему вернулась.
Несколько секунд она смотрела на него над краем чашки.
— А вы очень жадный, — добавила она.
— Разве?
— Очень.
Она отвела взгляд. Ее манерность, это внезапное раздражение, казалось разыгранное по каким-то воображаемым правилам поведения, вызвали у него улыбку. Он все еще улыбался, когда она опять посмотрела на него.
— В чем дело? — спросила она.
— Так, ничего, — сказал он.
— Филип, — сказала она, — постоянно поражается. — И добавила — Кэллоу.
— Чему?
— Тому, как вы находите общий язык со своими студентами.
— Но какие же они студенты?
— Он их так называет.
— Это же школьники. Дети.
— Взгляд сверху вниз? — сказала она и опять прищурилась, наблюдая его лицо.
— Пожалуй. — Он снова улыбнулся. — Я ведь и сам почти еще ребенок.
— Нет, — сказала она. — Не думаю.
— Ваш муж живет где-то поблизости? — спросил он.
— Да, поблизости. — Она помолчала. — Я пользуюсь своей девичьей фамилией. — Она покраснела и добавила: — Элизабет Беннет.
Ее тон как будто подразумевал, что эта фамилия должна для него что-то значить. Она секунду вглядывалась в его лицо, потом спросила:
— Что-нибудь не так?
— Кого вы ждали? — сказал он.
— Никого. Я увидела вас и решила подождать, — сказала она. За этим стояло признание, и он подумал, что не может от него уклониться. Секунду спустя, когда она добавила: — Вы хотите еще кофе? — он встал из-за стола и придержал ее стул.
Когда она выходила перед ним из двери, он взял ее под локоть и продолжал идти так по улице.
— Куда вы теперь? — сказал он.
— Домой, — сказала она.
— Это далеко?
— В пригороде. Я живу у сестры. Обычно я возвращаюсь пешком, чтобы размяться.
— Вы где-нибудь работаете? — сказал он.
— В аптеке.
— За прилавком?
— А что?
— Почему вы сегодня не работаете?
— Это аптека моего отца, — сказала она. — Я прихожу и ухожу, когда считаю нужным.
«Аптека Беннета» — вывеска на углу улицы, которая вела к школе.
— Я вас провожу, если хотите, — сказал он.
— Обычно я иду через парк, — сказала она. — Дорога длиннее, зато я выхожу почти прямо к дому сестры.
— А чем занимается ваша сестра?
— Ничем, — сказала она, когда он повел ее через мостовую. — Она замужем. Детей у них нет, и они часто путешествуют. — После паузы она добавила: — Вот и сейчас тоже.
— А у вас детей нет?
— Нет, — сказала она.
Дорога спускалась к реке. Там напротив центрального городского холма из темной массы древесных крон поднималась вершина холма поменьше, на которой виднелась крыша большого старинного дома.
Между деревьями вились дорожки, за стволами поблескивало озеро. В небе кружили птицы. День был ветреный. Словно из-за ветра она плотнее запахнула пальто и прижала руку к груди.
— Ну, а вы? Что вы собираетесь делать?
— А! — Он махнул рукой. Деревья уже заслонили панораму города. — Буду учить.
— До конца своих дней?
— Какое-то время. — Потом он добавил с горечью: — А есть ли у меня выбор? Это предопределено.
— Неужели? Вы не показались мне фаталистом.
Между деревьями мелькали фигуры. Когда они спустились ниже, развалины старого дома справа слились с контуром холма.
— Филип говорил, что читал некоторые ваши стихи.
— Да.
— В журнале.
— Не думаю, чтобы его особенно читали.
— Но кажется, их рассматривали в критическом отделе лондонской газеты.
— Три строчки в конце абзаца, — сказал он.
— Ваши родные были рады?
— Да, — сказал он, хотя отец отнесся к этому безразлично. Только мать читала с интересом, сдвинув очки, чтобы лучше разбирать мелкую печать. Она несколько раз перечитала все стихи, потом подняла голову, покраснев, словно стеснялась своей радости, и сказала «да-да» как-то странно, почти шепотом.
— А вы с Кэллоу близкие друзья? — спросил он.
— Весьма. — Она засмеялась.
Войдя в парк, он отпустил ее локоть, и теперь они шли на некотором расстоянии друг от друга.
— Я была с ним знакома до того, как он стал учителем, — сказала она.
— А когда?
— Он еще учился. Мы оба из этого города, вместе росли и служим друг для друга, так сказать, дублерами — постоянно подменяем кого-то.
Больше она ничего объяснять не стала.
Некоторое время они шли молча. Дорожка огибала озеро. На крохотном островке в беседке между колоннами стояла статуя.
Он часто гулял здесь с Маргарет. Они садились на скамью и глядели на островок, на каменную женщину, закутанную в покрывало, под которым ясно рисовалась ее грудь. Взгляд статуи был устремлен на воду, и ее безмятежное спокойствие, казалось, воплощало самую суть их отношений. А теперь он шел мимо с другой женщиной и даже не повернул головы. Прошлое было словно отторгнуто; трещина была крохотной, незначительной, но заметной; он отбросил столько прежних чувств, что на него нахлынуло уныние, смешанное с отвращением.
И он продолжал молчать, пока они не вышли из ворот на шоссе, которое вело к дальнему пригороду. Напротив стояло несколько больших домов, позади них луга спускались к реке.
— Ну вот, — сказала она, — мы почти пришли. Не хотите ли выпить еще кофе? — добавила она. — Или пойдете дальше?
— Предпочту кофе, — сказал он.
Они пошли по шоссе вдоль осевшей кирпичной ограды, Когда-то она отмечала границу парка, окружавшего старый дом на холме и ставшего теперь городским. В двух-трех местах ограда рухнула, и за проломами виднелся сад и аллеи с трельяжами.
— Район, в котором приятно жить, — сказал он.
— Да? — Она оглянулась на парк. — Пожалуй. Я как-то не обращала внимания.
Дом стоял в стороне от шоссе, в конце подъездной аллеи. Фасад с эркерами выходил на окруженную садом лужайку.
Она отперла дверь, за которой оказался сверкающий полировкой холл. Прямо напротив двери лестница с высокими перилами вела на второй этаж. По сторонам за открытыми дверями виднелись большие комнаты с коврами на полу.
— Идите вон туда, — сказала она, указав на дверь в дальнем конце холла. — Я сейчас к вам присоединюсь.
Он услышал ее шаги наверху.
Окно выходило в сад позади дома. По-зимнему голые клумбы тянулись до живой изгороди, деревянные решетки трельяжей окаймляли аллею. Вдали виднелась гряда холмов по ту сторону долины, а за изгородью мелькали фигуры — там на пожухлой траве играли в хоккей.
Она вошла в темно-коричневом платье. После прогулки ее лицо немного порозовело. Она подошла к камину, где за проволочной сеткой пылал огонь, и подержала над ним руки.
— Сейчас вскипит. В задних комнатах теплее. Вот юг. — Она указала на окно и открывающийся за ним вид.
Позже, принеся кофе, она сказала:
— Если хотите, я могу найти вам что-нибудь поесть.
— Спасибо, не беспокойтесь, — сказал он.
— А что вы обычно делаете по субботам? — спросила она.
— Я много гуляю.
— Разве у вас нет друзей?
— Почти все они, — сказал он, — разъехались.
— Гадкий утенок.
— Вы думаете?
— Не я. Мне казалось, что вы так думаете.
— Нет, — сказал он.
— Странно, — сказала она, снова глядя на него над краем чашки, как раньше в кафе, — но ваше настроение опять изменилось. Оно скачет, как не знаю что.
Он засмеялся и обвел взглядом комнату. Мебель была массивной, стулья и кресла окружали камин, как валуны. Снаружи доносились приглушенные крики и удары клюшек по мячу.
— Вы занимаетесь спортом?
— Раньше занимался.
— А теперь нет?
— Нет.
— Дитя города. Хотя, конечно, не вполне.
— Да, Сэкстон, пожалуй, и не город, и не деревня, — сказал он.
— Отчужденный от своего класса, не находящий, куда идти.
— А я кажусь отчужденным? — сказал он.
— По-моему, Филип употребил именно это слово. Ведь он постоянно ищет героя.
— В каком смысле героя? — спросил он.
— Ну, человека, который поднялся бы от подножия на самую вершину. Видите ли, сам он сменил середину на середину. Его отец был муниципальным чиновником.
— Я бы не стал оценивать продвижение вверх через классовую принадлежность, — сказал он после минутного размышления.
— Да? То есть, — добавила она, — даже как интеллигент?
— И так тоже, — сказал он.
— Ну-ну, — сказала она, а потом добавила: — Иным чудесам несть числа.
— Почему вы все время смеетесь? — спросил он.
— Смеюсь? — Она улыбнулась.
— Это ведь тоже взгляд сверху вниз.
Она промолчала.
— Я не думал, что вы этим страдаете, — сказал он.
— Мальчик мой, — сказала она, — вы еще столького не знаете!
Вскоре он ушел. Она проводила его до двери.
— Назад вы можете поехать на автобусе, если хотите, — сказала она, кивнув на остановку по ту сторону шоссе. Казалось, едва он попрощался, она утратила к нему всякий интерес.
— Нет, я, пожалуй, пойду пешком, — сказал он.
— Благодарю, что вы так любезно меня проводили, — сказала она.
— Может быть, увидимся в следующую субботу?
— Хорошо. — Она пожала плечами.
— На том же месте, если хотите.
— Хорошо. — Она снова пожала плечами.
У калитки он обернулся, чтобы помахать ей, но она уже вошла в дом и закрыла за собой дверь.
— Послушай, — сказал отец, — не орал бы ты на него.
Он занимался с Ричардом: на столе перед ними валялись клочки бумаги, сплошь исписанные цифрами.
Лицо брата сморщилось, покраснело, и, подстегнутый сочувственным тоном отца, он заплакал.
— Послушай, — сказал отец еще раз. — Это уж слишком. — Он хлопнул ладонью по столу, и клочки, кружась, слетели на пол.
Мать, возившаяся наверху, спустилась в кухню.
— Нельзя, чтобы он так на него орал, — сказал отец. — Его по всем дворам слышно. Как он может что-нибудь выучить, раз он на него все время кричит?
— Так не надо ему заниматься, — сказала мать, с отчаянием глядя на захламленный стол. — Уж лучше пусть он улицы подметает, чем нам терпеть все это.
— Нет, он улиц подметать не будет, — сказал отец, кивая на Ричарда. — У него мозги получше, чем у всех у них, как бы он там ни орал и ни говорил, что у него ничего не получится.
— Я не говорил, что у него ничего не получится, — сказал Колин.
Ричард спрятал лицо в ладонях, голова у него дергалась, плечи тряслись, и, когда отец погладил его по спине, он заплакал еще сильнее.
— Не надо, голубчик, — сказал отец. — Это же совсем не важно.
— Нет, важно, — сказал брат сквозь всхлипывания.
— Ты только подумай, — сказал отец, отступая на шаг, чтобы матери было виднее. — Он же учитель! Он же дипломированный учитель и сразу теряет терпение!
— Если это совсем не важно, — сказал Колин, — так зачем заставлять его заниматься?
— Нет, он заниматься будет, потому что у него есть способности, — сказал отец. — Только ты кричишь и сбиваешь его.
— В школе на своих учеников ты кричишь? — сказала лгать.
— Нет, — сказал он.
— Так почему ты кричишь на Ричарда? Он же твой брат. Кажется, ты должен быть к нему внимательнее, чем ко всем другим. Почему ты не можешь быть с ним таким же терпеливым? Ведь с тобой мы были терпеливы.
— Хватит, — сказал отец. — Я сам его буду учить.
— С дипломированным учителем в доме?
— Да когда же это он бывает в доме? И какой он учитель? По вечерам его не видно, а если он чему и обучен, так только орать.
Однако эта ссора кончилась сама собой. Такие ссоры вспыхивали почти каждый вечер, особенно по субботам: в Ричарде была болезненная хрупкость, которая заставляла мать бросаться на его защиту, а в отце пробуждала заботливую нежность, прежде почти ему не свойственную. Каждый день Колин возвращался из школы словно в тюрьму: улица внушала ему ужас, и дома, и шахта. Он словно проваливался в глубокую яму. Зимой он осознавал только давящую серость поселка, сажу, вечное облако дыма, запах серы — вонь, которая проникала во все уголки каждой комнаты, пропитывала одежду, а может быть, даже и кирпич, и камень. От нее никому и ничему не удавалось укрыться. Поселок был точно остов разбитого судна, вышвырнутый среди пустыни полей на берега непрерывно растущего террикона.
Каждый вечер он старался оттянуть возвращение домой: провожал Кэллоу до дверей его родственников и долго прощался с ним в конце узкого проулка или уезжал в город со Стивенсом на заднем седле его мотоцикла. Он бродил по улицам, и оттого, что все вокруг было таким знакомым, ощущал еще большую бесприютность. В его стремлении обособиться крылся упрямый протест, но тоска оставалась тоской, а он был прикован к поселку. Несколько раз он проходил двенадцать миль пешком и добирался до дому к полуночи или еще позже. Чем ближе он подходил к поселку, тем медленней становились его шаги: поднявшись на последний гребень и глядя мимо церкви вниз на тусклое зарево над шахтой, на клубящийся дым и пар, на серость освещенных фонарями улиц, он, хотя добирался сюда три часа, испытывал томящее желание повернуться и пойти назад. Ему не для чего было возвращаться сюда.
— Если ты все это так обожаешь, зачем тебе жить тут? — говорил отец. — Сними комнату. С деньгами, которые ты зарабатываешь, что-нибудь придумать можно.
— Я зарабатываю вовсе не так много, — говорил он.
— Сколько ты зарабатываешь, я не знаю, — говорил отец, — но побольше, чем я, хотя и вполовину так не вкалываешь.
— Я получаю меньше тебя.
— Больше, если считать, сколько часов ты работаешь и сколько я.
— Во всяком случае, — сказал он, — я пробовал.
— Угу, — сказал отец, — а с нами как же? В первый раз смогли купить что-то приличное.
В нижней комнате стояли теперь новый диван и два кресла, первый взнос за которые был внесен из его первого жалованья. В кухне недавно появился новый обеденный стол. Они обсуждали, не покрыть ли пол линолеумом. Отец подумывал о том, чтобы купить приемник получше.
— Мы заслужили эти вещи, — сказал он. — Они нам нужны. Вот ради чего мы бились все вместе.
— Это проституция, — сказал Колин.
Отец осекся и поглядел на него с бешенством.
— Какая еще проституция?
Его братья за столом насторожились. Мать повернулась от очага.
— Отдавать меня внаймы.
— Кого отдавать внаймы?
— Меня.
— Никто тебя никуда не отдает.
— Считалось, что я приобретаю интеллигентность, а не учусь, как повышать материальное благосостояние.
— И то и другое. Я так думала, — сказала мать.
— Но это же невозможно. Одно противоречит другому. Одно исключает другое, — сказал Колин.
— Нет, — сказал отец уничтожающе. — Не понимаю я его.
Позже, когда отец ушел на работу, а братья легли спать, мать сказала:
— Как так — внаймы? Разве ты не хочешь, чтобы у нас были эти вещи?
— Конечно, хочу.
— Разве ты не хочешь, чтобы твои братья получили пользу от того, чего добился ты?
Свет, отражавшийся от очков, скрывал выражение ее лица.
— Но ведь нас обрабатывают ради определенной цели, это все пропаганда, — сказал он. — Я вовсе не жажду, чтобы Ричард прошел через все, через что должен был пройти я. Чтобы он кончил так же.
— Как? Ну как? — сказала она с отчаянием. — Я не понимаю.
— Чтобы обрабатывал таких же, как он, вынуждая их делать то, что вынужден был делать он.
— Но то, что делает он, то, что делал ты, — это особая привилегия, — сказала она.
— Для кого?
— Для вас.
— Ну нет! Берут лучшее в нас и превращают во что-то совсем другое.
— Ты переменился, — сказала она горько, — и я знаю почему.
— По-моему, это не перемена, — сказал он, — а скорее раскрытие личности.
— Нет, ты переменился. И мне больно это видеть. — Секунду спустя она добавила: — Мне больно, что ты вымещаешь это на нас.
— Ничего я ни на ком не вымещаю, — сказал он.
— А как ты ведешь себя со Стивом? И с Ричардом? И с отцом?
— Я делаю для вас все, что могу, — сказал он.
— Все, чтобы лишить нас всякой радости.
— Не чтобы лишить, а чтобы помочь вам увидеть.
— Что увидеть? Что? — Она смотрела на него уныло и безнадежно.
На пасху он дал им денег, чтобы они поехали отдохнуть неделю — отец и мать вместе, — чтобы впервые за двадцать с лишним лет они могли побыть вдвоем. Он остался дома присматривать за Стивеном и Ричардом.
— Только без споров и без драк, — сказал отец. Колин проводил их на станцию и нес их чемодан. Между ними вдруг настало примирение — он поцеловал мать и пожал руку отцу. Словно его родители уезжали навсегда.
Через несколько дней, вернувшись из школы, он увидел, что Стивен сидит в кухне перед очагом с какой-то девушкой. По-видимому, они пили чай — на столе стояли чашки. Огонь в очаге едва тлел.
— Вот и Колин! — сказал его брат. — А это Клэр.
— Что она здесь делает? — спросил он.
— Ну, в гости пришла, — сказал брат. У него было безоблачное настроение: он сидел без пиджака, небрежно обняв девушку за плечи.
Девушка была маленькая, темноволосая. Она вскочила на ноги, едва он вошел в кухню.
— А она знает, что твои родители в отъезде?
— Может, и знает, — сказал брат. В его голосе не было раздражения. Он с улыбкой посмотрел на девушку. Она покраснела и отошла к столу, словно для того, чтобы собрать посуду.
— И она считает, что так и надо, — добавил он, — приходить сюда одной?
— Почему это одной? — сказал брат. — Она со мной пришла. Я же тут, — добавил он. — Может, ты меня не приметил?
Девушка засмеялась и отвела глаза.
— Ее родители знают, что она здесь одна?
— Ты что, собираешься мне врезать, Колин? — сказал брат и стал в небрежную боксерскую стойку.
До сих пор их первая драка ни разу не упоминалась, словно ее вовсе не было. И в любом случае на пустыре или во дворах то и дело кто-нибудь дрался — иногда соседи, иногда братья, иногда отец с сыном. В этом смысле их драка не представляла собой ничего особенного, думал он.
— Меня просто интересует, как к этому отнеслись бы ее родители. К тому, что она пришла сюда одна.
— Ну, сказали бы, что у нее ветер в голове. А что так, то так, верно, Клэр? — Брат небрежно погладил ее по щеке.
— Мне лучше уйти, — сказала девушка.
— Нет, черт подери, я тебя не пущу, — сказал брат. — Ты ведь только зашла. Мы еще чай допить не успели.
— Мне лучше уйти, — сказала она еще раз. Голос у нее был культурный. Ее отец вряд ли работал в шахте.
— Я полагаю, вы понимаете, что вы делаете, — сказал Колин.
— О чем это ты? — Брат смотрел на него с улыбкой.
Но Колин обращался прямо к девушке.
— Я полагаю, вы понимаете, что это убило бы его мать.
— Убило мать? — сказал Стивен.
— Я полагаю, это ты ее подучил.
— Ты что, свихнулся? Что на тебя нашло? — сказал брат.
Колин придвинулся к девушке. Теперь он видел ее сквозь кровавую дымку.
— Вы знаете, что подумала бы его мать, если бы сейчас вошла?
— Что она подумала бы? — Девушка вся дрожала. Ее широко раскрытые глаза жалобно смотрели на него.
— Она бы подумала, что вы стараетесь ее погубить.
— Погубить? — Голос брата раздался за его спиной, потом он услышал, как брат сказал настойчиво: — Да не обращай внимания, лапонька. — И ему показалось, что тень брата легла на него.
— Она бы не выдержала, если бы увидела Стивена вот таким.
— Но в чем дело? — сказала девушка, глядя мимо него, взывая к Стивену у него за спиной.
— Лучше уйдите. Вы стараетесь ее убить. Я знаю, вы стараетесь ее убить, — сказал он.
— Но в чем дело? — снова сказала девушка, опять взывая к его брату.
— Ладно, мы уйдем, — сказал Стивен. Он уже надел пиджак. Лицо у него было красным. — Ладно, мы уйдем, — сказал он еще раз, беря ее под руку. — И я сюда не вернусь.
— Вернешься, — сказал он.
— Не вернусь, — сказал Стивен и, увлекая за собой девушку, закрыл дверь.
Он слышал, как они идут через двор.
Секунду он стоял перед дверью. Потом открыл ее.
В лицо ему ударил прохладный ветер. Он словно вышел из раскаленной печи. Даже вонь шахты казалась целительной. Некоторое время он стоял и смотрел на пустырь. У него подкашивались ноги.
Только когда с улицы вернулся Ричард, его немного отпустило. Он подошел к столу и налил себе чаю.
— Что с тобой? — сказала она.
Он отпрянул, вскочил с кровати.
— Да что с тобой? — сказала она еще раз.
Ее груди торчали над простыней.
— Не знаю, — сказал он. — Мне надо идти.
Но причиной было ее лицо: когда он нагнулся к ней, он увидел перед собой лицо своей матери, настолько ясно увидел все знакомые черты, которые вдруг озарила ее улыбка, что вздрогнул и отпрянул. И только постепенно сквозь них проступило широкоскулое лицо Элизабет.
— Но почему? Что с тобой? — Она села на постели. — Ведь еще совсем рано.
— Нет, я пойду, — сказал он.
— Ведь до автобуса еще столько времени!
Он стоял у кровати и смотрел на занавешенное окно. Снаружи по шоссе проехал автобус.
— Это из-за кровати?
Он мотнул головой.
— Если хочешь, пойдем ко мне в комнату, — добавила она.
— Нет, — сказал он.
— Они же вернутся совсем поздно.
— А они не догадаются, что на их кровати кто-то лежал?
— Нет, — сказала она, но таким тоном, словно привыкла пользоваться кроватью сестры и для нее это было чем-то обычным. — Ну, так пойдем ко мне, — добавила она. — И все будет по-другому.
Он начал одеваться. Она смотрела на него и молчала.
Потом спросила:
— Что-нибудь случилось?
— Нет, — сказал он.
— Я чувствую, что-то случилось, Колин, — сказала она. — Почему ты молчишь? — Потом добавила: — Это из-за Фила?
— При чем тут Фил?
— Ну, ты чувствуешь неловкость перед ним.
— Может быть, ты ее чувствуешь, — сказал он.
— Нет, — сказала она и добавила: — Ты первый, с кем я спала после того, как ушла от мужа.
Она заплакала и уткнулась лицом в подушку.
— Извини, — сказал он. — Просто на меня что-то нашло. — Он сел возле нее. В эту минуту он мог бы ее обнять.
— Раз так, зачем ты вообще…
Ее голос глухо тонул в подушке.
— Это уж слишком, — сказала она. — Уходи.
Но он продолжал растерянно смотреть на нее.
— Уходи же, уходи! — Ее голос перешел в стон. Он боялся коснуться ее. «Что же это такое? Почему я это сделал?» — думал он.
— Пожалуйста, уйди. — Она замерла, отвернувшись от него. Он ничего не мог исправить.
Закрыв за собой дверь и спускаясь по лестнице, он ждал, что она позовет его, но понимал, с какой небрежностью нанес удар, и мысль о том, что произошло, ошеломляла его все больше.
С дорожки он поглядел вверх, на окно спальни — занавески не шелохнулись, за ними никого не было.
Он пошел через парк. С центральной площади он позвонил ей. Трубку никто не снял.
Он сел в автобус и поехал домой.
— Я ни в чем ее не обвинял, — сказал он.
Брат ошеломленно посмотрел на него.
Накануне вечером он привел Стивена домой. Узнав, что брат ночует у приятеля в другом конце поселка, он подстерег Стивена на улице — увидел, как он на углу прощается с девушкой, и схватил его за плечо, когда он подходил к двери.
— Идем домой, — сказал он ему. — Мать вернулась и с ума сходит, что тебя нет.
На самом же деле, как ни странно, мать с полным равнодушием отнеслась к тому, что Стивен гостит у приятеля. Теперь она недоуменно смотрела на Стивена, который неожиданно вошел в кухню, где отец собирался на работу, и, остановившись в дверях, сказал:
— Мама, я ушел из дому из-за Колина.
— Как так из-за Колина? — Мать смотрела на него с легкой улыбкой.
— Он угрожал девушке, которую я привел.
— Какой девушке?
— Клэр, — сказал он.
— И как же он ей угрожал?
— Он обвинял ее, что она хочет убить тебя, мама.
Мать поглядела на него с некоторым удивлением. Она покраснела. Отец, шнуровавший ботинки, настороженно поднял голову.
— Не понимаю, — сказала мать.
— Это ложь, — сказал Колин. — Я ни в чем ее не обвинял.
Стивен поглядел на него, словно не веря своим ушам. Его открытое, добродушное лицо потемнело.
— Нет, обвинял. Ты можешь хоть у ее матери спросить. Мне пришлось проводить ее домой, так она расстроилась.
— Но с какой стати он вдруг сказал бы, что она хочет меня убить? — спросила мать.
— Я ничего подобного не говорил, — сказал он.
— Это неправда, мама, — сказал Стивен. — Он говорил так, вот на этом самом месте. Я слышал. Вот почему я две ночи дома не ночевал.
— А я думала, ты гостишь у Джимми, — сказала мать.
— Я и гостил.
— Ну, хорошо. — Мать, не веря, смотрела на Колина. Ее лицо обгорело на солнце, в нем была искренность, распахнутость. — Не понимаю, — сказала она. — Что происходит? Конечно, это неправда. Он никогда бы такого не сказал.
В глазах Стивена стояли слезы.
— Но это же правда, мама, — сказал он. — Спроси его. Пусть ответит честно.
— Я и отвечаю честно. Я никогда этого не говорил, — сказал он.
— Мама, он же врет, — сказал Стивен. — Врет, как тогда ей врал.
Мать смотрела на него с ужасом. Она была не в силах принять эту вражду между ними.
Отец поднялся со стула.
— Зачем ты ее сюда приводил? — сказал он Стивену.
— А что, нельзя мне было ее привести, что ли?
— Ты еще молод водить в дом девчонок, — сказал отец. — А когда ты в доме один, и подавно.
— А ты один был? — спросила мать.
— Так Колин же пришел. Мы сидели вот тут. Хочешь, спроси ее родителей. У нее есть телефон. Я знаю номер.
— Нет уж, — сказал отец. — Других людей мне сюда вмешивать нечего. Особенно если ты такого дурака свалял. И что я ей скажу, если позвоню?
— Ты просто спроси, что говорил Колин. — Теперь он смотрел прямо на Колина.
— Она, наверно, ослышалась, — сказал отец. — Да и в любом случае я не согласен, чтобы ты ее сюда водил. И не думай.
— Но он же наврал, — сказал Стивен.
— Нет, просто ты не то услышал, — упрямо сказал отец и выкатил велосипед.
— Раз так, я тут не останусь, — сказал Стивен.
— Останешься, — сказал отец. — Шагу отсюда не сделаешь.
— Нет, — сказал Стивен. Он надвинулся на отца. Лицо у него было багровым. Они ни разу не видели его в таком состоянии.
— Ну, так дал бы ему в морду, — сказал отец с внезапной злобой и кивнул на Колина.
— Не хочу я с ним драться, — сказал Стивен.
— Твое дело, только нам уж тогда не жалуйся, — сказал отец. Он застегнул пальто, вскинул на плечи рюкзак, выкатил велосипед во двор и зажег фонарики.
— Этого я тебе не прощу, — сказал Стивен, поворачиваясь к Колину. — Что ты наврал.
— А дома ты останешься, — сказал отец. — Что это еще за ночевки у чужих людей.
— Я тут больше оставаться не хочу, — сказал Стивен.
— А тебя не спрашивают, — сказал отец.
Он продолжал смотреть на них. За неделю отдыха он загорел. Козырек кепки заслонял его лицо. Словно маленький мальчик глядел на дверь дома.
— Вот так, — сказал он, потом перевел взгляд на мать, сел на велосипед и уехал.
— Я не хочу приходить сюда ночевать, — сказал Стивен. — Я не хочу жить с ним в одном доме.
— Ну, довольно, — сказала мать. — Утром ты про все забудешь.
— Нет уж, этого я никогда не забуду, — негромко сказал Стивен, снимая куртку. — Я этого никогда не забуду, мама. И никогда не забуду, — добавил он, — как ты ему поддакивала.
— Я никому не поддакивала, — сказала мать.
— Тогда позвони Блэкли и спроси у них. Они живут тут, в поселке, — сказал Стивен.
— Звонить я никуда не буду, — сказала мать.
— Конечно, — сказал Стивен. — И я знаю почему.
— Вот как? Так почему же?
— Ты знаешь, что это правда, вот почему. Он нас всех поотравлял.
— Как только у тебя язык поворачивается говорить такое? — сказала мать.
— Почему ты спускаешь ему, мама? — сказал Стивен. — Он соврал, и этого я ему никогда не прощу.
Он поднялся к себе в комнату, где давно уже спал Ричард.
— Ты что-нибудь ему сказал? — спросила мать, когда они услышали шаги Стивена у себя над головой.
— Нет, — сказал он.
— Но ведь что-то было сказано.
— Я сказал, что он не должен был приходить домой. То есть приводить в пустой дом девушку, если он ее уважает.
— И больше ты ничего не говорил?
— Нет, — сказал он.
Мать отвернулась. В доме стояло странное безмолвие. Она нагнулась к огню.
— Может быть, тебе не следовало вмешиваться. Пусть бы он сам решал. Если ты правда сказал ему только это.
— Не понимаю. Что еще мог я ему сказать?
— Не знаю, — сказала она и добавила: — Но Стивен никогда не лжет.
— Неужели?
— Да, — сказала она. — Ему это не нужно.
— То есть ты так думаешь.
— Почему ты так ожесточен, Колин? — сказала она. — Прежде ты таким не был. Ну, да я знаю причину, — добавила она.
— Никакой причины нет. И я вовсе не ожесточен, — сказал он.
— Да? — сказала она и повернулась к двери. — Я иду спать, — добавила она. — Если ты еще посидишь, погаси свет.
— Мама, — сказал он, но, когда она обернулась к нему, он добавил только: — Дай я тебя поцелую.
— Спокойной ночи, — сказала она.
Он поцеловал ее в щеку.
— Почему все вот так? — сказал он.
— Я не знаю, чего ты добиваешься, — сказала она.
— Я стараюсь быть хорошим.
— Да? — сказала она.
— Но не в том смысле, как это понимаешь ты, не хорошим в кавычках.
— Что такое хороший в кавычках? — спросила она.
— Например, Стивен.
— Не трогал бы ты Стивена, — сказала она. — Он никогда тебе ничего плохого не хотел сделать.
— Знаю, — сказал он. — Я это и имею в виду. Для него это вовсе не так хорошо.
Мать закрыла глаза.
— Я не знаю, что со мной, — сказал он. — Я чувствую, что живу на какой-то новой основе, но на какой, не понимаю, — добавил он.
— Не стоит так все принимать к сердцу, — сказала она. — И оставь Стива в покое. У меня нет сил выносить эти ссоры, — добавила она. — Я думала, после отдыха у нас все наладится.
Он слышал, как она легла спать. И продолжал сидеть у огня.
Потом с лестницы донесся шорох.
Вошел Стивен в пижаме, взял свою куртку со стула, перекинул через руку и шагнул к двери.
— Зачем ты соврал, Колин? — сказал он.
— Я не врал.
Стивен смотрел на него, словно постигнув какую-то страшную истину. Глаза у него расширились, в них отразилось пламя очага.
— А ты-то зачем явился сюда хныкать? — добавил он.
— Да. Я понимаю. Мне совсем не надо было возвращаться, — сказал Стивен.
— А? Чего ты испугался? — сказал он и посмотрел на брата, который стоял в дверях, точно ребенок.
— Я уйду, как только подыщу работу, — сказал Стивен. — Может, даже завтра что-нибудь найду. — Он закрыл за собой дверь.
С лестницы донесся звук его медленных шагов, раздался голос матери, потом заскрипела кровать.
Ему снился Эндрю: сначала он был старше его, потом сделался моложе. Он стоял у окна и заглядывал внутрь, потом уходил все дальше по дороге, а он бежал и звал: «Эндрю! Эндрю!», а когда он не обернулся, начал звать: «Стив! Стив!» — и увидел его лицо — похожее и непохожее во сне, это было лицо его младшего брата.
Ученики смеялись.
— А еще, сэр? — сказал один из мальчиков.
— Брюхо! — хором подсказал класс.
Они опять засмеялись, весело, безудержно, глядя на него с восхищением.
— Сэр! — И снова раздался взрыв смеха.
— Правда, — сказал он, — подразумевал я нечто совсем другое. И вот что: давайте послушаем музыку, а вы записывайте все, что чувствуете.
Он включил проигрыватель.
В классе наступила тишина. Из соседних классов донесся смутный ропот голосов. Зазвучала музыка. Ученики сосредоточенно смотрели перед собой.
Несколько минут спустя в класс вошел Коркоран.
— Что это?
— Сочинение, — сказал он.
— По-моему, как-то больше похоже на музыку. — Директор показал на стоящий перед ним проигрыватель. — И что за музыка? — добавил он.
— Джаз.
— Джаз? Что за джаз? Какое отношение джаз имеет к музыке?
— Они записывают, — сказал он, — чувства, ассоциирующиеся у них с музыкой.
— Какие чувства? — сказал директор. Его коренастая фигура налилась негодованием, глаза выпучились, от шеи по щекам поползла краснота. Колин глядел, как они лиловеют. На макушке у него вздулись вены.
— Я не знаю, какие это чувства, пока они их не выразят, — сказал он. — И они, вероятно, пока тоже не знают, — добавил он.
Директор отвернулся к доске, так, чтобы ученики, которые глядели на него как зачарованные, не могли расслышать его слов.
— Ничего подобного я в моей школе не допущу. Наша цель — образование, просвещение, а не пропаганда легковесной ерунды.
— Может быть, вы посмотрите их сочинения? — сказал он.
— Пока этот визг не прекратится, я ничего смотреть не буду, — сказал директор.
— Я его не выключу, — сказал он.
— Что?
— Если вам это нужно, так сами и выключайте. Пусть ученики посмотрят.
Глаза у директора потемнели, превратились в одни зрачки, на щеках выступили белые пятна, словно кровь отхлынула от лица. Он уставился на Колина злобно и завороженно.
— Будьте добры после урока зайти ко мне в кабинет.
— Хорошо, — сказал он, — если выкрою время.
— Как-нибудь выкроите. Я скажу мистеру Дьюсбери, чтобы он подменил вас.
— По-моему, у него у самого урок.
— Да? Так я пришлю кого-нибудь из старшеклассников.
— Боюсь, они не умеют держать класс в руках.
— Зайдете ко мне в кабинет на большой перемене, — сказал директор.
— Хорошо, — сказал он.
— И я хочу, чтобы эта музыка прекратилась.
— Тогда вам придется самому выключить проигрыватель.
— Я хочу, чтобы она прекратилась. — Директор пошел прямо к двери и закрыл ее за собой.
Через некоторое время коренастая широкоплечая лысая фигура вновь появилась в коридоре. Колин усилил звук.
Он увидел, как багровое лицо директора побагровело еще больше, увидел, как он на мгновение замедлил шаг у двери, а потом решительно, почти теряя равновесие двинулся дальше.
Когда ближе к концу дня он вошел в кабинет Коркорана, директор сидел за письменным столом и словно бы сосредоточенно проглядывал ворох бумаг.
Колин сел на стул и приготовился ждать.
— Я приглашал вас сесть? — спросил директор, не поднимая головы.
— Нет, — сказал он. — Но если у вас хватило грубости не заметить, что я вошел, у меня хватит грубости сидеть, как я сижу.
— Послушайте, — сказал директор, вставая. Он вышел из-за стола. — Не знаю, какая муха вас укусила, Сэвилл, но подобное поведение не принесет вам ничего хорошего ни теперь, ни в будущем.
— Об этом предоставьте судить мне, — сказал он.
— И не подумаю, черт побери, — сказал директор. — Судить об этом буду я. Я руковожу этой школой, а не вы.
— Но, к несчастью, преподаю в ней я, — сказал он. — И я не могу допустить, чтобы вы или кто-нибудь еще являлись на мой урок без разрешения и пытались его сорвать.
— Я могу приходить, куда и когда считаю нужным, — сказал директор.
— Но не на мои уроки, — сказал он. — Да и ни на какие другие, если бы вы уважали своих учителей.
— Каких учителей?
— Своих.
— По-вашему, это учителя? Да половина из них никого и ничему научить не способна. Половина из них, — добавил он, — не сумела бы мне подметки прибить.
— Вы так у них над душой стоите, что удивительно, как они вообще пытаются что-то делать, — сказал он.
— Послушайте, — еще раз сказал директор, однако глядя на него с некоторой растерянностью. — Тут руковожу я, — добавил он через несколько секунд.
— Если у вас есть какие-то замечания относительно того, как я преподаю, вы прекрасно могли бы делать их не на уроке. Каким авторитетом буду я пользоваться у детей, если вы будете вальсировать по классу, когда вам вздумается?
— Я не вальсировал, я просто вошел.
— А мне показалось, — сказал он, — что вы вошли точно в такт музыке.
— Послушайте, — опять сказал директор и снова с недоумением уставился на него.
— Музыка на уроках полезна. Я предпочитаю всесторонний подход к ним.
— Подход к ним есть только один. Я-то знаю: я учу здесь больше тридцати лет! — Коркоран пнул воздух носком туго зашнурованного ботинка. — Вот такой. Вот как я подхожу к этим хулиганам.
— Я с этим не согласен.
— А руки в ход пускаешь, парень. Я сам видел.
Колин молча ждал продолжения.
— Что сказал бы инспектор, если бы вошел в класс и услышал эту дребедень?
— Меня совершенно не интересует, что он сказал бы.
— Я-то знаю, что он сказал бы. И что он сказал бы мне, — добавил он.
— Вы что, его боитесь?
— Я никого не боюсь, — сказал директор и быстро вернулся за свой стол. — Ни-ко-го — никого! — Он взял ручку и расстроенно посмотрел на ворох бумаг.
— Я намерен и дальше использовать музыку, — сказал он. — Причем всякую. Если вы против, вам придется меня уволить.
— Послушайте, Сэвилл. — Он опять посмотрел на него через стол. Потом добавил: — Вы кофе пили?
— Да, — сказал он.
— Даже кофе тут скверный. Я знавал школы, где девочки варили такой кофе, что большая перемена была одно удовольствие. А наши девочки, я думаю, даже яйцо вкрутую сварить не сумеют.
— Может быть, уйти надо вам, а мне — руководить здесь, — сказал он. — Я кофе большого значения не придаю.
— И я, — сказал директор. — Зато я придаю значение тому, чтобы школа эффективно обеспечивала практическое образование, а эти ваши розовые слюнки, эти расхлябанные сентиментальные мотивчики тут не требуются — ни мне и никому другому, — добавил он.
Колин молча закинул ногу на ногу.
— Послушайте, я считаю вас очень хорошим учителем, — сказал директор. — Вы заносчивы и грубы, но это только ваша молодость: несколько лет того, через что прошел я, и все ваши острые углы пообобьются. Можете мне поверить. Еще несколько лет вроде тех, через которые прошли некоторые из нас, и вы побежите в упряжке как миленький и будете полагаться на опыт, а не на невежество и добрые намерения. У нас у всех были добрые намерения. У меня были добрые намерения, у мистера Дьюсбери были добрые намерения, у миссис Уолсейк были добрые намерения. Но к несчастью, от добрых намерений сельдерей не растет, свекла не краснеет и репа слаще не становится: тут требуются практические меры, чтобы они знали, сколько будет четыре плюс четыре и что происходит с водой, когда они кипятят чай. В конце-то концов, — добавил он, — что ждет этих детей дальше? После окончания школы почти все будут работать если не на шахте, то на заводах, мостить дороги, рыть ямы и чистить канавы, а девочки пойдут на фабрики, повыходят замуж и народят детей, а нам придется их обучать. Так при чем тут музыка? Пусть слушают музыку дома по вечерам, да многие из них ничего другого и не делают. От тебя одно требуется: научить их читать квитанции, считать недельную зарплату и писать заявления о приеме на работу. А что сверх этого, так они тебе спасибо не скажут, да и их родители тоже, если ты будешь забивать им головы тем, что на хлеб вместо масла не намажешь. Хлеб с маслом — вот единственная мера вещей, понятная этим людям.
— Следовательно, вы делаете все, чтобы они не сошли с пути.
— С какого пути? С истинного?
— Учите их смиряться с положением, которого сами на их месте не потерпели бы.
— Да, я тупицей не был, — сказал директор. — Собственно, против тупиц я ничего не имею, но какой смысл учить их высшей математике или открывать перед ними красоты Шекспира, если они «маргарин» грамотно написать не умеют? — добавил он.
— В чем заключаются красоты Шекспира? — спросил Колин.
— Да, — сказал директор, — у меня на это никогда времени не было. В отличие от вас меня заботили практические вопросы. — Он помолчал. — Вы еще скажете, что я ничего хорошего не сделал.
— Мне было бы приятней думать, что сделали.
— Половина детей здесь — дети тех, кого я сам учил. Да не половина, а все три четверти, — добавил директор.
— Из этого еще не следует, что вы сделали хоть что-то хорошее.
— А вы их спросите! Зачем бы тогда они своих детей отдавали сюда?
— А куда же им их отдавать? — сказал он. — Чтобы посылать детей в частные школы, их доходов все-таки не хватает.
— Не по чину ты умен, — сказал директор. Он снова встал, подошел к окну и посмотрел на голые клумбы. — Если ты и дальше будешь включать на уроках музыку, так у меня другого выхода не будет, — добавил он.
— Пожалуй, я принесу удлинитель и поставлю проигрыватель в коридоре.
— Да кто вы такой, Сэвилл? Коммунист? — Он отвернулся от окна, стремительно прошел по кабинету и встал перед ним. Колин неторопливо поднялся на ноги, словно готовясь отразить удар.
— Да, — сказал он.
Коркоран недоверчиво посмотрел на него. Его лицо из красного стало мертвенно-бледным.
— Коммунисты пластинки не крутят. Они утилитаристы вроде меня, — сказал он. — А вот ренегатов, таких, как вы, они ставят к стенке. Будь вы коммунистом, — добавил он, — вы бы тут не учили.
— А где бы я учил?
— Да в какой-нибудь заумной школе. А не торчали бы в шахтерском поселке — ведь узнай они, что ты коммунист, они бы тебя отсюда пинками вышвырнули.
— В местном отделении профсоюза горняков есть коммунист, — сказал он.
— Профсоюз горняков? Да тут никто в профсоюзе не состоит. Назови мне шахтера, который за двадцать пять лет хоть раз побывал на профсоюзном собрании. Это они предоставляют маньякам вроде тебя, коммунистам, которые воображают, будто пользуются влиянием, и не понимают, что консервативные, инертные рабочие, на которых они пробуют опираться, попросту их используют — используют людей вроде вас, чтобы вы за них агитировали и произносили речи. Консервативнее людей, чем шахтеры, и вообразить трудно. Я-то знаю. Я прожил здесь пятьдесят лет — мой отец работал в шахте, а брат и сейчас работает. Я бы и сам торчал под землей, если бы не родился башковитым. И с тобой было бы то же. Говорят тебе: они интересуются вовсе не тем, чтобы изменить общество, а только тем, чтобы получать больше денег, и для этого готовы использовать хоть коммуниста из профсоюза, хоть Кинг-Конга.
Колин стоял у стены, а директор, стуча кулаком по ладони, расхаживал по кабинету взад и вперед, словно вообще про него забыл.
— Ты идеалист, как и все мы в молодости. Ты хочешь изменить мир, да только мир-то меняться не хочет: ему требуется просто хлеб с маслом, и предпочтительно в первую очередь, хотя можно и наравне со всеми, лишь бы его получить. Понизь здесь заработную плату, и увидишь разницу! А немножко повышай ее каждый год, и все останется как есть. Потому-то у коммунистов здесь дело не ладится. Вот если бы они старались снижать шахтерские требования, тогда у них что-нибудь еще могло бы получиться: революция началась бы завтра утром. А вместо этого сентиментальные путаники вроде тебя думают, что раз они рабочие, то живут в таких же условиях, как в прежней России. Да у нас самый последний бродяга живет лучше, чем в любой другой стране, какую ни назови. У нас свобода, знаешь ли. Свобода ничего не делать, если не хочешь, и скажи спасибо, что они не хотят.
— Вы же один из них, — сказал он.
— А ты нет?
— Нет.
— Значит, выше всего этого?
— Нет, — сказал он. — Но я знаю, что все могло бы быть по-другому.
— В каком же это смысле?
— Люди могли бы быть другими. Дети могли бы быть другими.
— Так ведь им бы все равно пришлось работать в шахте, — сказал директор. — В шахте или на фабрике. И жениться, потому что так уж человек устроен. И все равно пришлось бы жить на гроши — так чем тут поможет музыка, или стихи, или книжки, хоть ты и любишь про них распинаться? Они у тебя до того утонченными станут, что вообще в шахту не пойдут.
— Ну и очень хорошо, — сказал он.
— Угу! Ты вот это повтори, когда дома топить будет нечем или в насквозь промерзшем классе. Навидался я таких идеалистов: чуть какая трудность, первыми визжать начинают.
— По-моему, подобное положение вещей можно изменить, — сказал он. — Пожалуй, нам всем следовало бы работать в шахте по очереди.
— По очереди?
— Три месяца в году вам вреда не принесли бы. И никому вреда не принесли бы, если уж на то пошло. А вот польза для нас всех, вероятно, была бы большая.
— Ты, никак, совсем ополоумел: тебе дать волю, так ты нас улицы мести пошлешь.
— А что?
— А то, что у меня квалификация другая. То, что я умею и могу, с неба не падает, знаете ли.
— Так преподавать же нетрудно, — сказал он. — И возможно, если вы три месяца пометете улицы, то преподавать будете даже лучше. — Теперь и он поглядел в окно. — А подмести ее не мешало бы, — добавил он.
— Ну, возможно, у вас есть время вести философские дискуссии, но у меня его нет, — сказал директор, быстро возвращаясь к столу.
— Если не в школе, то где же еще их вести? — сказал он. — И если не с главой педагогического учреждения, то с кем же? — добавил он.
— Ну, так как: музыки больше в классе не будет или вас?
— Это вам решать, — сказал он.
— Тогда боюсь, что вас, — сказал директор. — Хотя мне и жаль. С вашим приходом регби у нас в школе прямо расцвело. Да только, черт побери, жизнь состоит не из одного регби. Считайте, что вы получили предупреждение об увольнении через два месяца и уйдете по окончании триместра. Я уведомлю районный отдел.
— Ну, а рекомендация? — сказал он.
— Для чего?
— Для устройства на новое место.
— Ты, значит, думаешь и дальше преподавать? — спросил директор, уставившись на него.
— Меня научили только этому, — сказал он.
— С твоими идеями ты нигде не удержишься, — сказал он. — Я либеральный директор. А вот попадешь к такому, у которого свои идеи есть, и твой проигрыватель вместе с пластинками полетит в окно. — Он постучал по зубам колпачком ручки. — Рекомендацию я напишу, — добавил он. — Укажу на «идейную независимость, редкую в нашей профессии», а уж они пусть толкуют, как хотят.
— В общем-то, мне жаль уходить, — сказал он.
— Я упомяну, что вы уходите: пусть сложатся вам на подарок.
— Мне никакого подарка не надо, — сказал он.
— Так я же по-хорошему, — сказал директор. — Просто у меня есть мои обязанности. Выполняю я их, худо ли хорошо ли, уже сорок лет. Насколько помню, никто еще не жаловался. Вот исходя из этого опыта я считаю, что вы кругом неправы.
В конце коридора прозвенел звонок.
— Ну, я пойду в класс.
— Очень хорошо. — Директор снова взялся за бумаги и достал из ящика трубку. Вдруг он поднял голову. — Да, кстати, перед уходом внеси деньги за кофе. А то двое-трое взяли да и позабыли — они идут по статье мелких расходов, и в районном отделе с меня требуют отчета за каждый пенс. И на стену лезут, если хоть на полпенса не сойдется.
— Хорошо, — сказал он. — Я не забуду.
— Ладно, — сказал директор и, покраснев, когда Колин улыбнулся, разжег трубку.
— Тебе хорошо было? — сказала она.
— Да.
— Тебе трудно угодить.
— Ты думаешь?
— Я — да. А как другие, не знаю.
Была суббота. Она лежала на двуспальной кровати — ее сестра и зять собирались вернуться только к вечеру.
— В любом случае, — сказала она, — они больше не хотят, чтобы я жила у них.
— Почему?
— Им не нравится, что я вожу в дом мужчину.
— К себе я этого отнести не могу.
— Да, — сказала она. — Ты еще мальчик.
— Я имел в виду, — сказал он, — я не просто какой-то мужчина с улицы.
— Они считают, что, раз я хочу такой свободы, мне следует снять свою квартиру.
— И ты снимешь?
— Да, — сказала она. — Думаю, что да.
За несколько дней до этого к нему на улице подошел незнакомый человек.
Остановившись перед ним на тротуаре, он спросил, как его зовут, и, убедившись, что он действительно Колин Сэвилл, сунул ему в руку конверт.
В конверте, на котором его фамилия была написана печатными буквами, лежала записка, написанная опять-таки печатными буквами: «Оставите вы мою жену в покое или нет?»
И сегодня он показал ей эту записку.
Она глядела на нее довольно долго.
— Наверное, это Дерек, — сказала она. — Совершенно в его духе. — Она положила листок. — А он что-нибудь сказал? — добавила она.
— Просто спросил, как меня зовут, и дал мне конверт.
Теперь, вставая с постели, она сказала:
— Переехать мне надо в любом случае. Дерек вполне способен явиться сюда, если решит, что так для него лучше.
— А почему ты не хочешь вернуться к нему?
— Ты не знаешь Уолтонов. И его не знаешь. Это семейство пожирает все и вся. Если он не сумел вырваться, где уж мне? Их так много, и интересы их так тесно связаны!
Он смотрел, как она одевается. В ее движениях была привычная точность, словно она была здесь одна: она не пыталась прятать свою наготу.
— Ты бы тоже оделся. Они вернутся не позже чем через час.
— Они знают, что ты пользуешься их кроватью? — сказал он.
— Не думаю.
— И совесть тебя не мучит?
— Нет.
— Это для тебя как-то важно? Кровать твоей сестры?
— Ну и что?
— Я просто подумал.
Она поглядела на него с удивлением.
— У нас очень хорошие отношения.
— Она старше или моложе?
— Старше.
Они перешли в ее комнату. Окна выходили на луга за домом. Было как-то странно находиться в чьем-то доме, не имея никакого отношения к хозяевам. Внизу раздался шум подъезжающего автомобиля, и она пошла встретить сестру.
Когда она поднималась назад по лестнице, он услышал ее голос:
— У меня Колин. — Потом она добавила потише: — Я просто хочу тебя предупредить.
Ответа сестры он не услышал, но муж сказал что-то невнятное.
Она принесла на подносе чай. Они сели на узкую кровать.
— А почему мы не можем пить его внизу? — сказал он.
— Морин против всего этого, — сказала она. — Так зачем же навязываться.
Через некоторое время они вышли на улицу и свернули в парк. Какая-то вялость охватывала его теперь всякий раз, когда он гулял с ней. Вначале это ему нравилось — главным образом потому, что она была замужней женщиной. Странная галлюцинация больше не повторялась, и он не стал ничего объяснять. Увиделся он с ней только через две недели, и оба держались так, словно той сцены в спальне ее сестры не было вовсе. В школе Кэллоу избегал его. Почти каждый вечер он уезжал в город на мотоцикле позади Стивенса и встречался с Элизабет либо в доме ее сестры, либо в каком-нибудь условленном месте на центральной площади или возле аптеки ее отца.
Часто они уходили в поля и лежали, обнявшись, где-нибудь в тени живой изгороди.
— Дерек ищет доказательств твоей неверности, как ты думаешь?
— Зачем?
Они подошли к озеру и остановились напротив статуи. Она начала бросать уткам захваченный с собой хлеб.
— Для развода.
— Тебе не хочется фигурировать в бракоразводном процессе? — сказала она.
— Не знаю, — сказал он. — Я об этом не думал.
— Не беспокойся. Ты слишком поздно появился на сцене.
Однако ее голос стал жестким, и он не знал, адресована ли эта жесткость ему или ее мужу.
У нее были тонкие руки и матовая кожа, почти прозрачная, словно светящаяся изнутри, — ничего подобного он прежде ни у кого не видел. Иногда, когда они встречались, щеки у нее отливали легким румянцем, а иногда кожа становилась тусклой или нежно прозрачной.
— Поскольку ты анархист, я не думала, что для тебя это может иметь значение. То есть открытое нарушение условностей, — сказала она.
— А я анархист? — спросил он. О том, что его увольняют из школы, он рассказал ей в тот же день, когда это произошло. Она как будто испытала некоторое облегчение — потому что чувствовала себя неловко перед Кэллоу, решил он.
— Во всяком случая, ты не коммунист, что бы ты там ни наговорил своему мистеру Коркорану. — Немного погодя она сказала: — Уж скорее ты кальвинист. — А когда он засмеялся, добавила: — Но ведь это так? Чему, собственно, ты прилежишь? Я бы сказала, что психология у тебя средневековая, феодальная.
Она бросила уткам последнюю горсть крошек.
— Ты говоришь так, словно это преступление, — сказал он.
— Не знаю, — сказала она. — Возможно, это действительно преступление.
— А мне кажется, такого рода мироощущение не редкость, — сказал он. — Ты и сама им грешишь, — добавил он, — разве нет?
— Сомневаюсь, — сказала она. — Видишь ли, дорогу для меня проложили другие, а ты должен был пробиваться сам. — Секунду спустя, поглядев на него, она добавила: — Теми способами, какие были в твоем распоряжении.
Позади них, заложив руки в карманы, шел какой-то мужчина — когда они остановились покормить уток, он тоже остановился, разглядывая птиц, улыбаясь Элизабет и кивая головой.
Теперь, когда они пошли дальше, он снова пошел за ними.
В ее глазах опять появилось насмешливое, чуть нарочитое выражение. Опираясь на его руку, она внимательно на него поглядывала.
— В конечном счете любое достижение индивида идет на пользу всем, — сказал он.
— Да? — Она продолжала улыбаться. — Это похоже на кредо, сформулированное постфактум.
— Нет, — сказал он и мотнул головой. — Я бы так объяснил почти все, если не все, что произошло.
— С тобой? — спросила она.
— Да, — сказал он. — Или с любым, кто на меня похож.
Некоторое время они молча поднимались по узкой дорожке, которая вела на вершину холма.
Мужчина, который шел за ними, свернул на нижнюю тропу.
— В сущности, ты никуда не относишься, — сказала она. — Ты не настоящий учитель. Ты, в сущности, ничто. Ты не принадлежишь ни к какому классу, так как живешь среди членов одного класса, реагируешь на жизнь как представитель другого и не чувствуешь симпатии ни к одному.
— Тебе неприятно, что я тебя настолько моложе? — спросил он резко, убежденный, что именно это лежит в основе ее рассуждений.
— Не знаю, — сказала она. — Я ничего подобного не ожидала.
— От кого не ожидала?
— От себя. Я настолько тебя старше, что гожусь, то есть почти гожусь, тебе в матери.
— Да, — сказал он. — Пожалуй.
Они продолжали подниматься по склону. Внизу, в долине, блеснула излучина озаренной вечерним светом реки.
— Я рада, что ты уходишь из школы, — сказала она, когда они добрались до вершины.
— Почему?
— По-моему, так для тебя лучше.
Некоторое время спустя она добавила:
— Филип с тобой говорил? То есть в эти дни?
— Один раз, — сказал он.
Кэллоу действительно как-то вечером после конца уроков подошел к нему, словно прежде Стивенс, и сказал вымученно дружеским тоном:
— Из-за меня ради бога не уходите.
— Дело не в том, — сказал он. — Меня уволили.
— Кто? — спросил Кэллоу недоверчиво.
— Коркоран.
— Он? Неужели? — сказал Кэллоу так, словно заподозрил, что директор наделен проницательностью, в которой он прежде ему отказывал. Впервые он прямо выдал, насколько неприятны ему были отношения Колина с Элизабет.
— Спросите у него, — сказал Колин.
— Но почему?
— За музыку.
— За музыку?
— И за стихи. Он считает, что все это напрасный перевод времени.
— Ну, его взгляды я знаю, но их еще мало, чтобы вас уволить, — сказал Кэллоу.
— Зато моих вполне достаточно, — сказал он.
— Вы что, собрались в большевики? — сказал Кэллоу, успокаиваясь, едва выяснилось, что Колин получил по заслугам.
Элизабет засмеялась. Ее манерность всегда становилась особенно заметной, когда они гуляли. Манерность и некоторая чопорность — глядя на них издали, наблюдая непринужденность их общения, посторонний человек мог счесть их супружеской парой. Один раз в магазине его приняли за ее сына. «А вашему сыну нравится?» — спросила продавщица, которая показывала ей платье, и Элизабет засмеялась, но поглядела на него с некоторой тревогой. Хотя она никогда не отвечала на его вопросы о ее возрасте, он догадывался, что ей не меньше тридцати пяти.
— Я иногда вижусь с Филом, — сказала она.
— А как понимать это «иногда»? — сказал он.
— Всякий раз, когда он мне звонит. — Она поглядела на него.
— И часто это бывает?
— Всякий раз, когда у него появляется настроение. — Она добавила: — К тебе он относится так же, как к моему мужу.
Некоторое время она молчала и почти перестала опираться на его руку. Дорожка вилась среди деревьев, заслонивших вид на долину.
— Ты рассердился?
— Нет, — сказал он.
— Просто мне порой бывает страшно, — сказала она.
— Чего?
— Не знаю, — сказала она и покачала головой.
Мужчина, который пошел низом, появился теперь на дорожке впереди, где она выводила на широкую лужайку. Внизу лежала долина. Река, поворачивавшая здесь от парка, вероятно, выглядела точно так же из окон разрушенного дома позади них.
— То, что ты теперь называешь средневековым мироощущением, прежде ты называла отчуждением, — сказал он.
— Не я, а Филип.
— Это практически одно и то же, — сказал он.
— А как бы он определил это? — спросила она. — Связь с замужней женщиной?
— Наверно, назвал бы симптоматичным явлением.
Мужчина тоже остановился и начал смотреть на долину.
— В отличие от связи с женщиной соответствующего возраста.
— А что такое соответствующий возраст? — спросил он.
— Более близкий к твоему, — сказала она.
— Но ведь ты же не настолько стара, Лиз? — сказал он.
— Нет. Пожалуй, нет, — сказала она, но не сразу, точно он ее испугал.
Они начали спускаться в сторону города — он вставал перед ними на гребне своего холма.
— Мы гуляем или идем куда-нибудь? — спросил он.
— Ну, — сказала она, — пойдем в кино.
Позднее она проводила его до автобуса.
После войны на пустыре за центральной площадью построили автобусную станцию. Они стояли под бетонным навесом, где гулял ветер. Ее автобус отходил от соседней остановки.
— Я начинаю подыскивать квартиру, — сказала она. — Ты не хотел бы принять в этом участие?
— Каким образом?
— Помочь мне выбрать.
— Пожалуй, не стоит.
В этот поздний час на автобусной остановке почти никого не было. Время от времени подъезжал или отъезжал совсем пустой автобус. Под двумя-тремя навесами жались крохотные очереди.
— Мне кажется, тебе не следует на меня полагаться, — сказал он.
— Да, не стоит, — сказала она, а когда подъехал его автобус и из дверей начали выходить пассажиры, добавила: — Я поговорю с Дереком. Он не имеет ни малейшего права обращаться к тебе.
— Что ты ему скажешь?
— Чтобы он не вмешивался не в свое дело.
— Мне это, в общем-то, все равно, — сказал он. Она прижималась головой к его плечу, и прежде, чем войти в пустой автобус, он нагнулся и поцеловал ее.
Мистер Риген умер. Как-то под вечер он упал без сознания у себя в огороде. Последнее время его прогулки ограничивались двором позади дома и узкой полоской огорода, упиравшейся в пустырь. Каждый день в хорошую погоду соседи видели, как он бредет по заросшей дорожке к забору и смотрит на детей, бегающих по пустырю. В этот день отец, который после чая стоял в дверях кухни, вдруг крикнул:
— Брайен упал! — И побежал через двор.
Они с мистером Шоу внесли его в дом.
Больше он во дворе не появлялся и через два дня умер.
— Редкий был человек, — сказал отец. — С качествами, какие тут мало у кого есть, — добавил он. — И с сыном такая трагедия.
Майкл теперь прятался от людей. Если он и появлялся на улице, то лишь по вечерам — шел один в кино или шагал до станции и обратно, словно куда-то уезжал и откуда-то возвращался.
— Он хотел сделать из Майкла настоящего бойца. Чтобы взял мир за глотку.
— Нельзя заставить человека стать таким, каким он не родился, — сказала мать.
— По-твоему, я этого не знаю! Уж кому это знать, как не мне, — сказал отец.
На похоронах он шел за гробом рядом с миссис Риген — у нее не было родственников. Он вернулся красный от выпитого и сказал:
— Нет, он все-таки не совсем бесхребетный. Знаете, что он учудил в «Розе и короне»? Влез на стол и давай играть на скрипке.
— Да кто он? — спросила мать.
— Майкл.
А несколько дней спустя в заднюю дверь постучала миссис Риген и, когда Колин открыл, протянула ему пакетик, туго завязанный бечевкой.
— Мистер Риген хотел, чтобы это было у вас, Колин, — сказала она.
— Я очень тронут, — сказал он.
— Он всегда выделял вас, — сказала она почти торжественно. Ее узкое лицо покраснело, темные, близко посаженные глаза смотрели на него, сойдясь к самой переносице. — «Единственный самородок во всей этой трухе», — добавила она, и в ее голосе появилось что-то от интонации мистера Ригена.
Он смотрел, как она, сгорбившись, идет к своему крыльцу странной семенящей походкой.
— Нет, вы только поглядите! — сказал отец, протянувший ему ножницы, когда он вернулся с пакетом к столу.
Внутри была золотая цепочка, которая неизменно украшала жилет мистера Ригена.
— Значит, это все-таки был не булыжник, — добавил отец, глядя на плоскую золотую звездочку, прикрепленную к концу цепочки.
На ней была выгравирована латинская надпись.
— Aut vincere aut mori [6],— прочел он.
— Выходит, он тебя высоко ставил, — сказал отец, глядя на цепочку. — Отличный он был человек. Родись он в мире получше нашего, как бы он жизнь прожил!
— И мы бы все тоже, — сказала мать.
— Угу, — сказал отец. — Но только уж он — особенно. Он умел узнать поэта. У него был глаз. И он всегда отстаивал свое мнение.
— Да, сосед он был хороший, — сказала мать и достала платок, чтобы утереть глаза.
Через две недели миссис Риген заболела. Ее положили в больницу. Мать поехала навестить ее, по миссис Риген там уже не было — ее перевели в психиатрическую клинику.
— Не понимаю, — сказал отец, которого это потрясло даже больше, чем смерть Ригена. — Ведь она же вот тут стояла всего несколько дней назад. А потом я с ней на улице разговаривал. Я же на похоронах все время возле нее был. И еще подумал тогда, что она молодцом держится.
— Да, но ведь она его обожала, — сказала мать. — Вознесла на пьедестал и верила, что он всегда все делает правильно.
— Ну, значит, нам тут такая опасность не грозит, — сказал отец. — Да уж, совсем не грозит.
Несколько дней Майкла никто не видел. Затем как-то вечером во всех окнах его дома вспыхнул свет. У дверей стояла машина. Изнутри доносились звуки музыки и хохот.
На другой день занавески оставались задернутыми, но часа в два на заднее крыльцо вышли трое мужчин. Они постояли в крохотном огороде, жмурясь от солнца, потом перелезли через забор и расположились на пустыре. Немного погодя к ним присоединился Майкл, совсем бледный, словно он только что проснулся. Он неуклюже перевалился через забор и под хохот остальных упал на траву по ту его сторону.
— Хулиганье какое-то, — сказала мать. — Бедный Майкл. Если бы его матери довелось это увидеть, она бы с ума сошла.
— Так она ведь уже сошла, — сказал отец. Он стоял в дверях и с интересом наблюдал за шумной компанией на пустыре: они боролись, и Майкл, засучив рукава на худых белых руках, пытался бороться наравне с остальными.
В следующую субботу эти трое опять приехали. Приезжали они и по будням, иногда их бывало четверо. Четвертой была женщина. Мистер и миссис Шоу пожаловались на шум. Майкл вышел во двор без пиджака, с бутылкой в руке и пытался извиняться, а в дверях хохотала остальная компания.
По вечерам, кроме того, приезжали двое-трое других мужчин, а иногда та же женщина. Потом Майкл исчез на две недели. По слухам, его видели в соседних городках. Говорили, что его забрали в полицию.
Однако когда он в конце концов вернулся, на нем был костюм и шляпа, шея небрежно обмотана шарфом.
— Наверно, ему кое-что от матери осталось, — сказал отец. — Сбережения, которые она по грошам скопила. Только рановато они к нему в руки попали. Может, мне сходить поговорить с ним?
— И не думай! — сказала мать.
— Так в память Брайена. Он был мне хорошим другом, — сказал отец и как-то вечером, когда Майкл был дома, пошел к нему.
Он вернулся через час.
— А ведь я прежде никогда у них дома не бывал, — сказал он. — И теперь жалею, что зашел.
Отец сидел у огня бледный, сдерживая дрожь.
— Он всю мебель продал, — добавил он. — В доме только кровать да один стул. Наверно, ночью вывез. «Что же ты, Майкл, — говорю я, — разве твоей матери это приятно будет увидеть?» И ты знаешь, что он сказал? «Моя мать, — говорит, — никогда этого не увидит». А я говорю: «Даже если так, хотя, надеюсь, она еще поправится, ей все равно неприятно было бы узнать, что ты здесь вот так живешь». — «А мне, — говорит, — нравится вот так здесь жить. И вам, — говорит, — не надо беспокоиться». Не надо беспокоиться! — Отец покачал головой. — «Нет, Майкл, — говорю я ему, — мы беспокоимся, как ты живешь, потому что знали твоего отца и тебя знали, — говорю я ему, — чуть ли не с рождения». — «Я, — говорит, — мистер Сэвилл, могу прожить самостоятельно. В конце-то концов у меня такая возможность впервые». — Отец вытер глаза. — Ты знаешь, в какой чистоте его мать дом держала: чище, чем у миссис Блетчли, даже чище, чем у миссис Шоу.
— Ну, этот дом грязным тоже никогда не был, — сказала мать.
— Да не грязным, но всегда было видно, что тут люди живут, — сказал отец.
— Этот дом чистый, с каким его ни сравни, — сказала мать.
— Так ведь ненормально чистым его все же не назовешь, верно? — сказал отец, расстроенный этим ненужным спором.
— Ну, мне, конечно, жалко слышать, что он его в такой вид привел, — сказала мать, все еще огорченная, что ее собственные усилия остались неоцененными.
— И черт меня туда понес! — сказал отец. — Нечего было нос совать не в свое дело.
Как-то вечером Колин встретил Ригена на улице: он был в костюме с галстуком-бабочкой в крупную горошину, а в руке держал трость, но шляпа исчезла, и волосы, отросшие еще больше, падали на шею напомаженной волной.
— Привет, Колин, — сказал он, перейдя с противоположного тротуара, и небрежно взмахнул тростью. От него разило духами. Его глаза, совсем темные, впивались в Колина со странным напряжением, лоб блестел, щеки отливали болезненной желтизной, между передними зубами зияла дыра. — Как живешь? — добавил он. — Я слышал, ты бросил учительствовать.
— Не совсем, — сказал он.
— Приезжай как-нибудь вечером в город, выпьем.
— Куда ты обычно ходишь? — сказал он.
— Да куда угодно. Но не в Дом собраний, могу тебя заверить. — Он небрежно похлопывал тростью по ноге. Его одежда выглядела как нелепая пародия, как гротескная карикатура на изощренную щеголеватость его отца.
— Ты где-нибудь работаешь? — спросил он.
— Кое-чем занимаюсь, — сказал Риген. — Поступил в оркестр на чисто добровольных началах. Особенно себя не перегружаю.
— На что же ты живешь? — сказал он.
— А! — беззаботно сказал Майкл. — И так и эдак. — И, повернувшись к своему темному дому, добавил: — Значит, договорились: встречаемся в городе и идем куда-нибудь выпить. Не забудь!
И действительно, несколько дней спустя Риген нагнал его, когда он шел от автобусной станции к центральной площади. Майкл, по-видимому, ехал наверху и уже сидел там, когда он влез в автобус в поселке.
— Послушай, — сказал Риген, — ты сюда на весь вечер?
— Меня ждет друг, — сказал он и кивнул на горбатую фигуру Стивенса у магазина.
Майкл взглянул на Стивенса и отвел глаза.
— Ну, бывай, — сказал он небрежно и помахал рукой. Он был без трости, в дождевике с поднятым воротником. В шляпе его затылок казался еще более выпуклым. — Ты с Брюханом видишься? — добавил он.
— Нет, — сказал он.
— Надо бы нам как-нибудь встретиться всем… — Но он уже пошел через дорогу, и Колин не расслышал конца фразы.
— Что это за поразительный субъект? — спросил Стивенс.
— Один мой друг.
— Хэмфри Богарт, растянутый по вертикали, — добавил Стивенс с высоты собственного крохотного роста и продолжал с изумлением глядеть вслед исчезающей вдали фигуре, которая даже на таком расстоянии выделялась в вечерней толпе. — А чем он занимается?
— В настоящее время ничем.
— Боже великий, — сказал Стивенс. — Еще один вроде тебя.
— Ну, у меня в запасе не меньше недели, а то и двух.
— Но на вольных хлебах, на вольных хлебах, — сказал Стивенс.
А позже, когда он провожал Стивенса домой вниз под обрыв, в сторону реки, его друг, который весь вечер был в праздничном настроении, вдруг добавил:
— Я и сам, конечно, скоро все это брошу. Вырвусь из этого гнилого городишки, покину эти берега забвения. Я уже предупредил, что после конца триместра ухожу. Через два месяца я отбываю в Лондон. Поехали со мной.
— Мы все это уже обсудили, — сказал он. — И не один раз.
— У вас в запасе другие козыри, юный Сэвилл?
— Насколько мне известно, нет. Никаких, — сказал он.
— Все еще прикован условностями, благочестием, дурацкой покладистостью к семье, тебя породившей, отрок.
— Не думаю, чтобы я был к кому-нибудь прикован, — сказал он.
Стивенс несколько секунд напевал себе под нос. Сгорбленный, с втянутой в плечи головой, он в полумраке улицы напоминал черепаху, нюхающую воздух в поисках корма.
— Меня ты не обманешь, — сказал он наконец и добавил: — Я тебя насквозь видел с самого начала. Ты Паломник, увязший в трясине у врат Града. Взгляни на юг, Колин. Земля светла.
И правда, в ясном небе над ними сияла луна. Было начало лета.
В голубоватом сумраке улиц двигались фигуры прохожих. Город казался чистым и сверкающим.
— И что ты намерен делать? — спросил Колин.
— Сначала осмотрюсь. Наведу справки. У меня есть рекомендательное письмо к одному человеку на телевидении.
Колин засмеялся.
— Не презирай оружия пророков, — сказал Стивенс. — За телевидением будущее.
— Какое будущее?
— Мое, — сказал Стивенс. — Я намерен внести свою лепту в какую-нибудь программу, как в зрительной, так и в словесной форме излагая свои взгляды на темы дня. Например, новое появление Германии на мировой арене в качестве ведущей державы и сближение ее целей с целями Америки; возрождение Японии; неофилистерство послевоенной интеллигенции; соблазнение пролетариата вещизмом, еще более отталкивающим, чем тот, на который он поддался прежде; постепенный неосознаваемый упадок Запада и приближение неизбежной войны с Россией.
— Все это звучит крайне неправдоподобно.
— Таковы темы современности, — сказал Стивенс. — Вопросы, теснящие нас со всех сторон каждый божий день: распад личности; унификация восприятия; опошление человеческих взаимоотношений и побуждений; метемпсихоз буржуазии повсюду в мире; расплодившееся невежество, которое идет на смену века элитизма и еще при жизни нашего поколения будет править миром. А какую позицию занимаешь ты, — добавил он, — в отношении всего этого?
Колин шел, сунув руки в карманы. Стивенс, лицо которого было все в поту после вечерних возлияний, смотрел на него с улыбкой.
Они вышли на мост. Дом Стивенса стоял почти напротив, в узкой улице новых коттеджей на две семьи.
Луна отражалась в реке.
— Ну? Во что же веришь ты? — добавил Стивенс. Он оперся на парапет и посмотрел вниз: река изгибалась, как широкая, прихотливо подсвеченная магистраль между бесформенностью фабрик по берегам.
— Я верю в то, что надо поступать хорошо, — сказал Колин.
— Значит, ты-таки сентиментален.
— «Хорошо» совсем не в том смысле, какой ты вкладываешь в это слово. Совсем не в том, — сказал он.
— Да неужто ты не только идеалист, но вдобавок еще религиозный маньяк?
— Я вовсе не идеалист, — сказал он.
Наконец они расстались на углу улицы, где жил Стивенс — в одном из палисадников он увидел укрытый брезентом мотоцикл своего друга.
— Перед отъездом в Лондон я к тебе загляну, — сказал Стивенс. — Я утоплю тебя в письмах. «Я пришел поднять детей на их родителей» — говорит Христос в одном из наименее сенсационных Евангелий, и я, будь уверен, сделаю то же.
Колин перешел у моста на ту сторону шоссе и подождал своего автобуса. В верхнем салоне сидел Майкл.
— А, — сказал Риген и кивнул. — Я так и подумал, что это ты. Я тебя еще на шоссе увидел.
Они сидели рядом на длинном сиденье у ветрового стекла.
— Ты там разговаривал со своим другом?
— Да, — сказал он.
— А чем он занимается?
— Пока преподает в школе, — сказал он. — Но кажется, скоро уедет в Лондон.
— Я подумывал, не поехать ли туда в не слишком отдаленном будущем, — сказал Риген. — Для музыканта там может найтись что-нибудь подходящее, — добавил он. Воротник у него был расстегнут, и он снял шляпу, чтобы не задевать низкий потолок. — А к тому же у меня есть кое-какие связи.
— Ну, может, вы там встретитесь, — сказал он.
— О, не в тех кругах, в которых вращаюсь я, — сказал Майкл, сжимая и разжимая длинные пальцы маленьких рук, которые лежали на закрытых дождевиком коленях.
Небо потемнело — автобусные фары бросали широкие полукружия света на поблескивающее под луной шоссе впереди.
— Если бы я знал, что смогу найти подходящую квартиру, я бы сразу уехал из поселка, — добавил он. — Ты представить себе не можешь, до чего мне невыносимо там жить. Невозможно укрыться от соседей. Я, конечно, не про тебя. Ну, да ты всегда был исключением.
Колин молчал. Риген водил пальцами по шляпе, которую положил к себе на колени.
— Дело в том, что дом принадлежит шахте, и они не могут меня выселить, раз мой отец работал там. Одно время я думал, не купить ли его. Но потом решил, что уже не смогу его продать. Мы столько лет вносили квартирную плату, что ее хватило бы, чтобы купить десять таких домов. Ну, да и вы тоже, наверное, — добавил он.
Автобус, погромыхивая, катил по шоссе. С вершины холма они различили смутное зарево огней поселка, пересеченное силуэтом лесистой гряды.
— Ты представить себе не можешь, до чего мне невыносимо туда возвращаться, — сказал Риген снова. Его потемневшие глаза были уныло устремлены на шоссе впереди.
— А как твоя мать? — спросил Колин.
— Полное сумасшествие. Она оттуда больше не выйдет. — Он все так же смотрел на шоссе. — Когда я ее навещаю, она меня не узнает. Может, это и к лучшему. Знаешь, она винила меня в смерти отца. Ну, не вслух, конечно.
Некоторое время они молчали. С каждой остановкой автобус пустел все больше.
Вскоре они остались наверху одни.
Невыразимая тоска овладела Колином. Словно все его прошлое слилось воедино, словно был подведен какой-то последний итог: будущее вдруг представилось ему таким же пустым и унылым, как шоссе впереди.
— Ну, что поделаешь, — сказал Майкл и, протиснувшись мимо него, быстро спустился по лестнице.
Они шли рядом по темным улицам.
На углу под фонарем стоял какой-то человек. При их приближении он отступил в тень.
— Может, зайдешь выпить, Колин? — сказал Майкл.
— Пожалуй, — сказал он.
— Если не хочешь, то не надо.
— Нет, я хочу, если тебя это не стеснит.
— Ну, все-таки общество, — сказал Майкл и словно нечаянно поглядел на дверь Блетчли.
В первый раз в жизни он вошел в дом Ригена.
Внутри стоял запах протухшей еды.
Как и рассказывал отец, в комнатах не было никакой мебели. Пустой очаг в кухне загораживала циновка. Напротив стоял жесткий стул со сломанной спинкой. В углу был прислонен скрипичный футляр.
Тщательно наклеенные обои со строгим узором, которые миссис Риген оберегала от каждого пятнышка, были теперь грязными и засаленными. Пол больше не сверкал линолеумом.
— Садись, — сказал Майкл, указывая на стул. — Я сейчас тебе налью.
Он открыл шкафчик и достал бутылку.
Потом поставил на пол две чашки, налил одну, потом другую.
— Ты ведь тут ни разу не был? — сказал он.
— Да, — сказал Колин.
— Твой отец заходил как-то вечером. Я был тронут, что он побеспокоился. И миссис Блетчли заходила. Раза два или три. Она любила мою мать. И даже ездила к ней в лечебницу, только мать ее не узнала. У нее еще что-то с ногой.
— Что? — спросил он.
— Не знаю, — сказал он. — Возможно, рак. Врачи не слишком обнадеживают. — Он отпил из чашки и добавил: — Я никогда не слышал, что бывает рак ноги.
Снаружи доносилось тихое попыхивание шахты. Тускло светила лампочка без абажура.
— А ты не хочешь сесть на стул? — сказал Колин.
— Нет-нет, — сказал Майкл и сел на пол. — Я не топлю, — сказал он. — Я тут бываю редко.
— А когда ты собираешься в Лондон? — спросил он.
— О, я сначала хочу кое-что попробовать, — сказал Майкл. — Видишь ли, весь стиль музыки изменился. Та, на которой я воспитывался, исчезла навсегда. История моей жизни. — Он допил чашку и налил в нее еще.
Колин не так быстро выпил свою.
— Ты заметил, что молодых людей тут почти нет? — добавил Майкл. — А в шахте и вовсе. Даже в крикет на пустыре больше никто не играет: Батти, Стрингер, твой отец, Шоу — все они уже слишком стары для этого. Но их, насколько я замечаю, никто не сменяет. Идут даже разговоры, что шахту придется закрыть.
— Да, — сказал он, потому что его отец как-то упоминал про это.
— Оборудование устарелое, да и запасы угля невелики, — сказал Майкл. — Ты только подумай: мой отец работал на ней всю жизнь. И Шоу. И твой отец несколько лет. — Он откинул голову. — Помнишь, как мы ходили в Брайерли и шофер подвез нас в кабине грузовика? Ах, как бы я хотел вернуться назад в те дни! Все казалось таким несомненным и гарантированным, хотя на самом-то деле только казалось, но тогда об этом не думалось. Я так и не узнал, что стояло за той фамилией. Ну, которую шофер велел назвать моему отцу. И уж теперь мы, наверное, никогда не узнаем, — добавил он.
Немного позже он начал тихо постанывать. Его голова упала на грудь. Дождевика он не снял. Шляпа, которую он повесил на гвоздь, слетела на пол.
Колин его окликнул, но он только затряс головой. По-видимому, он много пил весь вечер. Колин встал со стула, и тут Майкл опрокинулся на бок.
Он поднял его, удивляясь тому, каким легким он оказался. Но втащить его по лестнице было трудно из-за его роста.
Большая спальня была пуста, как и задняя у лестницы. Но во второй комнатушке стояла узкая кровать.
Колин уложил на нее Майкла и начал стаскивать с него дождевик.
— Это ты, Морис? — сказал Майкл и нерешительно протянул руки.
— Это Колин, — сказал он. — Сейчас я тебя укрою.
— А, Колин, — сказал Майкл, словно с трудом вспоминая, кто он такой.
Он снял с него дождевик, расшнуровал ботинки и укрыл его одеялом. Его ступни свисали с кровати. Носки были дырявыми. Воротничок рубашки, заметил он, был изнутри совсем черным.
Он погасил свет.
Майкл даже не пошевелился.
Колин вынул ключ из замка, вышел через парадную дверь, запер ее и бросил ключ в щель для писем.
Потом, сунув руки в карманы, он пошел по улице к своему дому.
— Ну, и что ты про нее скажешь? — спросила она. Комната выходила на крохотный двор. За открытым окном в боковой стене слышался шум уличного движения.
— Тебе не тягостно тут жить?
— Тягостно? — Она посмотрела на него с улыбкой. Казалось, она была довольна.
— Но ведь прежде ты всегда жила в отдельном доме. Пусть даже в доме сестры, — сказал он.
— Ты когда-нибудь жил один? — сказала она.
— Нет, — ответил он.
— А вот попробуй.
Она прошлась по комнате: выцветший ковер на полу, старая мебель, посеревшие обои с узором из бледно-коричневых цветов.
— Мне это было и остается не по карману.
— У тебя всегда все сводится к деньгам.
— Но ведь так оно и есть, — сказал он. — Во всяком случае, почти.
— Там, откуда ты, — сказала она. — Но не откуда я.
Однако ее расстроило, что комната ему не понравилась.
Возможно, она сама впервые попробовала жить одна. Тут не было ничего от солидной элегантности дома ее сестры с его паркетными полами, толстыми коврами, массивными креслами в светлых чехлах и мебелью красного дерева.
— А с мужем где вы жили? — спросил он.
— У нас был свой дом. Около одного из их магазинов. Купленный его родителями. Каменный, с асфальтовой подъездной дорогой, а вокруг маленький парк. В нем было восемь спален.
— Вы спали в разных комнатах? — спросил он.
— Нет. — Она засмеялась. Эти расспросы почему-то ее развеселили. — У нас жил племянник. Он учился в школе неподалеку.
Она стояла перед ним, маленькая, снова помрачневшая — из-за какого-то воспоминания о прошлом или о ее прежнем доме. Она отвела глаза и посмотрела на окно — возможно, вдруг осознав тоскливое одиночество подобной жизни в полной оторванности от всех. Его еще прежде удивило, что она выбрала такое неприглядное место: дом в ряду таких же запущенных викторианских домов стоял на улице, ответвлявшейся от центральной площади. Он много раз проходил мимо него по дороге в школу.
— А каким был твой муж?
— По-моему, я уже тебе рассказывала.
Теперь она стояла спиной к нему, словно он грубо оттолкнул ее.
— Просто мне приятней жить в маленькой квартире, — сказала она. — Снейтонский дом мне никогда не нравился. Темный, огромный, сырой, холодный и всегда какой-то пустой.
— Ты оставалась там одна весь день?
— Я работала в магазине.
— А кем?
— В моем ведении была конторская часть. Мы продавали ковры с нашей фабрики.
Он схватил ее за локоть. Она была очень легкая и тоненькая — казалось, он может поднять ее одной рукой. И все же по временам она выглядела грузной и тяжеловесной, словно ее вообще было невозможно физически сдвинуть с места. Он не знал больше никого, кто с каждой переменой настроения словно бы обретал другое строение тела. Даже кожа у нее становилась то нежной, то жесткой. И сама она как будто не была над этим властна.
Теперь она повернулась и прямо посмотрела на него.
— Почему ты не сделаешь выбора? — сказала она.
— Но какого?
— Какого угодно.
Она высвободила руку и отошла.
— Впрочем, я не должна об этом спрашивать. Мне тебя упрекнуть не в чем.
Как-то, когда они гуляли по городу, она показала ему дом своих родителей. Он стоял на обсаженной деревьями улице за школой короля Эдуарда, большой кирпичный особняк с садом, в котором работал мужчина в комбинезоне, сгорбленный, седой и, пожалуй, чем-то похожий на его отца.
Он не мог понять, почему, порвав с мужем, она не вернулась туда.
— Что думают твои родители? — сказал он теперь, обводя рукой комнату.
— О квартире? — сказала она. — Они ее не видели. — И секунду спустя добавила с легкой улыбкой: — Почему ты так или иначе все сводишь к родителям? Ты настолько нерасторжимо связан со своими?
— Нет, — сказал он. — Это чисто экономический момент.
— Да? — сказала она и добавила все еще с усмешкой: — Я начинаю сомневаться. — Через секунду, по-прежнему не спуская с него глаз, она вернулась к его вопросу. — Но как бы то ни было, они ее не видели. И, рада сказать, вряд ли увидят.
— Разве они не захотят побывать тут? — сказал он.
— Только если я их приглашу.
— А ты не пригласишь?
— Во всяком случае, не в ближайшее время. Нет, — сказала она.
Дважды, зная, когда она работает, он заходил в аптеку Беннета и заставал ее за прилавком. В юности она училась на фармацевта и часто, когда родители болели или уезжали отдохнуть, полностью заменяла отца. Аптека помещалась в старом кирпичном здании на углу переулка. В высоких окнах-фонарях стояли старинные банки с разноцветными жидкостями и черного дерева вращающиеся шкафчики прошлого века.
В первый раз он решил, что она смутилась: она стояла за прилавком в белом халате и обслуживала покупателя. Ее отец, маленький, с тонким лицом, белыми волосами и багровой кожей, отвернувшись к шкафчику, вынимал из ящика какие-то пакетики. По-видимому удивленный изменением ее тона, когда она здоровалась с Колином, он поглядел на него поверх очков с некоторым любопытством.
В тот раз она сослалась на что-то и ушла с ним. Они шли по улице к центральной площади, и она опиралась на его руку, словно для того, чтобы разуверить себя, убедить, что ничего нежданного не случилось, что она не потеряла его и не упала в его глазах, когда он вдруг увидел ее за прилавком, и для того, чтобы показать отцу, который, несомненно, следил за ними из окна, что это вовсе не случайная встреча. И Колин тогда почувствовал себя ближе к ней.
Во второй раз она отказалась уйти с ним. Аптека закрывалась через час; он приехал в город на заднем седле стивенсовского мотоцикла после конца занятий и вынужден был уйти и ждать в баре. Она пришла через час и поздоровалась с ним, привычно чмокнув его в щеку. Так, словно они уже несколько лет были женаты. В ней была какая-то особая непринужденность и прямота, уверенность в себе, рождавшаяся из странных периодов самоанализа, и эгоцентризм, который никак не ронял ее в его мнении. Все это только сильнее толкало ее к нему.
— Что сказал твой отец? — спросил он, после того как первый раз зашел в аптеку.
— Ничего, — сказала она, но после некоторого размышления добавила: — Он считает, что ты очень молод.
Теперь он сказал:
— А они знают, что ты сняла квартиру? Наверно, да.
— Я говорила им, что ищу квартиру, — сказала она. — Но в любом случае они узнают от Морин. То есть что я больше у нее не живу.
— Ты когда-нибудь бываешь дома?
— Иногда, — сказала она.
Она смотрела на него и хмурилась: он пытался разгадать загадку, которая для нее не существовала вовсе или же не заслуживала таких стараний.
— Они заняты своим, — сказала она, а когда он спросил чем, она сказала: — Друг другом. Так было всегда. Они поженились совсем молодыми и, по-моему, вовсе не хотели иметь детей. Если не считать аптеки, отец, насколько я могу судить, ни о чем, кроме моей матери, никогда не думал. А она не думала ни о чем, кроме него. Они полностью поглощены друг другом. И это — прожив вместе почти сорок лет.
— А когда вы были маленькими? — сказал он.
— Держали нас на втором плане. Морин в девятнадцать лет сбежала и нашла себе жениха, но это кончилось ничем. Впрочем, она потом очень скоро вышла замуж. Короче говоря, мои родители никогда по-настоящему нами не интересовались. Они заботились о нас, бывали нам рады, когда мы приезжали на каникулы из школы, но меня не оставляло ощущение, что все это лишь незначительный придаток к их жизни.
В аптеке он заметил между отцом и дочерью своеобразную мягкую благожелательность: они работали вместе легко, без напряжения, с большой взаимной симпатией — словно старые друзья или брат с сестрой. И ни малейшего намека на то всепоглощающее, властное, требовательное, с чем он сталкивался у себя дома.
Он рассказывал ей про свою семью: она очень заинтересовалась его родителями, и был момент, когда он чуть не предложил познакомить ее с ними, но почему-то удержался и просто продолжал разговаривать о них, о Ричарде и Стивене.
— Отчего ты с такой ревностью относишься к Стивену? — спросила она. — В твоем описании он выглядит очень прямодушным и бесхитростным.
— Но что сделало его прямодушным и бесхитростным? — сказал он. — Ему была предоставлена свобода, в которой мне было отказано.
— Да? — сказала она улыбаясь. — А по-моему, и тебе ее тоже предоставляли. Ведь завидуешь ты его характеру, а не просто условиям, в которых он рос, разве не так?
— Нет, — сказал он. — Все дело в условиях. В них одних.
— Странно, — сказала она.
— Не думаю, — сказал он. — Мне кажется, так бывает почти во всех семьях.
— Разве? — Она смотрела на него с улыбкой. — Я никогда не завидовала Морин и не ревновала к ней. И она тоже, насколько я знаю. Мы ссорились, но не как соперницы, не потому, что нам надо было что-то делить.
— Но ведь ваши родители вышвырнули вас вон.
— Они нас не вышвыривали.
— Однако вы чувствовали себя отстраненными от них, и отстраняли вас они сами, в равной степени. Тогда как моя мать всегда занималась Стивеном гораздо больше, чем мной.
— И все-таки матери в твоей жизни принадлежит очень большое место.
— Разве?
— По-моему, да.
Он озлился: он не выносил, когда ему указывали какие-то мотивы его поведения, даже если он только что сам о них говорил. Его травмировало, что она их обсуждает: заговорив о них вслух, он надеялся их перечеркнуть.
— По-моему, ты очень наивен. Ведь за милю видно, почему ты завидуешь и ревнуешь.
Теперь в этой убогой комнате он смотрел на нее, испытывая безнадежную горечь поражения. И он и она попали в ловушку собственного прошлого: она — с ее странной отстраненностью, с ее обособленностью не только от родителей, но и от мужа, он — с его странной сосредоточенностью на семье, которая теперь, когда он так в этом нуждался, отказывалась освободить его.
Некоторое время они сидели молча. Вокруг стоял запах затхлости. Он принес цветы, по даже их краски и аромат не могли превозмочь этот запах, окружающую унылость, которую она, казалось, нарочно искала и обрела.
— Меня начинает угнетать, что она тебя так угнетает, — сказала она.
— А она меня угнетает?
— Собственно говоря, не комната. Ее я могу привести в порядок. Сменю мебель, и через неделю-другую она будет выглядеть совсем новой. Комната сама по себе никакой роли не играет.
— Так что же меня угнетает? — спросил он, потому что его настроение ухудшалось с каждой минутой, проведенной в этой комнате, за окнами которой шумел город.
— А то, что благодаря ей, — сказала она, — мы оказались лицом к лицу, наедине, и нет ни Фила, ни Морин и ее мужа, ни матери, — добавила она с ударением, — за которыми можно было бы спрятаться.
— Наверно, ты этого и хотела, — сказал он. — Наверно, ты это и подразумевала под выбором.
Она разгладила юбку на коленях. Ее фигура в тяжелом кресле снова казалась маленькой и беззащитной. Он начинал ненавидеть ее и бояться. Она воплощала что-то, в чем он не мог как следует разобраться: упорное цеплянье за прошлое, утверждение неприятного ему прошлого, решимость прибрать его к рукам. Ему все время хотелось причинять ей боль.
И, словно почувствовав, чем заняты его мысли, она сказала:
— Ну, а у тебя как? Твои родители знают про меня?
— Нет, — сказал он и добавил, сам не понимая зачем: — Вряд ли.
— А ты хочешь им сказать?
— Не вижу смысла. — Он добавил: — Они знают, что я с кем-то встречаюсь. Ведь я задерживаюсь допоздна чуть не каждый вечер.
— С кем-то, но не со мной.
— Нет, — сказал он.
— Я усложняю твою жизнь?
— Нет, — повторил он упрямо и мотнул головой.
— А ты мою усложняешь. Но это мне нравится, — сказала она, стараясь его успокоить.
Через некоторое время они пошли ужинать в кафе: в городе почти некуда было зайти поесть.
Когда позже они вернулись к ней, он почувствовал, что в нем снова поднимается протест, неясная злоба. Он стал безжалостно грубым: но боялся он сам — и себя больше, чем чего-либо внешнего, пришло ему в голову. Он ушел от нее за полночь, опоздав на последний автобус, но часть дороги до поселка его подвез грузовик. Домой он добрался в два часа ночи.
На следующее утро мать, спустившись в кухню, не поздоровалась с ним.
— Что-нибудь случилось? — спросил он хмуро, раздраженный ее молчанием и угрюмой тишиной в доме. Стивен и Ричард уже ушли в школу.
— В котором часу ты вернулся? — сказала она.
— Не знаю, — сказал он.
Мать кончила одеваться, загородившись спинкой стула. Он ненавидел эту ее привычку: она спускалась вниз в ветхой юбке и кофте или в линялом платье и, встав за стулом, натягивала чулки. Возможно, это были какие-то отголоски ее детства — вечером она обязательно снимала чулки у очага и вешала их на стул. Они всегда были дырявыми. Ему было мучительно смотреть на нее и столь же мучительно отворачиваться. Он не мог понять, почему она не может снимать и надевать чулки наверху. Теперь она продолжала машинально их натягивать, а потом одернула платье нелепо чопорным движением.
— Отец сказал, что было два.
— Ну и что? — сказал он.
Когда он лег, заперев заднюю дверь, от которой у него был ключ, он слышал, что отец встал, спустился на кухню, нарочито тяжело ступая, и вскипятил чай. А через три часа он снова встал, собираясь на работу.
Теперь мать сказала, выходя из-за стула:
— А то, что в доме никому, и особенно отцу, нет никакого покоя.
— Не понимаю почему.
— Потому что мы лежим и не можем уснуть, все думаем, куда ты пропал. Да и уснем — так просыпаемся, когда ты входишь. А отцу ведь надо вставать в половине шестого.
— Мог бы вставать и позже. До шахты ему идти меньше получаса. — Он продолжал есть завтрак.
— Он встает раньше, чтобы разжечь огонь. Чтобы мне было легче, когда я встану, — сказала она.
— Ну, так я буду вставать и разжигать огонь. Или пусть Ричард. Или Стив.
— А кто будет вставать, чтобы проверить, встали они или нет?
Он ничего не ответил.
— Если ты совсем дома не бываешь, так не понимаю, зачем тебе вообще тут жить, — сказала она, отходя к раковине и берясь за посуду.
— Я возвращаюсь сюда, потому что у меня нет денег, чтобы жить отдельно. То есть чтобы и тогда давать их вам, — добавил он.
— Ты бы больше о своей работе думал, — сказала она. — Не удивительно, что тебя попросили уйти. Если ты полночи гуляешь, то как же ты можешь хорошо учить? Ведь ты даже сосредоточиться толком не сумеешь, — добавила она.
— Меня уволили не за то, что я плохо сосредоточивался, — сказал он.
— Да, — сказала она. — А могли бы и за это.
Он оказался в тисках дилеммы, которую несколько лет назад и представить себе не мог. Он начал завистливо поглядывать на Ригена и даже прикидывал, не поселиться ли у него. Однако Майкл все чаще пропадал из дома. Как-то он отсутствовал неделю, и уже говорили, что он уехал навсегда, но потом поздно вечером окно в верхней комнате засветилось, и на следующее утро его длинная фигура мелькнула во дворе.
На другом конце поселка строились новые дома, и отец записался на один из них. Из окрестных поселков сюда переезжало все больше людей. По соседству с шахтой поднялось панельное здание швейной фабрики, где работали одни женщины. Открылся новый магазин, расширили перекресток, на автобусной остановке поставили навес, Шахтерский клуб приглашал гастролеров, чьи фамилии были известны по радиопередачам. Шоу купили телевизор, вслед за ними купили телевизор и Блетчли.
Йен еще на последнем курсе начал работать в лаборатории крупной текстильной фирмы в одном из соседних городов. Через несколько месяцев фирма послала его на практику в Америку. Он вернулся в светло-сером костюме, с маленькой трубкой в изящной металлической оправе и с легким американским акцентом. Местная газета напечатала его фотографию. Мистер Блетчли, которого повысили в должности и перевели в отдел управления дороги, купил подержанную машину. Она стояла на улице перед домом — первый собственный автомобиль на этом конце поселка.
Отец глядел на автомобиль с яростью. С тем же угрюмым бешенством он прислушивался к доносившимся из-за стены звукам телевизионных передач.
— Йен о своих родителях заботится, — говорил он, хотя Йена в поселке видели редко: иногда по субботам он приезжал домой на полдня, но ночевать почти никогда не оставался, и отец отвозил его к поезду на машине.
У поселка был захиревший вид. С центрального перекрестка он выглядел как городская окраина — новые дома расползались по склону холма и подступали к заброшенной усадьбе и заросшим развалинам господского дома. Сажа, более полувека ложившаяся на здания, на людей, на улицы, словно сравнивала поселок с землей, с темными полосами шлака между рядами блокированных домов, ископанного детьми, изрубцованного глубокими колеями, которые выбили колеса грузовиков. От яркости, запомнившейся ему с детских лет, не осталось почти ничего — столько было поглощено, разрушено, ободрано. Иногда, уходя вечером прогуляться, он оглядывался на поселок с соседнего холма и видел в сгущающихся сумерках былые его очертания — ровный склон, увенчанный господским домом и церковью, маленькое селение у подножия. Свет угасал, и эта безыскусственная простота линий почти становилась явью. Но тут вспыхивали фонари. Поперек склона и в глубоких ложбинах вновь вырисовывались бесформенные скопления домов, неряшливый конгломерат фабрики, шахты, складов, и видение сразу исчезало.
В течение трех лет он преподавал в разных школах, часто их меняя. Им владело непонятное беспокойство, стремление нигде подолгу не задерживаться. Его отношения с Элизабет переходили из одной крайности в другую. Одно время он вовсе перестал с ней видеться — когда квартира была уже давно преображена и обрела почти совсем такой же вид, как комнаты в доме ее сестры. Потом ему захотелось вернуться к ней, и он вернулся. В их отношениях было что-то тяготившее обоих, по он не понимал, что именно: она мучилась из-за его молодости, он все время ощущал ее возраст. Иногда она пыталась притворяться, будто собирается снова выйти замуж.
Вскоре после того, как она обновила квартиру, к нему домой пришел ее муж.
Он явился как-то под вечер — дверь открыла мать.
Она провела его в нижнюю комнату и вошла на кухню вся красная, по отблески в очках прятали ее взгляд.
— К тебе какой-то мистер Уолтон, — сказала она, и он вздрогнул, сразу сообразив, кто это.
Он был невысокий, светловолосый и выглядел как учитель вроде него или мелкий муниципальный чиновник.
Смущен он был даже больше Колина. От чая он отказался и растерянно стоял у пустого камина. Наконец по настоянию Колина он сел в кресло.
— Я пришел к вам поговорить об Элизабет, — сказал он, стискивая руки. — Полагаю, она упоминала про меня.
— Да, — сказал он.
— Мы ведь не развелись.
— Нет, — сказал он. Уолтон сообщил это с надеждой в голосе, словно подозревал, что Элизабет говорила ему совсем другое.
Он пытался понять, чем Уолтон привлек ее: возможно, его нервозность она приняла за чуткую впечатлительность, увидела в нем натуру, которую могла бы сформировать — может быть, наподобие своего деятельного отца.
— Я как-то прислал записку, — сказал Уолтон.
— Да, — сказал он, ощущая, что ничего нового не услышит.
— И не знаю почему, я нанял человека, чтобы собрать компрометирующие сведения.
— Да, — сказал он. — Мне так и показалось.
— Собственно говоря, я считаю этот разрыв временным. Мне кажется, ей было тяжело жить там. Но я планирую устроить все по-другому, уехать, — добавил он.
— Она говорила, что вы уже пробовали и в конце концов решили вернуться к прежнему.
— Нет-нет, — сказал он внезапно. — Тут она передергивает. — Однако он глядел на Колина с надеждой, словно ждал от него разрешения всех своих трудностей.
— Но чего вы хотите от меня? — спросил Колин.
Мать открыла дверь.
— Может быть, выпьете чаю? — сказала она, напряженно заглядывая в комнату, красная от собственной настойчивости.
— Мистер Уолтон уже отказался, — сказал он.
— Ну, тогда конечно. — Она посмотрела на Уолтона, ожидая от него подтверждения, но он ничего не сказал и сидел, напряженно выпрямившись, ожидая, чтобы она ушла. — А если передумаете, то пожалуйста, — добавила она.
Ее шаги затихли на кухне, потом оттуда донесся голос Ричарда: он что-то спросил.
— Я подумал, что было бы хорошо, если бы вы перестали с ней видеться и признали реальную ситуацию, — сказал Уолтон, подождав, пока дверь кухни не закрылась. Он добавил: — Видите ли, с моей точки зрения, вы просто используете конъюнктуру.
Казалось, кто-то другой убедил его прийти — он словно прислушивался к чьему-то голосу, но теперь настолько тихому, что он почти его не улавливал и не мог разобрать, какие же важные и неотложные соображения он должен изложить.
— Я не могу перестать с ней видеться, — сказал Колин. — Я не могу на это согласиться, — добавил он.
— Для вас, — быстро сказал Уолтон, — это все так, между прочим. Но вы играете с моей жизнью, с моим браком.
— Мне кажется, решать должна Элизабет.
— Лиз? — Его голос стал хриплым, лицо налилось кровью, пальцы судорожно переплелись; он словно подчинялся воздействию другого места, другого человека, заставлявшего его продолжать. — У Элизабет есть обязанности. И она бежала от них. У нее есть свои трудности. Как и у меня. А вы мешаете нам найти какое-то решение, — добавил он.
— Она может видеться с вами, если хочет, — сказал он. — А вы — с ней. Я этому не мешаю.
— Нет, мешаете. Вы отвлекаете ее. — Но это было явно не то слово, которое он искал. — Вы препятствуете нашему сближению и не даете разрешить проблему нашего брака, которая никак вас не касается.
— Теперь касается, — сказал он. — Я тоже в нее включен. — Он чуть было не заподозрил, что этого человека подослала Элизабет, что она снова пытается принудить его к «выбору», но тут же отмахнулся от этой мысли.
— Я хочу, чтобы вы оставили мою жену в покое. Я хочу, чтобы вы оставили ее в покое, — говорил Уолтон почти нараспев. Его маленькое личико совсем побагровело, глаза выпучились, зубы оскалились. Он рывком вскочил с кресла, точно полностью утратил власть над собой и не замечал того, что говорит. — Я хочу, чтобы вы оставили мою жену в покое.
По тишине за стеной он понял, что крики Уолтона донеслись до кухни.
— Я не хочу никаких обещаний. Я не хочу никаких условий. Я приказываю вам оставить мою жену в покое, Она — моя жена. Я женился на ней. Мы имеем право решать этот вопрос между собой.
— Но она оставила вас больше года назад, — сказал он.
— Мне все равно, когда она меня оставила. Она вернется. В конце концов она поймет, что это единственный выход. А до тех пор… — Он сжал кулак и взмахнул им у самого его лица. — Если вы попробуете хотя бы увидеться с ней, я вас убью.
— Ну, положим, меня-то не убьете, — сказал он невпопад. Его разбирал смех. Он тоже встал, чтобы припугнуть этого человечка.
— Мне все равно, что я сделаю и какое наказание понесу. Она увидит, как я ее люблю. Она увидит, как много она для меня значит, — сказал он и повернулся к двери.
Колин сделал шаг, словно собираясь открыть ее перед ним, но Уолтон вздрогнул, поспешно повернул ручку, выскочил в коридор и дернул дверь на улицу.
— Я вам все объяснил. Я вас предупредил. Больше я ничего сделать не могу.
Он распахнул дверь. Когда Колин вышел на крыльцо, напротив двери Ригена он увидел автомобиль. Вспыхнули фары, заработал мотор. Машина пронеслась мимо, лицо за стеклом повернулось. Красные огоньки исчезли по направлению к станции.
— Кто это? — спросила мать, когда он вошел в кухню. И она, и Ричард стояли возле двери.
— Его фамилия Уолтон.
— Да, — сказала она. — Это я поняла.
— Он просто хотел, чтобы я кое-что сделал.
— Он говорил про свою жену. — Мать смотрела на него с гневным удивлением.
— Да, — сказал он.
— Ты что, встречался с его женой?
— Да, — сказал он и добавил: — Они разводятся.
— Разводятся или развелись?
— Разводятся. Но они живут отдельно, — добавил он, — больше года.
Никогда еще он не видел мать в таком волнении.
Она несколько секунд смотрела на него, не отводя глаз. Ричард сел и уткнулся в книгу.
— Вот, значит, — сказала она, — каким способом ты отплачиваешь.
— Почему отплачиваю? — сказал он. — Я с ней познакомился совершенно случайно.
— Ну да, конечно, — сказала она и добавила: — Ничего другого ты придумать и не можешь, миленький.
Она присела к столу, изможденная, худая. Столько жизненной силы, которая могла бы поддержать ее теперь, было отнято у нее, вырвано с каждым из сыновей, вырвано вечными стараниями свести концы с концами. Он даже увидел кухню так, как мог бы увидеть ее Уолтон, загляни он в дверь: пятна на стенах, голый пол. Правда, мебель была новой, но безнадежно дешевой. Кухня была точно пещера, внутри которой они жили, — пробуравленная, выдолбленная, изъеденная нещадным пользованием.
Хрупкое лицо брата было повернуто к нему, живые внимательные глаза еще хранили недоуменный испуг, вызванный воплями Уолтона, щеки покраснели.
— Это дурно, — сказала мать. — Дурно отнимать у человека жену.
— Я ее не отнимал, — сказал он. — Она не собирается к нему возвращаться.
— Да?
Казалось, мать обрубила последние связывавшие их узы, еще теплившийся огонек привязанности угас. Она увидела в нем ожесточенность и безжалостность — тогда со Стивеном, теперь и в том споре о его работе. Торжество, которого они ждали от его жизни, так и не наступило.
— Это дурно, — говорила она, — это дурно. — Почти так же, как сам Уолтон повторял нараспев: «Я хочу, чтобы вы оставили мою жену в покое». Она ухватилась за стол, как когда-то в беде, болезни или в споре с отцом могла бы ухватиться за него. — Это дурно, — сказала она еще раз, уже беспощадно, не в силах справиться ни со своим раздражением, ни с самой собой.
— Ничего дурного в этом нет. Почему людей должно вечно связывать то, что они сделали в прошлом? Особенно если они сами с этим покончили.
— Но он же не покончил, — сказала она. — А он ее муж.
— Какое значение имеет брак, если для нее он больше не существует?
— А, Колин, — сказала она, — ты не понимаешь, что такое брак.
— Не понимаю?
— Ты представления не имеешь. — Какой-то части ее жизни был нанесен непоправимый ущерб: этот человек зажег у них в доме пожар, которого ни она, ни он погасить не могли. — Ты представления не имеешь, что означает брак, и если кто-то в нем спотыкается, ни один человек, ни один порядочный человек никогда этим не воспользуется.
— Я привезу ее, — сказал он, — и ты увидишь, что все совсем не так.
— Чтоб ноги ее здесь не было, — сказала мать с такой горячностью, с таким негодованием, словно Элизабет вошла на кухню вместе с ним. Она быстро повернулась к очагу и начала энергично мешать в нем, сутуло нагибаясь к самому огню. Потом насыпала еще угля и загасила пламя.
Густой дым повалил в трубу.
Колин словно выдержал свой последний бой в этом доме: он почувствовал, как все это отдаляется от него — младший брат, сидящий за столом, мать, которая выпрямилась, отвернулась, пошла с ведром во двор.
— Я принесу, мама, — сказал Ричард.
Он подумал, что мог бы сейчас уйти отсюда, уйти навсегда, но продолжал стоять и смотреть на клубящийся в очаге дым.
Во дворе брат шуршал углем. Мать вернулась на кухню.
— Надеюсь, что ты с ней порвешь, — сказала она.
— Нет, — сказал он. — С какой стати.
Некоторое время мать молчала.
— А что ты будешь делать, — сказала она наконец, — когда он снова явится? По всей улице было слышно, как он кричал. Что подумает Ричард? Как это на него повлияет?
— Да никак, — сказал он. — Почему, собственно?
— Он же тебя примером считает, — сказала она. — И Стив тоже.
— И Стив?
— По-моему, да, как бы дурно ты с ним ни обходился.
И по странному совпадению, словно в доказательство ее слов, со двора донеслось веселое посвистывание, а затем Стив окликнул младшего брата, который поднялся на крыльцо с углем:
— Как делишки, Дик?
Потом, стоя на пороге освещенной кухни, он бодро обвел их взглядом и добавил все еще весело:
— Здравствуй, мама. Что у вас тут такое?
Когда он рассказал Элизабет о приходе ее мужа, она обеспокоилась, но, пришло ему в голову, главным образом из-за того, как отнесся к случившемуся он.
— Неужели тебя это нисколько не тревожит? — сказала она, а потом добавила: — И что подумала твоя мать!
Он засмеялся.
— Почему тебя вдруг стала заботить моя мать? — сказал он. — Мне казалось, что уж это тебя никак не беспокоит.
— Не знаю, — сказала она. — Она, по-видимому, незаурядная женщина. Не могу себе представить, как она выдерживает такую жизнь, как она ее выдерживала. Грустно, что теперь уж мне нельзя с ней познакомиться.
— Отчего же? Поедем, раз так. Не стоит принимать ее запрет столь буквально.
— Нет, — сказала она. — Я не хочу насильно ей этого навязывать.
Но не объяснила, что именно она не хотела навязывать его матери.
— Нет, его появление меня нисколько не тревожит, — сказал он. Собственно говоря, задним числом он скорее испытывал облегчение. Ему нравилось наблюдать сильные чувства, это его успокаивало: тревогу у него вызывало отсутствие таких чувств в себе и в других. Иногда, как в разговоре с Коркораном перед увольнением из школы, он нарочно провоцировал людей, чтобы разобраться в себе: он больше не мог смиряться с трезвой бесцветностью жизни, он хотел быть исключением. Мысль о том, что Уолтон что-то чувствует бурно, служила ему утешением несколько недель. Он даже надеялся, что Уолтон опять приедет, еще более разъяренный, еще более неистовый.
Но Уолтон больше не появлялся. Каждый вечер, возвращаясь домой, Колин ожидал увидеть автомобиль, невысокую фигуру, но напрасно. Только несколько недель спустя он узнал причину — Элизабет сама увиделась с мужем.
— Что он говорил? — спросил он ее позднее.
— Мне кажется, он с самого начала только этого и хотел, — сказала она. — Чтобы я увидела, какие страдания я ему причиняю. Он был очень холоден. Но ведь, — добавила она, — ты же его по-настоящему не знаешь.
Он не был в этом уверен. Уолтон был ничтожен, и она умалила себя, встретившись с ним. Он начинал убеждаться, насколько она в действительности ординарна, несмотря на свою независимость, на свою решимость хотя бы какое-то время жить самостоятельно. Быть может, размышлял он, дело было в какой-то ее внутренней недостаточности: то, что она бесплодно к чему-то стремилась, делало ее угрюмой. Возможно, она никогда ни в кого не поверит, никого не признает тем, кто ей нужен. Она вечно подыскивала для всего причину.
— Мы два законченных эгоцентриста, — сказала она как-то. — Не думаю, чтобы из этого могло что-нибудь выйти.
Теперь она сказала:
— Он получил распоряжение от своего отца предложить мне долю. То есть в фирме, хочу я сказать. Он рассчитывал, что меня это может соблазнить.
— По-видимому, он действительно дошел до крайности, — сказал он.
— Не думаю. И уж во всяком случае, не из-за меня. По-моему, на этом настояло его семейство, и до крайности он дошел из-за них. Кричал он, в сущности, вовсе не на тебя. Мне кажется, он предпочел бы, чтобы у него вообще не было никакой жены. Я предложила развестись с ним. А они добиваются от него, чтобы он либо заставил меня вернуться, либо подал на развод сам, назвав в качестве соответчика тебя.
Ей было трудно говорить с ним об этом: она все время со страхом ждала чего-то подобного. С самого начала она заверила его: «Тебе ничего не надо опасаться». А когда он спросил, чего, собственно, она ответила: «Со мной — ничего. Что тебя как-то используют». Теперь она сказала:
— Это было единственное, чем они по-настоящему мне грозили, — что тот, с кем у меня возникнет близость, будет втянут в бракоразводный процесс. По-моему, Фила в конечном счете как раз это и остановило. Но тут даже Дерек не пошел у них на поводу — так что все, пожалуй, оказалось не без пользы. Он настоял, чтобы тебя не трогали.
— Тем не менее, если уж они решатся, это их не остановит.
— Да.
— Возможно, так им посоветует адвокат.
— Возможно.
Она внимательно смотрела на него.
— Прямо-таки помолвка. Пожалуй, я должен буду на тебе жениться.
— Какой абсурд, — сказала она. — Ты появился намного позже.
— Ну, не так уж намного.
— Нет, намного, — сказала она. — Во всяком случае, для их целей.
Однако, быть может, муж и его семья с самого начала добивались именно этого — охладить его, лишить его отношение к ней непосредственности, ограничив тем самым ее свободу. Откровенность между ними вдруг исчезла — он стал уклончивым. У него появились другие женщины, в том числе учительница в одной из школ, где он работал. Она была моложе, ближе ему по возрасту, но, как он обнаружил, пустенькая и даже глупая. Ей нечего было противопоставить серьезному уму Элизабет. Их отношения оборвались столь же внезапно, как начались, и он вновь вернулся в квартиру на Кэтрин-стрит.
— Что же, мальчик мой, — сказала она, когда он рассказал ей про учительницу. — Их я жалею больше, чем тебя.
— Почему?
— Потому что ты становишься все сильнее и сильнее. Ты выедаешь все мясо. Ты выжимаешь этих женщин досуха, точно так же, как постоянными нападками — свою мать.
— Я ее не выжимаю, — сказал он.
— Ты думаешь? — сказала она, словно близко знала его мать и понимала ее лучше, чем он.
Тем не менее в ней была судорожность, отчаяние: она боялась, что теперь он уйдет от нее навсегда.
Потому что он действительно обретал силу. По мере того как и мир вокруг него, и люди, и узы, связывавшие его с семьей, становились все более призрачными, он ощущал, как в нем растет новая бодрость и энергия.
— Ты меня скоро бросишь, — сказала она как-то вечером, когда они лежали рядом в постели. Но произнесла она эти слова не с грустью, а скорее с облегчением, оттого что тоже сможет найти что-нибудь иное.
Они были словно в тюрьме. Он не понимал, откуда взялась эта их новая уверенность в себе, и втайне недоумевал, на что надеется она. Она по-прежнему работала в отцовской аптеке, хотя и упомянула как-то, что со своим дипломом фармацевта может в более крупной фирме стать заведующей отделом.
— У меня есть опыт административной работы. Я не такая глупая, какой кажусь.
— Я никогда не считал тебя глупой.
— Конечно! — Она, по-видимому, не сомневалась, что знает, как он ее оценивает. — Ты оппортунист, Колин. Ты будешь ловить один удобный случай за другим.
— Страшно слушать, — сказал он.
— Ты не знаешь, что такое сила, — сказала она, а потом добавила: — И какой силой обладаешь ты сам. Думаю, тебя ничто не остановит. Дело в том, что с тебя сняли путы. К большому твоему огорчению, а может быть, и к значительному ущербу. Но, насколько я могу судить, иного выхода у тебя нет. Ну, а когда ты окончательно освободишься… — Она помолчала. — Надеюсь, я об этом услышу, хотя надеяться на то, что я увижу все своими глазами, мне нечего.
Тем не менее ее мнение о нем оставалось неясным. Таким способом она парировала его выпады и угрожала ему будущим, которого сам он не видел. Инстинкт вынуждал его крепче держаться за нее.
— О, ты уйдешь, мальчик мой, — сказала она в другой раз, когда, не выдержав ее непоколебимой уверенности, он бросился в нападение. — Ты уйдешь, мальчик мой. Но я тебе в этом способствовать не собираюсь.
Они постоянно вступали в бой друг с другом — главным образом он с ней. В ней было спокойствие, в ней была стойкость — хмурая и слепая убежденность, которую необходимо было сломить. Он непрерывно мерился с ней силами.
— Ну, брось меня, мальчик мой! — восклицала она, когда он уже не выдерживал собственного гнева, и дерзость ее вызова, рассчитанная снисходительность обращения «мальчик мой» только сильнее его подстегивали.
— Я хочу, чтобы ты знала, что можешь положиться на меня, — сказал он. — Я хочу, чтобы ты мне доверяла. Я люблю тебя. Я сделаю все, что ты захочешь. — И в заключение, чтобы ощутить, что он все-таки существует, он добавил: — Я женюсь на тебе, если хочешь.
— Это предложение или угроза?
— Предложение.
— Но оно больше напоминает вызов на дуэль. Я отказываюсь его принять. Отказываюсь ради тебя. Ты ведь не любишь.
— Нет, люблю, — сказал он ей. — Объясни, чего я не сделал?
— Ты никогда меня не любил, — сказала она. — Ты этого не понимаешь, но я-то знаю.
Он терзался из-за этого обвинения.
— Докажи, — говорил он. — Как так я не любил тебя?
Он предложил ей уехать вместе.
— Куда? — спросила она.
— В отпуск, — сказал он.
— А-а! — сказала она с внезапной насмешкой. — Но не навсегда?
Он не ответил. Она выявляла в нем слишком много того, что ему не нравилось. И он снова срывал свое раздражение на брате.
— Почему ты не хочешь жить, Стив? — говорил он, когда видел, как брат корпит над заданиями. — Почему ты не хочешь жить?
— А я живу, — отвечал брат с полным спокойствием.
— Ты кончишь в шахте, как отец. А мне они даже думать об этом запрещали.
— Ну нет, он-то кончит управляющим, — сказал отец. Его самого шахта уже совсем высосала. Каждый раз, возвращаясь с работы, он словно становился физически меньше. Он съеживался у них на глазах. Он лежал в прострации у очага, слишком обессиленный, чтобы пойти спать, слишком измученный, чтобы съесть хоть что-нибудь. Его присутствие было постоянным упреком, и он старательно это подчеркивал, демонстрируя им себя — свою усталость, свое угасание. — Таким, как я, он не будет, — добавил он, указывая на могучие плечи Стивена, на его добродушное лицо. Бесспорно, его брат пользовался всеобщей симпатией. Из школы он ушел и был на шахте учеником механика, а в свободное время посещал местный колледж. Тем не менее он ни в чем не рвался вперед. В нем ощущалась неизмеримая сила, которой Колин завидовал.
— Не понимаю, как ты позволил, чтобы он обрек себя на такое, — говорил он отцу, подразумевая то, что с ним сделала шахта. — Одно время ты утверждал, что он никогда под землю не спустится.
— Он спустился потому, — сказал отец, — что сам захотел. И спустился со специальностью. Я-то начинал без всего. Прямо с поля — и в шахту. А он этому обучен, у него специальность, — добавил он.
Снова начались привычные споры, но злость у него вызывал только Стивен, его покладистость. Он видел в брате намного больше, чем видел в себе сам Стивен.
— Да я-то ведь не жалуюсь, — говорил Стивен, покачивая массивной головой. На его плечах бугрились мышцы. Он начал серьезно играть в регби и был очень популярен — не только девушки, но и ребята его возраста постоянно забегали к нему. Из уважения к матери он разговаривал с ними на крыльце, а в кухню допускал, только если ее не было дома.
— Не понимаю, к чему ты клонишь, — добавил он в другой раз, когда они с Колином были дома одни.
— Но что, по-твоему, тебе все это даст?
— Заработок. Ну, как ты зарабатываешь тем, что учишь в школе, — ответил брат.
— Но это же рабство, — сказал он. — Отец — раб. Ты — раб. Людям платят достаточно, чтобы они могли работать в шахте, но не столько, чтобы из нее выбраться. Словно морковка — каждый год поднимают чуть выше. И они трудятся, как покорные ослы.
Брат покачал головой и пригладил растрепанные волосы.
— Для того чтобы жить с рабами, ты развиваешь в себе мышление раба. Смиряясь с рабством, ты его укрепляешь.
— Так ведь шахты национализировали, — сказал брат.
— Ну, и в чем разница? — спросил Колин и выжидающе замолчал.
Брат еще раз провел рукой по волосам.
— Так я же доволен! — Он поглядел на него и улыбнулся, но застенчиво, словно смущенный тем, что Колина заботит его судьба. — А раз я доволен, так не понимаю, чего ты волнуешься.
— Ну, а я недоволен, — сказал он с горечью.
— А коли так, — сказал брат, — так ты бы попробовал изменить чего-ничего.
— Я пробую, — сказал он. — И начинаю с тебя.
— Не с того конца начинаешь. Надо с головы.
— Ты ближе. Я тебя люблю, и ты рядом. Ты молод, ты не закоснел, ты доступен новым представлениям. Тебя не оболванили, как отца.
— Кому-то же надо работать под землей, — сказал Стивен. — А мне это больше по плечу, чем многим другим. Я могу облегчить условия работы. Могу добиться большего. Мы все время что-то меняем. Так чего ты от меня хочешь? Чтоб я стал коммунистом?
— Нет, — сказал он. — Я хочу, чтобы ты выбрался оттуда.
— Я там, — сказал брат просто. — И выбраться не могу. Мне моя работа нравится.
— Она же тебе ничего не даст, — сказал он. — Кроме тупой покорности.
— Ну, предположим, я выберусь. А с другими рабами что будет?
— Оставишь их там.
— И отца?
— И отца тоже. Он смирился. Посмотри, что это ему дало. Что это дало им всем, — добавил он, обводя рукой поселок.
— Отцу не по возрасту работать внизу, только и всего.
— И тебе не по возрасту работать внизу. Покажи пример, выберись оттуда.
— Черт подери, ну не понимаю я, чего тебе нужно, — сказал Стивен. Он сидел такой могучий и такой растерянный, что Колин улыбнулся, ошеломленный силой и бестолковостью брата. — По-моему, ты запутался и увяз сам не знаешь в чем. Ты врешь и обманываешь. Ты наврал про Клэр. Ты вот говоришь, что никаких обязательств на себя брать не нужно.
— Нет, нужно, но только по отношению к себе.
— Брать обязательство по отношению к себе — значит брать его по отношению к другим, — сказал брат медленно, обдумывая эту мысль.
— Вот именно, — сказал он. — А не наоборот.
Он засмеялся, глядя на брата с торжеством.
— Ты должен испробовать все, что в тебе есть, Стив. Ты должен уйти отсюда и жить.
— А ты лицемер. Предатель и лицемер, — сказал Стивен, багрово краснея, и отвел глаза.
— Но не только, — сказал он. — Во мне есть много другого. Хорошего. Я могу тебе помочь. Я ведь не только плохой. Во мне есть много такого, что ты мог бы принять. Что ты должен принять. И я знаю что.
— Какого такого? — сказал Стивен.
— Того, что ты сам никогда не испытаешь, чего нельзя испытать, смиряясь.
— Прямо как Христос в пустыне, — сказал брат.
— Разве?
— А когда ему предлагали все царства мира. Я верю в то, что делаю. Что это приносит добро.
— Добро. Но какое добро? Добро Христа. Не добро понимания, не добро принятия зла, а только добродетель, ханжество, чурание зла.
— А знаешь, — сказал брат медленно, не спуская с него глаз, — зло-то — оно в тебе, Колин.
— И в тебе, — сказал он. — Я стараюсь, чтобы ты это осознал.
Но брат продолжал смотреть на него исподлобья, сдвинув брови. В его взгляде была растерянность, тревога. Он мотнул головой.
— Нет, — сказал он, — не понимаю я тебя.
— Но ведь ты чувствуешь, Стивен, — сказал он, — что я желаю тебе добра? Не «добра» Христа, а подлинного добра, которое делает тебя по-настоящему живым.
— Ну… — сказал брат.
— Ты ищешь «добра», которого хотят для тебя наши родители, потому что боятся. Ты должен избавить их от этого страха. Ты должен вырваться на волю.
— Угу. — Но он его больше не слушал. Со двора вошел Ричард. Он уже учился в классической школе и был первым учеником в классе. — Ты лучше Дика спроси. Идеи — это по его части.
— А, у Ричарда хороший интеллект, но не идеи. Интеллект порождает рабство не меньше, чем все остальное. Он поступит в университет и погибнет навеки. Его выпотрошат дочиста, а «интеллект» станет для него панацеей.
— Ты думаешь? — сказал Ричард. Его худое лицо было бледным, но этот вызов он принял словно с дерзким задором.
— Люди всякие бывают, — сказал Стивен. — И мы вовсе не хотим все обязательно быть такими, как ты.
— Не как я, а благодаря мне, — сказал Колин.
— И не благодаря тебе. По-моему, ты только из одного стараешься: как бы для себя ухватить побольше.
— Ах, Стив, — сказал он угрюмо и посмотрел на своих младших братьев так, словно решил никогда больше с ними по-настоящему не разговаривать.
Это была лишь одна из многих ссор, которые он затевал с братом. Они выводили Стивена из равновесия, но Колин особенно не терпел его невозмутимости. Он смотрел, как Стивен играет в регби — та же физическая мощь, то же упорство, то же теперь почти сознательное добродушие, с какими он встречал натиск первых настоящих волн жизни. Он надеялся, что брат всплывет над ними, а не станет упрямо прорываться сквозь них, что он вынырнет, уплывет, а не будет стоять неподвижно, словно скала, принимая свое спокойствие как благо, а не как порок.
Как-то на обратном пути после матча он сказал:
— Я слышал, тебе предлагают контракт. Представитель городской команды.
— Ага, — сказал Стивен, все еще красный после игры. Разбитый нос был заклеен пластырем.
— Ты согласишься? — спросил он.
— Да ведь, — сказал он, — деньги неплохие.
— Значит, из тебя колбасу сделают?
— Какую еще колбасу? — сказал Стивен и засмеялся.
— А такую, что ты будешь играть за деньги.
— Чего это ты вдруг деньги начал ругать? Работать будешь, а деньги получать не захочешь?
— Но не за это же! — сказал он. — Если получать деньги за игру, они становятся самоцелью.
— Ну, не думаю, — сказал Стивен.
Несколько дней спустя к ним приехали двое на автомобиле с шофером.
Эти двое прошли с отцом в нижнюю комнату. Потом туда позвали Стивена.
— Мне с тобой пойти? — спросил Колин.
— Я ж покрупнее их всех троих вместе, — сказал брат. — Как-нибудь я и сам за собой пригляжу.
Дня через три у дома остановился тот же автомобиль, и отца со Стивеном увезли в город. Стивен надел костюм, отец тоже начал было надевать костюм, но потом сказал: «Стану я перед ними хвостом вилять!» — и в конце концов поехал в спортивной куртке Ричарда.
Они вернулись только через четыре часа.
Лицо у отца раскраснелось. Войдя в дом, он хлопнул в ладоши.
— Ну, покончили, — сказал он.
Стивен вошел за ним не так быстро и, улыбаясь, поглядел по сторонам. Почему-то он наклонил голову, словно опасался задеть потолок: казалось, он заподозрил, что на самом деле крупнее, чем думал.
Отец пошарил во внутреннем кармане куртки, вынул чек и положил на стол.
— Двести фунтов, — сказал он медленно, ведя пальцем по буквам, пока не упер его в цифры. — И все, — добавил он, — мое умение убеждать.
— Ну что же, — сказала мать и поглядела на Стива так, словно то в нем, о чем она всегда знала, стало теперь явно для всех. У ее сына был какой-то дар, какая-то редкая сила, о которой прежде никто не подозревал, и он вернулся с ней в их дом невозмутимо, не потеряв головы от радости и даже не очень удивившись.
— Но ведь это только крепче его связывает, — сказал Колин. — Почему ты его продал за столько?
— Да не обращайте внимания, — сказала мать. — Уж конечно, он промолчать не может.
Половину положили в банк на имя родителей, половицу — на имя Стива. Родители купили телевизор и ковровую дорожку на лестницу. В камин нижней комнаты вставили нагревательную электроспираль.
Весной Шоу переехали на другой конец поселка. В опустевший дом въехала семья с двумя маленькими детьми. Сначала это было очень странно: детский плач за стеной по утрам, а вечером раздраженный голос мужчины.
И Майкл окончательно исчез из ригеновского дома. По слухам, его видели в одном приморском городе: он работал официантом, а потом сторожем в кино. Явились рабочие и убрали мусор из нижней комнаты. В доме поселилась пожилая пара: шахтер, еще работавший на шахте, и его жена, а несколько дней спустя и мать кого-то из них — старуха с белоснежными волосами и красным лицом, которая, как ни странно, часто выходила в огород и стояла там, словно мистер Риген много лет назад. Она смотрела на детей, бегавших по пустырю, иногда подзывала их и протягивала через деревянный забор конфеты.
— Вспомнить войну и все, что мы тут пережили вместе, — говорил отец. — А теперь остались только Блетчли да мы, — Батти тоже год назад уехали из поселка: мистер Батти из-за болезни легких должен был уйти с шахты, многочисленные сыновья и дочери перебрались в город. — И долго еще мы будем здесь торчать? — добавлял он. — Уборная во дворе, ванны нет, а людей, которые тут живут без году неделя, селят в новые дома.
Инерция радости, некоторое время поддерживавшая отца после того, как Стивена взяли в городскую команду, постепенно иссякла, и он вернулся к прежнему угасанию. Он уже не ездил смотреть каждый матч, а подыскивал предлоги остаться дома, и, хотя по субботним вечерам нетерпеливо ждал возвращения Стивена, это уже было только привычкой, и от недавнего упоения не осталось и следа. Он сидел с застывшей улыбкой на лице, слушая описание игры, о которой Стивен всегда готов был охотно рассказывать со всеми подробностями. А если отец все-таки ехал на матч, то неизменно возвращался в скверном настроении и ворчливо жаловался на холод или на то, как Стивена затирали и подводили другие игроки. Инерция жизни его сыновей больше не властвовала над ним, и он остался без опоры и цели. Он просматривал тетради Ричарда и сомневался в верности оценок, смотрел на прекрасные отметки и похвальные отзывы в дневнике и говорил что-то неопределенное, разочаровывая Ричарда и в то же время заставляя его стараться еще больше. Из школы приехал учитель поговорить о том, что у Ричарда есть все основания готовиться в университет.
— Подумать только! — сказал отец, когда учитель ушел. — Кто бы этого ждал: с чего мы начали и чего добились!
Как-то в субботу домой приехал Блетчли. Колин пошел к нему.
— А, заходи, заходи! — сказала миссис Блетчли, открывая ему дверь. — Он в гостиной.
Йен был теперь огромен. Шея у него стала совсем бычьей, обвислые щеки скрывали подбородок, красновато-коричневый жилет еле сходился на животе. Он сидел без пиджака, но, едва Колин вошел, быстро встал и натянул его. Он смотрел телевизионную передачу и не выключил телевизора. Он выглядел хмурым, словно злился, что вынужден был приехать домой.
— Ну, я ухожу, чтобы не мешать вам, — сказала миссис Блетчли, улыбнулась Колину и закрыла дверь.
Блетчли, казалось, заполнял собой всю комнату. Он махнул Колину на второе кресло, и они сели. Блетчли досадливо повернулся к телевизору.
— Ну, как живешь? — спросил он, глядя на экран. — Я слышал, городская команда предложила твоему брату контракт.
Колин рассказал, как работал в этом году: он оставался подменяющим, и его переводили из школы в школу.
— А тебе не хотелось бы чего-нибудь более постоянного? — сказал Блетчли. — Ну, да в любом случае у учителя особых перспектив нет. — Он достал трубку и быстро разжег ее. — Я сейчас на административных курсах. Потому я и дома. Еще три недели лекций и никакой работы. Меня ждет место в главной конторе. Не позже чем через три года мне дадут отдел, а уж тогда путь открыт.
— Я скоро уеду, — сказал Колин.
— Куда?
— Не знаю, — сказал он. — Куда-нибудь за границу.
— Учителем?
— Что подвернется.
Блетчли некоторое время молчал, явно утратив к нему всякий интерес. Потом, словно по ассоциации идей, он сказал: — А как там Риген?
— Работал в кинотеатре, когда я о нем последний раз слышал.
— Его мать умерла. Он тебе говорил?
— Нет, — сказал он.
— Моей матери сообщили из клиники.
— Бедняга Майкл, — сказал он.
— Ну, не знаю. Для него-то так лучше. Помнишь эту его скрипку? И воскресную школу? Как подумаешь, странно становится. — Блетчли смотрел в окно на улицу, словно был проездом в незнакомом городе. Его ничто не связывало с поселком.
Миссис Блетчли вошла с чайным прибором на подносе.
— Вы куда-нибудь пойдете? — сказала она.
— А куда? — сказал Блетчли.
— Да куда-нибудь. Ну, куда ходят молодые люди, — сказала она и расставила чашки на крохотном столике. Комната сверкала чистотой, даже еще более безупречной, чем у миссис Шоу.
— Ну, — сказала миссис Блетчли, подавая чашку Колину, — не буду вам мешать.
— Жуткое место. Не понимаю, почему они не хотят отсюда уезжать, — сказал Блетчли. Колин услышал за стеной голос Ричарда, зовущего мать, и задумался о том, какую часть их жизни можно было подслушивать за стеной и какое впечатление она оставила у Блетчли. — Я уговариваю их переехать, но они ни в какую. Помнишь Шейлу, с которой ты одно время гулял? У нее семеро детей. Семеро! — Он слепо взял чашку, продолжая смотреть на экран.
Он все еще смотрел на него час спустя, когда Колин встал, собираясь уходить.
— Ты что, уже уходишь? — сказал Блетчли, тоже встал и сунул ему руку. — Ты говорил, что куда-то едешь?
— За границу, — сказал он, сжимая пухлые пальцы.
— И что ты там будешь делать?
— Не имею ни малейшего представления.
Блетчли слепо поглядел на него и кивнул.
— Что-то не слишком обнадеживающе.
— Да, — сказал он.
— А что сталось с этим Стэффордом?
— Не знаю, — сказал он. — Ничего о нем не слышал.
— Кланяйся от меня матери, на случай если я ее не увижу перед отъездом, — сказал Блетчли и повернулся к экрану, прежде чем он подошел к двери.
— Как себя чувствует твоя мама? — сказала миссис Блетчли, а когда он взялся за ручку наружной двери, добавила: — Жалко, что вы никуда не пошли. Я иногда очень тревожусь за Йена.
— Почему? — сказал он.
— У него все идет отлично, но ему следовало бы жениться.
— Ну, он непременно скоро женится, — сказал он.
— Ты так считаешь? Но он никуда не ходит с девушками.
— А с кем же он ходит? — сказал он.
— Ну, — сказала она, — он много пьет и еще занимается. И работа, — добавила она, — берет у него много сил, Управляющий прочит его на свое место, когда уйдет на пенсию. А это, Йен говорил нам, будет не позже чем через десять лет! — Она указала на кухню, где мистер Блетчли читал газету. — Мы иногда сидим тут, вспоминаем время, когда вы с Йеном были мальчиками, и удивляемся, каких только невероятных вещей не произошло. Ведь ты тоже скоро уедешь.
— Да, — сказал он.
— Ну, — сказала она, глядя на него, — передай от меня привет твоей маме.
Как-то вечером, когда он возвращался домой, из прохода в дальнем конце улицы появился человек и окликнул его по имени нерешительным голосом, словно не был уверен, что это он. Сначала он было подумал, что это Риген, но потом увидел под фонарем рыжие волосы.
— Привет, Языкатый, — сказал Батти. — Как скрипишь?
— Ничего, — сказал он и добавил: — А ты откуда взялся?
— Думал повидать Стрингера, а он, оказывается, уехал. — Он обвел пустую улицу бесцельным взглядом, почти как Блетчли.
— Они уехали не то два, не то три года назад, — сказал он и добавил: — Где ты-то был?
— В тюряге.
— За что?
— За кражу. — Батти поглядел на него с раздражением. Его высокая фигура ссутулилась. Он отошел от фонаря.
— Пойдем выпьем, — сказал Колин.
— Куда? — сказал Батти.
— Куда хочешь.
Они пошли рядом к центральному перекрестку.
— Деньжат у тебя перехватить нельзя? — спросил Батти.
— Можно, — сказал он. — Сколько тебе надо?
— А сколько у тебя есть?
— Фунта два-три.
— А чековая книжка имеется?
— Да, — сказал он.
Батти некоторое время молчал. На углу он быстро вошел в бар, точно торопясь оказаться под крышей, и прямо направился к свободному столику.
Колин пошел к стойке, окликнув Батти, чтобы узнать, что он будет пить.
— Виски, — сказал Батти и добавил: — Двойное. — Он медленно оглянулся на стойку и прикрыл лицо.
Колин подошел со стаканами к столу.
— Сколько тебе все-таки надо? — спросил он.
— Столько, сколько дашь.
— Но что-то у тебя ведь есть?
— По правде говоря, — сказал Батти, избегая его взгляда, — я совсем сухой. Только сегодня вышел. Вот что на мне, и все.
— А что ты украл? — сказал он.
— Ты спроси, чего я не крал, — сказал Батти и выпил свое виски одним глотком.
Колин принес ему еще. На землисто-бледных щеках Батти проступили два красных пятна.
— У меня весь расчет был на Стрингера.
— Я могу одолжить тебе десять фунтов, — сказал он.
Батти отвел глаза.
— Ну, все лучше, чем ничего, — сказал он.
Когда он заполнил чек, Батти внимательно его прочел и только тогда спрятал в карман.
— Я ведь мог бы его подправить на сто, — сказал он.
— Ну, и что тебе мешает?
— Ты что, подначиваешь меня?
— А это уж как хочешь. Если не попадешься, оно, может, того и стоит. Только у меня на счету таких денег нет, — сказал он.
— А что ты-то поделываешь? — спросил Батти так, словно Колин его глубоко разочаровал.
— Учу ребят.
— Игрушки для дураков.
— Как и в тюрьме сидеть.
— Я сел потому, что мне чужое дело пришили. Больше уж я не попадусь. — Он поглядел на свой уже пустой стакан.
— Хочешь еще?
— Не откажусь.
— У своих ты был? — спросил Колин, вернувшись от стойки.
— Это еще зачем?
— А где ты будешь сегодня ночевать?
— Найду где, — сказал Батти. — Они в городе живут. Отец то есть. Я к ним сегодня зашел. Они меня на порог не пустили. Приди с пустыми руками, так кому ты нужен?
— Ну, а твои братья?
— Двое уже сидят, а их супружницам я ни к чему.
Когда они вышли, он дал ему фунт и подождал с ним на остановке автобуса в город.
— А помнишь нашу хижину? — сказал Батти и оглядел освещенную фонарями пустынную улицу. — Ну и дыра, — добавил он.
Когда подошел автобус, он молча влез в него, поднялся наверх и исчез.
Как-то в городе он вышел из бара и посмотрел вокруг смутным взглядом. Вечер еще не наступил, в небе не было ни облачка, и крыши над его головой озаряло солнце. С центральной площади доносился шум машин. Дальше по улице виднелись темные колонны Дома собраний. Слышались тихие звуки музыки.
Он медленно пошел на автобусную станцию.
Когда автобус въехал на мост, солнце заходило за фабрики.
— Прямо Италия, — сказал какой-то голос. Он оглянулся, и пассажир сзади кивнул на реку. — Италия, — сказал он еще раз, указывая на золотой свет.
Она знала, что разрыв неизбежен, и ничего не сказала, когда он сообщил ей о своем решении.
В прошлом он уже дважды говорил ей, что хочет уехать, но оба раза в конце концов возвращался.
Теперь все было по-другому, и он увидел, что она это понимает.
— Мне нужно уехать, — сказал он. — У меня нет выбора.
Она по-прежнему молчала.
Он сидел в другом конце комнаты, но теперь встал и подошел к ее креслу. В ней была какая-то неуязвимость. За окном позади виднелась улица, ряд стоящих машин, а дальше шумел город.
— Ты останешься здесь? — сказал он.
— Нет.
— Куда ты переедешь?
— Понятия не имею.
Она сидела, выпрямившись, откинув голову, стиснув руки на коленях. Ее взгляд стал рассеянным, словно она уже вырвалась из этой комнаты.
— Что же, — сказала она, — попрощаемся.
Он помог ей встать, и они поцеловали друг друга в щеку, небрежно, словно при обычных встречах.
— Как-то странно, — сказала она. — Я говорю про город. Не знаю, уеду ли я из него когда-нибудь. В старину люди с рождения и до старости жили на одном месте. Когда мы убедимся, что всюду примерно одно и то же, когда мы обнаружим, что люди всюду очень похожи на нас, когда мы поймем, что мир гораздо меньше, чем нам казалось, вернемся ли мы все обратно, как ты думаешь? Прежде я презирала Морин за то, что она остается здесь. В определенном смысле это бесплодно, но обязательно ли должно быть так? Ведь, наверное, возможность обновления приходит независимо от того, где ты живешь.
— Нет, — сказал он.
— У тебя это прозвучало так категорично! Но ведь куда бы ты ни уехал, твоя бесприютность остается с тобой — сознание, что у тебя нет своего места, что ты никому не принадлежишь и что, где бы ты ни был, окружающее не обретает истинной реальности.
— А почему бы ему не обрести реальность?
— Но ведь только мертвые, только прошлое создают реальность.
— Нет, — сказал он еще раз. — Мертвые только препятствуют ей.
— Но чего ты, собственно, ищешь там? — спросила она. — Разве все не кончается так, как началось? Разве я не кончу тем, что буду работать у отца? Как бы ни старалась этого избежать? Возможно даже, — добавила она, — я стану хозяйкой аптеки.
— И для удобства выйдешь замуж за фармацевта?
— Почему бы и нет?
— Не знаю, — сказал он. — Но было бы ужасно, если бы оказалось, что ты права.
— Шекспир никуда дальше Лондона не ездил. Для Микеланджело было довольно Флоренции и Рима. Рембрандт всю жизнь прожил буквально на одном месте. Самообман думать, будто обязательно надо разбить свою оболочку. Ведь, может быть, оболочка — самое ценное, что у тебя есть.
— Да, — сказал он. — Только я не верю этому. И путешествия — единственный способ ее разбить.
— Но что тебе мешает остаться?
— А в таком случае ты захочешь, чтобы мы поженились? — сказал он.
Она засмеялась: она заставляла его описывать круги, но эту линию рассуждений завершить не могла.
— Мои шансы на победу настолько меньше твоих! — сказала она.
— Оттого что ты старше?
— Оттого что я женщина.
— Так это же только должно придавать остроты?
— Но ведь я женщина, сформированная старыми понятиями, — добавила она. — Я верю, что в конечном счете существует только один мужчина. Так же, как для каждого мужчины существует только одна женщина. Не просто какой-то мужчина или какая-то женщина, но единственный мужчина. И единственная женщина.
— Ну, а я, — сказал он резко, — этому не верю.
— Возможно, позднее ты убедишься, что это так.
— Нет, — сказал он. — Я отказываюсь этому верить.
— Отказывайся, сколько хочешь, мальчик мой, — сказала она, — но в конце концов ты никуда не денешься. Единственный мужчина — единственная женщина. Нерушимое единство. Без чего невозможно никакое развитие.
Она вновь стала так похожа на себя прежнюю, что он засмеялся и взял ее за руку.
— Все-таки это была дружба, — сказал он.
— Ну, к чему такое мирное слово! — сказала она. — Достаточно и горечи, только ты про нее никогда не узнаешь. Я — старший партнер. У меня был мой шанс, и я считаю своим долгом ничего не показывать.
— Ты так старательно себя умаляешь, — сказал он. — И сама создаешь оболочку, вместо того чтобы предоставить это жизни. Я верю, что жизнь безгранична, что опыт безграничен, но их нельзя постичь, оставаясь в неподвижности.
— Ну, так уезжай и испробуй сам, — сказала она. — Может быть, когда ты вернешься — если вернешься, — то поймешь, что ошибался. В конце-то концов разве всякое общество не слагается из общности людей, которые строят свою жизнь по заданной этой общностью схеме?
— Но такая общность — ничто, — сказал он. — Она опирается, — продолжал он, — на собственные потребности. Когда потребность исчезает, исчезает и общность. И нет никакого смысла оставаться и ждать чего-то.
— А! — сказала она тусклым голосом, глядя на него, как будто могла бы многое добавить. Словно ребенок плакал, прося, чтобы ему открыли дверь.
— Вот теперь я вижу, — сказал он, — в чем разница между нами. У тебя вовсе нет веры, тогда как все, что случается со мной, пусть самое худшее, только укрепляет мою. От того, что все плохо и становится хуже, вера только укрепляется.
— Вера во что?
— В невозможное. Все дозволено, все разрешено, и произойти может что угодно. Считать, что так быть не может, — это высокомерие, — добавил он. — И вовсе не высокомерие — предполагать, что так будет.
— Ну что же, — сказала она тихо. Она уже снова сидела, положив руки на колени, глядя на сплетенные пальцы. — Ну что же — сказала она устало, точно он был необоримой силой.
— Ведь я могу сделать так много! — сказал он. — Не знаю, почему я это чувствую, но я знаю, что это правда. — А когда она подняла голову, он добавил: — Я был пессимистом, как ты. Теперь я стал другим. Мне бы хотелось, чтобы ты разделила эту уверенность. Чтобы я не только брал, но и что-то дал взамен.
— Да, — сказала она и добавила: — Это ведь только молодость. А ее ты дать не можешь, как бы ни хотел.
Так что они расстались все-таки с некоторой горечью. Она ничего не могла с этим поделать — а может быть, и в этот последний момент она думала, надеялась какой-то частью своего существа, что он все-таки вернется, что между ними есть неясная, но нерасторжимая связь и его бунт будет коротким. Но больше он к ней не пришел, и в его памяти она так и осталась стоящей в этой комнате: она даже не подошла к двери. Он оглянулся, нахмурившись, словно на смутную тень, которую не мог разглядеть, и почувствовал себя виноватым — теперь он почти из-за всего чувствовал себя виноватым.
Но едва выйдя на улицу, он снова ощутил уверенность. Тучи разошлись: ни город, ни поселок, когда он позже приехал туда, его больше не удерживали. Его ничто не связывало. Скорлупа треснула.
Мать проводила его на станцию. Было воскресенье, и кругом стояла тишина. Мало кто ездил с этим поездом, единственным лондонским поездом, который тут останавливался.
— Нам тебя будет недоставать, — сказала мать. Но казалось, он уехал от нее давным-давно. Они молча ждали поезда.
Воздух был неподвижен. Вдали над рельсами висело марево, прятавшее другие поселки, в противоположной стороне не было видно ничего, кроме откосов выемки.
За последние четыре года он скопил почти пятьдесят фунтов. Все его вещи уместились в сумке, которую он легко нес одной рукой.
— Ну вот, — с облегчением сказала мать, когда показался поезд.
Мимо прогремел паровоз.
Он сел в один из первых вагонов.
Мать подошла к двери. Он нагнулся и поцеловал ее.
Ее кожа была землисто-бледной.
— Тебе же там даже остановиться негде, — сказала она. — Ни комнаты, ничего.
— А зачем мне комната, — сказал он. — Буду ночевать на улице.
— Нет. Только не на улице, — сказала она и добавила почти рассеянно: — Думай о тех, кто тебя любит, Колин.
Она заплакала.
Потом достала платок и отвела взгляд.
Он нетерпеливо ждал, чтобы поезд тронулся. На станции было тихо: кроме него, в поезд сели еще только двое.
— Так ведь я вернусь, — сказал он. — Я же не навсегда уезжаю.
— Да, — сказала она, но словно чувствуя, что больше никогда его не увидит, как он не увидит ни поселка, ни близких: черный безобразный паровоз увозил его навсегда.
Раздался гудок.
— Ну, — сказал он, — больше не жди.
— Ничего, — сказала она. — Я подожду. — И неопределенно подняла руку, когда паровоз двинулся.
Вагон дернулся, и мгновение спустя вверху промелькнул пешеходный мостик. Он высунулся, увидел ее фигуру, и тут же она исчезла за облаком пара.
Стенки выемки заслоняли поселок. Наконец, когда откосы ушли вниз, он увидел церковь, развалины господского дома на дальнем холме, дым, лениво поднимающийся над шахтой.
Перед окном снова поднялся откос, а когда некоторое время спустя поезд помчался через поля, поселок уже совсем скрылся из вида. Вдали над полосой деревьев висел мазок темного дыма.