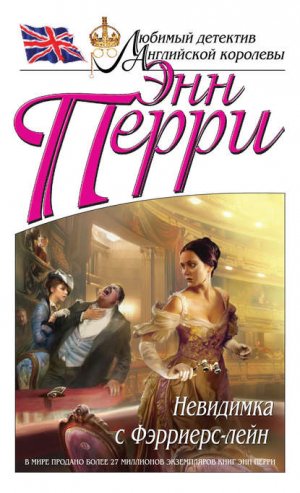
Глава первая
– Ну, разве он не замечательный? – прошептала Кэролайн Эллисон своей дочери Шарлотте. – У него простейшее слово или жест настолько полны чувством…
Они сидели бок о бок в полутемной театральной ложе, обитой красным бархатом. Стояла поздняя осень, но еще не топили, и в театре было холодно. К концу первого акта от скопления людей в партере воздух внизу потеплел, но здесь, в первом ярусе, было иначе. Иногда зрители согревались рукоплесканиями и топаньем ног, но сейчас в драме настал напряженный момент, и шорох возбуждения больше напоминал мерзлявую дрожь.
Сцена сияла огнями, актеры выгодно выделялись на фоне романтических, хотя довольно шатких, деревянных декораций. Внимание Кэролайн особенно привлекал один из актеров, мужчина немногим выше среднего роста, худощавый и тонкий в кости, с орлиным носом; выражение его лица было одновременно насмешливым и мечтательным. Угадывалась в нем и склонность к трагическому мировосприятию. Это был Джошуа Филдинг, актер-премьер труппы, и Шарлотта теперь совершенно убедилась, что мать выбрала этот спектакль именно из-за него.
Кэролайн явно ожидала ответа. На ее подвижном интеллигентном лице сейчас отражалось какое-то необычное тревожное ощущение, словно ответ Шарлотты имел для матери большое значение. Мать не так давно овдовела, однако на смену первому порыву горя вскоре пришла эйфория, ощущение свободы, словно Кэролайн поняла, как много предстоит ей узнать и сделать без постоянного сдерживающего начала – теперь, когда она сама себе хозяйка. Миссис Эллисон читала что хотела, в том числе политические статьи и дискуссии на спорные темы, иногда скандального толка; свободно встречалась с представителями разных социальных групп и обсуждала с ними разнообразные проблемы, что раньше ей не дозволялось; слушала лекции реформаторов, путешественников и ученых, сопровождавших свои выступления показом фотографий и диаграмм.
Однако удовольствие, которое она получала от такой жизни, иногда слегка омрачалось чувством одиночества.
– Да, мама, действительно хорошая игра, – искренне согласилась Шарлотта. – У него такой голос, который можно слушать часами.
Кэролайн улыбнулась и снова обратила внимание на сцену, на какое-то время вполне удовлетворенная.
Шарлотта искоса взглянула на мужа, но глаза Томаса были прикованы к зрителям, занимавшим ложу того же яруса в десяти шагах от них. Там сидел мужчина немного за шестьдесят с редеющими волосами и широким лбом. В данный момент он не отрываясь глядел на сцену. Рядом с ним находилась красивая темноволосая женщина, по крайней мере лет на двенадцать-четырнадцать моложе. Когда она пошевелилась, слегка повернув голову и коснувшись рукой волос, на ее шее сверкнуло драгоценное ожерелье.
– Кто это? – прошептала Шарлотта.
– Что? – вскинулся от неожиданности Питт.
– Кто они? – тихо повторила она, смотря мимо него на ту ложу.
Томас немного смутился. Визит в театр был как бы подарком от Кэролайн, и ему не хотелось казаться рассеянным, хотя пьеса не слишком его интересовала.
– Это член Апелляционного суда, – прошептал он в ответ, – мистер Стаффорд.
– А это его жена? – Шарлотта старалась понять, что именно так заинтересовало мужа.
Тот незаметно улыбнулся.
– Да, наверное, а что?
Шарлотта взглянула на другую ложу почти с нескрываемым интересом.
– Тогда почему ты на них так внимательно смотришь? – спросила она, все еще шепотом. – А кто сидит в соседней ложе?
– Да как будто судья Ливси.
– А он не слишком молод для судьи? Но довольно красив, правда? И миссис Стаффорд, по-видимому, тоже так думает…
Питт скосил глаза в сторону тещи – Кэролайн была слишком занята происходящим на сцене, чтобы прислушиваться к их разговору. Он проследил за взглядом Шарлотты и едва слышно ответил:
– Да нет, не черноволосый, а тот, что поближе. Молодой – это Адольфус Прайс. Он адвокат суда Ее Величества. А Ливси – тот дородный седой мужчина.
– Ну, хорошо, но почему же все-таки ты столь внимательно их разглядываешь?
– Меня удивило, что мистер Стаффорд очень напряженно следит за действием, – ответил Питт, слегка пожав плечами. – Пьеса слишком уж романтична. Вот не думал, что он любит такие. Десять минут не отрывал взгляда от сцены, а то и больше… Даже ни разу не сморгнул!
– Но, может, он влюблен в Тамар Маколи? – спросила Шарлотта, слегка хихикнув.
– В кого? – ответил, поморщившись, Томас.
– Да в актрису! – Шарлотта потеряла терпение и на мгновение повысила голос. – Да ну же, Томас! Погляди, наконец, на сцену. Эта актриса играет главную героиню!
– О да, конечно! Забыл, как ее зовут. Извини. Но говори тише, – заметил он ехидно. – И тоже смотри.
Они устремили внимание на сцену и почти четверть часа молчали, когда вдруг из ложи Стаффорда послышались негромкий крик и какая-то приглушенная суета. Даже Кэролайн вынуждена была оторвать взгляд от сцены.
– Что происходит? – спросила она, встревожась. – Что случилось? Кому-нибудь плохо?
– Да, похоже на то, – ответил Питт, отодвигая стул, словно собираясь встать, но затем переменив свое намерение. – Наверное, судье Стаффорду стало нехорошо.
И действительно, миссис Стаффорд вскочила и явно в тревоге наклонилась над мужем, стараясь ослабить узел его галстука и расстегнуть воротничок, говоря что-то тихо и взволнованно. Судья, однако, не отвечал. Его конечности судорожно подергивались, а на лице застыло неподвижное выражение, как будто он и сейчас не мог отвести взгляда от сцены и актеров, игравших предназначенные им роли.
– Может, надо помочь? – прошептала нерешительно Шарлотта.
– Но что можно сделать? – У Питта был встревоженный вид, лицо нахмурилось. – Ему, скорее всего, необходим врач. – Однако он опять отодвинул стул и поднялся. – Наверное, все-таки надо взглянуть; может быть, она хочет, чтобы кто-нибудь послал за врачом. И, возможно, надо перенести его в более укромное место, где он мог бы полежать. Пожалуйста, извинись за меня перед Кэролайн. – И, не ожидая ответа, Питт выскользнул в дверь.
Очутившись в широком коридоре, он поспешил к интересующей его ложе, считая двери, пока не достиг нужной. Стучать было бессмысленно: женщина старалась изо всех сил помочь мужу и не подошла бы открыть. Впрочем, дверь была не заперта, более того, слегка приотворена, поэтому Питт толкнул ее и вошел.
Сэмюэл Стаффорд осел в кресле почти бесформенной грудой, лицо у него пылало. Даже от двери Питт мог слышать его громкое трудное дыхание. Джунипер Стаффорд теперь стояла у края ложи, прислонившись к бортику, прижав руки к лицу так сильно, что побелели суставы пальцев. Ее, казалось, парализовал страх. Возле Стаффорда опустился на колено судья Игнациус Ливси.
– Не могу ли я чем помочь? – быстро спросил Питт. – Вы уже послали за доктором или мне это сделать?
Ливси оглянулся, словно в испуге. Он, по-видимому, не слышал, как Томас вошел. Это был рослый мужчина с большой головой и выразительными чертами лица, довольно коротким носом и мясистым подбородком. То было лицо человека, убежденного в своей правоте и храброго, но, возможно, с импульсивным характером. Такие лица часто встречаются у людей, подверженных быстрой перемене настроения, но которые умеют с легкостью управлять эмоциями других.
– Да, пошлите за врачом, – торопливо согласился он, бросив на Питта быстрый взгляд, дабы удостовериться, что перед ним джентльмен, а не любопытствующий нахал. – Сам я не разбираюсь в медицине и, боюсь, не смогу помочь.
– Да, разумеется. Я сейчас пришлю свою жену, чтобы та осталась с миссис Стаффорд.
Лицо Ливси выразило большое удивление.
– А вы знакомы со Стаффордом?
– Только слышал о нем, мистер Ливси, – ответил Томас с самой обезоруживающей улыбкой.
Человек в кресле соскальзывал с сиденья все ниже, дыхание его замедлялось. Не тратя времени даром, Питт вышел и, подойдя к своей ложе, распахнул дверцу.
– Дело серьезное, Шарлотта, – сказал он повелительно. – Думаю, что бедняга умирает. Тебе надо бы пойти туда и поддержать миссис Стаффорд.
Кэролайн обернулась и взволнованно посмотрела на него.
– Оставайтесь здесь, мама, – ответил Питт на немой вопрос.
Шарлотта встала, вышла вместе с мужем и бегом бросилась к ложе Стаффорда, только юбки развевались. Томас направился в противоположную сторону, в администрацию. Он нашел нужную дверь, резко постучал и вошел, не ожидая приглашения.
Внутри сидел мужчина с великолепными усами. Он сердито посмотрел на вошедшего, который оторвал его от разглядывания очень нескромной фотографии.
– Как вы смеете, сэр! – запротестовал он, слегка привставая. – Это…
– Дело срочное, – отрезал Питт, не потрудившись улыбнуться. – Один из покровителей вашего театра, ложа четырнадцатая, чрезвычайно болен. В сущности, боюсь, что он умирает. Это судья Стаффорд.
– О господи, – обомлел администратор, сильно побледнев. – Как это ужасно! Какой скандал! Люди так суеверны… Я…
– Нечего об этом думать, – перебил его Питт. – В театре есть врач? Если нет, вам лучше послать за ближайшим как можно скорее. Я иду обратно, посмотреть, нельзя ли чем помочь.
– А кто вы, сэр? Ваше имя?
– Питт. Инспектор полиции Томас Питт с Боу-стрит [1].
– О милосердное небо! Какое несчастье! – В лице у администратора не осталось ни кровинки.
– Не будьте идиотом! – отрезал Томас. – Это не преступление. Бедняге внезапно стало плохо, а я случайно оказался поблизости, в другой ложе со своей семьей. Бывает, в театр ходят даже полицейские. А теперь, ради бога, быстрее найдите врача!
Администратор открыл и закрыл рот, не издав ни звука. Затем поспешно собрал фотографии, сунул их в ящик стола, быстро и громко задвинул его и поспешил за Питтом, который уже шагал по коридору.
В четырнадцатой ложе Сэмюэл Стаффорд уже лежал в дальнем углу ложи, чтобы по возможности не привлекать взгляда тех, кто предпочитает реальную драму неторопливо разворачивающейся на сцене. Актеры были достаточно дисциплинированны, чтобы не обращать внимания на волнение и суету в зрительном зале. Ливси снял пиджак и, свернув, подложил его под голову Стаффорда, стоя возле него на коленях и озабоченно всматриваясь ему в лицо. Джунипер Стаффорд сидела в кресле, наклонившись вперед и обратив напряженное лицо к мужу, не приходящему в сознание. Дыхание его становилось все тише и реже, лицо побледнело. Он был уже белый как мел и не двигался, только едва заметно вздымалась и опадала грудь. Конечности больше не подергивались. Шарлотта встала на колени возле Джунипер, обняв ее за талию и взяв ее руку в свои.
– Администратор послал за врачом, – сказал Питт тихо, впрочем, он понимал, что все это без надобности, уже слишком поздно.
Ливси взял Стаффорда за руку, чтобы нащупать пульс, затем поднялся с колен, закусив губу, и взглянул на Питта.
– Спасибо, – сказал он просто. Взгляд его одновременно выражал безнадежность и предупреждал, чтобы инспектор не сболтнул ничего лишнего в присутствии Джунипер.
В дверь очень неуверенно постучали.
– Войдите. – Ливси посмотрел на Питта, потом на дверь. Для врача было рановато, если только он не присутствует в театре, причем в том же самом ярусе.
Дверь отворилась, и Питт узнал гладкое, смуглое лицо Адольфуса Прайса, адвоката суда Ее Величества. Тот был явно смущен. Сначала он взглянул на Джунипер Стаффорд, съежившуюся в кресле и прижавшуюся к Шарлотте, затем посмотрел на тело Сэмюэла Стаффорда, распростертое на полу. Даже в слабом свете, отражавшемся от светильников в ложе и казавшемся еще тусклее по сравнению с блиставшей яркими огнями сценой, которая подсвечивала и зрительный зал, можно было не сомневаться, что Стаффорд находится при последнем издыхании.
– Что случилось? – тихо спросил Прайс. – Я могу чем-нибудь помочь?
Голос у него оборвался. Было совершенно ясно, что никто из присутствующих ничем помочь не может, что тут требуется врачебное искусство, но, возможно, и оно уже не требуется.
– Миссис Стаффорд?
Джунипер ничего не ответила, только устремила на него взгляд огромных глаз, в которых застыло отчаяние.
– Было бы очень любезно с вашей стороны принести стакан холодной воды, – твердо сказала Шарлотта, – и убедиться, что карету миссис Стаффорд беспрепятственно подадут к подъезду, чтобы, когда нам можно будет уехать, ей не пришлось ждать…
– О, конечно! Да-да, конечно, я все сейчас сделаю…
Казалось, Прайс был глубочайше благодарен, что может оказать практическую помощь. Он задержался на мгновение, чтобы еще раз взглянуть на Джунипер, затем быстро повернулся и вышел так стремительно, что задел на ходу низенького рыжеватого взлохмаченного человечка с очень маленькими, полными и чрезвычайно чистыми руками.
Войдя, тот инстинктивно понял, что главная персона здесь Ливси, и обратился к нему:
– Я доктор Ллойд. Администратор сказал… Ах! Вижу! – Он устремил пристальный взгляд на Стаффорда, который уже почти не дышал. – О, боже мой, боже! Да! – И опустился на колени, внимательно вглядываясь в его лицо. – Что с ним, вы не знаете? Хотя тут и спрашивать нечего – вероятно, сердечный приступ.
Он стал прощупывать пульс лежащего, и лицо его с каждой секундой становилось все более озабоченным и мрачным.
– Судья Стаффорд, вы сказали? Боюсь, мне не очень нравится его вид. – Доктор потрогал бледное лицо Стаффорда. – Цепенеет, – объявил он, выпятив губу. – Вы можете объяснить, сэр, что произошло? – Последние слова относились к Ливси.
– С самого начала болезнь развивалась очень быстро, – отчетливо, но тихо ответил тот. – Я находился в соседней ложе, когда увидел, как он сильно наклонился вперед, и вошел узнать, не требуется ли помощь. Сначала я подумал, что у него нелады с желудком или что-нибудь в этом роде, но теперь боюсь и предполагать… Видимо, это были симптомы чего-то гораздо более серьезного.
– Его как будто не рвало, – заметил доктор.
– О нет, нет, – согласился Ливси. – Это действительно похоже на сердечный приступ, как вы и сказали. Но он не жаловался на боль, пока был в сознании, и сложилось такое впечатление, что почти с самого начала он пребывал в каком-то оцепенении. Словно ему хотелось спать… так, во всяком случае, могло показаться.
– Он был очень красный, когда я вошел, – заметил Томас.
– О? А вы кто, сэр? – спросил Ллойд, поворачиваясь и хмуро глядя на Питта. – Извините, я вас не заметил. Полагаю, джентльмен каким-то образом имеет отношение к происходящему?
– Меня зовут Томас Питт, я полицейский инспектор с Боу-стрит.
– Вы из полиции? Боже милостивый!
– Но здесь я нахожусь частным образом, – продолжал Питт спокойно. – Я присутствую на спектакле вместе с женой и тещей, наша ложа недалеко отсюда, и я просто хотел предложить свою помощь или вызвать врача, когда заметил, что мистеру Стаффорду стало плохо.
– Весьма похвально, – фыркнул Ллойд и вытер руки о свои панталоны. – Но зачем тревожить еще и полицию по такому случаю?.. Господи боже! Ситуация и без того трагична. Может, кто-нибудь будет настолько любезен, чтобы позаботиться о миссис… э… Стаффорд? Здесь она, бедняжка, ничем не может помочь.
– Неужели я… я? О, Сэмюэл! – Джунипер осеклась и поднесла платок ко рту.
– Я уверена, что вы уже сделали все возможное, – ласково ответила Шарлотта, взяв ее за руку. – А остальное уж дело доктора. А если мистер Стаффорд будет пребывать в бессознательном состоянии, то все равно не хватится вас. Пойдемте со мной; позвольте отыскать для вас местечко поспокойнее, где можно подождать, пока нам не сообщат что-нибудь новое о его состоянии.
– Вы так думаете? – Джунипер повернулась к ней, в голосе прозвучала отчаянная мольба о помощи.
– Да. Не может быть никаких сомнений на этот счет, – ответила Шарлотта, бросив на Томаса молниеносный взгляд, и затем опять обратилась к Джунипер: – Пойдемте со мной. Может быть, мистер Прайс найдет для вас стакан воды и даже отыщет вам экипаж.
– О, я не в состоянии сейчас ехать домой!
– Ну конечно же не сейчас! Но если все так, как говорит доктор, тогда нам придется стоять и ждать, когда подъедет карета.
– Нет, нет, этого не надо. Вы, конечно, правы!
Слегка опираясь на руку Шарлотты, Джунипер встала. Поблагодарив Ливси за помощь и бросив еще один взгляд на неподвижное тело мужа, она подавила рыдания и позволила Шарлотте увести ее.
Ллойд глубоко вздохнул.
– А теперь займемся делом, джентльмены. Я весьма и весьма опасаюсь, что уже ничем не в состоянии помочь мистеру Стаффорду. Он очень быстро угасает, и у меня с собой нет никаких лекарств. Кроме того, в сущности, неизвестно, что могло бы помочь ему в таком состоянии. – Ллойд нахмурился, поглядел на совсем уже неподвижное тело пациента, дотронулся до груди Стаффорда, потом пощупал пульс на шее и на запястье, молча и грустно покачивая головой.
Ливси стоял рядом с Питтом, спиной к зрительному залу и сцене, на которой, очевидно, не подозревали, что в одной из лож театра близится к завершению другая, незаметная, но мрачная драма жизни.
– Итак, – сказал Ллойд спустя несколько мгновений, – судья Стаффорд скончался. – Он неуклюже встал, поправил стрелку на брюках и поглядел на Ливси. – Естественно, следует обо всем сообщить его лечащему врачу, а бедная вдова уже, наверное, подозревает об истинном положении вещей. Бедная женщина. Боюсь, что не могу назвать вам причину смерти, никаких идей на этот счет. Необходимо провести вскрытие. Это очень огорчительно, но в подобных случаях так полагается по закону.
– Значит, у вас нет никаких предположений? – нахмурился Питт. – Разве причина тут не в какой-нибудь знакомой вам болезни?
– Нет, сэр, не в этом, – ответил довольно резко Ллойд. – И неразумно ожидать от какого бы то ни было врача, чтобы он поставил диагноз за несколько минут, не зная истории болезни, да еще при том, что пациент в бессознательном состоянии, – и все это в условиях полутемной театральной ложи, во время спектакля… Вот уж поистине, сэр, вы желаете невозможного!
– Но это не сердечный приступ и не апоплексический удар, – продолжал Томас, не считая нужным извиниться.
– Нет, сэр, это не болезнь сердца, насколько я могу судить, и не апоплексия. В действительности, если бы я не знал, что этого не может быть, то заподозрил бы, что пациент принял какой-то препарат, содержащий опий, причем в чрезмерной дозе. Но это если не принимать во внимание, что люди его положения опиум не употребляют – во всяком случае, в дозах, способных привести к подобному результату.
– Сомневаюсь, чтобы судья Стаффорд курил опиум, – холодно вставил Ливси.
– А я и не предполагаю, сэр, что он его курил, – отрезал Ллойд. – Но, в сущности, я все это говорю, чтобы ответить на вопрос присутствующего здесь мистера… мистера Питта. – И он дернул головой в сторону последнего. – Сам я далек от подобной мысли. Кроме того, человек не может выкурить столько опиума, чтобы это привело к подобному исходу. Для этого надо принять много опиумной настойки. Но, в самом деле, зачем даже обсуждать подобную возможность! – Доктор нетерпеливо и энергично пожал плечами. – Нет, я не знаю причину смерти этого несчастного. Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо, как я уже сказал, провести вскрытие. Возможно, лечащий врач знает что-то такое о состоянии его здоровья, что позволит объяснить летальный исход. А теперь я больше ничем не могу быть полезен, а потому извините меня – мне нужно присоединиться к моей семье, которая отправилась в театр в надежде вместе провести вечер, наслаждаясь цивилизованным развлечением.
Он опять фыркнул.
– Я в высшей степени огорчен постигшей вас утратой, глубоко сожалею, что не мог ее предотвратить, но было уже слишком поздно, слишком, слишком поздно. Вот моя карточка. – Он быстро, как фокусник, достал ее и вручил Ливси. – Всего хорошего, сэр… Мистер Питт…
Ллойд проворно отвесил поклон и закрыл за собой дверь, оставив Питта и Ливси наедине с телом Сэмюэла Стаффорда. Ливси выглядел очень мрачным и опечаленным. Он побледнел, во всем его теле чувствовались усталость и напряженность, широкие плечи немного ссутулились; голова склонилась, и слабый свет упал бликами на его густую шевелюру. Он медленно сунул руку в карман брюк, вытащил изящную, оправленную в серебро охотничью фляжку, протянул ее инспектору и сказал:
– Это фляжка Стаффорда. Я видел, как он пил из нее сразу после антракта. Отвратительно думать, но, возможно, в ней и содержится ответ на вопрос, что стало причиной его болезни. Может быть, вы возьмете ее и отдадите содержимое на анализ? Хотя бы только для того, чтобы исключить подобное предположение…
– Яд? – мрачно спросил Питт и посмотрел на Стаффорда. Чем больше он раздумывал над тем, что и как произошло, тем все менее абсурдными казались ему слова Ливси. – Да, – согласился он. – Да, конечно. Вы совершенно правы. Эту возможность обязательно нужно принять во внимание, хотя бы только для того, чтобы доказать обратное. Благодарю вас.
Он взял фляжку и осмотрел ее, медленно вращая в руках. Она была очень изящная, очень дорогая, вся оправлена в серебро. На ней было выгравировано имя Сэмюэла Стаффорда и дата, когда фляжка была ему подарена, – 28 февраля 1884 года. Недавний дар, преподнесенный всего пять с половиной лет назад. Прекрасный дар, возможно, принесший смерть…
– Да, я, конечно, исследую ее содержимое, – продолжал Питт. – А пока надо бы подробнее выяснить все, что можно, о том, как мистер Стаффорд провел этот вечер и что предшествовало трагическому событию.
– Безусловно, – согласился Ливси. – И надо устроить так, чтобы тело унесли незаметно. Нужно будет объяснить миссис Стаффорд, почему его нельзя доставить домой до медицинского исследования, которое должно установить причину смерти. Но как это все прискорбно для нее! Как печально… У двери в ложу есть замок?
Питт обернулся.
– Нет, только обыкновенная задвижка. Я побуду здесь, пока вы не известите администрацию и не попросите прислать сюда констебля. Нельзя держать дверь открытой.
– Естественно. Ну, я пойду. – И не ожидая ответа, Ливси вышел, оставив Томаса одного, – как раз в тот момент, когда под долгие и горячие аплодисменты занавес опустился.
Выйдя из ложи вместе с Джунипер Стаффорд, Шарлотта почти сразу же увидела Адольфуса Прайса, который нес стакан воды в вытянутой руке. Вид у него был чрезвычайно взволнованный, а темные глаза смотрели на Джунипер с выражением, которое Шарлотта приняла бы за страх.
– Моя дорогая миссис Стаффорд, – сказал он отрывисто. – Могу ли я хоть чем-то вам услужить? Я отдал приказ вашему кучеру, и он подъедет, как только вы пожелаете. Как мистер Стаффорд?
– Не знаю, – сдавленно ответила Джунипер. – Он… выглядел… словно был очень болен. И все это… так внезапно!
– Я очень, очень расстроен, – сказал Адольфус. – Никогда не думал, что у него плохо со здоровьем, никогда бы не поверил в это. – И он протянул ей стакан воды.
Джунипер ответила ему долгим взглядом, в котором выражалась острая боль. Она взяла стакан обеими руками, на пальцах сверкнули драгоценные камни. Ее нарядное великолепное платье теперь казалось до абсурда неуместным.
– Но это не так. Он, конечно, не был болен, – торопливо ответила она. – Во всяком случае, я тоже никогда, никогда об этом не подозревала! Вот почему все кажется таким бессмысленным и невероятным… – Голос ее становился все пронзительнее и вдруг сорвался. Она заставила себя отпить глоток воды.
Адольфус пристально смотрел на нее. Он совершенно не замечал присутствия Шарлотты, словно ее вообще здесь не было. Все его внимание было сконцентрировано на Джунипер, однако, казалось, он не может найти подходящие слова, чтобы ее утешить.
– Врач сделает все, что полагается в таких случаях, – заметила Шарлотта. – И самое лучшее для нас сейчас – отыскать спокойное место, где мы могли бы подождать развития событий, правда?
– Да… да, конечно, – согласился Адольфус и снова посмотрел на Джунипер. – Вы не хотите ничего сказать, миссис Стаффорд? По крайней мере, не хотите ли, чтобы я пошел узнать… как он сейчас?
– Конечно, хочу, мистер Прайс. Вы очень любезны.
Джунипер с отчаянием посмотрела на него, а затем, опираясь на руку Шарлотты, отвернулась и пошла в маленький уединенный зальчик, где только час назад зрители угощались перед спектаклем. В дверях стоял администратор, ломая руки, и что-то нечленораздельно, очень волнуясь, бормотал.
Шарлотте показалось, что они были здесь вечность назад. Она иногда брала стакан из рук Джунипер, затем возвращала его, делая какие-то краткие, ничего не значащие замечания, и старалась ее утешить, но при этом без глупых заверений и обещаний, что все кончится благополучно, чего, как она понимала, быть, по всей вероятности, не может.
Через некоторое время вошел Игнациус Ливси. Лицо его было серьезно и печально, и Шарлотта сразу поняла, что Стаффорд умер. И Джунипер, лишь взглянув на него, все тоже поняла, утратив последнюю надежду. Она глубоко вздохнула, опустила опухшие веки и ничего не сказала. По щекам покатились слезы.
– Я чрезвычайно опечален, – тихо сказал Ливси. – Мне причиняет боль необходимость сообщить вам, что он скончался. В утешение я могу сказать только то, что кончина его была совершенно спокойной и он не должен был чувствовать ни боли, ни скорби – разве только на мгновение, да и оно было столь кратким, что он даже не успел ничего понять. – Ливси стоял, заполняя собой дверной проем, – олицетворение справедливости закона и стабильности в этом ужасном меняющемся мире. – Он был прекрасным человеком, который с большим отличием служил закону больше сорока лет, и о нем будут вспоминать с почтением и благодарностью. Англия стала лучше, а ее общество – мудрее и справедливее оттого, что он жил в нем. И это должно быть для вас утешением и подспорьем, когда с течением времени боль утраты несколько утихнет. Таким наследием может похвалиться не каждая вдова, и вы можете гордиться им по всей справедливости.
Джунипер пристально взглянула на него, пытаясь что-то сказать. Больно было видеть все это, и Шарлотте страстно захотелось ей помочь.
– Как это благородно и трогательно с вашей стороны, – обратилась она к Ливси, схватив Джунипер за руку и крепко ее сжимая. – Спасибо, что пришли исполнить, может быть, самую трудную миссию – сообщить о смерти близкого человека… А сейчас, так как, по-видимому, ничего иного сделать нельзя, может быть, вы окажете любезность и попросите, чтобы подъехал экипаж миссис Стаффорд? Полагаю, врач позаботится об остальном?
– Разумеется, – согласился Ливси. – Но… – его лицо еще больше омрачилось, – к сожалению, в силу внезапности всего случившегося полиция, возможно, пожелает задать несколько вопросов.
К Джунипер вернулся голос – очевидно, в этот момент удивление оказалось сильнее горя.
– Полиция? Зачем? Кто… я хочу сказать, почему они явились? Как они вообще об этом узнали? Это вы?..
– Нет… все совершенно случайно. Вопросы хочет задать мистер Питт, который зашел в ложу, чтобы предложить помощь.
– Какие вопросы? – Джунипер взглянула на Шарлотту, явно недоумевая. – О чем тут спрашивать?
– Наверное, он хочет узнать, что Сэмюэл ел или пил в последние несколько часов, – ласково ответил Ливси. – А может быть, о том, чем он занимался днем. Если вы достаточно владеете собой, чтобы ответить на его вопросы, ему это очень поможет.
Шарлотта хотела что-то сказать, возможно, возразить, но ничего не придумала, кроме фраз, которые были бы сейчас совсем бесполезны. Стаффорд умер внезапно и по неизвестной причине. И в данном случае формальное расследование неизбежно. Ливси прав. Чем раньше все будет улажено, тем скорее вдова сможет отдаться без помех естественному чувству горя, тем скорее наступит исцеление.
Открылась дверь, и вошел Питт, за которым по пятам следовал Адольфус Прайс.
Джунипер быстро взглянула на адвоката, затем с видимым усилием отвела взгляд.
– Мистер Питт, – сказала она тихо. – Я понимаю, что вы из полиции. Мистер Ливси объяснил, что вам необходимо задать мне несколько вопросов о… смерти Сэмюэла. – Она издала глубокий вдох. – Я расскажу все, что мне известно, хотя не знаю, чем могу вам быть полезна. Я и понятия не имела, что он болен. Он никогда даже не намекал на это…
– Я понимаю, миссис Стаффорд. – Томас без приглашения сел, чтобы ей не приходилось глядеть на него снизу вверх. – Я глубоко опечален, что обязан потревожить вас в столь тяжелый момент, но если бы я обратился к вам позднее, вы к тому времени наверняка позабыли бы о какой-нибудь мелочи, способной прояснить дело.
Джунипер была очень бледна, руки ее дрожали, но внешне она сохраняла спокойствие. Женщина, по-видимому, все еще была слишком потрясена, чтобы разразиться рыданиями или рассердиться, что часто бывает после подобной утраты.
– Миссис Стаффорд, что ел ваш муж за обедом, прежде чем поехать в театр?
Она с минуту обдумывала вопрос.
– Седло барашка, брюквенный соус, овощи. Еда была не тяжелая, мистер Питт, и не обильная.
– Вы ели то же самое?
– Да, совершенно то же. Конечно, в гораздо меньшем количестве, но то же самое.
– А что он пил?
Джунипер сосредоточенно и несколько удивленно нахмурилась.
– Он выпил немного кларета, но бутылку открыли у стола и наливали там же. Вино было отличное. Я сама выпила полбокала. Муж пил немного, уверяю вас. Он вообще был очень умерен в этом отношении.
– Что было еще?
– Шоколадный пудинг и фруктовый шербет. Но я ела то же, что и он.
Уголком глаза инспектор уловил какое-то движение, обернулся и увидел, что Ливси дотронулся до кармана брюк.
– У вашего мужа была при себе фляжка, миссис Стаффорд? – мрачно продолжил он.
Глаза ее расширились.
– Да-да, была. Серебряная. Я подарила ее Сэмюэлу пять лет назад. А почему вы спрашиваете?
– Он сам ее наполнял?
– Наверное. Вообще-то я не знаю. Почему вы спрашиваете, мистер Питт? Вы… вы хотите ее видеть?
– Она уже у меня, благодарю. Вы не знаете, пил ли он из нее сегодня вечером?
– Я этого не видела, но, скорее всего, пил. Он… он любил понемножку… – Женщина осеклась, голос ее дрогнул и охрип; ей потребовалась минута-две, чтобы взять себя в руки.
– Вы можете рассказать, миссис Стаффорд, чем он занимался в течение дня? Все, что вам известно?
– Что он делал? – Она задумалась. – Ну… да, если хотите, но я не понимаю, к чему это.
– Существует вероятность, что ваш муж был отравлен, миссис Стаффорд, – сурово ответил Ливси, все еще стоя около двери. – Это очень неприятная и огорчительная мысль, но, боюсь, мы должны взглянуть правде в глаза. Конечно, патологоанатом может найти болезнь, о которой мы не подозревали, но до этих пор мы должны принимать во внимание все возможности.
Джунипер заморгала:
– Отравлен? Но кто же мог отравить Сэмюэла?
Прайс переминался с ноги на ногу, не сводя взгляда с миссис Стаффорд, однако не вмешиваясь в разговор.
– А вы можете кого-нибудь заподозрить? – снова привлек ее внимание к себе Томас. – Вы не знаете, он был занят последнее время каким-нибудь судебным делом, миссис Стаффорд?
– Нет… нет, у него не было на руках никакого дела.
Казалось, ей легче говорить, когда сознание сосредоточено на какой-то реальной подробности, – так проще отвечать на вопросы, поставленные определенным образом.
– Та женщина опять к нему приходила. Она уже несколько месяцев не давала ему проходу. Такое впечатление, что он очень из-за нее расстроился, и, как только она ушла, вышел из дома почти сразу за ней.
– Какая женщина, миссис Стаффорд? – быстро переспросил Питт.
– Мисс Маколи, – ответила она. – Тамар Маколи.
– Актриса? – удивился инспектор. – А вы не знаете, что ей было нужно?
– Да, конечно. – Джунипер вздернула брови, словно не ожидала такого вопроса, словно полагала, что полицейскому и так все известно. – Это касается ее брата.
– Но какое отношение все это имеет к ее брату? – терпеливо уточнил Томас, напомнив себе, что она только что овдовела, причем весьма прискорбным образом, поэтому от нее нельзя ожидать такой же стройной логики, как от прочих. – Кто ее брат? Он что, подавал прошение на апелляцию?
На мгновение лицо Джунипер приобрело весьма горькое и ироничное выражение.
– Вряд ли, мистер Питт. Его повесили пять лет назад. Маколи хотела, чтобы Сэмюэл пересмотрел дело. Он был членом Апелляционного суда, который отклонил просьбу ее брата о помиловании. Тот был осужден из-за ужасного преступления. Наверное, если бы общество могло его повесить дважды, оно бы это сделало.
– Это дело Годмена, – сказал Ливси за спиной Питта. – Убийство Кингсли Блейна. Полагаю, вы помните это дело?
Инспектор на мгновение задумался. В голове мелькнуло смутное воспоминание о всеобщих ужасе и ярости, связанных с убийством, о статьях в газетах, об одном-двух безобразных инцидентах на улицах, когда толпа набросилась на евреев.
– Убийство на Фэрриерс-лейн? – спросил он.
– Совершенно верно, – подтвердила Джунипер. – Ну а Тамар Маколи – его сестра. Не знаю, почему у них разные фамилии, но ведь у актеров все не как у обычных людей. Никогда не знаешь, когда они серьезны, а когда нет. И к тому же они евреи.
Питт вздрогнул. Ему показалось, что в комнате вдруг подул холодный ветер, словно дыхание ненависти и безрассудства ворвалось в открытую дверь. Ливси встал и закрыл ее. Питт взглянул на Шарлотту и заметил у нее в глазах страх, как будто она тоже почувствовала дуновение чего-то странного и мрачного.
– То было очень неприятное дело, – тихо сказал Ливси. Голос его был суров, в нем чувствовалось что-то отдаленно напоминающее гнев. – Не понимаю, почему эта несчастная женщина не оставит дело брата в покое, чтобы воспоминание о нем исчезло у всех из памяти… Но некое беспокойство заставляет ее все время о нем напоминать и настаивать, чтобы по нему снова было назначено слушание.
Лицо Ливси потемнело, словно такое поведение было ему отвратительно и он с удовольствием больше не стал бы ко всему этому возвращаться, ибо оно вызывало совершенно бессмысленную и ненужную боль, что он сам касается данной темы, лишь повинуясь служебному долгу.
– У нее какая-то сумасшедшая идея – очистить посмертно его имя от обвинения. – Судья слегка пожал плечами. – А правда заключается как раз в том, что этот негодяй оказался по уши виноват, что и было доказано. На этот счет не оставалось никаких сомнений, оправданных или интуитивных. Он воспользовался правом на справедливый и беспристрастный суд и правом на апелляцию. Я знаю все факты, относящиеся к этому делу, Питт, – я сам принимал участие в судебном заседании, рассматривавшем его апелляцию.
Томас кивнул в знак того, что принял сообщение к сведению, и опять обратился к Джунипер:
– Мисс Маколи приходила к мистеру Стаффорду и сегодня?
– Да, рано днем. И он очень из-за этого взволновался. – Она глубоко вздохнула и постаралась овладеть собой, схватившись за руку Шарлотты. – Он сразу же вышел из дому, сказав, что ему обязательно нужно повидаться с мистером О’Нилом и мистером Филдингом.
– Джошуа Филдингом, актером? – переспросил Питт, почему-то избегая взгляда Шарлотты; перед его мысленным взором возникло с болезненной четкостью встревоженное лицо Кэролайн в театре.
– Да, – едва заметно кивнула Джунипер, – он тогда уже был членом труппы и, конечно, играет в ней и сейчас. Вы видели его сегодня на сцене. Он был другом Аарона Годмена и как будто тоже находился под подозрением – разумеется, пока не выяснилось, кто виноват на самом деле.
– Понимаю. А кто такой мистер О’Нил? Тоже актер?
– О нет! Мистер О’Нил был другом Кингсли Блейна, убитого. Он всегда был очень респектабельным человеком.
– А почему мистер Стаффорд пожелал с ним увидеться?
Джунипер слегка покачала головой.
– С самого начала его тоже подозревали, но это, конечно, продолжалось очень недолго. Понятия не имею, почему Сэмюэл хотел с ним встретиться. Он со мной об этом не говорил, и я знаю, куда пошел муж, лишь потому, что он был очень расстроен и я спросила, куда он собрался. Но он сказал только, что хочет встретиться с мистером О’Нилом и мистером Филдингом.
Адольфус Прайс откашлялся, опять неловко переминаясь с ноги на ногу.
– Э… я… я могу подтвердить это, мистер Питт. Мистер Стаффорд приходил сегодня и ко мне. Уже после того, как поговорил с ними обоими.
Томас удивленно посмотрел на Прайса. Он совсем забыл о его присутствии.
– Неужели? А он обсуждал с вами это дело, мистер Прайс?
– Ну… и да, и нет. Как посмотреть. – Адвокат уставился на инспектора, словно ему трудно было смотреть на кого-то другого из присутствующих. – Он задал мне несколько вопросов о деле Блейна и Годмена, в том смысле, как говорит мистер Ливси. Блейн, мол, жертва, Годмен – преступник. Я был советником обвинения, знаете ли. Дело это, в сущности, очень ясное. У Годмена имелся повод для убийства, все подручные средства и возможность. И его действительно видели несколько человек в непосредственной близости от места преступления. Он и сам этого не отрицал. – По лицу Прайса скользнуло виноватое выражение. – И к тому же он был еврей.
Питт опять ощутил внутри какую-то тяжесть, словно камень, и даже не попытался пригасить гневное выражение в глазах.
– А какое это имеет отношение к делу, мистер Прайс? Я лично не вижу тут абсолютно никакой связи.
Тонкие ноздри адвоката затрепетали.
– Он был распят, мистер Питт, – процедил он сквозь зубы, – и я бы сказал, что связь здесь до ужаса очевидна.
– Распят! – ошеломленно вырвалось у Томаса.
– На двери конюшни на Фэрриерс-лейн, – уточнил Ливси, все еще стоявший у двери. – Вы, разумеется, помните это дело? О нем очень подробно писали во всех лондонских газетах. Все вокруг лишь об этом и говорили.
Острое воспоминание кольнуло память Питта. В то время он занимался другим делом, и у него не было времени, чтобы читать газеты или выслушивать какие-либо рассказы о каком-то деле, кроме собственного, но тогдашнее убийство всколыхнуло весь город… Он криво усмехнулся.
– По сути дела, я не помню даже обстоятельств нескольких убийств в Уайтчепеле в прошлом году, потому что сам был тогда занят двойным убийством в Хайгейт-райз.
– Мне трудно думать, что истинный христианин мог бы кого-нибудь распять, – попытался оправдаться Прайс, – вот почему то, что Годмен был евреем, имеет значение.
– А что, О’Нил тоже еврей? – саркастически осведомился инспектор.
– Конечно, нет! Но его и не подозревали, – ответил несколько раздраженно Прайс, – другими главными подозреваемыми были Филдинг и мисс Маколи.
– Но это совершенно не имеет никакого отношения к делу, – нетерпеливо прервал их Ливси. – Был виноват Годмен, а его несчастная сестра до сих пор не может смириться с этим фактом и предать все забвению, как следовало бы. – Он покачал головой, губы его сжались в одну жесткую линию. – Никому и ничему не идет на пользу, что это дело опять вытаскивают на свет божий. Все равно это ничего не изменит. Очень неумная женщина.
Питт повернулся к Джунипер:
– А вы не знаете, кого еще мистер Стаффорд мог видеть сегодня или где он еще побывал?
– Нет, – покачала она головой, – нет, он говорил только об этих встречах. Затем вернулся домой. Мы пообедали немного раньше, чем обычно, и очень легко, – она с трудом сглотнула, – и потом поехали в театр, сюда…
Шарлотта, все еще сидящая совсем близко, сжала руку Джунипер и взглянула на мужа.
– Тебе обязательно еще что-нибудь узнавать, Томас? Нельзя ли миссис Стаффорд уехать домой? Продолжить разговор, если потребуется, можно и завтра утром. Она же совершенно без сил.
– Да, разумеется. – Питт медленно встал. – Я чрезвычайно опечален необходимостью вообще заводить подобный разговор, миссис Стаффорд, и надеюсь, что все это окажется совершенно ни к чему. – Он протянул руку. – Позвольте выразить вам глубочайшее сочувствие.
Она взяла протянутую руку – не только затем, чтобы попрощаться, но и встать с ее помощью. Вышло это у нее довольно тяжело.
– Я провожу вас до кареты, – предложила Шарлотта.
Внезапно Прайс, волнуясь, выступил вперед.
– Пожалуйста, позвольте мне! Могу я помочь вам, миссис Стаффорд? Как бы вас не толкнули в толпе и не помешали пройти… Надо, чтобы кто-нибудь вас поддерживал. Я почел бы за честь…
Глаза у Джунипер расширились, в них появился почти лихорадочный блеск. Она поколебалась, словно хотела возразить, но, осознав, что помощь ей потребуется, сделала шаг к нему.
– Вы очень добры, миссис Питт, – прибавил Прайс, взглянув на Шарлотту с внезапной любезностью и даже с неким, очевидно, характерным для него в другое время шармом. – Однако позвольте и мне чем-то помочь. Вы же оставайтесь с мужем.
– Очень благородно с вашей стороны, – ответила Шарлотта с облегчением. – Признаюсь, я совершенно забыла о своей матери, которая пригласила нас в театр. Она, очевидно, все еще в ложе и ждет нас.
– Ну, значит, договорились. – И Прайс предложил руку миссис Стаффорд. Они быстро попрощались и вышли вместе: она – опираясь на его руку, он – нежно ее поддерживая.
– О господи, – сморщился Ливси, – какое трудное и неприятное дело. Очень неприятное… Но я уверен, что вы правильно взялись за него, мистер Питт. А вы, миссис Питт, были в высшей степени любезны, что выразили такое доброе сочувствие и оказали поддержку. – Он вздохнул. – Однако все очень осложнится, если его смерть действительно окажется неестественного характера. Будем надеяться, что наши страхи окажутся безосновательны.
– Думаю, что даже Бог не может изменить уже свершившееся, – сухо ответил Питт. – А когда мистер Стаффорд был у вас, сэр?
– Непосредственно перед ленчем. Я должен был позавтракать с коллегой и уже уходил, когда появился Стаффорд. Он пробыл всего несколько минут.
– Он приходил к вам в связи с делом Блейна – Годмена? – перебил его Томас.
На широком лице Ливси появилось выражение неудовольствия.
– Не непосредственно, хотя он упомянул о нем. Это имело отношение к другому вопросу… естественно, конфиденциальному. – Судья слегка улыбнулся. – Но я могу оказать вам кое-какую помощь, инспектор. Перед тем как уйти, он глотнул немного из фляжки, и я тоже. И, как видите, я в отменном здравии. Значит, мы можем заключить, что в тот момент в напиток не было ничего подмешано.
Питт молча переваривал информацию и то, что она подразумевала. Ливси сделал легкий жест, обозначающий удивление, углы его губ опустились.
– Кстати, это может быть подтверждено. Мой коллега, Джон Уэнтворт, видный член-консультант суда Ее Величества, приехал в назначенное время, чтобы позавтракать со мной. И, я уверен, может подтвердить то, что я сказал, если вы пожелаете.
Питт быстро выдохнул.
– Но я не сомневаюсь в ваших словах, сэр. Просто размышляю над серьезностью выводов, которые можно сделать, если во фляжке все-таки окажется яд.
– Да, действительно, – лицо Ливси потемнело. – Чрезвычайно неприятная ситуация, но, боюсь, выводы эти совершенно неотвратимы. Не завидую вам, учитывая те задачи, которые вам предстоит решить.
– Не мои, мистер Ливси, – улыбнулся Томас. – Завтра же утром я извещу обо всем свое начальство – если это действительно подсудное дело, в чем я сомневаюсь. Я просто выполнял свой долг, потому что раньше других полицейских оказался на месте происшествия и с моей стороны было бы безответственно не воспользоваться возможностью собрать некоторые свидетельские показания по горячим следам.
– Похвально, и, как вы сказали, это ваш долг. – Судья склонил голову. – А сейчас извините меня, но я вряд ли могу быть вам еще чем-нибудь полезен. Это был долгий и чрезвычайно неприятный вечер, и я с радостью сейчас сел бы в карету и уехал. Доброй вам ночи.
– Доброй ночи, мистер Ливси. Благодарю за оказанную помощь.
Шарлотта вернулась в ложу. Мама все еще была там. Бархатные кресла, роскошный, но казенный уют, опустевшая сцена – все это оказалось таким банальным по сравнению с реально разыгравшейся трагедией… Кэролайн сидела лицом к двери, застыв в тревожном ожидании, и, как только показалась Шарлотта, тотчас же встала.
– Что случилось? Как он?
– Боюсь, он умер, – отвечала Шарлотта, закрывая дверь. – Он так и не пришел в сознание – возможно, по милости божьей. Что гораздо хуже, другой судья, мистер Ливси, как будто склонен считать причиной смерти яд.
– О господи! – в ужасе отшатнулась Кэролайн. – Ты хочешь сказать, что он сам… – Внезапно ее осенило. – Нет, ты же так не считаешь, да?.. Ты хочешь сказать, что его отравили?..
Шарлотта села и потянула мать за руку, чтобы та села тоже.
– Да, очень на это похоже. Однако, боюсь, дело обстоит еще хуже, гораздо хуже…
– Что? – И Кэролайн широко распахнула глаза. – Благое небо, что может быть хуже, чем это?
– Сегодня к Стаффорду приходила Тамар Маколи по поводу очень страшного судебного дела, в результате которого ее брата повесили около пяти лет назад.
– Повесили? О, Шарлотта! Как трагично! Но что мог предпринять мистер Стаффорд в данном случае?
– Она, очевидно, до сих пор считает, что ее брат невиновен, несмотря на то что свидетельства были против него, поэтому хотела, чтобы судья начал пересмотр дела. Миссис Стаффорд сказала, что та буквально осаждала его в течение долгого времени и, по ее словам, он очень из-за этого расстраивался. После ее ухода он тоже очень поспешно вышел, сказав миссис Стаффорд, что ему надо повидать других лиц, подозревавшихся в убийстве.
– И ты считаешь, что один из них и убил мистера Стаффорда?
– Да. Но, мама, эти другие подозревавшиеся – человек по имени О’Нил и Джошуа Филдинг.
Кэролайн пристально смотрела на дочь, очень пристально, пока у нее не заболели глаза. На лице застыло смятенное выражение.
– Джошуа Филдинг, – повторила она недоуменно, – подозревался в убийстве? Кого? Кто был убитый?
– Человек по имени Блейн. Очевидно, это было ужасное преступление. Его распяли.
– Что? – Кэролайн никак не могла осмыслить услышанное. – Ты хочешь сказать… нет, ты не можешь. Это…
– Распяли на двери, – продолжала Шарлотта, – а брата Тамар приговорили за это к повешению, но она никогда не верила, что он виновен. Извини.
– Но при чем тут Джошуа Филдинг? И зачем ему было убивать Блейна? По какой причине?
– Не знаю. Миссис Стаффорд сказала только, что судья ушел повидаться с ними обоими – и мистером Филдингом, и мистером О’Нилом – после сегодняшнего визита Тамар. – И она коротко и невесело рассмеялась. – Хотя можно сказать, что она приходила вчера – судя по тому, сколько сейчас времени.
– А что делает Томас?
– Узнаёт все, что можно. Так что когда он передаст это дело тому из начальства, кто станет им заниматься, у них будет все, что требуется для разбирательства.
– Да. Понимаю. – Тут Кэролайн вздрогнула. – Полагаю, было бы ошибкой сейчас бездействовать. Понятия не имела, когда ты выходила замуж за полицейского, с какими невероятными вещами нам придется иметь дело.
– И я тоже, – искренно призналась Шарлотта. – Но иногда это потрясающе интересно. Некоторые дела отвратительны, другие трагичны, но б о́льшая часть углубляет наше познание жизни, умудряет и учит сочувствию. Мне жалко женщин, которым нечего делать, кроме как вышивать, флиртовать, сплетничать, которые пытаются придумать, как заняться благотворительностью и при этом не уронить свою репутацию и не запачкать руки!
Лицо Кэролайн слегка вытянулось, но она не стала спорить и высказывать собственное мнение. Мать достаточно хорошо знала свою дочь, чтобы понимать, насколько это бесполезно. Более того, какая-то частица ее собственного существа тайно желала тоже участвовать в подобных приключениях, хотя Кэролайн ни за что не призналась бы себе в этом.
Через несколько минут дверь отворилась и на пороге показался Питт, суровый и мрачный. Сначала он посмотрел на Кэролайн.
– Сожалею, мама, – извинился он, – но, по всей вероятности, это дело представляет интерес для полиции, а так как полицейских здесь, кроме меня, нет, пожалуй, пойду и познакомлюсь с этими двумя актерами. Стаффорд виделся с обоими сегодня днем. Возможно, они как-то связаны с тем, что произошло, – или, по крайней мере, знают что-то, чем можно объяснить случившееся.
Шарлотта быстро встала, безотчетным движением пригладив юбку.
– Мы пойдем с тобой. Я не хочу ждать здесь, а ты, мама?
– Я тоже не хочу. – И Кэролайн встала рядом с дочерью. – Я предпочла бы пойти с вами. Мы можем где-нибудь подождать, чтобы не навязываться.
Томас отступил назад и придержал дверь, чтобы женщины могли пройти. Они торопливо вышли и направились вместе с ним по коридору к двери, ведущей на сцену, которую он, очевидно, уже отыскал прежде. Их ожидал переминавшийся с ноги на ногу администратор. Лицо у него было беспокойным.
– Что случилось, мистер Питт? – спросил он, как только инспектор подошел ближе. – Мне известно, что судья умер, но почему вам нужно видеть мисс Маколи и мистера Филдинга? Чем они в состоянии вам помочь? – Он засунул руки в карманы, затем снова вытащил их. – Не понимаю. Решительно ничего не понимаю! Естественно, я тоже хочу быть вам полезен, но ума не приложу, зачем вам понадобились они.
– Сегодня, сразу после ленча, мистер Стаффорд виделся с ними, – ответил Томас, протягивая руку к двери.
– Виделся с ними? – Администратор, по-видимому, даже ужаснулся. – Но, во всяком случае, не здесь, инспектор! Определенно не здесь!
– Верно, – согласился Питт, пока они шли цепочкой по узкому проходу к комнате, где инспектора должны были ожидать Филдинг и Тамар Маколи. – Мисс Маколи сама посетила судью у него дома. По крайней мере, это нам доподлинно известно.
– Нам? – переспросил администратор. – Нам… Но я об этом совершенно ничего не знаю! – Он остановился и распахнул дверь. – Я вас привел, а теперь умываю руки. Честное слово, будто недостаточно того, что уже произошло. Судья умирает в ложе театра во время спектакля, а теперь у нас полиция! Могут подумать, что мы здесь разыгрываем шотландские пьесы с обязательными убийствами… Ну да ладно, продолжайте, продолжайте, что начали. Вам лучше поскорее приступить к исполнению своих обязанностей!
– Спасибо, – принял приглашение Питт с едва заметной иронией в голосе. Он придержал дверь, чтобы Шарлотта и Кэролайн могли войти, а затем закрыл ее с едва заметным поклоном в сторону администратора, как только тот вознамерился приблизиться.
Обстановка в комнате была уютная и удобная. На полу, покрытом ковром, стояли несколько стульев. В углу помещалась небольшая плита, на ней стоял чайник. Стены почти сплошь заклеены театральными афишами и программами. В некоторых перечислялись действующие актеры. Другие, прекрасно оформленные и яркие, были развешаны для придания атмосфере блеска и воодушевления, и, глядя на них, можно было почти слышать, как вступает увертюра, и видеть, как тускнеют огни в зале. Питт узнал лица Генри Ирвина, Сары Бернар, Эллен Терри, Герберта Бирбома Три, молодой итальянской артистки Элеоноры Дузе и миссис Патрик Кэмпбелл.
Но комната была сейчас не главное. Всеобщим вниманием завладели две стоящие рядом фигуры. Их изящные позы были так хорошо отрепетированы, что казались совершенно естественными. Джошуа Филдинг оказался совершенно таким же, каким виделся сквозь линзы театрального бинокля, только лицо его сейчас приобрело более ироничное выражение. Едва заметные линии около рта, возможно, тоже выглядели менее выразительными, чем его жесты, которые давали понять, что он умен и обладает даром смеяться сквозь слезы. Сейчас Филдинг мог показаться не таким красивым, как на сцене. На расстоянии нескольких шагов можно было заметить, что нос у него кривоват, глаза неодинаковой величины и одна бровь выше другой. Однако это несовершенство производило гораздо более сильное, прочное и привлекательное впечатление, чем самая безупречная сценическая внешность, которая вблизи иногда кажется мертвенной маской.
Тамар Маколи, напротив, была совершенно не похожа на свою сценическую ипостась, хотя, может быть, такое впечатление создавалось потому, что ни Шарлотта, ни Кэролайн еще не видели ее так близко. Сейчас она казалась ниже ростом и худощавее. Чрезвычайная женственность, которую источала вся ее фигура, была произведением искусства, а не даром природы. Бьющая через край жизненная сила, необыкновенная легкость и стремительность поведения на сцене исчезли вместе с костюмом; отдыхая, она замерла, вся сила страсти и характера словно ушли внутрь ее. Однако лицо ее, по мнению Шарлотты, было одним из самых интересных, которые ей когда-либо приходилось видеть. На нем лежала печать выдающегося ума. Тамар была черноволоса, с нездоровым цветом лица, но обладала замечательным даром уметь изображать всё – и крайнее безобразие, и ослепительную красоту. В ней не ощущалось нежности, теплоты, чувствительности, однако – во всяком случае, так показалось Шарлотте – она могла с успехом сыграть роли и Медузы-горгоны, и Елены Прекрасной, причем была бы предельно убедительна в любой из этих ролей. Ее темное лицо обладало такой индивидуальной притягательностью, что Шарлотта, глядя на нее, поверила в то, что мужчины могли сражаться за Елену одиннадцать лет и разрушить ради нее Трою.
Питту, по-видимому, ничего такого необыкновенного на ум не приходило, и он начал с банального извинения.
– Сожалею, что мне пришлось просить вас задержаться, – сказал он, натянуто улыбаясь. – Вы, должно быть, очень устали после такого долгого и трудного дня. Однако, полагаю, вам уже известно, что сегодня вечером во время спектакля в своей ложе скончался судья Стаффорд. – Инспектор взглянул сперва на Джошуа, потом на Тамар.
– Я знаю, что он был болен, – ответил Джошуа, взглянув на Кэролайн и потом на Питта.
Томас понял, что допустил небрежность.
– Извините. Позвольте представить миссис Кэролайн Эллисон и мою жену, миссис Питт. Я предпочел не оставлять их одних в ложе и привел с собой.
– Конечно. – Джошуа едва заметно поклонился – сначала Кэролайн, вспыхнувшей при этом, затем Шарлотте. – Сожалею об обстоятельствах нашей встречи. Я не в состоянии предложить дамам ни каких-либо удобств, ни подкрепить чем-нибудь силы.
– Мне известно, что он внезапно заболел, – вставила Тамар, возвращая их к свершившемуся событию; голос у нее был низкий, необычного тембра. – Но я не знала, что он умер. – Ее лицо сморщилось от огорчения. – Мне очень жаль, но не могу представить, в чем может состоять наша помощь в данном случае.
– Вы приходили к нему сегодня?
– Да, – она, однако, не сочла нужным дополнить или объяснить свои слова. Даже отвечая столь откровенно, актриса не утратила своего необыкновенного самообладания и спокойствия.
– А я виделся с ним позже, в своей квартире, – добавил Джошуа, – и он тогда казался совершенно здоров. Вы хотели узнать именно это? – Он держался очень свободно, сунув руки в карманы. – Но все, что вас интересует, вам, безусловно, объяснит миссис Стаффорд. Неужели вы, как лечащий врач мистера Стаффорда, не знали, каково состояние его здоровья на самом деле?
– Я не врач, мистер Филдинг, – поправил его Питт. – Я инспектор полиции.
Джошуа удивленно вскинул брови, вынул руки из карманов и выпрямился.
– Полиция? Извините, я просто подумал, что он внезапно заболел… Он был ранен? Господи, и где же – в театре?
– Да нет, по-видимому, здесь замешан яд, – осторожно выбирая слова, ответил Томас.
– Яд? – не поверил своим ушам Джошуа, а Тамар вся напряглась. – Откуда вам это известно?
– Наверняка я не знаю, – ответил инспектор, глядя на них по очереди, – но меня беспокоят симптомы, очень похожие на отравление опиумом. И было бы совершенно безответственно с моей стороны исключить такую возможность наряду с другими. Я должен узнать все, что можно, именно сегодня, пока воспоминания еще остры и свежи, до того, как передам дело тому, кто будет им заниматься, и получу медицинское заключение.
– Понимаю, – Джошуа закусил губу. – Вы пришли сюда, потому что мы с Тамар виделись с ним днем, и теперь подозреваете нас?
Лицо у него было напряженное. Филдинг почти безотчетно дотронулся до руки Тамар. То был жест защитника, хотя из них двоих более сильной выглядела она. Выражение ее лица было агрессивнее, она казалась гораздо менее уязвимой, чем он.
Наблюдая за Тамар, Шарлотта вспомнила то немногое, что было известно о Годмене и о том, при каких ужасающих обстоятельствах актриса потеряла брата. Интересно, что собой представлял Аарон Годмен. Если он напоминал ее, то можно вообразить, как должны были его бояться окружающие, допуская, по крайней мере, что сильная страсть может заставить его пойти на убийство…
– Среди многих других, – не уклонился от прямого ответа Питт. – Но, возможно, у вас есть какие-то наблюдения, которые способствовали бы установлению правды.
– То есть бросили бы тень подозрения на еще кого-нибудь, – холодно отрезала Тамар. – Нам уже прежде доводилось давать показания по делу об убийстве, инспектор Питт. Мы не питаем иллюзий относительно невинности таких вопросов или того, что полиция успокоится прежде, чем найдет свидетельства, с которыми суд может начать против кого-нибудь преследование, будучи уверен в вине этого человека.
Шарлотта отчетливо понимала, насколько точно Тамар использовала слова для выражения своих мыслей и их подтекста. Нет, рана от того, что ее брат был признан виновным и осужден, так и не затянулась.
– Такова наша обязанность – представлять доказательства, мисс Маколи, – ответил Томас, не сердясь и не осуждая ее. – Но не делать выводы на основании таких показаний, сохрани господи. Я еще никогда сознательно не представлял в суд свидетельств, в справедливости и верности которых сомневался бы. Мне известно, что вы считаете, будто с вашим братом обошлись несправедливо, и что именно в связи с его делом вы посетили сегодня судью Стаффорда.
– Разумеется. – Маколи искренне удивилась, хотя это удивление и не было лишено горечи. – Других причин искать с ним знакомства у меня не было. Мне известно, что актрисы пользуются довольно дурной славой, но это не мой случай. Насколько мне известно, нет причин подозревать в чем-либо подобном и мистера Стаффорда.
В глазах у нее появилось язвительное выражение; она издевалась и над Стаффордом, и над собой, и над всеми, кто должен и привык подавлять свои истинные чувства.
– Он был в какой-то степени совсем лишен юмора, – продолжала Тамар. – У него отсутствовало воображение, и если бы, как это ни невероятно, он завел интрижку на стороне, то был бы очень осмотрителен и вряд ли выбрал актрису.
Шарлотта взглянула на мужа и поняла, что мысль его усиленно заработала и воображение тоже. Тамар относилась к числу женщин, в которых мужчины иногда влюбляются, и даже страстно, но с ней невозможно завести легкую связь. Она могла породить мечты, ею можно было бредить, но для приятного времяпрепровождения, для флирта или порыва чувственности втайне от супруги или по причине холостяцкого одиночества она не годилась. Шарлотта никак не могла представить ее в роли удобной, уютной женщины и знала, что Питт думает так же.
– Я не скор на выводы, мисс Маколи, – оборвал ее размышления голос Томаса, – даже когда они кажутся в высшей степени обоснованными.
По лицу Тамар скользнула улыбка.
– А вы что скажете, мистер Филдинг? – Питт повернулся к Джошуа. – Мистер Стаффорд приехал к вам переговорить об этом судебном деле?
– Да, разумеется. Из разговора с ним я понял, что он снова собирается открыть дело, – Джошуа тяжело вздохнул, – однако теперь мы утратили этот шанс. Нам больше никого не удалось убедить даже задуматься над подобной возможностью.
– Вы виделись с ним один на один, мистер Филдинг?
– Да. Но, полагаю, нет смысла рассказывать вам, каков был разговор, ведь никто не может засвидетельствовать, что я говорю правду, – Джошуа пожал плечами. – Он расспрашивал меня о той ночи, когда был убит Блейн, и еще раз заставил повторить все, что мне известно об этом убийстве, но прибавил, что сейчас направляется к Девлину О’Нилу, тот был другом Блейна. Последний поссорился с О’Нилом в вечер убийства – по-моему, из-за каких-то денег.
– У мистера Стаффорда было с собой вот это? – Питт вытащил из кармана фляжку и протянул Джошуа.
Тот с любопытством ее оглядел.
– Нет, я ее не видел, но ведь такие вещи вроде и не носят на виду у всех. А почему вы мне ее показываете? Здесь был яд?
Тамар, словно съежившись, с неприязнью посмотрела на сосуд.
– Не знаю, – Томас опять сунул фляжку в карман. – А вы, мисс Маколи, видели ее прежде?
– Нет.
Питт не стал настаивать.
– Спасибо. Полагаю, кто бы из моего начальства ни принял к ведению это дело, он снова пожелает встретиться с вами. Сожалею, что побеспокоил вас.
Джошуа слегка пожал плечами и мимолетно улыбнулся.
Питт пожелал им покойной ночи. Коротко попрощавшись с присутствующими, он, Шарлотта и Кэролайн ушли. Ночь была темна. Огни театра казались теперь тусклыми в легком, спускающемся прозрачными волнами тумане, уличные фонари светились перламутровым блеском. Кареты спешили вдоль отсыревших улиц, копыта звучно цокали по мокрым камням мостовой.
Не собрался ли Стаффорд вновь начать слушание по делу об убийстве, за которое был повешен Аарон Годмен? И не поэтому ли судью убили? Тамар Маколи хотела нового слушания дела. А кто мог желать закрыть его навсегда, так желать, чтобы убить из-за этого судью? Но, может, дело тут совсем в другом? Предположим, преступление совершил кто-то неизвестный и боялся он чего-то совсем иного… И что вообще было причиной преступления? Страх? Ненависть?
Шарлотта прибавила шагу и крепко взяла мужа под руку, пока тот высматривал экипаж, чтобы ехать домой.
Глава вторая
С самого раннего утра Мика Драммонд уже был в своем рабочем кабинете. С тех пор как на Белгрейв-сквер текущим летом произошло событие, отозвавшееся таким ужасом и скандальными последствиями, затронувшими всю его жизнь, мысли Драммонда были настроены на печальный лад. Он перестал чувствовать радость от жизни. Работа приносила ему некоторое облегчение, хотя слишком часто напоминала о мучительном бремени обязательств, которое он взвалил на себя, когда согласился войти в тайное общество «Узкий круг».
С Элинор Байэм у него все было теперь иначе. Единственным способом перестать думать о ней была возможность погрузиться с головой в неотложные и запутанные проблемы других людей.
Драммонд стоял у окна в бледных лучах осеннего солнца, когда Питт постучал в дверь кабинета.
– Войдите, – ответил Драммонд с какой-то неясной надеждой. На рабочем столе лежало совсем немного дел, да и те были уже неновы. Он ознакомился со всеми и распределил их между подчиненными, и теперь его действия ограничивались только наведением справок через определенные промежутки времени, чтобы быть в курсе всех поворотов следствия; большее стало бы вмешательством в дела служащих, которые этого не заслужили.
– Войдите, – повторил он громче и отрывистее.
Дверь отворилась, и на пороге показался Питт – со своими густо вьющимися волосами, криво застегнутым сюртуком и галстуком, грозящим вот-вот развязаться. Вид у него был очень обнадеживающим, одновременно и обычным, и таящим какую-то неожиданность. Драммонд улыбнулся:
– Да, Питт?
Томас вошел и закрыл за собой дверь.
– Вчера вечером я был в театре. – Он сунул руки в карманы и остановился у стола, отнюдь не вытягиваясь в струнку. В другом человеке Драммонду это не понравилось бы, но он слишком любил и ценил инспектора, чтобы заставлять его придерживаться формальностей.
– Неужели? – удивился он. В привычки Питта регулярное посещение театров не входило.
– Меня пригласила теща, – пояснил Томас. – Так вот, вчера, прямо в своей ложе, умер судья Стаффорд. Я видел, как ему стало плохо, и пошел, чтобы предложить посильную помощь.
Он вытащил из кармана сюртука серебряную фляжку; прекрасная вещь сверкнула на свету.
Драммонд взглянул на нее, потом на Томаса в ожидании объяснений. Питт поставил фляжку на столешницу, обитую зеленой кожей.
– Медицинского заключения еще нет, конечно, но симптомы смерти настолько напоминают отравление опиумом, что не принимать во внимание такой вариант нельзя. Там был также судья Игнациус Ливси. Он сидел в соседней ложе и тоже пришел на помощь. В сущности, он первый понял, что, возможно, это отравление. Мистер Ливси видел, как Стаффорд пил из фляжки, поэтому вынул ее из его кармана и передал мне, чтобы провести экспертизу.
– Сэмюэл Стаффорд, – тихо проговорил Драммонд. – Он ведь из Апелляционного суда как будто… – Это не было вопросом, просто замечанием. – Бедняга! – Драммонд нахмурился. – Отравление? Опиумом? Не очень уж реалистичным это кажется.
Питт вздернул плечи, глаза его стали угрюмы.
– Да, на первый взгляд это так. Но я опросил нескольких человек относительно того, чем он занимался вчера днем, и выяснилось несколько интересных подробностей. Вы помните дело Блейна – Годмена, которое рассматривалось примерно пять лет назад?
– Блейна – Годмена?
Драммонд подошел поближе к столу. Лицо избороздили морщины от усилия вспомнить, но, очевидно, ничего не приходило ему на ум.
– Человека распяли на двери конюшни на Фэрриерс-лейн.
– О! – Шеф моргнул. – Да, конечно, помню. Странное и ужасающее убийство. Последовал такой взрыв возмущения… Одно из самых страшных убийств, которые совершались на моей памяти. – Он хмуро взглянул на Питта. – Но какое отношение может иметь смерть Стаффорда в театре прошлым вечером к убийству на Фэрриерс-лейн? Виновный же был повешен.
– Да, – сердито и в то же время с жалостью ответил Питт. Он ненавидел, когда вешали людей, что бы те ни совершили. Одно варварство усугубляется другим; а ведь суд человеческий так несовершенен, так легко ошибиться, так мало люди проникают в суть дела… – Стаффорд был одним из тех судей, кто отклонил апелляцию Годмена, – продолжил он, – и сестра, осужденного, актриса Тамар Маколи, с тех самых пор пытается добиться нового слушания. Она уверена, что ее брат невиновен.
– И это вполне естественно, – прервал его Драммонд, – людям очень трудно смириться с тем фактом, что их родственники, даже просто друзья, могут быть виновны в таких страшных злодеяниях. Но она была вчера на сцене, так что вряд ли могла подсыпать яд во фляжку судьи Стаффорда. А что в ней? Виски?
– Понятия не имею. – Томас взял фляжку, отвинтил пробку, поднес ее к носу и осторожно вдохнул. – Да, это виски. Разумеется, в момент его смерти она была на сцене, но раньше, в тот же день, приходила к нему домой. – Завинтив пробку, он поставил фляжку на стол.
– О! – Драммонд удивился и встревожился. Картина происшествия омрачалась. – Но зачем ей было убивать Стаффорда? Каким образом это могло способствовать посмертному оправданию ее брата? Или она утратила весь свой здравый смысл, а заодно и способность соображать?
Питт невольно улыбнулся.
– Понятия не имею. Я только рассказываю, что случилось вчера, и теперь отдаю вам фляжку, чтобы вы могли отправить ее тому, кто станет заниматься расследованием дела, если такой человек найдется.
– Мистер Сэмюэл Стаффорд, – улыбнулся Драммонд, и лицо, обычно серьезное и даже аскетическое, совершенно преобразилось от обаятельной улыбки. – Судья Апелляционного суда Ее Величества королевы. Очень, очень важная персона! Нет, этот случай достоин ваших талантов, Питт! Да, дело деликатное, преимущественно политическое и потребует очень тактичного расследования, если окажется, что это действительно убийство. Думаю, за него лучше приняться вам самому. Определенно так. Да. Передайте все, что есть у вас сейчас на руках, другим – и займитесь расследованием вчерашнего происшествия.
Драммонд взял со стола фляжку и отдал ее Томасу, взглянув на него одновременно насмешливо и поощрительно. Питт долго и пристально глядел на шефа, затем протянул руку к фляжке.
– И держите меня в курсе событий, – приказал Драммонд. – Если это убийство, действовать нужно очень быстро.
– Нам нужно действовать по справедливости и наверняка, – с жаром поправил его Питт, но, увидев тень озабоченности на лице шефа, широко улыбнулся. – Дипломатично.
– Идите уже, – буркнул Драммонд.
Внезапно он улыбнулся – не потому, что во всей этой ситуации было хоть что-то забавное. Но по совершенно непонятной причине Драммонд вдруг почувствовал, как на сердце потеплело, и он снова осознал, что людские странности: эксцентричность, неуправляемость и честность, способность смеяться и сожалеть, то есть истинно человеческие качества, – всё это бесконечно важнее, чем любая политическая целесообразность или, скажем, правила поведения в обществе. В его сознании вдруг непроизвольно всплыло лицо Элинор. Но теперь он не ощутил прежней острой боли. Черная безнадежность отступила.
Поначалу Питт удивился, что расследование поручили ему, но, подумав, решил, что удивляться тут нечему. Драммонд отлично понял Томаса, когда недавно тот отклонил предложение повысить его в должности. Питт не хотел сидеть за столом и указывать другим, что делать, когда сам он обладал большим опытом расследований и любил это дело; поэтому и отказался, хотя прибавка к жалованью была весьма существенной. А она пришлась бы крайне кстати… Томас согласился бы на новое назначение из-за Шарлотты, детей и того, как изменилась бы вся их жизнь, но именно жена воспротивилась тогда этому – она знала, как много значит для Питта работа детектива.
Однако время от времени Драммонд говорил, что доверил бы Питту все самые деликатные расследования, связанные с политикой, и это было скрытым поощрением. Шеф словно повышал его в ранге, в то же время используя следовательские способности Томаса самым эффективным образом.
Врач судебной экспертизы был незнаком инспектору, прежде они не встречались. Когда Питт вошел в лабораторию, тот стоял за микроскопом у огромного мраморного стола. Лицо его выражало предельную сосредоточенность. Вокруг во множестве стояли бутылочки, реторты и прочие медицинские сосуды. Врач оказался здоровенным мужчиной, таким же высоким, как Питт, только гораздо шире и плотнее, хотя ему вряд ли было больше тридцати пяти. Ярко-рыжие волосы возвышались над головой, словно шапка, а борода напоминала воронье гнездо.
– Поймал! – сказал он радостно. – Клянусь небом, я таки его поймал! Входите и располагайтесь, кто бы вы ни были, и вооружитесь терпением. Через минуту я буду к вашим услугам.
Голос у него был высокий, и говорил он, безотрывно продолжая смотреть в микроскоп, с мягким акцентом жителей горной Шотландии.
Было бы ребячеством обижаться на такое приветствие, и Питт поступил так, как его и просили. Добродушно усмехнувшись, он вынул фляжку из кармана, чтобы сразу же передать ее врачу, как только подвернется подходящий момент.
Несколько минут прошло в молчании, и Томас воспользовался этим, чтобы оглядеть беспорядочное скопление кувшинов, бутылочек и колб, в которых содержались образчики всевозможных тканей. Затем патологоанатом оторвался от микроскопа и улыбнулся Питту.
– Итак, – сказал он жизнерадостно, – чем могу быть полезен, сэр?
– Инспектор Питт, – представился полицейский.
– Сазерленд, – ответил патологоанатом. – Я уже слышал о вас. Должен был сразу вас узнать, извините. В чем дело? Убийство?
– На данный момент меня интересует лишь содержимое этой фляжки, – улыбнулся Томас. – Хотелось бы знать, что в ней.
Он передал Сазерленду сосуд. Тот взял его, отвинтил крышку и осторожно поднес к носу.
– Виски. – Он взглянул на Питта поверх фляжки и опять нюхнул. – Купаж не очень, но, видимо, дорогой. А что там еще содержится, это надо посмотреть. У вас имеются предположения?
– Возможно, там опиум.
– Странный способ им угощаться… Всегда полагалал, что его обычно курят и что от такой привычки не слишком трудно воздержаться.
– Мне кажется, опиум был принят не намеренно.
– Убийство, значит! Так я и думал. Дам знать, как только исследую содержимое. – Он поднял фляжку и прочел выгравированное на ней имя. Линии его лица обозначились резче. – Это не он ли умер вчера вечером? Слышал, как уличные мальчишки-газетчики что-то такое кричали…
– Да, он. Дайте мне знать как можно скорее.
– Разумеется. Если это опиум, я буду знать об этом к вечеру. Если там что-нибудь другое или вообще ничего нет, это займет побольше времени.
– Вскрытие?
– А я и говорю сейчас о вскрытии, – быстро ответил Сазерленд. – Определить, что намешано в виски, – для этого потребуется всего минута. Это несложно. Даже в таком напитке, если он намеренно чем-то не разбавлен.
– Хорошо. Я скоро приду за результатом.
– Если не застанете меня, вот мой домашний адрес, – живо откликнулся Сазерленд. – Я буду здесь до восьми вечера.
И, не сказав больше ни слова, врач снова углубился в свои изыскания.
Питт положил визитную карточку на мраморный стол с адресом полицейского участка на Боу-стрит и вышел, чтобы приступить к расследованию.
Прежде всего надо было узнать, действительно ли Стаффорд имел намерение вернуться к делу Блейна – Годмена. Раз он потрудился потратить время на встречи с Джошуа Филдингом и Девлином О’Нилом, значит, он, по крайней мере, обдумывал такую возможность. И зачем ему было сообщать кому-либо, кроме Тамар, что дело должно оставаться закрытым? У него явно могли быть другие соображения.
Но, может быть, Ливси прав и Стаффорд хотел только доказать раз и навсегда, что Годмен виновен и никаких вопросов по делу и предположений насчет ошибки быть не должно? Сомнения, как бы ни были они понятны, основаны на эмоциях и былых привязанностях; они могут возмутить общественное сознание, подорвать его уверенность в справедливости закона и неукоснительной объективности судопроизводства. Когда же закон не пользуется непререкаемым уважением, от этого страдают все граждане страны. И Стаффорд, который хотел добиться всеобщего уважения к закону, поступил естественно и благородно.
Однако, вновь утверждаясь в том, что Годмен виновен, и оправдывая еще раз закон в глазах Тамар, не мог ли судья выявить какую-то неправильность в ведении того дела? Не боялся ли он, что есть еще некто виновный? Но в чем? Тоже в преступлении? В каком-то тайном, личном грехе? Может быть, теперь ему казалось, что дело гораздо сложнее и что в нем было замешаны двое?
Как ни прискорбно, расследование следует начать с вдовы. Вот почему Томас сейчас медленно шел по тротуару рядом с элегантными леди, направлявшимися к портнихам и модисткам; слугами, спешащими с поручениями, мелкими служащими и торговцами. Утро было колючим, морозным, бодрящим; улицы полнились стуком лошадиных копыт по булыжной мостовой, шумом колес, криками кучеров, зеленщиков, мусорщиков, мальчиков-газетчиков, бродячих артистов, распевавших скандальные куплетцы и песенки из водевилей.
Питт подозвал экипаж и дал кебмену адрес улицы, где находился особняк Стаффорда – Брутон-стрит, недалеко от Беркли-сквер, – который сегодня утром ему вручил дежурный с Боу-стрит. Он откинулся на спинку сиденья, пока кеб, подпрыгивая на неровностях мостовой, катился по Лонг-акр, и стал сосредоточенно обдумывать вопросы, на которые ему хотелось бы получить ответ.
Хуже будет, если окажется, что смерть судьи не имеет никакого отношения к делу Блейна – Годмена. Тогда, учитывая, что Стаффорд в последнее время не был связан ни с каким другим судебным делом, причина его смерти может крыться в чем угодно. Личная месть, семейные проблемы, что-либо связанное с женой, большие деньги…
Завтра, конечно, кое-что прояснится – по крайней мере, если Сазерленд найдет следы опиума в теле судьи и во фляжке. Если же Стаффорд умер от некоей болезни, о которой никто прежде не знал, если его лечащий врач сможет дать внятное объяснение прискорбному событию, ну, тогда Томас с радостью забудет об этом деле. Однако то была лишь надежда, брезжившая где-то на задворках сознания.
Отыскать дом судьи было нетрудно: на входной двери висели траурные венки, а на опущенных шторах – черные ленты. Бледная служанка в шляпке и пальто показалась на ступеньках подъезда и направилась по тропинке к флигелю по какой-то хозяйственной надобности. Лакей с черной повязкой на рукаве внес ведро с углем в дом и закрыл за собой дверь. Дом был явно погружен в скорбь по усопшему хозяину.
Томас заплатил кебмену и подошел к входной двери.
– Да, сэр? – подозрительно спросила горничная, осматривая Питта с явным неодобрением.
На первый взгляд инспектор выглядел как бродячий торговец, даром что ничего не продавал, однако в его манере держаться сквозила уверенность в себе, даже высокомерие, которые заставляли принимать его всерьез. К тому же горничная была обескуражена и подавлена печальным событием. Да и все служанки в доме ходили с мокрыми глазами. Кухарка два раза падала в обморок, дворецкий был более сентиментален и расслаблен, нежели обычно, – очевидно, потому, что провел довольно много времени у себя в дворецкой, предварительно запасшись ключами от винного погребка; камердинер же мистера Стаффорда выглядел так, словно повстречался с привидением.
– Мне жаль беспокоить миссис Стаффорд в такое тяжкое для нее время, – сказал Питт, собрав все свое обаяние, которого ему было не занимать, – но мне необходимо задать ей несколько вопросов относительно событий прошлого вечера, с тем чтобы уладить ситуацию как можно быстрее и благопристойнее. Пожалуйста, узнайте, не сможет ли она меня принять. – Он сунул руку в карман и вручил горничной визитную карточку – мелочь, которая столько раз оказывала ему услугу.
Горничная взяла карточку, пытаясь прочесть, какого рода торговлей занимается этот тип, но не нашла на этот счет никакого разъяснения. Потом положила карточку на серебряный подносик, использовавшийся для подобных целей, и велела визитеру подождать, пока она не передаст просьбу.
Томас недолго пребывал в полуосвещеном холле с его поспешно повязанными черными лентами из крепа – вернувшаяся горничная повела его в комнату, расположенную в глубине дома, где инспектора ожидала Джунипер Стаффорд. Комната была богато отделана в теплых тонах. У дверей она была украшена ажурным узором, что придавало помещению особое своеобразие. Длинный деревянный резной шезлонг был покрыт тканым красно-лиловым пледом, а на полированном столе в вазе увядали хризантемы.
Этим утром Джунипер выглядела очень усталой и потрясенной, словно только сейчас начала понимать, что ее муж умер и что это означает большие перемены в ее жизни. В резком дневном свете кожа ее приобрела желтоватый оттенок, и были отчетливо видны ее мелкие естественные несовершенства, хотя Джунипер по-прежнему можно было назвать красивой женщиной с прекрасно вылепленными чертами лица и великолепными темными глазами. Сегодня она была одета во все черное, но превосходный покрой, изящная драпировка у пояса и волна воланов на груди делали платье модным туалетом, который ей очень шел.
– Доброе утро, миссис Стаффорд, – официально поздоровался Питт, – мне очень неприятно беспокоить вас снова и так скоро, но есть вопросы, которые я не мог задать вам вчера вечером.
– Разумеется, – поспешно ответила она, – я это понимаю, мистер Питт. Не надо мне ничего объяснять. Я достаточно долго была женой судьи, чтобы отдавать себе отчет в том, что есть закон. Он… еще, конечно, они еще… не сделали… – и она замолчала, не в силах произнести отвратительное слово.
– Нет, еще нет, – Питт избавил ее от необходимости произнести слово «вскрытие», – но полагаю и надеюсь, что с этим будет покончено к вечеру. Однако до этих пор я хотел бы выяснить, зачем мистер Стаффорд встречался с мистером О’Нилом и мистером Филдингом. – На лице его отразилось недоумение. – Понимаете, мне невдомек, собирался ли он пересматривать дело Блейна – Годмена или просто хотел узнать какие-то дополнительные доказательства вины Годмена, чтобы убедить мисс Маколи в бессмысленности ее крестового похода.
– Так все-таки это вы занялись расследованием? – спросила вдова, все еще стоя, положив руку на красно-лиловый шезлонг.
– Да, мне поручили его сегодня утром.
– Я рада. Было бы тяжелее встречаться с тем, кого я не знаю.
Это был комплимент в деликатной форме, и Томас принял его, поблагодарив хозяйку дома приветливым взглядом.
Джунипер подошла к камину, где над полкой висела удивительно хорошо написанная картина голландского мастера – коровы на осеннем пастбище, залитом мягким золотистым светом. С минуту она смотрела на картину, прежде чем повернулась к инспектору.
– Что я могу вам рассказать, мистер Питт? Муж не делился со мной своими планами, но из его слов можно было сделать вывод о довольно обоснованном намерении вернуться к пересмотру того дела. И если он действительно… был… убит, – она с трудом сглотнула, так трудно было это выговорить, – тогда я вынуждена признать, что убийство имеет отношение к тому делу. Ужасному, зверскому, кощунственному. Оно вызвало яростное общественное возмущение. – Джунипер вздрогнула и поджала губы, словно вспоминая, что тогда происходило. – Но вы сами должны помнить его. Это было во всех газетах. Так мне рассказывали.
– А кто он был, этот Кингсли Блейн?
Когда Джунипер заговорила об убийстве на Фэрриерс-лейн, Питт с трудом вызвал в своей памяти давнее ощущение ужаса, но не помнил почти никаких подробностей, а люди, упоминавшиеся в связи с преступлением, были для него лишь абстрактными именами.
– То был довольно обыкновенный молодой человек из довольно хорошей семьи, – отвечала она, стоя у каминной доски и глядя мимо Питта в окно. В знак траура портьеры были опущены, окна закрыты. – Денег много, но без аристократического происхождения. Он со своим другом Девлином О’Нилом в тот вечер отправился в театр. Говорили, что они поссорились из-за чего-то, но потом оказалось, что причина несущественна – деньги, небольшой долг или что-то вроде этого. Ничего важного. – Она взглянула на гранатовое кольцо на пальце и медленно повернула его к свету.
– Но мистера О’Нила все-таки некоторое время подозревали?
– Наверное, только потому, что они дружили.
– Однако мистер Стаффорд вчера был у него?
– Да. Не знаю почему. Возможно, он думал, что тот располагает какими-то новыми сведениями. Ведь, в конце концов, О’Нил провел тот вечер с Блейном.
– А каким образом стал причастен к этой истории Аарон Годмен?
Джунипер уронила руки вдоль тела и опять воззрилась в зашторенное окно, словно могла видеть сквозь ткань сад и улицу за ним.
– Он был артистом и в тот вечер играл в спектакле. Говорили, что он был талантлив. – Голос у нее едва заметно дрогнул, но Томас обратил внимание на эту деталь. – У Блейна была любовная связь с Тамар Маколи, и он допоздна оставался за кулисами. Когда он уходил, кто-то передал ему сообщение, что О’Нил ждет его в каком-то игорном клубе. Но он так и не попал туда, потому что, когда проходил по Фэрриерс-лейн, его убили и распяли на двери конюшни, прибив кузнечными гвоздями.
Миссис Стаффорд вздрогнула и с трудом проглотила застрявший в горле комок.
– Говорили также, что бок у него был пронзен, как у нашего Спасителя на кресте, – продолжала она едва слышно, – а одна газета писала, что на голове у него был венец из ржавой проволоки.
– Теперь припоминаю, – признался Питт. – но все эти ужасающие подробности со временем стерлись из памяти.
Джунипер говорила едва слышно, боязливо; голос ее был глух и, казалось, исходил откуда-то из глубины. Женщина воспринимала все это так же остро, как пять лет назад.
– Это было так ужасно, мистер Питт. Словно ночной кошмар стал реальностью, воплотился в реального человека. И все, кого я знаю, были так же потрясены и испуганы, как мы.
Она бессознательно включила и мужа в число потрясенных.
– Мы почти ни о чем не могли спокойно думать, пока Годмена не повесили. Кошмар пронизал собой все, как тьма, как наваждение, словно убийца каждую минуту мог явиться с Фэрриерс-лейн и того ужасного двора и зарезать, а потом распять всех нас.
– Но с этим покончено, миссис Стаффорд, – мягко сказал Питт. – И незачем больше беспокоиться и нервничать.
– Покончено? – Она круто обернулась к нему. Ее темные глаза расширились, в них все еще стоял страх, а в голосе звучало напряжение, как будто она все еще чего-то опасалась. – Покончено? Вы так думаете? Но почему тогда убили Сэмюэла?
– Не знаю, – развел руками Томас. – Мистер Ливси думает, по-видимому, что мистер Стаффорд нисколько не сомневался в справедливости приговора, вынесенного Годмену, и просто хотел найти этому еще одно подтверждение – такое, чтобы даже Тамар Маколи наконец убедилась в его справедливости и оставила бы все как есть. В интересах общественного спокойствия.
Миссис Стаффорд словно оцепенела в своем черном траурном платье.
– Но тогда возникает вопрос: кто же убил Сэмюэла? – спросила она тихо. – И, ради всего святого, почему? Все кажется таким бессмысленным… Он умер после визита этой женщины, но, кроме нее, говорил еще с О’Нилом и Джошуа Филдингом относительно свидетельских показаний. Вы не… Вы не думаете, что кто-нибудь из них убил Кингсли Блейна, а теперь они испугались, что Сэмюэл что-то узнал, и стали опасаться его решимости это доказать?
– Возможно, – нехотя согласился Питт. – Миссис Стаффорд, вы не можете сказать, что могло стать известно вашему мужу и чем он мог поделиться с ними? Даже если это были лишь предположения? Это так помогло бы следствию…
Несколько минут Джунипер молчала, сосредоточенно нахмурившись. Томас ждал.
– Он, по-видимому, считал, что надо что-то срочно предпринять, – сказала она наконец, и тревожная складка залегла у нее между бровями. – И вряд ли бы пошел к Девлину О’Нилу, человеку, столь близко знавшему убитого, его другу, если бы сам не располагал какой-то новой информацией или свидетельствами. Я… просто увидела это по тому, как он держался. Ему стало что-то известно. – Она взволнованно посмотрела на инспектора. – И вполне естественно, что он не стал обсуждать это со мной. Подобное было бы нарушением тайны расследования. Да я и не знала всех подробностей того давнего дела. Мне было известно только то, о чем говорили в обществе. Ведь тогда все обсуждали убийство. Нельзя было встретиться с друзьями или знакомыми – в опере или на обеде, да и вообще где бы то ни было, – без того, чтобы разговор через считаные минуты опять не зашел об этом злодейском убийстве. То преступление вызвало ужасный гнев общества, мистер Питт, оно было ни на что не похоже.
Томас подумал о мрачной атмосфере страха и предрассудков, которую породила запятнанная кровью Фэрриерс-лейн и которая проникла даже в роскошные лондонские гостиные и респектабельные, с бархатной мебелью, клубы для джентльменов, где звенел хрусталь бокалов, где воздух был пропитан ароматом дорогих сигар.
– Уверяю вас, это было необычное преступление, – с нажимом проговорила миссис Стаффорд, словно полицейский сомневался в ее словах. – Никогда я не наблюдала взрыва такой ярости, не считая убийств в Уайтчепеле, конечно. Но, кроме того, в убийстве Блейна был элемент кощунства, которое приводило людей в исступление, и поэтому даже богобоязненные и милосердные люди не могли дождаться, когда же Годмена наконец повесят.
– 3а исключением Тамар Маколи.
– Очень неприятно думать, что мисс Маколи может быть права, да?
– Да, действительно, – сказал Томас сочувственно. – И думать об этом гораздо страшнее, чем о самом преступлении.
Она не поняла.
– Убийство Кингсли Блейна – смерть одного человека, – пояснил Питт с горькой улыбкой, – а, так сказать, убийство Аарона Годмена было медленной, юридически обоснованной, яростной местью, вызванной страхом, безумием, несправедливостью со стороны народа и его системы судопроизводства. То, что существуют преступники, есть печальный факт бытия всего человечества, но иметь такие законы, которые в критический момент подвергают непоправимому наказанию невиновного, чтобы успокоить наши собственные страхи, – это трагедия гораздо большего масштаба. Она значит, что все мы дали согласие на убийство, все мы им запятнаны.
Миссис Стаффорд была очень бледна, глаза у нее запали, шея напряглась.
– Мистер Питт, но это… это просто ужасно! Бедный Сэмюэл! Если он думал так же, если опасался ошибки, то неудивительно, что он так расстраивался.
– А он расстраивался?
– О да, он уже некоторое время был очень обеспокоен этим делом. – Она глядела на пушистый дорогой ковер под ногами. – Я, конечно, не уверена, но, полагаю, это была боязнь того, что мисс Маколи собирается оживить тот процесс в памяти общества и тем самым бросить тень на справедливость закона. Это, конечно, могло сильно беспокоить мужа. – Она взглянула Питту прямо в глаза. – А закон Сэмюэл любил и уважал. Он посвятил ему большую часть жизни и почитал его превыше всего. Для него закон был религией.
Питт заколебался. Мысль, пришедшую ему в голову, было затруднительно изложить так, чтобы не обидеть Джунипер.
Она же все смотрела на него, не отрывая взгляда, в ожидании ответа. В глазах у нее по-прежнему стоял страх.
– Миссис Стаффорд, – неловко начал Томас, – не знаю, как спросить вас об этом… Не хочу показаться невежливым, но… но возможно ли, что он… он собирался защитить доброе имя закона… в глазах общества… – и осекся.
– Нет, мистер Питт, – ответила она тихо, – вы не знали Сэмюэла, иначе вам никогда не пришлось бы спрашивать об этом. Муж был человеком абсолютной честности. Если бы он располагал доказательствами того, что Аарон Годмен не виноват, то немедленно обнародовал бы их, невзирая на свой пиетет к закону и судебным властям, заботу о добром имени какого-либо адвоката или судьи или даже беспокойство о своей собственной репутации. Если бы у него были подобные доказательства, он обязательно поставил бы о них в известность все общество. Вероятно, он подозревал что-то или кого-то, но теперь его нет, он ушел, и мы никогда не узнаем, что же это было за подозрение.
– Если только не пойдем по следам этого кого-то, – ответил Питт. – Если возникнет такая необходимость, я возьму это на себя.
– Спасибо, мистер Питт, – Джунипер заставила себя улыбнуться, – вы были очень любезны и деликатны, и я всей душой верю, что вы поведете дело наилучшим образом.
– Я, конечно, постараюсь, – ответил инспектор.
Он уже осознавал, что его расследование может ей не понравиться. В любом случае будет трудно выяснить, что же нового обнаружил Сэмюэл Стаффорд спустя столько лет после закрытия дела и что внушило кому-то такой сильный ужас, что тот счел необходимым убить судью. Питт смотрел на красивое правильное лицо Джунипер, на ее темные брови и вдруг в первый раз после того, как увидел ее в театральной ложе, заметил в ее глазах спокойствие; так она смотрела на сцену до трагедии с ее мужем. Томас даже ощутил некоторое чувство вины – ведь она в него поверила, а он сейчас сомневался в своей способности оправдать ее доверие.
Быстро распрощавшись с Джунипер, Питт покинул ее дом, дошел до остановки омнибусов и поехал в восточную часть города, к зданию суда, где служил Адольфус Прайс, советник суда Ее Величества. Оно располагалось неподалеку от Олд-Бейли. Обитое дубовыми панелями помещение конторы было заполнено суетливыми клерками и младшими служащими, чьи пальцы были испачканы в чернилах, а лица выражали озабоченность. К Питту, взирая на него поверх пенсне в золотой оправе, приблизился пожилой джентльмен величественного вида с седыми бакенбардами.
– Чем можем быть вам полезны, сэр? – вопросил он. – Или мистер… э…
– Питт. Инспектор Томас Питт с Боу-стрит. Я здесь в связи со смертью скончавшегося вчера судьи Стаффорда.
– Ужасная новость, – клерк покачал головой, – и очень внезапная. Нам было невдомек, что бедный джентльмен сильно болел. Такой удар… И в театре! Не очень подходящее место, чтобы покинуть сию долину слез, Господи помилуй. Но то, чего нельзя изменить, д о́лжно переносить с твердостью. Очень большое несчастье. Однако… – Он осторожно кашлянул. – Каким образом наша судебная контора может быть связана с сим печальным событием? Мистер Стаффорд был членом Апелляционного суда, а не адвокатуры, и в последнее время мы не обращались к нему ни с какими вопросами, в этом я совершенно уверен. Знать об этом входит в мои обязанности.
Питт решил переменить тактику.
– Но в прошлом вы имели с ним отношения?
Брови клерка удивленно взлетели вверх.
– Ну разумеется. Мы рассматриваем дела до поступления их в большинство судов, в том числе Олд-Бейли и Апелляционный. И, полагаю, так поступает каждая уважающая себя адвокатская контора в Лондоне.
– Я имею в виду дело Аарона Годмена.
Внезапно в конторе повисла тишина, словно дюжина скрипевших до того перьев внезапно остановилась; младший служащий, щелкавший на счетах, замер на месте.
– Аарон Годмен? Аарон Годмен!.. О господи, но ведь это было несколько лет назад – по крайней мере, лет пять… Но вы, конечно, совершенно правы. Наш мистер Прайс был обвинителем и доказал его виновность. Дело пошло на апелляцию – полагаю, на рассмотрение мистеру Стаффорду и другим. Обычно в заседании Апелляционного суда принимает участие пять человек, но вам об этом, разумеется, хорошо известно.
Юнец со счетами продолжил свое занятие, перья снова заскрипели, но среди клерков явно чувствовалось всеобщее стремление не упустить ни слова из разговора; все прислушивались, хотя никто не повернул головы и даже не взглянул на Питта.
– А вы случайно не помните, кто входил в число этих пяти?
– Не случайно, сэр, просто запомнил. Это сам мистер Стаффорд, мистер Игнациус Ливси, мистер Морли Сэдлер, мистер Эдгар Бутройд и мистер Грэнвил Освин. Да, верно. Я слышал, мистер Сэдлер ушел в отставку, а мистер Бутройд перешел в одну из палат Банковского суда. Но ведь это дело, конечно, уже не представляет интереса? Помнится, в апелляции было отказано. И не было – и нет до сих пор – никаких оснований для пересмотра приговора. Господи помилуй, ну конечно нет. Ведь суд проходил в обстановке строгого соблюдения законности, и каких-либо новых доказательств и свидетельств просто не может быть.
– Вы имеете в виду повод для пересмотра дела?
– Именно так.
– Я слышал, что мистер Стаффорд все еще интересовался этим случаем и за последние несколько дней перед смертью успел переговорить с несколькими главными свидетелями, проходившими по тому делу.
Перья клерков опять остановились, ушки у всех были на макушке.
– Неужели? Я об этом ничего не слышал. – Вид у пожилого джентльмена был совершенно потрясенный. – Понятия не имею, что бы это могло значить. Но, как бы то ни было, интересов нашей конторы это не затрагивает, мистер… э, мистер Питт, правильно? Именно так, мистер Питт. Мы выступали тогда в качестве обвинителей, а не защищали. Защиту вели, насколько мне помнится, мистер Бартон Джеймс из Финнегана, а также Джеймс и Милхэр с Феттер-лейн… – Он нахмурился. – Очень странно, что мистер Стаффорд опять занялся этим делом. Если бы действительно появилось какое-нибудь новое свидетельство, мистер Джеймс обязательно бы к нему обратился – если, конечно, оно представляет хоть какую-то ценность.
– Дело в том, что мисс Маколи, сестра Годмена, апеллировала непосредственно к мистеру Стаффорду.
– Понимаю, понимаю. Господи помилуй, какая все-таки упрямая молодая женщина… И совершенно заблуждающаяся. – Клерк с осуждением покачал головой. – К сожалению. Актриса, полагаю? Очень жаль. Хорошо, сэр, чем мы можем быть вам полезны?
– Могу я видеть мистера Прайса, если он в присутствии? Вчера вечером он был в театре, а днем к нему приходил мистер Стаффорд. Вероятно, мистер Прайс может сообщить нам то, что пролило бы свет на смерть мистера Стаффорда.
– Да, конечно. Он был лучшим другом их семьи, и, возможно, мистер Стаффорд поделился с ним беспокойством о своем здоровье. У мистера Прайса сейчас клиент, но не думаю, что надолго. Если соблаговолите присесть, сэр, я сообщу ему о вашем приходе.
С этими словами пожилой клерк едва заметно, словно аршин проглотил, поклонился – похожий на черного ворона, который хотел что-то клюнуть, но раздумал. Питт наблюдал, как он идет между столов, шкафов и высоких стульев, на которых, согнувшись над гроссбухами, сидели клерки, усердно скрипевшие перьями. Никто из них даже головы не поднял, чтобы посмотреть вслед идущему.
Прошло почти четверть часа, прежде чем клерк вернулся с сообщением о том, что мистер Прайс освободился, и повел Питта в кабинет, обставленный тяжелой мебелью, где на полках в резных дубовых шкафах стояло множество томов по юриспруденции, а огонь, горевший в камине, мягкими бликами играл на полированном дереве. Окна с почти задвинутыми занавесями выходили на маленький тенистый двор. Единственное росшее здесь дерево было уже ярко расцвечено осенью, а газон нуждался в стрижке.
Солнечный свет падал сквозь стекла на обитый кожей письменный стол строго официального вида, на чернильницы из оникса и хрусталя, вставку для пера, печати, книжный нож, тонкие подсвечники и песок для промокания чернил. На краю полированного стола лежало досье, стянутое резиновой лентой.
Адольфус Прайс показался Питту взволнованным. Одет он был по последней моде: черный фрачный сюртук, брюки в тонкую полоску и очень элегантно скроенный жилет. Движения его были изящны от природы, и он хорошо держался, что придавало одежде еще более дорогой вид, чем это, возможно, было на самом деле.
– Добрый день, мистер Питт, – сказал Прайс и попытался улыбнуться, но улыбка увяла, не успев расцвести. Вид у него был невыспавшийся. – Уизерс сказал, что вы пришли поговорить насчет бедняги Стаффорда. Не уверен, что могу рассказать вам что-нибудь новое, но, разумеется, буду очень рад попытаться. Пожалуйста, садитесь. – Он указал на большое, обитое зеленой кожей кресло неподалеку от Питта.
Томас принял приглашение, сел, закинув ногу на ногу, и откинулся на спинку кресла, словно приготовился пробыть в этом кабинете достаточно долгое время. И, пока усаживался, заметил, что выражение лица Прайса стало еще более озабоченным.
– Мистер Стаффорд вчера приходил с вами повидаться, – начал инспектор, еще не зная, каким способом вытянуть необходимую ему информацию, и даже не будучи уверен, что Прайс располагает ею. – Вы не можете сказать мне, что было темой вашего разговора? Я понимаю, что это нарушение конфиденциальности беседы, но сам мистер Стаффорд скончался, а дело Годмена по-прежнему представляет общественный интерес.
– Ну разумеется. – Прайс немного откинулся назад и задумчиво соединил пальцы. – Он и приходил как раз насчет годменовского дела, и только ради него. Ну, сначала мы, конечно, обменялись любезностями. – Прайсу опять стало как будто не по себе. – Мы… довольно давно знакомы. Но причина визита Сэмюэла заключалась в его обеспокоенности и намерении предпринять некоторые шаги касательно этого дела.
– Шаги? Он сам об этом сказал?
– Да… да, конечно. – Прайс внимательно посмотрел на Питта.
Адвокат был человек весьма обаятельный, с хорошими манерами, аристократическими чертами достаточно запоминающегося лица.
– То есть он хотел вернуться заново к слушанию дела, к его пересмотру? – настойчиво гнул свою линию Питт. – На каком же основании?
– А вот об этом он не сказал – во всяком случае, особо на этом не останавливался.
– А почему он приехал к вам, мистер Прайс? Чего он хотел от вас?
– Да ничего, абсолютно ничего, – слегка пожал тот плечами. – Наверное, это была своего рода вежливость, ведь я был главным советником обвинения. И, возможно, ему стало интересно, не появились ли сомнения и у меня тоже.
– Но если мистер Стаффорд собирался вновь открыть дело, мистер Прайс, он должен был найти или какое-то нарушение в процессе судопроизводства, или новое свидетельство, говорящее о невиновности Годмена, не правда ли? Иначе никаких оснований для пересмотра дела нет.
– Верно. Совершенно верно. Но я уверяю вас, тот судебный процесс был проведен совершенно корректно с правовой точки зрения. Судьей был Телониус Квейд, человек неподкупной честности и слишком опытный, чтобы допустить случайную ошибку. – Прайс вздохнул. – Следовательно, отсюда вытекает неизбежный вывод: мистер Стаффорд обнаружил какое-то новое доказательство. Он намекнул мне, что оно касается некоего медицинского показания, принимавшегося во внимание на том давнем процессе, но не говорил, какого точно. Он также намекнул, что некий вопрос тогда остался нерешенным, но в подробности не вдавался.
– Вы имеете в виду медицинское заключение о вскрытии тела Блейна?
– Полагаю, да. – Брови Прайса недоуменно взлетели вверх. – Но мне показалось, что он мог подразумевать что-то касающееся самого Годмена, хотя что это и какое отношение могло иметь к делу, осталось непонятным.
– Но какие медицинские показания могли иметь отношение к Годмену? – удивился Питт.
– О, внушающие большое беспокойство. Он находился в скверном физическом состоянии, когда предстал перед судом. У него были очень неприятные ушибы и царапины на лице и плечах, и он сильно хромал.
– Свидетельства драки? – поразился Томас. Значит, никто тогда, во время процесса, не подумал о возможности самозащиты. – А Бартон Джеймс упоминал об этом на суде?
– Ни разу. Защита настаивала только на том, что подсудимый невиновен, что это не он убил, а кто-то другой или другие, неизвестные. Не было высказано и предположения, что Блейн и Годмен подрались и что первый погиб в результате драки. – Лицо Прайса стало жестким, на нем проявилось отвращение. – Но по сути дела, мистер Питт, очень трудно было понять и принять тот факт, что Годмен распял беднягу после смерти, прибив его кузнечными гвоздями к двери конюшни. Это макабр [2]какой-то, ужас! Уверен, что ни один присяжный в стране не счел бы возможным оправдать его при таких обстоятельствах, несмотря ни на какое давление!
– Можно ли предположить, что вы бы так и поступили, мистер Прайс, будь вы защитником, а не обвинителем? Вы заявили бы, что не можете защищать подобного клиента, и промолчали бы насчет драки с целью самозащиты?
Прайс задумчиво пожевал верхнюю губу.
– Мне трудно ответить на такой вопрос, мистер Питт. Думаю, что я все-таки использовал бы мотив самозащиты. Это дало бы больше шансов для облегчения участи подзащитного, чем просто отрицание его вины. Годмена видели в тех местах примерно в то время, когда совершилось убийство. Его узнала продавщица цветов, и он не отрицал факта своего присутствия там. Он просто сказал, что был в этом месте на полчаса раньше, чем произошло убийство. Но другие видели, как он выходил с Фэрриерс-лейн спустя несколько минут после того, как оно произошло, и у него на одежде была кровь.
– И при этом мистер Бартон Джеймс настаивал на абсолютной невиновности подозреваемого? – Питт был поражен. Такое просто не поддается разумению. – Но, может быть, мистер Стаффорд решил вернуться к делу в связи с некомпетентностью защитника на том обвинительном процессе? Конечно, сейчас нельзя исправить допущенные ошибки. Единственными, кто мог бы сказать точно, была ли драка и что вообще произошло, были Блейн и Годмен, а они оба мертвы.
– Совершенно точно, – скорбно заметил Прайс. – Боюсь, все это – лишь досужие рассуждения, и не могу придумать, каким образом их можно было бы использовать.
– Однако вы говорите, что у мистера Стаффорда было такое ощущение, что имеет смысл снова заняться этой проблемой, – заметил Питт. – А между прочим, почему решили, что именно Годмен хотел убить Блейна? Какой у него был для этого повод?
– Повод отвратительный, – Прайс слегка поморщился. – Он был евреем, как вы знаете, и, естественно, его сестра тоже. У Блейна была с ней любовная связь… во всяком случае, на это намекали. Он весьма упрямо преследовал ее и как раз в тот самый вечер подарил ей ожерелье, весьма дорогое, принадлежавшее матери его жены. – Лицо Прайса было печально. – Большая глупость с его стороны, поступок очень дурного тона. Ну а Годмену очень не нравилось внимание, которое Блейн уделял его сестре. Он был уверен, что у того нет никаких намерений жениться на ней – ведь она не только еврейка, но и актриса, а Блейн к тому же был женат.
– Годмен так близко принимал к сердцу все, что касается сестры? – удивился Питт. Он уже встречался с Тамар Маколи; представление о романтической жертве, которая нуждается в покровительстве брата, с ней никак не вязалось. Однако любовь превращает в глупцов даже умных людей, а сила характера или целеустремленность не могут служить достаточной защитой. Напротив, иногда наиболее сильные натуры особенно глубоко страдают от ран, нанесенных самолюбию.
– Да, это так, – кивнул Прайс. – Дело семейной чести – в религиозном и расовом аспекте. Точно так же, как мы ужасались бы факту сближения одной из наших дочерей с евреем, последние, по-видимому, в равной степени ужасаются, когда кто-нибудь из их племени сближается с представителем другой национальности. – Он слегка отодвинулся в кресле от стола. – Если постараться, можно понять их точку зрения… Как бы то ни было, вот причина, почему Годмен убил Блейна, и он не первый, кто убил или был способен убить соблазнителя сестры.
– Да, – согласился Питт, – и такое будет происходить всегда. Но этот мотив не был использован защитой, не так ли?
Прайс улыбнулся.
– Не думаю, что общественное мнение согласилось бы принять тот довод, что защита добродетели мисс Маколи достаточна для оправдания убийства мистера Блейна, мистер Питт. Боюсь, защитника подвергли бы публичному осмеянию.
– Неужели ее репутация была столь запятнана?
– Вовсе нет. Но она пострадала бы от распространенного мнения относительно репутации актрис в целом. И не думаю, что присяжный-нееврей принял бы во внимание то, что брат не желал связи сестры с любовником-неевреем, так как это замутит ее чистую еврейскую кровь. – Прайс состроил кислую мину. – Однако если каждый мужчина, который ухаживает за красивой еврейкой, стал бы подвергаться распятию, потребовалось бы больше крестов, чем в Древнем Риме, и существование наших лесов оказалось бы под угрозой!
– Да. – Питт сунул руки в карманы. – Чрезвычайно отвратительное дело. Удивлен, что мисс Маколи все-таки преодолела эту бурю негодования и пользуется успехом в театре.
Прайс пожал плечами.
– Думаю, для нее это было трудное время. Но Годмена повесили, а поскольку ее никто и никогда не обвинял в причастности к преступлению, публика удовлетворилась и решила простить ей, что она его сестра. – Адвокат рассеянно протянул руку и потрогал длинными пальцами гладкую желтоватую поверхность чернильницы. – А многие из какого-то извращенного чувства даже восхищались ее преданностью брату, хотя одновременно жаждали повесить его на самой высокой в стране виселице; и если бы она осудила его, они назвали бы ее предательницей. – Он убрал руку с чернильницы. – Такое впечатление, что она действительно верит и верила в невиновность брата, а общество убеждено, что сама она виновна только в любви к человеку, который никогда бы на ней не женился.
– Значит, она одновременно потеряла и возлюбленного, и брата?
– Да, по-видимому, так.
– Но вы, кажется, упомянули, что она получила от Блейна дорогое украшение, фамильную драгоценность?
– Да, и говорила, что надела его в тот же вечер, на ужин, но потом настояла, чтобы он забрал ожерелье обратно.
– И Блейн его действительно взял? – спросил Питт.
Прайс удивился.
– Не имею ни малейшего представления. Его при нем не нашли. Возможно, мисс Маколи отделалась от украшения, чтобы придать достоверность своим словам. Насколько мне известно, никто и никогда больше не видел это ожерелье. – На лице Прайса мелькнула надежда. – Но, может быть, Стаффорду стало об этом что-нибудь известно. Вот это могло бы пролить свет на те события в гораздо большей степени, чем какое-либо медицинское заключение относительно Годмена, которое никак не может быть подтверждено. Вот уж поистине мертворожденная идея.
– А кто еще знал об ожерелье? – спросил Питт, лихорадочно перебирая в уме различные возможности и нащупывая новые нити, которые, вероятно, обнаружил и Стаффорд и стал их распутывать, и уже был близок к правде, еще пока скрытой, но подошел к ней слишком близко, и некто, испугавшись, его убил. – Ведь прошло так мало времени между тем, как Блейн подарил ожерелье мисс Маколи, и уходом Годмена в тот вечер из театра.
– Да… немного, – поспешно согласился Прайс. – Это засвидетельствовала костюмерша Примроуз Уокер, одевавшая мисс Маколи. Она видела, как Блейн подарил ей ожерелье и сказал, что оно издавна принадлежит его семье. Вообще-то оно принадлежало его теще – мисс Маколи утверждала, что именно по этой причине отдала его обратно; но, к сожалению, именно этого никто не мог засвидетельствовать. Однако, возможно, Стаффорд кое-что узнал.
– Но разве он не захотел бы вам об этом рассказать?
– Необязательно. Я ведь был советником обвинения, мистер Питт, а не защиты. Очевидно, однако, что он собирался поставить в известность Бартона Джеймса сразу же, как только получит подтверждение своим разысканиям. Он действительно упомянул, что очень скоро навестит Джеймса. – Говоря это, Прайс серьезно глядел на Томаса, и по его лицу было заметно, что он начинает все больше осознавать происходящее. – Тогда многое из того, что кажется сейчас странным, объяснилось бы… – Он осекся, словно опасаясь сказать лишнее, и теперь ожидал, что ответит Питт.
– А полиция никак не отметила исчезновение ожерелья? – спросил инспектор, обдумывая услышанное.
– Нет, не припомню, – тихо ответил Прайс. – В материалах суда это было не зафиксировано. Мисс Маколи утверждала, что она вернула ожерелье Блейну, но полагаю, что ей попросту не поверили, решив, что она его утаила – ожерелье действительно было дорогое. Или же она утверждала это, чтобы помочь защите брата.
– Это помогло?
Прайс сокрушенно пожал плечами.
– Ни в малейшей степени. Я уже говорил, что ей не поверили. Не исключено, что мы должны перед ней извиниться. – На лице его отразилось сожаление. – Боюсь, это именно я заявил, что она женщина двусмысленной репутации, что ей не очень-то можно доверять и что она будет утверждать все, чтобы посеять сомнения в вине брата. В тех обстоятельствах это было вполне допустимое заявление, но в конечном счете, возможно, и несправедливое. Очень неприятно думать, мистер Питт, что некто употребил все свое искусство, дабы невиновного человека повесили. И тот аргумент, что этого требует сама по себе должность прокурора, не очень утешает.
Томас почувствовал к Прайсу инстинктивную симпатию; в памяти его всплыли собственные болезненные воспоминания. Прайс ему нравился, и все же нечто беспокоило инспектора – нечто едва ощутимое и слишком неопределенное, чтобы дать этому название.
– Понимаю, – произнес он вслух, – у меня такое же чувство.
– Да-да, конечно, – согласился Прайс. – Хотел бы я вам рассказать больше, но это все, что мне известно. И сомневаюсь, что мистер Стаффорд знал больше меня, иначе бы он обязательно упомянул об этом. – Прайс остановился, в глазах его мелькнула какая-то тень, хотя он по-прежнему держался с большим достоинством, почти горделиво. – Я… мне жаль. Я ведь был лично знаком с ним.
– Уважаю ваши чувства, – ответил Питт.
Он редко бывал в таком неловком положении, когда не знал, что сказать. Ему очень часто приходилось сталкиваться с горем других людей; Томас всегда сочувствовал им и твердо знал, что надо говорить в подобных случаях. Однако было в Прайсе нечто смущающее Питта, как и в Джунипер Стаффорд.
– Спасибо, что уделили мне время, мистер Прайс. – Томас встал. – Вы были очень любезны и дали мне много материала для размышлений. Вероятно, в деле Блейна – Годмена действительно содержатся такие аспекты, которые мистеру Стаффорду, безусловно, следовало расследовать заново, и есть доказательства, что именно это он и собирался предпринять. Если врачебная экспертиза того потребует, я сам займусь этими вопросами.
Прайс тоже встал и протянул руку.
– Вы меня нисколько не задержали. Пожалуйста, дайте мне знать, если я еще чем-нибудь могу помочь и если вам потребуются дополнительные сведения по поводу того давнего дела.
– Разумеется. Благодарю вас.
Прайс проводил его до двери, открыл ее, и услужливый клерк проводил Питта до выхода.
Навестив судью Ливси в его апартаментах тогда же, в первой половине дня, Питт встретился совсем с другим отношением к себе. Ливси принял его достаточно любезно; могло даже показаться, что он ожидал Питта. Комнаты в его доме были очень просторными. Свет осеннего солнца отражался в полировке инкрустированной мебели, играл на бюро, сделанном из экзотической древесины тропических лесов, на винно-красной обивке стульев и на двух вазах с хризантемами. На низком книжном шкафу стояли две величественные бронзовые статуи, а на каминной полке – мраморные часы.
– Уверен, что это совершеннейшая чепуха, – улыбнулся Ливси в ответ на вопросы Питта касательно дела Блейна – Годмена. Он откинулся на спинку огромного кресла и снисходительно поглядел на сыщика, всем своим видом олицетворяя долготерпение. – Стаффорд был интеллигентным и в высшей степени ответственным человеком. Он прекрасно знал юриспруденцию и отлично понимал свой долг перед законом. Судья, а в особенности судья Апелляционного суда, занимает в системе юстиции особенно важное положение, мистер Питт.
Мы – последнее прибежище, где осужденные еще могут рассчитывать на милость к ним или на пересмотр жестокого или ошибочного приговора. Мы являемся как бы народным гласом, который словно скрепляет печатью окончательный вердикт. Скрепляет навсегда. Это грандиозная ответственность, и мы не можем позволить себе ошибаться. И Стаффорд это понимал, как и все мы.
Лицо Ливси обрело выражение спокойной и глубокой уверенности в справедливости своих слов.
Он глядел на Питта и улыбался все шире.
– Не знаю, почему люди говорят, что без законов мы были бы не лучше дикарей. Мы были бы гораздо хуже. У дикарей тоже есть законы, мистер Питт, – и обычно они весьма суровы. Даже дикари понимают, что без законов ни одно общество не может функционировать. Без них наступает анархия, по земле начинает бродить дьявол, подчиняя себе всех без разбора, и сильных, и слабых, – он выпятил губы, – потому что все мы иногда уязвимы. Законы означают не только справедливость. В конечном счете они означают выживание.
Ливси пристально и цепко смотрел на Питта.
– Без закона кто защитит мать и дитя, в коем заключается будущее? Кто защитит, скажем, изобретателя или артиста, которые обогащают мир, но не имеют за спиной финансовой опоры и не обладают способностью сами позаботиться о себе? Кто защитит мудреца в старости, который может стать жертвой сильного и неумного? И кто, наконец, защитит сильных от них самих?
– Я служил и служу закону всю свою сознательную жизнь, мистер Ливси, – ответил Питт, твердо встретив его взгляд. – Вам нет необходимости убеждать меня в его важности и необходимости. Не сомневаюсь я и в том, что мистер Стаффорд верно служил закону.
– Извините. Я не совсем ясно выразился. Вы незнакомы с делом Годмена, которое было воистину чудовищным. Если бы знали его так же досконально, как я, вы тоже были бы совершенно уверены, что оно велось справедливо и законно. – Его массивное тело немного переменило свое положение. – В приговоре не было допущено ни малейшей некорректности, и Стаффорду это было так же хорошо известно, как и всем нам, остальным судьям. Он был взволнован тем, что Тамар Маколи никак не хотела предать все забвению.
Лицо его потемнело.
– Очень неумная женщина, к сожалению. Одержима мыслью, что ее брат невиновен, в то время как всем остальным, кроме нее, его вина была очевидна. Другого человека, с такими же основаниями подозреваемого в убийстве, просто не существовало.
– Не мог ли им быть его друг… – Питт запнулся, пытаясь припомнить имя. – О’Нил, кажется? Разве он не поссорился с Блейном в тот вечер?
– Девлин О’Нил? – Ливси широко раскрыл глаза; для мужчины его возраста они были необыкновенно ясной голубизны. – Ну конечно, у них были размолвки, но ссора?.. Нет, это чересчур. Имела место размолвка относительно того, кто выиграл пари… – Ливси энергично взмахнул рукой, отметая это предположение. – Сумма, относительно которой возникло разногласие, составляла всего несколько фунтов, что для каждого из них было совершенно несущественно. Это не могло бы служить поводом к убийству друга.
– Как знать, – назидательно произнес Томас.
– Я был членом Апелляционного суда, – заметил Ливси, слегка нахмурившись, – и, естественно, изучал материалы и все свидетельства очень тщательно. – Вопрос Питта явно сбил его с толку. – Ведь все так ясно.
Томас терпеливо улыбнулся.
– Я ценю ваши познания, мистер Ливси. Просто хотел узнать, кто свидетельствовал о незначительности размолвки. Сам О’Нил?
– Конечно.
– Ну, это не очень убедительное доказательство.
Тень неудовольствия и удивления опять скользнула по лицу Ливси. Он, очевидно, не рассматривал проблему с этой точки зрения.
– Но не было оснований усомниться в истинности его слов, – сказал он с едва заметным раздражением. – Свидетелями их ссоры стали другие люди, которые и сообщили о ней полиции, когда та расследовала убийство. О’Нила просили объяснить ее причину, и он все объяснил, ко всеобщему удовлетворению… за исключением разве что вас.
– Но, возможно, его объяснение не удовлетворяло и мистера Стаффорда. Иначе зачем ему понадобилось снова встречаться с О’Нилом?
– Но это не означает, что он сомневался в его показаниях, мистер Питт. – Ливси слегка повел широкими плечами. – Как я вам уже объяснял, у Стаффорда не было ни малейшего намерения вновь возвращаться к делу Блейна – Годмена. Нет никаких оснований хоть в малейшей степени сомневаться насчет правильности судебного вердикта. Ведение дела было образцовым, и никаких новых свидетельств обнаружено не было.
Он улыбнулся и забарабанил пальцами по кожаному верху стола.
– У Стаффорда не было никаких новых данных. Он сам мне говорил об этом вчера. Сэмюэл собирался снова доказать вину Годмена, независимо от запроса Тамар Маколи, – и опять пристально посмотрел на Питта. – Все это в интересах общественного блага, да и самой мисс Маколи. Надо, чтобы она наконец смирилась с правдой, приняла ее как есть и сосредоточила внимание на своей жизни и творческой карьере. Что же касается всех нас, мы тоже должны перестать сомневаться в законе и задавать себе вопросы насчет эффективности и справедливости правосудия.
– Это он вам так сказал? – спросил Питт неуверенно, мысленно припоминая, что ему рассказывали Джунипер Стаффорд и Прайс. – Это он вам так сказал вчера?
– Не то чтобы вчера, – терпеливо пояснил Ливси, – но он говорил это в течение определенного времени… да, можно сказать, что и вчера повторил то же самое. Он вновь как бы подтвердил свое отношение к проблеме – и тем, что сказал, и тем, о чем умолчал. В мыслях Сэмюэл не переменился, и можно с определенностью полагать, что он не выяснил по этому делу ничего нового.
– Понимаю, – ответил Питт, давая понять, что услышал Ливси.
На самом деле он ничего не понимал. Прайс, казалось, был так уверен, что Стаффорд собирался начать пересмотр дела… Да и зачем бы ему убеждать Питта в том, что не соответствует действительности? Прайс выступал со стороны обвинения и как будто чувствует себя ответственным за вынесенный приговор. Вряд ли он хотел, чтобы дело вновь было назначено к слушанию.
И еще одно: если Стаффорд не желал возобновлять дело, тогда почему же его убили?.. Впрочем, возможно, его никто не убивал, а умер он от какой-то непонятной болезни, симптомы которой похожи на отравление; и либо он не знал сам, что болен, либо предпочитал не сообщать об этом жене – тоже, может быть, не понимая, насколько опасна болезнь.
По-видимому, Ливси понял, о чем задумался Питт. Лицо судьи было серьезно и мрачно; теперь в нем не было ни следа раздражения, словно такая тривиальная и пустая эмоция попросту недостойна его. Он вернулся к беспокоящей его действительности.
– Однако если он не собирался назначать слушание дела, тогда зачем кому-то надо было его убивать? – тихо спросил Ливси. – Это оправданное недоумение, мистер Питт. Он и не открывал дело заново, а если бы даже и собирался это сделать, то ему стоило бояться только Тамар Маколи – ее вмешательство снова пробудило бы в памяти общества прошлое, и люди опять вспомнили бы все подробности ужасного, позорного дела и вину ее брата. По идее, она не может этого желать, ведь никакой надежды на его оправдание нет.
Судья печально улыбнулся – не оттого, что ему стало весело или он испытывал некое удовольствие. Ливси просто засвидетельствовал таким образом тщету ее усилий и напрасно пролитых слез.
– Полагаю, эта бедная женщина так одержима своим крестовым походом за справедливостью, что по прошествии стольких лет уже действует по инерции, вразрез с истинным положением вещей. Она потеряла всякое представление о том, в чем заключается правда. Она больше не думает о доказательствах, ею движет только собственное желание во что бы то ни стало оправдать брата. Любовь, особенно к кому-нибудь из родных, может быть очень слепа. Мы видим лишь то, что желаем видеть, а когда этот человек покидает нас, уже ничто не напоминает о том, каким он был на самом деле. – Судья поджал губы. – Воображение подчиняет себе созерцателя, становится как бы религией; оно настолько реально и живо, что отделаться от него человек уже не в состоянии. Он словно отравлен им. Это в и́дение своего брата для мисс Маколи – замена мужа и ребенка. Что, в сущности, есть большая трагедия.
Питт и раньше наблюдал случаи одержимости. Что ж, возможно, так оно и есть. Но в любом случае это не ответ на вопрос, кто убил Стаффорда… если, конечно, он убит.
– Вы думаете, мистер Стаффорд сказал ей то же самое, что вы говорите мне сейчас? – спросил Томас.
– А она за это убила его в пылу ярости и разочарования, так? – Ливси, нахмурившись, закусил губу. – Нет, если говорить откровенно, это не очень правдоподобно. Мисс Маколи, конечно, одержима, но не могла настолько утратить равновесие духа, чтобы пойти на такой поступок. И для того, чтобы я мог принять подобный мотив к рассмотрению, безусловно, потребуются очень веские доказательства.
– Но где же тогда разгадка? Миссис Стаффорд говорит, что у ее мужа в настоящее время не было больше никаких дел по апелляциям. Может быть, это месть за что-нибудь в прошлом?
– Месть члену Апелляционного суда? – Ливси пожал плечами. – Чрезвычайно неправдоподобно. Мне приходилось слышать угрозы со стороны осужденных – свидетелям, полицейскому, который их арестовал, обвинителю или даже собственному защитнику, если они считали, что он не справился со своим делом. Даже судье, ведущему слушание. Однажды угрожали присяжным… Но никогда на моей памяти не было, чтобы угрожали члену Апелляционного суда! А ведь нас в том деле было пятеро по крайней мере… Нет, это предположение притянуто за уши, мистер Питт.
– Тогда кто же убил мистера Стаффорда?
Лицо Ливси омрачилось еще больше.
– Думаю, остается предположить, что это как-то связано с его личной жизнью. Б о́льшая часть убийств совершается или при ограблении, или вследствие домашних неурядиц… впрочем, предполагаю, вам это известно.
Питту это было известно.
– Но с чего бы миссис Стаффорд могла желать смерти своему супругу? – спросил он, внимательно наблюдая за Ливси.
Тот оторвал взгляд от стола и тяжело вздохнул.
– Мне тяжело об этом говорить… Нехорошо говорить так о коллеге или о его домашних… Однако миссис Стаффорд находится в более тесных отношениях с Адольфусом Прайсом, чем может показаться на первый взгляд.
– Неужели они недостойно ведут себя? – удивился Томас.
И тут он припомнил кое-какие мелкие детали в поведении этих двоих: мимолетный взгляд, внезапная краска в лице, торопливость, некоторая неловкость, всплеск самолюбия, когда, казалось бы, для него нет никаких причин…
– Жаль, что приходится говорить об этом, но дело обстоит именно так, – признался Ливси, не отрывая взгляда от Питта. – Я никогда не предполагал, что это может быть чем-то б о́льшим, нежели мимолетная, неосмотрительная связь, страстное увлечение на один светский сезон, которое быстро сойдет на нет, как обычно случается в таких случаях… Но, возможно, тут чувство более глубокое. Не завидую вам, мистер Питт. Боюсь, что придется рсссмотреть и такую вероятность, а она, как бы неприятна ни была, могла бы стать ключом ко многим непонятным моментам.
Говоря все это, Ливси внимательно наблюдал за инспектором.
– Вижу, что вы тоже об этом подумали, – заметил он. – Если Адольфус Прайс пытался убедить вас, что Стаффорд хотел снова начать слушание по делу Блейна – Годмена, вы уже должны задуматься, почему он это говорил. Естественно, что и Прайс, и миссис Стаффорд предпочли бы заставить вас поверить в то, будто кто-то испытывающий чувство вины или страха в связи с тем давним делом решил пойти на преступление и убить мистера Стаффорда. Главное для них – не позволить вам заподозрить кого-нибудь из них двоих.
– Да, конечно, – согласился Томас, чувствуя себя при этом огорченным.
Он уверился в правоте Ливси. Теперь, когда все прояснилось, Питт упрекал себя за небрежность, за недостаточное внимание к некоторым частностям, как бы мелки они ни были. Он встал, немного отодвинув кресло.
– Я очень вам благодарен, мистер Ливси, за то, что вы уделили мне сегодня столько своего драгоценного времени.
– Совсем напротив. – Тот тоже встал. – Не стоит благодарности. Это очень важное и серьезное дело, и, уверяю вас, я окажу любую помощь, которая будет в моих силах. Вам следует только попросить.
На этом инспектор распрощался с судьей и вышел из дома, медленно шагая, погрузившись в размышления. Было уже довольно поздно, солнце скрылось за крышами, на серые улицы начал опускаться туман, на бледном фоне неба стала заметна сизая дымка, и повсюду запахло углем – люди вовсю растапливали камины и очаги, поскольку вечера уже становились холодными.
Наверное, у врача судебно-медицинской экспертизы уже готовы результаты вскрытия. Во всяком случае, патологоанатом уже знает, содержался ли во фляжке яд. Все это дело может рассеяться как дым, вместе с поспешными суждениями и напрасными страхами. Питт ускорил шаг и вышел на перекресток, где скорее можно было поймать кеб.
В здании судебно-медицинской экспертизы еще горел свет. Постучав, Томас получил приглашение войти.
Сазерленд был в нарукавниках, волосы его торчали в разные стороны, и особенно отчаянно – там, где он старался их пригладить. За каждым ухом торчал карандаш с отгрызенным кончиком, третий он держал в руке. Врач оторвался от бумаг, которые пристально созерцал, и с острым интересом воззрился на Питта.
– Опиум, – сказал он без обиняков. – Во фляжке было полно опиумной настойки. Больше чем достаточно, чтобы убить четверых, не говоря уж об одном человеке.
– Это и погубило Стаффорда?
– Боюсь, что так. Вы были совершенно правы: имеет место отравление опиумом. Симптомы легко распознать, если знать, что ищешь, а вы мне уже всё рассказали. Грязненькое дельце.
– А могло бы это быть случайностью?
– Нет, – твердо ответил Сазерленд. – Люди не поглощают опиум с виски таким вот образом. Опиум курят. И всем, кто его употребляет, распрекрасно известно, что подобная доза смертельна. Нет, мистер Питт, это было сделано с намерением умертвить. У вас на руках безусловное убийство.
Томас ничего не ответил. Он боялся, что именно так и обстоит дело, и все же в глубине души надеялся на обратное. Теперь все определилось. Судья Сэмюэл Стаффорд был убит, и, возможно, не в связи с делом Блейна – Годмена. Кто же это сделал? Джунипер Стаффорд и Адольфус Прайс? Он, или она, или оба вместе? Просто вот взяли и совершили отвратительное, мерзкое убийство?
– Спасибо, – поблагодарил он Сазерленда.
– Я напишу официальное заключение и пошлю его вам в участок.
– Спасибо, – повторил Питт и прочел на лице Сазерленда грустное понимание того, что он сейчас чувствует. – Покойной ночи.
– Покойной ночи. – Врач опять взял карандаш и снова стал что-то царапать на бумаге.
Глава третья
На следующее утро после посещения театра Шарлотта встала очень рано и весь день занималась домашними делами, которых было невпроворот, так как служанка Грейси была отпущена отдыхать. И только на второй день после случившегося, когда Питт уже знал, что судья умер от отравления опиумом, она получила возможность рассказать обо всем Грейси, занимаясь приготовлением сдобного кекса с изюмом.
Что касается кекса, то сначала следовало приготовить для него начинку, то есть обвалять в муке изюм, причем так, чтобы изюминки не превратились в безобразные комки. Шарлотта занималась этим за тщательно выскобленным кухонным столом, в то время как Грейси вынула всё из буфета, вымыла полки и тарелки и стала чистить медные кастрюли. Она служила у Шарлотты уже несколько лет. Недавно ей исполнилось семнадцать лет, но, несмотря на все старания хозяйки кормить ее получше и побольше, девушка осталась почти такой же маленькой, как в тот день, когда впервые переступила порог дома. Однако внешне она изменилась до неузнаваемости и держала себя с гораздо большей уверенностью, чем любая другая горничная с их улицы, а может быть, и вся женская часть Блумсбери. Ведь она не только работала в доме у сыщика, который был самым лучшим полицейским во всем королевстве, но и лично помогала ему в ведении дел! У Грейси уже бывали интересные приключения, и она не потерпела бы небрежности в обращении со стороны каких-то там посыльных или уличных торговцев, как бы те ни важничали.
В данный момент она с риском для жизни – или, по крайней мере, конечностей – взобралась на буфет с мокрой тряпкой в одной руке и фаянсовой супницей в другой и сосредоточенно протирала супницу, а затем поставила ее на полку, которую вытерла сначала лицевой стороной тряпки, а потом изнанкой. С удовлетворением поглядела на запечатлевшуюся на тряпке грязь и повторила весь процесс снова.
Шарлотта склонилась над начинкой. Пальцы нащупывали слипшиеся изюминки и разнимали их.
– А драма была интересная, мэм? – спросила Грейси с любопытством, опасно распрямляясь.
– Не знаю, – честно ответила Шарлотта. – Сказать по правде, я едва заметила, что происходит на сцене, но актер, игравший главную роль, был привлекательным мужчиной. – Она улыбнулась и подумала о своей матери, питавшей к нему большую слабость.
– Он что, ужасно красивый? – любопытствовала Грейси. – Брюнет и очень шустрый?
– Ну, не совсем брюнет… – И Шарлотта описала в высшей степени своеобразные, подвижные, даже капризные черты лица Джошуа Филдинга. – Он не то чтобы красивый в обычном смысле слова, но чрезвычайно располагает к себе – наверное, потому, что у него есть способность насмешничать, но не зло, и он кажется добрым и мягким. Можно подумать, что он понимает все на свете.
– Звучит приятно, – одобрила Грейси, – хотелось бы с таким познакомиться. А героиня была красивая? Какая? Золотые кудри, большие глаза?
– Вовсе нет, – ответила задумчиво Шарлотта. – На самом деле она, наверное, самая черноволосая и смуглая из всех женщин Англии. Но если захочет, может внушить тебе, что нет женщины во всем мире прекрасней ее. Очень яркая. Все остальные по сравнению с ней выглядят бледными и тусклыми. Такое впечатление, что внутри у нее полыхает пламя, а прочие живут вполсилы. Но при этом она не выставляет себя напоказ, понимаешь, что я хочу сказать?
– Нет, мэм, – призналась Грейси. – Не выставляет что?
– Ну, не важничает.
– О! – Грейси слезла, подвернув юбку и фартук, и пошла к раковине, чтобы сполоснуть тряпку. – Не представляю себе такую женщину, но она мне нравится. Сдается мне – потрясающая.
Грейси выжала тряпку маленькими, тонкими, но очень крепкими ручками и опять взобралась на буфет.
– Но тогда почему вы не смотрели на сцену, мэм?
– Потому что в соседней ложе произошло убийство, – ответила Шарлотта, насыпая побольше муки на крупные изюминки.
Грейси замерла в воздухе, держась одной рукой за верхнюю полку буфета, а другой – полируя соусник, и лишь слегка повернула к Шарлотте острое, с резкими чертами личико, загоревшееся от любопытства.
– Убийство? Честное слово?! Вы меня разыгрываете, мэм!
– О нет, серьезно, – ответила Шарлотта. – Был убит очень известный и важный судья. Вообще-то я немного преувеличила: он сидел не в соседней ложе, а за четыре от нашей. Его отравили.
Грейси скорчила гримасу, но не потеряла способности мыслить практически.
– А как можно отравить кого-то в театре? Я хочу сказать – нарочно отравить. Я как-то съела немного угря, и меня стошнило, но никто меня травить не хотел, случайно так получилось.
– Яд подлили во фляжку с виски, – объяснила Шарлотта, снимая комочек теста с последней изюминки и высыпая их все в дуршлаг, чтобы промыть под струей воды в раковине, прежде чем удалить остатки веточек [3].
– О господи, бедный джентльмен, – и Грейси снова начала протирать полки. – Страшно было?
Шарлотта понесла изюм к мойке.
– Да нет, не могу сказать. Он просто как бы потерял сознание. – Шарлотта повернула кран и обдала изюм водой. – Мне больше жаль было его жену, бедняжку.
– А это не она его отравила? – спросила Грейси недоверчиво.
– Не знаю. Он заседал в Апелляционном суде и недавно начал пересматривать одно дело, которое имело место несколько лет назад, – об одном ужасном убийстве. И человек, которого повесили за это убийство, был братом той актрисы, о которой я рассказала.
– Господи помилуй! – Грейси была так поглощена этой новостью, что поставила соусник не на ту полку, забыв о подставке. – Господи помилуй! – повторила она, сунув мокрую тряпку в карман, и застыла как вкопанная на буфете, почти касаясь головой вытяжки у потолка. – А хозяин занимался этим делом?
– Нет, тогда не занимался. – Шарлотта завернула кран и снова отнесла изюм на кухонный стол, высыпала его на чистую сухую тряпку, промокнула и затем стала осматривать, не осталось ли где веточек. – Хотя теперь, надеюсь, он займется им вплотную.
– Но почему убили судью? – удивленно спросила Грейси. – Если он опять хотел заниматься этим делом? А разве эта актриса не того же хотела? О! Конечно! Вы хотите сказать, что тот, кто убил судью, боялся, как бы тот чего не открыл насчет его самого? Господи помилуй! Но убить-то мог любой… А то убийство было очень страшное?
– Да, очень. Я даже рассказать тебе не могу.
– Вот еще, – жизнерадостно ответила Грейси. – Оно не может быть страшнее, чем те, о которых я уже слыхала.
– Может быть, – печально согласилась Шарлотта. – Но я говорю об убийстве на Фэрриерс-лейн.
– Нет, я о нем и не слыхивала, – Грейси была явно разочарована.
– Ты и не могла, – заметила Шарлотта, – оно случилось пять лет назад. Тебе было только двенадцать.
– Значит, я и читать еще не умела, – согласилась Грейси с чувством превосходства себя нынешней над собой тогдашней.
Умение читать было большим ее достижением, которое сразу ставило девушку над ровесниками и прежними знакомыми. Шарлотта потратила на ее обучение немало времени, вместо того чтобы заниматься вместе со своей служанкой домашними делами, но была вознаграждена сторицей – даже несмотря на то, что Грейси тратила большую часть свободного времени на чтение грошовых брошюрок о всяких ужасах и тайнах.
– Так, значит, хозяин собирается раскрыть, как все было? – прервала Грейси размышления Шарлотты. – С актрисами и судьями? Мистер Томас становится такой важной птицей, правда?
– Да, – кивнула, улыбаясь, Шарлотта.
Грейси очень гордилась своим хозяином, у нее лицо просто светилось от радости при одном упоминании о нем. Шарлотте не раз приходилось слышать, как она хвастается перед торговцами, рассказывая, у кого теперь служит и какой это важный дом, так что пусть ведут себя прилично и предлагают только самый лучший товар.
Грейси начала вытирать нижние полки буфета, переставляя с места на место блюда и кастрюли, время от времени останавливаясь, чтобы поддернуть юбку повыше. Она была такая маленькая, что все юбки были ей великоваты, и эту тоже не удавалось подвернуть достаточно высоко. Между тем Шарлотта разложила изюмную начинку на противне и поставила его в теплую духовку, достаточно увлажненную, чтобы температура некоторое время не поднималась выше нужной.
– Это вполне может быть его жена, – сказала Шарлотта, опять заговаривая об убийстве Стаффорда. – Или ее любовник. – Она пошла в кладовку и достала масло, чтобы растворить в нем соль, затем завернула его в тонкую тряпочку и отжала сыворотку.
Грейси с минуту колебалась, решая, что именно имеет в виду хозяйка – давнишнее убийство на Фэрриерс-лейн или недавнюю смерть в театре. Но она была разочарована и сказала свое «о» с таким видом, словно подобное объяснение ее не устраивало – мол, очень уж все просто и обыденно и, конечно, недостойно мастерства хозяина. Такое объяснение не оставляло места для бурных событий; значит, не было ничего такого, для чего потребовалась бы ее собственная помощь. Она проглотила слюну.
– Мне кажется, мэм, что вы вроде как беспокоитесь немного. Наверное, я что-нибудь не так сказала?
Шарлотта почувствовала легкое угрызение совести. Да, она беспокоилась, и довольно сильно, опасаясь, что ко всему случившемуся как-то причастен Джошуа Филдинг и тогда Кэролайн будет расстраиваться.
– Мне не хочется, чтобы этот актер был виноват, – объяснила она Грейси, – потому что он очень нравится моей матери, и когда она с ним познакомилась…
Тут Шарлотта осеклась. Как объяснить горничной, что мать влюбилась в актера, который по крайней мере на тринадцать-четырнадцать лет ее младше? Разумеется, мимолетное чувство скоро пройдет, но могут возникнуть неприятности.
– О, я понимаю, – весело ответила Грейси. Ей приходилось слышать, как джентльмены относятся к Лили Джерси и другим королевам мюзик-холла. – Наверное, она тоже ходила бы к актерам за сцену, если бы родилась мужчиной.
После чего Грейси начала просеивать муку. Приготовление апельсиновой цедры и орехов она предоставила Шарлотте. Рутинная процедура лишь способствовала их размышлениям.
– Не думаю, что виновата жена судьи, – тихо заметила Шарлотта.
– А вы, мэм, что собираетесь делать со всем этим? – спросила Грейси, даже в мыслях не допуская, что хозяйка останется в стороне от таких захватывающих событий.
Несколько минут Шарлотта лихорадочно обдумывала те отрывочные сведения, которые получила в театре, пытаясь как-то соединить их в одно целое, а вдобавок то немногое, что рассказал ей муж. Почему она думает, что это не Джунипер? Насколько она вправе так думать в данном случае? И… она ведь и прежде ошибалась, и даже не один раз.
Грейси тем временем просеивала муку по второму разу.
– Полагаю, что сначала нужно прояснить загадку Фэрриерс-лейн, – сказала наконец Шарлотта; вышло это у нее очень торжественно.
Грейси была совершенно уверена, что ее хозяйке это под силу; ее преданность и вера в Шарлотту были безграничны.
– Хорошая мысль, – одобрила она. – А что же все-таки случилось на Фэрриерс-лейн?
Шарлотта опять быстро перебрала в памяти все факты и, быть может не совсем точно, сформулировала так:
– Молодой джентльмен был женат и ухаживал за актрисой Тамар Маколи. После спектакля кто-то выследил его на Фэрриерс-лейн, убил и прибил к двери конюшни гвоздями, словно распял. Говорили, что убийца – брат актрисы, так как он боялся, что молодой человек обманывает сестру. Брата повесили, но мисс Маколи считает, что он был невиновен.
Грейси настолько поразила эта страшная история, что она и думать забыла о своей кухонной программе и механически стала просеивать муку по третьему разу, уставясь на Шарлотту широко раскрытыми глазами.
– А на кого она подумала? Кто это сделал?
– Вот этого я как раз и не знаю, – призналась Шарлотта и сама удивилась, почему раньше ее не заинтересовал этот вопрос. – Не знаю даже, спрашивали сестру об этом или нет.
– Может, она думала на этого, как его зовут…
– На Джошуа Филдинга? Нет, нет. Они большие друзья.
– Тогда бьюсь об заклад, что это не он, – твердо ответила Грейси. – Надо нам заставить судейских, чтобы его признали невиновным.
При слове «нам» Шарлотта улыбнулась про себя, но никак не выразила вслух свое мнение на этот счет.
– Хорошая идея. Я подумаю, с чего начать.
– Да, жалко, что миссис Рэдли не сможет нам помочь на этот раз, – заметила Грейси задумчиво. – Как слышно, она уехала в деревню.
Все было именно так. Эмили, сестра Шарлотты и ее обычная спутница и помощница в подобных делах, донашивала своего второго ребенка и вместе с мужем Джеком уехала отдохнуть на запад страны, подальше от шумной лондонской жизни. Шарлотта регулярно получала от нее весточки, но сама писала редко. У Эмили было сейчас так много свободного времени до наступления родов, что она не знала, как убить его. Она обладала весьма значительным состоянием, унаследованным ею после смерти первого мужа; у Шарлотты же, напротив, было очень много домашней работы и забот с двумя детьми, чтобы оставаться праздной. Конечно, ей постоянно помогала Грейси, а также приходящая (три раза в неделю) женщина, выполнявшая всю тяжелую работу по дому; кроме того, постельное белье отдавалось в стирку. Но у Эмили в штате прислуги было почти двадцать человек, которые обслуживали весь дом и сад.
– Да ладно, – опять жизнерадостно сказала Грейси, – понятно, что она сейчас не в силах помогать вам. Но вот если ваша мамаша поможет… Раз у нее здесь сильный интерес, она, наверное, захочет поучаствовать?
– Не думаю. И знаешь, она не одобряет нашего вмешательства.
– Но если он ей нравится? – удивилась Грейси.
– Ты не можешь передать мне начинку и открыть задвижку в духовке? – сменила тему Шарлотта, начав наконец смешивать ингредиенты в большой желтой обливной миске.
Грейси подчинилась, презрев рукавичку и, как всегда, обойдясь подолом фартука.
С четверть часа они усердно трудились, после чего пирог оказался на противне и его поставили в печь. Грейси водрузила на огонь чайник, и они уже были готовы заварить чай, когда кто-то позвонил в дверь.
– Если это опять звонит тот парень, помощник зеленщика, – сварливо заметила Грейси, – я ему выдам как следует, год будет помнить! – С этими словами она потуже завязала фартук, пригладила волосы и засеменила по коридору, чтобы открыть дверь.
Не прошло и минуты, как она возвратилась.
– Это ваша мамаша. Я хочу сказать, миссис Эллисон.
И действительно, почти по пятам за ней следовала Кэролайн в развевающемся зеленом жакете с меховой опушкой на рукавах, прекрасно сшитой юбке со складками и великолепной шляпе, сдвинутой на левую бровь и обильно украшенной перьями. Щеки у нее горели, в глазах застыло беспокойство. Она, по-видимому, не обратила внимания на старенькое синее домашнее платье Шарлотты с засученными рукавами и белый передник. Она не обратила также внимания на то, что ее привели в кухню, где в раковине было полно немытой посуды, и даже на вкусный запах, исходящий из духовки.
– Мама, – приветствовала ее Шарлотта радостно и удивленно, – ты замечательно выглядишь! Как ты? Что привело тебя сюда в этот час?
– О! – Кэролайн взмахнула затянутой в перчатку рукой. – Ах да… – Ее лицо выразило крайнюю степень волнения, она больше не пыталась проявить формальную вежливость. – Я хотела узнать… – И снова запнулась.
Грейси без напоминания стала расставлять чашки.
Шарлотта выжидала. Она знала, что раз мать теряется в словах, значит, то, что она хочет сказать, не имеет отношения к Эмили. Если бы в их семье случилась болезнь или еще какая-нибудь неприятность, она бы, конечно, волновалась, но красноречия не потеряла бы.
– Ты пришла в себя после той трагедии в театре? – снова начала Кэролайн. На этот раз она взглянула прямо в глаза дочери, но как-то рассеянно. Казалось, мать смотрит куда-то вдаль и сквозь нее.
– Да, спасибо, – ответила Шарлотта, – а ты?
– Ну разумеется! Я хочу сказать… все это, конечно, было очень печально.
Кэролайн наконец села на деревянный стул, придвинутый к столу. Грейси поставила дымящийся чайник и две чашки на поднос и принесла его вместе с молоком и сахаром.
– Извините, мэм, – сказала она очень тактично, – но если позволите, я пойду переменю постельное белье.
– Да, конечно, – благодарно согласилась Шарлотта. – Очень хорошая мысль.
Как только служанка вышла, Кэролайн снова нахмурилась и сдвинула брови, с волнением наблюдая, как Шарлотта разливает чай.
– А Томас уже узнал, – начала она вкрадчиво, – действительно ли того беднягу убили?
– Да, – ответила Шарлотта, начиная наконец понимать, что так беспокоит мать. – Боюсь, его действительно убили. Отравили опиумной настойкой, которую подлили во фляжку с виски, как и предполагал судья Ливси. Жаль, что это все так беспокоит тебя, мама, даже косвенно. Но в театре было много порядочных и уважаемых людей. Незачем бояться, что кто-то плохо о тебе подумает.
– О, я не боюсь, – очень удивленно возразила Кэролайн. – Я была бы… – Она отпустила глаза и слегка порозовела. – Я бы очень беспокоилась, если бы мистер Филдинг или мисс Маколи попали в число подозреваемых. Как ты думаешь, Томас подозревает кого-нибудь из них?
Шарлотта не знала, что ответить. Разумеется, это не только возможно, но даже вполне вероятно, что Питт может заподозрить кого-то из них, и наверняка это будет Джошуа Филдинг, а именно его Кэролайн и имела в виду. Шарлотта вспомнила худощавое, насмешливое, обаятельное лицо Филдинга и задумалась над тем, какие чувства он может скрывать. А то, что Филдинг может это делать, причем весьма искусно, она не сомневалась – недаром он актер. Что может таиться за его словами и воспоминаниями о Годмене или за тем фактом, что судья Стаффорд в день своей смерти приходил к нему?
Кэролайн пристально смотрела на дочь, очень внимательно и взволнованно. У нее даже лицо потемнело от сильного беспокойства.
В памяти Шарлотты вдруг ожили болезненные воспоминания. Сколько мечтаний выткало ее воображение в юности, в которые она, как в мантию, облекла своего кузена Доминика! Так легко было представить это красивое лицо, озаренное страстью, чувством и созвучными сердцу самой Шарлотты мечтаниями, наделить человека теми качествами, которыми он никогда не обладал и не хотел обладать, – и, думая так, не знать, не замечать, не понимать, каков этот человек на самом деле.
Не то ли самое происходит сейчас с Кэролайн и она видит в воображаемом свете своих фантазий актера, выражающего мысли и чувства других людей с таким искусством, что уже не способна провести разграничительную черту между миром воображения и реальностью?
– Да. Боюсь, Томасу придется его подозревать, – вслух сказала Шарлотта. – Отравить судью мог только человек, с кем он встречался в тот день и который имел возможность подлить яд во фляжку. А если мистер Стаффорд действительно начал заново расследовать то старое дело, тогда возникает очень убедительная причина для кого-то, чтобы убрать его с дороги. Разве Томас может игнорировать такую версию?
– Не верю, что Джошуа мог это сделать! – сказала Кэролайн едва слышно, но яростным шепотом, полным отчаянной убежденности. – Всему этому должно быть другое объяснение. – Она быстро подняла глаза, в которых не осталось и следа неуверенности и смущения. – Что мы можем сделать, чем помочь? Как опровергнуть подозрение? Есть ли у нас повод подозревать кого-то еще?
Шарлотта поразилась. Разве Кэролайн не понимает, что говорит сейчас как человек, причастный к событию? Или это просто такая фигура речи?
– У нас? – Шарлотта невольно улыбнулась.
Мать закусила губу.
– Ну… я имела в виду тебя, наверное. Я ведь понятия не имею, как ведут расследование…
Шарлотта никак не могла понять, хочет ли мать найти повод, чтобы уклониться от участия во всем этом деле, или же, напротив, желает быть полезной. Кэролайн выглядела одновременно и удрученной, и решительной. В ней чувствовалась гремучая смесь кипучей энергии, страха и вдохновения.
– А ты знаешь кого-нибудь из этих людей? – настойчиво выспрашивала она.
– Нет, – быстро ответила Шарлотта, – никого. Это Эмили всех знает. Но, наверное, мы тоже можем познакомиться с ними.
– Что-то надо делать, – страстно сказала Кэролайн. – Если когда-то повесили не того человека и это так и оставили, то вполне вероятно, что полиция может снова ошибиться… О! Извини, пожалуйста! Я не Томаса имею в виду. На этот раз, конечно, все должно быть иначе, если уж он ведет это дело. Но…
Шарлотта широко улыбнулась и подняла чашку с быстро остывающим чаем.
– Все верно, мама. И тебе лучше ничего больше не говорить; ты только изведешь себя напрасными волнениями. Томас тоже может ошибаться, причем обычно первым признаёт свои промахи, – она отпила глоток чая, – но я первая буду защищать его до последнего вздоха, если кто-нибудь другой усомнится в правильности его действий. Однако я действительно почти ничего не знаю об этом деле – лишь то, что известно тебе самой. Ясно лишь одно: оно такое, что страшнее не бывает. Ты помнишь те события? Они случились пять лет назад.
– Конечно, нет. Тогда еще был жив твой отец, поэтому я не читала газет.
– О! А также, полагаю, не знала никого из Блейнов или их знакомых и, уж конечно, при жизни папы не водила знакомства с артистами.
Кэролайн сильно покраснела и принялась пить чай маленькими глотками.
– Полагаю, что никого из них не знала и тетя Веспасия, – заметила Шарлотта, стараясь не улыбнуться. – По крайней мере, тогда. Я имею в виду актеров.
Кэролайн удивленно взметнула брови. До нее абсолютно не дошел юмор ситуации.
– Неужели ты думаешь, что леди Камминг-Гульд захотела бы с ними знаться? Нет, это просто невероятно. Она слишком хорошо для этого воспитана.
– Знаю, – согласилась Шарлотта, с трудом сохраняя серьезное выражение лица, – во всяком случае, достаточно хорошо, чтобы не заботиться о том, что подумают другие. Если бы она захотела познакомиться с кем-то из артистов, она бы обязательно это сделала – возможно, тайком. Но что нам в этом? Теперь ей уже за восемьдесят, и те артисты, которых она могла знать, нам без надобности. Да они все, наверное, уже умерли. Однако она, возможно, знает кого-то, кто был знаком с Кингсли Блейном или что-то знал о нем. Может быть, мне расспросить ее?
– О, ты в самом деле это сделаешь? – поспешно отозвалась Кэролайн. – Конечно, расспроси.
Перспектива была весьма заманчивой. Шарлотта уже довольно давно не виделась с тетушкой Веспасией. Вообще-то, леди Каминг-Гульд приходилась теткой не ей и даже не Эмили, а ее покойному мужу, но обе – и Шарлотта, и Эмили – любили старую леди больше всех своих родственников, исключая, конечно, собственную семью, и гораздо больше, чем ближайшие родственники самой Веспасии.
– Да, – решительно согласилась Шарлотта, – это отличная мысль, и я все так устрою, чтобы отправиться к ней завтра же.
– Да? Ты думаешь, это может ждать? – Вид у Кэролайн был удрученный. – Не лучше ли отправиться сегодня? Расследование потребует много времени; не лучше ли начать как можно скорее?
Шарлотта посмотрела на свое домашнее платье, потом на духовку.
– Грейси сама может вынуть кекс, – быстро заметила мать, наконец проявляя хоть какое-то внимание к чудесному аромату, становившемуся все ощутимее, – и встретить детей, когда те вернутся из школы. А ты можешь ехать. Или я подожду их, если тебе так будет спокойнее. Возьми мой экипаж, он стоит у ворот… Нет, это просто замечательная мысль. А теперь иди наверх и надень что-нибудь подходящее для выезда. Иди же!
Шарлотте не надо было повторять дважды. Если мама так сильно желает этого визита и согласна остаться, чтобы заменить ее дома, просто невежливо не пойти ей навстречу.
– Ладно, – согласилась Шарлотта и немедленно поднялась наверх, чтобы надеть подходящее платье и сообщить Грейси о перемене планов.
– Ох, – возбужденно ответила служанка, – значит, вы отправляетесь на дело! Мэм, я так надеялась, что вы приметесь за него сразу же! – Грейси вытерла ладони о фартук. – Ежели я могу чем помочь…
– …То я, конечно, дам тебе знать, – пообещала Шарлотта. – В любом случае, если я что-то выясню, то все равно тебе расскажу. Потому что сейчас я отправляюсь с визитом к леди Веспасии Камминг-Гульд, узнать, можно ли заручиться ее помощью.
Она знала, что Грейси просто обожает тетушку Веспасию. В свое время та была одной из самых блистательных красавиц лондонского света и обладала прирожденным чувством достоинства, обаянием, совершенной уверенностью в своих чарах и абсолютным безразличием к условностям. Впервые Грейси встретилась с ней, когда тетушка приехала к Шарлотте и расположилась в кухне вне себя от восторга, что попала в дом в день большой стирки, которую ей никогда не приходилось наблюдать. Для Грейси тетя Веспасия была существом иного, волшебного мира.
– О, мэм, как здорово! – Грейси захлопала в ладоши, лицо ее сияло. – Уверена, что уж она-то это сдюжит, а то как же еще?
Часом позже Шарлотта прибыла в Гэдстон-парк. Дверь ей открыла горничная, которую Питт нашел в работном доме, когда занимался предыдущим делом, и порекомендовал ее Веспасии. Тогда девушка напоминала привидение. Теперь лицо у нее было румяным, а волосы завивались блестящими колечками. Она уже хорошо узнала привычки Веспасии, и ей было известно, что Шарлотту можно принимать в любое время дня и ночи. Она не приезжала из-за всяких светских пустяков – лишь когда появлялось какое-нибудь срочное дело или чрезвычайно интересная история, которой можно было поделиться с леди Камминг-Гульд.
Веспасия сидела в своей личной маленькой гостиной – не парадной, для светских визитеров, довольно скромно обставленной: всего три стула, обитых гобеленом и с прекрасной резьбой. На полу в пятне солнечного света нежилась бело-черная собака с густой шерстью. По виду она напоминала помесь гончей и колли, причем в ее морде было что-то от спаниеля. Собака была в высшей степени умна, худа, создана для бега – но с неправильным окрасом. При виде Шарлотты она завиляла длинным хвостом и подвинулась поближе к Веспасии.
– Не обращай внимания на Уиллоу, она не кусается, к тому же совершенная дурочка. У лесничего Мартина сбежала сука – и вот результат. Ни рыба ни мясо и даже не селедка. А они-то думали, что получат выводок хороших, красивых собак… Говорят, сука после своего морального падения сошла с ума. Конечно, это бред собачий, но что поделаешь: люди всегда верят разным глупостям. – Веспасия ласково потрепала собаку по голове. – Обожает пачкаться в каждой первой луже и прыгает, словно кролик.
Шарлотта нагнулась и поцеловала тетушку в щеку.
– Ладно, садись, – приказала Веспасия. – Полагаю, раз ты явилась без предупреждения, да еще и в самый неурочный час, стало быть, собираешься сообщить нечто необыкновенное… – Она с предвкушением поглядела на Шарлотту. – Что случилось? Надеюсь, ничего трагичного?
– О, – замялась Шарлотта, – для тех, с кем это приключилось, событие трагично.
– Новое дело? – Светло-серые, серебристого оттенка глаза Веспасии под высокими дугами бровей смотрели очень ясно и проницательно. – Ты собираешься вмешаться, и тебе требуется моя помощь.
Она улыбалась, но сознавала, что каким бы странным и загадочным ни было дело, дошедшее до суда, оно всегда означает для кого-то страх и боль, а возможно даже, трагедию всей жизни. После случайности, заставившей ее познакомиться с Томасом Питтом, Веспасия узнала мрачную сторону жизни, бедность и отчаяние, которых не представляла ранее, вращаясь в блестящем светском обществе, и не встречала во время своих политических крестовых походов, которым отдавала столько сил и энергии. Ее личная способность сочувствовать и негодовать с тех пор очень развилась.
Но обе женщины понимали все это без слов. Слишком многое они уже разделили друг с другом, чтобы нуждаться в подобных пояснениях.
Шарлотта села и, когда Уиллоу подошла к ней, деликатно пофыркивая и виляя хвостом, рассеянно потрепала ее мягкую холку.
– Судья Стаффорд, – начала она, – по крайней мере, наполовину…
– Вот как? – невозмутимо вставила Веспасия. – Ты наполовину обеспокоена его смертью? В некрологе говорится, что он внезапно скончался в театре. На романтической пьесе, последнем и довольно банальном для такого блестящего судьи зрелище. Бедняга. Теперь, когда я об этом думаю, не могу не заметить, что его кончина в некрологе никак не комментировалась.
– Значит, будет, – сухо отозвалась Шарлотта. – В его виски была добавлена опиумная настойка.
– Господи боже! – В высшей степени утонченное и умное лицо Веспасии выразило причудливую смесь эмоций. – Полагаю, это не было случайностью или продиктовано собственным намерением?
– Это не было случайностью. Что за случайность могла бы привести к такому исходу? И, полагаю, никто не считает причиной смерти самоубийство.
– Никто и не может так считать, – согласилась Веспасия. – Люди, подобные Сэмюэлу Стаффорду, не склонны совершать самоубийства… Мы, конечно, вряд ли должны осуждать людей, сводящих счеты с жизнью, но все же это очень серьезное нарушение заповедей и людских законов; всем известно, что самоубийц хоронят лишь в неосвященной земле и на Страшном суде они понесут за сей грех наказание – так, во всяком случае, считают. – Внезапно ее лицо исказилось от гнева и жалости. – Я знала несчастных девушек, которые в отчаянии наложили было на себя руки, но их спасли – только затем, чтобы в наказание повесить… Да простит нас Бог. Есть ли хоть малейшее основание предполагать, что Сэмюэл Стаффорд сам покончил с собой?
Шарлотта моргнула и сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться.
– Нет и быть не может. Существует несколько причин, по которым не один человек желал бы видеть его в гробу.
– Невероятно. Кто же? Неужели из-за такой скучнейшей и банальнейшей вещи, как деньги?
– Никогда и ни за что. Но, говорят, у его жены любовная связь, и она либо ее любовник могли желать судье смерти. И у обоих была возможность подлить ему в тот день яд во фляжку с виски. Но дело, которое привело меня к вам, гораздо мрачнее.
Глаза Веспасии расширились.
– Неужели? По-моему, то, что ты рассказала, уже достаточно мрачно. Наверное, ты хочешь знать, знакома ли я с миссис Стаффорд? Нет, не знакома.
– Но… может быть, вы знаете кого-нибудь из тех, кто имел отношение к Кингсли Блейну?
С минуту Веспасия очень напряженно и сосредоточенно обдумывала вопрос.
– Нет, боюсь, имя Блейна мне ничего не говорит, – наконец ответила она с явным разочарованием.
– А Годмена? – сделала Шарлотта последнюю попытку, хотя и не надеялась, что Веспасия могла быть знакома с Аароном Годменом, разве что видела его имя в газетных заголовках.
Веспасия нахмурилась, смысл вопроса доходил до нее медленно.
– Шарлотта, дорогая моя, не имеешь ли ты в виду то отвратительное убийство на Фэрриерс-лейн? Но какое отношение, ради всего святого, смерть судьи Стаффорда в театре два дня назад может иметь к тому делу? Ведь оно было закончено в восемьдесят четвертом году.
– Нет, оно не было закончено, – ответила Шарлотта очень тихо. – По крайней мере, очевидно, что мистер Стаффорд снова начал им заниматься.
Веспасия нахмурилась еще больше.
– Что ты хочешь сказать этим «очевидно»?
– Существуют разные мнения, – объяснила Шарлотта, – но совершенно бесспорно, что в день его смерти к нему приходила Тамар Маколи, сестра Годмена, а после ее ухода мистер Стаффорд отправился к Адольфусу Прайсу – адвокату, который тогда выступал в качестве консультанта-обвинителя, – а потом нанес визит судье Ливси, тоже члену Апелляционного суда, который вместе с ним выносил окончательное решение по тому делу. Заходил он также к Девлину О’Нилу и Джошуа Филдингу. Двое последних проходили по делу как подозреваемые.
– Силы небесные! – Теперь лицо Веспасии выражало лишь напряженное внимание, на нем не осталось и следа праздного любопытства или недоверия. – Так в чем же проблема?
– Вопрос в том, намеревался ли он пересмотреть дело или же еще раз доказать – с новыми свидетельствами, – что вынесенный приговор был совершенно справедлив.
– Понимаю, – кивнула Веспасия. – Теперь я ясно понимаю, почему возникли предположения относительно тех, кому не хотелось, чтобы он пересматривал дело. А также о том – а иначе быть не могло, – кому потребовалось устранить источник беспокойства, убив судью, в случае если бы он не захотел отказаться от пересмотра. Все теперь ясно.
Шарлотта проглотила комок, застрявший в горле.
– Дело осложняется еще тем, что моя мать познакомилась с мистером Джошуа Филдингом и принимает его положение близко к сердцу.
– Неужели? – Слабый отблеск иронии промелькнул в глазах Веспасии, но она ничего не сказала. – Значит, поэтому и ты собираешься… принять его близко к сердцу? – Она немного поколебалась, подыскивая нужные слова. Затем выпрямилась. – Сожалею, что у меня нет даже шапочного знакомства с миссис Стаффорд, судьей Ливси и мистером Прайсом. Не сомневаюсь, что мне было бы довольно трудно снискать расположение мистера Филдинга, но, полагаю, это излишне. – Она даже не взглянула на Шарлотту, но легкий юмор замечания обе ощутили почти физически, словно внезапно повеяло теплом. – Однако я очень хорошо знакома с судьей, который вел то слушание… Это мистер Телониус Квейд.
– Неужели правда? – обрадовалась Шарлотта, уловив некоторое колебание в голосе Веспасии, но поняла его значение несколько позднее. – А вы достаточно хорошо его знаете, чтобы навестить? И сможете затронуть эту тему в разговоре? Или же это было бы… нетактично?
Едва заметная улыбка коснулась губ Веспасии.
– Полагаю, это может быть сделано без всякого нарушения приличий. Но я правильно понимаю, что действовать надо довольно быстро?
– О да! И я надеюсь на это… Спасибо, тетя Веспасия.
Леди Камминг-Гульд снова улыбнулась – на этот раз с искренней нежностью.
– Пожалуйста, моя милая.
Нельзя нагрянуть к судье в середине дня без предупреждения и ожидать, что он найдет время для светского общения. Поэтому Веспасия написала записку следующего содержания:
Дорогой Телониус!Извините, что обращаюсь к вам с несколько внезапной – и, возможно, не совсем хорошего тона – просьбой принять меня сегодня вечером, но мы с вами давние друзья и не относимся к числу тех людей, кто строго следует условностям и скрывает за пустой вежливостью мысли или чувства. Возникло дело, касающееся очень дорогого мне друга, молодой женщины, к которой я отношусь как к родственнице; и я полагаю, что вы смогли бы помочь делу своими воспоминаниями, касающимися одного общественного вопроса.
Если я не получу извещения, что встреча сегодня вам неудобна, то навещу вас в ваших апартаментах на Пикадилли ровно в восемь.
Дружески ваша, Веспасия
Леди Камминг-Гульд запечатала письмо и позвонила в колокольчик. Вошел лакей. Она отдала ему записку, приказав немедленно отвезти ее на квартиру судьи Телониуса Квейда в Иннер Темпл [4]и ожидать ответа, сколько бы ни пришлось ждать.
Через час он вернулся с ответом.
Дорогая Веспасия!Как прекрасно снова получить от вас весточку, какова бы ни была ее причина. Весь день я пробуду в суде, но на вечер у меня нет никаких неотложных планов, и я был бы рад видеть вас, особенно если вы сочтете возможным пообедать со мной, рассказывая тем временем о заботах своего друга.
Будьте уверены, я сделаю все возможное, чтобы помочь вам, и сочту это своим долгом. Нет – привилегией, мне дарованной.
Могу ли я надеяться, что вы прибудете к восьми?
Всегда ваш друг, Телониус
Веспасия сложила записку и убрала ее в одно из небольших отделений своего бюро. Ей не хотелось – пока еще нет – приобщить ее к другим, почти двадцатилетней давности. Слишком большое расстояние отделяло их от этого послания. Нахлынули воспоминания – но уже не печальные, а полные нежности. Она примет предложение вместе пообедать. Ей будет очень, очень приятно не торопясь поговорить не только о деле, но и о других вещах, побеседовать, неспешно наслаждаясь его обществом, остроумием, причудливостью его мышления, тонкостью суждений; при этом беседа будет исполнена самого тонкого юмора, который всегда присутствовал в его речах. И он всегда был честен. Это будет прямой разговор.
Веспасия тщательно оделась – не только для себя, но и для него. Давно уже она не одевалась, чтобы доставить кому-то удовольствие своим туалетом. Телониусу всегда нравились пастельные тона, разнообразие их почти неуловимых оттенков. Поэтому она надела шелковое платье цвета слоновой кости, гладкое на бедрах, с очень скромной, но чрезвычайно изящной драпировкой на лифе, обильно расшитое жемчугом, с кружевом у шеи. Он всегда предпочитал бледное сияние жемчуга блеску бриллиантов, считая последнее жестким и нагловатым.
Веспасия вышла из экипажа в пять минут девятого, достаточно близко к назначенному времени и не выходя из рамок вежливости. Неукоснительная точность всегда несколько вульгарна. Дворецкий, открывший ей дверь, был очень стар. В свете холла сияли его белоснежные седины; он сильно сутулился. С минуту внимательно разглядывал ее, потом его лицо осветила улыбка.
– Добрый вечер, леди Камминг-Гульд, – сказал он с нескрываемым удовольствием, видимо, под влиянием нахлынувших воспоминаний. – Как приятно вас видеть! Мистер Квейд ждет вас, соблаговолите войти. Разрешите, я возьму ваш плащ?
Прошло двадцать лет с тех пор, когда Телониус Квейд был в нее влюблен, и, если честно, она тоже любила его, и гораздо сильнее, чем рассчитывала, когда их роман только начинался. Он был блестящим юристом немного за сорок, худощавый и легкий в движениях, с прекрасно вылепленным лицом мечтателя-аскета, преданный своей профессии и карьере, словно жене, и пылко влюбленный в справедливость.
Тогда, в свои шестьдесят, Веспасия все еще была замечательной красавицей, что делало ее буквально знаменитостью. Она была замужем за человеком, к которому питала нежность, но отнюдь не обожала его. Он был старше ее, холоден, плохо понимал юмор и как раз в это время замкнулся от суеты жизни в ворчливом одиночестве старости. Он больше, чем прежде, стремился к физическому комфорту, при этом ограничил свои контакты с другими людьми, за исключением нескольких сходно мыслящих друзей и небольшого числа знакомых, с которыми вел активную переписку относительно тяжелого положения Империи, краха общественной морали и упадка религии.
Сейчас, когда Веспасия должна была снова увидеться с Телониусом Квейдом, она до смешного волновалась. Но это же просто нелепо! Ей больше восьмидесяти, она старая женщина. Даже Телониусу уже должно быть шестьдесят с небольшим! Она прекрасно владела собой, когда предложила Шарлотте использовать возможность встречи с ним, но пока шла за дворецким по знакомому холлу, сердце ее трепетало, а руки онемели от волнения, и она едва не споткнулась на том месте, где кончался паркет, у обюссонского ковра в гостиной.
– Леди Веспасия Камминг-Гульд, – провозгласил дворецкий, открыв для нее двери и отступая назад.
Веспасия проглотила комок в горле, еще выше подняла голову и вошла.
Телониус Квейд стоял у камина, лицом к Веспасии. Он выглядел еще более худощавым, чем она помнила его, и поэтому казался выше. Лицо его несколько осунулось, складки у рта стали резче, но следы времени придавали его внешности особое качество, которое было сродни красоте, – такова была сила характера, сквозившая в чертах его лица.
Телониус улыбнулся, как только увидел гостью, и медленно пошел навстречу, слегка протягивая ей руки ладонями вверх.
Веспасия безотчетно вложила свои руки в его и тоже улыбнулась.
Он не придвинулся ближе, но стоял, внимательно вглядываясь в ее лицо, ища в нем то, что надеялся найти.
– Полагаю, вы должны были измениться, – наконец сказал он тихо. Она уже забыла, какой замечательный у него голос, как ясен и чист его тон. – Но я не вижу в вас перемен, да и не хотел бы их видеть.
– Я стала на двадцать лет старше, Телониус, – слегка покачав головой, ответила Веспасия.
– Ах, моя дорогая, но ведь и я тоже, – ответил он нежно, – и это компенсирует разницу лет. Подойдем к камину – вечер холодный. Пожалуй, было бы чересчур поспешно начать обедать в ту же минуту, как вы вошли, хотя за одну короткую встречу мы, конечно, не сможем наверстать двадцать лет, так что не станем и притворяться, что это возможно.
Телониус повел ее к теплу камина.
– Расскажите-ка лучше, что вас так беспокоит? Нам незачем играть в непонятные игры и заниматься пустой болтовней, ходя вокруг да около сути. Мы никогда так не поступали, и если вы не изменились кардинально, то, полагаю, не успокоитесь, пока мы не уладим это важное дело.
– Неужели я настолько прямолинейна? – спросила Веспасия с грустной улыбкой.
– Да, – ответил он прямо и вновь пристально окинул взглядом ее лицо. Она уже не помнила, что у него такие голубые глаза и такой проницательный взгляд. – Хотя не могу сказать, что вы очень обеспокоены. Могу ли я из этого заключить, что никакого несчастья не случилось?
Веспасия слегка подняла изящное плечо, и жемчуг засиял у нее на груди.
– В настоящий момент дело представляет для меня не более чем интерес, но может причинить и беспокойство. Я очень люблю молодую женщину, которой оно касается.
– В своей записке вы сообщили, что относитесь к ней как к родственнице. – Телониус стал рядом с гостьей у камина, глядя ей прямо в лицо. Веспасия не стала присаживаться. Б ольшую часть дня она провела сидя да потом еще сидела в карете, так что стоять для нее было нетрудно – даже приятно. Несмотря на возраст, она сохранила стройность и держалась прямо.
– Она сестра моей племянницы по мужу.
– Вы говорите, словно колеблетесь. Веспасия, вы что-то недоговариваете?
– Вы слишком сообразительны, – ответила она суховато, но без всякого раздражения. Напротив, ее тронуло, что Телониус все еще хорошо помнит, какой она была, и хочет это продемонстрировать. – Да, она из достаточно скромной семьи, к тому же в свое время повергла свою родню в ужас, пойдя на мезальянс и выйдя замуж за человека, стоящего гораздо ниже ее на социальной лестнице, – за полицейского.
Глаза Квейда широко распахнулись, но он промолчал.
– И его я тоже очень люблю, – продолжала Веспасия с вызовом.
Судья все еще воздерживался от комментариев и по-прежнему внимательно ее рассматривал.
– Она… она часто бывает вовлечена в его дела, – теперь Веспасия затруднялась все объяснить так, чтобы данная история не показалась ему в дурных тонах. – В поисках истины, – сказала она осторожно, тоже пристально вглядываясь в его черты и не совсем понимая, что они выражают. – Она интеллигентная и очень своеобразная молодая женщина.
– И в настоящее время она тоже… вовлечена? – спросил Квейд, почти забавляясь ситуацией.
– Это зависит от обстоятельств.
– Каких?
– Будет ли у нее возможность принести пользу следствию.
Он как будто смутился.
– Вот так-то, Телониус, – быстро пояснила Веспасия. – Труд сыщика, расследующего дело, – это вам не просто расхаживать туда-сюда в котелке, задавать разные невежливые вопросы и записывать ответы в блокнот. Самый лучший способ ведения сыска – наблюдать за людьми, когда они даже не подозревают, что интересуют вас; понимать, что происходит, причем гораздо глубже, чем остальные, – и, разумеется, владеть искусством меткого и внезапного замечания, которое обязательно спровоцирует виновного на нужную реакцию.
Она умолкла, встретив его удивленный взгляд, в котором заискрилось веселье.
– Веспасия!..
– А почему бы и нет? – ответила она с вызовом.
– Дорогая моя! Разумеется, нет никаких причин вам не заниматься… делами.
Но тут прозвонил гонг. Телониус взял ее за руку и повел через арку в столовую. Стол красного дерева был сервирован на двоих; в свете свечей сверкало серебро, горьковато пахли оранжево-коричневые хризантемы, белые накрахмаленные салфетки были сложены монограммами вверх.
Прежде чем дворецкий успел подсуетиться, Телониус отодвинул для Веспасии стул и сел сам. Слуга молча приступил к исполнению своих обязанностей.
– И каким делом занимается сейчас ваш друг? Как ее зовут?
– Шарлотта… Шарлотта Питт.
– Питт? – Квейд поднял брови, в глазах его вспыхнул острый интерес. – Есть довольно способный полицейский инспектор по имени Томас Питт. Случайно не к нему вы испытываете такую симпатию?
– Да, это именно он.
– Прекрасный человек, как я слышал. – Судья развернул салфетку и расстелил ее у себя на коленях. – Честный… Что же это за дело, которым заинтересовалась его жена? И почему вы думаете, что я могу о нем что-нибудь знать?
Дворецкий налил ему вино. Квейд отпил и предложил того же вина Веспасии. Она согласилась.
– Если оно затрагивает общественный интерес, то тогда инспектор Питт узнает все и в том же объеме, что и я. Но правильно ли я понимаю, что он не приветствует участие своей жены в данном расследовании?
– Телониус, – весело упрекнула его Веспасия, – неужели вы воображаете, что я способна противопоставить Шарлотту ее мужу? Конечно же, нет! Это дело пятилетней давности, и вы знаете о нем больше любого другого, так как сами им занимались.
– Это какое же? – Он уже принялся за нежнейший суп-крем из зимних овощей.
Веспасия глубоко вздохнула. Некрасиво навязывать тему для разговора, тем более напоминая о таком ужасном преступлении в такой прелестный вечер, но они с Телониусом никогда не ограничивали свои разговоры лишь приятными темами. Их отношения потому и были глубоки, что старые друзья делились не только прекрасным, но и трагичным, и некрасивым.
– Это убийство Блейна Годменом на Фэрриерс-лейн в восемьдесят четвертом, – сказала она мрачно. Непринужденная атмосфера моментально испарилась. – И очень вероятно, что смерть судьи Стаффорда в театре два дня назад связана с его продолжавшимся интересом к этому делу.
Глаза Квейда затуманились, ложка застыла в воздухе.
– Не знал, что он все еще питал интерес к тому делу. В каком же смысле?
– Ну, понимаете… – начала Веспасия, с трудом подыскивая слова.
Она заметила, как изменилось настроение Телониуса, почувствовала таящийся за маской учтивости след испытанного прежде огорчения и разочарования. Ее настроение тоже омрачилось, но отступать было поздно. Телониус напряженно всматривался в ее лицо и ждал.
– Миссис Стаффорд и мистер Прайс тоже были в театре, когда умер мистер Стаффорд. Оба говорят, что он собирался пересматривать дело, хотя никто из них не знает, какие у него были для этого основания. С другой стороны, мистер Ливси, который также присутствовал на спектакле, совершенно уверен, что судья намеревался еще раз – и навсегда – засвидетельствовать абсолютную справедливость вынесенного тогда приговора и безупречность судопроизводства и сделать это с целью пресечения кривотолков, инициируемых сестрой повешенного, которая устраивает крестовый поход во имя очищения имени брата.
После того как суп был съеден, подали лососевый мусс.
– Бесспорно то, – закончила Веспасия, – что мистер Стаффорд снова опросил всех основных лиц, причастных к тому делу. В день смерти он повидался с Тамар Маколи, Джошуа Филдингом, Девлином О’Нилом и Адольфусом Прайсом, так же как и с судьей Ливси.
– Да, действительно, – задумчиво пробормотал Телониус, не притрагиваясь к вилке, праздно лежащей на тарелочке, и забыв на время о муссе из лососины. – Но насколько я понял, он умер, не прояснив дела?
– Именно так. И такое впечатление, – она заколебалась, – что он умер от яда. Опиума, говоря точнее.
– И отсюда проистекает интерес ко всему этому делу инспектора Питта, – сухо заключил Квейд.
– Точно. Но интерес Шарлотты к этому делу носит более личный характер.
– Да? – Телониус наконец поднял вилку.
Веспасия невольно улыбнулась.
– Не знаю, как поделикатнее выразиться, так что скажу прямо…
– Потрясающе! – с нежной насмешкой отозвался Телониус.
Леди Камминг-Гульд еще раз вспомнила, как он был дорог ей когда-то – один из тех редких мужчин, которые были умнее, чем она, и не преклонялись сверх меры перед ее красотой и славой. Ах, если бы они встретились раньше… Но Веспасия никогда не жила бесплодными сожалениями и уж, во всяком случае, не собиралась делать этого сейчас.
– Мать Шарлотты возымела склонность к актеру Джошуа Филдингу, – сказала она с натянутой улыбкой. – Ее беспокоит, как бы его не заподозрили в причастности к убийству на Фэрриерс-лейн, а теперь и в отравлении Стаффорда.
Телониус протянул руку к бокалу с вином.
– Не вижу тут никакой связи – если это то, что вы желаете от меня услышать. Думаю, что Ливси, по всей вероятности, прав и миссис Стаффорд вместе с мистером Прайсом либо совершенно неверно интерпретируют ситуацию, либо тут кроется нечто похуже.
Веспасии не нужно было осведомляться, что он имеет в виду, – это было очевидно.
– Но если все же ошибается Ливси?
Лицо Квейда снова омрачилось, и прежде, чем ответить, он явно несколько мгновений колебался. У Веспасии уже вертелась на кончике языка просьба извинить ее за то, что она вообще затронула это дело, но они всегда говорили друг с другом напрямик, и поступить иначе означало бы отказ от правды, и таким образом она закрыла бы дверь, которую очень желала бы видеть распахнутой.
– То было чрезвычайно неприятное дело, – медленно ответил судья, пристально вглядываясь ей в лицо. – Одно из самых тяжких и мучительных, на которых я председательствовал. И кошмар состоял не только в самом факте ужасающего убийства, в распятии человека на двери в конюшне, словно в насмешку над крестными муками Христа; страх состоял и в том, какую ненависть оно вызывало в обычном человеке с улицы. – По его губам скользнула горькая улыбка. – Просто удивительно, сколько людей принимают так близко к сердцу проблемы религии, когда происходят подобные события; при этом все они не утруждают себя посещением церкви чаще одного раза в год.
– Но это же гораздо легче, – ответила Веспасия со всей откровенностью. – Гораздо удобнее в эмоциональном плане считать себя смертельно оскорбленным во Христе, чем бескорыстно служить Христу. Некоторые чувствуют себя праведниками, истинно верующими прихожанами, мстя грешникам за их деяния. И это стоит гораздо дешевле, чем уделять свои время и деньги беднякам.
Телониус доел мусс из лососины и предложил Веспасии еще вина.
– Вы становитесь циничной, моя дорогая.
– А я всегда была такой – во всяком случае, в отношениях с самозваными праведниками. Но действительно ли это дело так отличалось от всех других?
– Да, – он отодвинул тарелку, и дворецкий, незаметно, словно тень, выступив вперед, принял ее. – Здесь имела место чуждая национальная культура, которой частенько приписывали склонность к преступлению, – мрачно продолжал Телониус, взгляд его стал печален и сердит. – Годмен был евреем. В результате пробудились антисемитские настроения – наряду с самыми худшими проявлениями человеческой натуры, которые мне когда-либо приходилось наблюдать. На стенах появились антисемитские надписи, повсюду распространялись псевдоисторические листовки и памфлеты; были даже случаи, когда побивали камнями людей, которых принимали за евреев, били стекла в синагогах, а одну из них подожгли. Судебное заседание велось на такой душераздирающей ноте, что я опасался потерять над ним всякий контроль.
Черты его лица заострялись по мере того, как оживали воспоминания, и Веспасия по его взгляду могла понять, насколько они болезненны.
Им было подано седло барашка, но они не обратили на него никакого внимания. Дворецкий разлил красное вино.
– Извините, Телониус, – ласково сказала пожилая леди, – я не стала бы воскрешать подобные воспоминания намеренно.
– Вы не виноваты, Веспасия, – вздохнул он, – таковы были обстоятельства. Не знаю, что такого откопал Стаффорд. Возможно, какое-нибудь неизвестное ранее свидетельство. – На лице его появилось странное выражение – одновременно насмешливое и уязвленное. – Надеюсь, в ведении судопроизводства не было допущено ничего некорректного. – Он заговорил глуше, печально и словно извиняясь. – Но, помнится, тогда впервые в жизни я обдумывал возможность сознательно закрыть глаза на некоторое отклонение от прямого пути, на то, что суд не использовал какой-то пункт правил, который позволил бы опытному и усердному юристу найти повод упрекнуть тех, кто вел дело, в некорректности или, по крайней мере, настаивать на изменении состава присяжных, во избежание предвзятости с их стороны. И мне тогда было стыдно, что я пусть мысленно, но допускал возможность подобного отклонения.
Он снова напряженно вгляделся в лицо Веспасии, отыскивая признаки неловкости или стыда за него, но увидел только глубокий интерес.
– Однако ненависть общественности была физически ощутима, – продолжал он, – и я опасался, что суд в таких обстоятельствах не сможет оставаться на высоте справедливости. И пытался – поверьте мне, Веспасия, – предотвратить это. Я не спал много ночей, так и этак прокручивая все в мыслях каждую мелочь, но не нашел ничего – ни слова, ни действия, – что мог бы поставить под сомнение.
Он опустил глаза, потом снова посмотрел на нее.
– Прайс выступал отлично – как, впрочем, и всегда, – но в границах своих формальных обязанностей. Защитник Бартон Джеймс вполне соответствовал требованиям, предъявляемым к защите. Он не шел напролом и вроде бы считал, что его клиент виновен, но, думаю, во всей Англии не нашелся бы адвокат, который верил бы в обратное…
Создавалось впечатление, что Квейд сгорбился, словно хотел укрыться от постороннего взгляда внутри себя самого. Веспасия хорошо понимала, что воспоминания о том суде все еще для него очень болезненны. Но она его не прерывала.
– Все было так… поспешно, – продолжал Телониус, поднимая бокал и вертя его в пальцах за ножку; свет бриллиантовыми искрами преломлялся в хрустале с красной жидкостью. – Законность процедур соблюдалась неукоснительно, но у меня постепенно усиливалось ощущение, что все желают признания Годмена виновным, дабы поскорее его повесить. Общество требовало отмщения за совершенное святотатство; оно напоминало голодного зверя, рыскающего у дверей зала суда в ожидании жертвы. – Квейд взглянул на Веспасию. – Наверное, я мелодраматичен?
– Немножко.
Он улыбнулся.
– Вас там не было, иначе бы вы поняли, что я имею в виду. Вокруг царило всеобщее возбуждение, чувства были воспалены, в воздухе носилась угроза для всех, кто вздумал бы отстаивать справедливость. Я был всем этим напуган.
– Никогда прежде не слышала от вас подобного признания, – удивилась Веспасия. Это было так не похоже на мужчину, которого она помнила. Странно, он казался одновременно и более уязвимым, чем прежде, и более сильным.
Телониус покачал головой.
– Но я никогда и не испытывал такого чувства, – признался он тихим голосом, полным удивления и боли. – Веспасия, я серьезно обдумывал возможность совершения незаконного действия, чтобы дать основание для повторного слушания дела до Апелляционного суда, без истерии, когда чувства уже поостыли бы. – Он глубоко вздохнул. – Я мучился вопросом, можно ли назвать мое поведение отчужденным, безответственным или даже нечестным, если я все пущу на самотек; может быть, я обыкновенный трус, который предпочитает справедливости видимость законности?
Говори Веспасия с другим человеком, она сразу же возразила бы, но тогда откровенный разговор превратился бы в банальную беседу, что отдалило бы их друг от друга, а Веспасия этого не хотела. Да, она могла бы вежливо оспорить его признание, проявить формальную любезность, но это была бы ложь. Телониус – очень порядочный человек, но в душе он так же подвержен страху и смятению, как и всякий другой. И для него возможность ошибиться и уступить была не исключена. Отказывать ему в понимании того, что он может проявить слабость, означало бы предательство. Это все равно что оставить его в отчаянии одиночества.
– А вы когда-нибудь принимали решение, в правильности которого были абсолютно уверены?
– Полагаю, это зависит от цели и средств ее достижения, – задумчиво ответил Телониус. – Одно верно: эти два понятия никогда нельзя разделять. Нет в природе такого явления, как цель, совершенно не зависящая от средств, которые используются для ее достижения. – Говоря это, он зорко наблюдал за выражением ее лица. – В сущности, я сомневался, имею ли право сознательно отменить следствие по делу из-за того, что оно вызывает такие яростные чувства и вершится так поспешно, чего лично я не одобрял. Понимаете, я не считал, что Аарон Годмен невиновен, – я и сейчас не думаю так. Равно как и не считаю, что представленные свидетельства были изложны или сфабрикованы. Меня лишь мучило ощущение, что полиция действует скорее под влиянием эмоций, без той беспристрастности, которая требуется при исполнении долга.
Он ненадолго замолчал, словно не знал, стоит ли продолжать.
– Я был совершенно убежден, что Годмена избивали во время содержания под стражей, – сказал он наконец. – Когда он появился в зале суда, на его лице виднелись ссадины и кровоподтеки, слишком недавние, чтобы отнести их ко времени до ареста. Вокруг дела царила атмосфера исступления, все говорили о безотлагательности возмездия, а все это никак не согласуется с желанием установить истину или хотя бы попытаться это сделать. И однако Бартон Джеймс не принял это к сведению, а я не мог бросить тень на то, как он строит защиту, лично обратив на это внимание суда. Я не понимал, почему он так поступает, не понимаю этого и сейчас. Возможно, мне лишь показалось…
– А кто его избивал, Телониус?
– Не знаю. Полагаю, полицейские или тюремные надзиратели, но, вполне вероятно, он сам их каким-то образом себе причинял.
– А что вы скажете насчет апелляции?
Квейд снова начал есть.
– Апелляция была подана на основании того, что улики не полностью бесспорны – было в них какое-то несоответствие по сравнению с медицинской экспертизой после осмотра тела Блейна. Врач, который производил осмотр, сначала утверждал, что раны глубже, чем если бы они были нанесены только гвоздями, на чем настаивало обвинение, и что именно первоначальные раны были причиной смерти, а не гвозди, которыми он был распят, и даже не рана в пронзенном боку. Слава богу, что он был уже мертв, когда его распинали!
– Вы хотите сказать, что Годмен использовал какое-то другое орудие? А как это могло повлиять на приговор? Не понимаю.
– Другого оружия или орудия на Фэрриерс-лейн найдено не было, – пояснил Телониус, – и люди, видевшие, как он выходил оттуда, запачканный кровью, были совершенно уверены, что ничего подобного у него не имелось. Ничего при нем не нашли и во время ареста, равно как и в его квартире.
– Но разве он не мог заблаговременно отделаться от орудия преступления?
– Да, разумеется, но не в промежутке между конюшенным двором и выходом из переулка, где его видели в ночь убийства. Переулок с обеих сторон огражден стенами домов. Там совершенно нет места, где можно было бы спрятать подобную вещь. И в самом дворе тоже ничего не нашли.
– А что на это сказали члены Апелляционного суда?
– Что врач Ярдли не абсолютно уверен в своей правоте и что при вторичном осмотре тела уже не отрицал возможности причинить смертельную рану длинным кузнечным гвоздем.
– И это всё? – спросила Веспасия одновременно с любопытством и тревогой.
– Да, наверное. Они быстро пришли к заключению, что судебный приговор во всех, даже мельчайших аспектах справедлив и неопровержим. – Телониус вздрогнул. – Аарона Годмена повесили через три с половиной недели. С тех самых пор его сестра не оставляет попыток убедить суд вернуться к новому рассмотрению дела. Она рассылала письма членам Парламента, в газеты, публиковала памфлеты, выступала на митингах и даже обращалась к зрителям со сцены. И всюду ее преследовали неудачи – если не считать того, что Сэмюэл Стаффорд, по словам его жены, имел намерение возобновить слушания по этому делу. Однако смерть помешала ему исполнить задуманное.
– Во всем этом мало смысла, – тихо сказала Веспасия и, взглянув на Квейда, встретила его твердый, ясный взгляд. – А вы, Телониус, совершенно уверены, что Годмен был виновен?
– Я всегда так думал. Мне была отвратительна атмосфера, в какой велось расследование, но сам процесс совершался в духе законности, и я не видел оснований к тому, чтобы члены Апелляционного суда отнеслись к этому делу иначе. – Он нахмурился. – Однако если Стаффорд впоследствии узнал что-нибудь, тогда, возможно… нет, не знаю.
– Но если не Аарон Годмен, то кто же тогда убил Блейна?
– Не знаю. Джошуа Филдинг? Девлин О’Нил? Или еще кто-то, о ком по сей день нам ничего не известно? Возможно, что-нибудь прояснится, если мы будем знать, кто и почему убил Сэмюэла Стаффорда. Чрезвычайно отвратительная история, и каким бы ни был ответ, он станет трагичным.
– Да, но когда дело идет об убийстве, других ответов почти не бывает… Благодарю вас за то, что вы были со мной так откровенны.
Телониус явно почувствовал облегчение, плечи его расправились, напряженность и неуверенность на лице уступили место мягкой улыбке.
– А вы что же думали, я буду с вами кривить душой? Я не настолько изменился с былых времен!
– Ничего лучшего вы не могли бы мне ответить, – сказала Веспасия и сразу же поняла, что это неправда. Он мог бы сказать и другое, чего ей больше хотелось бы услышать… но это желание неприлично, да и, попросту говоря, глупо.
– Не льстите мне, Веспасия, – сухо ответил Квейд. – Кривить душой возможно со знакомыми. Друзьям надо говорить правду или, в худшем случае, молчать.
– Вот уж этого, пожалуйста, не надо. Разве я способна была о чем-нибудь смолчать?
Внезапно Телониус ослепительно улыбнулся.
– Что касается данной темы – пожалуйста и когда вам угодно. Но скажите мне, чем вы еще сейчас занимаетесь, не считая проблем вашей подруги миссис Питт? Хотя невозможно рассказать обо всем, что случилось с тех пор, когда мы в последний раз говорили с вами, ни о чем не умалчивая…
Леди Камминг-Гульд рассказала Квейду о своей борьбе за реформу Закона о бедных, образовательных актов, жилищных условий; рассказала о театральных постановках, которые доставляли ей радость; о людях, к которым она питала глубокую привязанность или, напротив, глубокую неприязнь. Вечер промелькнул тем быстрее, что сиюминутные темы уступили место воспоминаниям, смешным и грустным, и уже далеко за полночь Квейд проводил свою гостью до дверцы ее кареты, подержал мгновение ее руки в своих и попрощался с ней, зная, что жить на этой земле им осталось немного.
Мика Драммонд никак не мог отделаться от мыслей о деле Блейна – Годмена. Безусловно, очень даже возможно, что Сэмюэла Стаффорда отравила жена или ее любовник, хотя, очевидно, насущной необходимости для насильственных действий, сопряженных с риском, с их стороны не было. Если эти двое соблюдали приличия – а они, по-видимому, их соблюдали, – то имели возможность продолжать видеться от случая к случаю почти бесконечно долго. О разводе не могло быть и речи, это означало бы утрату социального статуса. Прайс не мог бы жениться на разведенной женщине и по-прежнему заниматься юриспруденцией. Общество не потерпело бы подобный скандал. Стаффорд был не только другом Прайса – он имел очень важный, более значимый судейский чин.
Но обычная любовная связь – совсем другое дело, коль скоро ее не выставляют напоказ. Так зачем им было совершать такой отвратительный и опасный для них самих поступок, как убийство? Такой необходимости не было. Джунипер Стаффорд было уже порядком за сорок пять. Вряд ли она могла надеяться выйти замуж за Прайса и иметь детей. Радости общего семейного очага были для них невозможны, разве только они собирались бросить вызов условностям, понизить свой социальный уровень, приняв это как расплату за пренебрежение теперешним состоянием. Прайс никогда бы не согласился на это ради нее, даже если смог бы пожертвовать своим собственным положением.
Но достаточно ли этих соображений, чтобы полностью снять с них подозрение? Драммонд знал, что такое безоглядно любить женщину, когда мысль о ней всегда жила в нем, даже в самые сокровенные минуты его жизни. Все его радости были связаны с ней, с желанием все делить с ней пополам. Его чувство одиночества, его боль – все это было следствием разлуки с ней, но никогда, даже в самые мрачные и тяжелые минуты, он и помыслить не мог, что можно достичь счастья, намеренно ускоряя ход событий, прибегая к физическому или эмоциональному насилию. Если Джунипер и Прайс опустились до тайной интрижки, обманывая Стаффорда, то он, Мика Драммонд, мог презирать их слабость и двоедушие – и в то же время сочувствовать им.
Драммонду казалось, что Ливси неправильно понял Стаффорда и его намерения относительно пересмотра дела Блейна – Годмена или же сам Стаффорд намеренно ввел Ливси в заблуждение по какой-то неизвестной причине. Да, то давнее дело было отвратительно, все общество находилось в горячечном состоянии, на грани истерии, и Драммонда не удивило бы, если бы подобные чувства тлели в людях до сих пор; хотя он и не мог представить, кому понадобилось убивать Стаффорда сейчас, что именно могло толкнуть кого-то на подобный поступок.
Судья не оставил никаких записей, из которых можно было бы понять, чьи именно свидетельства он снова расследует, что считает правдой, кого подозревает в ее сокрытии, и тем более – кто был действительным убийцей Кингсли Блейна, если это не Годмен. Единственный способ все узнать – это провести свое собственное расследование. Питт, очевидно, начнет с главных свидетелей и подозреваемых, а сам он, Драммонд, мог бы обратиться наверх, к начальству, которому подчиняются все следователи, – скажем, к заместителю комиссара полиции, который стоял выше его по должности. Поэтому он послал краткую записку с просьбой принять его.
Следующим утром Драммонд оказался в роскошно обставленной и тесной от мебели приемной заместителя комиссара полиции Обри Уинтона. Тот был человеком среднего роста, с волнистыми светлыми волосами, редеющими на висках. На лице его застыло выражение спокойствия, уверенности в себе и довольства.
– Доброе утро, Драммонд, – вежливо сказал Уинтон. – Входите, входите! – После обмена рукопожатием он опять вернулся на свое место за письменным столом. Откинувшись назад, повернулся к Драммонду и указал ему на стул. – Садитесь, пожалуйста. Сигару? – И взмахом руки указал на густо украшенную кольцевидным узором серебряную коробку на столе. – Чем могу быть полезен?
Драммонд не стал ходить вокруг да около – на это попросту не было времени; к тому же они были коллегами, а не друзьями.
– Это касается дела Блейна – Годмена, которое, по-видимому, послужило причиной еще одного преступления на территории моего участка.
Уинтон нахмурился.
– Но это кажется невероятным. С тем делом было покончено пять лет назад. – В тоне его голоса звучало почти осязаемое недоверие. Он был не склонен принимать к сведению столь неприятное сообщение без неопровержимых доказательств. В воздухе повеяло холодком.
– Судья Стаффорд, – очень неохотно объяснил Драммонд, – был убит в театре три дня назад. А до этого он заявил, что намерен возобновить рассмотрение дела. – И встретил ставший еще более жестким взгляд Уинтона.
– Значит, я могу сделать один-единственный вывод: он нашел что-то неправильное в процессе судопроизводства, – осторожно заметил заместитель комиссара. – Сами свидетельства преступления был исчерпывающими.
– Действительно? – заинтересованно спросил Драммонд, словно процесс еще не закончился. – Это дело прошло мимо меня. Может быть, вы познакомите меня с его сутью?
– Не вижу в этом смысла. Дело было решено окончательно и бесповоротно, Драммонд. И добавить к этому больше нечего. Стаффорд мог обнаружить какую-то погрешность в самом судопроизводстве, – повторил он.
– Например? – вопросительно вскинул брови Мика.
– Понятия не имею. Я ведь не юрист.
– И я тоже. – Драммонд с трудом подавил желание откровенно высказать свои замечания. – Но Стаффорд был юристом. И он слышал, как оглашали просьбу о помиловании. Какое же у него могло возникнуть дополнительное свидетельство теперь, которое не было известно ему тогда? Ведь наряду с другими членами Апелляционного суда он должен был быть ознакомлен со всеми судебными материалами.
Лицо Уинтона исказила гневная гримаса, он плотно сцепил пальцы.
– К чему вы клоните, Драммонд? Хотите сказать, что мы недостаточно тщательно рассмотрели тот случай? Предлагаю вам воздержаться от оскорбительных и невежественных замечаний относительно дела, о котором вам так мало известно.
Поспешность и воинственность ответа свидетельствовали о том, как болезненно Уинтон воспринимает тему разговора. Это застало Драммонда врасплох. Он ожидал, возможно, оправданий, но только не такой агрессивной защиты. Очевидно, Уинтон все еще испытывал чувство вины или, по крайней мере, боялся осуждения. Драммонд не без труда сдержал собственное раздражение.
– Мне нужно расследовать убийство судьи, – сказал он напряженно. – Если бы вы были на моем месте и вам стало известно, что тот собирался снова открыть это старое дело и расспрашивал главных свидетелей в тот самый день, когда был убит, а они – одни из многих, которые имели возможность убить его, неужели вы сами не обратились бы к свидетельским показаниям?
Уинтон глубоко вздохнул; его лицо немного смягчилось, словно он понял, что реагировал неадекватно.
– Да-да. Полагаю, я действовал бы так же, сколь бы это ни было бессмысленно. Ну ладно, так что я могу вам рассказать? – Он слегка покраснел. – Расследование всего случившегося проводилось очень тщательно. То было жуткое преступление, и за нами следила вся страна, от премьер-министра до самого рядового гражданина.
Драммонд воздержался от выражения сочувствия, которого явно требовала такая тирада. Тот факт, что Уинтон столь агрессивно защищался, сам по себе говорил о том, что заместитель комиссара сомневается в истинности сказанного.
Уинтон переменил позу.
– Главным следователем по этому делу был Чарльз Ламберт, прекрасный человек, мастер своего дела. Конечно, общественное возбуждение было колоссальным. Газеты ежедневно печатали отчеты на первых полосах под броскими заголовками. Нам постоянно звонил премьер-министр, оказывая на всех невыносимое давление, требуя, чтобы мы нашли убийцу в недельный срок, и ни днем позже. Не думаю, что у нас на руках было когда-нибудь подобное дело. – Уинтон пристально смотрел на Драммонда, ища в его лице понимание. – Вам когда-нибудь приходилось работать в условиях такого нажима сверху, не говоря уже о всеобщем негодовании, гневе, испуге, желании всех и каждого непременно выразить собственное отношение к подобному случаю? Премьер-министр явился к нам собственной персоной…
Лицо его потемнело при воспоминании об этом визите. Драммонд мог легко вообразить эту сцену: разгневанный, нервничающий премьер-министр, шагающий взад-вперед, отдающий невозможные указания и желающий знать, как их будут исполнять, чувствующий при этом только одно: как на него самого давят Палата общин и публика. Он знал, что, если убийство не будет раскрыто в кратчайший срок, а преступник – осужден и повешен, его собственная политическая репутация окажется под угрозой. Премьер-министры и до него кончали крахом; кроме того, никто не может считать себя в безопасности, если общественное негодование столь велико. И премьер-министр с охотой принес бы какую-нибудь жертву волкам страха.
– Мы тогда отрядили всех наших людей на раскрытие преступления, – продолжал Уинтон, голос его стал пронзительным от нахлынувших воспоминаний, – самых лучших из них. Но в конечном счете дело оказалось не таким уж запутанным. Преступник пребывал в здравом рассудке, причем вел себя не слишком умно, да и мотив убийства был достаточно несложен. Годмена видели, когда тот выходил из Фэрриерс-лейн как раз в то время, а на одежде у него виднелись пятна крови.
– Видели, как он выходил из Фэрриерс-лейн? – недоверчиво прервал его Драммонд. – Если это так, как могла Тамар Маколи сомневаться в его вине? Даже родственная любовь не может быть столь слепа. Кто же его видел?
– Группа людей, прогуливающихся вдоль того места.
Драммонд уловил какую-то заминку в ответе. Уинтон говорил уже без прежней безоговорочной уверенности.
– А кого они видели – Годмена или еще кого-нибудь?
Уинтон уже несколько утратил самоуверенный вид.
– Они не утверждали, что видели именно его, но продавщица цветов в этом уверена. Она стояла двумя улицами дальше, но нисколько не сомневалась, что это именно он. На улице, где она продавала цветы, горел фонарь; Годмен остановился подле него и заговорил с ней. Как раз только что пробили часы. По ее словам, он пошутил с ней. В общем, она не только видела его лицо, но точно могла назвать время, когда это произошло.
– Он шел с Фэрриерс-лейн или по направлению к ней?
– От нее.
– Значит, это было после убийства и он остановился, чтобы поболтать с цветочницей? Удивительно! И она не заметила на нем следов крови? Если их различили прогуливающиеся поблизости люди, то уж она-то должна была видеть их очень ясно.
Уинтон заколебался, в его красноречивом взгляде зажегся гневный огонек.
– Нет, она не видела их. Но это легко объяснить. Когда убийца вышел из переулка, на нем было пальто, а когда он подошел к цветочнице, то уже отделался от него. Что вполне естественно. Годмен не мог допустить, чтобы его увидели в пальто, запятнанном кровью. А после подобного убийства пятен должно было быть чертовски много.
– Но почему же он не отделался от пальто еще на Фэрриерс-лейн и некоторое время шел в нем, рискуя быть всеми замеченным? – задал Драммонд сам собой напрашивающийся вопрос.
– Бог его знает, – резко ответил Уинтон. – Может быть, Годмен вспомнил о пальто, когда его увидели в нем прохожие. Сам он этого мог сначала и не заметить. Он же находился в состоянии безумной ярости – был настолько не в себе, что убил и распял человека… Господи помилуй! Вряд ли он был способен тогда мыслить логически.
– И тем не менее, пройдя две улицы, Годмен уже вел себя как совершенно нормальный человек и даже шутил с цветочницей… А вы нашли пальто? Там ведь практически негде было его спрятать.
– Нет, не нашли, – отрезал Уинтон. – Но это вряд ли может удивить. Хорошее зимнее пальто недолго пролежит на лондонских улицах в холодный вечер, независимо от того, запачкано оно кровью или нет. Вряд ли можно было ожидать, что оно найдется спустя несколько дней после события.
– А куда Годмен направился после разговора с цветочницей?
– Домой. Мы нашли кебмена, который его подвез. Годмен взял кеб у Сохо-сквер и вышел в Пимлико. Но какая разница? Ведь убийство уже свершилось.
На это Драммонду почти нечего было ответить – только посочувствовать Уинтону и вообще всем тем, кто занимался тем делом. Давление на них должно было быть очень мощным – в условиях, когда газеты выходили с кричащими, полными ужаса и ярости заголовками, а налогоплательщики на улицах усиленно критиковали полицию и требовали от нее исполнения долга, за что им платили жалованье из средств этих самых налогоплательщиков. И, конечно, больше всех свирепствовали высшие полицейские чины; их давление было самым жестким, ибо они в приказном порядке требовали, чтобы убийца был найден в считаные дни, даже часы.
Существовал и другой вид давления, о котором понимающие люди молчали; оно не требовало объяснений для посвященных. Драммонд был членом «Узкого круга», тайного братства, которое занималось делами благотворительности, рассылая анонимные дары различным учреждениям. Также оно способствовало продвижению своих членов, с тем чтобы те становились все влиятельнее и могущественнее. Но членство в братстве было секретным. Каждый был знаком с несколькими другими, знал их по имени, устанавливал с ними общность по условному жесту или паролю, но не ведал полный список организации. Преданность «Кругу» устанавливалась навечно и была абсолютной. Она была превыше всех остальных чувств и привязанностей, соображений чести и справедливости.
Драммонд понятия не имел, является Обри Уинтон членом «Узкого круга» или нет, но считал, что это в высшей степени вероятно и что давление «Круга» на него может быть решающим фактором, определяющим его поведение.
Его сочувствие к заместителю комиссара усилилось. Положение у него было не из завидных – и тогда, и теперь, – хотя, казалось, он сделал все, что мог, и сделал безупречно.
– Не думаю, что Стаффорд раскаивался, – продолжал тем временем Уинтон, – даже если в самом процессе или при рассмотрении апелляции была допущена какая-то неточность. Аарон Годмен явно был виновен, и не было смысла в новом слушании дела. Я начинаю думать, что ответ на вопрос, почему пострадал Стаффорд, кроется в чем-то другом. – Впервые за все время он улыбнулся. – Не очень-то приятно так думать; я понимаю, почему вы хотите найти иной ответ, и весьма вам сочувствую, но должен заявить, что этот ответ не связан с делом Блейна – Годмена. Извините.
– Да, конечно. Спасибо, что уделили мне столько времени. – Драммонд встал. – Я расскажу своему следователю все, что вы мне сообщили.
– Ну, это, пожалуй, лишнее. Дело ведь очень деликатное, – многозначительно произнес Уинтон. – Иногда наше положение бывает не из легких.
Драммонд кисло улыбнулся и распрощался с ним.
День был прекрасный. Дул свежий ветер, разогнавший облака, и яркие лучи осеннего солнца освещали улицы. С деревьев вдоль тротуаров и в парках облетели последние листья. Все это заставило Драммонда вспомнить об осенних кострах, о краснеющих ягодах на живых изгородях, садовниках, перекапывающих влажную землю и вырывающих клубни однолетних растений, чтобы подготовить их к весенней посадке. В былые времена, когда жена была жива, а дочери еще не выросли, когда семья Драммонд жила в старом доме, который он потом продал и снял квартиру на Пикадилли, – в саду на клумбах цвели хризантемы, и их большие лохматые кусты были покрыты оранжево-коричневыми цветами, от которых пахло землей и дождем, и капельки воды блестели на листьях…
Ему до боли хотелось поделиться с кем-нибудь своими чувствами. И, как это было всегда в последнее время, Драммонд вспомнил об Элинор Байэм. Со времени того скандального события он видел ее очень редко. Как часто ему хотелось навестить ее! Но потом он вспоминал, что это дело распутывали они с Питтом… нет, неверно, пожалуй, только Питт… ну, и его жена Шарлотта… Это они в конечном счете расследовали дело, это их настойчивость и ум помогли раскрыть правду. Но эта правда разрушила благополучие Элинор, сделала ее вдовой, отверженной в тех кругах, где прежде с таким почтением относились к ее мужу, где ее уважали и любили…
Сейчас же она, продав большой особняк на Белгрейв-сквер, переселилась в тесные комнаты в Мэрилебон, потеряв доход и знатное имя, которое в прежних кругах упоминалось лишь шепотом, с опасением и жалостью. Больше ее никуда не приглашали и не наносили визитов, таких значимых для Элинор. Драммонд был не виноват во всем этом. Он не участвовал в преступлении, совершенном Шолто Байэмом, и ничем не способствовал постигшей его трагедии, но тем не менее понимал, что самый вид его может возбудить у Элинор лишь болезненные воспоминания.
Внезапно Драммонд осознал, что идет по Милтон-стрит, бессознательно ускоряя шаг.
День уже близился к завершению, и фонарщики поднимали свои длинные шесты, чтобы зажечь газ, отчего темнеющая улица вдруг залилась теплым светом, когда Драммонд подошел к двери Элинор. Если бы он хоть на минуту остановился и задумался над тем, что делает сейчас, то мужество ему непременно изменило бы; но он подошел к двери и позвонил. Дом был самый обычный, из последних сил придерживающийся правил респектабельности, – опущенные унылые шторы, маленький опрятный садик, сейчас как бы подсвеченный редкими доцветающими, но яркими маргаритками и опавшими золотыми листьями.
Пожилая горничная с подозрительным взглядом открыла дверь.
– Да, сэр? – Последнее слово она произнесла с некоторым запозданием, только после того, как разглядела добротное пальто и серебряный набалдашник трости Драммонда.
– Добрый вечер, – ответил он, чуть приподяв шляпу. – Мне хотелось бы видеть миссис Байэм, если она дома. – Порылся в кармане и достал визитную карточку. – Меня зовут Драммонд, Мика Драммонд.
– Она вас ожидает, мистер Драммонд?
– Нет, но… – тут он несколько вольно обошелся с правдой, – мы старые друзья, и я проходил недалеко от ее дома. Вы не будете столь любезны узнать, не пожелает ли миссис Байэм меня видеть?
– Я передам вашу просьбу, – сказала она, явно расщедрившись, – но больше ничего не смогу для вас сделать – я работаю у миссис Стокс, хозяйки дома, и дам, которые снимают у нее комнаты, не обслуживаю. – И, не ожидая ответа, оставила Драммонда на пороге и пошла выполнять его просьбу.
Полицейский огляделся. Его расстроили перемены в условиях жизни Элинор по сравнению с прошлыми временами. Совсем недавно она была хозяйкой богатого, просторного дома в лучшей части Лондона, с полным штатом прислуги. Сейчас же у нее было лишь несколько комнатушек в чужом частном доме, где на звонок отвечала чья-то чужая служанка, которая, по-видимому, не питала к ней особого расположения и не проявляла столь милой сердцу Элинор услужливой любезности. Неизвестно, есть ли у миссис Байэм свои слуги. В свой прошлый, очень краткий визит, вскоре после того, как Элинор переехала сюда, Драммонд видел лишь одну горничную.
Служанка вернулась; ее лицо выражало неодобрение.
– Миссис Байэм желает вас видеть, сэр. Следуйте за мной. – И, не оглянувшись, чтобы убедиться, идет ли он за ней, она повернулась и зашагала по коридору в глубину дома. Дойдя до места, резко постучала в стеклянную перегородку.
Дверь открыла сама Элинор. Она выглядела теперь совсем иначе, чем в былые дни, когда жила на Белгрейв-сквер. Волосы ее были зачесаны как прежде, со лба наверх, но в их густой черноте на висках пробилась проседь, напоминающая серебро с чернью; поседели почти целые пряди. Лицо было все такое же смуглое, с широко расставленными серыми глазами, но на нем явственно читались следы усталости. Ее уверенность в себе и сдержанное чувство спокойного величия исчезли, уступив место издерганности и уязвленности. Драгоценности тоже исчезли; темно-синее платье очень простого покроя, хотя и хорошо сшитое, было без кружев и вышивки. Драммонду показалось, что Элинор выглядит моложе, чем прежде, и, несмотря на то что пролегло между ними, стала ближе к нему.
– Добрый вечер, Мика, – сказала она и широко распахнула дверь. – Какой приятный визит! Пожалуйста, входите. Вы хорошо выглядите, – и повернулась к горничной, которая стояла посреди коридора и с любопытством глазела на происходящее. – Благодарю вас, Миртл, вы можете идти.
Фыркнув, та удалилась.
Элинор улыбнулась Драммонду.
– Миртл не очень приятная особа, – сдержанно произнесла она и взяла у него из рук шляпу и трость. – Пожалуйста, проходите в гостиную. – И провела его в маленькую, скромно меблированную комнату.
В прошлый раз Элинор тоже принимала его здесь. Драммонд догадывался, что, кроме гостиной, у нее, наверное, есть еще спальня, комната для служанки, кухня и, возможно, ванная или что-нибудь вроде туалетной.
Она не спросила его о причине прихода, однако Мика был обязан объяснить ее. Так просто, ни с того ни с сего, визиты не наносят. Но вряд ли он мог сказать об истинной причине своего поступка – о неотступном желании увидеться с ней снова, побыть в ее обществе.
– Я…
Он едва не сказал «проходил мимо». Это было бы нелепостью, оскорбительной небрежностью, которой Элинор не заслужила. Было чистым идиотизмом сказать, что его визит – лишь случайность. Тем более что оба они знали: это не так. Да, Драммонд должен был заранее придумать, чем объяснить свое появление, но тогда бы он вообще не пришел. И снова сделал попытку:
– У меня сегодня был тяжелый день, я долго работал. – Он невольно улыбнулся, увидев, как она покраснела. – Мне захотелось чем-то порадовать себя. Я вспомнил о хризантемах под дождем, о запахе влажной земли, об осенних листьях и дымке костров, на которых жгут сучья, и мне подумалось, что только с вами я могу поделиться этими впечатлениями.
Элинор отвернулась. Драммонд не сразу понял, что она сморгнула слезы, и не знал, следует ли ему извиниться или же проявить такт и сделать вид, что он не замечает этого. Но в таком случае не покажется ли он ей далеким и безразличным? А если сказать, то не сочтет ли она это оскорбительной фамильярностью? Драммонда раздирала нерешительность; он почувствовал, что лицо у него пылает.
– Вы не могли бы сказать мне ничего более приятного и сердечного. – Голос у Элинор был немного хриплый, но нежный. Она с трудом проглотила слезы и продолжала: – Мне жаль, что у вас был тяжелый день. Занимаетесь каким-нибудь трудным делом? И, наверное, конфиденциальным?
– Нет, не очень. Но в высшей степени неприятным.
– Сочувствую. Однако, наверное, большинство дел именно таковы.
Драммонду хотелось расспросить ее о себе самой: как она себя чувствует, как проводит время, все ли у нее в порядке и не может ли он что-нибудь для нее сделать. Однако это, разумеется, будет недопустимым вторжением в ее личную жизнь и может показаться, что он спрашивает из жалости, а его визит продиктован лишь чувством долга и сочувствием, и это будет ей крайне неприятно.
Элинор сидела и смотрела на него; ее лицо выражало явный интерес. В камине горел слабый огонь, едва освещавший комнату. А Драммонд рассказывал о себе и своих делах, совсем того не желая, хоть это и противоречило правилам хорошего тона. Его интересовала сейчас только Элинор, а вовсе не собственная персона, но надо было заполнить паузу, и он так боялся показаться снисходительным и вежливым. Драммонду хотелось бы поговорить с ней о музыке, о прогулках под дождем, о запахе влажной листвы, о вечернем небе… Но Элинор, пожалуй, сочтет его речи… Бог знает чем сочтет, а она все еще так ранима после всего пережитого.
Поэтому Драммонд рассказал ей о судье Стаффорде и о том, что именно Обри Уинтон сообщил ему о деле Блейна – Годмена.
За окном стояла тишина, было темно, шел дождь. Часы в коридоре пробили восемь, когда Мика вдруг понял, как давно он пришел и что уже пропустил момент, когда следовало бы откланяться. Он провел у нее гораздо больше времени, чем полагалось для обычного визита вежливости. Ему было трудно вновь вернуться к официальному тону и извиниться за свою забывчивость, однако внешний мир и приличия властно напомнили о себе.
Драммонд встал.
– Я уже слишком задержал вас, позабыв о вежливости. Однако мне этот визит доставил необычайное удовольствие. Пожалуйста, извините.
Элинор поднялась грациозно и мило, но по ее лицу можно было понять, что она осознает: их окружает реальный мир.
– Вам незачем просить извинения.
Она и должна была произнести эту вежливую фразу, но Драммонд знал, что Элинор сделала это искренне. Слова могли быть скупы, тон натянут, но они легко понимали друг друга. У Мики на кончике языка вертелся вопрос, не может ли он нанести ей еще один визит, но потом Драммонд передумал. Если она откажет – а она вполне может так сделать, – тогда получится, что он сам захлопнет перед собой ее дверь. Лучше ему опять прийти сюда как бы невзначай.
– Благодарю, что приняли меня, – сказал он, улыбаясь, – покойной ночи.
– Покойной ночи, Мика.
С мгновение он колебался, потом взял шляпу, трость и вышел в главный коридор, а затем – на мокрую, освещенную фонарями улицу. Его чувство одиночества уже не было таким беспросветным, хотя стало еще пронзительнее.
Глава четвертая
В воскресенье Питт не имел возможности продолжить свое расследование. Все присутственные места были закрыты, и он не сомневался, что люди, с которыми ему захотелось бы переговорить, сегодня вне досягаемости или же не будут настолько любезны, чтобы уделить ему свое время и внимание, помогая в получении необходимой информации, или хотя бы чтобы поделиться впечатлениями.
Поэтому он провел этот замечательный день дома, с Шарлоттой, Джемаймой и Дэниелом. Стояла совершенно безветренная осенняя погода. Солнце в туманной дымке освещало все мягким золотистым светом, небо казалось высоким, и можно было представить, что за стенами сада не Лондон, а, напротив, сады и поля, на которых убирают урожай.
Питт не имел возможности много времени отдавать своему саду, но чем реже, тем драгоценнее была эта возможность, и он относился к таким дням очень серьезно. Едва позавтракав, Томас надел старые брюки, засучил рукава, вышел в сад и начал перекапывать черную землю, переворачивая пласт за пластом, разбивая комки, распутывая корни однолетников и готовя их к новой высадке весной. Еще цвели голубые и пурпурные михайловы маргаритки. Лиловые и вишневого цвета астры и золотистые, красные, белые, розовые хризантемы еще вздымали взлохмаченные головки. Доцветали несколько последних – и поэтому особенно прекрасных – роз. Надо было еще раз подстричь газон. В воздухе пахло увядшей травой, влажной землей и мокрыми, сохнущими на солнце листьями.
Семилетняя Джемайма в прошлогоднем фартучке присела на корточки около отца. Лицо у нее было запачкано землей, но она сосредоточенно занималась делом, тщательно разнимая тонкими пальчиками корни и удаляя сорняки. В двух шагах от них пятилетний Дэниел, опустившись на коленки рядом с Шарлоттой, пытался уяснить, что есть просто листики, а что – цветы.
Томас оглянулся и через голову Джемаймы поймал взгляд жены. Она улыбнулась ему. Волосы падали ей на лоб, на щеке красовалось грязное пятно, и он почувствовал, что счастлив сейчас, как никогда в жизни. Иногда в их жизни случались настолько прекрасные моменты, что даже вспоминать о них было почти больно, и Томас должен был убеждать себя, что будут и другие, такие же прекрасные, которые облегчат прощание с прошлым, иначе он будет попросту раздавлен памятью о былом счастье.
В пять вечера солнце уже склонялось к горизонту, под оградой сада залегли глубокие тени; черная земля была разровнена и плотно засажена растениями, которые должны будут весной возродиться к новой жизни. Все садоводы устали, взмокли, но испытывали чрезвычайное удовлетворение от трудов праведных.
Дэниел заснул уже за чаем. Головка Джемаймы опускалась все ниже и ниже, когда Томас читал ей на ночь. В половине седьмого все в доме затихло, в камине горел огонь, а рядом клевал носом Питт, положив ноги на решетку. Шарлотта рассеянно пришивала пуговицы к рубашке. Казалось невероятным, что совсем скоро настанет понедельник и они окунутся в совсем другую реальность.
Однако уже в девять утра, движимый своим долгом и обязанностями, Питт выходил из экипажа на Маркэм-стрит, в Челси, с намерением разыскать другого свидетеля по делу Блейна – Годмена, с которым Стаффорд виделся и говорил в день своей смерти и с которым инспектор еще не встречался, – с Девлином О’Нилом. Томас получил его адрес, когда был у миссис Стаффорд.
Расплатившись с кебменом, Питт взошел по ступенькам очень солидного дома – с широким портиком террасы, медной дверной ручкой в форме головы грифона и фонарем из цветного стекла. С каждой стороны портика были по крайней мере три окна, а всего этажей насчитывалось четыре. Если Девлин О’Нил является владельцем такого особняка, значит, он богат и у него не было никакой причины ссориться со своим другом Кингсли Блейном из-за какого-то спора на пять гиней.
Дверь открыла быстроглазая горничная в темном платье, накрахмаленном чепчике и фартуке, отделанном кружевами. Она была весела, но исполнена сознанием собственной значимости.
– Да, сэр?
– Доброе утро. Меня зовут Томас Питт, – и он вручил ей свою карточку. – Извините, если я явился неприлично рано, но мне очень нужно повидаться с мистером О’Нилом, прежде чем он удалится по делам. Это связано со смертью его знакомого и не терпит отлагательства.
– О господи! А я не знала, что кто-то умер… Вам лучше войти; я доложу мистеру О’Нилу, что вы его ждете.
Она широко раскрыла дверь, положила карточку на серебряный поднос и провела Питта в утреннюю комнату. Здесь было тихо, огонь в камине не горел, но вся она так и сверкала безукоризненной чистотой. Интерьер был в высшей степени традиционен и несколько старомоден: громоздкая мебель, преимущественно из дуба с резьбой, многочисленные картины и другие украшения – очевидно, реликвии родственных визитов и семейных торжеств по крайней мере за четыре десятилетия. Спинки стульев были защищены от соприкосновения с головами сидящих вышитыми салфеточками с уже очень выцветшей гладью. Высокий потолок разделен деревянными планками на квадратные углубления, что придавало комнате старинный вид, но подделку подчеркивали вычурные, медные под бронзу, крепления у светильников. На столике у стены не было цветов, вместо них под стеклянным колпаком виднелось чучело куницы. Убранство комнаты было самым распространенным, но его яркость и искусственность показались Питту чуть ли не отталкивающими. Томас вырос в большой деревенской усадьбе, где его отец служил егерем, и мог легко представить себе этого зверька веселым, полным дикой жизненной энергии. Мертвая неподвижность изрядно запылившихся останков ужасала его и внушала отвращение.
Пока инспектор разглядывал куницу, дверь отворилась. Питт обернулся и увидел вежливую горничную.
– Если соблаговолите пройти, сэр, мистер О’Нил готов вас принять.
– Спасибо. – Томас последовал за горничной – снова в холл, а затем в квадратную комнату с высоким потолком, с окнами, смотрящими прямо в чрезвычайно опрятный сад, где осенние листья аккуратно лежали ровными рядами, словно на параде.
И в этой комнате мебель была громоздкая и тяжелая; буфет достигал не менее восьми футов в высоту и был уставлен разнообразными блюдами, супницами и соусниками. Парчовые, затканные гирляндами, падающие складками занавеси были перехвачены кольцами, на столах и бюро расставлены семейные фотографии в серебряных рамках, на стенах тоже висело несколько.
Девлин О’Нил стоял у окна и обернулся к Питту, услышав стук открываемой двери. Он был хрупкого сложения, пожалуй, чуть-чуть выше среднего роста, неброско, но очень богато одет – в клетчатый пиджак из прекрасной шерстяной ткани и свежую рубашку из дорогого египетского хлопка. Его ботинки стоили столько, что хватило бы на пропитание бедной семье в течение целой недели. О’Нил был темноглаз и темноволос, в его глазах мелькали искорки юмора, и он явно обладал развитым воображением, хотя в данный момент имел сосредоточенный вид.
– Ваше имя Питт, не так ли? Гвинет сказала, что вы пришли по поводу чьей-то смерти. Это так?
– Да, мистер О’Нил. По поводу смерти судьи Стаффорда. На прошлой неделе он внезапно умер в театре во время спектакля. Полагаю, вам об этом уже известно.
– Хм… не стал бы этого утверждать. Правда, что-то такое я читал в газетах… Очень огорчен, конечно, однако я не был знаком с этим человеком. – Он говорил с легким певучим акцентом, но Питт никак не мог понять каким.
– Но вы встречались с ним в день его смерти, – заметил инспектор.
О’Нил смутился, но не отвел взгляда.
– Да, действительно, но он приходил ко мне по поводу… можно назвать это делом. Прежде я никогда с ним не встречался, и потом также никогда не видел, – он еле заметно улыбнулся, – так что в любом случае его нельзя было назвать моим другом, мистер Питт.
Томас наконец определил акцент. Графство Антрим [5].
– Извините, если я дал неточную информацию вашей горничной, – тоже улыбнулся Питт, – я только имел в виду, что вы, возможно, располагаете нужной мне информацией.
О’Нил удивленно вскинул брови.
– Но он не обсуждал со мной состояние своего здоровья! И, должен сказать, выглядел очень хорошо. Конечно, не как молодой человек – смею полагать, в нем было фунта два лишнего веса, – но это ему, по-видимому, нисколько не вредило.
– А о чем он с вами разговаривал, мистер О’Нил?
Хозяин дома заколебался, но постепенно черты его лица разгладились, и он уже не скрывал, что расспросы его явно забавляют. Он отошел от окна и с любопытством взглянул на инспектора.
– Полагаю, вы уже знаете о чем, мистер Питт, потому что иначе вас здесь не было бы. Кажется, его все еще интересовала смерть бедняги Кингсли Блейна, случившаяся пять лет назад. Не могу сказать, по какой причине; разве что эта несчастная женщина, мисс Маколи, упорно не желает забыть о деле и, смею предположить, что мистер Стаффорд желал положить конец пересудам и кривотолкам раз и навсегда. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов [6], и так далее, что говорят в подобных случаях, – вы согласны?
– Он сказал вам именно это?
– Ну, он не говорил столь пространно, как я, вы же понимаете.
О’Нил прошелся по комнате; в непринужденности его поведения сквозила уверенность в своей правоте. Он присел на ручку одного из больших кресел и посмотрел на Питта с интересом и уважением.
– Конечно, он расспрашивал меня обо всем. И я сказал ему то же, что говорил полиции и на суде пять лет назад. Больше я ничего не могу сказать на этот счет, – и взмахом руки он пригласил инспектора сесть. – Он был очень вежлив и очень любезен, но не объяснил, почему спрашивает обо всем этом. Впрочем, джентльмены его общественного положения и не должны вести себя доверительно с нами, рядовыми гражданами.
Он улыбался, но Питту показалось, что О’Нил беспокоится и недоумевает, почему то прошлое дело всплыло вновь. Ведь это ничего никому не даст – только всколыхнет прежнюю боль. Если Стаффорд пытался навсегда похоронить это дело, ему не помешало бы сказать об этом ему, О’Нилу. Однако если судья собирался возобновить слушания, он вполне мог не хотеть предупреждать кого-либо об этом заранее.
– Вас не затруднит сообщить мне, что именно он сказал вам, мистер О’Нил? – Питт наконец сел.
– У меня, разумеется, нет причин скрывать это от вас, сэр. – Несмотря на свою показную беспечность, О’Нил внимательно вглядывался в лицо инспектора. – Но если бы вы сказали, почему вас это интересует, я был бы премного благодарен.
– Разумеется. – Питт положил ногу на ногу и улыбнулся, глядя О’Нилу прямо в глаза. – Вечером того же дня мистер Стаффорд был убит.
– Боже милостивый! Убит?! Что вы говорите…
Если О’Нил разыгрывал удивление, то он был превосходным актером.
– Да, весьма прискорбно, – ответил Питт. – И убили его в театре.
– Действительно… А ведь он судья самого высокого ранга и так далее. Какой же негодяй мог убить судью, тем более такого пожилого человека – во всяком случае, с нашей точки зрения? – О’Нил скорчил гримасу. – Значит, на него напали с целью ограбления?
– Нет, его отравили.
– Отравили? – Он еще шире распахнул глаза. – Клянусь всеми святыми, какая странность, какой абсурд! Но почему его отравили? В связи с каким-нибудь делом, которое он расследовал, как вы думаете?
– Не знаю, мистер О’Нил. Это одна из причин, почему мне хотелось бы узнать, что он сказал вам тогда днем.
О’Нил все так же прямо, неотрывно смотрел на Томаса. Он гораздо лучше владел мимикой своего интеллигентного живого лица, чем Питт мог предположить. Несмотря на природное, несколько простецкое обаяние, это лицо никак нельзя было назвать простодушным.
– Ну конечно, вам хочется, – ответил он с готовностью. – И мне бы хотелось на вашем месте. Буду счастлив услужить вам, мистер Питт, – О’Нил едва заметно переменил позу. – Ну, сначала он спросил, могу ли я припомнить ту ночь, когда был убит Кингсли Блейн. Это, конечно, последовало после обычного обмена любезностями. На что я ответил, что, несомненно, помню, и очень хорошо – как будто я мог все это забыть, даже если бы очень постарался… Затем он попросил рассказать ему об этом, что я и сделал.
– А вы не могли бы и мне об этом рассказать, мистер О’Нил? – перебил его Питт.
– Если хотите… Ну, все случилось в начале осени, но вы, полагаю, об этом знаете. Мы с Кингсли решили пойти в театр, – он выразительно пожал плечами и развел руками, ладонями вверх, словно извинялся за легкомыслие. – Он был женатый человек, но у него ветер гулял в голове. Блейн был очень пылко влюблен в актрису Тамар Маколи и после спектакля собирался пройти к ней за кулисы. Он приготовил для нее подарок и, разумеется, предполагал, что она должным образом его отблагодарит.
– А что это было?
– Ожерелье. Неужели вы не знали об этом? – удивился О’Нил. – Нет, конечно, знали! Да, очень красивое ожерелье. Оно принадлежало его теще, да упокоит Господь ее душу, и Кингсли, разумеется, не должен был ни под каким видом дарить его посторонней женщине. Однако мы все иногда делаем глупости. Бедняга уже умер и ответил за свои прегрешения. – О’Нил прервал рассказ.
– Да, это так, – произнес Томас, давая понять, что внимательно слушает.
– Но затем у нас с ним возникло нечто вроде размолвки – ничего особенного, как вы понимаете, просто небольшая перебранка после стычки. – О’Нил усмехнулся. – Небольшой раунд благородного искусства боксирования, так бы я назвал это в угоду вам, мистер Питт. Мы поспорили на то, кто одержит верх, заключили пари, и он отказался платить причитающиеся мне деньги.
О’Нил с сожалением выпятил нижнюю губу.
– Я ушел из театра в некотором раздражении и отправился в дом удовольствий, – он откровенно улыбнулся, пытаясь скрыть возможную неловкость, – а Кингсли остался у Тамар Маколи и покинул ее очень поздно, как я понимаю. По крайней мере, так засвидетельствовал швейцар. Как раз в этот момент бедняга Блейн получил сообщение о том, что я жду встречи с ним в игорном клубе, в который мы оба в те дни частенько заглядывали. Чтобы попасть туда, ему надо было пройти Фэрриерс-лейн, но мы все знаем, что там с ним случилось.
– Сообщение было устное или письменное?
– О, конечно, устное, все передали на словах.
– И вы после театра больше не видели мистера Блейна?
– Нет, живым я этого несчастного больше не видел.
– Это все, о чем вас спрашивал судья?
– Судья? – О’Нил широко раскрыл глаза. – О, вы имеете в виду беднягу мистера Стаффорда? Да, наверное. Честно говоря, мне показалось, что, расспрашивая, он понапрасну тратит время. Дело окончено и закрыто. Был вынесен приговор, и ни у кого не возникало сомнения в его справедливости. Полиция нашла действительного виновника. Этот чертов парень не пожалел свою голову и отправился в небытие. – И с легкой гримасой добавил: – Он, знаете ли, был не христианин. Разные представления о том, что справедливо и что нет, смею предположить. Его повесили, другого выбора у них не было. Свидетельства были исчерпывающе доказательны. Может быть, мистер Стаффорд именно это и собирался сделать – доказать справедливость приговора, и так неопровержимо, чтобы сама мисс Маколи убедилась в этом и перестала надоедать людям.
Да, это было похоже на правду. Питт пришел сюда, потому что считал своим долгом проследить весь путь Стаффорда в последний его день до самого конца. Кто-то в тот вечер влил настойку опиума во фляжку судьи, но вечером, и не раньше, потому что тогда вместе с ним отравился бы и судья Ливси. Питт надеялся также поточнее узнать, действительно ли Стаффорд собирался пересматривать дело или, наоборот, решительным образом его закрыть. А может, он напрасно надеется? О’Нил тогда, пять лет назад, был одним из первоначально подозреваемых, и вряд ли он хотел, чтобы дело всплыло опять.
Питт взглянул на О’Нила, непринужденно устроившегося в большом кресле. Если он волновался, то еще никому из подозреваемых, насколько помнил Питт из своей практики, не удавалось так прекрасно это скрывать. Он держался свободно, хотя был огорчен. Перед ним был обязательный человек, который охотно делился всем, что ему известно о столь неприятном событии, повинуясь общественному долгу, который он воспринимал без всякого удовольствия.
– А он не спрашивал у вас о чем-то, что было бы для вас внове, мистер О’Нил? – Питт угрюмо улыбнулся, стараясь при этом сделать вид, будто ему известно что-то такое, о чем он до поры предпочел бы умолчать.
О’Нил задумался.
– Нет, нет, ничего такого я припомнить не могу. Мне показалось, что все было как прежде… Ох, он действительно спросил, была ли у Кингсли с собой палка или что-то вроде трости. Но не объяснил, почему ему понадобилось это знать.
– А у мистера Блейна действительно была с собой палка?
– Нет, – поморщился О’Нил. – Он был не такой человек, чтобы затевать драку с первым встречным… Нет, мистер Питт, убийца искал именно его. И если кто-то пытается сказать, что это была борьба или какая-то честная драка, лицом к лицу, то он просто фантазирует. – Лицо О’Нила потемнело, он подался вперед. – И убийство было зверским, быстрым и беспощадным. Я видел тело. – Он побледнел. – Я должен был опознать труп. У него не было близких, кроме жены и тестя. И мне казалось, что мой долг – избавить их от этой тяжкой необходимости. На теле была рана от удара ножом в левую сторону груди, прямо в сердце… и… и гвозди в ладонях и ступнях. – Он покачал головой. – Нет, ни под каким видом это не было схваткой двух вооруженных людей. Он не смог бы себя защитить.
– А мистер Стаффорд не сказал вам, почему он обо всем этом расспрашивает?
– Нет… нет. Не говорил. Я задал ему этот вопрос, но он уклонился от ответа.
Питт тоже не мог понять, зачем Стаффорду понадобилось расспрашивать О’Нила. Может быть, его интерес был как-то связан с тем давним медицинским заключением, которое теперь вызвало у него сомнение? Надо будет разыскать Хамберта Ярдли и навести у него справки о той экспертизе.
– Скажите, как выглядел Кингсли Блейн, мистер О’Нил? – опять вернулся он к убитому. – Я не располагаю никакими данными о нем. Он был высокий, полный человек?
О’Нил, казалось, был слегка удивлен.
– Ну, он был повыше, чем я, но весь какой-то нескладный, если вы понимаете, что я имею в виду. – Он вопросительно взглянул на Питта. – Не силач, нет… как бы это сказать, не говоря худого о мертвом, да еще о друге… Нет, он был скорее мечтатель, понимаете? – О’Нил встал, довольно легко и изящно. – Не хотите взглянуть на фотографию? У нас в доме есть несколько штук.
– В самом деле, у вас они есть? – удивился Питт, хотя в этом не было ничего невероятного, ведь мужчины дружили.
– Да, разумеется, – быстро ответил О’Нил. – В конце концов, он, упокой Господь его душу, прожил здесь всю свою женатую жизнь. Правда, она длилась всего пару лет…
Питт удивился еще больше. Ему об этом ничего не было известно.
– Разве этот дом принадлежал Кингсли Блейну?
– О нет. – О’Нила явно позабавило подобное предположение. – Дом принадлежит моему тестю, мистеру Просперу Харримору. И, разумеется, мать Проспера, миссис Ада Харримор, тоже проживает здесь. – Он улыбнулся совершенно искренне и обезоруживающе. – Я женился на вдове Блейна. А вы об этом не знали?
– Нет, – сказал Питт, также вставая, – нет, не знал. А мистер Стаффорд говорил с кем-нибудь еще из вашей семьи?
– Нет… нет, совершенно ни о чем таком не говорил. Я вернулся уже к концу дня, в четыре часа, будучи в хорошем настроении после очень приятного ленча. Он прислал мне записку в клуб, что хочет повидаться, но я предпочел встретиться с ним здесь, а не в клубе. – О’Нил направился к двери и открыл ее. – Я не знал, о чем конкретно он желает поговорить, понял только, что это имеет отношение к Кингсли. Но мне не хотелось вести об этом речь в обществе посторонних людей или напоминать об этом друзьям, если они уже обо всем забыли.
– А других членов вашей семьи в это время не было дома? – Питт вышел в коридор. О’Нил последовал за ним.
– Нет, моя жена уезжала с визитами, ее бабушка отправилась на прогулку в карете, а у тестя были дела в Сити. Он имеет отношение к универсальной торговле.
Питт остановился, чтобы пропустить вперед О’Нила, который повел его по очень красивому холлу, отделанному черно-белым камнем в шахматном порядке, в сторону величественной лестницы, ведущей к просторной галерее наверху.
– Я был бы премного обязан, если бы вы показали мне фотографию мистера Блейна, – сказал Питт. Он не знал, что может сообщить ему снимок, но хотелось знать, как выглядел Кингсли Блейн, получить хоть малейшее представление о человеке, который оказался в центре трагедии, разыгравшейся пять лет назад и получившей такое неожиданное продолжение, несмотря на то что сам Блейн мертв, а Аарон Годмен повешен как его убийца.
– Ну хорошо, – жизнерадостно произнес О’Нил; по-видимому, он снова обрел благодушное настроение. – Я с удовольствием покажу вам фотографию.
Он открыл еще одну дверь и ввел Питта в другую комнату, побольше той, где они разговаривали. Здесь было теплее, потому что в камине потрескивал огонь, вздымая к дымоходу языки пламени. На мягком стуле сидела молодая женщина со светло-каштановыми волосами и необыкновенно высокими скулами, а около нее – темноволосый, кудрявый ребенок лет двух. Другому ребенку – это была девочка – исполнилось, наверное, четыре. Она сидела на ковре перед матерью и держала в руках тонкую, ярко раскрашенную книжку. Внешность у нее была совсем иная: серебристо-белокурые волосы и серьезные голубые глаза.
– Здравствуй, моя красавица, – весело сказал О’Нил и потрепал ее по головке.
– Здравствуй, папа, – радостно ответила девочка. – А я читаю сказку маме и Джеймсу.
– Да что ты? – восхищенно переспросил он, делая вид, что совершенно ей верит. – И о чем же она?
– О принцессе, – уверенно заявила девочка, – и о прекрасном принце.
– Да это просто замечательно, моя хорошая.
– Книжку мне подарил дедушка, – она с гордостью подняла ее, чтобы показать всем, – и он сказал, что я тоже смогу быть принцессой, если буду хорошей девочкой.
– И ты сможешь ею стать, миленькая, конечно, сможешь, – заверил ее О’Нил. – Кэтлин, дорогая, – обратился он к женщине, – это мистер Питт, который пришел по делу. Мистер Питт, позвольте представить вас моей жене.
– Как поживаете, миссис О’Нил? – вежливо осведомился Питт.
Значит, это и есть Кэтлин Блейн-О’Нил. Она была хорошенькая, очень женственная, но тем не менее в чертах ее лица чувствовался волевой характер, который не могли скрыть округлость подбородка и ласковый взгляд.
– Как поживаете, мистер Питт? – ответила она почти безразлично, если не считать легкого любопытства.
– Наш гость интересуется искусством фотографии, – заметил О’Нил, стоя к Кэтлин спиной и глядя на Питта, – и я хотел бы показать ему одну-две из наших лучших.
– Разумеется, – улыбнулась Кэтлин Томасу. – Добро пожаловать, мистер Питт. Надеюсь, это вам пригодится. Вы много фотографируете? Полагаю, вы встречались со многими интересными людьми?
Инспектор колебался лишь мгновение.
– Да, миссис О’Нил, я действительно встречал многих интересных людей с совершенно уникальными лицами. Людей и хороших, и дурных.
Она молча разглядывала его.
– Вот эта вам наверняка понравится, – как бы вскользь заметил О’Нил.
Питт подошел к нему и остановился перед большой фотографией в серебряной рамке, изображавшей молодую женщину, в которой он сразу же узнал Кэтлин О’Нил в очень торжественном туалете. За ней стоял мужчина примерно того же возраста, высокий, еще по-юношески худощавый, светловолосый, с волнистой прядью, падавшей на лоб слева. Лицо его было красивое, добродушное, живое, исполненное романтической чувствительности. Питту не надо было спрашивать, не это ли Кингсли Блейн. Он потом спросит, когда они с О’Нилом останутся вдвоем, не Блейн ли отец старшего, белокурого ребенка. Хотя ответ будет очевиден.
– Да, – сказал он задумчиво, – отличный снимок. Я вам очень признателен, мистер О’Нил.
Кэтлин посмотрела на него с интересом.
– Вам это пригодится, мистер Питт? Этот человек был моим первым мужем. Он умер примерно пять лет назад.
Томас почувствовал себя ужасным лицемером. Он лихорадочно обдумывал ответ. Надо сказать, что он в курсе, но как это сделать, не поставив в неловкое положение О’Нила?
Однако тот сам пришел ему на помощь.
– Мистеру Питту известно об этом, дорогая. Я ему рассказывал.
– О, понимаю. – Впрочем, Кэтлин явно ничего не понимала.
Разговор опять замер, но в этот момент дверь отворилась и вошел мужчина. Сначала он поглядел на О’Нила, затем, с выражением острого любопытства, – на Питта. Этот мужчина обращал на себя внимание своим лезвиеобразным носом. Он был плотен, с широкой грудью, несомненно силен, но прихрамывал. Вошедший мельком взглянул на детей – при этом в глазах его промелькнуло выражение чрезвычайной гордости, – а потом повернулся к Питту.
– Доброе утро, батюшка, – сказал О’Нил с очаровательной улыбкой. – Это мистер Питт, мы познакомились в связи с одним делом.
– Неужели? – Проспер Харримор – а это был именно он – взглянул на Питта вполне вежливо, однако настороженно.
Лицо его было необычно: исполненное силы и важности, оно казалось почти угрожающим, однако иногда в глазах проблескивал интеллект, и тогда оно приобретало уязвимый вид. Рот Харримора был искривлен, губы подергивались, но непонятно почему – от недобрых чувств или внутренней боли.
– Очень любезно с вашей стороны навестить нас и избавить от необходимости самим добираться к вам при таком сильном уличном движении. Вы уже завтракали, сэр, или можно предложить вам подкрепиться?
– Вы очень добры, мистер Харримор, но я уже поел, благодарю вас. – Кэтлин, конечно, могла поверить, что он явился из-за интереса к фотографированию, но вряд ли можно с той же легкостью провести ее отца.
– Девлин показал мистеру Питту нашу с Кингсли свадебную фотографию, – сказала, улыбнувшись, Кэтлин.
– В самом деле? – переспросил Харримор, неотрывно глядя на Томаса.
– Великолепный образчик фотографического искусства, – объяснил инспектор, глянув на О’Нила.
– Разумеется, – согласился тот и повернулся к жене: – Наверное, тебе лучше увести детей, моя дорогая, и позаботиться об их утренней прогулке, сейчас очень хорошая погода.
Она подчинилась и встала, правильно поняв, что это не пожелание, а приказ. Извинившись перед гостем и отцом, в сопровождении своих малышей женщина вышла в холл и притворила за собой дверь.
– Мистер Питт пришел в связи с недавней внезапной смертью судьи Стаффорда, – сразу же пояснил О’Нил, и его лицо снова посерьезнело. – Я виделся с беднягой в самый день его смерти, так что, естественно, меня следовало опросить.
– Вы проявили такт, мистер Питт, – медленно произнес Харримор, оглядывая его с ног до головы. – Но почему вы заинтересовались этим вопросом, сэр? Вы не похожи на полицейского.
Питт не знал, как понять эти слова – то ли ему сделали комплимент, то ли высказали неудовольствие.
– Иногда это является преимуществом, – ответил он спокойно. – Но я не вводил мистера О’Нила в заблуждение относительно истинной причины моего визита к вам.
– Разумеется, не вводили. – Во взгляде Харримора промелькнуло что-то похожее на юмор. – А почему полицию заинтересовала смерть мистера Стаффорда?
– Потому что, боюсь, его смерть была насильственной.
Лицо Харримора отвердело.
– Нас это не касается, сэр. В этом доме тоже было много горя в связи с убийством, но, я уверен, вы об этом уже знаете. Мой покойный зять умер насильственной смертью, и я был бы благодарен, если бы вы не раскапывали это дело заново и не расстраивали моих домашних. Моя дочь глубоко страдала, и я сделаю все возможное, чтобы оградить семью от всяких огорчений в будущем.
Взгляд у него был мрачен, а в словах явно звучала невысказанная угроза.
– Вот поэтому я и воздержался в присутствии вашей дочери от упоминания истинной причины моего визита, сэр, – спокойно ответил Томас. – Да ведь миссис О’Нил и не могла что-либо знать о приходе мистера Стаффорда, так как ее не было дома, вот поэтому я и проявил такт.
– Спасибо и на этом, – проворчал Харримор, – хотя понятия не имею, что мог вам рассказать Девлин.
– Очень мало, – поспешил ответить О’Нил, – только то, что мистер Питт уже знает от других. Но, боюсь, ему придется трудно. Дело не из легких.
В ответ Харримор проворчал что-то нечленораздельное.
Дверь опять отворилась, и вошла очень пожилая женщина с большим, тяжелым бюстом, узкоплечая и широкобедрая, но с прямой осанкой и прекрасными седыми волосами. Ее сходство с Харримором было настолько поразительно, что можно было бы и не представлять ее Питту, если бы того не требовала формальная вежливость.
– Здравствуйте, миссис Харримор, – отвечал Томас на ее холодное приветствие.
Ада Харримор пристально разглядывала его еще яркими карими глазами, посаженными так же глубоко, как у сына, и чрезвычайно проницательными.
– Инспектор, – сказала она высокомерно, – в чем дело? У нас здесь никаких преступлений не было. Что вам от нас нужно?
– Это связано со смертью несчастного судьи Стаффорда, – объяснил О’Нил, взбивая подушку в углу кресла, – он умер третьего дня в театре.
– Ради бога, оставьте подушку в покое, – раздраженно прервала это занятие миссис Харримор, сверкнув глазами, – мне совсем не обязательно сидеть. Я прекрасно себя чувствую… Ну и что из того, что он умер? Старики все время умирают. Смею думать, он слишком много пил и с ним случился удар. – Она повернулась к Питту и в упор посмотрела на него. – А зачем вы явились сюда? Какое отношение имеет к нам смерть судьи в театре? Вам следует очень убедительно это объяснить, молодой человек.
– Он умер не естественной смертью, мэм, – ответил Питт, тоже глядя на нее в упор. – И за несколько часов до смерти он приходил сюда повидаться с мистером О’Нилом. Поэтому мне хотелось бы знать, в каком настроении он приходил, что сказал… словом, все, что может вспомнить мистер О’Нил.
– А почему его настроение могло иметь отношение к его смерти? Вы хотите сказать, что он покончил самоубийством?
– Нет. Я с сожалением должен заметить, что его убили.
Миссис Харримор глубоко вздохнула, отчего ее ноздри слегка вздрогнули. Кожа вокруг рта еле заметно побледнела.
– Неужели? Что ж, действительно несчастье. Но оно не имеет никакого отношения к этому дому, мистер Питт. Мистер Стаффорд приходил сюда только однажды, как мне сказали, и наводил о чем-то справки. Больше мы его не видели. Мы сожалеем о его смерти, но дополнительно об этом ничего вам сообщить не можем. – Она повернулась к О’Нилу. – Девлин, полагаю, судья не делился с вами соображениями по поводу того, что ему угрожает опасность?
О’Нил только широко раскрыл глаза.
– Нет, бабушка. Он мне показался совершенно спокойным, владеющим собой и ситуацией.
Она была бледна, правое веко у нее подергивалось.
– С моей стороны не будет невежливо спросить, что за дело было у судьи к нам? Наша семья не подавала никаких просьб в Апелляционный суд, насколько мне известно.
О’Нил колебался только мгновение.
– Все в порядке, бабушка, – он слегка усмехнулся, – я тогда ничего не рассказывал, чтобы не расстраивать вас, но беднягу судью преследовала Тамар Маколи, которая настаивала на повторном слушании дела о смерти Кингсли, да упокоит Господь его душу. Мистер Стаффорд раз и навсегда хотел доказать ей, что дело завершено по всей справедливости, приговор законен и не в силах этой несчастной что-либо изменить, как бы она ни старалась. Он хотел, чтобы люди навсегда забыли обо всем этом и жили в мире с собой и с другими.
– И я так думаю, – яростно отвечала старая дама. – Эта несчастная, должно быть, рехнулась, если требует, чтобы опять стали раскапывать дело ее брата. С ним давным-давно покончено! – Глаза ее сверкнули, взгляд стал жестким. – Дурная кровь, – сказала она с горечью. – И с этим ничего не поделаешь. Кингсли спит в могиле, этот проклятый еврей – тоже! И давайте наконец успокоимся. – Суровое лицо ее было полно застарелой ненависти и невыносимой боли.
– Совершенно верно, бабушка, – ответил ласково О’Нил, – и пусть оно вас больше не беспокоит. Бедняга мистер Стаффорд тоже в могиле, или его вот-вот похоронят. Будем надеяться, что этого будет довольно даже для мисс Маколи.
Ада вздрогнула, и взгляд ее выразил еще большее отвращение.
Внезапно вернулся к действительности Проспер. До этого момента он, казалось, пребывал в оцепенении, которое сейчас как рукой сняло.
– Всё, мистер Питт, на этом разговор закончен! Мы ничем не в силах помочь вам, – заключил он отрывисто. – Всего хорошего. Вам надо искать ответ на вопрос, кто убил мистера Стаффорда, в другом месте. Несомненно, у него были враги… – Он оборвал себя, и фраза повисла в воздухе. Ему не хотелось говорить плохо о мертвом – это вульгарно, – но было совершенно ясно, что он имеет в виду.
– Благодарю за любезность, которую вы оказали, приняв меня, мэм, – адресовался Питт к несгибаемой Аде, а заодно и к Харримору.
С ними разговор окончен, ничего не поделаешь. Тем более что из О’Нила тоже ничего не удастся выжать. Мнение о том, что Стаффорд желал лишь снова утвердиться в своей правоте, очень правдоподобно, на это нечего возразить. Эти люди не причастны к убийству Кингсли Блейна, и следствие по делу не обращалось к ним за информацией.
– Не стоит благодарности, – ответила старая дама, но с непримиримостью и повинуясь только требованиям вежливости. – Желаю вам удачного дня, мистер Питт.
Проспер взглянул на мать, потом на инспектора, натянуто улыбнулся и протянул руку к звонку, чтобы горничная проводила гостя до выхода.
Вновь очутившись на спокойной, тихой улице, Питт стал обдумывать случившееся. Да, все больше и больше становится похоже на то, что опиум во фляжку влили или Джунипер Стаффорд, или Адольфус Прайс. И действительно, какой бы тщетной или просто невозможной ни выглядела такая затея по здравом размышлении, в горячке страсти они могли вообразить, что смогут быть счастливы, если Стаффорд умрет, что обретут радость, в которой им отказано при его жизни. Одержимость часто неспособна видеть дальше определенной границы, и плотский голод пожирает все силы ума, пока его не удовлетворишь любой ценой.
Неужели эти двое охвачены именно таким чувством? Вот это и надо расследовать. Губы Томаса искривило отвращение. Он ненавидел вмешательство в запретную область чувств. Есть людские слабости, о которых не полагается знать третьему, всегда лишнему, и безрассудная, неутолимая страсть одного человека к другому относится к их числу. Такие страсти не делают человека духовно богаче – нет, они делают его мельче и в конечном счете разрушают, как, по-видимому, разрушили Джунипер Стаффорд и ее любовника.
Но прежде чем искать доказательства этого преступления, Томасу совершенно необходимо освободить голову от мысли о деле Блейна – Годмена. Ему уже весьма много известно о нем, хотя могут существовать еще кое-какие обстоятельства и подробности, известные лишь полиции. Кроме того, Питту хотелось составить собственное представление о людях, которые проводили тогда расследование, и о давлении, оказанном на них, а также определить область возможных неточностей и ошибок. И, если удастся, ознакомиться с их собственными впечатлениями от дела и следствия.
Томас медленно шел по направлению к уличному перекрестку, сунув руки в карманы и обдумывая все на ходу. Он не любил обращаться к давним впечатлениям и прежним расследованиям, но выбора не было. Нет, он попытается заняться этим делом, причем самым тактичным образом, и теперь тщательно и не спеша обдумывал, с чего начать расспросы, и подыскивал нужные слова.
Незадолго до полудня Томас приехал в полицейский участок на Шефтсбери-авеню.
– Да, сэр? – вежливо обратился к нему дежурный сержант с подобающе бесстрастным выражением лица.
– Я инспектор Питт с Боу-стрит. У меня возникло одно затруднение; полагаю, вы могли бы разрешить его, если уделили бы мне немного времени.
– Да, сэр. Полагаю, мы сделаем все, что в наших силах. Какое же это затруднение?
– У меня на руках трудное дело. Его можно до некоторой степени прояснить, если знать кое-какие обстоятельства другого дела, о котором вы можете кое-что знать. Я был бы очень благодарен за возможность поговорить с полицейским, которому было доверено заниматься расследованием, имевшим место примерно пять лет назад. Это убийство на Фэрриерс-лейн.
Лицо сержанта омрачилось.
– Но тогда все было расследовано до конца и незамедлительно, мистер Питт, и наведен полный порядок. Не осталось никаких сомнений, все было закончено. Я сам имел отношение к тому делу и знаю об этом наверняка.
– Да, это мне известно, – успокаивающе произнес Питт, – и мое затруднение не связано с вопросом, кто виноват, – лишь с выводами, к которым пришло следствие. Мне необходимо переговорить с офицером полиции, в чьем ведении находилось это дело, если позволите. Он все еще служит?
– Не только служит, но его еще и повысили тогда. Он замечательно со всем управился. – Дежурный сержант бессознательно расправил плечи и слегка вздернул подбородок. – Это старший инспектор Ламберт. Смею сказать, он будет рад, если сможет вам помочь. Я тоже попрошу его об этом, инспектор.
Таким образом поставив Питта на место, он направился в помещение, находившееся в глубине здания, и через несколько минут вернулся с сообщением, что если мистер Питт изволит подождать минут десять, то мистер Ламберт не прочь с ним повидаться.
Томас вежливо согласился, хотя его так и подмывало ответить сержанту столь же снисходительно.
Пять минут он прождал стоя, постукивая каблуками, затем сел на деревянную скамью и прождал еще десять минут, потом опять встал, но тут появился молодой констебль и повел его в маленький неопрятный кабинет, где от потрескивающего огня в камине было так жарко по сравнению с холодной приемной, что хотелось бежать отсюда без оглядки. Чарльз Ламберт принял его вежливо, но настороженно. Ему было около пятидесяти, он уже сильно полысел, но черты его лица были правильны и приятны, а взгляд ясен.
– Доброе утро, Питт, не так ли? Садитесь. – И он махнул на второй стул. – Извините, что заставил вас ждать. Очень занят. Полно всяких скверных краж и ограблений. Мой сержант сказал, что вам требуется помощь. Чем могу быть полезен?
– Я занимаюсь делом об убийстве судьи Сэмюэла Стаффорда.
Ламберт удивленно вскинул брови.
– А я не знал, что его убили! Считал, что он внезапно умер в театральной ложе.
– Совершенно верно. От яда.
Ламберт покачал головой, выпятив нижнюю губу.
– Мой сержант упомянул о Фэрриерс-лейн. Какое отношение может иметь убийство Стаффорда к этому делу? – Голос у него звучал настороженно. – Ведь с ним было покончено пять лет назад, и не он председательствовал на суде. Судьей был Телониус Квейд. Впрочем, я это говорю не к тому, что остались какие-то сомнения в справедливости приговора или судопроизводства.
– Но последовала апелляция, – ответил Питт так спокойно, как только мог. Необходимо помнить, твердил он себе, что ничего не добьется, если рассердит Ламберта или заставит его защищаться. – Полагаю, после суда не возникло никаких новых свидетельств?
– Абсолютно ничего и никогда. Просто имела место отчаянная попытка спасти человека от виселицы. Понятная, но безуспешная.
Питт сделал глубочайший вдох. Ничего он не достиг. В данном случае такт себя не оправдывает.
– Стаффорд опять стал рассматривать то дело. В день своей смерти он опросил нескольких людей, которые сначала тоже подозревались в убийстве.
Лицо Ламберта стало жестким, и он слегка выпрямился.
– Не понимаю, зачем ему это понадобилось. – В его голосе зазвенела стальная нотка. – Разве только сестра повешенного каким-то образом повлияла на судью… – Он пожал плечами в знак того, что не одобряет как саму идею пересмотра дела, так и чье-то возможное давление на Стаффорда. – Она красивая женщина и одержима мыслью, что брат ее невиновен. Да, очень неприятно делать такое допущение, даже думать об этом противно. – В голосе Ламберта снова послышалось раздражение, он словно собирался с силами. – Но такое бывает. Стаффорд не первый мужчина, который потерял самообладание перед красивой и решительной женщиной.
Питт рассердился, но попытался скрыть свои эмоции.
– Да, конечно, бывает и так. Но, понимаете ли, чтобы говорить об этом наверняка, я должен располагать очень вескими доказательствами. Вдова воспримет это болезненно, а также и его коллеги по судейскому цеху, – он выдавил из себя улыбку, хотя совсем не чувствовал желания улыбаться. – Это поставило бы под вопрос добродетель и здравый смысл всех этих людей, если мы заявим, что Стаффорд просто задурил из-за красивого личика и до такой степени потерял рассудок и забыл то, чему его научила жизнь, что решил пересмотреть дело. Мое положение будет очень незавидно, если я стану утверждать подобное и не смогу этого доказать.
Ламберт тоже улыбнулся и немного расслабился – в конце концов, это трудности Питта.
– Да, вам нужно иметь неопровержимые доказательства, – согласился он с облегчением. – Всяким разным светлостям такое очень не понравится, и вам придется искать место полицейского, который занимается карманными кражами и карточными мошенниками.
– Точно. – Питт слегка поерзал – атмосфера в кабинете была просто удушающая. – Так что вы, наверное, можете рассказать мне все, что помните об убийстве на Фэрриерс-лейн. Тогда я буду иметь возможность доложить начальнику, что Стаффорд не имел никакого резона для пересмотра дела. – И мысленно попросил прощения у Мики Драммонда за то, что сомневается в безупречной репутации достойного человека.
– Ну, если вы думаете, что это вам поможет… Расследование шло стремительно, хотя поначалу мы этого не ожидали.
– И вам было, конечно, очень тяжело, – прожурчал Питт, – при таком общественном возмущении…
– Никогда не встречал подобного дела ни до, ни после, – согласился Ламберт, откидываясь на спинку стула и усаживаясь поудобнее. Он понимал, чего хочет Питт и, что важнее, почему хочет. – За исключением, конечно, убийств в Уайтчепеле, но те несчастные ребята так и не поймали Потрошителя, почему и последовало несколько отставок.
– Но вы своего голубчика достали.
Светло-карие глаза Ламберта взглянули на Питта с явными одобрением, относящимся и к тому, что осталось недосказанным.
– Да, мы поймали его, и я получил повышение в должности, и в этом нет ничего бесчестного. – В его голосе зазвучала самолюбивая нотка. – Опять-таки, доказательства были неопровержимы. Да, нам иногда просто-напросто везло, это так. Но мы проделали чертовски хорошую работу! Мои люди отличились – такие дисциплинированные, преданные, выдержанные в самых трудных обстоятельствах… Публика была настроена истерически. Произошло много террористических акций, а в восточных районах Лондона – несколько весьма скверных происшествий. Ворвались в парочку синагог, разбили стекла, одного ростовщика избили почти до смерти… Повсюду висели листовки, много нехороших надписей появилось на стенах. Некоторые газеты требовали даже, чтобы всех евреев повыгоняли из города. Было очень противно – но людей за это нельзя осуждать. Случилось одно из самых чудовищных убийств, когда-либо совершавшихся в Лондоне.
Ламберт пристально наблюдал за Питтом, следя за выражением его лица и пытаясь понять, что тот думает. Томас попытался согнать с лица всякое выражение и выглядеть совершенно бесстрастно, но был почти уверен, что ему это не удалось.
– Да, – ответил он вежливо. – Мне известно, что тело Кингсли Блейна было найдено на Фэрриерс-лейн. А кем?
Ламберт задумался. Наконец он произнес:
– Рано утром, мальчиком – подручным кузнеца, и это зрелище так потрясло беднягу, что он, насколько мне известно, долго был не в себе и в конце концов вроде бы уехал из Лондона в деревню, куда-то в Сассекс.
– А в ту ночь больше никто не проходил по Фэрриерс-лейн? Странно, согласитесь, если учесть, что многие ею пользуются…
– Если кто и проходил, то они или не видели Блейна, распятого на двери конюшни, или не сообщили об этом. Думаю, что возможно и то и другое. В темноте смотришь только куда ногу поставить, да и мало что можно увидеть ночью…
– А конюшня стоит в стороне от дороги?
– Да… да. Она в дальнем конце двора.
– Значит, тот, кто убил Блейна, либо как-то заманил его в глубь двора, либо был достаточно сильным человеком, чтобы затащить его туда, – размышлял Питт вслух.
– Полагаю, что этот вывод напрашивается сам собой, – согласился Ламберт. – Но Блейн же был знаком с Годменом, и тому нетрудно было убедить его сойти с дороги и направиться во двор.
– Неужели? Я бы не захотел направиться в темный двор с мужчиной, чью сестру я соблазнил, а вы?
Ламберт уставился на него, покраснев от смущения и оскорбленных чувств.
– Думаю, вы спешите с выводами, Питт, для которых нет никаких оснований. Кингсли Блейн был красивый молодой мужчина с хорошо подвешенным языком, но при этом довольно простодушный. Он влюбился в талантливую актрису, не то чтобы по-настоящему красивую, но… привлекательную женщину, которая знала, как манипулировать мужчиной. – В голосе Ламберта одновременно звучали уверенность и презрение. – И если кто был соблазнен, так это именно Блейн, а не она. Годмен мог яростно отрицать это, но он знал правду. – Ламберт покачал головой. – Нет, Питт, Тамар Маколи вовсе не была невинной девушкой, соблазненной грубым, развратным мужчиной. Никто из знавших всех этих людей не мог и вообразить себе иное. Думаю, очень легко поверить, что Блейн охотно пошел вместе с Годменом, считая себя в совершенной безопасности.
Томас немного помолчал, потом сказал, стараясь, чтобы в его голосе не было слышно сомнения:
– Возможно, именно Тамар Маколи была инициатором любовной интриги и соблазнительницей. Но, вы думаете, она допустила бы, чтобы Блейн это тоже понимал?
– Понятия не имею, – Ламберт был по-прежнему настроен презрительно, – но какое это имеет значение?
Питт слегка переменил позу. Ему очень хотелось попросить Ламберта открыть окно. В комнате совершенно нечем было дышать.
– Дело ведь не в характере их отношений; важно, что о них думал сам Блейн. И если он считал себя чертовски развращенным человеком, который закрутил интрижку с актрисой, тогда, значит, он мог чувствовать себя виноватым и опасаться за себя, как бы это ни казалось смешно.
– Сомневаюсь, – ответил Ламберт, но по мере того, как резонность соображений Питта доходила до него, его лицо становилось все более угрюмым и недовольным. – Годмен был невысок и субтильного сложения. Блейн тоже был худощав, но высок. И не думаю, что он мог испытывать перед Годменом чисто физический страх.
Питт пошевелился. Он чувствовал себя неважно и бессознательно потянулся к воротнику, опасаясь, что вот-вот задохнется.
– Хорошо, но если Блейн был высок, а Годмен – мелок и субтилен, вряд ли он смог, убив Блейна, поднять тело, приставить его к стене и держать в таком положении, пока не прибьет ступни и руки к двери… Вы не знаете, кстати, выяснилось ли, как он со всем этим справился?
Ламберт покраснел еще гуще.
– Нет, не знаю и знать не хочу, инспектор Питт. Он пребывал, очевидно, в такой ярости, что оказался в силах это сделать. А может, он все-таки не был настолько слаб, как кажется. Говорят, у сумасшедших может появиться сверхъестественная сила, когда на них находит приступ безумия.
– Возможно, – ответил Томас, очень сильно сомневаясь в этом.
– Но сейчас-то какое это может иметь значение? – резко наступал Ламберт. – Дело было сделано, и совершил это Годмен, что несомненно. Блейн, бедняга, был прибит кузнечными гвоздями к двери конюшни.
Теперь старший инспектор побледнел и говорил с глубоким чувством горечи.
– Я сам видел тело, – он невольно вздрогнул, – прибитое кузнечными гвоздями к двери конюшни. Руки раскинуты, как у Христа, ноги сведены вместе, и все вокруг залито кровью. Годмена видели, когда он выходил из переулка весь в пятнах крови. Значит, он как-то сумел поднять тело, может, сначала пригвоздив одну руку, потом другую.
– А вы когда-нибудь пытались поднять мертвое тело, Ламберт? – очень ровно спросил Питт.
– Нет. Я также не пытался кого-нибудь распять или прокатиться на велосипеде по натянутому канату, – отрезал Ламберт, – однако факт, что мне это не по силам, еще не означает, что это невозможно осуществить. Что вы пытаетесь всем этим сказать, Питт? Что убийца не Годмен?
– Нет, я просто пытаюсь понять, что тогда случилось и что заставило судью Стаффорда снова опросить всех свидетелей. Очевидно, его беспокоило заключение медицинской экспертизы. Интересно, так ли это на самом деле?
– А что вас заставляет думать, что что-то было не так?
– Он очень был скуп на слова, но разве медицинское заключение не могло тогда стать основанием для апелляции?
– Да, но в том заключении не содержалось ничего важного, потому апелляцию и отклонили.
– Возможно, это и обеспокоило позже Стаффорда, – предположил Питт.
– Но это не имеет отношения к свидетельским показаниям, – с совершенной уверенностью заявил Ламберт. Он слегка подался вперед, сосредоточенно вглядываясь в Томаса. Лицо его опять стало жестким, хмурым. – Послушайте, Питт, это было очень трудное дело для следствия, но не для свидетельства, нет – там было все совершенно ясно, свидетели преступления нашлись. Трудным оно было из-за общей атмосферы. Мои люди испытывали ужас, как и все общество. Мы видели мертвое тело Блейна, помилуй нас Господь. Мы видели, что с ним, беднягой, сделало это чудовище.
У Питта на мгновение сжалось сердце. Ему приходилось видеть трупы, и он ощутил одновременно ужас и жалость, вообразив себе страх жертвы в тот момент, когда она глядит в глаза своей смерти, безумие ненависти, исказившей лицо убийцы, потрясение полицейских при виде изуродованного тела, ту ярость, которая пусть ненадолго, но лишила их разума и отпущенного природой запаса гуманности.
Ламберт, очевидно, заметил раздумье Питта:
– Но можно ли осуждать полицейских за такие чувства?
– Нет, нельзя, – согласился Томас. – Разумеется, я не могу их за это осуждать.
– А заместитель начальника полиции каждый день нас песочил, иногда по несколько раз в день, и требовал, чтобы мы как можно скорее нашли того, кто это совершил, и доказательства его вины.
Ламберт вздрогнул, как от холода, хотя в комнате было невыносимо жарко, и лицо его исказила болезненная гримаса.
– Вы представить не можете, как это было! Он каждый день рассказывал, что об этом пишут в газетах, какие страшные антиеврейские выступления происходят на улицах, какие надписи появляются на стенах домов; что народ побивает евреев камнями, швыряет в них отбросы, разбивает стекла в синагогах. Он так распространялся, словно мы сами ничего слыхом о том не слыхали. Говорил, что мы должны все расследовать в течение сорока восьми часов. – Губы Ламберта искривила презрительная усмешка. – Однако не сообщил, каким способом. А мы делали все, что могли, – клянусь, Питт. И все сделали как надо. Мы опросили всех людей в окрестностях места убийства, начиная со швейцара, который сообщил Блейну просьбу, переданную через мальчика…
– Какого мальчика? – перебил Питт.
– О, Годмен передал просьбу Блейну о встрече через какого-то уличного мальчишку, – объяснил Ламберт. – Это была не письменная просьба, а устная; во всяком случае, Годмен был тогда достаточно трезвомыслящ, чтобы так сделать. И, очевидно, затаился в дальнем темном конце улицы и подождал, пока в театре погаснут огни, а Блейн выйдет, и затем сразу же подослал мальчишку сообщить, что О’Нил ждет его в клубе. Чтобы знать наверняка. И поэтому Блейн повернул на север и пошел в Сохо. Это засвидетельствовал швейцар. А Годмен, очевидно, следовал за Блейном, затем опередил его и напал уже на Фэрриерс-лейн, где и убил.
– И все это он спланировал заранее? – полюбопытствовал Питт. – И заранее знал, что найдет там кузнечные гвозди? Или это было неожиданное решение?
– Не имеет значения, – пожал плечами Ламберт. – Главное, он заманил Блейна туда с помощью сообщения, якобы исходящего от Девлина О’Нила, а это уже доказывает, что у него имелись дурные намерения. Это было преднамеренное убийство.
– Вы так решили на основании свидетельства швейцара?
– И уличного мальчишки.
– Продолжайте.
– Мы также располагаем свидетельствами прохожих, которые были тогда поблизости от Фэрриерс-лейн и видели, как с нее появился Годмен. Когда он проходил под уличным фонарем, они заметили пятна крови на его пальто. Конечно, они тогда подумали, что это просто пьяница, который шатается по окрестностям, а кровь – от его собственных травм, может быть полученных вследствие падения; например, кровь из носа. Поэтому они не обратили на это должного внимания.
– Он шатался? – полюбопытствовал Питт.
– Наверное. Возможно, от изнеможения после такой затраты сил или от помрачения ума.
– Но тем не менее он совершенно владел собой – настолько, что остановился по пути и стал шутить с продавщицей цветов, пройдя всего две улицы?
– Очевидно, так, – раздраженно ответил Ламберт, – но к тому времени он действительно совершенно владел собой. И свидетельство цветочницы сыграло особую роль. Оно по-настоящему и привело Годмена на виселицу. – Голос Ламберта опять звучал настороженно; старший инспектор весь подался вперед. – И добыл это свидетельство сержант Патерсон, очень достойный человек.
– Свидетельство цветочницы?
– Да.
– А можно с ним поговорить?
– Конечно, если желаете, но он расскажет только то, что я уже сказал.
– А что вы можете сообщить насчет пальто, запачканного кровью?
– Годмен отделался от него где-то на пути между Фэрриерс-лейн и Сохо-сквер, где повстречался с цветочницей. Мы так и не нашли пальто, но это вряд ли удивительно. Любое пальто недолго пролежит на улицах Лондона. Нашедший мог продать его старьевщику за сумму достаточную, чтобы уплатить недельную квартирную аренду, и даже больше.
Питт знал, что это вполне возможно. Хорошее пальто джентльмена стоит достаточно, чтобы продержаться на дешевой квартире месяц и обеспечить продавшему ежедневный кусок хлеба и тарелку супа к нему. Для кого-то это означало бы жизнь вместо смерти. А то, что на нем немного крови, не имело значения.
– А ожерелье?
– Ожерелье? – удивился Ламберт. – Ради бога, старина, ну конечно же Маколи оставила его себе. Оно было очень дорогое, судя по словам костюмерши, которая знала, что такое бриллианты, и могла их распознать. Конечно, будучи театральной костюмершей, она часто встречалась и с поддельными, но и с настоящими тоже.
Теперь голос его звучал иначе, на лице промелькнула тень – он презирал все фальшивое, непрофессиональное, любительское. Ламберт не делал никаких различий между иллюзией ради пустого развлечения и актерской игрой, передающей глубинную правду; он видел во всем этом лишь способ ввести в заблуждение.
– А вы искали ожерелье?
– Конечно, но мисс Маколи могла при желании припрятать его в сотне разных мест. Она ведь не украла его, и мы вряд ли могли на законном основании учредить полицейский розыск. Могла спокойно отнести его в соседнюю закладную лавочку, после того как стихло всеобщее возмущение.
– А после этого мисс Маколи когда-нибудь носила ожерелье, кто-нибудь видел его на ней?
– Понятия не имею. – Голос Ламберта казался уставшим и раздраженным. – Блейн мертв, Годмена повесили; кому интересно, что сталось с ожерельем?
– Вдове Блейна. Очевидно, ожерелье принадлежало ей.
– Ну, я бы сказал, что у нее были потери посерьезнее, – отрезал Ламберт. – Она, бедняжка, очень порядочная женщина.
Питт с трудом сдерживался, и только потому, что в его интересах было сохранять спокойствие. Ссора ничего не дала бы. По правде говоря, Ламберт не вызывал у Томаса симпатии, несмотря на то что ему можно было посочувствовать. Ему, конечно, сильно досталось в то несчастливое паническое время, когда в обществе царила истерия, а начальство загоняло подчиненных в угол, неотступно следя за каждым их шагом и требуя совершенно невозможных, но скорых результатов.
– А что вы скажете насчет оружия?
Лицо Ламберта опять напряглось.
– Ничего окончательного. Были использованы с полдюжины гвоздей, чтобы распять Блейна. Медицинская экспертиза пришла к выводу, что причиной смерти явился один из них.
– Можно ли мне теперь повидаться с сержантом Патерсоном? Мне кажется, вы рассказали все, что мне хотелось бы знать. Не могу представить, что еще вы могли бы сделать, и сомневаюсь, способен ли кто-нибудь пролить дополнительный свет на случай со Стаффордом. А доказательства вины Годмена мне кажутся – по крайней мере, на сегодняшний день – исчерпывающими. Непонятно, что могло заинтересовать Стаффорда. Никто так и не нашел ни пальто, ни ожерелья. Никто не изменил своих показаний… А вы больше не встречались с цветочницей или с тем уличным мальчишкой, который передал сообщение Блейну?
– Нет; как вы сами сказали, ничего нового не имеется. – Ламберт явно смягчился. – Извините, я был, наверное, не очень-то любезен, – и, сделав усилие, он едва заметно улыбнулся. – Это всё скверные воспоминания, а мисс Маколи пытается опять возбудить дело и утверждает, что мы осудили не того человека. С этим нелегко смириться. Если Стаффорд хотел заставить ее замолчать раз и навсегда, надеюсь, что Господь ему в этом помогал.
– Ну, может, я сумею ее убедить, – улыбнулся в ответ Питт.
Ламберт вздохнул, в глазах его промелькнуло облегчение.
– Тогда пожелаю вам удачи. Сейчас пришлю к вам Патерсона.
Он поднялся и прошел мимо Питта в коридор, Томас слышал его удаляющиеся шаги. Инспектор медленно встал, открыл окно и с наслаждением вдохнул холодный воздух, затем наполовину прикрыл окно и снова сел на место – как раз когда дверь отворилась и вошел сержант в форме. Мундир его был безукоризненно свеж, а пуговицы так и сияли. Сержанту немного перевалило за тридцать, он был среднего роста и довольно плотно сложен, но лицо у него было необычное: длинный орлиный нос и довольно маленький рот. Непропорциональность черт искупали очень красивые темные глаза и прекрасные вьющиеся, откинутые назад волосы.
– Сержант Патерсон, сэр, – представился он и остановился, вытянувшись не то чтобы по стойке смирно, однако явно с уважением.
– Спасибо, что пришли, – ровно проговорил Питт, – садитесь, – и указал на стул Ламберта.
– Благодарю вас, сэр, – принял приглашение Патерсон. – Мистер Ламберт сказал, что вы хотели поговорить со мной о деле Блейна – Годмена.
Лицо его омрачилось, но Питт не заметил в сержанте желания уклониться от разговора.
– Верно, – подтвердил он. Ему не надо было объяснять сержанту, для чего он собирается его расспрашивать, но тем не менее Томас пояснил: – Убийство, которое я сейчас расследую, по-видимому, имеет отношение к тому давнему делу. Мистер Ламберт уже рассказал очень многое, но мне хотелось бы услышать от вас о передвижениях мистера Годмена в ту ночь.
Лицо Патерсона очень ясно выражало его чувства. Только одного воспоминания было достаточно, чтобы сержант снова ощутил гнев и отвращение. Он весь напрягся, плечи его словно свело, голос изменился.
– Я один из первых добрался до того двора на Фэрриерс-лейн. Блейн был очень высокий и совсем еще молодой…
Патерсон остановился, лицо его сморщилось, словно от боли, и было совершенно очевидно, что он припоминает все тогда увиденное во всех жутких подробностях. Сержант глубоко вздохнул и продолжал, пытливо глядя на Питта и пытаясь убедиться, что тот понимает весь ужас случившегося:
– Он уже довольно давно был мертв. Ночь была холодная, почти морозная, и он закоченел. – Голос Патерсона дрогнул, но он с усилием взял себя в руки. – Я бы не хотел описывать его, сэр, если вам не обязательно это знать.
– Не надо, – быстро ответил Питт, испытывая сочувствие к этому человеку.
Патерсон хрипло кашлянул.
– Спасибо, сэр. Не то чтобы я и прежде не видел трупов – да нет, видел, и даже очень много. Но это было по-другому. Это было святотатство. – Голос у него сел, и он опять весь напрягся.
– Есть ли у вас соображения насчет того, как такой несильный человек, как Годмен, мог поднять тело и распять его?
Патерсон задумался, позабыв о своих чувствах, и сосредоточенно нахмурился.
– Нет, сэр. Я сам удивлялся. Но никто ни разу не допустил, что, может, ему кто-нибудь помогал. Он был точно один; насколько мы знаем, он вышел с Фэрриерс-лейн один. Да такое и не делают в компании с другими. Наверное, Годмен знал прием, как поднять человека в таком случае. Может, его научили этому, ведь он актер. Умеют же пожарные…
– Возможно, – согласился Питт. – Продолжайте. А как вы думаете, куда он направился, выйдя с Фэрриерс-лейн?
– Погодите немного, сэр. Я тогда стал расспрашивать всех, кто там бывает, – уличных торговцев, мусорщиков, зеленщиков и так далее. И нашел цветочницу, которая видела его очень близко. Она стояла под фонарем на Сохо-сквер, где он остановился и заговорил с ней. И это был именно Годмен, он сам в том признался. Он сказал, что это было в четверть первого ночи. Она сначала думала, что это правильно, а когда мы ее допросили построже, то заявила, что это было без четверти час и что в первый раз она ошиблась. Это он сам, наверное, пытался ей внушить, что было только четверть первого. Там часы висят как раз над головой, и она слышала, как они били, но они отбивают по одному удару каждую четверть, а в половине бьют два раза, не как все остальные часы; значит, за пятнадцать минут бывает три удара.
– А это имеет значение? – уточнил Питт. – Ведь вы не знаете точное время, когда убили Блейна, не так ли? И уж, конечно, прохожие у Фэрриерс-лейн тоже не знали, сколько тогда было времени.
– Нет, не знали, – согласился Патерсон. – Но мы-то знали точно, потому что было известно, когда Блейн вышел из театра, а это было в четверть первого. Если бы Годмен тогда уже дошел до цветочницы, выйдя с Фэрриерс-лейн, тогда он, значит, не смог бы послать Блейну сообщение или убить его во дворе конюшни, потому что сразу же после разговора с цветочницей он нанял кеб, и кебмен поклялся, что подхватил его на Сохо-сквер и повез домой, в Пимлико, а это, стало быть, надо проехать несколько миль. Но он как раз в нужное время был на Сохо-сквер и говорил с цветочницей, и уже успел отделаться от пальто. Нам не удалось сбить кебмена; он все время твердил, что как только его высадил, так опять посадил седоков, поэтому точно знает время. – Лицо Патерсона исказило отвращение, словно запахло чем-то тошнотворным. – Это могло бы дать Годмену хорошее алиби, если бы цветочница не изменила показания. Может, тогда алиби и сработало бы.
– Но цветочница показания изменила?
– Да, ведь сама она на часы тогда не смотрела. Они были сзади нее; она только слышала, как они бьют, и приняла не веру, что это было четверть первого, а не без четверти час. И, конечно, прохожие у Фэрриерс-лейн тоже были там в то самое время.
– По-видимому, вы тогда хорошо поработали, сержант, – искренне похвалил его Питт.
Патерсон вспыхнул от удовольствия.
– Спасибо вам, сэр. Никогда я не старался больше, чем тогда.
– А Годмен признал свою вину, когда вы его арестовали? Или, может быть, позже?
– Нет, сэр, он так и не признался, – угрюмо ответил Патерсон, – все время твердил, что не виноват. Он так удивился, когда мы пришли за ним.
– Он сопротивлялся? Затеял драку?
Впервые за все время сержант отвел глаза в сторону.
– Ну да, э… сэр, он вел себя дерзко. Но мы его одолели.
– Представляю себе… – Питт почувствовал себя очень неуютно. – Спасибо, сержант. Просто не знаю, о чем еще вас спросить.
– А я вам помог, сэр, с вашим делом?
– Не думаю. Но, во всяком случае, кое-что прояснилось. Теперь я знаю все, что касается дела Блейна – Годмена. Возможно, мое дело и не имеет к нему никакого отношения – так, есть лишь парочка совпадений… Спасибо, что вы были со мной так откровенны.
– Спасибо вам, сэр.
Патерсон встал и, извинившись, вышел.
Больше тут уже ничего нельзя было узнать, и Питт покинул участок. Проходя мимо дежурного сержанта, он поблагодарил его за любезность и вышел на улицу, продуваемую сильным ветром. Начинало накрапывать; маленький мальчик в огромной фуражке поспешно сгребал навоз с мостовой, чтобы две женщины в больших шляпах могли перейти улицу, не запачкав ботинок.
В середине дня Томас встретился с Микой Драммондом. Шел уже очень сильный дождь; он барабанил в окна, стекая вниз бурными ручьями, от чего стекла совсем помутнели и можно было видеть только расплывчатые очертания зданий. Драммонд сидел в кабинете за письменным столом. Питт, волнуясь, опустился на стул перед ним. Было сумрачно, и на стенах уже потихоньку шипели газовые светильники.
– Что удалось узнать насчет Стаффорда? – спросил Драммонд, слегка отодвигаясь в кресле от стола.
– Ровным счетом ничего, – выпалил Питт. – Я говорил с его вдовой, которая довольно бесхитростно заявила, что, по ее мнению, судью убили из-за его намерения снова назначить слушания по делу Блейна – Годмена. И Адольфус Прайс говорит то же самое.
– Вы сказали «по ее мнению», – заметил Драммонд. – Очень тщательный выбор слов. Вы ей не верите?
Питт скривился.
– Ее отношения с Прайсом гораздо более интимны, чем это допускается условностями.
Драммонд заморгал:
– Но ведь они не причастны к убийству? В этом для них не было бы никакого смысла. Они могут быть безнравственны, хотя никаких доказательств этого также нет. А между любовью к замужней женщине и убийством ее мужа пролегает огромная дистанция. Они цивилизованные, культурные люди, Питт.
– Знаю. – Томас не стал дискутировать на тему, могут ли культурные люди совершать подобные действия или так поступают лишь варвары, будучи таковыми в силу расовой принадлежности или социального положения. Да и Драммонд не полагал так всерьез, Питт был в этом уверен. – Б о́льшую часть времени я потратил на расследование подробностей дела Блейна – Годмена, пытаясь точно узнать, что Стаффорд намеревался сделать.
– О господи! – устало отозвался Драммонд. Его лицо сморщилось от неудовольствия. – Ну разумеется, он собирался лишь уладить это дело раз и навсегда. Я сам его просмотрел. Годмен был виновен, и ничего хорошего не получится, если вы снова станете раскапывать тот случай, Питт. К сожалению, беднягу Стаффорда убили прежде, чем он мог доказать мисс Маколи, насколько она ошибается, что трагично не только для нее, но и для доброй репутации английского судебного порядка в целом.
Он переменил позу и хмуро взглянул на Питта.
– Эта женщина слегка не в себе, что вызывает у меня жалость, но своими действиями она причиняет обществу довольно серьезный вред. Ради бога, Питт, пожалуйста, даже невольно не подавайте ей и малейшего повода думать, что существует хоть минимальный шанс для пересмотра дела.
– Я расследую причины смерти Сэмюэла Стаффорда, – твердо и прямо заявил Томас, глядя в глаза Драммонду, – и пойду туда, куда поведет меня дело, и никуда больше. Я разговаривал с О’Нилом и его домашними, которые, конечно, вне подозрения. И с Чарльзом Ламбертом, который проводил тогда расследование по горячим следам. Насколько я понимаю, Стаффорд не мог иметь никаких дополнительных доказательств и новых данных, – инспектор покачал головой. – Даже если он нашел какое-то неизвестное ранее свидетельство медицинской экспертизы, что спустя столько лет было бы совершенно невероятно, оно все равно бы ничего не доказало. То было отвратительное, ужасающее, трагическое преступление, но теперь оно достояние истории – правда, неприглядной и отталкивающей. Но, полагаю, мне надо навестить других членов Апелляционного суда. Может быть, Стаффорд успел сообщить им что-то, о чем мы не знаем.
– Я этого не желаю, – резко ответил Драммонд. – Оставьте это дело в покое, Питт. Вы только оживите прежние болезненные чувства и посеете сомнения, которые совершенно неоправданны. Вы поставите под вопрос профессиональную честность и мастерство хороших, достойных людей, которые этого не заслуживают.
– Но я повидаюсь только с одним-двумя судьями, и в случае…
– Нет! Я повторяю, Питт, оставьте это дело.
– Почему? – заупрямился Томас. – Кто хочет, чтобы я его оставил?
Лицо Драммонда стало жестким.
– Премьер-министр. Если просочатся слухи, что вы опять рассматриваете то дело, возникнут глупые домыслы и пересуды. Люди решат, что существуют сомнения в справедливости обвинительного приговора, – а это было бы неправильно. Последует новый взрыв общественного возмущения. – Он подался вперед. – Ведь тогда все были очень возбуждены. Если подумают, что могли осудить не того человека или вынести более снисходительный приговор, поднимется такая же волна протеста и антиеврейских настроений, что будет несправедливо по отношению к той же Тамар Маколи. Вы подадите ей совершенно необоснованную надежду. Ради бога, пусть ее несчастный брат покоится в заслуженном им забвении, насколько это возможно, а его семья обретет покой.
Томас промолчал.
– Питт? – настойчиво спросил Драммонд. – Вы слушаете меня?
– Я все слышал, сэр, – холодно улыбнулся инспектор.
– Я знаю, что вы меня слышите. И требую вашего честного слова, что вы меня поняли и подчинитесь моему желанию.
– Нет, я не уверен, что понимаю вас, – тихо ответил Питт. – Почему бы премьер-министру возражать против моего расследования, если судья Стаффорд занимался этим же самым перед своей смертью? Премьер-министр должен иметь для этого вескую причину, если он не безответственный или непредсказуемый человек; и я хочу знать, что это за причина.
Лицо Драммонда потемнело.
– Ладно, я хочу, чтобы вы нашли убийцу Стаффорда. Всего вероятнее, убийство совершено по сугубо личным причинам. Понятия не имею, кто это сделал или почему, поэтому вы не должны тратить время на старые дела, когда от вас требуется узнать, кто же настолько не любил судью, чтобы пойти на его убийство. Возможно, он что-то узнал о каком-то другом преступлении, но не успел сообщить властям. – Шеф немного успокоился. – Может быть, он узнал нечто эдакое и только ждал, когда у него будет достаточно доказательств, чтобы поставить нас в известность; но убийца, кто бы он ни был, узнал об этом тоже и убил его, прежде чем Стаффорд сообщил новые факты кому-нибудь еще…
Питт сделал вежливое лицо, которое, однако, ясно выражало его абсолютное недоверие.
– Так что принимайтесь за дело и разыщите убийцу, – раздраженно закончил Драммонд.
Томас встал. Он не рассердился. Инспектор знал, какое многообразное давление может быть оказано на Драммонда. Он знал о тайной, похожей на железную цепь лояльности, связывающей всех членов «Узкого круга». Он ненавидел эту власть круговой поруки и опасался ее. Он уже испытал на себе ее силу и знал, что Драммонд проклинает день и час, когда стал членом этого тайного общества, когда прекраснодушие помешало ему даже предположить, что люди одного с ним круга и воспитания могут стремиться к такой власти и использовать ее.
– Да, сэр, – ответил он спокойно, повернулся и пошел к двери.
– Питт?
Но Томас сделал вид, что не слышит.
Глава пятая
– Значит, опять «Узкий круг»? – мрачно спросила Шарлотта, с облегчением вынимая шпильки из волос и разбирая пряди, упавшие на плечи. У нее было такое чувство, словно она освободилась по крайней мере от половины скобяного товара москательной лавки – так много всего требовалось, чтобы держать густые волны и завитки в порядке.
Питт стоял у нее за спиной, решая, повесить ли сюртук в шкаф или перекинуть через спинку стула.
– Возможно, – ответил он. – Хотя могу понять и Ламберта, который не хочет, чтобы то дело раскапывали снова. Наверное, это ужасное чувство, когда снова открываются для пересмотра прежние дела и таким образом ставится под сомнение твоя правота, в особенности когда человека осудили на повешение. Еще хуже, когда нет абсолютной уверенности, что ты сделал все возможное, и начинаешь сомневаться в своей собственной честности. – В итоге он все же решил проблему сюртука в пользу стула. – Так легко совершить ошибку, когда все вокруг с пеной у рта требуют скорейшего завершения дела, а ты боишься за свою репутацию, боишься, что люди будут считать тебя недостаточно компетентным для решения такой задачи. – Питт присел на край кровати и продолжал раздеваться. – А если при этом твои подчиненные начинают впадать в панику, потому что свидетели лгут, напуганы или питают к кому-нибудь ненависть…
– Они что, поведут себя таким образом в связи с делом Стаффорда? – спросила Шарлотта, поворачиваясь на вертящемся стуле, чтобы взглянуть на мужа.
– Нет, не думаю…
Томас встал, снял рубашку и тоже положил ее на стул, а сверху – жилет и верхнее белье. Затем налил теплой воды из кувшина в таз, вымыл руки, лицо и шею, потянулся за ночной рубашкой и стал надевать ее через голову, пытаясь сразу попасть в рукава.
– Начинает казаться, что это убийство имеет личные причины и не имеет никакого отношения к делу на Фэрриерс-лейн, – прибавил он, наконец просунув голову в ворот.
– Ты имеешь в виду его жену? – Шарлотта, положив щетку, некоторое время смотрела на груду белья на стуле, решив наконец, что пусть его лежит; время для упреков мужу было неподходящее. – Джунипер? Но почему ей надо было убивать мужа?
– Потому что она влюблена в Адольфуса Прайса, – ответил Питт, ложась в постель. Он совершенно забыл об оставленной в беспорядке одежде – во всяком случае, Шарлотте так казалось.
– Но она ли убила? – усомнилась Шарлотта. – Ты уверен?
– Нет. Еще нет… Но я не могу понять, зачем Ливси сказал об этом, если все не так. Надо разобраться.
– Во всем этом чувствуется какой-то перебор. – Она перестала причесываться, встала, подвернула газ на противоположной стене и тоже легла. Чистые простыни холодили тело, и она уютно прижалась к Питту. – Не верю.
– А я и не думал, что ты поверишь. – Он обнял ее. – В любом случае, по-видимому, мне незачем заниматься убийством на Фэрриерс-лейн – в нем нет ничего такого, из-за чего стоило убивать Стаффорда.
– Но ты же не знаешь, что он обнаружил?
– Но я знаю, что раскопал сам. Ровным счетом ничего. Люди видели, как Годмен выходил с Фэрриерс-лейн в пальто, запятнанном кровью, его узнала цветочница в Сохо, через две улицы от Фэрриерс-лейн. Он даже не отрицал этого – просто ссылался на несовпадения по времени, но его данные оказались ложными. Сожалею, любимая, но, кажется, улики против него неопровержимы. Конечно, ты бы хотела, чтобы он оказался невиновен, из-за Тамар, но, по всей вероятности, это исключено.
– Но тогда почему «Узкий круг» велит тебе прекратить расследование? Если здесь все как следует, почему им не нравится, что ты хочешь во всем разобраться? – Шарлотта не могла увидеть в темноте, но знала, что муж сейчас улыбнулся. – В сущности, они должны бы радоваться, что ты еще раз докажешь их правоту.
Томас ничего на это не ответил, лишь очень нежно коснулся ее волос.
– Но, конечно, в ином случае они бы не обрадовались. Ты собираешься оставить все как есть?
– Я собираюсь спать, – сообщил он, чувствуя уют и покой.
– Но, Томас, действительно ли дело об убийстве на Фэрриерс-лейн можно считать закрытым? – настаивала Шарлотта.
– На сегодняшнюю ночь – да.
– А завтра?
Томас, смеясь, притянул Шарлотту к себе, и ей поневоле пришлось отказаться от продолжения разговора.
Утром, проснувшись позже обычного, Питт торопливо позавтракал, нежно поцеловал Шарлотту и бегом поспешил к омнибусу, чтобы снова повидаться с патологоанатомом.
Шарлотта принялась за необходимые домашние хлопоты, начав с глажки груды белья, пока Грейси мыла посуду после завтрака, чистила каминную решетку в гостиной, готовила топливо на вечер, подметала пол, вытирала пыль и убирала постели.
В одиннадцать часов они прервали свои занятия, чтобы выпить по чашке чая и поболтать.
– А что, хозяин еще занимается делом человека, которого распяли во дворе конюшни? – обронила Грейси как бы совершенно равнодушно, методично помешивая чай.
– Не вполне уверена, – ответила Шарлотта, – но ты уже размешала весь сахар в чашке.
Грейси усмехнулась и перестала болтать ложкой.
– А он вам ничегошеньки не рассказывал?
– Томас рассказывает, но чем больше он занимается этим делом, тем меньше ему кажется, что судья Стаффорд обнаружил что-то новое. А если ничего нет, тогда, значит, нет никакой причины для тех, кто был связан с делом на Фэрриерс-лейн, убивать судью.
– Тогда кто же убил? Жена? – Грейси была явно разочарована. Когда в основе преступления лежит любовная интрига, значит, никакой тайны и нет вовсе. Известно, кто убил, и это ужасно тривиально.
– Думаю, что да, или же убийца – мистер Прайс.
Грейси воззрилась на хозяйку, забыв про чай.
– Но ведь что-то здесь не так, мэм. Вы думаете, что это не они?
Шарлотта улыбнулась.
– Не знаю. Вероятно, они смогли бы убить. Но я помню, что чувствовала в тот вечер, когда была с ней, а ее муж умирал. Может быть, я чересчур самонадеянна, но не могу поверить, что это она убила и что я ошиблась на ее счет.
– Но, может, убил любовник, а она ничего об этом не знала? – предположила Грейси, стараясь тоже быть полезной в разгадке тайны.
– Возможно. Однако и он мне нравится. – Отпивая мелкими глотками чай, Шарлотта поймала над чашкой взгляд Грейси.
– А кто вам не нравится? – Девушка, как всегда, зрила в корень.
– Ни о ком пока сказать этого не могу. Но мне и раньше нравились те, кто оказывался виноват.
– Да что вы? Правда? – Грейси широко раскрыла глаза.
– Все зависит от обстоятельств. – Шарлотта решила, что должна объяснить это, и уже собиралась развить тему, когда зазвенел дверной колокольчик.
Торопливо встав, Грейси надела чепчик, поправила юбки и помчалась открывать.
Через минуту она вернулась с Кэролайн. Та, как всегда, была модно одета, но без обычного внимания к мелочам – очевидно, торопилась. Обменявшись приветствиями и заверениями в том, что все здоровы, Кэролайн села за кухонный стол и приняла чашку чая от Грейси. Затем она глубоко вздохнула, словно собиралась нырнуть с головой в воду.
– Как у Томаса продвигается расследование убийства бедного мистера Стаффорда? Он что-нибудь узнал?
– Как ты непоследовательна, мама, – удивилась Шарлотта.
– А что такое?
– Ты обычно упрекала меня за то, что я слишком прямолинейна, – улыбнулась дочь, – ты всегда говорила, что людям такое не нравится, что надо всегда подходить к выяснению чего-то издалека, тогда у собеседника всегда есть возможность уклониться от ответа или переменить тему.
– Чепуха! – с жаром возразила Кэролайн, но слегка порозовела. – Ну, как бы то ни было, так следует вести себя с посторонними и с мужчинами, а я ни то ни другое. Я говорила, что неделикатно быть слишком непосредственной и что…
– Знаю, знаю, – Шарлотта махнула рукой. – Боюсь, он не нашел ничего нового относительно убийства на Фэрриерс-лейн, и я понятия не имею, что заставило судью Стаффорда снова обратиться к этому делу. Но, по-видимому, совершенно бесспорно, что в убийстве был виновен Аарон Годмен.
– О господи! Бедная мисс Маколи… – Кэролайн покачала головой с опечаленным лицом. – Ведь она действительно считает, что ее брат невиновен. Это будет для нее тяжелым ударом.
Шарлотта положила свою руку на руку матери.
– Я сказала лишь то, что он не нашел ничего нового – пока. Не думаю, что он откажется от дальнейшего расследования – разве только не выяснится, что убила миссис Стаффорд. Или мистер Прайс, или они оба.
– А если нет?
– Тогда ему придется опять заняться убийством на Фэрриерс-лейн, пока не возникнет еще какая-нибудь зацепка.
– Что? – Лицо Кэролайн исказило волнение; она сильно подалась вперед, забыв о чае. – Что ты хочешь сказать этим «еще»?
– Не знаю. Может быть, все дело в какой-то личной неприязни; или же тут кроется что-то имеющее отношение к деньгам или к другому преступлению, о котором он узнал.
– И этому есть подтверждения?
– Не думаю. По крайней мере, сейчас.
– Звучит не очень-то… – мрачно усмехнулась Кэролайн, – не очень убедительно, правда? Но Томас должен будет вернуться к делу на Фэрриерс-лейн. Я бы вернулась.
– Да, – согласилась Шарлотта, – именно этим делом занимался мистер Стаффорд в день своей смерти. И у него, конечно, была для этого причина, пусть он собирался лишь доказать раз и навсегда, что виноват Аарон Годмен. Хотя возможно, что кто-то считает…
– Но это нелогично, дорогая, – печально возразила Кэролайн. – Если был виноват Годмен, тогда никто не стал бы убивать мистера Стаффорда, чтобы помешать ему снова расследовать дело. Мисс Маколи могла бы очень горевать, потеряв всякую надежду снять пятно с имени брата, но она не стала бы убивать Стаффорда за то, что тот считал ее брата виновным. Да и нелепо убивать одного, если все остальные придерживаются такого же мнения. Она же не могла убить всех… Да и зачем? Ведь Стаффорд не виноват, что сомневался… – Она прикусила губу. – Нет, Шарлотта, если виноват Годмен, убивать судью Стаффорда не было никакого резона. А вот если Блейна убил не Годмен, а кто-то другой, тогда появились бы все основания покончить с судьей. Особенно если тот узнал правду или же убийцы предполагали, что он узнал.
– А о ком ты думаешь, мама? Кто этот «кто-то другой»? Джошуа Филдинг? Ты этого опасаешься?
– Нет! Нет! – Кэролайн яростно затрясла головой, явно краснея. – Это может быть кто-нибудь еще.
– А теперь кто нелогичен? – ласково спросила Шарлотта. – Единственные люди, кого видел судья в тот день, были его жена, мистер Прайс, судья Ливси, Девлин О’Нил, мисс Маколи и Джошуа Филдинг. Мистер Прайс, миссис Стаффорд и судья Ливси никогда не имели никаких отношений с Кингсли Блейном. Они стали причастны к делу, когда оно дошло до суда, а судья Ливси – вообще лишь на стадии апелляции. Вряд ли они могут быть повинны в убийстве Блейна.
Теперь Кэролайн была очень бледна.
– Тогда надо что-то предпринять! Я не верю, что виновен Джошуа, и мы обязаны это доказать. Может, нам удастся что-нибудь узнать, прежде чем Томас вплотную этим займется, ведь пока он выясняет подробности относительно миссис Стаффорд и мистера Прайса.
На Шарлотту внезапно нахлынула волна сочувствия, но она не могла придумать, как хоть чем-то помочь матери. Ей было знакомо чувство страха за то, что кто-то, кого любишь, может быть причастен к преступлению, а может быть – даже виновен.
– Не знаю, что бы мы могли такое узнать, – сказала она неуверенно, следя за выражением лица Кэролайн, видя на нем беспокойство и понимание того, насколько мать уязвима. В таком состоянии легко сделать какую-нибудь глупость. – Если Томас попытается… – она пожала плечами. – Не знаю, с чего тут начать. Мы, в сущности, незнакомы с миссис Стаффорд – хотя, конечно, я могу приехать к ней с визитом… – Шарлотта понимала, что в ее голосе явно звучит нежелание, и терялась в поисках слов, которые не прозвучали бы как резкий отказ. – Она же сразу поймет, что я приехала из любопытства. И она знает также, что я жена полицейского. Если миссис Стаффорд невиновна, если она искренне горюет, вне зависимости от того, каковы ее чувства к мистеру Прайсу – а ведь мы не знаем, каковы ее чувства на самом деле, – тогда она будет крайне оскорблена.
– Но если из-за того, что случилось, другие невинные люди попали в невыносимое и опасное положение? – настаивала Кэролайн, подавшись вперед. – Это… это, конечно, гораздо важнее. Это самое важное!
– Но дело ведь не дошло до судебного преследования, мама, и, возможно, никогда не дойдет.
– Когда дойдет, будет уже поздно, – ответила Кэролайн, все больше волнуясь. – Дело ведь не только в обвинении и аресте, Шарлотта; это и подозрение, и погибшая репутация. И не одна. Этого достаточно, чтобы сокрушить человека.
– Знаю.
– А что сказала леди Камминг-Гульд? Ты мне еще не говорила.
– Мне, в сущности, ничего не известно. Я с тех пор ее не видела, и она мне не писала. Из этого можно сделать вывод, что она не узнала ничего, по ее мнению, важного. Но, возможно, дело о преступлении на Фэрриерс-лейн было расследовано исчерпывающим образом.
– А ты не сможешь узнать поточнее?
– Ну конечно, узнаю, – ответила с облегчением Шарлотта. – Это будет как раз нетрудно.
– Ты снова можешь воспользоваться моим экипажем, если хочешь, – предложила Кэролайн и тут же спохватилась, что может показаться чрезмерно настойчивой и требовательной. – Если, конечно, тебе он пригодится.
– О, разумеется, – отвечала, слегка улыбнувшись, Шарлотта. – Конечно, пригодится. – Она встала, ее глаза смеялись. – Сколь элегантнее подкатить в экипаже, нежели прийти пешком с омнибусной остановки…
Кэролайн хотела что-то ответить, но передумала.
Веспасии не было дома, когда Шарлотта приехала с визитом, однако горничная сообщила, что госпожа будет через полчаса, не больше, и если Шарлотта соблаговолит подождать, ей подадут чай в гостиную. Леди Веспасия будет очень разочарована, если они разминутся.
Шарлотта приняла приглашение и расположилась в элегантной гостиной Веспасии, попивая чай и глядя, как за каминной решеткой вспыхивают языки пламени. У нее было время оглядеться, чего прежде никогда не случалось. В присутствии хозяйки такое внимание гостьи показалось бы назойливым любопытством. Вся комната носила отпечаток характера Веспасии. На каминной полке стояли высокие тонкие серебряные подсвечники в георгианском стиле, очень простые и строгие, – но не симметрично, на разных концах полки, как было принято в других домах, а сдвинутые немного влево от центра. На шератоновском столике у окна стояла композиция из цветов, но не в вазе, а в соуснике из королевского вустерширского фарфора: три розовые хризантемы в центре, медно-желтые березовые веточки и еще какие-то пурпурные бутоны неизвестных Шарлотте цветов.
Потеряв всякий интерес к чаю, она встала, чтобы внимательно приглядеться к нескольким фотографиям в простых рамках, стоявшим на верхней доске бюро. Первая, овальная, была сделана в манере сепии и выцвела по краям. На ней была запечатлена женщина лет сорока с изящной шеей, высокими скулами и тонким орлиным носом; большие, широко расставленные глаза под тяжелыми веками, лоб совершенных линий. Это было прекрасное лицо, но к тому же, при всей горделивости и правильности черт, в нем присутствовало своеобразие, сказывалась индивидуальность, и романтическая поза не могла скрыть страстности и силы характера.
Прошло несколько секунд, прежде чем Шарлотта поняла, что это фотография самой Веспасии. Она привыкла видеть ее пожилой дамой, упустив из виду, что в молодости леди Камминг-Гульд должна была выглядеть совсем иначе. Теперь Шарлотта видела, что та осталась во многом прежней.
Другие фотографии изображали девушку лет двадцати, очень хорошенькую и обаятельную, но с менее изящными чертами, более тяжелым подбородком и довольно коротким носом. Налицо было некоторое внешнее сходство, хотя отсутствовали одухотворенность и огонь воображения. Это, должно быть, Оливия, дочь Веспасии, которая вышла замуж за Юстаса Марча и умерла, успев родить ему много детей. Шарлотта никогда ее не знала, но Юстаса вспомнила очень живо, одновременно с гневом и жалостью.
На третьей фотографии был изображен аристократического вида мужчина, тоже с высокими скулами, с добрым лицом и глазами, которые смотрели вдаль, а может, в свой собственный мир. Тут тоже было явное сходство о Веспасией, и Шарлотта догадалась – по тому, как выцвела фотография, по фасону одежды и характеру снимка, – что это был ее отец.
Интересно, что Веспасия предпочитала держать в своей любимой комнате портрет отца, а не мужа.
Шарлотта разглядывала книги в резном книжном шкафу, когда услышала негромкий разговор в холле и шаги по паркету. Она быстро обернулась и направилась к окну, так что, когда дверь отворилась и Веспасия вошла, она встретила ее лицом к лицу и улыбаясь.
Веспасия выглядела очень энергичной, словно что-то с нетерпением предвосхищала и готова была немедленно снова куда-то направиться; другими словами, она вовсе не напоминала пожилую женщину, вернувшуюся с прогулки. Кожа ее лица покраснела от холодного ветра; спина, как всегда, прямая, плечи развернуты. Одета она была в платье мягкого виноградно-синеватого оттенка – очень утонченный и неопределенный цвет: то ли синий, то ли пурпурный с серебристым оттенком. Оно было легкое, дорогое и очень ей шло. В соответствии с новейшей модой сзади почти ничего не было подложено, и покрой отличался изяществом. Шляпу с широкими опущенными полями тетушка оставила в холле.
– Доброе утро, тетя Веспасия, – удивленно и с явным удовольствием приветствовала ее Шарлотта.
Впервые за все время, что прошло после смерти племянника Веспасии, первого мужа Эмили, она видела леди Камминг-Гульд такой здоровой и жизнерадостной. Сегодня Веспасия, казалось, сбросила с себя бремя лет, которое наложило на нее горе утраты, и снова стала той полной сил и устремлений женщиной, какой была в прежние годы.
– Вы выглядите просто замечательно.
– Ну, до некоторой степени я чувствую себя отлично, – ответила Веспасия с явным удовольствием и пристально оглядела Шарлотту. – Дорогая, ты выглядишь немного встревоженной. Тебя все еще беспокоит то несчастное дело на Фэрриерс-лейн? Да садись же, ради бога. У тебя такой вид, словно ты сейчас бросишься бежать куда-то сломя голову. Ведь ты не собираешься этого делать, не так ли?
– Нет, конечно, нет. Я приехала повидаться с вами, и у меня сейчас нет никаких срочных дел. Мама сейчас у меня дома и за всем приглядит, если понадобится.
– О господи! – Веспасия грациозно опустилась в кресло, быстрым движением руки разгладив юбку. – Она все еще влюблена в своего актера?
Шарлотта скорбно улыбнулась и села напротив.
– Да, боюсь, что так.
Ровные дуги бровей пожилой леди взлетели вверх.
– Боишься? Почему же? Неужели это так важно? Она свободна и может делать все, что угодно, разве не так? И отчего же не позволить себе маленький роман?
Шарлотта глубоко вздохнула. В голове вертелось много резонных доводов относительно того, почему «маленького романа» не должно быть, но когда она стала их перечислять, то почувствовала, что, несмотря на бурные эмоции по этому поводу, все эти доводы, высказанные вслух, кажутся неумными и несерьезными.
Губы Веспасии тронула усмешка.
– Все так, – согласилась она, – но тебя беспокоит то, что этот несчастный может быть заподозрен в причастности к смерти Кингсли Блейна, так?
– Да, и это тоже. Томас считает, что по данному делу нет ничего нового и что Стаффорд просто пытался найти какие-то веские доводы, чтобы убедить Тамар Маколи отказаться наконец от попыток опять вытащить дело на свет божий.
– Но ты так не считаешь?
Шарлотта слегка пожала плечами.
– Не знаю. Возможно, судью отравила жена, но мне трудно в это поверить. Я была с ней, держала ее за руку, когда он умирал. И я действительно не могу поверить, что она так льнула ко мне, так следила за каждым его вздохом – и в то же время способна была его отравить. Не говоря уже о том, что это было бы глупо и совершенно бесмысленно.
– Значит, опять всплывает убийство на Фэрриерс-лейн, – заметила Веспасия задумчиво. – Кстати, я разговаривала с судьей Квейдом об этом деле. Извини, что сразу не сообщила тебе о том, что узнала.
Очень странно, однако щеки пожилой леди чуть-чуть порозовели, к удивлению Шарлотты. Она никогда еще не замечала за Веспасией способности смущаться. Впрочем, быстро взяв себя в руки, Веспасия стала рассказывать, что удалось выяснить во время ее разговора с Квейдом, – словно бы беспечно, но при этом тщательно подбирая слова.
– Судья Квейд сказал, что считает это дело очень тяжелым не только из-за обстоятельств убийства, но и потому, что общество тогда неистовствовало и вело себя попросту безобразно, а следствие проводилось в лихорадочной спешке, поэтому нелегко быть уверенным в должном осуществлении судопроизводства, даже при справедливости вынесенного приговора.
– А он считает, что приговор несправедлив? – быстро переспросила Шарлотта, чувствуя одновременно надежду и страх.
Серые глаза Веспасии смотрели в упор.
– Он полагает, что справедливость была соблюдена, но не так, как следует.
– Вы хотите сказать, что Аарон Годмен был виновен?
– Боюсь, что так. Все совершалось в атмосфере, тревожившей совесть Телониуса; волновало его и то, что даже защитник Бартон Джеймс, по-видимому, не сомневался в вине своего подзащитного. Ведение дела соответствовало требованиям закона, но не более того. Весь город довел себя до такого состояния злобы и ненависти, что на улицах совершались акты насилия против евреев, которые никакого отношения к делу не имели, просто потому, что они были евреи. Было невозможно подыскать беспристрастных присяжных.
– Но тогда как же можно считать судебный процесс справедливым? – возразила Шарлотта.
– Полагаю, что так считать было нельзя.
– Но зачем же Квейд разрешил проведение судебного процесса? Почему он ничего не предпринял?
Сейчас в глазах Веспасии не было ни смешинки, ни тени снисходительности. Она сразу же бросилась защищать Квейда.
– А что, по-твоему, он должен был сделать?
– Я… я не знаю…
Внезапно Шарлотта почувствовала, что тон Веспасии изменился и во взгляде ее промелькнуло нечто такое… и вспомнила, что Телониус Квейд был ее старым другом. Шарлотта ни за что не хотела ссориться с ней. А ведь она невольно поставила под сомнение честь человека, к которому Веспасия питала симпатию и уважение. И, возможно, чувства эти были очень сильные…
– Извините, – поспешно сказала Шарлотта, – наверное, он просто ничего не мог поделать. Закон накладывает очень большие ограничения на своих служителей, да? Он вряд ли мог заявить о недостаточной корректности следствия, если все делалось в соответствии с законом.
Взгляд Веспасии немного смягчился.
– Он раздумывал над тем, не сделать ли что-нибудь самому и заставить защиту последовать его примеру. Затем решил, что не станет делать ничего недостойного по отношению к своему цеху вроде заявления о недоверии тому самому закону, который он должен был соблюдать, как того требововал его долг.
– О, – нахмурилась Шарлотта: чрезвычайная серьезность того, о чем говорила Веспасия, произвела на нее впечатление. – Если у судьи возникли такие мысли, тогда, значит, процесс был отвратителен, и судья проявил большую деликатность, взвесив все обстоятельства и оценив возможные последствия.
– Он необыкновенный человек, – ответила Веспасия, на мгновение опустив глаза и отведя их в сторону.
Шарлотта невольно улыбнулась, подумав о том, какого рода дружба связывала Веспасию и Квейда. Но, может быть, это была не дружба, а обоюдная нежность? Приятно думать об этом. Улыбка Шарлотты стала шире. Она любовалась прямой осанкой Веспасии, ее изящно причесанной головой. Тут же представила, как Веспасия спрашивает ее: «А что тебя забавляет?», но та молчала, только щеки ее окрасились румянцем.
– Я вам очень благодарна, тетя Веспасия, – нежно сказала Шарлотта, – благодарна за то, что вы расспросили обо всем мистера Квейда, хотя, по-видимому, ничего нового узнать не удалось.
– Нет, удалось, – возразила Веспасия. – Немногое и не имеющее непосредственного отношения к делу, но судья Квейд совершенно уверен, что Годмена во время заключения избивали. Когда он явился в суд, на нем были кровоподтеки слишком недавнего происхождения, чтобы считать их полученными во время ареста. А непосредственно перед арестом он был невредим.
– О господи! Какое безобразие… Вы думаете, его избили тюремные надзиратели?
– Возможно. Или полицейские, когда тащили его в каталажку, – взволнованно глядя на Шарлотту, ответила Веспасия. – Сожалею, но это не кажется невероятным.
– Вы хотите сказать, что он сам первый набросился на них?
– Нет, дорогая, этого я сказать не хочу. Полицейский, который арестовывал Годмена, совершенно не пострадал.
– О! – Шарлотта глубоко вздохнула. – Однако все это ничего не доказывает, не так ли? За исключением того, что в то время, как вы заметили, бушевали очень бурные и недостойные страсти…
Веспасия ждала.
– Действительно ли мистер Квейд косвенно дал вам понять, что полиция так отчаянно стремилась найти виновного и осудить его, идя навстречу желаниям общества, что она сознательно обвинила не того человека?
– Нет, – решительно ответила Веспасия. – Нет. Телониуса тревожил сам образ действий, манера, в которой велось расследование, лихорадочный всплеск эмоций и безразличие защиты к судьбе обвиняемого; но он верил в законность обвинения, верность свидетельств и справедливость приговора.
– Понимаю, – вздохнула Шарлотта. – Тогда, вероятно, нынче судья Стаффорд пытался доказать, что дело завершено как положено, а это значит, что его убили безотносительно к делу Блейна – Годмена. И тогда все-таки виноваты его жена или мистер Прайс.
– По-видимому, так. К сожалению.
Шарлотта пристально посмотрела на леди Камминг-Гульд, насколько уверенно она это говорит.
– Можно, однако, предположить, что кому-то есть что скрывать, причем нечто скверное, поэтому у этого «кого-то» были причины опасаться расследования Стаффорда, не зная даже, в чем оно заключается. Тем более если они знали… – Веспасия нахмурилась. – В любом случае он мог показаться кому-то слишком любознательным, и его убили. Допускаю, это может показаться не слишком вероятным…
– Может, – кивнула Шарлотта. – Однако нельзя начисто отрицать такую возможность. Думаю, мы должны продолжать расследование, как вы считаете? Я хочу сказать… – Она осеклась. Слишком многое принимается ею за данность. – Смогли бы мы что-то предпринять в этом отношении? – спросила она вкрадчиво.
– Не вижу, почему бы и нет, – улыбнулась Веспасия, одновременно забавляясь и радуясь вопросу. – Не вижу, почему бы и нет, но понятия не имею, каким образом, – и она вопросительно вскинула брови.
– Я тоже не знаю, – вздохнула Шарлотта, – но обязательно все это обдумаю.
– Не знаю, удастся ли тебе это, – тихо промурлыкала Веспасия, – но если бы я могла помочь, я бы с радостью это сделала.
– Не знаю, сможете ли вы, – усмехнулась в свою очередь Шарлотта.
Шарлотту раздирало сомнение, стоит ли рассказать Питту о визите к Веспасии. Если она сделает это, то муж обязательно спросит, зачем она так беспокоится об этом деле. И решит, что поступок Шарлотты продиктован симпатией к Джошуа Филдингу, который, возможно, причастен к убийству Кингсли Блейна и вследствие этого к смерти судьи Стаффорда. Она, конечно, будет пытаться убеждать его, что все это из-за Кэролайн, которая, как любительница драмы, не может оставаться равнодушной к самой атмосфере трагического убийства, но Питт очень скоро распознает уловку и сочтет ее мать неумной пожилой женщиной, недавно овдовевшей, одинокой и ставшей жертвой внезапной привязанности к более молодому, блестящему мужчине из совершенно другого сословия и с иным житейским опытом, который снова – и в последний раз – позволит ей ощутить себя молодой. Но объяснять все таким образом, пожалуй, слишком сентиментально. Питт, конечно, не станет осуждать Кэролайн – скорее выразит снисходительное сочувствие; но она не может так унизить мать… Шарлотта удивилась, как сильно она во что бы то ни стало стремится отстоять репутацию матери, как нестерпимо ей хочется защитить ее ранимую душу…
Поэтому она рассказала Томасу лишь то, что ездила к Веспасии, – и немедленно опустила взгляд на свое шитье.
– И как она? – поинтересовался Питт, внимательно поглядывая на Шарлотту.
– Она прекрасно себя чувствует. – Шарлотта улыбнулась мужу. Томас что-нибудь обязательно заподозрит, если она остановится на полуслове, – он слишком хорошо знает жену. – Я не видела ее в таком расположении духа ни разу после смерти бедняги Джорджа. Она снова обрела спокойствие и так оживлена и здорова, как при первом нашем знакомстве.
– Шарлотта!
– Да? – Она подняла широко раскрытые, невинные глаза, держа в руке иголку.
– Что еще было? – требовательно спросил он.
– О чем ты? Тетя Веспасия в отличном настроении и прекрасно себя чувствует, и я подумала, что тебе будет приятно об этом узнать.
– Мне это, конечно, приятно, но я хочу знать о том, что тебе еще стало известно и почему у тебя такое довольное выражение лица.
– Ах! – Шарлотта была просто в восторге. Она его замечательно провела. Женщина широко улыбнулась, на этот раз без всякого притворства. – Тетя Веспасия повидалась со старым другом, и я подумала, что она, очевидно, относится к нему с большой нежностью. Разве это не замечательно?
Томас сел.
– Ты имеешь в виду роман?
– Ну, это вряд ли. Ей ведь за восемьдесят.
– Возраст не помеха таким делам. Сердце не перестает любить всю жизнь.
– Роман?.. Нет, я так не считаю. – Шарлотта удивленно раздумывала над его словами, но сама мысль доставила ей удовольствие. – Впрочем, почему бы и нет? Хотя я все же думаю, что если у них и был роман, то он остался в прошлом, когда они только познакомились. Не исключено, конечно, что он возобновился…
– Отлично, – Питт широко улыбнулся. – А кто он?
– Что? – Внезапно Шарлотта почувствовала себя в ловушке.
– Кто он? – повторил Томас, уже с подозрением.
– О… – Она снова принялась за шитье, не отрывая взгляда от иголки и полотна. – Это ее давний друг. Телониус… Телониус Квейд.
– Телониус Квейд, – повторил он медленно. – Шарлотта!
– Да, – она усердно шила.
– Ты сказала – Телониус Квейд?
– Да, кажется.
– Судья Телониус Квейд?
Шарлотта колебалась, но лишь мгновение.
– Да…
– Который совсем случайно председательствовал на суде над Аароном Годменом за убийство Кингсли Блейна?
Лгать было нельзя, но она попыталась уклониться от прямого ответа:
– Мне кажется, что тогда их дружба уже пошатнулась.
Питт решительно потряс головой:
– Это не имеет никакого отношения к делу! Почему Веспасия внезапно возобновила знакомство? Именно теперь?
Шарлотта молчала.
– Потому, что ты ее об этом попросила?
– Ну, ладно, созна ю́сь, мне было просто интересно. Судья умер в театре, у меня на глазах. Я держала за руку его бедную жену…
– …И не думала, что, может быть, именно она его убила, – сурово сказал Томас. Он не сердился – скорее все это его забавляло, но по его тону Шарлотта поняла, что он не потерпит никаких дискуссий.
– Нет, нет, я, конечно, ни о чем таком и не помышляла. – Шарлотта взглянула наконец на мужа. – Но судья Квейд, очевидно, вполне был удовлетворен приговором, даже если ему не вполне нравилось, как проходит судебное расследование. – Она улыбнулась мужу – на сей раз совершенно искренне. – Такое впечатление, что бедняга Годмен был действительно виновен, даже если они доказали его вину не лучшим способом. Но, Томас, ведь вполне вероятно, не правда ли, что сам факт повторного обращения судьи Стаффорда к делу мог так напугать кого-то – и совсем по другой причине, в связи с чьим-то еще грехом, – что испугавшиеся его убили? – Шарлотта, волнуясь, ожидала ответа, внимательно вглядываясь в выражение его лица.
– Да, это возможно, – мрачно подтвердил Питт, – хотя и не очень. Какой такой еще грех?
– Не знаю. Ты и должен это выяснить.
– Может быть, но мне опять нужно заниматься убийством Стаффорда и добыть доказательства, что Джунипер Стаффорд или Адольфус Прайс приобрели опиум. Мне нужно знать о них гораздо больше, чем известно сейчас.
– Да, конечно, но ты ведь не забудешь о деле Блейна – Годмена, правда? Я хочу сказать… – И вдруг ее осенило. – Томас! Что, если в этом деле замешана чья-то запретная связь, недостойное поведение, подкуп, насилие, какое-то другое действие, которое затрагивает интересы кого-то из сильных мира сего, или любовная интрига, которая могла бы кого-то погубить? Тогда появился бы повод убить судью Стаффорда, прежде чем тот что-то обнаружил, даже если это никак не снимало вину с Годмена. Так не могло бы случиться?
– Да, – осторожно ответил Томас, – да, такое не исключено.
– И тогда ты расследовал бы такую возможность? – настаивала Шарлотта.
– После того, как выяснил бы все о Джунипер и Адольфусе. Не раньше.
Она улыбнулась:
– Ну и хорошо. Не хочешь ли чашку какао на сон грядущий?
На следующий день Шарлотта поручила Грейси следить за порядком в доме, а сама села в омнибус и покатила на Кейтер-стрит к Кэролайн. Прибыв в начале двенадцатого, она узнала, что мать уехала по какому-то делу, а бабушка сидит в большой, старомодно обставленной гостиной у камина и кипит от негодования.
– Ну, – сказала она, яростно взглянув на Шарлотту, сидя очень прямо, сцепивши старые, похожие на птичьи лапки руки на набалдашнике палки, – ты наконец явилась навестить меня, не так ли? Наконец вспомнила про свой долг. Немного поздно, девочка.
– Доброе утро, бабушка, – спокойно отвечала Шарлотта. – Как поживаете?
– Болею, – ответила она колючим тоном, – не задавай глупых вопросов, Шарлотта. Разве я могу не болеть, если твоя мать ведет себя как отчаянная дура? Она вообще-то никогда не была особенно умна, но сейчас, кажется, растеряла последние остатки умственных способностей. После смерти твоего отца она словно с цепи сорвалась. – Бабушка сердито фыркнула. – Полагаю, этого и следовало ожидать. Некоторые женщины не могут справиться со вдовством. Нет умения вести себя, не знают, что подобает, а что нет. И она никогда не понимала это как следует. Моему бедному Эдварду все время приходилось ее учить!
В другое время Шарлотта не обратила бы внимания на столь оскорбительное мнение. Ее бабушке всегда было свойственно подобное направление мыслей, и Шарлотта привыкла к этому, но сейчас она почувствовала необходимость защитить мать.
– Какие глупости, – ответила она резко, садясь на стул напротив. – Мама всегда обладала совершенным пониманием того, что и как надо делать.
– Не смей говорить мне «глупости», – отрезала бабушка. – Ни одна женщина с малейшим пониманием приличий не разрешила бы своей дочери выйти замуж за полицейского, даже если бы та была безобразна, как лошадь, и глупа, как курица. – Она подождала, чтобы Шарлотта как следует насладилась этим язвительным замечанием, но так как внучка и глазом не моргнула, неохотно продолжала: – А теперь она ведет себя как дурочка, гоняясь за дружбой людей, выступающих на сцене. И, клянусь небом, это вряд ли лучше! Они, возможно, знают, как говорить на правильном английском языке, но их мораль ниже всякого уровня. Все они ведут себя недостойно, и половина из них евреи – я точно это знаю. – И она опять яростно взглянула на Шарлотту, вызывая ее на словесный поединок.
– А какое отношение это имеет ко всему остальному? – спросила Шарлотта, стараясь показать, что ей о том ничего не известно.
– Что? Что ты сказала? – Старая леди была глухой не всегда, а в зависимости от обстоятельств и теперь решила заставить Шарлотту повторить замечание в надежде утихомирить ее, а за это время самой придумать какой-нибудь сокрушительный ответ.
– Я спросила, какое имеет отношение к делу то, что они евреи? – повторила, улыбаясь, Шарлотта.
– Какое это имеет отношение? – сердито возразила бабушка. – О чем ты говоришь, девушка? Иногда ты несешь такую чепуху! Вот что происходит, когда якшаешься с низшими необразованными классами, которые не могут даже выразить подобающим образом свои мысли. Я скажу тебе, что случится в будущем. Я и твоей матери говорила, но разве она меня слушает? Тебе придется что-нибудь предпринять в отношении ее.
– Но я ничего не могу сделать в этом отношении, – терпеливо ответила Шарлотта. – Я не могу заставить ее слушаться вас, если она не желает этого.
– А теперь послушай меня, глупая ты девчонка. Честное слово, ты и святого выведешь из себя.
– Да? Я никогда не думала, что вы святая.
– Не дерзи! – Старая леди ткнула палкой в ногу Шарлотты, однако она находилась на таком расстоянии, что палка только задела юбку внучки.
– Мама скоро приедет домой?
Брови бабушки подскочили почти до линии прически.
– А ты воображаешь, что она сообщает мне об этом? – пронзительным от негодования голосом вопросила она. – Приходит и уходит в любое время дня – и, насколько мне известно, ночи, – одетая так, словно сама играет в мелодрамах… Глупое создание! В мои дни вдовы носили только черное и знали свое место. Ее поведение совершенно неприлично. Твой отец, бедняга, совсем недавно умер, пяти лет еще не прошло, а Кэролайн скачет по Лондону, как взбалмошная двадцатилетняя девица, которая пытается выйти замуж в свой первый же сезон, а то будет слишком поздно.
– А она что-нибудь говорила?
– О чем? Она ничего и никогда не рассказывает о том, что действительно важно. Не смеет, надо полагать.
– Когда она будет дома? – Шарлотта с трудом удерживалась от резкостей.
– А если она и сказала, неужели ты думаешь, что ей можно верить, девушка? Нет, и еще раз нет!
– Но все-таки она что-нибудь сказала?
– Да! Что ей надо поехать к модистке и она вернется через полчаса. Чепуха! Она могла поехать куда угодно.
– Спасибо, бабушка. Вы очень хорошо выглядите.
Та действительно выглядела недурно. Она так и кипела энергией, лицо ее порозовело, а маленькие, как пуговки на ботинках, черные глаза смотрели очень живо и пронзительно. Ничто на свете так не воодушевляло ее, как хорошая перебранка.
– Тебе надо завести очки, – сказала злорадно старая леди. – У меня все болит. Я старая женщина и нуждаюсь в уходе, заботе и спокойной жизни, без огорчений и тревог.
– Да вы умерли бы от скуки, если бы не считали, что вас постоянно обижают, – ответила Шарлотта с той искренностью и прямотой, на которые никогда бы не осмелилась еще несколько лет назад – во всяком случае, при жизни отца.
Старая леди опять фыркнула и яростно взглянула на нее. Она вспомнила, что надо казаться глухой, но было уже слишком поздно.
– Что? Что ты сказала? Твоя дикция стала очень невнятной, девушка!
Шарлотта улыбнулась и через минуту услышала шаги матери в холле. Она встала, коротко извинилась, оставив старую леди жаловаться наедине на то, что ей ничего не рассказывают и не посвящают в дела семьи, и быстро вышла в холл – как раз в тот момент, когда мать уже начала подниматься по лестнице.
– Мама!
Кэролайн обернулась, и ее лицо просияло от радости. На ней была очень красивая шляпа с широкими полями, украшенными перьями и искусственными цветами из шелка. Это была роскошная, экстравагантная и чрезвычайно женственная шляпа. Шарлотта с радостью приобрела бы такую же, но ей ведь негде было появляться в таком чудесном головном уборе.
– Да? – с жадным любопытством спросила Кэролайн. – Ты что-нибудь узнала?
– Боюсь, немного. – Шарлотта почувствовала себя виноватой: зачем она подает надежды, когда надеяться почти не на что? – Но, по крайней мере, есть с чего начать розыски.
– Значит, мы что-то можем сделать? – Кэролайн повернулась, готовая сию минуту сбежать вниз. – Что ты узнала? И от кого? Томас сказал?
– От тети Веспасии, хотя и немного.
– Неважно! Чем мы в состоянии помочь?
– Надо побольше узнать о людях, причастных к делу, – на тот случай, если осталось незамеченным еще одно преступление или какая-то личная тайна, как ты и думала, которую мог бы открыть невзначай судья Стаффорд.
– Отлично, – быстро ответила Кэролайн. – С чего начнем?
– Очевидно, с Девлина О’Нила, – предложила Шарлотта.
– А как насчет миссис Стаффорд и мистера Прайса? – Лицо Кэролайн выражало беспокойство и некоторое чувство вины. Ей хотелось, чтобы в убийстве оказались замешаны они, а не Филдинг.
– Мы их совсем не знаем, – резонно возразила Шарлотта. – Давай начнем с того, что нам по силам; по крайней мере, мисс Маколи или мистер Филдинг смогут нам чем-то помочь.
– Да-да, конечно… – Кэролайн окинула Шарлотту взглядом с ног до головы. – Ты очень мило одета. Готова приняться за дело прямо сейчас?
– Если ты считаешь, что мы можем явиться к ним без приглашения…
– О да, я уверена, что мисс Маколи примет нас, если мы отправимся к ней сегодня же утром. После обеда они репетируют, и это было бы неудобно.
– Репетируют? – удивилась Шарлотта с ноткой сарказма в голосе. Она не представляла, что ее мать так хорошо знакома с распорядком дня актеров и актрис, и с трудом воздержалась от соответствующего замечания.
Кэролайн отвернулась и принялась делать необходимые распоряжения, велев лакею снова вызвать экипаж и сообщив прислуге, что завтракать будет вне дома.
Несколько членов труппы сообща арендовали большой дом в Пимлико. Менеджер, мистер Иниго Пассмор, пожилой джентльмен, который в свое время был звездой, сейчас предпочитал только характерные роли. Его жена тоже когда-то была актрисой, но теперь редко появлялась на сцене, предпочитая актерской профессии почетное и влиятельное положение хозяйки дома. Она занималась также гардеробом, театральным реквизитом и, когда возникала необходимость, музыкальным оформлением. Они с мужем занимали первый этаж дома и, таким образом, владели и садом.
Комнаты Джошуа Филдинга располагались по фасаду второго этажа, апартаменты молодой, но многообещающей актрисы Клио Форбер – с обратной стороны. На третьем этаже жили Тамар Маколи и ее ребенок.
– Я не знала, что у нее есть дети, – удивилась Шарлотта, когда по дороге с Кейтер-стрит в Пимлико ей об этом рассказала Кэролайн. – Я не знала, что она замужем. Ее супруг тоже подвизается на сцене?
– Не будь простушкой, – резко ответила Кэролайн, глядя прямо перед собой.
– Извини! О, – и Шарлотта смутилась. – Ты хочешь сказать, что она не замужем? Сожалею, что не поняла раньше.
– Наверное, будет тактичней не упоминать об этом в разговоре с ней, – сухо ответила Кэролайн.
– Разумеется. А кто там еще живет?
– Не знаю. В мансарде пара каких-то инженю.
– Пара кого?
– Очень юных актрис, которые играют роли невинных девушек.
– Понимаю.
Больше они не обменялись ни словом, пока не доехали до Клавертон-стрит и Пимлико и не вышли из экипажа.
Дверь открыла девушка лет шестнадцати, хорошенькая и более модно и ярко одетая, чем полагается горничной, чья униформа обычно сводится к темному платью, белому чепчику и фартуку. На ней было довольно изящное розовое платьице, а у передничка был такой вид, словно его только что купили. Густые темные волосы были неприкрыты.
– О, доброе утро, миссис Эллисон, – сказала она приветливо, – наверное, вы хотите повидать мистера Филдинга? Или мисс Маколи? Мне кажется, они оба у себя. – И широко распахнула дверь, чтобы дамы могли войти.
– Спасибо, Миранда, – ответила Кэролайн, поднимаясь по ступенькам в холл. Шарлотта следовала за матерью, очень удивляясь фамильярности, с которой девушка приветствовала Кэролайн. – А это моя дочь, Шарлотта Питт, – представила ее Кэролайн.
– Миранда Пассмор. Мой отец, мистер Пассмор, – менеджер труппы.
– Здравствуйте, Миранда, – ответила Шарлотта, поспешно собираясь с мыслями и надеясь, что именно это она и должна была сказать человеку, занимающему столь необыкновенное положение в доме. Ей никогда еще не приходилось видеть горничную, которая чисто случайно является дочерью театрального управляющего.
Миранда широко улыбнулась. Возможно, ей доводилось попадать и прежде в подобное положение.
– Здравствуйте, миссис Питт. Пожалуйста, входите и поднимайтесь по лестнице. А там постучитесь в дверь.
Кэролайн и Шарлотта прошли через холл, в котором, если бы представилась возможность, Шарлотта задержалась на несколько минут. Как та комната в театре, эта была густо завешана старыми афишами с замечательными именами, которые сразу заставляли вспомнить подмостки, звенящие голоса, дрожь страсти и напряжение драмы: Джордж Конквест, Бирбом Три, Эллен Терри, миссис Патрик Кэмпбелл, а также потрясающая величественная фигура сэра Генри Ирвинга в роли Гамлета. Другая афиша запечатлела Сару Бернар в величественной и трагичной позе. Здесь были изображены и другие актеры. Разглядеть на ходу, кто это, Шарлотта не смогла.
На первой лестничной площадке висели другие афиши – на этот раз опер Гилберта и Салливана – «Иоланта», «Пейшенс» и «Йомены гвардии».
Кэролайн интереса не проявляла, и дело было не только в том, что она их уже видела; просто она целиком сосредоточилась на исполнении своей миссии, и драмы, которые разыгрываются на сцене, сейчас не могли состязаться по важности с житейской драмой. Она лишь на мгновение задержалась на площадке первого этажа, а потом стала подниматься наверх. На второй лестничной площадке висела только одна большая афиша, на которой снова было запечатлено подвижное и чуткое лицо Бернар.
Кэролайн постучала в дверь, и через несколько секунд ей открыла сама Тамар Маколи. В резком утреннем свете Шарлотта ожидала увидеть ее совсем другой, без грима и неодетой, так как до спектакля было еще далеко. Однако та выглядела как в прошлый раз. Волосы черные, как вороново крыло, совершенно без проблеска каштановости, который встречается у самых темноволосых англичанок. Глаза, блестевшие от предвкушения чего-то забавного, хотя и способного причинить боль. Одета она была очень просто, но вместо того, чтобы приглушить драматизм ее внешности, платье, напротив, подчеркивало его.
– Доброе утро, миссис Эллисон, миссис Питт. Как приятно вас видеть.
– Доброе утро, мисс Маколи, – отвечала Кэролайн. – Извините за то, что пришла без предупреждения и вместе с дочерью. Однако у меня такое чувство, что данный визит необходим, или может быть необходим, и нельзя бесполезно терять время.
– Тогда вам лучше войти.
Тамар отступила и позволила им проследовать в большую комнату. Она была обставлена как гостиная, хотя раньше, когда в доме жила только одна семья, возможно, служила спальней. В комнате наблюдалось интересное смешение стилей. У одной стены находилась старинная китайская ширма, когда-то очень красивая. Теперь она выцвела, ее деревянная часть покрылась царапинами, и все же она сохранила остатки прежнего изящества, придававшего комнате обворожительный и уютный вид. На боковом столике красовался русский самовар, в буфете стояло венецианское стекло. Еще были псевдобронзовые французские часы на каминной полке и старинный георгианский стол красного дерева, таких простых и строгих линий, что Шарлотте он показался совершенством и вообще лучшим украшением комнаты. В интерьере преобладали кремовые и бледно-зеленые цвета, и комната получилась очень светлой.
Кэролайн принялась объяснять причину их прихода. Шарлотта же продолжала оглядывать комнату, ища присутствие ребенка, о котором говорила ее мать. Кое-что было не прибрано: брошенная на стул шаль, книга, пачка счетов и раскрытая рукопись; на диване беспорядочная груда подушек. А потом Шарлотта увидела куклу, упавшую с дивана, полускрытую цветастой оборкой чехла, и почувствовала необъяснимую, внезапную печаль, от которой перехватило дыхание и заболело горло. Дитя, не имеющее отца, одинокая женщина… Можно ли заключить отсюда, что Тамар Маколи действительно любила Кингсли Блейна? Или это просто фантазия Шарлотты? Нет оснований думать, что именно Блейн – отец ребенка Тамар. Им мог быть кто угодно, даже Джошуа Филдинг… О господи, только бы не он! Для Кэролайн это было бы невыносимо.
– Разумеется, – проговорила Тамар. – Пожалуйста, садитесь, миссис Питт. Спасибо, что вы тоже проявляете к нам внимание. Мы достаточно долго сражались в одиночку, и теперь, когда все стало сложнее и даже опаснее, мы очень нуждаемся в помощи. Такое впечатление, что кто-то очень сильно испугался и снова ответил насилием. – Лицо у нее было угрюмое и мрачное.
Шарлотта не была в курсе прежних разговоров, но сразу поняла, что к чему, и села.
– Мы были в театре, когда умер судья Стаффорд, – сказала она, слегка улыбнувшись, – и, естественно, хотели бы найти человека, который убил его, а также убедиться, что в прошлом не было допущено судебной ошибки.
Лицо Тамар выражало сложную смесь иронии, гнева и горечи. Если здесь еще присутствовала и надежда, то зрение Шарлотты было слишком слабо, чтобы ее усмотреть. Каким образом эта женщина могла держаться так мужественно все эти годы, после такого ужасающего несчастья? Смерть близкого человека всегда тяжела, но общественное поношение, ненависть, пытка, которой человека подвергает закон, неизмеримо тяжелее. И все время в жизни этой женщины присутствовало страшное осознание, что в назначенный час придут за этим близким человеком, еще молодым и здоровым, и сломают ему шею, повесив на конце веревки, и сделают это с радостью, чтобы удовлетворить ликующую толпу! А что он должен был чувствовать в ночь накануне казни? Какой казалась ему тьма – бесконечной или слишком короткой? Можно ли с б о́льшим страхом ожидать наступления дня?
Тамар пристально смотрела на нее.
– Вы думаете об Аароне? – спросила она напрямик.
На мгновение Шарлотта сжалась, а потом поняла, насколько легче и проще говорить о таких вещах откровенно, чем вилять и уклоняться от болезненной темы, теряясь в поисках слов и продираясь к смыслу сквозь нагромождение эвфемизмов.
– Да, – сказала Шарлотта и опять слегка улыбнулась.
– Вы допускаете возможность несправедливости?
– Конечно, – ответила сочувственно Шарлотта. – Я знала невинных людей, которые не были повешены только по чистой случайности. Это вполне вероятно, и я уверена, что так иногда происходит. Хотела бы я, чтобы это было невозможно, но, увы, это не так.
– Опасная мысль, – сухо ответила Тамар, – людям не нравятся такие мысли. Они не могут смириться с возможностью ошибки. Гораздо легче убедить себя, что человек виновен, и с легким сердцем отправиться сажать цветы.
– Но я так не думаю, мисс Маколи, – заметила Шарлотта. – Я не виновата, если считаю, что он, возможно, был виновен, и могу только горевать в связи с этим. Но я буду виновата, если не сделаю того, что в моих силах, для установления истины – и в деле Кингсли Блейна, и в деле смерти судьи Стаффорда.
Впервые за все время Тамар искренне улыбнулась. Улыбка была очаровательная, она осветила и преобразила ее лицо.
– Какой вы необыкновенный человек… Впрочем, вы и должны быть такой, если вышли замуж за полицейского.
Шарлотта удивилась. Она не знала, что Тамар имеет представление о ее делах.
– Мне рассказал Джошуа, – объяснила актриса, забавляясь ее удивлением, – а ему, наверное, ваша мать. – Она оглянулась и увидела, что Кэролайн уже нет в комнате. – Наверное, она сейчас пошла к нему. Возможно, из чувства такта или… – Выразительно подняв свои хрупкие плечи, она смолкла.
Шарлотта на мгновение смутилась, подумав, что, пожалуй, Кэролайн ведет себя глупо; но она никак не могла сделать вид, что ничего не понимает, без того, чтобы самой не выглядеть еще глупее. И если она хочет принести пользу, то надо заниматься делом, ради которого пришла сюда.
– Вам известно что-нибудь о смерти Кингсли Блейна, что прошло мимо суда? – прямо спросила Шарлотта. – Что-нибудь такое, о чем вы рассказали судье Стаффорду и что заставило его снова вернуться к делу?
Тамар покачала головой.
– Ничего такого, о чем не было бы упомянуто в апелляции. Не совсем убедительно было медицинское заключение о причинах смерти. Хамберт Ярдли, патологоанатом, начал было говорить, что рана, оказавшаяся смертельной… – Лицо у Тамар стало жестким, губы побледнели; она с трудом сдерживалась, стараясь говорить спокойно… – была причинена чем-то более длинным, чем кузнечный гвоздь. А затем сказал: нет, это гвоздь, но какой-то необычный.
– А этот гвоздь нашли?
– Нет, но полиция утверждала, что Аарон мог выбросить его в ближайшую водосточную трубу. А мы подали апелляцию, основываясь только на первоначальной неуверенности Ярдли. Мы пытались привлечь внимание к другим вещам – к тому, например, что никто не нашел ни пальто, ни ожерелья. Но они и это объяснили: дескать, пальто было утащено каким-нибудь бродягой, а ожерелье спрятала я.
– Кажется, цветочница тоже изменила свои показания?
– Да, но только на самом суде. Они несколько раз вызывали ее в качестве свидетельницы. Да поможет ей Бог, она была простой женщиной и цеплялась за то, что хорошо запомнила, но слишком боялась полиции, чтобы вступить с ней в спор.
– Мисс Маколи, – ласково взглянула на нее Шарлотта, стараясь дать ей понять выражением лица, что спрашивает только из чувства долга, – если оставить в стороне вашу любовь к брату, почему вы считаете его невиновным, когда подавляющее большинство людей думает прямо противоположное?
– Потому что у Аарона не было причин убивать Кингсли. – Глаза у Тамар сверкали как бриллианты, взгляд их был искренний и жесткий. – Они утверждали, что Кингсли соблазнил меня и что он играл моими чувствами, поэтому Аарон убил его из мести. Но это чепуха. Кингсли меня любил и собирался на мне жениться.
Она сказала это как само собой разумеющееся, как будто ей безразлично, верят ей или нет.
Шарлотта была потрясена, но отреагировала без малейшего недоверия. Если бы Тамар волновалась или старалась ее убедить, она, может, и засомневалась бы, но та сказала об этом так просто, словно о непреложной данности, чем лишила Шарлотту возможности усомниться.
– Но ведь он был женат? – сказала она – не для того, чтобы возразить, но как бы в поисках объяснения. – Что он собирался предпринять?
Тамар прикусила губу, впервые ее лицо вспыхнуло от стыда.
– Но я тогда не знала, что он женат. – Она опустила глаза. – Начать с того, что сперва я все это не воспринимала всерьез, – и пожала плечами. – Так бывает. Молодые люди, имеющие свободное время и жаждущие приключений, ходят в театр сотнями. Они хотят только немного развлечься, слегка возбудиться… Но потом они возвращаются к женам и домашнему очагу, как того и ожидает от них общество. Прошли месяцы, прежде чем я поверила, что Кингсли совсем другой. Однако за эти месяцы я его полюбила, и стало уже слишком поздно что-нибудь менять. – Она с вызовом взглянула на Шарлотту. – Конечно, вы можете сказать, что мне следовало заблаговременно навести о нем справки, женат ли он… и я действительно должна была это сделать. Однако я не хотела ничего об этом знать.
– А как он собирался поступить с женой? – спросила Шарлотта, не желая пока делать выводов.
– Не знаю, – покачала головой Тамар, отводя взгляд. – Я узнала, что он женат, только после его смерти. И если он хотел взять меня в жены, то, значит, собирался оставить ее. Или он не хотел на мне жениться, а обещал только потому, что хотел и меня удержать при себе. Но дело в том, что Аарон этого тоже не знал. Он считал, что Кингсли свободен, и полагал, что он на мне женится.
– Вы уверены? – мягко спросила Шарлотта. – А не могло быть так, что он знал все про мистера Блейна и поэтому его убил? Обман был бы достаточным поводом для убийства.
– Да, если бы это было так. Я виделась с Аароном как раз перед тем, как он ушел из театра, но тогда он ничего не знал… не больше, чем я.
– А он бы сказал вам об этом? Только честно?
– Возможно, и нет, но он бы не вел себя так и не разговаривал бы с Кингсли дружески, если бы все знал. Он был хорошим актером, однако недостаточно хорошим, чтобы провести меня. Я видела его насквозь.
– Но на суде вы об этом не говорили?
Тамар рассмеялась коротким, горьким смешком, больше похожим на сдавленное рыдание.
– Нет. Мистер Джеймс сказал, что никто не поверит, будто Кингсли действительно хотел на мне жениться, и что я буду выглядеть просто смешно с таким заявлением и навлеку на себя еще большее негодование, чем если бы была заурядной соблазнительницей и интриганкой. А если я промолчу, то мое положение будет не таким уязвимым, да и у Аарона в глазах суда окажется меньше поводов мстить за меня.
Шарлотта поняла резонность такой позиции и неохотно признала это:
– Наверное, на месте защитника я посоветовала бы то же самое. Правда не помогла бы.
Тамар скорчила гримаску.
– Благодарю за доверие.
– А вы рассказывали об этом судье Стаффорду?
– Да, но не знаю, поверил ли он мне. По его лицу и манерам ничего было не понять.
– А кому еще вы об этом рассказывали?
Тамар встала и подошла к окну. Солнечный свет резко высветил ее черты, каждую линию, подчеркнув гладкость кожи лица, и оно показалось Шарлотте еще красивее, чем прежде, – взволнованное и искреннее.
– Я рассказывала об этом всем, кто имел хоть какой-то вес, кто хотел меня выслушать. Защитнику Бартону Джеймсу, а до него Эбенезеру Мургейту, поверенному Аарона. – Она смотрела в окно прямо перед собой. – Я даже пошла к Адольфусу Прайсу, но он повторил доводы Бартона Джеймса: если я заявлю об этом на суде, он воспользуется моим заявлением в своих собственных целях. Я ему поверила. Я была также в Апелляционном суде, но никто не выслушал меня, за исключением судьи Стаффорда.
– А почему он отнесся к вам иначе? – с любопытством спросила Шарлотта. – Почему он собирался опять вникнуть в это дело по прошествии пяти лет?
Тамар повернулась и пристально на нее посмотрела.
– Я не вполне уверена, что собирался, но мне кажется, он поверил мне относительно Кингсли, только он один. Он также задал мне несколько вопросов относительно того, когда Аарон ушел из театра и когда ушел Кингсли, но не объяснил, почему спрашивает. Поверьте, миссис Питт, я просто голову сломала, чтобы понять, почему он собирался снова открыть дело. Если бы знала, то могла бы теперь изложить свои соображения судье Освину. У него раз или два был такой вид, словно он согласен выслушать мои доказательства, но каждый раз мужество ему изменяло.
– Мужество?
Тамар рассмеялась, резко и оскорбленно:
– Вряд ли кому сейчас понравилось бы, если бы вдруг заявили, что Аарон ни в чем не виноват. Вы только подумайте! Какой позор, какое смятение умов для тех, кто тогда допустил ошибку – и в таком деле, последствия которого не изменить! Но хуже всего – какой позор для судопроизводства и закона… – Гнев ее уступил место сожалению. – Вот это и есть самое неприятное в деле о смерти судьи Стаффорда. Он был мужественный и честный человек, поэтому и умер.
Шарлотта глядела на эту женщину, чье лицо выражало страстную убежденность в своей правоте. Может, именно это тронуло Стаффорда – сила ее убежденности? Причем гораздо больше, чем свидетельства, прозвучавшие тогда на суде? Или он просто хотел успокоить ее раз и навсегда, уберечь от ненужного смятения общество, спасти доброе имя закона?
– Но если это не Аарон, – громко спросила Шарлотта, – тогда кто же?
Тамар улыбнулась: ей было и смешно, и больно.
– Не знаю. Не могу поверить, что это был Джошуа, хотя некогда мы были… близки. – Она употребила деликатное слово, позволив догадаться о более глубоком его смысле. – Но к тому времени между нами все было кончено. Наши отношения были следствием родственности натур и молодости. Полиция подозревала, что он мог сделать это из ревности, но я в это никогда не верила – только не он. Полагаю, что убийцей мог быть только Девлин О’Нил, но их ссора должна была носить более серьезный характер, чем перебранка из-за пари, заключавшегося в нескольких гинеях.
– Он женился потом на Кэтлин Блейн, – заметила Шарлотта. – Может быть, он был тогда в нее влюблен?
– Может быть. Это не исключено.
– Она была богата?
– Как вы практичны! – Тамар удивленно вскинула брови. – Да, думаю, что так, или, во всяком случае, у нее были очень хорошие виды на будущее. Она, кажется, единственная дочь, а старый Проспер Харримор богат – по нашим меркам.
– А у мистера О’Нила были деньги?
– Боже милостивый! Нет, конечно. Ему хватало только на то, чтобы вести красивый образ жизни в течение недолгого времени. – Она опять села напротив Шарлотты. – Он арендовал комнаты и был постоянно должен портному и поставщику вина, как все привлекательные и праздные молодые люди.
– Так, значит, он немало выиграл в результате смерти своего друга?
Тамар колебалась, но только мгновение.
– Да, наверное. Это, конечно, неприятная правда, но, возможно, имеющая под собой некое основание. Короче говоря, я просто не вижу, кто еще бы мог на это пойти, если только не какой-то случайный грабитель… – Она не закончила фразу, словно знала, что такое предположение бессмысленно.
– Случайный человек, который распинает свои жертвы? – скептически отозвалась Шарлотта.
– Нет, конечно, – согласилась Тамар. – Не знаю, почему бы О’Нил пошел на убийство, разве только чтобы возложить вину на кого-нибудь из евреев.
– Вы поддерживаете контакты с Девлином О’Нилом?
– Сейчас – нет. Да и зачем?
– Дело в том, что лучший способ узнать об этом деле – воспользоваться его помощью.
– Но он вряд ли расскажет нечто такое, что бросит вину на него самого.
– Может быть, ненамеренно… – предположила Шарлотта. – В любом случае правду мы можем узнать только от тех, кто ее знает.
Лицо Тамар внезапно оживилось, в глазах промелькнула искра надежды.
– И вы готовы за это взяться?
– Конечно, – ни минуты не колеблясь, ответила Шарлотта.
– Тогда, значит, нам надо попросить Клио, чтобы та ввела вас в дом к Харриморам. Она еще встречается с Кэтлин, и это будет нетрудно.
– Не «нам», я думаю, – поправила ее Шарлотта. – Это должно выглядеть как чистая случайность. Никто не должен знать, что у меня к этому делу есть какой-то интерес.
– Да, конечно. Глупо с моей стороны. Я познакомлю вас с Клио. Ее сегодня утром нет дома, но как-нибудь вскоре… И она вас приведет к ним.
– Отлично! Объясните ей, что нам требуется и почему, и я сделаю все, что в моих силах.
Когда Шарлотта начала откровенный разговор с Тамар, Кэролайн сочла, что ее присутствие необязательно, тихонько подошла к двери, открыла ее и выскользнула вон. Она спустилась по лестнице и оказалась в коридоре около комнаты Джошуа Филдинга. Подняла руку, уже готовая постучать, прежде чем поняла, как она неосмотрительна и навязчива и что ведет себя совсем не так, как ее воспитывали, вопреки всему, чему она сама когда-то учила дочерей. Если бы Шарлотта вела себя так, сама Кэролайн пришла бы в ужас.
Движимая внезапно вспыхнувшим самолюбием, она отступила на шаг от двери. Ее поведение покажется странным, неумным; ей необходимо уйти, опять спуститься по лестнице, надеясь, что никто не спросит, почему она отсутствовала. Кэролайн повернулась и уже прошла половину коридора к лестнице, но наверх, навстречу ей, взбежала Миранда Пассмор.
– А, миссис Эллисон! Разве мистер Филдинг не у себя? А я думала, что он дома… да я просто уверена в этом. Подождите, я опять постучу! – И, не ожидая ответа и не поняв, почему Кэролайн чуть не вскрикнула, она поднялась на лестничную площадку и громко постучала в дверь комнаты Джошуа.
Пошли секунды, наполненные для Кэролайн мучительным ожиданием. Она уже собралась отказаться от столь бесцеремонного вторжения, но в эту минуту дверь широко распахнулась и на пороге показался улыбающийся Филдинг, который сначала взглянул на Кэролайн, потом на Миранду.
– О, Джошуа, я так и знала, что вы дома, – весело заметила девушка. – Миссис Эллисон хотела с вами повидаться, но вы, наверное, не слышали, как она постучала. – С этими словами она взбежала на следующий этаж и исчезла.
– Простите, я действительно не слышал, – извинился Джошуа.
– А вы и не могли, – торопливо объяснила Кэролайн, – я ведь не постучалась.
Он ничего не понял.
– Я… я приехала вместе с дочерью навестить мисс Маколи относительно… относительно смерти судьи Стаффорда. И думала… – Кэролайн остановилась, поняв, что объясняет то, о чем он ее не просил.
– Это очень любезно с вашей стороны, что вы так заботливо относитесь ко всему этому делу. – Филдинг улыбнулся – тепло и одновременно неловко. – Для вас, наверное, было очень огорчительно оказаться в театре и наблюдать, как умирает судья, а затем узнать, что это было убийство… Сожалею, что вы стали свидетелем этого прискорбного события.
– Но меня заботит также и то, чтобы в связи с этим не произошло никакой несправедливости, – поспешно вставила Кэролайн. Ей не хотелось, чтобы он счел ее слабым, беспомощным созданием, интересующимся всем только потому, что событие это было для нее неприятно, и совсем не думающим о других.
– Вряд ли вы могли бы чем-нибудь помочь, – сказал актер, немного поморщившись. – Судья Стаффорд имел намерение вновь вернуться к делу об убийстве Кингсли Блейна, но так как, вероятно, он не оставил на этот счет никаких заметок, дело, очевидно, останется закрытым навсегда за неимением веских и четко сформулированных причин. Разве только мы не узнаем, что именно и на каком основании он старался сделать.
– Вот это мы и должны разузнать, – произнесла Кэролайн. – И не только для того, чтобы прояснить причину его смерти, но и чтобы защитить от подозрений вас и мисс Маколи.
Джошуа опять улыбнулся, на этот раз насмешливо-страдельчески.
– А вы думаете, что вину за эту смерть тоже возложат на нас?
– Этого нельзя исключить полностью, – ответила она тихо и внутренне сжалась от осознания того, что она может оказаться права. – У них больше не будет выбора, если выяснится, что ни вдова Стаффорда, ни ее любовник в этой смерти не повинны. И вполне естественно возникнет подозрение насчет вас.
– Я не могу мыслить, как полицейский, – ответил он печально. – Однако, пожалуйста, не стойте в коридоре. Это будет очень неприлично, если вы войдете ко мне? В доме полно народу.
– Ну конечно, ничего неприличного в этом нет, – возразила Кэролайн, чувствуя, что краснеет. – Никто ничего не может вообразить… – и осеклась. То, что она хотела сказать, было бы вульгарно. Женщина лихорадочно обдумывала ответ, мысли молниеносно проносились в ее голове, но она не могла придумать ничего дельного и продолжила, заходя в комнату: – Вряд ли кто-нибудь усомнится, что вы просто галантны.
Вся обстановка носила отпечаток своеобразия и индивидуальности ее хозяина, и при первом же взгляде на нее Кэролайн была поражена. До этого она встречала Джошуа только в театре или внизу, в большой гостиной Пассморов, вместе с Тамар Маколи. Но комната была сугубо его и могла принадлежать только ему. На дальней стене от двери висел огромный, в серо-черных тонах портрет знаменитого артиста Эдмунда Кина. Тот стоял в драматической позе, возвышаясь от пола до потолка. Портрет доминировал, как бы подчинял себе помещение, и Кэролайн больше и лучше, чем раньше, поняла, насколько глубоко Филдинг предан искусству и как его любит.
У ближайшей стены стояли забитые книгами полки. Маленький стол у окна завален рукописями – наверное, тексты пьес, подумала она. Посередине комнаты стояло несколько стульев, словно Джошуа часто приходилось развлекать посетителей, и она остро пожалела, что не является одной из них и вообще не может принадлежать к их числу. Их разделяла пропасть социального положения и жизненного опыта, и она вдруг почувствовала себя очень одинокой, лишенной всякой радости и тепла.
– Хотел бы я знать, что делать в таком положении, – закончил он разговор, пододвигая к ней стул и держа его за спинку, пока Кэролайн садилась. Это было любезно с его стороны, но остро напомнило ей, что она лет на пятнадцать-шестнадцать старше его, почти на целое поколение.
– Мы должны бороться, – отрывисто сказала женщина, пытаясь подавить чувство горечи гневом и воинственностью, – мы должны найти истину, которой они не располагают. Дело в том, что они удовольствовались простейшим решением. Мы поступим иначе.
Филдинг взглянул на нее удивленно-недоверчиво и с восхищением.
– А вы знаете, как это сделать?
– Да, у меня есть кое-какие идеи, – сказала Кэролайн с гораздо большей уверенностью, чем чувствовала на самом деле. Так бы сейчас говорила Шарлотта. Эта мысль ужаснула ее, и в то же время Кэролайн пришла в восторг от своей смелости.
– Мы начнем с того, что познакомимся со всеми так или иначе причастными к делу. Кто они? То есть кто эти люди, которые могли бы знать правду, хотя бы отчасти?
– Наверное, это Тамар и я сам, – ответил Джошуа, садясь напротив. – Но мы говорили с ней об этом бессчетное число раз, и вряд ли есть хоть что-то, что мы еще не обсудили.
– Ну, если никто из вас не убивал мистера Блейна и Аарон Годмен тоже не убивал, значит, виновен кто-то другой, – резонно заметила Кэролайн. Она мысленно представила умное лицо Питта и полюбопытствовала, не о том ли думает и он сам. – Как по-вашему, кто убил Блейна?
С минуту Филдинг обдумывал вопрос, подперев рукой подбородок. У любого другого эта поза могла показаться театральной, но у него она выглядела совершенно естественной. Кэролайн остро ощущала его присутствие; чувствовала, как солнечный свет ложится на его густые волнистые волосы. Он был еще слишком молод, чтобы в его каштановых прядях мелькала седина, но вокруг глаз уже залегли тонкие морщинки, и нельзя было сказать, что это лицо человека нестрадавшего и не отягощенного тяжелым житейским опытом. В нем не было ничего от беззаботной молодости. Возможно, его возраст приближался к сорока, но ей-то было пятьдесят три, и одно только воспоминание об этом причиняло боль.
– Полагаю, это был Девлин О’Нил, – сказал наконец Джошуа, взглянув на нее, – если не кто-то другой, которого мы не знаем. Но думаю, даже вообразить нельзя, будто жена Кингсли знала, что он собирается оставить ее ради Тамар, и наняла убийцу. – В его глазах сверкнул иронический огонек, уступивший место жалости. – Если, конечно, он действительно собирался так поступить и оставить ее. Не думаю, что у него было много собственных денег и он отказался бы от очень удобной, обеспеченной жизни и своего социального положения. Я никогда не говорил об этом Тамар, но, если быть честным, не могу представить, чтобы он на это пошел. Кингсли, наверное, обнадежил ее, потому что действительно любил и не в силах был потерять, поэтому и лгал, надеясь протянуть существующее положение как можно дольше. Но мы, однако, этого никогда уже не узнаем.
Кэролайн решила задать ему самый болезненный вопрос, который все время вертелся у нее в голове, и она решила разом покончить с ним одним ударом.
– А она вышла бы за него замуж? Разве она не еврейка? Что же насчет ее веры и брака с человеком, не принадлежащим к ее народу?
Она ненавидела саму себя за эти слова и само их звучание.
– Такое нежелательно, – согласился Филдинг, взглянув ей в глаза, – но мы, актеры, на этот счет не очень строги. Она бы на это пошла.
– А ее брат тоже ничего не имел против? – Кэролайн шла напролом к поставленной цели. Она должна выяснить все.
– Аарон… – Актер пожал плечами. – Он бы этому не обрадовался – и, конечно, Пассмор тоже, – если бы она оставила сцену и превратилась в респектабельную матрону. Но, возможно, в данной ситуации никакой речи о респектабельности не шло бы, потому что Блейн оставил бы жену и семью ради Тамар. Во всяком случае, она вела бы тихую домашнюю жизнь, производя на свет детей. В настоящее время она лучшая актриса на лондонской сцене. За исключением, возможно, одной Бернар.
– Так, значит, он должен был желать, чтобы Блейн… не мешал?
Джошуа широко улыбнулся.
– Да, конечно, если бы знал обо всем. Но он не знал. Он думал, что Блейн просто еще один завсегдатай закулисья. Они с Тамар вели себя очень осторожно. И у нее были другие обожатели, вы же знаете.
– Да, конечно, и полагаю, это вполне естественно. – Кэролайн бессознательно расправила юбку на коленях.
– Даже весьма.
– Значит, мы опять возвращаемся к Девлину О’Нилу, – решительно продолжила она. – Мы должны с ним познакомиться и узнать о нем все, что можно. Если нельзя доказать невиновность Аарона, мы сумеем доказать вину кого-то еще.
Его восторг был откровенен и красноречив.
– Как это все удивительно и очевидно… Мы потратили пять лет, пытаясь доказать, что Аарон не совершал преступления. Нам надо было стараться найти кого-то, кто это совершил. Но мы оказались для этого слишком неумелы и неспособны. – Джошуа удобнее уселся на стуле. – Разумеется, и сам О’Нил не слишком хорошо был настроен по отношению к нам и, конечно, понимал, к чему мы стремимся.
– Разумеется. Но он незнаком ни со мной, ни с моей дочерью, которая имеет большой опыт по части расследований.
– В самом деле? Какая у вас замечательная семья! Никогда не позволю себе впредь так поспешно судить о людях. Вы кажетесь в высшей степени респектабельными и недоступными, – Джошуа легко рассмеялся. – Я думал, что вы тратите все утро на портных и модисток, на изящную переписку с друзьями, проживающими за городом, и на распоряжения по хозяйству. А после ленча ездите с визитами к знакомым или принимаете их, угощаетесь чаем с огуречными сэндвичами, приготовленными кухаркой, занимаетесь благотворительностью в пользу менее обеспеченных – или же изящным рукоделием. Я представлял себе, что вы или исполняете свои светские обязанности, или едите у камина и читаете книжки, способствующие нравственному усовершенствованию человечества, и ведете разговоры, возвышающие ум. Я очень прошу меня извинить и посыпаю голову пеплом смирения. – Филдинг явно иронизировал. – Нет, никогда я так не ошибался! Женщины – самые таинственные создания в мире; как часто они оказываются совсем не такими, какими ты их раньше представлял. А вы все это время были заняты тем, что расследовали ужасающие преступления и являли свету страшные тайны…
Кэролайн почувствовала, что краска заливает ей лицо, но она сделала вид, будто не поняла его сарказма.
– Мы не преуспели бы в своем деле, если бы действовали в открытую, – сказала она запинающимся голосом и чувствуя спазмы в желудке. – Искусство расследования в том и состоит, чтобы выглядеть совершенно неопасной.
– Неужели? – спросил он с любопытством. – Мы с Тамар были так неудачливы и, может быть, именно потому, что действовали неумело?.. Наоборот, старались выглядеть как можно умнее и ухищреннее.
– Ну, вам с самого начала мешало то, что всем была ясна ваша непосредственная заинтересованность в деле, – заметила Кэролайн. – Скажите, а что представлял собой Аарон? И что вы можете рассказать о Кингсли Блейне?
В течение получаса Джошуа рассказывал ей об этих двух людях, которых он хорошо знал и которые ему нравились. Он вспоминал разные анекдотические случаи из их жизни со смехом и с нежностью, но Кэролайн все время очень живо ощущала, что эти люди мертвы и что их молодости, надеждам и слабостям положен жуткий конец. Джошуа говорил тихо, в голосе его звучало сочувствие, но создавалось впечатление, что они для него не совсем еще отошли в область воспоминаний. Он им по-прежнему симпатизировал, поэтому ей одновременно хотелось и смеяться, и плакать.
– Вам бы понравился Аарон, – сказал он уверенно.
Это был комплимент, и Кэролайн почувствовала себя растроганной. Филдинг сказал это не потому, что Аарон был, вполне вероятно, обворожительным человеком, но потому, что сам Джошуа любил его и не мог представить, что она тоже осталась бы слепа к его достоинствам, которые он так ясно видел.
– Годмен был одним из самых щедрых людей – из всех, кого я знал. Он радовался успехам других. Это ведь одна из самых трудных вещей на свете – радоваться чужому успеху; но для него это было естественно. И он мог быть ужасно смешным. – От воспоминаний лицо Филдинга смягчилось, а потом так опечалилось, что казалось, он едва удерживается от слез. – Я уже никогда не смеялся так с тех пор, как он ушел.
– А Кингсли Блейн? – спросила Кэролайн, изнемогая от желания утешить его и зная, что это невозможно.
– О, это был вполне порядочный человек. Мечтатель, не очень реально смотрящий на жизнь. Он любил театр, любил мир воображения, но не имел достаточно силы воли, чтобы вникать в ремесло актера. Но он тоже был добр и щедр. Никогда ни на кого не злобился. И очень легко прощал. – Джошуа прикусил губу. – И вот что самое худшее из всего, самое бессмысленное: они нравились друг другу. Тем легче, что у них было столько общего.
Он посмотрел на Кэролайн, словно умоляя о прощении за то, что так сильно поддался чувствам. Та улыбнулась в ответ, и оба ощутили, как им легко друг с другом и что ничего не надо объяснять.
На краткий миг солнечный свет залил всю комнату, а затем снова исчез.
Время ленча прошло, но Кэролайн даже не вспомнила об этом, когда Шарлотта постучала в дверь и напомнила ей о настоящем и о том, что они лишь гостьи, которым надлежит подняться, попрощаться и выйти на шумные, полные деловой суеты улицы.
– Полагаю, ты опять гонялась за этими, из театра, – сказала бабушка, как только Кэролайн вошла в холл. Старая леди стояла на пороге гостиной, тяжело опираясь на палку. Она слышала, как подъехал экипаж. Лицо ее выражало неудовольствие и любопытство. – Ничего хорошего нет ни в ком из них; все они аморальны, ненадежны и абсолютно вульгарны!
– О, как я хочу иногда, чтобы вы попридержали свой язык, – резко ответила Кэролайн, вручая плащ с капюшоном горничной. – Вы ведь совершенно о них ничего не знаете. Идите в гостиную и читайте свою книгу. Скушайте печенье, напишите письмо приятельнице…
– У меня слишком слабое зрение, чтобы читать. И сейчас только два часа и слишком рано для печенья. А все мои друзья уже умерли, – раздраженно ответила старая леди. – А моя невестка делает из себя совершеннейшую дуру, к моему непреходящему стыду!
– Вы достаточно наделали собственных ошибок, чтобы было чего стыдиться, – парировала Кэролайн, впервые ни во что не ставя мнение свекрови. – Вам незачем беспокоиться о моих.
– Кэролайн! – яростно выкрикнула ей вслед старуха, так как та уже направлялась к лестнице наверх. – Кэролайн! Немедленно вернись! Как ты смеешь так со мной разговаривать? Понятия не имею, что это на тебя нашло!
Она так и осталась стоять, глядя, как, выпрямившись и с высоко поднятой головой, Кэролайн поднимается по ступенькам, и бессильно выругалась.
Глава шестая
Пока Кэролайн и Шарлотта занимались делом Блейна – Годмена и пытались разобраться в том, что может угрожать Тамар Маколи и Джошуа Филдингу, Питт сидел в омнибусе, опять сосредоточившись на смерти судьи Стаффорда. Он не знал, послужило ли убийство на Фэрриерс-лейн прологом для последующего убийства или связь эта чисто случайна, а то, что Стаффорд занимался старым делом в день своей смерти, не более чем совпадение, совершенно сбивающее с толку и направляющее следствие по неверному пути. Имея какие-то новые свидетельства, которые могли потребовать пересмотра дела, он бы, конечно, рассказал об этом другим – полиции, своим коллегам – или, по крайней мере, оставил записи.
Кондуктор проталкивался между сидящими и стоящими пассажирами и собирал плату за билеты, пошатываясь, когда омнибус внезапно останавливался или трогался. Полный мужчина кашлянул в красный клетчатый носовой платок и извинился, не обращаясь ни к кому в особенности.
Большинство убийств трагически просты; они случаются из-за игры страстей – это любовь, ревность, жадность, страх. Или же человека убивает вор, застигнутый на месте преступления… Лучше всего начать с самого факта убийства, временно не обращая внимания на мотив убийства. Кто-то влил опиумную настойку во фляжку с виски, после того как судья и Ливси пили из нее на квартире последнего. Позднее Стаффорд заходил к Джошуа Филдингу, Тамар Маколи, Девлину О’Нилу и Адольфусу Прайсу; любой из них мог завладеть фляжкой до наступления вечера, когда мистер Стаффорд отправился в театр, выпил из нее и впал в бессознательное состояние, а потом умер. Значит, единственные люди, кто мог это совершить, – те, которых он посетил, а также его жена Джунипер Стаффорд. Подозревать его клерков в суде или слуг в доме было бы нелепо. Нет ни малейшего повода считать такую возможность вероятной.
Омнибус опять остановился – ему мешала проехать большая пивная бочка. Уличное движение медленно ползло вверх, лошади нервничали и были нетерпеливы. У экипажа впереди порвалась упряжь. Ездовые суетились вокруг и проклинали все на свете. Кричал зеленщик. Кто-то звонил в колокольчик; собачка, сидящая в карете, истерически лаяла. Всем было холодно, все были на грани нервного срыва.
– С каждым днем все хуже и хуже, – сердито сказал мужчина, сидевший рядом с Питтом. – Через год-два вообще невозможно будет проехать! Весь Лондон забит повозками и экипажами, да так, что скоро и шагу нельзя будет ступить. Надо уничтожить половину всего этого хлама. Запретить законом такое движение и сократить наполовину производство средств транспорта.
– А куда им всем деваться? – заметил раздраженно мужчина напротив. – Они имеют такое же право на проезд, как и вы.
– Пусть ездят по железной дороге, – возразил первый, рывком поправляя галстук. – Пусть плавают по каналам. Чем им плоха река? Вы только взгляните на эту перегруженную громаду! – Он ткнул рукой в окно, мимо которого с трудом продвигалась огромная подвода, уставленная коробками и ящиками на двадцать футов в высоту. – Это безобразие. Неужели нельзя было все погрузить на баржу и доставить водой?
– Но, может быть, у них другой пункт назначения, не на реке.
– Все равно надо было водой, учитывая громоздкость перевозимого…
Омнибус рывком качнулся вперед и возобновил неспешное поступательное движение. Разговор окончился, а Питт снова вернулся мыслями к занимавшему его делу. На некоторое время мотивы убийства он оставил в стороне. Возможность совершить преступление была очевидна. Но что можно сказать о средстве? Томас никогда еще не наводил справок насчет доступности опиума. Как и всякий другой полицейский, он знал, что в Лондоне существуют опиумные притоны, где приверженцы зелья могут получить его и потом, лежа на узких нарах, обкуривать себя до краткого блаженного забытья. И, конечно, ему кое-что было известно об опиумных войнах с Китаем, которые шли между 1838-м и 1842 годом, и тех, что начались в 1856-м и окончились в 1860 году. Их начали китайцы в надежде помешать англичанам торговать опиумом. Черная страница в английской истории. Но Питт не знал, как все это повлияло на возможность приобретения опиума рядовыми гражданами Лондона, за исключением того, что торговцы, ощущая за собой мощь империи, в настоящее время занимаются промыслом беспрепятственно и прибыльно… Наверное, самое лучшее – попробовать самому купить опиум и узнать таким образом, сколько он стоит. Можно отложить визит к судье Ливси на потом.
Омнибус снова остановился из-за интенсивного движения, Питт встал, извинился и с трудом пробрался по проходу между двумя рядами сидящих, стараясь не наступить на ноги. Под ворчанье относительно новой остановки, последующего опоздания, жалоб на шум и неповоротливость он сошел, врезавшись в ландо, которым управлял кучер с дурным характером, перепрыгнул через кучу дымящегося навоза и канаву, заполненную водой, и зашагал по тротуару к первой попавшейся аптеке.
Таковая попалась ему лишь через полмили – маленькая и полутемная. Войдя, Томас увидел одинокую молодую женщину за прилавком, на котором теснились кувшины, бутылки и пакеты; впрочем, все они были ему без надобности и не имели отношения к тому, что искал Питт. Женщина поочередно предлагала порошки, пасты от зубной боли и другие болеутоляющие, рекомендуя также дантиста, но явно не могла знать, где раздобыть опиум. У нее, правда, имелась микстура для младенцев, чтобы те быстрее засыпали, которая, по ее мнению, могла содержать опиум, но с уверенностью сказать она это не могла, так как на бутылочке не были указаны ингредиенты.
Томас поблагодарил ее, отклонив предложение купить снадобье и отправился далее. Он продвигался со всей возможной быстротой через водоворот людей, которые покупали, продавали, исполняли поручения, болтали, стоя на тротуаре, выскакивали на мостовую, мешая движению и крича друг на друга под стук копыт и шум колес, бряцанье упряжи и ржание лошадей.
Вторая аптека оказалась гораздо больше. Войдя, Питт увидел сияющие чистотой прилавки, а за ними – полки, уставленные огромным количеством разноцветных бутылочек и сосудов, наполненных всевозможными жидкостями, кристаллами, сухими листьями, травами, лепестками и корешками, все снабженные ярлыками и названиями по-латыни. Другая полка была заполнена пакетами и коробочками. Между полками располагались ящики наподобие буфетных с крепко-накрепко запертыми дверцами. Мужчина, распоряжающийся всем этим фармацевтическим изобилием, был невысок, лыс, с очками на кончике носа и с выражением любопытства на лице.
– Да, сэр, чем могу быть полезен? – спросил он, как только Питт вошел. – Что-нибудь лично для вас или для семьи? Вы ведь человек семейный, не так ли?
– Да, – ответил инспектор, улыбаясь сам не зная чему, но ему понравилось, что в нем видно нечто говорящее о его принадлежности к женатым мужчинам.
– Так я и подумал, – с удовлетворением ответил аптекарь. – Полагаю, я хорошо могу судить о человеке по его внешности. Прошу прощения за фамильярность, сэр, но только хорошая жена может так перелицевать воротничок.
Питт никак не думал, что его воротничок и манжеты могут сообщить о том, что их перелицевали, искусно спрятав от взгляда изношенные места и таким образом продлив жизнь рубашке. Он бессознательно поднял руку к воротничку, поняв, что галстук сбился набок и поэтому аккуратный Шарлоттин шов явил себя миру. Слегка покраснев, он поправил галстук.
– А теперь, сэр, чем могу служить? – спросил весело аптекарь.
Питт понял, что с этим человеком лучше говорить начистоту, иначе ничего не узнаешь. Остроглазый человечек оскорбится уклончивым ответом и поймет, что его хотят провести.
– Я офицер полиции, – заявил Томас, доставая удостоверение.
– Неужели? – Аптекарь явно заинтересовался, но на его открытом лице не было и тени волнения или тревоги.
– Мне хотелось бы побольше узнать о том, как достают опиум. Не для того, чтобы курить, это мне уже известно. Я имею в виду его жидкую форму. Вы можете сообщить мне что-нибудь на этот счет?
– Преблагие небеса, сэр, ну конечно, могу, – удивился аптекарь. – Достать опиум при желании довольно легко. Матери используют настойку, чтобы успокоить крикливых младенцев. Им, бедняжкам, надо хоть немного поспать, и они дают это зелье детям, чтобы те не кричали полночи, не давая никому уснуть. – Он показал на ряд бутылочек на одной из полок. – «Фирма Годфри Кордиэла» поставляет большое количество такого снадобья. Делается оно из патоки, воды, специй – и опиума. И действует, говорят, очень хорошо. Есть в продаже также стедменовский порошок. Очень популярно также «Средство успокоения королевских младенцев Аткинсона». – Он покачал головой. – Уж не знаю, что за Аткинсон и какие королевские младенцы имеются в виду и что представляет собой микстура, но люди ею довольны. Конечно, в Восточной Англии и западных болотистых графствах опиум можно купить в таблетках или маленьких палочках по пенни за штуку в любой аптеке, буквально на каждом шагу.
– И законным образом? – удивился Питт.
– Конечно! Его прописывают от разных болезней, – и аптекарь стал загибать пальцы, – ревматизм, диабет, чахотка, сифилис, холера, диарея, запор, бессонница…
– И помогает? – недоверчиво переспросил Питт.
– Опиум снимает боль, – с ноткой печали в голосе объяснил аптекарь. – Это не лекарство, но, когда человек страдает от боли, он получает облегчение. Я не одобряю это средство, но не могу отказать страдающему человеку, особенно если болезнь уже неизлечима. Лишь Бог ведает, как много на свете таких страдальцев. Никто не может излечиться опиумом от туберкулеза, холеры или сифилиса – просто умирают медленнее.
– А разве опиум не убивает?
– Младенцев может убить, но не всегда и не обязательно. – Лицо аптекаря осунулось, в глазах его промелькнула усталость. – Убивает не сам опиум, понимаете? Но младенцы под его действием все время как бы в полусне, ничего не едят и рано или поздно умирают от истощения, бедняжки.
Питту внезапно стало нехорошо. Он подумал о Джемайме и Дэниеле, вспомнив, какими они были крошечными, беспомощными созданиями, но страстно желающими жить, и у него так перехватило горло, что он не мог вымолвить ни слова.
Аптекарь молча смотрел на Питта, лицо его стало совсем печальным.
– Но нет смысла преследовать матерей по суду, – тихо продолжал он, – им все одно, без разницы. Родители работают до изнеможения и не знают, кого просить о помощи. Женщины рожают почти ежегодно, не считая выкидышей, и нет никаких средств это предотвратить, только сказать мужу «нет» – если тот согласится. А что мужчине надо? У него и так мало удовольствий, и он считает, что право быть с женщиной у него никто не может отнять. – Он покачал головой. – В доме нет достаточно еды, места, где можно уединиться… у этих несчастных нет ничего.
– Я и не собираюсь их преследовать, – ответил Питт, сглотнув застрявший в горле комок. – Я ищу того человека, который отравил взрослого мужчину, добавив опиум ему в виски.
– Какая-нибудь бедная женщина не могла больше выносить такой жизни? – предположил аптекарь, закусив губу и глядя на инспектора, словно заранее знал ответ.
– Нет, – сказал Томас громче, чем собирался, – эта женщина уже, можно сказать, миновала детородный период, да и муж отличался умеренностью привычек. Она же и ее любовник…
– Господи боже! – Аптекарь невольно отпрянул. – И вы хотите знать, могла ли она достать опиум, которым отравила мужа? Боюсь, что могла. Все могут. Это совершенно нетрудно, и при покупке не обязательно сообщать свое имя. Вам очень и очень повезет, если вы найдете того, кто припомнит, что продал опиум ей или ее любовнику – в случае, если виноват он.
– Или кто-то другой, – грустно констатировал Питт.
– Господи помилуй, а что, смерти того бедняги еще кто-нибудь желал?
– Возможно. Он был человеком очень известным и авторитетным. – Так как Томас уже высказал подозрения по поводу вдовы, то решил не называть имени Стаффорда. Если его отравила Джунипер, то об этом скоро все узнают, а если нет, то незачем увеличивать ее горе – бремя вдовы и так достаточно тяжело.
Аптекарь печально потряс головой:
– Да, опасная эта штука опиум. Достаточно только начать, и уже почти невозможно отказаться от этой привычки. Мало кто может удержаться от употребления его все в большей дозе. – Его добродушное интеллигентное лицо приобрело сердитое выражение. – Невежественные врачи давали его на операциях во время Гражданской войны в Америке, думая, что это не так опасно, как эфир или хлороформ, особенно если вводить его при помощи новейшего тогда изобретения – шприца – прямо в вену, а не через желудок. Они, конечно, ошибались. А в результате у них сейчас на руках четыреста тысяч рабов ужасной привычки. – Он вздохнул. – Это единственная война, которую мы одновременно и выиграли, и проиграли. Возможно, мы гораздо больше проиграли, чем выиграли.
– Американскую гражданскую войну? – смутился Питт.
– Нет, сэр, опиумную войну с Китаем. Наверное, я плохо объяснил.
– Нет, вы все хорошо объяснили, – любезно ответил Питт, – и вы совершенно правы. Благодарю за помощь.
– Не стоит. Сожалею, что был вам так мало полезен. Боюсь, что любой человек, у которого есть несколько лишних пенсов в кармане, может купить достаточное количество опиумных палочек, растворить их, влить раствор в виски – и никто не узнает, у кого он их купил. Ведь, как бы то ни было, ничего незаконного в акте купли-продажи нет. – Он задумчиво взглянул на Питта. – Вы можете целый год истратить впустую, ходя от одного аптекаря к другому в радиусе сорока миль вокруг Лондона и дальше, если та дама, которую вы подозреваете, имеет средства и возможность ездить. Как я уже сказал, опиум очень легко достать по всей Восточной Англии и в болотистых графствах на расстоянии всего ста или ста пятидесяти миль от Лондона.
– Тогда мне надо прибегнуть к другим средствам, чтобы выяснить правду, – согласился Томас. – Благодарю вас и желаю удачного дня.
– Доброго дня, сэр, и удачных поисков.
Только в середине дня Питт получил возможность увидеться с судьей Игнациусом Ливси. Инспектора провели к нему в контору. На улице уже похолодало, и Питту было приятно войти в теплую комнату с хорошо растопленным камином и богатыми коврами, бархатными драпри, надежно загораживающими хозяина от внешнего мира; с резной, богато украшенной каминной полкой, что говорило о достатке и комфорте, с книгами в кожаных переплетах, бронзовыми статуэтками, блюдами мейсенского фарфора, которые вносили в обстановку оттенок изящества и роскоши.
– Добрый день, Питт, – любезно приветствовал его Ливси. – Как продвигается расследование причин смерти бедняги Стаффорда?
– Доброе утро, сэр. Пока не очень плодотворно. Оказалось, что каждый, у кого есть несколько лишних пенсов, может без труда приобрести опиум. И его покупают главным образом бедняки – как мне сказали, чтобы успокоить крикливых младенцев и помочь страдающим разнообразными болезнями, иногда даже не совместимыми друг с другом.
– Неужели? – поднял брови Ливси. – Но это же так трагично. Здоровье общества – одна из самых важных и насущных наших проблем, вместе с невежеством и бедностью… Однако вы узнали хоть что-нибудь в результате своих поисков опиума?
– Совсем ничего, – признался Питт.
– Пожалуйста, садитесь и располагайтесь поудобнее, – пригласил его Ливси. – На улице стало холодно, как мне доложил клерк. Немного рано, но не хотите ли чашку чая?
– Да, с большим удовольствием, – принял приглашение Томас, садясь в большое кожаное кресло напротив Ливси, восседавшего за письменным столом.
Судья нажал кнопку на стене рядом с собой, и через минуту вошел клерк. Ливси попросил принести две чашки чая, откинулся назад и с любопытством оглядел инспектора.
– Что же снова привело вас ко мне, мистер Питт? Я ценю любезность, с которой вы сообщаете мне о том, как продвигается расследование, даже если оно не продвигается. Но мне кажется, что это не все, о чем вы хотели мне поведать.
– Я бы хотел, чтобы вы рассказали мне, сэр, все, что можете припомнить о том вечере, когда умер судья Стаффорд. С того самого момента, как вы встретились в театре.
– Разумеется, хотя не уверен, что это может в чем-то помочь. – Ливси сложил руки на животе, его тяжелое лицо было спокойно. – Я приехал в театр минут за двадцать до начала спектакля. Было чрезвычайно многолюдно, что естественно. Так всегда бывает в подобных заведениях, когда пьеса хоть сколько-то интересна, а тогда должна была идти популярная вещь и с прекрасными актерами. – Он снисходительно и с легким презрением улыбнулся. – Конечно, как всегда, на балконах и галерке теснились проститутки, разодетые в потрясающе яркие цвета. На расстоянии это зрелище великолепно, и мужчины пожирали их глазами, а некоторые шли значительно дальше. Однако это совершенно обычная вещь, и вы сами, несомненно, не раз наблюдали подобную картину.
Вернулся клерк с подносом, на котором стоял серебряный чайник с изогнутым, как лебединая шея, носиком, серебряный же сливочник, сахарница со щипцами, две чашки китайского фарфора с блюдцами, полоскательница и серебряное ситечко. Две серебряные ложечки были украшены вверху перламутровыми раковинками. Ливси рассеянно поблагодарил клерка и, как только тот исчез, беззвучно затворив за собой дверь, разлил чай.
– Я заметил одного-двух знакомых, – продолжал он рассказ, глядя на Томаса с едва заметной усмешкой. – Полагаю, что кивнул в знак приветствия одному-двум, а затем прошел в свою ложу. Часто я приглашаю к себе в ложу гостей, но на этот раз жена не смогла со мной поехать, и я остался в одиночестве. Очевидно, поэтому и решил в перерыве навестить Стаффорда, но, обменявшись с ним любезностями, ушел. – Он с наслаждением пил чай – то был «Эрл Грей», тонкий, ароматный и дорогой напиток.
– А почему, сэр? – Питт несколько выпрямился в кресле.
– Он пошел в курительную комнату, – отвечал Ливси, слегка покачав головой и улыбнувшись. – Очень шумное место, мистер Питт, и слишком общественное. Место, куда удаляются джентльмены, чтобы покурить, если есть желание, или укрыться на несколько минут от женского общества и, возможно, поболтать друг с другом, обсудить дела, если понадобится. Там было очень много народу, некоторые особы весьма скучны, и я не желал портить себе вечер. Я заглянул туда, но не остался.
– А вы не заметили, был ли там мистер Прайс?
Лицо Ливси омрачилось.
– Понимаю, почему вы спрашиваете, мистер Питт. Но, как и любой более или менее здравомыслящий человек, я пытаюсь избегать подобных мыслей. Да, он был там и разговаривал со Стаффордом. Вот и все, что я успел увидеть. Не могу, однако, сказать, что у него была возможность даже дотронуться до фляжки. Лично я не видел, чтобы Стаффорд из нее пил. Сомневаюсь, что он вообще доставал ее из кармана во время антракта. Гораздо вероятнее, он пил из нее в темноте и недоступности собственной ложи. Так бы поступил и я, предпочитая, чтобы меня не видели за этим занятием в общественном месте, или в буфете, где продаются напитки. – Он по-прежнему смотрел на Питта с улыбкой, но уже печальной, как бы комментируя свои соображения насчет слабостей человеческих, не свойственных ему самому. – Вы понимаете меня?
– Да, – подтвердил Томас, попивая чай мелкими глотками.
Все понятно и чрезвычайно логично. Он сам никогда не носил с собой фляжек со спиртным, это было совершенно не в его привычках и просто не могло прийти в голову, но если бы носил, то, конечно, пил бы из нее потихоньку, в одиночестве, в замкнутом пространстве театральной ложи, а не в многолюдной курительной.
– А как держался судья?
– Он был задумчив, – ответил Ливси после минутного размышления, словно пытаясь оживить в памяти всё до мельчайших подробностей. Затем нахмурился. – Возможно, что-то его заботило. Думаю, Прайс отметил то же самое – если, конечно, он был в настроении наблюдать.
Питт колебался, думая, следует ли сейчас говорить напрямик или же несколько завуалированно, – и решил дело в пользу откровенности.
– Как вы думаете, он мог отравить Стаффорда?
Ливси сделал резкий вдох и медленно выдохнул.
– Сожалею, но это было явно возможно, – ответил он, наблюдая за Питтом сквозь полуопущенные веки, – если уже несомненно, что Стаффорд был отравлен. – И опять отпил чаю.
– Да, это несомненно – во всяком случае, для сомнений веской причины нет. Это не такая доза, которую человек может принять, чтобы успокоить боль, причиняемую какой-нибудь болезнью, или же для того, чтобы позабыть на время об испытаниях и разочарованиях, доставляемых реальной действительностью. И случайно опиум не принимают.
Питт тоже отпил из своей чашки, будучи не совсем уверенным, что чай ему нравится. Тяжелые занавеси заглушали уличный шум. Инспектор слышал тиканье часов на книжном шкафу.
– Единственной альтернативой является самоубийство, – продолжал Томас. – Можете ли вы представить хоть одну убедительную причину, по которой судья Стаффорд мог покончить с собой, причем публично, в театральной ложе, не оставив никакой записки и причинив своей жене такое горе? По-моему, это экстраординарный способ самоубийства, даже если предположить, что он действительно желал покончить с собой.
– Конечно, – немного поморщившись, ответил Ливси. – Извините, но я хотел уклониться от того, что неизбежно следует сказать. Нет, конечно, он был убит. Я чрезвычайной благодарен судьбе, что это не моя задача выяснять, кем именно, но, естественно, я окажу вам всяческую помощь в этом деле.
Он немного переменил позу и теперь смотрел на полицейского, скрестив руки на груди.
– Нет. Мне не казалось, что Сэмюэл Стаффорд ведет себя как-то необычно. Он был любезен, хотя, может быть, и несколько отчужден, но он, как правило, держался именно так, – и вытянул губы трубочкой. – Я не нашел в его поведении ничего особенного и, уж конечно, не заметил в нем никакого напряжения или ощущения надвигающейся опасности. Не могу поверить, что он боялся смерти или ожидал ее, и уж менее всего что он ее планировал.
– А вы не видели, как он пил из фляжки?
– Нет, но, как я уже сказал, я не остался в курительной комнате.
– Мистер Ливси, имеете ли вы хоть какое-то представление о том, знал ли мистер Стаффорд об отношениях своей жены с мистером Прайсом или хотя бы подозревал об этом?
– Ах! – Судья опять потемнел лицом, на нем явно выражались печаль и отвращение. – Вот это гораздо более трудный вопрос. И было бы естественным с вашей стороны спросить, не могло ли знание этого – или подозрение – заставить его покончить с жизнью. Я не могу ответить на ваш первый вопрос – «знал ли»; ведь знание – это такая тонкая вещь, мистер Питт, тут нельзя ответить ни «да», ни «нет». – Он внимательно посмотрел на Питта, словно измеряя степень его проницательности и умения воспринимать информацию. – Существует несколько уровней убежденности, – продолжал Ливси, очень четко и точно выбирая слова. – Стаффорд, несомненно, чувствовал, что его жена холодна к нему. И это было взаимно. Он оставался внимателен к ней, сохранил к ней уважение, которое за многие годы стало привычкой, но он больше не был в нее влюблен, если вообще когда-нибудь питал подобное чувство… – Ливси глубоко вздохнул. – Он требовал одного: чтобы она соблюдала приличия и выполняла все требования, предъявляемые обществом к жене судьи; и, насколько мне известно, она так и вела себя.
Его одутловатое лицо нахмурилось еще больше. Было совершенно очевидно, что тема разговора ему неприятна и огорчительна.
– Но ему и не требовалось, чтобы жена вовлекала его в чрезмерно эмоциональные отношения или постоянно дарила его своей компанией.
Он не сводил взгляд с Питта. Тот сидел не шевелясь.
– Как и в большинстве браков, которые получились в высшей степени удачными с социальной точки зрения, а супруги не стали неприятными друг другу за много лет совместной жизни, в их союзе не было ни страсти, ни чувства собственничества и ревности. Если бы она вела себя без должной скромности, он бы на нее рассердился; если бы она бросила открытый вызов условностям и приобрела скандальную репутацию, он бы отослал ее прочь, в деревню; а в крайнем случае, если бы она проявила неподатливость и упрямство, то в качестве последней меры, оправдывающей такой чрезвычайный выход из положения, он бы с ней развелся, хотя, конечно, попытался бы изо всех сил избежать такой неприятности. – Ливси пожал плотными, массивными плечами. – Но этого не случилось. Если бы он просто был осведомлен, – он презрительно усмехнулся, – что его жена дарит свою благосклонность другому, то сделал бы вид, что ничего не замечает. И до такой степени постарался бы делать вид, что ничего не происходит, что это знание переселилось бы на самую периферию его сознания. Такое положение вещей нередко возникает между людьми, особенно теми, кто уже довольно давно женат и несколько, – он остановился в поисках точного слова, – наскучил своему спутнику.
– Тогда значит, сэр, вы не считаете возможным, что он мог впасть в отчаяние, узнав о связи миссис Стаффорд с мистером Прайсом?
– Это просто невероятно, – откровенно ответил Ливси.
– Но если он действительно… не был этим уязвлен, – настаивал Питт, – тогда зачем миссис Стаффорд нужно было прибегать к такому крайнему средству, как убийство мужа?
На лице Ливси, подобно молнии, промелькнуло выражение горькой иронии.
– Очевидно, ее страсть к мистеру Прайсу безрассудна и не может быть удовлетворена одной лишь тайной любовной связью. После смерти Стаффорда она стала вдовой со значительными средствами и может выйти замуж за Прайса. Полагаю, вы в самом деле встречали немалое число случаев, когда отношения начинаются с безумной страсти, а кончаются грязью и преступлением? К сожалению, я встречался с подобными историями гораздо чаще, чем желал бы; с проявлениями несколько вульгарной и всегда глубоко трагичной страсти. Это присуще, к сожалению, всем временам, такое встречается во всех сословиях и классах.
С этим Питт спорить не мог.
– Да, – нехотя согласился он, – и я с этим встречался.
– Возможно, Прайс уже утратил до некоторой степени первоначальный пыл, – продолжал Ливси, – и она боялась, что он увлечется более молодой женщиной. Кто знает… – Ливси наморщил лоб. – Дело темное и абсолютно трагическое. Если бедняга Стаффорд остался бы жив, я отмел бы это предположение как совершенно невозможное. Но он мертв, и мы должны смотреть действительности прямо в глаза. Сожалею, что больше ничем не могу быть вам полезен и рассказать что-либо менее потрясающее.
– Вы мне очень помогли, сэр. – Питт встал. – Я постараюсь вникнуть в самую суть этой печальной истории и разузнать все, что можно.
– Не завидую вам. – Судья потянулся к звонку, чтобы вызвать клерка. – Вы, кстати, можете начать с моей жены, которая одновременно и наблюдательна, и не болтлива. Она хорошо знакома с Джунипер Стаффорд, но вам скажет правду, без всяких сплетен и домыслов, чтобы не повредить еще больше ее репутации, в чем нет необходимости.
– Благодарю, сэр, – искренне поблагодарил Томас. – Это было бы исключительно полезно для начала расследования.
Питт принял совет и предложение Ливси. Сразу после ленча он затянул потуже галстук, оправил сюртук, рассовал несколько мелких вещиц по карманам равномерно, чтобы они не так сильно выпирали, поспешно смахнул пыль с сапог прямо на задки брюк и пригладил пальцами волосы, только еще больше их взлохматив. На этот раз он не нанял кеб, а воспользовался омнибусом и, сойдя на донельзя респектабельной Итон-сквер, предстал перед входной дверью особняка номер пять. На звонок появился щеголеватый ливрейный лакей, высокий и стройный, с великолепными икрами, на которых красовались шелковые чулки.
– Да, сэр? – спросил он с той точной долей высокомерия, которая балансировала на грани оскорбительности. Он служил в очень респектабельном доме и хотел, чтобы посетители отдавали себе в этом отчет.
– Добрый день, – ответил Питт с улыбкой, хотя ему совсем не хотелось улыбаться, но он находил известное удовлетворение в том, чтобы позлить лакея. Обычно лакеям не улыбаются. Он улыбнулся еще шире, продемонстрировав все зубы. – Меня зовут Томас Питт, – он достал визитную карточку и положил ее на протянутый серебряный поднос. – Судья Ливси был так любезен, что предложил узнать, не сможет ли миссис Ливси сообщить мне кое-какую информацию по делу, требующему восстановления справедливости. Не будете ли вы настолько добры узнать, может ли она сейчас принять меня для этой цели?
Лакейское чувство собственного достоинства было сильно потрясено. Кто, черт возьми, этот наглый человек, который стоит на ступеньках, улыбаясь от уха до уха, на что он не имеет совершенно никакого права? Может ли быть, что действительно его прислал судья? Он бы его быстро наладил обратно, а вдобавок приложил парочку отборных выражений. Да, общество определенно катится вниз, и все ценности идут ко всем чертям.
– Да, сэр, – ответил он кисло, – я, конечно, спрошу, но не смогу сказать, какой будет ответ.
– Ну разумеется, – согласился Питт, – во всяком случае, не будете знать до тех пор, пока не спросите.
Лакей фыркнул, повернулся на каблуках и исчез, оставив Томаса у порога. В дальнем конце холла стоял с несчастным видом мальчик для чистки обуви и смотрел, чтобы Питт не кинулся в дом и не покусился на ценные предметы или трости в стойке.
Через несколько мгновений вновь появился лакей, поставил поднос на столик, и, не скрывая неудовольствия, приблизился к Питту.
– Миссис Ливси дома и примет вас, если вы последуете за мной. – И протянул руку, чтобы взять у инспектора шляпу и пальто.
– Благодарю, – и Томас подал ему свои вещи.
Он не слишком удивился. Любопытство нередко оказывается сильнее, чем светские условности; особенно это относится к женам, занимающим в обществе определенное положение, у которых мало занятий по дому и еще меньше интересов и которые постоянно ищут, чем можно было бы занять время.
Дом был солидный, старомодный и чрезвычайно удобный. Питта провели в большую комнату, хотя на первый взгляд большой она не казалась. На одной стене в ряд были расположены окна. Другую стену словно подпирал высокий камин с огромной полкой. По обе стороны камина возвышались до самого потолка книжные шкафы. Обитым темной тканью мягким креслам соответствовали прекрасные стулья с прямыми и узкими резными спинками, напоминающими по форме стрельчатые церковные окна. Везде были прекрасные вещи, гобелены, цветы в горшках; но самой интересной деталью обстановки была люстра, спускавшаяся с центра потолка. Она была приспособлена и под электрический свет, и под газовый; газовые рожки смотрели вверх, а электрические лампочки – вниз. Такое Питт видел только второй раз в жизни.
Мэрайя Ливси была красивой женщиной с седыми волосами, изящной волной откинутыми со лба, с очень правильными и приятными чертами лица. Но, глядя на нее, Томас подумал, что сейчас, наверное, она выглядит лучше, чем в молодости, когда ее внешность была вполне заурядной. Однако годы удобной, состоятельной жизни и прочное положение подарили ей свободу обращения, а дорогие туалеты утонченного вкуса – индивидуальность и своеобразие. Она оглядела Питта с едва скрытым любопытством.
– Да, мистер Питт? Мой лакей доложил, что муж посоветовал вам обратиться ко мне за какой-то информацией. Это верно?
– Да, мэм, – ответил Питт, стоя очень прямо, но отнюдь не вытянувшись в струнку. – Когда я сегодня уходил от него, он предложил, чтобы я начал свое расследование с визита к вам. Это очень деликатное дело, которое связано с возможной утратой репутации одной дамой, и, вероятно, совершенно неоправданно. Он сказал, что вы, с одной стороны, будете откровенны, а с другой – сохраните наш разговор в тайне.
Ее глаза заблестели от предвкушения, щеки слегка окрасились румянцем.
– В самом деле? Как он добр. Я постараюсь оправдать его надежды и лестное мнение обо мне. Так что же вы хотели бы узнать, мистер Питт? Я понятия не имею, что бы это могло быть.
– Я занимаюсь расследованием обстоятельств смерти судьи Стаффорда.
– Боже мой, – ее лицо омрачилось. – Ужасное событие, совершенно ужасное. Пожалуйста, садитесь, мистер Питт. Это дело нельзя обсудить за несколько минут. Хотя я не могу представить, какую помощь в данном случае могу вам оказать. Мне об этом неизвестно ровным счетом ничего.
– Вы просто не знаете, чем можете быть полезны, иначе сами уже давно бы нас известили, – возразил Томас, сидя в большом кресле напротив нее, – но вы были знакомы и с ним, и с миссис Стаффорд и принадлежите к одному и тому же кругу общества.
На ее лице изобразилось изумление.
– Но вы, конечно же, не предполагаете, что его убил кто-то из светских знакомых? Это абсурд! Вы, наверное, что-то не поняли в словах мужа, мистер Питт. Только этим я и могу объяснить ваш вопрос.
– Опасаюсь, что понял его очень хорошо. – Томас покачал головой и печально улыбнулся. – Он выразился совершенно ясно. Вы позволите задать вам несколько вопросов?
– Конечно, – удивленно ответила она.
– Мистер и миссис Стаффорд были женаты уже довольно давно?
– О да, по крайней мере лет двадцать, а может быть, и дольше. – Ее удивление все возрастало.
– Как бы вы описали их взаимоотношения?
Ее непонимание и смущение усилились.
– Ну, как любезные и доброжелательные, я бы так сказала. Между ними никогда, разумеется, не возникало никакой враждебности, насколько мне известно. Если вы думаете о ссоре между ними, то я должна сказать, что в это очень трудно поверить, если это вообще возможно. – И покачала головой, как бы в подтверждение сказанного.
– Почему вы так думаете, миссис Ливси? – настаивал Питт.
– Ну…
Она сосредоточенно смотрела на гостя. Глаза у нее были не голубые и не серые, весьма проницательные, хотя она не казалась инспектору особенно умной женщиной. Однако она хорошо понимала людей своего круга и обладала превосходным знанием того, как им подобает себя вести.
– Да? Я был бы очень вам признателен за откровенность, мэм.
Миссис Ливси колебалась еще мгновение – наверное, подумал Питт, взвешивает слова, решая, отвечать на его вопросы или нет.
– Это были не настолько эмоциональные отношения, чтобы ссориться, – сказала она, подумав. Да, подумал Питт, она действительно тщательно выбирает слова. – Они уже давно перешли к той стадии отношений, которая устраивала обоих, – когда уважение и привычка заменяют острый интерес к жизни партнера и участие в ней. Джунипер всегда вела себя скромно и исполняла свои светские обязанности. Она прекрасная хозяйка, красива, хорошо одевается и обладает утонченными манерами.
При этих словах какая-то искорка промелькнула в глазах миссис Ливси, и она слегка поджала губы. И Питт вдруг понял, что она заставляет себя говорить то, с чем в душ е́соглашается неохотно.
– Насколько мне известно, Сэмюэл Стаффорд относился к порядочным и почетным людям, ему не свойственны были излишества – ни в личном, ни в финансовом отношении. – Выражение ее лица смягчилось. – Он всегда вполне обеспечивал потребности жены. И если у него… и если… в его жизни были другие женщины… он скрывал это настолько тщательно, что мне об этом ничего не известно.
И миссис Ливси внимательно взглянула на Питта в ожидании ответа.
– Да, действительно, о нем все хорошо отзываются, – подтвердил Томас. – А что вы можете сказать о миссис Стаффорд? Были у нее какие-нибудь отношения на стороне?
– О… полагаю, вы имеете в виду мистера Прайса? – Мэрайя покраснела, но нельзя было понять отчего – то ли от смущения, то ли от сознания вины, что упомянула о нем.
– А что, были и другие?
– Нет, нет, конечно, нет! – Ее румянец стал гуще.
– А когда она познакомилась с мистером Прайсом, не помните?
Миссис Ливси вздохнула и перевела взгляд на окно.
– Думаю, это было несколько лет назад, но знакомство было поверхностным, насколько мне известно. Однако они познакомились ближе, гораздо ближе в последние год-полтора.
Миссис Ливси внезапно осеклась, не зная, надо ли продолжать. Она вдруг поняла, что говорит неподобающе горячо, и каким-то образом выдала себя. И это было действительно так. Женщина взглянула на Питта. Между ее бровями залегла глубокая складка. Мэрайя ждала, что он скажет в ответ.
– Миссис Ливси, каковы чувства миссис Стаффорд к мистеру Прайсу, по вашему мнению? – спросил он очень серьезно. – Пожалуйста, будьте со мной честны. Я никому не передам ваши слова. Информация нужна мне только для установления истины. В интересах справедливости я обязан знать все.
Миссис Ливси закусила губу, с минуту обдумывая сказанное, прежде чем отвечать. А потом произнесла быстро и сурово:
– Джунипер была без ума от него. Она прилагала все усилия, чтобы об этом не узнали, но для того, кто знает ее так же хорошо, как я, это было совершенно очевидно.
– Почему?
– Это проявилось в порывистости ее манер и в том, как она стала одеваться и чем интересоваться. – Миссис Ливси внезапно рассмеялась, словно уже не контролировала свои чувства. – И чем перестала интересоваться. Ее больше не занимали сплетни и те мелочи, которые волновали еще год назад; теперь она на это не обращала никакого внимания. Джунипер стала вести себя так, словно была гораздо моложе своего возраста. – Румянец на щеках миссис Ливси стал еще гуще. – Когда женщина влюблена, мистер Питт, другие женщины это видят. Признаки не так уж незаметны и совершенно безошибочно распознаются.
Томасу стало неловко, он сам не знал почему.
– А мистер Прайс, по-вашему, отвечал ей взаимностью? – Мысленно он взял на заметку: спросить у Шарлотты, действительно ли женщины замечают подобные признаки у других женщин.
– Не могу сказать точно, почему так думаю, но я в этом уверена и могла бы заявить об этом со всей определенностью. – В голосе ее опять зазвучала нотка раздражения. – Его любезность по отношению к ней носит сугубо личный характер, а взгляд, которым он смотрит на нее, не позволяет сомневаться в его чувствах. Каждая женщина желала бы, чтобы мужчина посмотрел на нее таким взглядом хоть раз в жизни. – Миссис Ливси едва заметно улыбнулась. – Это дороже всех алмазов и благовоний мира, это пьянит рассудок больше, чем шампанское. Да, мистер Питт, мистер Прайс со временем стал отвечать ей взаимностью.
– Со временем? – Томас пытливо разглядывал лицо миссис Ливси и, прежде чем она успела изменить выражение лица, заметил на нем уязвленность и гнев. – Правильно ли я вас понял, что она возымела к нему чувство прежде, чем он к ней?
Миссис Ливси не отвела глаз.
– Если вы хотите узнать, преследовала ли она его, то – да, мистер Питт, к сожалению, это так. Особенно в один из уик-эндов, когда мы все гостили в загородном доме Стаффордов. Я не могла бы в этом ошибиться.
– Понимаю. – Питт сменил позу. – Миссис Ливси, не можете ли вы сказать, что мужчина и женщина, оказавшись в таком положении, могли бы предпринять, каковы их возможности и чем они должны расплатиться, если не сумеют соблюсти свои отношения в тайне?
– Ну разумеется. Их возможности, если бы они хотели остаться принятыми в обществе, были бы очень ограниченными, – решительно отвечала Мэрайя, – или же им надлежало быть совершенно безупречными в моральном отношении и видеться только тогда, когда возникает светская необходимость, и только в присутствии других, равных по положению людей… – Плечи ее напряглись. – Люди скоры на злые суждения и поступки, знаете ли. Нельзя пренебрегать светскими условностями и оставаться невредимым. – Она все еще внимательно наблюдала за Питтом, пытаясь понять, что он думает обо всем сказанном. – Или же они отдаются своим страстям, но делают это в домах общих друзей, во время загородных поездок в своих поместьях и тому подобное, но с соблюдением строжайшей тайны, чтобы никто ничего не заподозрил.
– И это все их возможности?
– Все. – Она нахмурилась. – Какие же могут быть еще?
– Ну, например, брак…
– Но Джунипер Стаффорд была замужем, мистер Питт!
– Ну а развод?
– Немыслимо. О, – и ее лицо вдруг стало холодно и угрюмо, – неужели вы воображаете, что Джунипер или мистер Прайс сознательно могли пойти на то, чтобы отравить мистера Стаффорда?
– А вы не находите это возможным?
Несколько мгновений миссис Ливси обдумывала ответ, а затем очень тихо сказала – теперь вся ее одержимость светскими условностями и мелкая ревность исчезли:
– Да… да, это возможно, я…
Питт ждал.
– Мне очень неприятно говорить об этом, – неловко заключила Мэрайя, и вид у нее был такой, словно отвечать ей очень стыдно и неприятно. – Джунипер безрассудна в… своих чувствах.
– А как вы думаете, мистер Стаффорд знал об их отношениях?
Миссис Ливси выпятила губы.
– Сомневаюсь. Мужчины не замечают таких вещей, как правило, если они не склонны к ревности, а это вовсе не было в характере мистера Стаффорда. Полагаю, – и она глянула на Питта, понимает ли он, что она хочет сказать, – он не следил за нею, но, может быть, знал, где она бывает и с кем. Перемены в характере и поведении жены замечают не все мужчины, разве только они очень влюблены. Если бы мистер и миссис Стаффорд были молодоженами, тогда возможно… – Голос у нее замер.
– Вы предполагаете, что и другие женщины из ее окружения могли что-нибудь заметить?
– Несомненно, – ответила она с грустной улыбкой, – Адольфус Прайс в высшей степени привлекательный неженатый мужчина. Он находится в центре внимания многих дам. Все, что бы он ни сделал, было бы замечено и обсуждено. За ним следило немалое количество женских глаз.
– Значит, миссис Стаффорд не вызвала бы у них одобрения, – заметил Питт с юмором и сочувствием.
– Вряд ли, – горячо согласилась миссис Ливси и вдруг, опять осознав свою горячность, рассыпалась в объяснениях: – Понимаете, вокруг не так много неженатых джентльменов. И если одна женщина располагает сразу двумя мужчинами, это просто вызов справедливости.
Питт взглянул на ее широкую фигуру и стареющее лицо и мысленно полюбопытствовал, сколько раз она сама думала об Адольфусе Прайсе и ему подобных. И насколько ей неприятно, что Джунипер наслаждалась страстными чувствами и возбуждала их в Прайсе…
– А вы никогда не говорили мистеру Стаффорду ничего такого, что просветило бы его относительно чувств жены к мистеру Прайсу? – спросил он вслух. – Случайно или из симпатии к нему, может быть?
В глазах ее вспыхнул гнев, который она с усилием пригасила.
– Я ничего не сообщала ему, – ответила она решительно. – Я почитаю за лучшее воздерживаться от вмешательства в дела других людей. Это никогда не идет на пользу.
– Да, полагаю, это так, – согласился Томас.
Очевидно, он узнал от нее все, что она могла сказать. Связь длилась год-полтора, и они старались сохранить ее в тайне, но тем не менее об их отношениях знали и другие женщины. И очень возможно, что чей-то досужий язык разболтал об этом судье Стаффорду. Однако даже если и так, предпринимать решительные действия или очень огорчаться было ему несвойственно. Итак, новая информация снова и снова возвращала Питта к мысли, что в смерти Стаффорда повинны Джунипер, или Прайс, или, возможно, они вместе.
– Благодарю вас, миссис Ливси, – сказал он вежливо, заставив себя улыбнуться. – Вы мне очень помогли. Надеюсь, вы и этот разговор сохраните в тайне, как поступали до сих пор. Было бы очень жестоко чернить репутацию миссис Стаффорд или доброе имя Адольфуса Прайса, если вдруг окажется, что они совершенно не причастны к смерти судьи. Есть много других путей, поводов и возможностей для совершения убийства. Это только одна из возможностей, которые, к моему сожалению, я по долгу службы обязан обсудить.
– Разумеется, – ответила она поспешно, – я очень хорошо понимаю вас и уверяю, что отнесусь ко всему с величайшей конфиденциальностью.
Питт надеялся, что Мэрайя так и поступит, что она действительно так умна, как считает ее муж; но, вставая и откланиваясь, он все-таки не совсем был в этом уверен. В этой женщине чувствовалась какая-то обделенность; она стремилась к тому, что было ей недоступно, но чего она так жаждала. И Томас теперь знал, что миссис Ливси не любит Джунипер Стаффорд. Кроме того, возникал вопрос: насколько ее суждения о Сэмюэле Стаффорде соответствовали пониманию характера и поведения собственного мужа?
Следующий человек, с которым инспектор искал встречи, был судья Грэнвилл Освин, один из пяти членов Апелляционного суда, которые рассматривали апелляцию по делу Аарона Годмена. Его мнение позволило бы пролить дальнейший свет на эту загадку, а как коллега Сэмюэла Стаффорда, он мог что-нибудь знать о его личной жизни. Питту было необходимо установить, знал ли судья Стаффорд о безумной любви Джунипер и относился ли он к этому с большей заинтересованностью, чем полагали Ливси и его жена. Возможно, это напрасная попытка, но Томас должен это выяснить.
Однако когда Питт приехал на Керзон-стрит в дом судьи Освина, горничная, отворившая дверь, объявила, что судья отправился в деловую поездку и его ждут дома только на следующей неделе, а миссис Освин поехала к знакомым, но так как она сегодня приглашена на обед, то обязательно вскоре заедет домой, и если мистер Питт соблаговолит подождать, он может пройти в утреннюю комнату.
Питт соблаговолил, и очень охотно. У него не было сейчас более важного дела, и поэтому он с удовольствием провел сорок пять минут в комфортабельной утренней комнате наедине со свежезаваренным чаем, который подала горничная, а потом она снова появилась, чтобы проводить инспектора в серо-золотую гостиную, где его с живым интересом ожидала миссис Освин. Это была увядшая женщина с еще прекрасными каштановыми волосами, полная, когда-то с хорошеньким, а теперь добродушным лицом, так как характер этой леди с годами становился все мягче.
– Моя горничная доложила, что вы занимаетесь расследованием причин смерти судьи Стаффорда? – спросила она, удивленно подняв брови. – Не представляю, каким образом могу быть вам полезной, но очень охотно попытаюсь это сделать. Пожалуйста, садитесь, мистер Питт. О чем бы я могла вам рассказать, по вашему мнению? Конечно, я была с ним знакома. Мой муж много раз заседал веместе с ним в Апелляционном суде, так что мы встречалась в обществе и с мистером Стаффордом, и с его бедняжкой женой.
Взглянув на нее повнимательнее, Питт подумал, что, пожалуй, она ощущает гораздо большее сочувствие к недавно овдовевшей женщине, чем выразила словами.
– Вы глубоко ей сочувствуете? – спросил он, перехватив ее взгляд.
Она не сразу ответила, возможно прикидывая про себя, много ли ему известно. И наконец решилась.
– Да, разумеется. Вина – это самое болезненное чувство, особенно когда уже ничего нельзя исправить.
Томас был поражен – не только самой мыслью, высказанной ею, но и ее чрезвычайной откровенностью.
– Вы полагаете, что миссис Стаффорд до некоторой степени ответственна за его смерть? – Он старался говорить сдержанно.
Миссис Освин не только удивилась, но даже казалась несколько ошеломленной.
– О небо, нет, конечно! Никоим образом! Я должна попросить извинения, если подала вам подобную мысль. Джунипер была безумно увлечена Адольфусом, а он – ею, но она ни в малейшей степени не повинна в смерти Сэмюэла. Что заставило вас подумать о столь ужасной вещи?
– Но кто-то же несет ответственность за эту смерть, миссис Освин.
– Конечно, – согласилась она, сложив руки на коленях, – и нельзя сделать вид, что убийства не было, как бы этого ни хотелось. Но это не бедная Джунипер, она никогда не смогла бы совершить столь ужасного поступка. Нет, нет, ни за что! Она виновата в том, что была неверна мужу, в том, что испытывала незаконную страсть, похоть; если угодно – в том, что поддалась ей, не совладала с ней. Это и так достаточная вина с ее стороны.
– А мистер Стаффорд знал об этой ее слабости?
– Думаю, он прекрасно знал о том, что происходит. – Миссис Освин пристально посмотрела на Питта. – В конце концов, нельзя быть совершенно слепым в таких случаях, даже если временами кто-то предпочитает ничего не видеть ради собственного спокойствия и удобства. Мистер Стаффорд предпочитал не слишком приглядываться. Ничего хорошего не вышло бы, веди он себя иначе. Он предпочитал не видеть того, чего лучше было бы совсем не знать, и ждал, когда это кончится; легче простить и забыть, если с самого начала не знать подробностей. Сэмюэл был мудрым человеком, – она слегка покачала головой. – А теперь бедняжка Джунипер уже никогда не получит прощения, и когда ее любовь умрет – а я смею думать, что такие страсти обычно недолговечны, – тогда у нее не останется ничего, кроме сознания вины. И все это очень печально. Я говорила ей об этом, предупреждала, но когда человек так безумно влюблен или так жаждет любви, он ничего не способен слышать.
Питт удивился. Лицо у миссис Освин было наивное, почти невинное, но тем не менее она рассуждала о насильственной смерти и о прелюбодеянии. Так мог бы говорить ребенок, который слышал о чем-то, но не понимает значения вещей, о которых говорит. Однако ее понимание человеческого характера удивило Томаса, как и ее способность сочувствовать.
– Да, – сказал он медленно и тихо, – да, она будет испытывать горе, от которого трудно оправиться, потому что с ним связано чувство вины. Если только…
– Нет, – решительно прервала она его, – не верю, что она убийца. И не верю также, что убийцей может быть мистер Прайс. Он человек не очень рассудительный, он был без ума от страсти и поступил бесчестно из-за любви к этой женщине, а значит, он слаб. Но он никогда не опустился бы так низко, чтобы убить своего друга, даже из-за страстной любви. – Она глядела на инспектора серьезно и печально. – Нет, я ни на минуту в это не поверю. Он глуп, как многие мужчины, но вина Джунипер значительно больше. Женщина почти всегда в состоянии отвергнуть – и весьма изящно – домогательства со стороны мужчины и дать ему понять, что он ей нисколько не интересен. Однако она поступила прямо наоборот. И они оба за это поплатятся, попомните мои слова.
Питт не спорил. По тому, что он успел заметить, она вполне могла быть права.
– Вы не думаете, что они поженятся, миссис Освин, теперь, когда оба стали свободны?
– Возможно, мистер Питт, однако они не смогут быть счастливы. Смерть бедняги Сэмюэла все омрачила. Но в отношении убийства – нет, вы должны поискать убийцу где-нибудь еще.
– Возможно.
– Вам это придется сделать, – заявила миссис Освин с абсолютной уверенностью в своей правоте. – Полагаю, вы уже занялись тем несчастным делом, связанным с Фэрриерс-лейн? Да, естественно. Не удивлюсь, если окажется, что убийство Сэмюэла как-то с ним связано. Вы знаете, что он никак не мог оставить то дело в покое? Он не однажды приходил к нам поговорить о нем с моим мужем. Грэнвилл пытался убедить его отказаться от попыток возобновить слушания, потому что больше ничего нового тут не найти и ничего хорошего из подобной затеи не выйдет. Но переубедить Сэмюэла было невозможно.
Питт выпрямился.
– Вы хотите сказать, что судья Стаффорд собирался пересматривать дело? Вы уверены?
– Подождите, – она развела руками, – разве я сказала, что уверена в этом? Мне просто известно, что он обсуждал такую возможность с моим мужем и они несколько раз спорили на этот счет. Не знаю, удалось ли Грэнвиллу в конце концов убедить Сэмюэла в тщетности его намерений или же тот все-таки собрался этим заняться.
– Судья Освин не верил, что можно узнать что-нибудь новое? Что была допущена какая-то судебная ошибка? – настаивал Питт.
– О нет, совсем нет, – убежденно отвергла она это предположение. – Хотя он тоже не чувствовал удовлетворения от того, как закончилось дело; он всегда полагал, что оно велось слишком поспешно, в чрезвычайно неприглядной, возбужденной обстановке. Но это не отменяло справедливости вынесенного приговора, и об этом он говорил Сэмюэлу.
– А вы не знаете, почему судья Стаффорд так упрямо занимался тем давним делом? – Питт напряженно вглядывался в лицо миссис Освин. – Вы не знаете, может быть, он нашел что-то новое, какую-нибудь ранее неизвестную улику?
– Господи помилуй, ну конечно нет! Хотя мой муж никогда не обсуждает со мной подобные вещи. Это неуместно, понимаете? Нет, он совсем ничего не говорил об этом, – и она затрясла головой, начисто отвергая его предположение. – Нет, боюсь, ничего не могу сказать, о чем конкретно они спорили, – только то, что это имело отношение к Фэрриерс-лейн и что разговаривали они на повышенных тонах.
Питт был обескуражен. Он уже сбросил со счетов убийство на Фэрриерс-лейн, а теперь оказалось, что рано с ним прощаться. Но, возможно, эта женщина утратила чувство реальности и не способна поверить в то, что близкие знакомые, друзья могут быть повинны в злодействе, а не только в обычных грехах прелюбодеяния и обмана? Томас взглянул на нее пристальнее и встретил мягкий немигающий взгляд, такой зоркий, когда дело касается ее собственного мирка, и такой слепой по отношению к тому, что существует за его пределами.
– Очень вам благодарен, миссис Освин, – почтительно сказал Питт. – Вы очень помогли, щедро уделив мне свое драгоценное время.
– Вовсе нет, мистер Питт, – ответила она приветливо. – Надеюсь, вам будет сопутствовать удача в вашем поиске. А он, наверное, очень трудный.
– Иногда бывает именно так, – ответил Томас, встал и распрощался.
Питт сразу же отправился к Мике Драммонду, но того в присутствии не было, и ждали его только на следующее утро. Так что и Томасу пришлось отложить важный разговор на завтра.
Следующий день выдался холодный, воздух был тяжел и влажен, и сырость пробирала до костей. Питт же надел только шерстяной сюртук и поэтому рад был очутиться в теплом кабинете шефа, где в камине ярко горел огонь.
Драммонд стоял перед камином, грея ноги. Он сам, наверное, пришел совсем недавно. Его тонкое худое лицо было мрачно; он смотрел на Томаса выжидательно, однако без особого интереса.
– Доброе утро, Питт, – невесело произнес шеф. – Есть новости?
Инспектор решил, что важнее будет не то, о чем сказать, а то, как об этом сказать.
– Нет, сэр. Я продолжаю расследовать отношения миссис Стаффорд и мистера Прайса; я хочу знать о них все, но еще не нашел ничего такого, что могло бы быть серьезным поводом для убийства мистера Стаффорда.
– Любовь, – резко ответил Драммонд. – Незачем далеко ходить. Или, если называть вещи своими именами, любовное исступление. Ради бога, умоляю, Питт, из-за похоти совершалось больше преступлений, чем из-за чего-либо еще, за исключением, может быть, денег. Неужели вы этого не понимаете?
– Общество полно интрижками и похотью, – ответил Питт, твердо решивший не уступать. – Но очень немногие подобные связи заканчиваются убийством, а те, что заканчиваются так, имеют поводом скорее обман, внезапность обнаружения, и тогда обидчиков убивают в порыве гнева и оскорбленного достоинства.
– Ну почему вы все время спорите? – поморщился Драммонд. – Ну конечно, часто бывает и так. Но ведь иногда двое влюбленных убивают мужа, если тот стоит на их пути. Почему же вы не верите, что и здесь могло случиться такое? – Он отодвинулся от огня, словно ему стало чересчур жарко, сел в одно из кресел и взмахом руки пригласил Томаса занять другое.
– Так могло случиться, – сказал ворчливо инспектор, – но это выглядит… истерическим поступком. И Стаффорд совсем не стоял на их пути. Он почти спокойно относился к этой связи.
– Так он знал о ней? – резко выдохнул Драммонд. – Вы в этом уверены?
Питт перевел дыхание. Ему бы хотелось сказать – «конечно», но если он ответит утвердительно, не будучи совершенно уверен в том, о чем говорит, ему позднее придется взять свои слова обратно, и Драммонд засомневается, а не склонен ли Питт вообще к преувеличениям.
– Жена Ливси сказала, что это его не интересовало, а супруга судьи Освина утверждала, что он наверняка знал обо всем в общих чертах, предпочитая не вникать в подробности. Пока Джунипер Стаффорд держала все в тайне и своим поведением не смущала общество, он был готов терпеть подобную ситуацию. И уж, конечно, не пылал ревностью. Миссис Освин это особенно подчеркивала.
Питт хотел добавить, что Стаффорду было почти за шестьдесят, но вспомнил, что и Драммонду больше пятидесяти и такое замечание было бы бестактным.
– Да? – спросил шеф, почувствовав, что его подчиненный о чем-то умолчал.
– Ничего, – Томас пожал плечами, – просто Стаффорд не был ревнивой, страстной натурой. Между супругами установились цивилизованные отношения, доброжелательные, но не близкие и рутинные. Как бы то ни было, сам Стаффорд не стал бы убивать ни жену, ни ее любовника, хотя был страдающей стороной. Но им и не было необходимости убивать его – он не представлял опасности для их связи.
– Но, может быть, они хотели пожениться? – парировал Драммонд. – Может быть, тайной связи было для них недостаточно? Может быть, любовь украдкой, как только удавалось улучить момент, была для них совершенно неудовлетворительной? Вас бы устроили такие отношения, Питт, если бы вы очень любили женщину?
Томас попытался представить себя в подобной ситуации. Нет, обман ему претил, он страдал бы от постоянного сознания, что после краткой встречи они с любимой женщиной должны расстаться, от неуверенности в будущем и необходимости лгать.
– Нет, – признался он, – мне все время хотелось бы большего.
– И, верно, вам не нравилось бы существование мужа?
– Да, – Питту пришлось признать и это.
– Тогда вы можете понять, почему влюбленный мужчина – такой, как Адольфус Прайс, – может постепенно прийти к мысли об убийстве. – При этих словах Драммонд презрительно скривился. – Обнаружить такое просто ужасно; я это понимаю и совсем не удивлен, что вы ищете другое объяснение случившемуся, но вы не можете и не должны закрывать глаза на правду и свой долг по отношению к делу. Это на вас не похоже.
Питт открыл было рот, чтобы возразить, но передумал. Шеф поднялся и подошел к окну. Он посмотрел вниз на улицу, на дребезжащие повозки, на зеленщика, орущего на мальчика с тачкой, застрявшего у него на пути. Шел упорный нескончаемый дождь.
– Я понимаю, что вы уже устаете от этого дела, – продолжал он, стоя спиной к Питту. – Я сам устал. Не уверен, сколько вообще я здесь выдержу. Возможно, такая работа требует более острого ума, более глубокого знания природы преступлений – в практическом смысле слова, – чем есть у меня. Вы уже как-то сказали, что предпочитаете работу детектива командованию другими людьми, но ведь в серьезных случаях вы могли бы совмещать одно с другим…
На этом месте Драммонд оборвал свою речь. Питт уставился на него, лихорадочно осмысливая сказанное и теряясь в догадках, что имеет в виду шеф: жалоба ли это уставшего человека, которому не по себе от промозглости сумрачного дня и от того, что данное дело действует на него угнетающе? Или он действительно думает об отставке, чтобы заняться чем-нибудь еще – и наконец вырваться из щупалец «Узкого круга», стать недосягаемым для его настойчивых притязаний? А может, это и вправду имеет отношение к Элинор Байэм… Если Драммонд женится на ней, то после скандала, который обязательно произойдет, он больше не сможет занимать то социальное положение, какое занимает сейчас, и работать по своей профессии. Питт чуял в шефе борьбу сильных и противоречивых чувств. Ему было жаль Драммонда. Но при этом сам он удивился, как сильно желает занять его место. Пульс Томаса участился, он почувствовал сильный прилив энергии.
– Ну, я не могу в данном положении делать какие-нибудь окончательные выводы, – ответил инспектор, тщательно подбирая слова.
Он не должен сейчас выдать собственные чувства. Сделав над собой некоторое усилие, чтобы голос звучал ровно, Питт продолжал:
– Я снова займусь делом Стаффорда. Благодарю за совет. – И прежде, чем Драммонд что-либо ответил, извинился и вышел.
Несмотря на то что он почти согласился с Драммондом относительно Адольфуса Прайса, Питт все же решил повидать и других членов Апелляционного суда, решивших судьбу Аарона Годмена после убийства на Фэрриерс-лейн. Ливси он уже повидал. Освина не было в Лондоне и еще некоторое время не будет, но несложно найти адрес судьи Эдгара Бутройда – даже если он недавно вышел в отставку.
Все утро Питт потратил на поездки – сначала на поезде, потом на открытой повозке, – прежде чем под порывистым холодным ветром добрался до старого, ветшающего дома в пригороде Гилдфорда. Пожилая домоправительница провела его в обшитую деревянными панелями гостиную, через которую в хорошую погоду можно было пройти на террасу, а потом – на лужайку. Но сейчас сильный ветер кружил мертвые листья над нестриженым газоном, головки увядших хризантем повисли над клумбами, а по вымощенной камнем тропинке бродили голуби, клевавшие кем-то рассыпанные для них хлебные крошки.
Судья Бутройд сидел в большом кресле у окна, спиной к свету, и подслеповато моргал, глядя на Томаса. Это был худой сутулый человек с намечающимся, однако, брюшком, отчего жилет на животе морщил.
– Питт, вы сказали? – переспросил он и закашлялся, едва кончив фразу. – Очень рад бы вам служить, разумеется, но вряд ли могу быть чем-нибудь полезен. Ушел в отставку, знаете ли. Разве вам об этом неизвестно? Больше не имею никакого отношения к судейству. Ничего не знаю о тамошних делах. Занимаюсь только садом и немного почитываю. Ничего больше.
Питт разглядывал его с возрастающим унынием. У комнаты был какой-то нежилой вид. Она была довольно опрятна, но порядок казался таким безжизненным, словно его наводила безразличная рука. На столике поодаль стоял серебряный поднос с тремя графинчиками, почти пустыми; сам поднос был захватан – очевидно, трясущимися руками судьи. Занавеси отодвинуты криво, один шнур отсутствовал. Воздух был несвежий.
– Но это не текущее дело, ваша честь. – Питт прибавил титулование, чтобы оказать этому человеку уважение, которое хотел бы к нему испытывать, но не мог. – Оно проходило лет пять назад.
– Но я ушел в отставку примерно в то время, и моя память в настоящее время не слишком ясна.
Питт сел без приглашения. Оказавшись к Бутройду ближе, он мог отчетливее видеть его лицо. Опухшие глаза бывшего судьи слезились, лицо отекло, но не от возраста, а от усердных возлияний. Бутройд выглядел глубоко несчастным человеком, и его душевная тьма, казалось, омрачала всю комнату.
– Это дело об убийстве на Фэрриерс-лейн, – громко сказал Питт. – Вы были одним из членов Апелляционного суда.
– Ох, – выдохнул Бутройд, – да… да, но я не могу припомнить сейчас, как все было. Отвратительное дело, но ничего спорного. Мы должны были пройти через обязательную процедуру, вот и все. – Он фыркнул. – Мне, собственно, нечего сказать об этом деле.
Он не спросил, почему оно интересует Питта, и это было примечательно.
– Вы помните пункт, на основании которого была подана апелляция, сэр?
– Нет… нет, не помню, сейчас не помню. Я заседал на рассмотрении множества апелляций, знаете ли. Не могу их все упомнить.
Бутройд уставился на Питта хмурым взглядом. Впервые его внимание стало устойчивым, на лбу появилась тревожная складка.
– Это было, наверное, одно из ваших последних дел, – пытался оживить его память Питт, хотя понимал, что шансов на это мало.
Сознание Бутройда было не только затуманено и ослаблено временем и тягостным одиночеством, но также, как подозревал Питт, и приверженностью к горячительным напиткам. У него возникло сильное подозрение, что Бутройд и не хочет ничего помнить. Что случилось с этим человеком? Он ведь был образован и учен, его поведение и манера держаться импонировали окружающим, когда-то он обладал точным и быстрым умом, способностью тщательно взвешивать обстоятельства и улики, он прекрасно знал законодательство и выносил превосходные по точности решения. А теперь у него был такой вид, словно жизнь его больше не интересует, что чувство самоуважения, достоинство, способность беспристрастно судить – все в прошлом. Тем не менее Питт сомневался, что ему больше шестидесяти пяти.
– Да, – ответил Бутройд, и его голова затряслась, – что-то такое у нас было, но я все же ничего не могу вспомнить. Наверное, это касалось какого-то медицинского показания, но больше мне вам нечего сказать. Или это имело какое-то отношение к пальто, или браслету, или еще к чему-то… Не могу припомнить.
– А судья Стаффорд не приезжал к вам недавно, сэр?
– Стаффорд? – Лицо Бутройда словно стекло вниз; в глазах, в водянистой их пустоте, промелькнуло что-то похожее на страх. – А почему вы спрашиваете?
– Дело в том, что его убили, – ответил Питт неожиданно резко; слова вырвались прежде, чем он взвесил их. – Сожалею, извините.
– Убит? – Бутройд опять глубоко вздохнул, что-то в лице его размягчилось, напряжение как будто спало, тень во взгляде исчезла, словно развеялся некий внутренний страх. – Уличное происшествие? Движение в городе становится все опаснее. Сам видел в прошлом месяце, как выскочивший из-за угла экипаж переехал какого-то беднягу. Собаки подрались на улице, и лошади в испуге попятились. Ужасная была неразбериха. И это еще счастье, что погиб только один человек.
– Нет, это не уличное происшествие. Он был убит намеренно.
Питт не сводил с бывшего судьи пристального взгляда. Бутройд судорожно сглотнул и разинул рот. У него перехватило дыхание. Питт почувствовал жалость с легкой примесью отвращения. Нет, он должен попробовать всколыхнуть вялую память Бутройда, сколь мало ни верилось в такую возможность.
– Он приходил к вам повидаться недавно, сэр? Боюсь, мне необходимо это знать.
– Я… э… – Бутройд беспомощно воззрился на Питта; ему очень не хотелось отвечать, хотелось убежать и где-нибудь спрятаться, но выхода не было. – Э… Да-да. Он приходил. Мы коллеги, знаете ли. Было очень любезно с его стороны.
– Он что-нибудь говорил вам относительно дела, связанного с убийством на Фэрриерс-лейн, сэр? – Томас снова пристально вгляделся в лицо судьи и опять заметил страх у него в глазах.
– По-моему, упоминал. Что естественно. Это была последняя апелляция, которую мы рассматривали с ним вместе на заседании суда. Старые воспоминания, понимаете ли… Нет, вы, наверное, не можете этого понимать. Еще слишком молоды. – Его взгляд скользнул в сторону и вниз. – Не хотите ли стаканчик виски?
– Нет, благодарю вас, сэр.
– Не возражаете, если я выпью один?
Судья встал и шаткой походкой направился к столу с тремя графинчиками. Он не был толст и тяжел, как Ливси, но шаги его были медленны, словно ему трудно передвигаться. Бутройд налил себе очень щедрую порцию спиртного из одного графина, наполнив бокал почти до краев, и выпил сразу до половины, стоя у стола, прежде чем отправился обратно к своему креслу. В воздухе разнесся запах спиртного, им было пропитано тяжелое дыхание Бутройда.
– Да, он упоминал о нем, – повторил старик, – но не могу вспомнить, что именно он сказал. Что-то не очень важное, по-моему… А кто его убил? – подняв брови, спросил он, широко раскрыв глаза, в которых мелькнула надежда. – Грабитель?
– Нет, мистер Бутройд, его отравили. И, боюсь, неизвестно кто. Однако я все еще пытаюсь это выяснить. Он не говорил, что снова собирается открыть слушание по убийству на Фэрриерс-лейн? Что нашел доказательство невиновности Аарона Годмена?
– Всеблагой боже, конечно, нет! – вспыхнув, ответил Бутройд. – Какая чепуха! Кто вам мог такое сказать? Неужели кто-то действительно об этом говорил? Кто же? Это же полный абсурд!
Возможно, для дела было бы полезно ответить утвердительно, но смущение и чувство жалости не позволили Томасу так поступить.
– Нет, сэр, никто мне этого не говорил; я просто думал, что это не исключено.
– Нет, – ответил Бутройд, – то был очень краткий визит. Проявление участия с его стороны. Он быстро ушел. Сожалею, что ничем не могу вам помочь, мистер Питт, – и в два глотка он допил виски. – Извините.
Инспектор встал, поблагодарил и выскользнул из сырой, холодной и затхлой комнаты, оставив позади смятение и неприкаянность, которые испытывал ее хозяин.
Судья Морли Сэдлер представлял собой совершенно противоположный тип человека: лицо имел холеное и гладкое, остатки волос на голове и белокурые бакенбарды были едва тронуты сединой. Одет он был в высшей степени модно, в безукоризненно сшитый сюртук, который сидел на нем как влитой. Казалось, он может превосходно владеть любой ситуацией. Сэдлер встретил входящего Питта любезной улыбкой и встал из-за стола, чтобы приветствовать и пожать руку, а затем указал гостю на вместительное кожаное кресло.
– Добрый день, мистер Питт… инспектор Питт, не так ли? Добрый, добрый день. Чем и как могу служить? – Он опять сел за стол в собственное кресло с очень высокой спинкой. – Не люблю быть невежливым, инспектор, но примерно через двадцать минут у меня назначена еще одна встреча, на которой я обязательно должен присутствовать. Долг чести, понимаете ли. Надо стараться делать все как можно лучше во всех случаях жизни. А теперь расскажите, что у вас за дело, по поводу которого вы хотите знать мое мнение.
Итак, Питта предупредили, что времени у него мало, и он приступил к делу безотлагательно.
– Меня интересует апелляция Аарона Годмена, поданная им пять лет назад. Вы помните его дело?
Гладкое лицо Сэдлера стало напряженным. Какой-то крошечный мускул задергался в уголке глаза. Он пристально смотрел на Питта с застывшей на губах улыбкой.
– Ну конечно, помню, инспектор. Самое неприятное дело из всех, которые остались у меня в памяти, – но оно вовремя было улажено, и больше добавить я ничего не могу. – Он взглянул на золотой циферблат часов, стоящих на камине, затем опять на Питта. – Что вас теперь беспокоит, спустя такое долгое время? Это не из-за несчастной Маколи, а? Боюсь, что горе помутило ее рассудок. Она стала просто одержимой. Иногда это случается, особенно с женщинами. Их мозг не может выдержать постоянного напряжения. Потом, она вообще несколько неуравновешенна, истерична по натуре, актриса, одним словом, – чего вы хотите? Это очень печально, но представляет некоторое неудобство для общества.
– Неужели? – сдержанно усомнился Питт.
Он наблюдал за Сэдлером со все возрастающим интересом. То был, несомненно, в высшей степени удачливый человек. Обстановка его кабинета была роскошной, начиная с куполообразного лепного потолка и заканчивая обюссонским ковром на полу. Все поверхности сияли лаком, обивка и занавеси блистали новизной.
Сам Сэдлер тоже выглядел как новенький, пребывал в добром здравии и полном удовлетворении своим общественным положением. Однако упоминание о деле Аарона Годмена было ему неприятно, причем непонятно, только ли по причине неустанных попыток Тамар Маколи добиться пересмотра дела и ее убежденности, что приговор был несправедлив или, по крайней мере, сомнителен. Правда, одного этого было достаточно, чтобы испытывать судейское терпение. Питт чувствовал бы себя очень неловко, если бы кто-нибудь питал такое подозрение по поводу произведенного им следствия.
– Нет, – ответил он вслух; Сэдлер тем временем все больше терял терпение. – Нет, то, чем я занимаюсь, не имеет никакого отношения к мисс Маколи, но связано со смертью судьи Сэмюэла Стаффорда.
– Стаффорда, – заморгал глазами Сэдлер. – Я вас не понимаю.
– Мистер Стаффорд снова обратился к рассмотрению этого дела и в день своей смерти увиделся с главными свидетелями, проходившими по делу.
– Совпадение, – ответил Сэдлер, обеими руками отметая сказанное Томасом. – Уверяю вас, Сэмюэл Стаффорд был слишком уравновешенным и здравомыслящим человеком, чтобы его сбила с толку какая-то упрямая женщина. Он знал, как и все мы, что там больше нечего выяснять. Полиция тогда сделала все возможное. Чрезвычайно мерзкое дело, но превосходно проведенное всеми теми, кто им занимался: полицией, судом и присяжными. И на самом процессе, и в Апелляционном суде. Спросите всех, кто знает о тогдашних событиях, мистер Питт, и все вам скажут то же самое, что и я. – Он широко улыбнулся и взглянул на часы. – А теперь, если это все, что вас интересует, я должен подготовиться к встрече с лорд-канцлером сегодня вечером. Я имею возможность оказать ему маленькую услугу и уверен, что вы не хотели бы лишить меня этой возможности.
Питт продолжал сидеть.
– Конечно, нет, – ответил он, но не пошевелился. – А судья Стаффорд навещал вас за неделю-две до своей смерти?
– Естественно, я встречался с ним! Того требовали наши обязанности, инспектор. Я встречаюсь время от времени со многими людьми – адвокатами, поверенными, другими судьями, дипломатами, членами Палаты лордов и Палаты общин, даже членами королевской семьи и представителями других известнейших фамилий королевства. – Он победно улыбнулся.
– А мистер Стаффорд упоминал в разговоре с вами об этом деле? – упорно гнул свою линию Питт.
– Вы имеете в виду убийство на Фэрриерс-лейн? – Сэдлер удивленно поднял почти бесцветные брови. – Нет, не припомню. Для этого не было никакого повода. Дело было завершено пять лет назад или больше. А почему вы хотите об этом знать, инспектор, если можно спросить?
– Мне интересно, на каких основаниях он собирался пересмотреть дело, – ответил Питт, подхватывая мяч.
Сэдлер побледнел, очертания большого рта стали жесткими.
– Но это все совершенно не так, инспектор. Стаффорд не собирался его пересматривать. Если бы он имел такое намерение, я уверен, он бы рассказал мне об этом, учитывая мое участие в том заседании Апелляционного суда. Вас ввели в заблуждение – и с дурным, зловещим умыслом, должен вам сказать. – Он пристально поглядел на Питта. – Уверяю вас, Стаффорд совершенно не упоминал об этом, даже намеком. А теперь, если вы меня извините, я должен заняться предстоящей встречей с выдающимся человеком, который желает сообщить мне свое мнение по очень деликатному делу.
Он опять широко улыбнулся, но улыбка его была какая-то неподвижная. Затем встал и протянул руку:
– Удачи, инспектор. Извините, что больше не могу быть вам полезен.
Томас покорно позволил проводить себя до приемной, не зная, что еще сказать.
Глава седьмая
В течение нескольких дней Питт продолжал искать доказательства любовной связи между Джунипер Стаффорд и Адольфусом Прайсом, сообщая Шарлотте только краткие и немногочисленные подробности.
Она тоже думала о деле Стаффорда, но гораздо чаще ее мысли обращались к более давнему убийству, на Фэрриерс-лейн, как источнику последующих событий, к проблеме возможной невиновности Аарона Годмена. Но если это так, то кто же тогда убийца? Джошуа Филдинг? Каковы были его отношения с Тамар Маколи? Не он ли отец ее ребенка? Или все же это Кингсли Блейн? Если Джошуа влюблен в Тамар, то у него был повод убить его. Возможно, он заметил ее чувство к Блейну и, понимая, что теряет ее, в порыве яростной ревности убил?
И что на самом деле произошло в театральной костюмерной в тот поздний вечер? Кингсли Блейн подарил Тамар дорогое ожерелье, фамильную драгоценность, наверное принадлежавшую его жене. С тех пор ожерелье никто не видел. Может быть, она опять отдала его Блейну? А если не отдала, то кто его взял потом, после убийства? Может быть, судья Стаффорд тоже расследовал его исчезновение и именно поэтому его убили?.. Но все это одни лишь предположения. Томас все еще вникает в отношения Джунипер и Адольфуса Прайса – а на сердце Шарлотты давил ледяной тяжестью страх, потому что она боялась за Кэролайн, опасаясь ее грядущего горького разочарования, если убийцей окажется Филдинг.
Однако если Джошуа совсем невиновен, это все равно не решает проблемы. Кэролайн, всегда такая чувствительная, такая покорная диктату условностей, так умеющая соблюдать декорум, вела себя сейчас как взбалмошная девчонка! Шарлотте очень не нравились обвинения в адрес матери, которыми сыпала бабушка, но они глубоко беспокоили ее и вызывали настоящий страх за мать. Насколько далеко зашла Кэролайн? Что это – маленький роман, неравнодушие к делам человека, который ей нравится? Или мама настолько легкомысленна, что может чувствовать нечто гораздо большее?
А если так, то как она со всем этим справится? Поймет ли неуместность подобного чувства, осознает ли тот факт, что это чувство губительно для нее? Если только она не ограничится кратким и совершенно незаметным постороннему взгляду романом – и, конечно, платоническим… Нет, Кэролайн не должна ронять свое достоинство! Ей пятьдесят три года, и у нее уже внуки! Она мать Шарлотты! И сама мысль о возможности бурной любовной связи расстраивала ее дочь и заставляла ее чувствовать себя странно одинокой.
А если мать утрачивает контроль над собой и своими чувствами, не следует ли послать за Эмили? Та-то всегда знает, что и как сказать, каким образом заставить Кэролайн вспомнить о ее порядочности и о том, что легкомыслие грозит гибелью репутации и доброго имени.
Однако прежде чем решиться на такой радикальный шаг, Шарлотта хотела знать наверняка о положении дел. Может быть, ей совсем незачем впадать в панику – или, по крайней мере, рано это делать. Она опять поедет к матери и честно, откровенно потребует ответа. Кэролайн, конечно, поймет ее волнение.
Обо всем этом она и думала, лежа ночью в темноте, а утром, проводив мужа, даже не спросила, куда он направляется и когда его ждать вечером. Это не значит, что Томас всегда мог ответить на подобные вопросы, но у Шарлотты вошло в привычку спрашивать, просто чтобы показать свою заинтересованность в его делах, дать понять, что ей не все равно.
Затем она сообщила Грейси, что должна уйти по делам, связанным с убийством на Фэрриерс-лейн. Само собой подразумевалось, что, вернувшись, она обо всем расскажет горничной.
Грейси весело улыбнулась и стала скрести пол в кухне с усердием, совершенно не соответствовавшим увлекательности подобного занятия.
Шарлотта села в омнибус и поехала на Кейтер-стрит. Она прибыла туда в начале одиннадцатого – не совсем удачное время для визитов. Кэролайн усердно разбирала белье, а бабушка еще не явилась из спальни, куда, как обычно, ей принесли завтрак на подносе.
– Доброе утро, – удивленно и несколько обеспокоенно приветствовала Кэролайн свою дочь.
На матери было простое коричневое платье, безо всякой отделки, если не считать кружевного воротничка, а волосы, не завитые в модные локоны, свободно ниспадали на плечи. Она выглядела моложе, чем обычно, и красивее. Шарлотта уже несколько лет не видела ее в такой непринужденной и домашней обстановке и поразилась тому, какая мама еще хорошенькая, какие у нее правильные черты лица и гладкая кожа. Без модных ухищрений дорогого туалета и сложной прически в ней стало больше индивидуальности, больше мягкости, чем в обычной светской даме средних лет. Шарлотта уже хотела сказать ей об этом, но промолчала, решив, что, может быть, ее слова прозвучат бестактно.
– Доброе утро, мама, – сказала она жизнерадостно, – ты очень хорошо выглядишь.
– Да, наверное. – Кэролайн нахмурилась. – Что тебя привело сюда в такую рань? Томас узнал что-нибудь о нашем деле?
– Не думаю. Иначе он бы мне сказал. – Шарлотта машинально взялась за другой конец простыни, которую осматривала Кэролайн, и, убедившись, что та не требует починки, стала помогать ее складывать. – Я приехала потому, что мы сами должны побольше узнавать.
– Да, разумеется, – согласилась мать, причем так поспешно, что Шарлотта мысленно полюбопытствовала, пришла ли Кэролайн сама к такому выводу или видит в предложении еще один предлог проявить активность и, возможно, опять встретиться с Джошуа Филдингом.
– Много ли мы знаем о людях, непосредственно причастных к событиям? – сказала она, беря наволочку и стараясь быть тактичной.
– Ты имеешь в виду их действия в ночь убийства? – спросила Кэролайн, глядя не на дочь, а на груду еще не проверенного белья.
– Ну, для начала хотя бы так, – ответила Шарлотта без большого энтузиазма. Разговор обещал быть сложным. – Но мы должны гораздо больше знать о них как о людях. По крайней мере, я. Однако ты, наверное, лучше знаешь их?
– Да, пожалуй. – И Кэролайн стала самым внимательным образом разглядывать вышивку по краям наволочек и те места, где она поотстала от ткани.
Шарлотта готова была возненавидеть себя за хитрость и двуличие.
– Что ты знаешь, например, о Тамар Маколи? Тебе известно, кто отец ее ребенка?
Кэролайн уже хотела возразить против подобных нескромных вопросов, но поняла, что это необходимо знать в интересах расследования.
– Кингсли Блейн, полагаю. Она действительно его любила, ты же знаешь. Это был не быстротечный роман, и она вступила с ним в связь не из-за ожидания подарков с его стороны.
– А он ей много дарил?
– Да нет, я совсем так не думаю.
– Но ты же не думаешь, что одновременно с Блейном еще кто-то мог быть влюблен в Тамар и довольно сильно ревновал ее к нему, почему, возможно, и убил?
Кэролайн взглянула на дочь. Лицо ее порозовело, в глазах сверкнул вызов.
– Ты имеешь в виду Джошуа? Это так?
– Я имею в виду любого, кто мог подходить на роль возлюбленного, – как можно равнодушнее ответила Шарлотта. – И почему бы этому человеку не быть именно Джошуа?
– Он был влюблен в нее когда-то, – ответила, запинаясь, Кэролайн, опустила взгляд на белье и рывком выхватила из общей кучи наволочку, но та выскользнула из ее пальцев. – Черт!
– Мама, ты не думаешь, что мы должны выяснить все это поподробнее? В конце концов, тут нет ничего удивительного и неожиданного, правда? Если люди привлекательны собой и ежедневно и помногу видят друг друга, то почти неизбежно должны проникнуться взаимным чувством – хотя бы ненадолго. Возможно, такое чувство будет преходящим и потом каждый из них найдет главного для себя человека, с которым можно связать жизнь. И, конечно, это не значит, что Джошуа все еще чувствовал к ней что-то впоследствии, кроме дружеской приязни.
– Ты так думаешь? – Кэролайн наклонилась и подняла наволочку, упорно глядя в пол. – Да… да, наверное, это так. Ты, конечно, права, мы обязаны знать побольше. У меня совсем голова пошла кругом. Но как мы сможем об этом узнать, не будучи неприлично настырными? – Нахмурившись, она снова взглянула на Шарлотту.
На пороге, громко стуча палкой, появилась бабушка. Мать и дочь испуганно отпрянули в разные стороны стороны. Они не слышали ее шагов.
– Да, ты очень настырна и невежлива, – заявила старая женщина. – Что непростительно, по мнению общества, как тебе должно быть известно! Бог знает как часто я тебе это повторяю. Но что особенно плохо – ты производишь невозможное, абсурдное впечатление, будто влюблена в этого… актеришку! – Она фыркнула. – И это не только смешно, это отвратительно! Человек наполовину младше тебя – и еврей! Ты совсем рехнулась, Кэролайн. Доброе утро, Шарлотта. Что ты делаешь здесь спозаранку? Ты ведь приехала не затем, чтобы разбирать белье?
Негодующая Кэролайн с трудом перевела дух, ее грудь бурно вздымалась. Она еле сдерживала себя. Шарлотта хотела ответить колкостью, но подумала, что умнее предоставить Кэролайн возможность самой защищаться, иначе бабушка решит, что ее невестка беспомощна и, когда внучка уедет домой, Кэролайн покажется ей еще беззащитнее.
– Вы единственная, кто так думает, – сверкнула глазами Кэролайн, глядя прямо в глаза свекрови, щеки ее пылали. – И все потому, что ваши суждения жестокосердны и предвзяты.
– Да неужели? – ядовито возразила бабушка. – Ты скачешь в своих экстравагантных одеждах в Пимлико, не куда-нибудь. Никто не ездит в Пимлико! Да и зачем? – Она тяжело оперлась на палку, лицо ее стало словно каменным. – Зачем ты это делаешь, неужели от нечего делать? Я, разумеется, могу подыскать тебе более достойное занятие. Вчерашний обед не был продуман заранее. Не понимаю, о чем думает кухарка! Подала бланманже в это время года… И артишоки! Это же абсурд! И позволь тебя спросить: что тебе надобно в Пимлико?
– А что плохого в ранних артишоках? – переспросила Кэролайн. – Они очень вкусны.
– При чем здесь артишоки?! – Бабушка со всей силой стукнула палкой о пол. – Какое отношение ко всему происходящему имеют артишоки? Повторяю, ты преследуешь человека, годящегося по возрасту в мужья твоей собственной дочери, – и в довершение всего еврея. Ты что, стала выпивать, Кэролайн?
– Нет, я не пью, матушка, – ответила Кэролайн, бледнея и съеживаясь от внутреннего напряжения. – Вы как будто забыли, что я была в театре, когда умер судья Стаффорд, и, естественно, я очень заинтересована в том, чтобы справедливость восторжествовала, а невиновным не пришлось бы переживать ненужные волнения.
– Чепуха, – яростно отвечала бабушка, – ты с ума сходишь по этому несчастному комедианту. Господи, что же будет дальше?
Шарлотта молча сложила белье и сунула его на полку.
– Вы, наверное, совсем забыли, как сами были заинтересованы в расследовании хайгейтского убийства, – атаковала Кэролайн старую леди. – Вы изо всех сил пытались тогда познакомиться с Селестой и Анджелиной…
– Не было этого! – вспылила бабушка. – Я просто ездила выразить им свои соболезнования. Я знакома с ними половину своей жизни.
– Вы ездили из любопытства, – ответила Кэролайн насмешливо. – Вы уже не разговаривали и не встречались с ними тридцать лет.
На Шарлотту они не обращали никакого внимания.
– Но их вряд ли можно было отнести к актрисам, домогающимся внимания публики на сцене, – воодушевленно нападала на Кэролайн бабушка. – Они были старые девицы, дочери епископа. Вряд ли можно представить более уважаемых особ. И никогда в жизни я не бегала за мужчинами. Не говоря уж о тех, кто вполовину моложе меня.
– И это ваше несчастье! – взорвалась Кэролайн, швыряя на полку стопку наволочек. – Может быть, если бы вы встретили кого-нибудь столь же интересного, обаятельного, исполненного ума и воображения, как Джошуа, вы не стали бы озлобленной старухой, какой являетесь сейчас, не знающей никаких радостей, кроме как делать гадости другим людям. И я буду ездить в Пимлико столько, сколько мне заблагорассудится! – Она резким движением разгладила юбку и выпрямилась. – И сейчас мы с Шарлоттой уедем – не для того, чтобы увидеться с мистером Филдингом, но чтобы узнать побольше о том, кто мог убить Кингсли Блейна и почему.
И с этими словами она промчалась мимо свекрови, оставив ее и Шарлотту с вытаращенными глазами.
Бабушка круто повернулась к внучке и набросилась теперь на нее:
– Это ты виновата! Если бы ты не вышла замуж за полицейского и не стала участвовать во всех этих отвратительных расследованиях и якшаться с людьми, о которых приличной женщине не следует и знать, тогда твоя мать не потеряла бы голову и не вела себя так, как ведет сейчас.
– На этот раз мы не можем взять вас с собой, что бы вы ни говорили, бабушка, – Шарлотта с усилием улыбнулась, глядя прямо в ее черные глазки. – Извините, нас ожидает слишком деликатное дело.
– О чем ты толкуешь? – отрезала старая дама. – Чего ради я бы поехала в Пимлико?
– Да по той же причине, по которой вы навещали Селесту и Анджелину, конечно. Чтобы удовлетворить свое любопытство.
С минуту старушка молчала, потеряв от злости дар речи. Шарлотта же мило улыбнулась и вышла за матерью на лестничную площадку.
– Шарлотта, – донесся до нее голос бабушки, одновременно резкий и жалобный, – Шарлотта! Как ты смеешь разговаривать со мной в таком тоне? Вернись! Сейчас же! Ты меня слышишь? Шарлотта!
Та сбежала по лестнице и поравнялась с матерью.
– Так мы едем в Пимлико?
– Разумеется, – Кэролайн взяла плащ. – Мы можем разобраться с этим делом только там.
– Но ты уверена, что это не глупо? Нет смысла ехать, чтобы снова задавать те же самые вопросы.
– Разумеется, не глупо, – волнуясь, ответила Кэролайн. – Мы можем повидаться с Клио Фарбер в это время дня. Театральные люди встают поздно по сравнению с остальными, основательно завтракают, считая завтрак обедом, а днем репетируют. – Шарлотта собралась что-то ответить, но Кэролайн ее перебила: – Она уже имеет представление о ситуации и может найти способ познакомить нас с этим Девлином O’Нилом. Он единственный, кто действительно был на подозрении. Это так называется?
– Да… да, именно так. – Шарлотта поправила плащ на плечах Кэролайн и надела собственный. – А откуда ты знаешь, что мисс Фарбер знает о положении дел?
– Мэддок! – позвала Кэролайн. – Мэддок! Нельзя ли приготовить опять экипаж? Нет?.. Не беспокойся, я найму кеб. – Она взглянула на лестничную площадку, где старая леди угрюмо смотрела вниз, стуча палкой по перилам.
– Кэролайн, – громко позвала бабушка, – Кэролайн!
– Я ухожу, – ответила та, схватив дочь за руку. – Пойдем, Шарлотта. Мы не можем тратить время, иначе разминемся с ними.
– Ты опять собираешься бегать за этим актеришкой? – воззвала свекровь, начиная спускаться.
Кэролайн повернулась на пороге.
– Нет, матушка, я собираюсь повидаться с мисс Фарбер. Пожалуйста, не устраивайте сцен и не кричите в присутствии слуг. Я не буду завтракать дома. – И, не ожидая ответа, она потянула Шарлотту за руку и вышла из дома, предоставив Мэддоку закрыть за ней дверь.
Через десять минут они уже шли быстрым шагом по тротуару, и Кэролайн торопливо кивала встречным знакомым или обменивалась на ходу торопливым приветствием.
– Доброе утро, миссис Эллисон! – Дорогу им загородила полная леди в зеленом пальто с меховым капюшоном, и невозможно было пройти, не поговорив с ней. – Как поживаете?
Пришлось остановиться.
– Я превосходно чувствую себя, благодарю вас, миссис Паркин, – ответила Кэролайн. – А вы как?
– Ну, с учетом всех обстоятельств, неплохо, благодарю вас. – Женщина взирала на Кэролайн испытующим взглядом, и у той не оставалось иного выбора, как вернуть ей такой же, еще более пристальный взгляд.
– Могу ли я представить вам мою дочь? Миссис Питт – миссис Паркин.
– Здравствуйте, миссис Паркин, – покорно ответствовала Шарлотта.
– Здравствуйте, миссис Питт, – улыбаясь, ответила знакомая матери, оглядывая сверху донизу довольно простое пальто Шарлотты и сапожки, которые она носила уже второй сезон. – Не думаю, что мы встречались с вами раньше. – Это утверждение прозвучало как вопрос.
Шарлотта тоже улыбнулась, ясно и столь же любезно.
– Уверена, что не встречались, миссис Паркин. Я бы обязательно вас запомнила.
– О… – Та смешалась. Это был не такой ответ, на который она рассчитывала. – Как мило с вашей стороны. Вы живете в этом районе?
Шарлотта улыбнулась еще безмятежнее.
– Не теперь, но, конечно, когда-то жила. – Заметив напряженное выражение лица миссис Паркин и догадавшись, что допрос продолжится, она перенесла боевые действия на вражескую территорию: – А сами вы давно здесь проживаете, миссис Паркин?
Женщина была потрясена. Она считала, что вести разговор – ее привилегия, и полагала, что Шарлотта будет вежливо и открыто отвечать, как подобает особе, стоящей ниже на социальной лестнице. Женщина с явным неудовольствием взглянула на оживленное искренним интересом лицо Шарлотты.
– Примерно пять лет, миссис Питт.
– Вот как, – быстро ответила та, прежде чем миссис Паркин успела что-либо добавить. – Здесь очень приятно, не правда ли? Маме нравится. Надеюсь, у вас сегодня будет приятный день – погода вроде бы улучшается. Как вы считаете? Вам не понадобится кеб?
– Извините? – надменно переспросила миссис Паркин.
– Это вы извините нас, поскольку мы поспешим и сами воспользуемся им. – Шарлотта сделала неопределенный жест. – У нас назначена встреча, и довольно далеко отсюда. Приятно было с вами познакомиться, миссис Паркин.
С этими словами она твердо взяла свою мать под руку и поспешила прочь, оставив миссис Паркин глазеть им вслед, вместо того чтобы ответить, для чего она уже открыла рот.
Кэролайн не знала, что делать – смеяться или ужасаться. Ее раздирало противоречивое чувство: она любовалась, как и следует матери, смелостью Шарлотты, но против ее смелости восставала привычка к соблюдению условностей, выучка всей жизни. Однако материнский инстинкт победил, и она весело посмеивалась, пока они с неподобающей поспешностью шагали к стоявшему у обочины кебу.
Мать и дочь сошли в Пимлико, и их провели в большую гостиную Пассморов. В больших плетеных креслах сидели Джошуа Филдинг, Тамар Маколи и еще несколько гостей и вели оживленный разговор. На столе и на полу были разбросаны тексты сценариев. Миранда Пассмор восседала на груде подушек. На этот раз дверь дамам отворил кудрявый и очень похожий на Миранду юноша.
Как только Кэролайн и Шарлотта вошли, Джошуа встал и приветствовал их. Со сложным чувством Шарлотта отметила, как внезапно просветлело от радости его лицо, и почувствовала какую-то особенную мягкость во взгляде, обращенном на Кэролайн. Если это возможно вообще, он, несомненно, питал к ней более теплое чувство, чем просто дружескую благодарность за заботу о его благополучии, поэтому Шарлотта стала не так опасаться за уязвимую душу матери и грозящее ей в будущем унижение. Она почувствовала, как ее саму захлестнула теплая волна благодарности и унесла прочь страхи и сомнения.
И все же если Филдинг питал к Кэролайн подобное чувство, то это прямая дорога к несчастью. Оно обещает, по крайней мере, печальную разлуку. Отношения между ними невозможны – в худшем случае все кончится банальной любовной связью и разбитым сердцем, когда Кэролайн ему надоест или же ее здравый смысл возобладает над чувством. И все это время она будет на грани очень неприятного скандала. Бабушка человек недобрый, черствый, но ее опасения небезосновательны. Общество такого не прощает. Оно полно таких женщин, как миссис Паркин с ее испытующими коварными вопросами и бесцеремонными, все замечающими глазами. Тем, кто нарушал условности и правила поведения, никогда не разрешалось вернуться в лоно общества, и для Кэролайн в нем тоже не станет места после того, как все кончится.
Джошуа заговорил с Шарлоттой, но она не расслышала ни единого слова. Взгляд у актера был слегка омрачен беспокойством. Лицо у Филдинга было в высшей степени подвижное и выразительное, способное передать юмор, страсть, боль – и суровое, безжалостное понимание собственного несовершенства. Невозможно не проникнуться к нему симпатией, как бы ни беспокоила Шарлотту мысль о его отношениях с Кэролайн.
– Извините, – сказала она, – я очень сожалею, но мой ум сейчас бродил вдали, по зеленой травке.
– Неужели? – прищурился он. – Мне кажется, вас очень занимает это несчастное дело, что очень благородно с вашей стороны и говорит о вашей доброте, и вы сейчас думаете о том, что предпринять к его пользе. Разве я не прав?
Шарлотта воспользовалась моментом.
– Да, конечно, правы, – солгала она, встречая его взгляд и заставив себя улыбнуться. – Мне кажется, пришло время познакомиться с мистером Девлином О’Нилом, если мисс Фарбер в состоянии нам помочь.
Джошуа повернулся и кивком подозвал молодую женщину, немного за тридцать, небрежно одетую в какую-то хламиду. Ее светлые волосы бурно вились, но она не озаботилась причесать их как следует, а просто сколола на затылке парой шпилек и подвязала красной лентой; впрочем, узел был изящен и очень украшал ее скуластое лицо с голубыми глазами и полным ртом. Шарлотте это лицо понравилось сразу же. Едва обменявшись со всеми искренними приветствиями, она повернулась к мисс Фарбер.
– Мистер Филдинг рассказывал вам о наших трудностях? – Слово «трудности» было ужасно затертым, но Шарлотта не могла сейчас подобрать другое – во всяком случае, пока не познакомится с ситуацией поближе.
– О да, – быстро ответила Клио, – и я так рада, что вы собираетесь помочь! Никто из нас не верил, что убийца – Аарон, но мы просто не знали, как убедить в этом остальных, и бедная Тамар все эти годы боролась в одиночку. Прекрасно, что теперь рядом с ней люди, действительно способные оказать помощь.
Шарлотта хотела было сказать, что она не так уж и способна, но передумала. Так она лишь разочарует Тамар и лишит ее мужества, а Клио Фарбер станет меньше доверять им с Кэролайн.
– Мы тоже нуждаемся в вашей помощи, – ответила Шарлотта. – Понимаете, все зависит от возможности внимательно понаблюдать за интересующими нас людьми именно тогда, когда они не подозревают, что являются объектом наблюдения и от них хотят что-либо узнать о некоем подозрительном деле.
– Да, понимаю, – согласилась Клио, – Тамар мне очень доходчиво это объяснила. Я устрою встречу с Кэтлин О’Нил, причем таким образом, что все будет выглядеть очень естественно. Я умею делать такие вещи. – Ее лицо слегка затуманилось, и она отвернулась. – Не знаю, говорил ли вам Джошуа, но я… знакома, – она немного замялась, словно из деликатности, но в ней не было никакого лукавства или намеренного стремления подчеркнуть свои слова, – с мистером Освином, который заседал тогда в Апелляционном суде, – ее лицо омрачилось еще больше, – вместе с несчастным судьей Стаффордом.
– А он был хорошо с ним знаком?
Клио ответила задумчиво, однако довольно быстро, словно ожидала этого вопроса и он ее беспокоил.
– Ну разумеется, они были знакомы, но как долго и насколько близко – не знаю. Возможно, что действительно близко. Грэнвилл, то есть судья Освин, кажется, относился к нему по-доброму. Но как будто смущался чего-то. Возможно, это и не так. Может, это чувство было наполовину недовольством, наполовину неловкостью. Но когда я спросила мистера Освина, почему он так относится к мистеру Стаффорду, тот уклонился от прямого ответа, что на него совсем не похоже.
Шарлотта смутилась. Сначала она подумала, что отношения Клио и судьи Освина неглубоки и случайны, но по степени доверительности, с какой та разговаривала с ним о самых личных делах, поняла, что ошиблась и что их отношения гораздо глубже. Может быть, Клио его любовница? Но было бы непростительно спросить об этом прямо. Надо задать вопрос так, чтобы добыть как можно больше информации, но при этом остаться достаточно тактичной.
– Вы думаете, он отнесся бы к этому иначе, если бы его что-то не беспокоило?
– Совершенно верно, – улыбнулась Клио. – Он очень откровенный и добрый человек. Любит говорить прямо, смеяться над тем, что смешно, без сарказма, но… – она элегантно и выразительно пожала плечами, – с понимающими его друзьями. Знаете, настоящая дружба встречается реже, чем принято думать, особенно у людей, занимающих его положение в обществе.
– Но у него ведь не было таких дружеских отношений с судьей Стаффордом?
– Нет, не думаю. У меня такое впечатление, что их отношения осложнились потому, что судья Стаффорд на чем-то настаивал, а Грэнвилл больше не хотел это обсуждать.
– Это связано с Аароном Годменом?
Клио нахмурилась.
– Не уверена. Мне известно, что Грэнвилл был расстроен тем делом и не желал никогда больше говорить о нем. Судебный процесс был справедлив – в рамках законности, – однако некорректно проведен, и это послужило для него источником большого огорчения.
– Но ведь его проводил судья Квейд? – удивилась Шарлотта.
Клио быстро покачала головой.
– О нет, он огорчался совсем не поэтому. Ему не нравилось, как ведет себя полиция, хотя в этом я не вполне уверена. Этого он со мной обсуждать не хотел, что очень естественно. Я знала Аарона и очень сочувствовала ему. Он был очень милый, обаятельный человек.
– Действительно? О нем мало что говорят, лично о нем. Только о самом деле. Расскажите о Годмене.
Клио заговорила еще тише, чтобы находившаяся в нескольких шагах от них Тамар не могла бы услышать.
– Он был на два года младше сестры, ему исполнилось двадцать восемь пять лет назад, когда он умер. – На лице ее отразилась странная смесь нежности и боли. – Аарон был худощав, как она, но совсем не такой темноволосый и, конечно, гораздо выше. Он скорее походил на Джошуа, и они иногда использовали это на сцене. У него было замечательное чувство юмора. Он любил играть роли самых ужасных злодеев и часто заставлял публику вскрикивать от страха. – Клио улыбнулась, но затем глаза ее внезапно наполнились слезами, и она громко всхлипнула носом, на минуту отвернувшись.
– Извините, – тихо сказала Шарлотта, – пожалуйста, не продолжайте, если это так больно. Неумно с моей стороны расспрашивать вас. И нам, собственно, нужно побольше узнать о Девлине О’Ниле.
Клио шмыгнула носом.
– Да. Это моя вина, – сказала она, рассердившись на себя. – Я думала, что лучше владею своими чувствами… Пожалуйста, извините. Да, разумеется. Я устрою вам встречу с Кэтлин О’Нил. – Она выудила из кармана носовой платок. – И я знаю, как все сделать. Она очень любит романтическую музыку, а послезавтра у леди Бленкиншоп на Итон-сквер будет музыкальный вечер. Я хорошо знакома с пианистом, он пригласит нас. Вы сможете прийти?
Шарлотта хотела было спросить, будет ли подобное уместно с точки зрения приличий, а потом решила, что ей это совершенно безразлично.
– Разумеется, – твердо ответила она. – Я с удовольствием послушаю музыку, но только скажите, кем мне назваться. Я не могу выступать под собственным именем, потому что, узнав, что я жена полицейского, они мне ничего не расскажут. И даже могут попросить уйти.
– Конечно, – весело согласилась Клио. – Лучше вам стать кузиной, приехавшей в гости, скажем, из Бата.
– Но я совсем не знаю Бат и буду выглядеть нелепо, если заведу разговор с кем-нибудь из тех, кто посещает этот курорт. Пусть лучше будет Брайтон. Я там, по крайней мере, была.
– Как вам угодно, – Клио улыбнулась и засунула платок в карман. – Значит, уговорились? Если вы заедете за мной, мы сможем прибыть туда вместе. Я скажу, что вас интересует сцена. Вы умеете петь?
– Нет. Совсем не умею.
– Ну, играть-то вы, конечно, сможете! По крайней мере, ваша мама так говорит. Недавно она рассказала Джошуа о некоторых ваших приключениях, а он – нам. Нам всем было очень интересно, и мы, конечно, остались впечатлены.
– О господи, – отшатнулась Шарлотта. Она знала, что Кэролайн не всегда одобрительно относилась к ее участию в делах, которыми занимался Питт. Как же изменилась мама – по крайней мере, на первый взгляд, – если теперь развлекает своих новых друзей рассказами о ней… Как она отвергает себя прежнюю, чтобы доставить удовольствие другим… Однако думать об этом очень неприятно, и Шарлотта решительно отбросила такие мысли. Для них сейчас не время.
– Я считаю ваши приключения очень волнующими, – продолжала с энтузиазмом Клио. – В них гораздо больше драматизма, чем в том, что мы играем на сцене, потому что это сама жизнь. Помните, что вам надо одеться не слишком модно, хорошо? Вы же провинциальная кузина.
– Разумеется, – абсолютно невозмутимо ответила Шарлотта. Интересно, сколько, по мнению Клио, зарабатывают полицейские, чтобы их жены могли одеваться по последней моде?
Не имея под рукой Эмили, чтобы занять у нее вечерний туалет, и не смея просить об одолжении Веспасию – эту возможность она оставляла на тот крайний случай, если ее пригласят на большой прием или бал, – Шарлотта осведомилась у матери, не сможет ли та уделить ей что-нибудь из собственного гардероба – какое-нибудь прошлогоднее или даже позапрошлогоднее платье. Ее просьба была охотно удовлетворена, хотя и с заметным разочарованием, потому что самой Кэролайн идти туда было нельзя – будет подозрительно, если они все втроем явятся на вечер, и Кэтлин О’Нил вряд ли поверит, что это случайное совпадение, а встреча должна показаться ей именно случайной. Однако Шарлотта не отвергла предложение Кэролайн взять ее экипаж, чтобы потом ее отвезли домой в Блумсбери.
Поэтому в назначенный вечер она оставила Питту на кухонном столе такую записку:
Дорогой Томас!Меня, вместе с маминой приятельницей, пригласили на суаре, и я еду, потому что немного беспокоюсь на ее счет. Она очень привязалась к людям, которых я совсем не знаю, а музыкальный вечер даст мне прекрасную возможность получше с ними познакомиться. Я приеду не поздно, это всего час-два музыки.
Твой обед в духовке – тушеная баранина с картошкой и большим количеством лука.
Я тебя люблю, Шарлотта
Сначала она отправилась в Пимлико за Клио Фарбер. Они приехали на Итон-сквер, и, нервно посмеиваясь, взошли по ступеням широкой лестницы к импозантным дверям. По обе ее стороны возвышались ливрейные лакеи. Они спросили их имена.
Клио взяла ответ на себя и сообщила, что она приятельница пианиста, который будет сегодня играть перед гостями, и что ее сопровождает кузина. Лакей немного поколебался, взглянул на своего ливрейного собрата, но затем снисходительно кивнул и позволил им войти.
Холл, выложенный черно-белыми, словно шахматная доска, мраморными плитами, был очень величествен. В нише, около подножия лестницы, стояла античная статуя. Лестница поднималась к широкой площадке с балюстрадой, ограждавшей галлерею, уже заполненную очень элегантно одетой публикой. Женщины были в платьях с блестящей вышивкой, многие с обнаженными плечами, блиставшими белизной в свете канделябров.
– Вы не сказали, что будет такой большой и официальный прием, – прошептала Шарлотта Клио. Она уже почувствовала себя не только провинциальной кузиной, но к тому же еще и очень бедной, прямо из сельской глуши. Надевая свой туалет, Шарлотта думала, что он очень красивый и идет ей, но теперь ощущала не только его позапрошлогоднюю давность – платье показалось Шарлотте невыразительным и постным. Темно-золотистый оттенок был слишком старомоден, и она, наверное, кажется в нем пятидесятилетней.
– По правде говоря, я не подозревала, что все будет так торжественно. Регги сказал, что придет десяток-другой друзей и знакомых. Наверное, с тех пор они увеличили число приглашенных и придали вечеру более официальный характер. Но из-за этого будет только легче словно случайно повстречаться с Кэтлин, не вызывая подозрений. Вот оно, настоящее приключение!
У Шарлотты было более точное представление о приключениях, и она понимала, что сегодняшняя афера очень легко может обернуться неприятностями, если потерять осторожность. Все же «кузина из провинции» последовала за Клио в огромную, гудящую голосами комнату, где было подготовлено шестьдесят или больше мест, расположенных столь художественно, что присутствовавшие получили возможность поддерживать интересную и возвышенную беседу в промежутках между исполняемыми пьесами.
Несколько минут Шарлотта и Клио прохаживались туда-сюда, не смешиваясь с толпой и делая вид, что они кого-то высматривают. Клио представила Шарлотту своему другу Регги, стоявшему в изящной позе около рояля и готовому играть, как только прозвенит звонок и хозяйка представит его гостям.
Они оживленно переговаривались – возможно, оттого, что нервничали, – и делились забавными воспоминаниями. Шарлотта громко рассмеялась, Клио зажала рот, чтобы приглушить хихиканье. Несколько дам оглянулись на них с суровым видом, и одна молодая аристократическая особа стала пристально разглядывать их поверх веера, который то складывала, то с треском раскрывала.
– Кто эти люди? – довольно пронзительным голосом спросила она своего соседа. – Не помню, что знакома с той, что в розовом. А вы?
– Конечно, нет, – фыркнув, ответил сосед. – Как это вы могли предположить, Милдред, что я могу быть с ней знаком, с женщиной, которая одевается подобным образом?
– О, вы имеете в виду ту, что в коричневом? Да, весьма странная фигура. И, честное слово, мне кажется, что Джейн Дигби-Джонс надевала что-то вроде этого года два назад.
Шарлотта просто кипела желанием ответить им как следует. Она взглянула на Клио и увидела, как та вспыхнула.
– А кто та дама, что так громко говорит? – спросила она, улыбаясь пианисту и тоже покрывая голосом расстояние между ними. – Вон та, с ожерельем из горного хрусталя? – Шарлотта прекрасно понимала, что это бриллиантовое ожерелье, и с большим удовлетворением услышала, как молодая особа негодующе ахнула.
– Миссис Каретряд [7], полагаю, – ответил пианист, стараясь не улыбнуться. – А может, мисс Колесонби?
– Нет, это мисс Повознер, – поправила его с улыбкой Клио.
– Да, что-то вроде этого, – подтвердил Регги, – что-то имеющее отношение к перевозкам. Но почему?
– Что почему? – растерялась Шарлотта.
– Почему вы спрашиваете? Хотели бы познакомиться с ее портнихой?
– Нет, – пискнула Шарлотта, – я вовсе не хочу этого, спасибо. И мы действительно сейчас должны…
– Точно. У нас есть дело, – подтвердила Клио.
И, взявшись под руки, две «кузины», ослепительно улыбаясь, продефилировали мимо мисс Повознер, не спеша пробираясь сквозь толпу. Но вот Клио остановилась возле молодой женщины со светлыми волосами, очень модно зачесанными наверх; ее лицо было необычным из-за сочетание высоких скул и карих глаз.
– Добрый вечер, Кэтлин, – сказала Клио, разыгрывая большое удивление. – Как приятно снова встретиться. Вы так прекрасно выглядите. Могу я представить вам мою дорогую подругу Шарлотту? Вообще-то она приходится мне кем-то вроде кузины и приехала на время погостить. Я решила, что для нее этот вечер – прекрасная возможность познакомиться с интересными людьми – с такими, как вы. Как давно мы не виделись! Как вы поживаете?
Выбора у Кэтлин О’Нил не было, и та приняла знакомство, столь безыскусно и искренне предлагаемое.
– Здравствуйте, – Кэтлин не могла назвать новую знакомую по фамилии, поскольку Клио, по-видимому, намеренно ее опустила, чтобы лишний раз не солгать. – Я очень рада с вами познакомиться. Надеюсь, вам понравится пребывание в Лондоне. Откуда вы прибыли?
– О, не очень издалека, – ответила Шарлотта с ощущением вины, быстро заглушая его. – Я уверена, что мне предстоит в высшей степени приятное и интересное времяпрепровождение. Вы так любезны… Полагаю, вы привыкли к таким вечерам, но для меня это большое событие.
– Правда?..
Кэтлин была избавлена от дальнейшей необходимости продолжать разговор с появлением мужчины, в котором Шарлотта сразу же распознала Девлина О’Нила. Он был очень темноволос, черты лица исполнены юмора и романтического воображения – сочетание, которое она встречала только у ирландцев. Его нельзя было назвать красивым в строгом смысле слова – в лице его было что-то неопределенное, неуловимое; возможно, какая-то слабинка. Но вел он себя уверенно и казался очень обаятельным. Мужчина тепло ответил на приветствие Клио и любезно – на представление Шарлотты.
– Как чудесно опять с вами встретиться, – он улыбнулся Клио. – Я не видел вас очень давно и все это время встречался с самыми неинтересными людьми. – С видом собственника он обнял жену за талию, стоя к ней очень близко. – Извини, дорогая.
С невинно-хитрым видом он оглянулся вокруг. Его намек был прозрачен: окружающие вели себя слишком чопорно для музыкального вечера.
Шарлотта принялась за дело. Нужно, по крайней мере, попытаться что-то узнать – ведь она здесь не для того, чтобы развлекаться и участвовать в бессмысленном созерцании присутствующих.
– Вы здесь из чувства долга или по душевной склонности, мистер О’Нил? – спросила она, мило улыбаясь.
Тот улыбнулся в ответ.
– Исключительно по обязанности, мэм. Сопровождаю тестя и его матушку. Она очень привержена любительским концертам – по крайней мере, ей нравится встречаться с завсегдатаями таких вечеров. И быть в курсе событий.
– Ну разумеется, – поспешно согласилась Шарлотта. – Нет ничего интереснее слухов, если вы знаете людей, о которых сплетничают, и можете повторить услышанное тем, кто способен вполне оценить все нюансы.
– Да, вы не чужды откровенности, – сказал Девлин, и в глазах его вспыхнуло любопытство. Он явно забавлялся ее искренностью.
Две молодые женщины прошли мимо, взглянув на О’Нила поверх вееров и заставляя юбки волноваться особенно шумно и грациозно.
– А вы так не считаете, миссис О’Нил? – повернулась Шарлотта к Кэтлин.
Та улыбнулась, но в улыбке ее читалась сдержанность человека, которого весьма ранят необдуманные замечания.
– Сознаюсь, подобные вечера меня интересуют лишь иногда. Мне кажется, что люди здесь часто болтают со злым умыслом.
И Шарлотта подумала, что, пожалуй, в хоре пустопорожней болтовни сейчас прозвучал голос истинного чувства. Ей это остро напомнило, что перед ней женщина, муж которой был убит, после того как изменил ей с другой. И то, что Кэтлин О’Нил могла после всего случившегося продолжать дружеские отношения с Клио Фарбер, столь близкой к людям, причинившим ей такое несчастье, не просто актрисой, но другом и коллегой по цеху Тамар Маколи, очень располагало в пользу вдовы Блейна. Шарлотта почувствовала восхищение ею и неприязнь к самой себе за то, что ищет возможность обвинить в содеянном ее второго мужа. Двуличие само по себе омерзительно, и на какой-то момент приключенческий и детективный азарт Шарлотты угас.
– Конечно, – согласилась она с внезапной серьезностью, – когда такие разговоры причиняют вред, это совсем другое дело. И, наверное, так бывает нередко. Многие очень плохо знают, о чем говорят, и лучше бы им не злословить. Я говорю только о безвредной чепухе, но, наверное, слишком легкомысленно трактую сей предмет. – Она приняла стакан лимонада из рук проходящего лакея, как и остальные.
– Нет, нет, это я должна извиниться, – ответила Кэтлин, немного покраснев. – Я вовсе не хотела оспаривать ваше мнение. Просто я знакома с людьми, которые страдали от бездумного обсуждения вещей, носивших сугубо личный характер, не зная всей правды, а ведь на такие темы сплетничают особенно охотно.
Зал полнился шорохами ожидания, затем постепенно все стихло. Сейчас должен был начаться концерт. Все инстинктивно повернулись к роялю, около которого появилась высокая полная дама в платье, расшитом переливающимся жемчугом. Она пыталась овладеть всеобщим вниманием.
– Леди и джентльмены, – начала она.
Раздался слабый, вежливый всплеск аплодисментов. Вечернее развлечение началось. Шарлотта улыбнулась Кэтлин и как бы случайно, однако с твердой целью, села рядом, поймав взгляд Клио, прежде чем та продолжила свой разговор с Девлином О’Нилом.
Пианист начал играть тихо, не форсируя звука, лишь однажды взглянув на слушателей. Он казался всецело поглощенным музыкой, которую извлекал из инструмента лишь для собственного наслаждения. Возможно, «наслаждение» было неточным словом. Наблюдая за ним, Шарлотта почувствовала, что музыка для него – необходимая духовная пища в гораздо большей степени, чем для присутствующих. Шарлотта не очень хорошо разбиралась в музыке, но ей не требовалось быть знатоком-критиком, чтобы почувствовать, как прекрасно исполнение и что оно гораздо выше способности светской аудитории оценить его.
Пьеса закончилась, послышались вежливые аплодисменты. Пианист встал, едва заметно поклонился и вышел в смежную комнату.
Тишину снова сменила болтовня; хорошенькие горничные в белых чепчиках и передничках, отделанных кружевами, стали разносить на подносах сладости, а ливрейные лакеи – бокалы с охлажденным шампанским. Шарлотте совершенно не хотелось ни того, ни другого, но она машинально взяла предложенное, поскольку это было проще, чем все время отказываться. Ее все еще переполняло грандиозное ощущение прекрасной музыки, и она не могла говорить, тем более как-то комментировать услышанное, боясь не воздать ему должного.
– Очень хорошо, правда? – спросил Девлин О’Нил, приблизившись почти вплотную.
Шарлотта не слышала, как он подошел. Он опять улыбался, и она решила, что это самое привычное для него выражение лица – из большого добродушия и желания нравиться, а не потому, что он получил сейчас особенное удовольствие.
– Блестяще, – ответила Шарлотта, надеясь, что говорит не слишком восторженно.
Но прежде чем он успел ответить, к ним подошел человек с очень широкой, мощной грудью, необычайно сильный на вид. Лицо у него было примечательное: большой острый нос и маленькие, очень яркие, умные глаза. С ним под руку, опираясь на нее – из-за необходимости физической поддержки, но также явно из чувства собственничества, – шла женщина старше мужчины лет на двадцать. Сходство лица, особенно глаз и лба, сразу позволяло понять, что она приходится мужчине матерью.
– Бабушка, – приветствовал подошедших О’Нил и улыбнулся еще шире. – Как вам понравилась музыка? Могу я вам представить… – и замялся, поняв, что ему неизвестно полное имя Шарлотты. Он преодолел неловкость момента, взглянув на Клио и представив ее в первую очередь. Все прошло так естественно, что если Ада Харримор и заметила нечто странное, то совершенно не подала виду.
– Здравствуйте, мисс Фарбер, – она благосклонно кивнула головой, сохраняя при этом равнодушное выражение лица. – Здравствуйте, мисс Питт, – обратилась она к Шарлотте, так как Клио второпях назвала ее настоящую фамилию. Шарлотта не стала ее поправлять, в другом случае она бы немедленно это сделала. Сейчас, однако, надо было избежать любой возможности ассоциировать ее с Томасом.
– Здравствуйте, миссис Харримор, – ответила Шарлотта, с любопытством глядя на старую даму.
У той также была необычная внешность, свидетельствующая о сильном характере и в то же время – о знании того, что такое страх, и о тайном стремлении скрыть его и тщетности этого стремления. Она обладала железной волей; в то же время в глазах ее сквозило беспокойство. Она постоянно поглядывала на сына словно для того, чтобы заручиться его поддержкой. Все это было очень странно.
– Я получила такое наслаждение от музыки, – вернулась к действительности Шарлотта. – Не правда ли, пианист великолепно играл?
– Да, он очень одарен, – снизошла до согласия Ада, и между бровями у нее залегла едва заметная складка. – Многие из них подвизаются на этом поприще.
Шарлотта растерялась.
– Извините, многие из кого, миссис Харримор?
– Евреев, конечно, – ответила Ада, еще больше хмурясь и пристально разглядывая Шарлотту, ее выразительное лицо с превосходной смуглой кожей и волосы, блестящие, словно отполированное каштановое дерево. – Хотя я и не думаю, что это какая-то их отличительная черта, – добавила она весьма непоследовательно.
Однако Шарлотта усмотрела в ее словах недостаточное знание истории.
– Да, может быть. Но разве в прошлом мы не лишали их возможности заниматься чем-либо кроме медицины и искусства?
– Не понимаю, что вы имеете в виду, говоря «лишали»? – резко ответила Ада. – Вы что, позволили бы евреям заниматься чем угодно? Достаточно и того, что они присутствуют во всей финансовой деятельности страны и, смею полагать, Империи, чтобы допускать их в другие сферы. Хорошо известно, что они делают в Европе.
Девлин О’Нил слегка улыбнулся, сначала Аде, потом тестю. Он стоял очень близко к жене.
– Они ведут себя так же, как ирландцы, правда? – спросил он жизнерадостно. – Мы впустили их, чтобы те построили железные дороги, а они взяли и распространились по всей Англии. Теперь приходится встречаться кое с кем из них даже в обществе. И в политику они проникли, держу пари.
– Но это не одно и то же, – ответил Проспер Харримор без малейшей искры ответного юмора. – Ирландцы такие же, как мы, мой дорогой мальчик, ты сам прекрасно об этом знаешь.
– О, разумеется, – согласился О’Нил, обнимая жену. – Потому что некоторые из них – это мы сами. Разве не был герцог Веллингтон ирландцем?
– Он был ирландцем английского происхождения, – поправил его Проспер, и на этот раз на его тонких губах появилась тень усмешки. – Как ты, например. Но это совсем другое дело, Девлин.
– Да уж, он, конечно, не был евреем. Он был очень хорошего, самого благородного происхождения. Один из величайших наших лидеров. Не будь его, все сейчас говорили бы по-французски, – заметила Ада и вздрогнула, – и ели бы разные пакости вроде червей и улиток и бог знает чего еще, и у нас царили бы парижские нравы. А то, что сейчас там происходит, – об этом в приличном обществе и сказать нельзя.
Шарлотта так и не поняла, что заставило ее возразить, – разве лишь желание пробить заслон тщательно соблюдаемых хороших манер и вызвать более искренние эмоции.
– Да, но мистер Дизраэли был евреем, – ответила она, очень четко выговаривая слова в наступившей тишине. – И он был одним из самых лучших наших премьер-министров. Без него нам, чтобы добраться до Индии или Китая, пришлось бы огибать Африку, не говоря о том, что было бы очень трудно доставлять в Англию чай. И опиум.
– Прошу прощения. – Брови Ады взлетели вверх от крайнего изумления; даже О’Нил, казалось, удивился.
– Ах! – Шарлотта быстро взяла себя в руки. – Я просто подумала о различных лекарствах для облегчения боли, о лечении некоторых недугов с помощью опиума, для чего мы очень решительно и эффективно воевали с Китаем.
Кэтлин держалась вежливо, но несколько смущенно.
– Возможно, если бы мы не якшались с чужеземцами, – колко заметила Ада, – то бы не заражались их болезнями. Человеку лучше всего оставаться там, где по воле Божьей он родился, – это во-первых. Во-вторых, половина всех неприятностей в мире исходит от людей, которые являются иноземцами.
– Однако же Ее Величество очень дорожила им, – непоследовательно возразила Шарлотта.
– Кем? – ошеломленно спросила Кэтлин.
– Мистером Дизраэли, моя дорогая, – объяснил О’Нил. – Но мне кажется, что мисс Питт просто нас дразнит.
– Я никогда и не сомневалась, что они умны. – Ада прямо-таки гвоздила Шарлотту проницательным взглядом. – Но это не значит, что мы хотим видеть их у себя дома. – Она невольно содрогнулась от едва заметного чувства отвращения, такого острого, что его можно было принять за страх.
Кэтлин взглянула на Шарлотту, словно извиняясь.
– Извините, мисс Питт. Уверена, что бабушка не так непримирима, как может показаться. Мы рады всем людям, если они настроены по-дружески, – и надеюсь, вы тоже сочтете себя нашим другом.
– Я очень бы хотела им быть, – быстро ответила Шарлотта, хватаясь за предоставленный ей шанс. – Это так любезно с вашей стороны, особенно учитывая мои замечания, которые, возможно, не слишком хорошо взвешены, должна признаться. Но у меня имеется склонность говорить то, что я думаю, от всего сердца, не сообразуясь с головой. Мне так понравилась игра этого пианиста, что я бросилась на его защиту, хотя это было совсем не обязательно.
Кэтлин улыбнулась.
– Я очень хорошо вас понимаю, – сказала она тихо, чтобы ее не услышала бабушка. – Он моментально перенес меня в более высокие сферы и заставил думать о благородных вещах. И это заслуга не только композитора, но и исполнителя тоже; он выразил музыкой мои мечты.
– Как хорошо вы это сказали! Я обязательно продолжу наше знакомство, если у меня будет такая возможность, – искренне сказала Шарлотта.
Впрочем, она ни на секунду не забывала о необходимости узнать побольше о Кингсли Блейне. О том, каким он был человеком и действительно ли собирался оставить такую добрую, чувствительную и импульсивную женщину ради Тамар Маколи, зная, во что ему это обойдется. Или же он был просто слаб и, идя на поводу страстей, сам поставил себя в безвыходную ситуацию, не имея сил оставить ни ту, ни другую? Как удивительно, что его любили, и так самозабвенно, обе эти необыкновенные женщины… Он, наверное, был невероятно обаятельным. Необходимость представить его в объективном свете, глазами, не ослепленными любовью, все более возрастала. Может быть, если она попадет в дом Кэтлин О’Нил, то получит возможность поговорить с Проспером Харримором? Лицо у него умное, взгляд проницательный, хотя и настороженный. Кингсли Блейн являлся отцом его внучки… Но Шарлотта понимала, что такого человека нелегко заманить в ловушку и очаровать. Взгляд, брошенный им на Девлина О’Нила, предполагал приязнь, умеющую видеть недостатки. Он, очевидно, смотрит на вещи в менее эмоциональном ключе и обладает способностью быстро распознавать опасность.
Вернулся пианист, и началось второе отделение концерта. Шарлотта ни разу больше не вспомнила о Кингсли Блейне, его семье или смерти Сэмюэла Стаффорда. Страстный, лирический, универсальный голос фортепиано заставил ее забыться и унестись вдаль на крыльях музыки.
Потом О’Нилы и Харриморы вступили в разговор с другими знакомыми. Проспер углубился в дискуссию с человеком, у которого был величественный и важный вид банкира из крупной коммерческой фирмы, а бабушка с огромным вниманием прислушивалась к тому, что говорила ей худая пожилая женщина, пустившаяся в пространную беседу, и не потерпела бы вмешательства в этот разговор. Один раз Шарлотта поймала понимающий, проницательный взгляд Кэтлин и улыбнулась в ответ, но это был один-единственный раз, и Клио с Шарлоттой покинули дом, так с ними и не поговорив.
Мика Драммонд стоял у окна в кабинете и глядел вниз на улицу, где переругивались двое мужчин. Окно было заперто на задвижку из-за порывистого холодного ветра, дождь барабанил в оконную раму и стекал ручьями по стеклу, и он не мог расслышать их голоса. Все сейчас было далеко-далеко от него, все теряло былую важность. Драммонд должен был признаться самому себе, что смерть судьи Стаффорда также тревожит его все меньше с каждым днем. А ведь он должен был принимать ее близко к сердцу. Стаффорд слыл хорошим человеком, совестливым, почтенным, преданным делу. А даже если и не так – ни один порядочный человек не может примириться с убийством. Рассудок говорил Мике, что он должен негодовать; и действительно, часть его сознания восставала против бессмысленности преступления, против посягательства на священный дар жизни, против боли, приносимой смертью…
Но единственное, о чем Драммонд мог сейчас думать, на чем сосредоточивались все силы его ума и души, была Элинор Байэм. Все для него теперь имело ценность только в связи с ней. Он не мог истребить из памяти ее лицо, всегда такое разное… Когда к ней пришла печаль, когда привычный мир для нее исчез и съежился до масштабов меблированных комнат в Мэрилебон и нескольких деловых людей, с которыми ей приходилось поддерживать отношения, лицо ее затуманилось болью и одиночеством. Драммонду страстно хотелось дать ей больше, но при этом он прекрасно понимал, что его желание продиктовано не жалостью. Это слово ему казалось оскорбительным по отношению к Элинор. Для этого она была слишком мужественна, слишком сильно дорожила чувством собственного достоинства, чтобы он дерзнул проникнуться таким интимным и бесцеремонным чувством. Но Мика с болью ощущал, насколько к худшему изменилось ее существование.
Однако самым сильным его желанием была потребность быть с ней, делить с ней свои мысли, озарения, свою привязанность к тому, что он любил. Драммонд воображал, как они вместе идут по широкому полю, вдыхая свежий ветер на рассвете, дующий с моря, и как солнечные лучи пронизывают и разгоняют груду облаков. Зрелище это представлялось настолько прекрасным, что Мика не в силах был сдержать восторга. И тогда он повернулся бы к ней и увидел, что у нее сердце тоже вот-вот разорвется от всей этой красоты. И что в этом взаимном восхищении утонет и растворится одиночество.
В голове у него мелькнуло, что если Адольфус Прайс чувствовал такую же всепоглощающую страсть к Джунипер Стаффорд, то с течением лет она вполне могла возобладать над рассудком и здравым смыслом и в конечном счете над нравственностью. Но мысль эта улетучилась, так и не оформившись в определенное четкое представление.
А вместо того, чтобы сейчас быть вместе с Элинор, он сидит здесь, на Боу-стрит, ожидая служебные рапорты по делу об убийстве, тайну которого – он это знал – ему не разрешить. Если вообще можно разрешить сию загадку, то это под силу только Питту. Лишь его ярость при мысли, что совершена несправедливость и пострадал невинный человек, лишь его принципиальность вкупе с любопытством Шарлотты могут помочь найти ответ независимо от того, присутствует на Боу-стрит Драммонд или нет. Это дело совсем потеряло для него интерес, и Мика угрюмо подумал, что может совершить какую-нибудь глупость, невольно ошибиться; в свою очередь, это уронит его доброе имя, и, вместо того чтобы почетно завершить свою карьеру, он уйдет в отставку со стыдом и унижением.
Драммонд отвернулся от окна, быстро подошел к стойке, где держал шляпу и трость, снял с крючка пальто и вышел в коридор.
– Полтни, я ухожу. Положите бумаги на стол, когда их принесут. Я просмотрю их завтра утром. Если вернется инспектор Питт, передайте, что мы увидимся завтра.
– Да, сэр. Но вы сами придете сегодня к вечеру, сэр?
Однако Драммонд уже быстро шагал прочь и не услышал вопроса. Выйдя на улицу, он так же быстро миновал короткую Боу-стрит и, завернув за угол, вышел на Друри-лейн, где нанял кеб. Назвав адрес Элинор, он откинулся на спинку сиденья, пытаясь взять себя в руки и обдумывая, что ей скажет. Между Оксфорд-стрит и Бейкер-стрит он раз двенадцать поменял слова и выражения, но, прибыв на Милтон-стрит и расплатившись с кебменом, понял, что так и не придумал ничего, что отвечало бы его мыслям. Драммонд даже хотел ехать обратно, но, поступи он так, положение вещей не улучшится. Он просто отложит на будущее то, что неизбежно. Он должен просить ее руки, а оттяжкой времени ничего не изменить и не достичь.
Дверь открыла та же самая нелюбезная горничная, и когда Мика известил ее, что желал бы увидеться с миссис Байэм, она столь же нелюбезно провела его по коридору к двери Элинор.
– Спасибо, – поблагодарил ее Драммонд.
Метнув на него сердитый взгляд, она круто повернулась на каблуках и ушла.
У него вдруг забилось сердце и пересохло во рту. Он поднял молоток, и тот ударил как бы сам собой.
Прошло несколько мгновений, прежде чем Драммонд услышал шаги, ручка повернулась, и дверь отворилась. Это была Элинор – очевидно, ее единственная горничная была занята другим делом. Она удивилась при виде гостя. Какую-то долю секунды ее лицо отражало лишь радость. Затем она встревожилась, в глазах ее мелькнуло опасение. Может быть, Элинор прочла во взгляде Драммонда его чувства, настолько откровенные, что они были для нее неприемлемы. Женщина моментально смутилась. Мика еще ничего не сказал, но начало разговору было уже положено – и начало плохое.
– Добрый день, мистер Драммонд, – сказала Элинор и покраснела, чувствуя, насколько неловко это формальное приветствие.
Определенно, им не нужно так притворяться. Простая светская любезность, за которой можно спрятать свои чувства, – вещь хорошая, но если ее в избытке, то она перестает быть щитом и становится маской.
– Как вы добры, что заглянули, – сказала она, – пожалуйста, войдите. Довольно холодно, как вы думаете? Но, наверное, уже слишком поздно, чтобы предложить вам чашку чая?
– Нет… да… благодарю вас, – принял он предложение и последовал за ней в комнаты. – Я хочу сказать, что нет, еще не поздно и я с удовольствием выпью чашку.
В маленькой гостиной все было совершенно так, как в прошлый его визит: тесно заставлена, такое же узкое окно, истертый посередине ковер, сборная мебель, обстановка, лишь немного украшенная тем, что осталось от дома на Белгрейв-сквер: картина, изображающая дуврские холмы, небольшая бронзовая скульптура лошади да несколько вышитых подушек.
Элинор позвонила и, когда вошла горничная, попросила принести чай – с любезностью, на которую по отношению к слугам способны немногие женщины. Драммонд не мог сейчас вспомнить, обычная ли это манера поведения или что-то новое, появившееся в силу стесненных обстоятельств вдовы. Но, как бы то ни было, теплота ее обращения странно согрела Мику, а вынужденная любезность тронула его сердце новой печалью.
Элинор стояла у каминной полки, глядя на огонь – вернее, на то место, где он должен гореть, но было еще слишком рано по сезону держать камин зажженным целый день, особенно для тех, кто должен был очень бережливо обращаться с углем.
– Надеюсь, вы обо мне не беспокоитесь? – спросила она тихо. – В этом нет никакой необходимости, уверяю вас.
– Я пришел не просто потому, что беспокоюсь о вас, – сказал он, прямо отвечая на ее взгляд.
Она опять покраснела. Казалось, кровь залила ее лицо темной волной.
И снова Драммонд почувствовал, что выдал свои чувства. Он знал, что они написаны у него на лице, и понятия не имел, как их скрыть.
– Как продвигается дело об убийстве? – быстро спросила Элинор. – Успешнее, чем прежде?
Она сменила тему разговора, избегая того, о чем оба они молчали, и, однако, бывшего столь очевидным, будто все слова уже были сказаны и услышаны. Драммонду это не понравилось, и в то же время он странным образом почувствовал себя благодарным ей.
– Нет, нам не стало известно больше, чем в прошлый раз, когда я был здесь, – вздохнув, ответил Мика. – Питт решительно убежден, что это не жена или ее любовник, но, полагаю, он ошибается.
– Но почему вы думаете, что это они убили? – спросила Элинор, садясь и тем самым позволив ему сделать то же.
– Как ни трагично, все же это, скорее всего, именно так. Другая версия связана с делом об убийстве на Фэрриерс-лейн, но оно было закрыто пять лет назад. Элинор…
Она взглянула на него и глубоко вздохнула, словно собираясь что-то сказать.
– Элинор, меня, честное слово, не особенно волнует это дело, да и никакое другое тоже. За последнее время оно постепенно потеряло для меня важность…
– Сожалею, но надеюсь, что у вас пройдет такое настроение. Нам всем иногда тягостно и скучно. Привычные вещи надоедают. Может быть, вам уехать из Лондона? Подумайте о возможности несколько дней отдохнуть. Может быть, даже неделю или две…
Драммонд мог многое сказать ей по этому поводу. Он не оставил бы свой участок на Боу-стрит, пока расследование не закончено. Убийство судьи было чрезвычайно важным делом. Да, он не очень тревожится об этом – просто не может сделать эту работу лучше Питта; напротив, тот справится лучше. Кроме того, он не хочет беспокоить своими упадническими настроениями дочерей, которые надеются, что он поселится у кого-нибудь из них. Однако две недели, проведенные под крышей того или другого зятя, не будут спокойны – ему вряд ли придется по душе положение то ли гостя, то ли приживальца в чужом доме, не чувствующего настоящей независимости. В гостинице же ему будет скучно и тоскливо, а одинокие осенние прогулки по холмам никак не поспособствуют разрешению его трудностей.
И Драммонд сказал ей все как есть.
– Мои настроения не имеют ничего общего ни с пребыванием в Лондоне, ни со смертью судьи Стаффорда. Все эти обстоятельства только обострили понимание того, что я должен сделать.
В лице Элинор промелькнул испуг, который мог означать что угодно. У него внутри похолодело, но он все говорил и говорил, ужасаясь мысли, чтоона может ответить, и все-таки решив сказать все теперь же, ни о чем не умалчивая. Драммонд знал, что может испытать еще б ольшую боль, чем предполагал раньше, но он не был трусом.
Элинор ждала, понимая, что не сможет его ни в чем разубедить.
– Я должен сказать, что мое счастье и покой зависят только от вас, – Драммонд почувствовал, как к его лицу жаркой волной прихлынула кровь, – и хочу знать, можете ли вы оказать мне честь и стать моей женой.
Он не успел еще договорить, а отказ уже ясно выразился в лице Элинор, хотя глаза ее стали несчастными.
– Для меня это было бы большой честью, Мика, но вы должны понять, что я не могу принять ваше предложение.
– Почему? – Он услышал свой голос словно издалека и возненавидел себя за то, что ему не хватает чувства собственного достоинства, за столь незрелое поведение, словно он ребенок и хочет переспорить ее и поставить на своем. Почему он так тщеславен, что вообразил, будто ее благодарность и присущая ей доброта сродни любви?
– Вы знаете ответ, – тихо и страдальчески ответила Элинор.
– Я безразличен вам. – Он выдавил из себя эти слова, потому что предпочитал сам сказать их, а не услышать от нее.
Элинор опустила взгляд.
– Нет, вы мне не безразличны, – ответила она очень тихо с едва заметной улыбкой, черты ее лица стали мягче. – Нет, вы мне очень не безразличны, гораздо больше, чем думаете. Поэтому я не позволю вам жениться на женщине, которую отвергло общество и союз с которой погубит вашу карьеру.
Драммонд глубоко вздохнул.
– Да, это погубит вас. Скандал, связанный с Шолто, никогда не забудут. Я прочно с ним связана, и это навсегда. Я была его женой, и всегда найдутся люди, которые напомнят вам об этом.
– Но я… – начал было он.
– Замолчите, мой дорогой, – прервала она его. – Очень благородно с вашей стороны говорить, что вам нет дела до общественного мнения, но вам придется с ним считаться. Каким образом вы сможете сохранить свое положение, которое дает вам возможность расследовать самые деликатные дела, требующие величайшей секретности и такта, скандальные дела, связанные с именами самых известных в свете семейств, – если ваша собственная жена была так тесно причастна к наихудшему из таких скандалов? – Взгляд ее был требователен. – Мне очень мало что известно о полиции, но это я помню. Мне дороги ваши честь и доброе имя, и я знаю, что ваша порядочность не позволит вам взять обратно сделанное предложение, несмотря на доводы разума, – но, пожалуйста, мы ведь были с вами друзьями… Давайте же будем честны: я уроню вашу репутацию и положение в глазах общества, чего допустить не могу.
Мика опять хотел возразить, но понимал, что она права. Он не сможет сохранить положение и должность, если женится на Элинор Байэм. Некоторые скандальные истории забываются, но эту не забудут ни через десять, ни через двадцать лет. Нелепость положения состояла в том, что если бы она стала его любовницей, то в обществе пошептались бы, немного посмеялись, а может, и позавидовали бы ему. Она была красивая женщина. На их любовную связь почти не обратили бы внимания. Однако если он поступит гораздо благороднее и честнее и женится на ней, ему перестанут доверять и постепенно отвергнут.
– Знаю, – ответил Драммонд. Ему хотелось дотронуться до нее. Мика так этого хотел, что ему было почти физически больно отказаться от подобного намерения, но он знал, что это будет нехорошо, неправильно и жестоко. – Однако я считаю ваше общество гораздо более привлекательным, чем любое общественное или профессиональное положение.
Элинор поспешно отвела взгляд. В первый раз за время встречи ее сдержанность уступила место чувству, глаза наполнились слезами. Она встала и снова подошла к камину.
– Вы очень добры, и я чрезвычайно восхищаюсь вами, но это ничего не меняет. Я не могу вам позволить так поступить. – Она повернулась к нему и заставила себя улыбнуться, но слезы все стояли в ее глазах. – Что же это за любовь, если я куплю свое благополучие такой ценой для вас? Мы не будем счастливы.
Драммонд не мог придумать никакого контраргумента. То, что она сказала, было совершеннейшей правдой. Все, что мог он предложить из земных и светских благ, было бы в ту же минуту умалено фактом ее согласия. Он сам никогда не женился бы на ней, если этим погубил бы ее доброе имя и общественное положение.
Очень медленно он встал, чувствуя во всем теле оцепенение, хотя просидел здесь совсем недолго.
– Простите, – прошептала она хрипло.
Несколько секунд Драммонд думал, не подойти ли к ней, не обнять ли. Но он не хотел навязываться – это было бы нехорошо по отношению к ней, несправедливо; более того, это ничего не изменило бы. Он не знал, что сказать. Отвесить формальный поклон и уйти, словно он приходил на чашку чая, было бы нелепо. Драммонд встретил ее взгляд, понимая, что на его лице сейчас откровенно выразились все его чувства. С минуту он стоял неподвижно, затем повернулся, вышел в коридор и направился к двери мимо горничной и столика, где стоял поднос с чаем. Нет, горничная довольно тактичная особа и понимает больше, чем то казалось на первый взгляд. Она открыла дверь и, с мгновение поколебавшись, сказала:
– Надеюсь, вы еще придете, сэр?
По напряженному выражению ее лица Драммонд понял, что это не праздное любопытство, не обычная формальная вежливость.
– Да, – ответил он твердо, – я обязательно приду.
Питт остался не удовлетворен результатами своего рабочего дня. Он довольно долго занимался расследованием того, как развивались и углублялись отношения Джунипер Стаффорд и Адольфуса Прайса, как переросли простое светское знакомство.
Было очень трудно не намекнуть расспрашиваемым, что официальные отношения этой пары переросли в незаконную любовную связь, которая теперь привела к убийству. Люди, с которыми разговаривал инспектор, были готовы посплетничать, но их настороженность и нездоровая тяга к слухам означали необходимость соблюдения в разговоре с ними величайшей осторожности. В результате полученное Томасом представление было неясно и полно туманных намеков, не имеющих твердых оснований.
Домой он вернулся усталый и разочарованный, понимая, что пытается прояснить то, в чем всегда будет сомневаться и никогда не докажет ничего определенного.
Шарлотта приготовила сегодня замечательный обед: прекрасную тушеную баранину, сдобренную розмарином, с картофелем и брюквой. Томас ел медленно и с б о́льшим удовольствием, чем можно было ожидать, учитывая разочарования дня. Закончив обедать, он сел у камина, положив ноги на решетку, поглубже и поуютнее устраиваясь в кресле, когда вдруг понял, что мысли Шарлотты чем-то заняты и время от времени на ее лице появляется озабоченное выражение.
– Что случилось? – спросил он неохотно, желая, чтобы все оказалось досадной домашней мелочью, о которой не стоит беспокоиться.
Жена закусила губу и оторвалась от рабочей корзинки, в которой перебирала нитки.
– Это касается отношений между мамой и Джошуа Филдингом. Она будет очень огорчена, если он окажется замешан в убийстве на Фэрриерс-лейн.
Питту теща нравилась, он относился к ней с почтительным восхищением, и ему, конечно, не хотелось бы видеть ее расстроенной и уязвленной. Однако нельзя разочароваться, не будучи неравнодушной, и единственный способ избежать горечи разочарования – ни о ком не заботиться и никого не любить, а это подобно смерти.
– Не понимаю, почему он должен быть связан с тем делом. Все, что я смог узнать, указывает на вину Аарона Годмена в соответствии с вынесенным ему приговором.
Шарлотта поморщилась.
– А вот я почти желаю, чтобы Филдинг оказался причастен к убийству.
– Но это же глупо! – Томас не знал, что и думать.
Лицо жены исказила гримаса, она закрыла глаза.
– Томас, мне кажется, она действительно в него влюблена. Я знаю, это абсурдно, но… но, боюсь, это именно так.
– Что было бы нелепо, – быстро ответил Питт, стараясь выбросить эту мысль из головы. Он еще глубже уселся в кресло и так близко придвинул ноги к огню, что подметки домашних туфель сильно нагрелись от близкого огня. – Она почтенная светская вдова, Шарлотта. А он актер, еврей и на двадцать лет ее моложе. Это немыслимо. Ты преувеличиваешь. Ей, наверное, сейчас скучно – точно так же, как сейчас скучно Эмили, и она ищет, чем бы заняться. Это дело для Кэролайн такое занимательное – оно вызывает гораздо больше острых ощущений, чем светские вечера, чаепития и разговоры о моде. Как только Филдинга перестанут подозревать, она тотчас о нем забудет.
– Ты действительно так думаешь? – Шарлотта взглянула на мужа с надеждой широко раскрытыми, очень потемневшими от волнения глазами.
Ее слова не только не успокоили Питта, но, напротив, заставили серьезно задуматься. Он вспомнил, как смотрела Кэролайн на Джошуа Филдинга, как краснела при этом, как менялся сам тон ее голоса и как часто она упоминала в разговоре его имя. А Шарлотта была гораздо восприимчивее и чувствительнее к таким деликатным переменам, чем он. Женщина понимает другую так тонко, как мужчине и не снилось.
– Но ты сам так не думаешь, да? – возразила Шарлотта, словно прочитав его мысли.
Томас колебался, ему хотелось ответить отрицательно, но честность возобладала.
– Не знаю. Наверное, нет. Да, все это кажется нелепостью, но, полагаю, любовь часто бывает нелепа. Наверное, с моей стороны было нелепостью влюбиться в тебя.
Ее лицо вспыхнуло от радости, словно на него упал солнечный луч.
– Да, это было очень нелепо, – ответила она весело. – Ты был такой смешной, да и я тоже.
И на время они забыли о Кэролайн и о том, как ей больно и как она может так нелепо влюбиться…
Однако для старой миссис Эллисон эта проблема была самой важной на свете и затмевала все остальное: свежий выпуск «Иллюстрейтед Лондон ньюс», недавние выходки принца Уэльского и его многочисленных друзей женского пола, суждения королевы, высказанные и невысказанные вслух, грехи и проступки правительства, капризы погоды, промахи слуг, упадок хороших манер и достойных нравов и даже ее собственные многочисленные недуги. Ничто сейчас не было столь важно, не обещало таких сокрушительных последствий, как безумное увлечение Кэролайн этим отвратительным актеришкой. Актер… Надо же, какой абсурд! Какое абсолютное несоответствие социального положения – вот что главное. А что касается возраста, его возраста… Он же на двадцать лет младше ее – ну, по крайней мере, на пятнадцать, при щадящем свете. И это гораздо хуже, чем проявление дурного вкуса; это отвратительно. Так она ей и скажет. Это ее долг как матери ее покойного мужа.
– Благодаря Богу бедный Эдвард покоится в своей могиле, – сказала она многозначительно, когда невестка вышла к обеду. За обеденным столом когда-то собирались Кэролайн, ее муж Эдвард, три их дочери, зять Доминик – и, конечно, свекровь. Сейчас стол был накрыт только на две персоны, и они с Кэролайн сидели по оба его конца в тоскливом одиночестве, взирая друг на друга через длинное дубовое пространство. Теперь перед каждой должен был стоять свой прибор с солью, перцем и уксусом, так как передать это, если понадобится, было некому.
– Прошу прощения? – И Кэролайн заставила себя вернуться мыслями к необычному замечанию.
– Я сказала, слава богу, что Эдвард лежит в гробу, – громко повторила старая дама. – Вы что, оглохли, Кэролайн? Это случается в старости. Я заметила, что у вас и зрение слабеет. Вы теперь часто щуритесь, это вам не идет; от этого случаются морщины – там, где они совсем не нужны. Однако в нашем возрасте бороться с ними уже нельзя.
– Но я не в вашем возрасте, – колко ответила Кэролайн. – Я даже не приближаюсь к нему.
– Грубость вам не поможет, – ответила бабушка с тошнотворной улыбкой. Она наконец завладела нитью разговора. – Вы именно к нему и приближаетесь. Ничто не может устоять перед рукой времени, моя милая. Молодые часто думают, что с ними все будет иначе, но так никогда не бывает, поверьте мне.
– Не понимаю, о чем вы говорите, – сухо ответила Кэролайн, положив в суп соль и обнаружив, что этого совсем не требовалось. – Я не молода, но и не в ваших летах. Вы моя свекровь, а Эдвард был старше меня на несколько лет.
– И это правильно, – кивнув, ответила бабушка, – муж и должен быть немного старше жены. Это привносит в брак чувство ответственности и согласие.
– Какая чепуха. – Кэролайн поперчила суп и опять обнаружила, что этого совсем не нужно. – Если муж сам по себе человек безответственный, то оттого, что женится на более молодой женщине, он не станет лучше. Скорее наоборот. А если и у жены тоже не будет чувства ответственности, то оба они окажутся в проигрыше.
Но свекровь не обратила на этот довод никакого внимания.
– Если муж немного старше жены, – ответила она, шумно прихлебывая суп, – значит, ей легче подчиняться ему, и в доме будут царить покой и счастье. Жена постарше может быть упрямой, – и опять шумно отхлебнула. – А с другой стороны, она может быть настолько глупа, что позволит ему верховодить, когда у него нет для этого ни необходимой зрелости, ни более верного понимания вещей и, разумеется, авторитета. Все это приведет к несчастью и кончится полным крахом.
– Ну что за глупость. – Кэролайн отодвинула тарелку и позвонила дворецкому, чтобы тот унес ее. – Женщина, обладающая хоть малейшим здравым смыслом, будет действовать совершенно самостоятельно, но муж решит, что она действует так по его желанию. И таким образом, они оба будут счастливы – и каждый по-своему прав.
Появился дворецкий.
– Мэддок, пожалуйста, подавайте следующее блюдо. Я не буду есть суп, но скажите кухарке, что он очень вкусный, если ей интересно мое мнение.
– Да, мэм. Вы будете кушать рыбу?
– Пожалуйста, только очень небольшой кусочек.
– Хорошо, мэм. – Он вопросительно взглянул на старую леди. – Вам тоже подать, мэм?
– Разумеется, мне это не противопоказано.
– Да, мэм. – И Мэддок удалился.
– Вам нужно как следует питаться, – сказала бабушка, прежде чем за ним закрылась дверь. – Уже незачем беречь фигуру. Пожилые женщины, когда становятся тощими, ужасно непривлекательны. Шеи как у индюшек. Правда, на кухне у кухарки я сегодня видела более приятных на вид индюшек, чем такие дамы.
– Да, они гораздо привлекательнее, – отрезала Кэролайн, – хотя бы потому, что молчат!
Бабушка разъярилась, тем более что не предвидела подобного ответа и не приготовилась дать сдачи.
– Да, вы никогда не отличались тем, что называется хорошим воспитанием и деликатными манерами, – сказала она ядовито, – но с каждым днем вы становитесь все хуже и хуже, и мне было бы стыдно взять вас с собой в хорошее общество.
Вошел Мэддок, подал рыбу и снова удалился.
– Не припомню ни одного случая, чтобы вы брали меня с собой куда-нибудь. Да и сами вы не знали никого, кто мог бы называться по-настоящему благовоспитанным человеком.
– В обществе существует много вдов, – с торжеством выпалила старая дама, – и если бы у вас было настоящее чувство собственного достоинства, или здравый смысл, или достаточное понимание своего места в обществе, вы могли бы стать одной из них. – Она с жаром атаковала рыбу. – И тогда вы не охотились бы за развлечениями бог знает где, преследуя мужчину вдвое младше вас, который занимается делом, о котором лучше не упоминать. Все приличные люди, что не смеются над вами, жалеют вас, а также и меня, потому что моя невестка делает из себя настоящее посмешище.
Она с шумом понюхала кусок рыбы и нацепила его на вилку.
– Он использует вас как женщину, занимающуюся неприличным ремеслом, – вы же знаете, что я имею в виду. И затем будет смеяться над вами же со своими беспутными друзьями. Вы станете объектом для непристойных шуток во всех злачных местах… и…
Но продолжить у нее не получилось. Кэролайн вскочила и, вспыхнув, крикнула:
– Вы – несчастная старая эгоистка с ядовитым, как у змеи, языком, грязным воображением и скудным умишком! Я не сделала ничего такого, о чем вы говорите, и не сделаю, чтобы заставить людей говорить о себе, – за исключением тех, у кого, подобно вам, нет никакой личной жизни и других тем для разговора! Обедайте без меня! Я не желаю сидеть с вами за одним столом! – И она быстро вышла как раз в тот момент, когда снова появился Мэддок. Свекровь осталась сидеть с открытым ртом, совершенно онемев от изумления.
Однако, войдя к себе в спальню, Кэролайн почувствовала, как слезы жгут ей глаза, а горло невыносимо болит от сдерживаемых рыданий. Заперев дверь, она ничком бросилась на постель и дала им волю; они так долго копились, что теперь она почувствовала облегчение.
Да, все правда. Она ведет себя как дура. Она влюблена, как никогда прежде, в человека на пятнадцать лет младше, чем она, и совершенно не подходящего ей с точки зрения общества. Но то, что он ей неподходящая пара, не значило для нее ничего; главное не это. Как открытая рана на сердце, ее мучило сознание того, что и он считает ее для себя неподходящей.
Прошло еще три дня, прежде чем Кэролайн собралась с духом и скрепя сердце поехала к Шарлотте, чтобы обсудить, каким образом довести до конца расследование убийства Кингсли Блейна. Что бы ни происходило между ней и Джошуа Филдингом, как бы безнадежно и нелепо то ни было, ему опять угрожала опасность попасть в число подозреваемых и испытать все несчастья, какие это подозрение навлекло бы на него.
– Можно посетить Кэтлин О’Нил, – предложила Шарлотта, устремив на мать взгляд, полный беспокойства.
– Отлично, – отвернулась Кэролайн, опустив глаза, чтобы дочь не прочла в ее глазах, какие муки сейчас переживает ее мать, так как, вопреки всем разумным доводам, она не в состоянии ни скрыть своих чувств, ни расстаться с надеждой, пусть и самой эфемерной. – Да, нам нужно знать о мистере Блейне гораздо больше, чем мы знаем, чтобы выяснить наконец, кто его убил. И почему, – продолжила она решительно, – Тамар Маколи уверена, что это был не ее брат. Джошуа тоже так считает, и думаю, что его уверенность проистекает не только из былого чувства дружбы.
– Хорошо, – ответила Шарлотта с не всегда свойственной ей мягкостью. – Мы отправимся к ней сегодня же. Мне, конечно, надо переодеться, а позавтракаем мы у меня дома, если не возражаешь.
– Да, конечно, – согласилась Кэролайн. – Заодно обдумаем, что ей сказать.
– Если хочешь. Но вообще-то я считаю загодя разработанные планы бесполезными, потому что люди никогда не говорят и не реагируют так, как ты ожидаешь.
В середине дня мать и дочь уже выходили из экипажа Кэролайн у дома Проспера Харримора на Маркхэм-сквер. Они послали визитную карточку Кэролайн, чтобы миссис О’Нил заранее могла решить, дома ли она и хочет ли принять их вдвоем. Затем неожиданно вступили в бурную и очень краткую дискуссию, как объяснить, что у матери фамилия Эллисон, а у дочери – Питт. И решили, что безопаснее всего сослаться на то, что, овдовев, Кэролайн якобы вышла второй раз замуж, если вообще им придется объясняться на эту тему.
Спустя буквально несколько минут горничная вернулась и сообщила, что миссис О’Нил с радостью примет их, что она в гостиной и не соблаговолят ли они к ней присоединиться.
Кэтлин О’Нил была не одна, но любезно и с явным удовольствием приветствовала их, представив двум мисс Фозерджилл, которые тоже прибыли с визитом. Разговор возобновился и был так банален, что Шарлотта и Кэролайн могли уделять ему минимум интереса, не опасаясь сделать какое-нибудь неуместное замечание. Шарлотта заметила, что даже Кэтлин несколько утомилась подобным обменом мнений.
Их спасло появление Ады Харримор, одетой в темно-синее шерстяное платье, придававшее ей очень официальный и величественный вид. Ее внушительное, торжественное присутствие вселило в обеих мисс почтение сродни трепету, и через несколько минут они откланялись. Затем к Аде пожаловал пожилой священник, которого она предпочла занимать беседой тет-а-тет, поэтому, извинившись, перешла с ним в утреннюю комнату.
– О, слава богу, – сказала Кэтлин с искренним облегчением. – Они очень благонамеренные люди, но ужасно скучные!
– Боюсь, что иногда труднее всего развлекать именно самых добрых и благожелательно настроенных, – заметила Кэролайн. – После смерти мужа ко мне приезжало с визитами бессчетное количество народу примерно такого же склада, как мисс Фозерджилл, чтобы отвлечь меня от горестных мыслей, и в каком-то смысле им это удавалось – во всяком случае, на время визита. – Она улыбнулась Кэтлин, чувствуя себя ужасно двуличной.
– Я вам очень сочувствую, – быстро ответила миссис О’Нил. – Вы недавно потеряли мужа?
– О нет. Уже несколько лет назад, и смерть его не была совсем уж неожиданной.
Мысленно Кэролайн попросила прощения у Эдварда, но чувствовала себя перед ним не столь виноватой, как перед самой Кэтлин. Последние годы его жизни они были всем довольны, проявляли терпимость и понимание друг к другу, но той близости душ, о которой всегда мечтала Кэролайн, не было. Она не могла даже припомнить моменты общего веселья и обоюдной нежности, которые часто испытывали Шарлотта и Томас.
– Однако я уверена, что вы глубоко пережили эту потерю, – сказала Кэтлин, сочувственно глядя на Кэролайн. – Я утратила первого мужа при самых тяжелых обстоятельствах, хуже и представить нельзя, и мне кажется, что люди, подобные обеим мисс Фозерджилл, все еще думают об этом, когда приезжают ко мне. Наверное, поэтому и держатся так напряженно. Они не представляют, о чем можно со мной говорить. И вряд ли следует осуждать их за это.
Кэролайн хотелось бы продолжить разговор о Блейне, но это было бы слишком грубо, и она не находила слов. Зато Шарлотта, по-видимому, не чувствовала подобных ограничений и сдерживающих моментов.
– Но вы так явно счастливы со своим вторым мужем, что именно поэтому они вспоминают о первом? – Шарлотта несколько повысила голос, чтобы ее слова прозвучали как вопрос.
Кэтлин опустила глаза.
– Если бы вы знали все обстоятельства, то, возможно, поняли бы это. Понимаете, Кингсли был убит. В то время это вызвало большое смятение умов, заседал большой суд. И хотя убийцу осудили безо всяких сомнений, он апеллировал о помиловании. – Она сжала руки. – Апелляцию, конечно, отклонили, и он был повешен вскоре после суда. Тогда все очень неравнодушно воспринимали это дело.
На ее лице присутствовало такое выражение, словно она чего-то не понимала.
– Люди, которые о нас ничего не знали при жизни Кингсли, тогда писали письма в «Таймс». Члены Парламента говорили об этом в Палате общин, требуя обвинительного приговора, призывали наказать такое варварство самой высшей мерой. Я ужасно расстраивалась и горевала. Казалось, нет ни минуты, когда бы нам постоянно не напоминали о постигшем нас несчастье.
– Да, это, наверное, было ужасно, – согласилась Шарлотта. – С трудом могу все это себе представить, – она бросила на Кэролайн быстрый взгляд, словно прося извинения за то, что собиралась сказать. – Так как моя старшая сестра тоже была убита несколько лет назад, я вас понимаю и глубочайшим образом сочувствую.
Поначалу Кэтлин даже испугалась, но потом почувствовала к обеим дамам живейшее сочувствие и, тревожно взглянув на Шарлотту, сказала:
– Может быть, я покажусь вам бессердечной, но нельзя все время исступленно переживать свое горе. Так устаешь, так изматываешься от этого… Появляется потребность думать о чем-то еще, и ты напоминаешь себе, что за гранью несчастья существует нормальная жизнь, не зависимая от всего этого. – Она мимолетно улыбнулась и снова стала очень серьезна. – Понимаете, казалось, весь Лондон стал одержим нашей трагедией и испытывал ужас от случившегося. День и ночь все говорили только об этом.
– Однако суд прошел очень быстро, – поспешила заметить Шарлотта. – И апелляцию отклонили. Тот несчастный, наверное, был сумасшедшим. – Она нахмурилась. – И зачем, ради всего святого, он вообще подавал апелляцию? Это могло только усилить общее неистовство.
– Он утверждал, что невиновен, – Кэтлин закусила губу. – Вплоть до подножия виселицы утверждал, как мне говорили. – Она посмотрела на сцепленные на коленях руки. – У меня иногда случаются кошмары, когда мне снится, что это правда и что он умер так же безвинно, как бедный Кингсли, и что в каком-то смысле его смерть еще ужаснее, потому что его убили хладнокровно, так как этого требовало общество. – Она взглянула на Шарлотту. – Извините. Это не тема для обсуждения с едва знакомыми людьми, которые пришли с визитом к пятичасовому чаю. Мне стыдно, но вы кажетесь такими всепонимающими, и я это очень ценю.
– Пожалуйста, не извиняйтесь, – быстро откликнулась Шарлотта. – Я с гораздо большим интересом обсуждаю то, что имеет отношение к реальной действительности. Уверяю вас, меня нисколько не интересует погода, мне очень мало известно о светской жизни, и я еще меньше беспокоюсь о том, чтобы знать. Мне не по средствам светское времяпрепровождение.
В другой момент Кэролайн толкнула бы Шарлотту ногой за столь несветскую откровенность, но сейчас ее гораздо больше занимала истинная причина их присутствия в этом доме.
Кэтлин печально улыбнулась.
– Да, вы действительно очень не похожи на других, мисс Питт; разговор с вами просто как порыв свежего ветра. Я очень благодарна, что вы приехали.
Шарлотта почувствовала укол совести, но вспомнила об Аароне Годмене, и чувство вины исчезло.
– Мне не хотелось бы вас волновать, – сказала она мягко, – ведь очень многим не понравилось бы, что им напоминают о случившемся, хотя как раз они-то и ответственны больше всех за случившееся. Но почему он пошел на такое преступление? С целью ограбления? Или они были знакомы?
– Да, они были знакомы, – едва слышно отвечала Кэтлин. – Мой муж Кингсли был в связи с сестрой этого человека, и она верила, что он на ней женится, что, конечно, было ерундой. Она заблуждалась – как это часто бывает с женщинами, когда они влюблены. – Печальная, задумчивая улыбка коснулась ее губ, но в ней не было горечи. – У всех нас есть свои мечты, и некоторые из них так нам дороги, что мы не можем с ними расстаться.
– Как это было ужасно для вас, – сказала Шарлотта от всего сердца. Мысль, что ее Томас может втайне питать желания, связанные с другой женщиной, причинила ей острую боль. Как бы она сама отнеслась к тому, что у него любовная связь на стороне? Этого Шарлотта просто не могла вообразить. – О, как мне жаль, как жаль…
Кэролайн молчала, позволяя дочери вести разговор.
Кэтлин расслышала искреннее сочувствие в голосе Шарлотты и слегка покачала головой, как бы отметая болезненное чувство горечи.
– Кингсли был такой обворожительный, смешной и добрый, – сказала она мягко. – Никогда не видела его в дурном настроении. Но я всегда знала, что он человек слабый. Он любил нравиться, а это может быть и положительным, и дурным качеством. Полагаю, он любил и ее, но никак не мог собраться с духом и сказать ей правду о том, что женат. – Кэтлин взглянула на Шарлотту, широко раскрыв темные глаза, и добавила, словно прочитав ее мысли: – Понимаете, у него было очень мало собственных денег. Мы жили хорошо потому, что Кингсли выполнял мелкие поручения папы в его торговой фирме. Он был так обаятелен и так мог развлечь людей, что они легко соглашались на сделку. Но если бы он меня оставил, общество подвергло бы его остракизму, он стал бы отверженным, и папа обязательно бы добился того, чтобы он нигде не нашел работы.
Взгляд ее смягчился.
– Папа может быть таким нежным и ласковым… Не знаю никого, кто был бы так терпелив и заботлив по отношению к моим детям. Он всегда очень любил меня и бабушку… Но он может быть совсем другим, когда видит грубость или нечестность в людях. Он страстно ненавидит зло, и если бы Кингсли меня оставил, то посчитал бы его отъявленным злодеем. И при всей своей легкости в отношениях с людьми и умении нравиться Кингсли об этом знал.
– А это не могло быть случайное ограбление? – Шарлотта постаралась, чтобы ее вопрос прозвучал невинно, словно она не знала относительно убийства Кингсли больше, чем сама Кэтлин.
– Сомневаюсь. Слишком ужасно и бессмысленно для простого ограбления. И это был… это должен был быть кто-то из евреев; так, во всяком случае, казалось. Мне думается, именно поэтому бабушка так недолюбливает их. Кингсли был ей очень дорог.
– О господи, как же вы должны были страдать! – снова воскликнула Шарлотта. – Я не должна больше беспокоить вас сомнениями о… – и вовремя осеклась: она едва не упомянула имя того человека, которого повесили. – В конце концов, если убил не он, то кто же?
– Не знаю, – слегка пожала плечами Кэтлин. – Я сомневалась одно время, не другой ли актер был убийцей… а я говорила, что повешенный был актером? Нет, не сказала. Так он был им, и потом, у Кингсли была связь именно с актрисой. – При всей своей откровенности она избегала слова «любовь».
Шарлотта проглотила комок в горле.
– Другой актер?
– Да, Джошуа Филдинг. Он тоже еврей и был когда-то влюблен в ту же актрису, что и Кингсли.
– Вы думаете, он ревновал? – сдавленно спросила Шарлотта, болезненно ощущая, как в нескольких шагах от нее напряглась Кэролайн, сжимая руки в элегантных перчатках.
– Или же он знал, что Кингсли никогда на ней не женится, – ответила Кэтлин, – и ненавидел его за то, что тот причиняет ей боль, не имея желания жениться. У Кингсли произошла с ним ужасная ссора за два дня до того, как его убили.
– С Джошуа Филдингом? – перебила ее впервые за все время Кэролайн. Лицо у нее было белее мела, голос охрип.
Кэтлин повернулась к ней, словно только сейчас осознав ее присутствие.
– Да. Он пришел домой очень расстроенный, одежда его была в беспорядке и запачкана. Думаю, что схватка была очень жестокой.
– Он сам вам об этом рассказал?
– Да. Но вам надо было бы знать его, – объяснила Кэтлин, превратно истолковав волнение Кэролайн. – Он всегда избегал говорить правду, если это могло причинить боль, но никогда не лгал по собственной воле. Я поняла, что что-то не так, и, конечно, стала его расспрашивать. И он сказал, что серьезно поссорился с Джошуа Филдингом, но когда я спросила о причине, он ответил, что мне неприятно будет об этом узнать, и вышел переодеться перед сном. – Она покачала головой. – Конечно, когда на суде выяснилось все о его отношениях с… любовницей, тогда я поняла, из-за чего они подрались.
– Да, – быстро ответила Шарлотта, переживая за Кэролайн и ощущая ее боль, словно осязаемую вещь. Желудок у нее свело судорогой, ее слегка затошнило. – Да, я понимаю. – Она замолчала, теряясь в поисках слов.
Ей хотелось встать и увести Кэролайн прочь, но это было бы очень грубо и отрезало бы путь к возвращению. А им ведь необходимо вернуться в этот дом. Шарлотта была убеждена, что можно узнать гораздо больше о Кингсли Блейне и таким образом выяснить, кто его убил, даже если это будет страшнее всего на свете. Остановиться сейчас было бы гораздо хуже, чем вовсе не начинать.
– Но даже если так, – она старалась говорить громче, но горло у нее было все еще сдавлено, и получался какой-то писк. – Даже если так, я считаю, что вы не должны чувствовать никаких угрызений совести. Вы ни в чем не виноваты. Его осудили справедливо.
– Но я никому не рассказывала об этой драке, – ответила Кэтлин, переводя взгляд с Кэролайн на Шарлотту и обратно. Лицо у нее побледнело. – Меня об этом никто не спрашивал, а я сама не стала говорить. Как вы думаете, это могло повлиять на исход судебного процесса?
– Нет, – покривила душой Шарлотта. – Совсем никак. А теперь я действительно не хочу вас больше расстраивать. Мне бы не хотелось, чтобы вы вспоминали о моем визите с неприятным чувством из-за потревоженных старых ран.
Она лгала сейчас, но в другом. Ей действительно не хотелось делать Кэтлин больно, потому что она узнала ее лучше. Но отчужденное, тонкое лицо Джошуа Филдинга никак не исчезало у нее из мыслей, хотя она старалась представить это лицо искаженным ненавистью, такой сильной, что та позволила ему зарезать человека и затем распять его труп. Это никак ей не удавалось. Хотя ведь он был актер, хорошо владел своим ремеслом, умел передавать страсти других людей, которые сам не чувствовал, и скрывать собственные…
Однако гораздо сильнее ее сомнений и огорчений была жгучая боль за Кэролайн. Рана ее может быть очень глубокой, совсем не соразмерной краткому времени их знакомства. Однако чувства могут возникнуть и в очень короткий срок, а любовь – и вовсе с первого взгляда.
Кэтлин опять заговорила, но Шарлотта не слышала ни одного слова. Конец визита прошел в более легкой атмосфере за приятной беседой. Шарлотта силой заставила себя отвлечься от печальных мыслей и сосредоточиться на разговоре. Кэролайн была способна только молчать, глядя перед собой, время от времени вставляя замечание, когда условности делали это совершенно необходимым.
Когда они прощались, было много улыбок и благодарностей, после чего Шарлотта и Кэролайн вышли на улицу, продуваемую порывистым ветром, отчего юбки прилипали к щиколоткам. На душе у них было мрачно, будто солнце скрылось навсегда.
Глава восьмая
Питт опять вернулся мыслями к Джунипер Стаффорд. То, что он узнал о ней и ее отношениях с Адольфусом Прайсом, заставляло его задуматься о том, стоит ее подозревать или нет. Может быть, нежелание считать ее виновной проистекало из чисто эмоциональных причин. Томас присутствовал при том, как умирал ее муж. Тогда он не верил, что она может быть виновна в его смерти, жалел ее, не сомневаясь в искренности ее горя, и не расслышал в ее рассказе никакой фальшивой ноты.
Повинно ли самолюбие в том, что он не может изменить свое мнение о ней, или же это профессиональный инстинкт? Или какое-то наблюдение, засевшее в его подсознании, убеждает его в искренности ее горя? Очень неприятно думать, что она все-таки может быть виновна. Отвратительная мысль. Возможно, его теперешняя неуверенность объясняется желанием видеть Аарона Годмена невиновным? Это было бы трагедией для всех, за исключением Тамар Маколи. Трагедией реальной, ощутимой; трагедией бесчестья и посрамленной справедливости.
Сейчас Питт стоял у дома Стаффордов. Он поднял дверной молоток и неохотно ударил им в дверь. Занавеси на окнах были еще полуопущены в знак траура и подвязаны лентами черного крепа. Вид у дома был какой-то несчастный.
Дверь отворил лакей с черной повязкой на рукаве и вопросительно глянул на посетителя.
– Прошу извинить, что беспокою миссис Стаффорд, – ответил Питт более уверенным тоном, чем чувствовал себя, – но у меня появились дополнительные вопросы касательно смерти судьи, которые надо обсудить с ней, – и протянул свою карточку. – Вы не узнаете, миссис Стаффорд могла бы принять меня сейчас?
– Да, сэр, – ответил лакей с бесстрастной обязательностью.
Через пять минут Томас уже стоял в холодной утренней комнате, когда туда вошла Джунипер Стаффорд. Она была в черном, но прекрасно сшитом и модном муаровом платье. На шее было ожерелье из гематита, скромно украшенное отдельными жемчужинками, и такие же жемчужные серьги. Глаза смотрели мягко, в них опять забрезжила жизнь. В лицо вернулись легкие краски, кожа разгладилась и посвежела. Питт сначала удивился, но тут же понял, в чем секрет перемен: Ливси прав, она влюблена.
– Доброе утро, мистер Питт, – сказала она, слегка улыбаясь и останавливаясь на пороге. – Какие-нибудь новости?
– Доброе утро, миссис Стаффорд. Сожалею, но прогресс очень незначителен. Поистине, чем больше я узнаю подробностей, тем меньше они позволяют вынести какое-нибудь определенное суждение.
Джунипер вошла в комнату, и инспектор почувствовал слабый ускользающий запах духов, не таких сладких, как лавандовые. Шелковое платье шелестело на ходу, словно ветер в сухих листьях, и напоминало легкий плащ. Если вдова и горевала о Сэмюэле Стаффорде, то над этим чувством преобладало другое, которое возбуждало ее, заставляло кровь быстрее бежать по жилам и окрашивало щеки румянцем. Тем не менее симптомы любви сами по себе вовсе не означали, что она виновата в смерти мужа.
– Не знаю, что я могу вам рассказать полезного. – Джунипер взглянула на него открыто и прямо. – Мне почти ничего не известно о его судебных делах – только то, о чем можно было прочитать в газетах. Он не обсуждал со мной свою работу. – Она улыбалась, глаза были удивленные. – Судьи, знаете ли, вообще никогда не обсуждают ее с домашними. Это считается неэтичным. Вообще сомневаюсь, что какой-либо муж станет обсуждать свои рабочие проблемы с женой.
– Я это знаю, мэм, – согласился Питт, – но женщины очень наблюдательны. Они многое понимают без слов, особенно когда разговор идет о чувствах.
Миссис Стаффорд слегка кивнула в знак согласия.
– Садитесь, пожалуйста, мистер Питт.
Она опустилась первой – грациозно, но немного боком – на высокий стул, и юбка очень естественно опустилась на пол волнообразным полукругом. Искусство быть женственной было так свойственно ей, что она бессознательно принимала самые изящные позы.
Питт сел напротив.
– Буду очень признателен вам, если вы расскажете мне абсолютно все, что помните о том дне, когда умер ваш муж.
– Снова?
– Если будете так любезны. Может быть, теперь, некоторое время спустя, вы вспомните что-нибудь новое, или же я могу заметить какой-то новый нюанс, которого не почувствовал прежде.
– Ну, если вы полагаете, что это может помочь… – подчинилась Джунипер. Если она и чувствовала беспокойство, то это было незаметно, и Томас стал пристально вглядываться в ее гладкое лицо, ища в нем что-то особенное, помимо печали и боли, которую несли с собой ее воспоминания.
И снова, подробность за подробностью, она рассказывала ему то, о чем говорила в первый раз. Вот они встали, позавтракали. Стаффорд провел некоторое время в кабинете, разбирая письма. Потом пришла Тамар Маколи. Повышенные голоса, не сердитые, но громкие, полные обуревавшими их чувствами. Затем она ушла, и очень вскоре Стаффорд тоже ушел, сказав, что снова желает опросить нескольких людей, причастных к делу об убийстве на Фэрриерс-лейн. После того как он вернулся, Джунипер не видела его до вечера. Он был очень задумчив, занят своими мыслями и отвечал на вопросы коротко, но о своих визитах ничего ей не рассказал.
Они вместе пообедали – еду им подавали одну и ту же и с одного подноса, – затем переоделись и уехали в театр.
Во время перерыва Стаффорд извинился и ушел в курительную, вернувшись перед самым началом второго акта. О том, что последовало далее, Питт знает так же хорошо, как сама Джунипер.
– Убийца, конечно, один из тех, кто был связан с делом о Фэрриерс-лейн, мистер Питт? – спросила она, нахмурясь. – Мне отвратительно обвинять кого-то, но в данном случае это кажется неизбежным. Бедный Сэмюэл что-то обнаружил – не знаю, понятия не имею что, – и когда те люди это поняли, они… они убили его. Как может быть иначе?
– Все, что я способен был выяснить, указывает на то, что приговор по тому делу был совершенно справедлив, – ответил Питт. – Возможно, следствие было проведено несколько поспешно, и, несомненно, вокруг дела бушевали нешуточные страсти, но тем не менее приговор верен.
Впервые за все время разговора в темных глазах Джунипер вспыхнула искра беспокойства.
– Значит, Сэмюэл нашел что-то, какой-то факт, до того совершенно неизвестный и глубоко потаенный. В конце концов, на обнаружение этого факта он затратил много лет… Ведь тогда это оказалось непосильно даже Апелляционному суду. И неудивительно, что вы не могли обнаружить этот факт за столь короткое время.
– Но если он был уверен в том, что нашел что-то новое, неизвестное, миссис Стаффорд, неужели он не захотел бы рассказать об этом кому-нибудь? – спросил Питт, перехватив ее взгляд. – Возможностей для этого у него было более чем достаточно. В тот же день он виделся один на один с судьей Ливси и ничего ему не сказал.
Миссис Стаффорд опять слегка покраснела, вернее, порозовела.
– Он разговаривал об этом и с мистером Прайсом.
– Мистер Прайс тоже это подтверждает.
Она глубоко вздохнула, словно что-то хотела сказать, но потом передумала и посмотрела на руки, лежащие на коленях, а потом снова на Питта.
– Но, возможно, судья Ливси лжет… – Голос у нее был хриплый, лицо покраснело уже окончательно.
– Но зачем бы ему это делать? – бесстрастно полюбопытствовал Питт.
– Потому что неверное решение Апелляционного суда стало бы серьезным ударом по его репутации. – Теперь она говорила быстро, сбивчиво, словно язык ее не слушался. – Это было очень нехорошее дело. Судья Ливси очень многое приобрел, заметно продвинулся по службе, укрепил свою репутацию в глазах общественного мнения. Все восхищались его чувством собственного достоинства, быстротой и точностью его решений. Люди чувствовали себя в большей безопасности, просто находясь в его присутствии. Извините, инспектор, но вы не понимаете, что это значит для члена Апелляционного суда – снова вернуться к делу, чтобы еще раз убедиться в справедливости вынесенного вердикта. Ему пришлось бы признать допущенную ошибку и то, что он не до конца вскрыл все обстоятельства и факты дела или – а это гораздо хуже – что его собственное представление о фактах было несовершенно, неполно и в результате привело к ужасающей несправедливости. Сомневаюсь, что последовало бы какое-нибудь официальное осуждение его действий, и вряд ли это бы что-нибудь изменило в его положении. Но это означало бы утрату доброго имени и незапятнанной репутации, утрату веры в самого себя и свою непогрешимость, что было бы равносильно краху. Его суждения уже никогда не ценились бы как раньше, и даже прежние победы потеряли бы свой вес.
– Но ведь все это в равной степени можно отнести и к судье Стаффорду, если бы оказалось, что, зная некий факт, члены Апелляционного суда вынесли несправедливое решение? – резонно возразил Питт. – Однако если это было нечто, о чем они не знали и знать не могли, тогда их нельзя было бы обвинить в ошибочности действий.
– Ну, хорошо, пусть так. Но вот мистер Прайс; зачем бы ему вам лгать? Он же был главным обвинителем. В его интересах добиваться осуждения виновного. И он ни в коей мере не повинен в том, что защита была неадекватной или общее умонастроение – ошибочно.
– Но существует возможность того, что дело об убийстве на Фэрриерс-лейн не имеет никакого отношения к убийству вашего мужа, миссис Стаффорд, – заметил Томас, внимательно наблюдая за ней.
Джунипер заморгала, во взгляде ее появился несомненный испуг.
– Но тогда у него было бы еще меньше причин лгать.
– Если у него не было для этого личных мотивов.
Томас сейчас ненавидел себя за такие слова. Он сейчас словно хищник, играющий со своей добычей. Но, несмотря на всю тяжесть преступления, инспектор не чувствовал охотничьего азарта, с которым преследуют и загоняют зверя. Он не чувствовал гнева, который облегчил бы ему саму охоту.
– Мне известно, миссис Стаффорд, что мистер Прайс глубоко в вас влюблен.
Кровь отлила у нее от лица, во взгляде вспыхнула тревога. Если бы она была невиновна, если бы не боялась за Прайса или, возможно, за себя, такое замечание с его стороны, напротив, заставило бы ее покраснеть.
– Боюсь, что тут мотив его поведения слишком ясен, – закончил Питт.
– О нет! – вырвалось у Джунипер, она вся напряглась. – Я хочу сказать… я… – Она закусила губу. – Было бы глупо сейчас отрицать, что мы с мистером Прайсом… – она яростно посмотрела на полицейского, стараясь при этом понять, насколько много ему известно, а о чем он только догадывается, – …питаем чувство друг к другу, но это…
Томас думал, что она станет отрицать существование любовной связи. Он видел борьбу противоречивых чувств на ее лице, видел, как разрастается ее страх, стремление понять, чему он может поверить, а чему – нет, а затем сознание, что она проиграла их единоборство.
– Сознаюсь, мистер Питт, я хотела бы стать свободной, чтобы иметь возможность выйти замуж за мистера Прайса, и он дал мне повод думать, что хотел бы того же, – она судорожно выдохнула, – но он честный, порядочный человек. И никогда не прибегнул бы к такой… такой низости и подлости… чтобы убить… моего мужа. – Теперь в ее голосе звучало отчаяние. – Поверьте мне, мистер Питт, мы любили друг друга, но примирились с тем, что эта любовь – лишь несколько моментов тайного счастья, что вы, конечно, можете осудить. И что большее для нас невозможно. – Она покачала головой. – Многие ведут такую тайную жизнь, но это не значит, что они способны на преступление. Тайная связь – это несчастье многих из нас. Я не единственная женщина в Лондоне, которая любит не того, кто является ее мужем.
– Разумеется, нет, миссис Стаффорд. Но вы не единственная, кто оказался в центре преступления, вызванного страстью, – если, конечно, оно случилось именно по этой причине.
Джунипер подалась вперед, требуя его особенного внимания.
– Но это не так! Адольфус… мистер Прайс… никогда бы…
– Не поддался своим страстям настолько, чтобы прибегнуть к убийству как средству соединиться с любимой женщиной, – закончил за нее Питт. – Но как вы можете быть в этом уверены?
– Я его знаю, – сказала миссис Стаффорд и отвернулась. – Это, правда, звучит нелепо. Я и так все понимаю, без ваших слов.
– Нет, это совсем не нелепо, – поспешно ответил Питт, – и очень даже обыкновенно. Мы все без исключения уверены, что те, кого мы любим, не могут быть виновны. И большинство из нас при этом считают, что хорошо знают людей. – Он улыбнулся, понимая, что говорит в данную минуту и о себе тоже. – Наверное, любовь наполовину и состоит из такой уверенности, что мы, именно мы понимаем любимого человека, как никто другой. В том и прелесть близости, что мы обнаружили в нем благородство, о котором никто другой, возможно, и не подозревает.
– Вы умеете хорошо говорить, – ответила миссис Стаффорд, не отрывая взгляда от сцепленных на коленях рук, – но все объяснения не могут опровергнуть того, что я говорю правду. Я уверена, что Адольфус не убивал моего мужа, и с этой позиции вы меня не собьете.
– Полагаю, что он так же уверен в вашей невиновности.
Джунипер быстро подняла голову и уставилась на него, словно он ее ударил.
– Что? Что вы сказали? Вы… о Боже милостивый, вы сказали ему это? Вы заставили его думать, что я…
– Что вы виновны в смерти Стаффорда? – опять закончил за нее фразу Томас. – Или что вы знаете о его вине?
На этот раз она побледнела как смерть, в глазах мелькнул ужас. За кого она боялась? За Прайса? Или за себя?
– Вы, конечно, не опасаетесь, что он может такое о вас подумать?
– Разумеется, нет, – отрезала миссис Стаффорд.
В ту же секунду оба они поняли, что Джунипер лжет. Она была вне себя от страха, что Прайс может подумать о ней такое. Уязвленность, чувство стыда и позора так ясно выражались на ее лице. Она круто отвернулась от Питта и спросила, едва владея голосом:
– Вы были у мистера Прайса?
– Еще нет, но придется в скором времени побывать.
– И вы попытаетесь внушить ему, что это я убила своего мужа, желая освободиться и получить возможность выйти за мистера Прайса? – Голос у нее дрогнул. – Но это же чудовищно! Как вы смеете быть таким… представлять меня такой… ненасытной… – Она осеклась, слезы гнева и страха наполнили ее глаза. – Он же подумает…
– Что вы действительно на это способны? – Томас закончил за нее фразу в третий раз. – Нет, конечно, не подумает, если знает вас так, как, по-видимому, вы знаете его.
– Нет. – С огромным трудом она взяла себя в руки. Голос ее, во всяком случае, уже не дрожал. – Нет, он решит, что я была в высшей степени самонадеянна, слишком многое принимала как само собой разумеющееся. Это прерогатива мужчины, а не женщины – решать вопрос о браке, мистер Питт. – Щеки у нее были по-прежнему бледны, если не считать двух красных пятен на скулах.
– Вы говорите, что мистер Прайс никогда не предлагал вам выйти за него замуж?
Она чуть не задохнулась.
– Но как же он мог? Я ведь уже замужем… во всяком случае, была. Конечно, не предлагал!
Теперь она сидела очень прямо, и Томас опять понимал, что она лжет. Они должны были часто говорить о браке. Как могли они удержаться от этого?
Джунипер подняла голову.
– Нет, вам не удастся заставить меня обвинить его, мистер Питт.
– Вы очень в него верите, миссис Стаффорд, – ответил он задумчиво, – я восхищаюсь вашей выдержкой и доверием к нему. И все же не могу совсем отделаться от этой в высшей степени отвратительной мысли.
Она пристально глядела на него, ожидая продолжения.
– Если это кто-нибудь из вас и вы так уверены, что это не мистер Прайс… – Ему не надо было заканчивать фразу.
У нее перехватило дыхание. Она хотела было рассмеяться – и подавилась смехом. Когда же справилась с удушьем, у нее не было сил спорить с ним.
– Вы ошибаетесь, мистер Питт, – вот и все, что она сказала. – Никто из нас не убивал. И уж точно это не я. Да, я, разумеется, иногда хотела стать свободной, но только хотела, и все. Я ни за что на свете не причинила бы Сэмюэлу вреда.
Инспектор молчал. Он смотрел на ее лицо, на мелкие, словно бисер, капельки пота на верхней губе, и видел, как она бледна, почти как мертвая.
– Нет, я уверена, совершенно уверена. Не могу и думать о том, чтобы Адольфус мог…
– Не верите потому, что его чувство недостаточно сильно? – мягко спросил Питт. – Не так ли, миссис Стаффорд?
Он наблюдал за быстрой сменой выражений ее лица: страх, гордость, неприятие, радость, снова страх.
Джунипер опустила взгляд, стараясь укрыться от его испытующих глаз. Она не могла отрицать страстной любви Прайса к ней, это было бы равносильно отрицанию любви как таковой.
– Возможно, – ответила женщина, запинаясь. – Для меня невыносимо думать, что по моей вине он испытал бы такую… – Она быстро вскинула голову. Темные глаза сверкнули. – Я об этом не знала. Вы должны мне поверить! Я и сейчас в этом сомневаюсь. Вы должны доказать, что он испытывал ко мне подобное чувство и был способен на убийство, иначе я буду снова и снова повторять, что вы ошибаетесь. Но видит Бог, я не виновата. Я не убивала.
Победа не доставила Питту радости. Он встал.
– Благодарю вас, миссис Стаффорд. Ваша откровенность очень мне помогла.
– Мистер Питт… – Слова изменили ей. То, что она хотела сказать, бессмысленно. Что толку отрицать вину Прайса? Она уже связала себя тем, что сказала, и пути для отступления нет. – Лакей вас проводит, – закончила она неловко. – Всего хорошего.
– Всего хорошего, миссис Стаффорд.
Разговор с Адольфусом Прайсом состоялся в его рабочем кабинете и начался довольно спокойно. Питт уселся на большой стул, предназначенный для клиентов. Сам Прайс стоял спиной к книжному шкафу – худощавая, исполненная прирожденного изящества фигура.
– Не знаю, что бы я еще мог добавить к сказанному, инспектор, – сказал он, слегка пожав плечами. – Конечно, мне известно, что опиум продается во многих лавках, так что он вполне доступен. Но сам я его никогда не употреблял, так что это лишь предположение с моей стороны. Однако можно ли так сказать обо всех? Например, о незадачливых знакомых Аарона Годмена – в той же степени, как обо мне? Или о любом другом, кто встречался с судьей Стаффордом в день его смерти?
– Да, действительно, – согласился Питт. – Я спросил только потому, что этого требует формальность. Никогда не думал, что такой вопрос позволит узнать что-нибудь важное.
Прайс улыбнулся, отошел от окна и уселся на вертящееся кресло за столом, элегантно скрестив ноги.
– Так о чем же я еще могу поведать вам, инспектор? Все, что я знаю о деле на Фэрриерс-лейн, давно стало достоянием общественности. Тогда я верил, что виноват Аарон Годмен, и мне по сей день неизвестно, что заставило судью Стаффорда усомниться в этом. Он не сообщил мне никаких подробностей.
– А вы не находите, что это удивительно, мистер Прайс, – спросил Питт как можно безмятежнее, – учитывая то, что вы принимали участие в ведении того дела в суде?
– Не нахожу – если судья Стаффорд находился только на стадии подозрений, – ровно и назидательно ответил Прайс. – Если он и чувствовал какое-то беспокойство, то прекрасно его маскировал. – Питт мог бы поклясться, что само по себе дело нисколько не волнует адвоката. Он проявлял только профессиональный интерес. – Стаффорд не стал бы ничего предпринимать, если у него на руках не было бы неопровержимых доказательств, достаточных, чтобы вернуться к делу, да еще получившему такую скверную огласку, и оспорить приговор, утвержденный пятью членами Апелляционного суда. – Прайс откинулся на спинку кресла. – Возможно, вы не знаете, какое смятение чувств вызвал тот судебный процесс, какую бурю возмущения и гадких страстей. А сейчас под угрозой оказались бы несколько репутаций, возможно, даже доброе имя английского правосудия. Нет, я совершенно уверен, что мистеру Стаффорду надо было иметь очень веские свидетельства, прежде чем он мог упомянуть перед кем бы то ни было об этом деле. Даже строго конфиденциально.
Питт поглядел на него так внимательно, как только позволяла вежливость. Джунипер была преисполнена страхами, Прайс же казался совершенно спокойным и уверенным в себе. Что это – большее, чем у миссис Стаффорд, самообладание или же у него спокойна совесть и нет ни малейшего подозрения на тот счет, что это она отравила Стаффорда?
Томас решил поколебать его спокойствие.
– Я понимаю вашу точку зрения, мистер Прайс, но я, разумеется, должен принять во внимание и альтернативную возможность. Очень вероятно, что смерть судьи Стаффорда никак не связана с делом об убийстве на Фэрриерс-лейн и обусловлена личными мотивами.
– Вполне вероятно, – осторожно ответил Прайс, но его тон слегка изменился. Он, однако, не спросил, какими именно мотивами. Его было не так легко сбить с толку, как Джунипер.
– Сожалею о необходимости говорить без обиняков, мистер Прайс, но мне известно о ваших отношениях с миссис Стаффорд. Для многих мужчин это могло бы послужить мотивом.
Прайс глубоко вздохнул, прежде чем ответить, и вытянул ноги.
– Смею сказать, только не для меня. Вы пришли, чтобы спросить меня об этом?
– Только об этом. Вы хотите сказать, что не чувствовали даже искушения? Вам, должно быть, хотелось, чтобы судья Стаффорд исчез? Или, может быть, я неверно сужу о глубине ваших чувств к миссис Стаффорд?
– Нет. – И Прайс, взяв со стола сургучную палочку, начал рассеянно вертеть ее в пальцах, стараясь не глядеть на Питта. – Нет, разумеется, вы судите верно. Но никакая глубина чувств не может извинить убийства.
– А что она может извинить? – спросил Питт все еще любезно, хотя смысл его вопроса был жесток.
– Не уверен, что понимаю вас, – пытался защититься Прайс, но его самоуверенность исчезла. Пальцы нервно вертели сургуч, дыхание участилось.
Питт выжидал, не желая ни прийти на помощь, ни переменить тему разговора.
– Любовь, – Прайс слегка пошевелился, – она многое объясняет, конечно, однако ничего не извиняет. Разумеется, нет.
– Я с вами согласен, мистер Прайс, но любовь не извиняет также обмана, соблазнения, предательства друга, прелюбодеяния.
– Ради бога! – Прайс крепко сжал палочку, сильно побледнев. Он сидел, откинувшись назад, в оцепенении и пытался что-то сказать, но не находил слов, а затем сразу как-то обмяк. – Да, это правда, – согласился он едва слышно и слегка хрипло. – И вам никогда не узнать, как я обо всем этом сожалею. Я был чрезвычайно глуп. Я потерял всякую способность судить здраво и позволил, чтобы меня увлекли. – Он оборвал себя, быстро взглянув Питту в глаза. – Но на убийство не пошел бы никогда.
И снова Томас промолчал.
Адвокат судорожно вздохнул, все такой же бледный, но постепенно, с неимоверным усилием обретая прежнюю сдержанность.
– Я, конечно, понимаю, что вы должны были рассмотреть и такую возможность. Этого требует логика. Но, уверяю вас, я непричастен к его смерти. Ни в коей мере. Я… – он закусил губу, – не знаю, как мне это доказать, но это правда.
Питт улыбнулся.
– А я и не ожидал, что вы сознаетесь, мистер Прайс, как не ожидал этого и от миссис Стаффорд.
Лицо Прайса снова напряглось.
– Вы сказали то же самое миссис Стаффорд? Это… – Он осекся, словно на ум ему пришла некая новая мысль.
– Естественно, – спокойно ответил Питт. – И пришел к убеждению, что ее чувства к вам очень глубоки и она нередко должна была хотеть освободиться.
– Желание еще не… – Прайс сжал кулаки и опять глубоко вздохнул. – Да, конечно, с моей стороны было бы нечестно утверждать, будто я не надеялся на это, – это было бы неправдой. Мы оба хотели, чтобы она была свободна, но от подобного желания до совершения убийства – огромная дистанция. И Джунипер, конечно, сказала вам то же самое. – Он замолчал, ожидая, что ответит Питт.
– Да, она тоже это отрицала, а также и то, что вы могли участвовать в убийстве.
Прайс отвернулся, едва слышно рассмеявшись, но то был хриплый, нервный смех.
– Это просто смешно, инспектор. Допустим, у нас с миссис Стаффорд определенные отношения… хм… недостойные, – сейчас он не смотрел на Питта, – но они не были пустым времяпрепровождением. – Он осекся, но затем продолжил: – Это очень глубокое чувство. Настоящая трагедия, когда проникаешься к кому-то истинной любовью, не имея возможности пожениться. Так случилось и с нами. – Слова его были несколько витиеваты, и Питт не знал, то ли он сам безоговорочно в это верит, то ли надеется, что говорит правду.
– Я в этом нисколько не сомневаюсь, – ответил Питт и провернул нож в ране: – Вы вряд ли рисковали бы добрым именем и честью ради легкой любовной связи.
Прайс пронзительно взглянул на него и вспыхнул.
– В обществе существуют круги, – безжалостно продолжал Томас, – в которых подобные вещи игнорируются, если все держится в тайне. Но сомневаюсь, что такое возможно в кругу судейских чиновников. Ведь жена судьи, как жена Цезаря, должна быть выше всяких подозрений.
Прайс встал и снова подошел к окну, поворотясь спиной к Питту. Он молчал несколько секунд, затем заговорил низким от душивших его чувств голосом:
– Жены судей тоже люди, инспектор. Если бы ваше знакомство с высшими слоями общества было глубже, чем просто способность привести одну-две цитаты из Шекспира, мне не надо было бы вам об этом говорить. У нас могут быть немного разные кодексы поведения, в зависимости от разности классов, но чувства наши одинаковы.
– Что вы пытаетесь мне внушить, мистер Прайс? Что ваша страсть к миссис Стаффорд заставила вас подлить опиум во фляжку Сэмюэла Стаффорда?
Прайс круто обернулся.
– Нет! Нет, я его не убивал! Я не причинил ему никакого физического ущерба и не способствовал его причинению. И я ничего не знал об этом – ни прежде, ни потом.
Питт напустил на себя вид глубочайшего недоверия. Прайс с трудом сглотнул комок в горле.
– Я повинен в прелюбодеянии, но не в убийстве.
– Мне трудно поверить в то, что вы якобы не знаете, кто убил, – заметил Питт, отчаянно блефуя.
– Я… я… чего вы ждете от меня? – Прайс задохнулся и некоторое время не мог продолжать, но потом выдавил из себя: – Что это Джунипер? Что миссис Стаффорд его убила? Никогда не дождетесь, я этого не скажу.
Но он это сказал. Он думал об этом – и крамольная мысль невольно сорвалась с его языка, обратившись в слова.
Питт встал.
– Благодарю вас, мистер Прайс. Вы были очень искренни. Я это ценю.
По лицу адвоката было видно, что он чувствует глубокое отвращение к себе.
– Вы хотите сказать, что я неубедительно защищал миссис Стаффорд и что теперь опасаюсь за нее? Я по-прежнему не верю, что она причастна к смерти своего мужа, и буду защищать ее до последней капли своих сил.
– Если бы она это совершила, мистер Прайс, вы достигли бы этого предела очень быстро, – ответил Томас, направляясь к двери. – Благодарю, что уделили мне время.
– Питт!
Инспектор обернулся. Прайс облизнул губы.
– Она очень эмоциональная женщина, но я не… я действительно не… – Он замолчал, поняв, что было бы нечестно просить о пощаде для нее, после того как он, в сущности, признал ее вину.
– Всего хорошего, – тихо произнес Питт и вышел в холодный коридор.
– Нет, сэр, я в этом сомневаюсь, – позже, в тот же день, сказал он Мике Драммонду.
Шеф стоял перед камином в своем рабочем кабинете, расставив ноги и заложив руки за спину, и хмуро смотрел на Питта.
– Но почему же вы сомневаетесь и сейчас, и даже больше, чем раньше?
Томас сидел в отдалении от него, в самом удобном кресле, вольготно вытянув ноги.
– Потому что, когда я увиделся с ней, миссис Стаффорд начала с того, что стала защищать Прайса. Она была уверена, что он не мог этого сделать. Не думаю, что она даже подумывала об этой возможности – ее чувства не позволили бы ей. А когда я сказал, что вряд ли Аарон Годмен был невиновен и поэтому сомнительно, что те, кто связан с убийством на Фэрриерс-лейн, могли хотеть смерти судьи, она уже не могла не думать, что вину возложат на нее или на Прайса, но прежде всего испугалась за него. Я сразу увидел по ее лицу, когда она вдруг подумала, что это он.
Драммонд задумчиво посмотрел на ковер.
– Но, может быть, она достаточно умна, чтобы заставить вас подумать именно так?
– Наверное, даже Тамар Маколи не могла бы достовернее передать это чувство, – честно ответил Питт. – Игра – это широкие жесты, движения рук и тела, интонации, междометия. Но даже самая блестящая актриса не может по своей воле смертельно побледнеть.
– Но тогда это, наверное, Прайс? – ответил Драммонд почти с надеждой. – Может, ему надоело ждать? Простой любовной интрижки для него оказалось недостаточно и он захотел жениться на ней? – Он пожал плечами. – Или стал нервничать из-за затянувшейся незаконной связи? Миссис Стаффорд могла нарушить тайну или потребовать, чтобы он уделял ей больше внимания?
– И поэтому он прибегнул к убийству? – с легким сарказмом спросил Питт. – Но Прайс не производит впечатления человека, склонного к истерическим поступкам, который теряет рассудок от страсти, ведет себя глупо и вообще не способен контролировать себя, позволяя страстному увлечению разрушить свою жизнь. Во всяком случае, не до такой степени, когда теряют все и не получают взамен ничего. Он достаточно хорошо знает закон, чтобы поверить, будто сумеет добиться своего.
– Почему бы и нет? – прервал его Драммонд. – Слишком ли большая дистанция от прелюбодеяния и предательства человека, который ему доверял, до того, чтобы убить его?
– Полагаю, что расстояние существенное, – возразил Питт, подавшись вперед. – Но даже если совершенно отвлечься от этого соображения… Прайс – юрист. Прелюбодеяние – грех, но не преступление. Общество может отвергнуть вас на время, если вы слишком откровенно выставляете свой грех напоказ. Но за убийство общество вешает. И Прайс слишком часто видел, как это случается, чтобы игнорировать сей факт.
Драммонд глубоко засунул руки в карманы и ничего не ответил. Он не так уж сильно был увлечен этим делом, и Питт это знал; он пришел к шефу потому, что этого требовал служебный долг. А кроме того, нужно было получить разрешение, чтобы заниматься делом об убийстве на Фэрриерс-лейн.
– Вдобавок, когда я стал настаивать, что он, возможно, основной подозреваемый, Прайс испугался и направил мое внимание на нее.
Впервые за все время разговора лицо Драммонда выразило сильное чувство. Губы его презрительно искривились, взгляд говорил, как больно ему слышать все это.
– Какой трагифарс, – ответил он тихо. – Двое влюбленных, стремясь отвлечь от себя подозрение, валят вину один на другого, и это доказывает, что их так называемая любовь – лишь увлечение, которое быстро исчезает, как только речь заходит о личных интересах. Вы доказали, что это был плотский голод, похоть. – Он не отрываясь смотрел на огонь. – Вы доказали, что она была настолько сильна, что повлекла за собой убийство. Инстинкт самосохранения – вот ответ. Многие преступники выдают своих подельников, чтобы спасти себя.
– Но я говорил совсем не это, – несколько раздраженно запротестовал Питт. Ему становилось трудно разговаривать с Драммондом, ум начальника потерял обычную остроту. – Прайс сначала был совершенно уверен, что это не может быть миссис Стаффорд, а затем вдруг понял, что это не исключено. Он боялся за себя, конечно, но сначала все-таки испугался за миссис Стаффорд – не за то, что ее ложно обвиняют, а за то, что она действительно виновата.
– Вы уверены? – нахмурился Драммонд. – Вы как будто хотите сказать, что на самом деле никто из них не убивал. Вы это имеете в виду?
– Да, именно это, – Питт с трудом сдерживал раздражение. – Они виноваты в том, что поддались страсти, что приняли безумное увлечение за любовь и, обманывая себя, решили, что их чувство извиняет все, когда оно ничего не извиняет. Понятно, что не поддающийся воле голод мучителен, но в этом чувстве нет ничего благородного. Это эгоистическое чувство, в конечном счете разрушительное. – Он еще больше наклонился вперед, не отрывая взгляда от Драммонда. – Никто из них по-настоящему не дорожил благополучием друг друга, иначе они никогда не позволили бы страсти управлять их поступками. Я, наверное, говорю слишком выспренно, но оправдание страстей меня злит! Если бы они вели себя честно, то не причинили бы столько зла и разрушений и в результате не остались бы ни с чем.
Драммонд молча смотрел вдаль.
– Извините, – выпрямился Питт, – но мне нужно снова вернуться к делу о Фэрриерс-лейн.
– Что? – Драммонд сузил глаза.
– Если убийца не Джунипер Стаффорд и не Прайс, тогда опять придется заняться тем делом, – повторил Питт. – Судью убил кто-то из тех, с кем он встречался в день смерти, потому что с фляжкой было все в порядке, когда вместе с судьей из нее пили Ливси и его гость, пришедший к ленчу. А это заставляет подозревать только тех, кто был причастен к делу на Фэрриерс-лейн.
– Но ведь мы уже все обговорили, – заспорил Драммонд. – Все прямо указывает на вину Годмена, а если так, то зачем было убивать Стаффорда из-за того, что он опять хотел заняться этим делом? И, между прочим, нет никаких доказательств, что он действительно этого хотел. Ливси, во всяком случае, говорит, что Стаффорд не собирался этого делать.
– Нет, Ливси сказал, что не знал о таком намерении Стаффорда, – поправил его Питт. – Я понял так, что, по мнению Ливси, дело было завершено, однако это не значит, что Стаффорд не нашел ничего нового. Он вполне мог решить оставить эти сведения при себе, пока не найдет неопровержимое доказательство.
– Чего? – в изнеможении спросил Драммонд. – Что кто-то другой, а не Годмен убил Блейна? Но кто же это мог быть, скажите, ради бога. Филдинг? Против него нет никаких доказательств. Во всяком случае, их не было во время судебного процесса. Вы можете представить, что кто-нибудь, помимо Стаффорда, смог бы найти сейчас что-нибудь доселе не известное?
– Не могу, – согласился Питт, – но я хочу начать новое расследование того дела, причем с самого начала. Я обязан сделать это, если хочу узнать, кто убил Стаффорда.
Драммонд вздохнул.
– Тогда, наверное, вам действительно надо заняться тем делом.
– Но с вашего разрешения. Иначе Ламберту это не понравится.
– Конечно, нет. А вам бы понравилось?
– Нет. Но если бы я хоть однажды усомнился, не допустил ли с самого начала ошибки, я бы не успокоился, пока точно все не установил.
– Неужели? – сухо осведомился Драммонд и перешел от камина к столу. – Да, конечно, я дам разрешение, но надо быть очень осторожным и дипломатичным, если хотите чего-нибудь добиться. Это не понравится не только Ламберту. Вы многим наступите на любимые мозоли. У меня был заместитель комиссара, который требует как можно скорее разрешить тайну убийства Стаффорда. И сделать это без обращения к делу на Фэрриерс-лейн, потому что это вызовет большое возбуждение в обществе и посеет сомнения в справедливости вынесенного тогда приговора. Существует и так достаточно людей, пытающихся возбудить недовольство общественности, и мы не должны подавать им повод ставить под сомнение саму систему правосудия в стране. Убийства в Уайтчепеле и так очень повредили репутации лондонской полиции, вы же знаете.
– Да, знаю, – тихо ответил Питт.
Ему было очень хорошо известно о граде отставок, который посыпался после тех убийств, и запросах членов Парламента в обеих Палатах, и недовольстве общества, которому не нравилось, что оно содержит на свои налоги такую бездеятельную и неудачливую полицию. Было немало и таких, кто все еще считал, что идея организованных полицейских патрулей провалилась, и которые охотно вернулись бы к временам шерифов и боу-стрит-раннеров.
– И премьер-министр был с визитом, – продолжал Драммонд, пристально взглянув на инспектора и пожевав губами. – Он не желает никаких скандалов.
Томас подумал об «Узком круге», но промолчал. Драммонд был так же бессилен бороться с ним, как и сам Питт. Они могли только догадываться, кто из начальства принадлежал к «Узкому кругу», но не узнают об этом точно, пока сверху не посыплются награды и повышения – хотя тогда уже будет поздно что-либо предпринимать.
– Ради бога, Питт, будьте осторожны, – с нажимом сказал Драммонд. – Будьте уверены, что действуете правильно.
– Да, сэр. – Томас встал. – Благодарю вас.
Питт пришел к Ламберту рано утром. Тот выглядел немного заспанным и очень недовольным их новой встречей.
– Больше мне нечего вам сказать, – начал он прежде, чем инспектор успел задать первый вопрос.
– Полагаю, что иначе вы рассказали бы мне все при первой встрече.
Томас надеялся, что его слова прозвучали без всякого подтекста. В голове мелькнула мысль, не является ли Ламберт членом «Узкого круга». Как бы то ни было, ему претило проверять работу другого человека, словно он собирается выявить какую-то капитальную ошибку. Однако выбора не было. Томас посмотрел на измятое, сердитое лицо Ламберта. На его месте Питт тоже был бы недоволен, но, как он уже говорил Драммонду, все равно надо знать правду. Гораздо хуже – неуверенность, когда не спишь всю ночь и думаешь, думаешь так и этак, снова и снова прокручивая в мозгу одно и то же, пока возможная ошибка не покажется реальной, пока все не омрачит сознание вины – тогда исчезнет уверенность в своих силах и все твои решения покажутся несостоятельными.
Томас снова взглянул на Ламберта, неудобно сидящего в кресле.
– Вы, очевидно, не хотите знать правду? – спросил он прямо.
– Я все знаю, – Ламберт отвел глаза. – Доказательства были исчерпывающие. У меня на руках имеется достаточно свежих дел, чтобы снова вникать в дела давно законченные. – Он посмотрел на Питта раздраженно и немного виновато. – Да, мы проводили то расследование и процесс довольно поспешно, это я признаю. Не скажу, что сейчас я действовал бы совершенно так же, как тогда, при условии, что мне было бы предоставлено больше времени для обдумывания, и без того, чтобы меня каждый день подгоняли. Но, смею сказать, и вы бы проводили некоторые расследования иначе, если бы нынче вам представилась новая возможность. Начиная с Хайгейтского дела.
– Да, это так, – ответил тихо Питт, с болью вспоминая, как он не смог предотвратить вторую смерть. – Тем не менее я намерен снова рассмотреть дело об убийстве на Фэрриерс-лейн. Я ничего не хочу делать без вас, хотя и придется, если вы меня вынудите. – Питт посмотрел в несчастные глаза Ламберта. – Если вы уверены, что по существу дела не допустили ошибки, то я только лишний раз это докажу, вот и все. Ради бога, старина, я совершенно не стремлюсь искать ошибки в ваших действиях – лишь хочу быть уверенным в фактах. Я знаю, что это такое – работать, когда на тебя давят газеты, когда каждый день от тебя требуют результатов, когда люди поносят тебя на улицах, а заместитель комиссара начинает тяжело дышать при виде тебя и требует ежедневного отчета о проделанной работе, когда премьер-министру приходится отвечать на запросы в Палате общин…
– Но такого дела у вас не было никогда в жизни, – с горечью возразил Ламберт, несколько смягчившись.
– Могу я посмотреть материалы допросов и попросить Патерсона помочь мне найти всех свидетелей?
– Вы можете поговорить с Патерсоном, но я не могу отдать его в ваше распоряжение и позволить ходить по округе вместе с вами. Он может рассказать, что помнит. Имена вы узнаете из протоколов суда. А свидетели, где они сейчас? Вам самому придется искать их, – Ламберт встал, – и вам никогда не удастся найти никого, кто видел, как Годмен выходит из переулка. Половины из них уже наверняка нет в живых. Швейцар покажет то же самое, мальчишка – единственный, кто действительно видел Годмена, – совершенно не надежен. Хотя цветочница все еще продает цветы на том же самом месте, и Патерсон до сих пор служит в полиции.
– Спасибо.
Ламберт подошел к двери и распахнул ее. Позвав сержанта, он приказал доставить протоколы по делу об убийстве на Фэрриерс-лейн, затем опять вошел в кабинет и хмуро взглянул на Питта.
– Если что-нибудь найдете, я хотел бы, чтобы вы меня известили.
– Конечно.
Сержант с документами вошел прежде, чем Питт успел ответить более пространно. Томас поблагодарил его и ушел с бумагами в маленькую комнату, указанную Ламбертом. Там он прочитал показания Джошуа Филдинга, Тамар Маколи и наполовину – театрального швейцара, когда вошел сержант Патерсон. Он выглядел встревоженным, но в нем не заметно было ни раздражения, ни малейшей обиды.
– Вы хотели меня видеть, сэр?
– Да, пожалуйста. – И Питт указал на стул напротив.
Патерсон неохотно сел. Лицо у него было недоумевающее.
– Расскажите мне опять все, что помните по делу о Фэрриерс-лейн, – попросил Питт. – Начните с того момента, когда вы только услышали о нем.
Сержант легонько вздохнул и начал:
– Я был на дежурстве с самого раннего утра. Констебль прислал сообщить, что подручный кузнеца на Фэрриерс-лейн нашел ужасающий труп во дворе конюшни, так что меня сразу послали посмотреть, что там приключилось. – Патерсон взглянул на Питта. – Мы иногда получаем такие вот сообщения, но потом оказывается, что это пьяный или же умер кто-нибудь сам собой. Я направился туда сразу же – и увидел, что констебль Мэдсон стоит у выхода с Фэрриерс-лейн, белый как простыня, впору самого хоронить.
Голос у Патерсона был глухим и монотонным, словно, много раз рассказывая о тех событиях, он переживал их как в первый.
– Тогда, едва только рассвело, Мэдсон повел меня во двор конюшни и кузницы, и как только я вошел и повернулся, то сразу это и увидел. – Он запнулся, но потом взял себя в руки. – Он был прибит к двери конюшни гвоздями, как, прошу прощения, сэр, Христос на распятии, – большие гвозди в ладонях, запястьях и ступнях. Наверное, для того, чтобы тело не упало. – Лицо Патерсона побелело, на губе выступили бисеринки пота. – Никогда не забуду, сколько ни проживу на свете. Страшнее ничего не видел. Вот все думаю, как человек мог сделать такое с другим человеком…
– Согласно медицинской экспертизе, он был уже мертв, когда с ним такое сделали, – мягко ответил Питт.
Щеки Патерсона покрылись пятнами.
– Вы хотите сказать, что от этого дело становится не таким страшным? – спросил он хрипло. – Нет, это все равно кощунство!
Питт хотел сказать, что убийца так, очевидно, не считал, но понял, что этот сердитый молодой человек его слова не услышит – он все еще кипел яростным негодованием, все так же возмущался жестокостью и насилием и мысленно ужасался, как и пять лет назад. Ненависть человека к человеку ранила его на всю жизнь.
– Да, конечно, – согласился Томас, – но все же отчасти утешает то, что он не мог уже чувствовать боли. И вообще мог умереть очень быстро, отчего, конечно, его близким вряд ли было легче.
– Может быть. – Лицо Патерсона было напряжено, тело неподвижно. – Но по мне так это без разницы, если есть такие звери, на это способные. А если вы хотите сказать, что раз он распял мертвого, это может что-то извинить, то нет, сэр, я думаю, что вы ошибаетесь. – Он словно съежился, опять вспомнив, как ужасное зрелище повергло его в ярость и страх одновременно. – Если бы убийцу можно было повесить во второй раз, я бы сам вызвался это сделать.
Питт промолчал.
– А как вы думаете, Годмен или кто-то другой способен был поднять тело и прибить его к двери? Мертвое тело чрезвычайно тяжело, его трудно поднять, не говоря уж о том, чтобы поставить на ноги и держать, в то же время прибивая за руки или запястья.
– Понятия не имею, – скорчил гримасу Патерсон, глядя на инспектора удивленно и с отвращением. – Я часто сам об этом думал; даже спросил его тогда, когда мы его арестовали. Но он твердил только, что это, мол, не он… – Патерсон презрительно усмехнулся. – Но, может, у сумасшедших силы на десятерых? Так люди говорят… Нет, это он сделал, факт. Разве только вы узнали, что ему еще кто-то помогал… Вы разыскиваете сообщника?
– Не знаю, был ли такой, – ответил Питт. – Расскажите, что произошло потом? Ведь Кингсли Блейн был очень высоким человеком, правда?
– Да около шести футов, смею думать. Выше меня. Я не смог поднять его. Знаете, мертвый груз…
– Понимаю. Что вы сделали потом?
Патерсон держался настороженно, лицо его побледнело, он весь напрягся.
– Послал полицейского за мистером Ламбертом. Я понимал, что дело это важное, не по моему званию. И пока он ходил, то, наверное, были самые долгие полчаса в моей жизни.
Ну, в этом-то Питт не сомневался. Его воображение рисовало молодого человека, который стоит на блестящих в утреннем свете камнях мостовой, его дыхание вырывается паром на морозном воздухе; рядом – холодный горн, который так и не разжег испуганный мальчик-подручный, и страшно обезображенный труп Кингсли Блейна, все еще распятый на двери, раны на его руках в запекшейся крови.
Наверное, Патерсон вновь мысленно видел эту жуткую картину. На лице его было тоскливое выражение, он гримасничал, пытаясь взять себя в руки.
– Продолжайте, – подбодрил его Томас. – Пришел мистер Ламберт, и, наверное, с ним был врач судебно-медицинской экспертизы?
– Да, сэр.
– Мальчик-подручный до чего-нибудь дотрагивался?
В любых других обстоятельствах напряженное лицо Патерсона выглядело бы смешным; теперь же оно казалось лишь трагичнее и человечнее.
– Господи помилуй, да нет же, сэр! Бедняга парень со страха прямо рехнулся. Готовый клиент для Бедлама [8], вот какой он был. Он бы не притронулся к трупу даже ради спасения собственной жизни.
Питт улыбнулся.
– Да, наверное, но кто-то же снял тело?
Патерсон с трудом проглотил комок в горле. Он так побледнел, что Питт стал опасаться, как бы его не вырвало.
– Это я сделал, сэр, вместе с врачом. Гвозди были крепко вбиты, пришлось орудовать клещами. А мальчик потом продал все, что у него было, и опять уехал к себе в деревню, откуда был родом. – Патерсон поежился. – И потом уже не занимался кузнечным ремеслом. А на том месте теперь кирпичом торгуют, даром что называется по-прежнему Фэрриерс-лейн. Может, будет потом Брик-лейн… [9]
Инспектору очень не хотелось возвращать сержанта к предмету разговора, о котором тот так хотел забыть, но выбора не было.
– Что вам тогда сказал врач, прежде чем осмотрел тело более тщательно? Вы же должны были спросить его?
– Да, сэр, он сказал, что убитого… мы тогда не знали, как его звать, это было до того, как мы обыскали его карманы… Мне надо было сделать это сразу же, но я не мог себя заставить, – он посмотрел на Питта одновременно с вызовом и чувством вины; Томасу показалось, что в душе у Патерсона идет борьба противоречивых чувств. – Врач сказал, что мистера Блейна убили прежде, чем распяли, – продолжал сержант, – поэтому из его рук и ног вытекло не очень много крови. И что он умер из-за раны в боку.
– А врач сказал, чем тот был ранен в бок? – перебил его Питт.
– Он сказал, что догадывается, – неохотно продолжал Патерсон, – но потом сказал, что прежде ошибался.
– Неважно, что он говорил потом. Что он вам сказал?
– Сказал, что его ударили каким-то очень длинным ножом, словно меч, который носят итальянцы, с узким лезвием. – Патерсон покачал в раздумье головой. – Но потом, когда осмотрел тело, то сказал, что это, наверное, один из длинных кузнечных гвоздей, вроде тех, какими его прибили к двери.
– Он говорил, когда Блейн умер?
– В полночь или около того. Так что бедняга был мертвым уже довольно давно. Сказал, это точно случилось не в последние два-три часа. А разговаривали мы с врачом в половине седьмого утра. Он сказал, что это, наверное, случилось до двух ночи, – на лице Патерсона отразилось некоторое раздражение, – но мы-то знали, когда, сэр, – из показаний швейцара и людей, которые тогда околачивались возле Фэрриерс-лейн и видели Годмена после того, что он совершил.
– Но вы тогда об этом не знали, – уточнил Питт.
– Нет.
– А что вы уяснили, глядя на труп?
– Что это был джентльмен, – начал Патерсон, снова напрягаясь при воспоминании. – Это было понятно по одежде и по рукам – он никогда не занимался тяжелым трудом. Одежда была дорогая и даже вроде праздничная – черный сюртук, рубашка с рюшами, золотые запонки, шелковый шарф и все такое прочее. И плащ, который надевают, когда в оперу едут.
Он опять вздрогнул.
– Перво-наперво мы стали искать людей, которые вокруг этого места всю ночь ошивались. Нашли несколько нищих и пьяниц, которые спали прямо на земле у южного выхода с Фэрриерс-лейн, и стали их спрашивать. – Патерсон почувствовал себя немного свободнее, когда разговор перешел с мертвого тела на обстоятельства. – Они полночи сидели около огня при дороге, жарили каштаны и, наверное, попивали. Эти бродяги показали, что видели, как этот джентльмен прошел на Фэрриерс-лейн примерно в половине первого – высокий, в цилиндре, со светлыми волосами, насколько можно было видеть, они падали немного на лоб. За ним никто не шел. Я в особенности об этом спрашивал, но они заверили, что никого за ним не было. Так что тот, кто это сделал, стало быть, поджидал его в переулке, – сержант невольно содрогнулся.
– Продолжайте. – Питт сейчас мысленно видел ту же картину, что и Патерсон, но не хотел, чтобы тот чересчур ярко представлял себе последующее, – эмоции помешали бы ясности его мышления. – Как они описывали человека, который вышел с Фэрриерс-лейн? Полагаю, он был единственный, кто оттуда выходил?
– Да-да, – ответил с жаром Патерсон. – И больше не было никого, примерно час или больше. Бог знает что он чувствовал тогда! Этот, второй, был как бы пуглив, они сказали.
– Они действительно так выразились? – удивился Питт. – Для подобных людей слово необычное.
– Ну, – Патерсон слегка покраснел, – они на самом деле сказали, что вид у него был опасливый, словно он боялся, что его кто-нибудь увидит. Он прошел по аллее, выйдя из-под тени деревьев, немного постоял, подождал, не идет ли кто, потом выпрямился и пошел довольно прытко по тропинке, не глядя по сторонам.
– А где стояли видевшие его?
– Вокруг жаровни с каштанами, наполовину в канаве.
– Да, но с какой стороны улицы? И действительно ли Годмен прошел мимо них?
– Нет, они стояли с другой стороны, но поблизости от переулка, прямо почти у самого выхода. И поэтому довольно хорошо его видели, – настаивал Патерсон.
– Значит, он прошел по другой стороне улицы, после полуночи, мимо кучки бродяг и пьяниц… А в конце переулка горит уличный фонарь?
Лицо сержанта опять напряглось.
– В двадцати ярдах от него. Он прошел прямо под фонарем. Прямо под ним!
– А как они его описали? Высокий, низкий, худой, полный? Что они об этом говорили? И как он был одет?
– Ну… – Патерсон наморщил лоб, – они говорили, что он был довольно плотный, одет в тяжелое пальто. Оно, наверное, было расстегнуто, почему он казался больше, чем был на самом деле. Но были они не так уж от него близко и не особенно рассматривали. Да и зачем им?
– А что насчет крови? В вашем рапорте о ней не упоминалось. И ее должно было быть много. Нельзя совершить подобное убийство, не залив кровью все вокруг.
Патерсон заморгал и посмотрел на Питта так, словно его сейчас стошнит.
– Они сказали, что видели темное пятно, но решили, что он подрался и ему разбили нос.
– В рапорте вы на этом подробно не останавливались, – настаивал Томас.
– Нет, – ворчливо согласился Патерсон, – не подробно, но все же достаточно. А что касаемо человека, то пока там были эти бродяги, больше из переулка никто не выходил. И во дворе там горит фонарь. Ни один преступник, если он виновен, не мог бы просто так выйти и сразу зашагать прочь!
– Да, – согласился Питт. – Это так. А что вы делали после?
– Врач нам сказал, кто убитый. Он нашел его имя на некоторых вещах, которые достал из карманов; также там был оторванный театральный билет, как раз на этот вечер. Так мы узнали, где он был за час до того, как его убили. Так что мы, натурально, туда и пошли.
– С кем вы встречались?
– Единственный, кто мог нам рассказать кое-что, так это костюмерша мисс Маколи, мисс Примроз Уокер и швейцар, сейчас уж не помню как его…
– Альфред Уимбуш, – напомнил Питт. – И что они сказали?
– Швейцар показал, что мистер Блейн приходил в театр очень регулярно и всегда заглядывал за кулисы к мисс Маколи. Частенько оставался поужинать. Она сама ничего не сказала, но было сразу видно, что они любезничали, не говоря худого слова. – В его голосе прозвучала легкая насмешка, и Питт с трудом сделал вид, что ничего не заметил. – Но она очень переживала, – сказал Патерсон уже мягче. – Очень сильно. Она показала, что мистер Блейн был тем вечером в театре и задержался допоздна у нее. Потом она еще сказала, что он подарил ей очень красивое ожерелье, которое много лет было в семье его жены. И мисс Маколи сказала, что надела его на ужин, но потом отдала обратно и он взял, потому что если бы она оставила его, то вышла бы большая неприятность. По крайней мере, так и мисс Уокер говорила. Но вряд ли он его взял, потому что ожерелья при нем не было, когда его, тело то есть, нашли.
– Значит, мистер Блейн оставался допоздна у мисс Маколи, а потом ушел? Когда?
– Около двенадцати ночи, может, на минуту-две позже. Ну, самое большее пять минут первого. Так нам сказал Уимбуш. Он видел, как мистер Блейн уходил, и закрыл за ним дверь. И еще сказал, что как только Блейн стал выходить, к нему подбежал через дорогу парнишка, остановил его и что-то сказал, словно передал сообщение насчет того, что он должен кого-то встретить в клубе и решить какое-то дельце. Блейн будто понял, кто его ждет, и сказал, что да, сейчас пойдет, поднял воротник и пошел к Фэрриерс-лейн или в том направлении, к Сохо.
– А швейцар видел, кто просил мальчика передать Блейну сообщение?
Патерсон едва заметно вздрогнул.
– Была какая-то фигура, но разглядеть было нельзя. И швейцар сказал, что фигура была довольно большая, но потом переменил показание и говорил, что не уверен, так ли это, потому что тот стоял в тени деревьев. И, конечно, швейцар не разглядел лица.
– Значит, насколько ему удалось разглядеть, это мог быть Аарон Годмен, но, возможно, и кто-то еще?
– Да, кто-то более или менее среднего роста, – подтвердил Патерсон.
– Но если это был Годмен, он, конечно, постарался бы спрятаться, чтобы его не увидели, правда? – Томас вопросительно поднял брови. – Ведь он понимал, что если швейцар его увидит, то узнает и запомнит.
– Верно.
– Но мальчика вы нашли. Что сказал он?
Вид у Патерсона был не слишком уверенный.
– Ну, как я и сказал, он был не очень хороший свидетель. Просто уличный мальчишка, попрошайка, воришка, старающийся как-то выжить. И он ненавидел полицию, как все такие же. – Патерсон фыркнул и заерзал на стуле. – Он говорил, что человек, который просил передать сообщение, был старый, а потом сказал, что нет, мол, молодой. Сначала мальчишка говорил, что он высокий и грузный, а потом – что обычного роста. Честное слово, сэр, он сам не знал, что говорит. Для него было важно одно: тот человек дал ему шесть пенсов. Еще он прибавил, что у него был еврейский нос и он очень волновался. Но оно и понятно. Ведь он собирался убить человека.
– Мальчик путался в показаниях или просто переменил мнение? – спросил Питт, внимательно следя за выражением лица Патерсона.
Тот заколебался.
– Ну как сказать… нет, он переменил мнение, если честно, но мне кажется, что он сам ничего точно не знал. Такие они люди. Не знают, чем вранье отличается от правды.
– Он узнал Аарона Годмена?
– Нет, он сомневался. Сказал, что не уверен. Но ведь эти уличные мальчишки никогда не хотят чем-нибудь помочь полиции.
– А почему вы решили, что это Годмен, а не О’Нил или Филдинг?
– О, мы рассматривали разные варианты, и долго. – Теперь Патерсон был раздражен, его лицо стало сердитым. – И я признаю, что мне казалось иногда, будто мистер Филдинг знает больше, чем говорит. Но было честно и благородно доказано, что убил Годмен.
– А разве не было ссоры между Блейном и О’Нилом?
– Да, и, по словам джентльменов, которые слышали, что они поссорились, разговор у них был очень серьезный – ну, как бывает, когда молодые джентльмены выпьют немного больше шампанского, чем надо, и очень громко разговаривают, словно честь оспаривают.
Он раздраженно посмотрел на Питта, будто тот не понимает очень простых вещей.
– Спорили они насчет какого-то пари всего в несколько фунтов. Для нас с вами это, может, и немало, но для таких людей – мелочь. Никто, кроме сумасшедшего, не пойдет на убийство из-за такой суммы. – Рот у него искривился, и опять ярость и ужас, которые он когда-то испытал, возобладали над всеми его чувствами, в том числе и над минутным раздражением. – Прошу прощения, сэр, но вы не видели тела. Человек должен быть не в своем уме, чтобы сделать такое другому человеку. И нельзя сделать такое только потому, что ты проиграл пари. Этакое можно учинить, если убийца долго кого ненавидел, долго и очень сильно, прежде чем убить.
Питт не стал с ним спорить. Да и не мог, видя, в какой ярости пребывает Патерсон и какую боль ему до сих пор причиняют эти воспоминания.
– Вы, наверное, знаете, что О’Нил женился на вдове Блейна? – спросил он вместо этого.
– Знаю, – процедил Патерсон, – и не удивлюсь, если он не подумывал о ней еще до смерти Блейна. Ну и что тут такого? Это не значит, что он убил… Нет, сэр, это Годмен. – Лицо у него стало жестким, в глазах промелькнуло отвращение. – Блейн вел нехорошую игру с его сестрой. Наградил ее ребенком и обещал на ней жениться, чего, конечно, и в мыслях не держал. Но сами знаете, евреи не очень-то любят, когда мы водим компанию с их женщинами – так же, как нам не нравится, когда они вьются возле наших. Они считают, что они избранный народ, а мы – нет. Они считают Христа лжепророком, за что его и распяли. И Годмен – один из таких ненавистников. А когда он узнал, что сделали с его сестрой, то прямо с ума сошел. – Патерсон содрогнулся и прерывисто вздохнул, уставясь на Питта.
Питт чувствовал, насколько наэлектризована атмосфера в комнате, и вдруг понял так ясно, как никогда ранее, что за обстановка была тогда в суде: всепроникающий ужас, страх перед насилием и безумием и последующий яростный гнев. Смертельный холод повеял на Питта через пропасть пяти лет и охватил его целиком. До этого он пытался понять умом все случившееся, но вместо этого должен был использовать воображение и интуицию.
– Но почему вы так уверены, что это именно Годмен? – спросил Томас как можно спокойнее, хотя голос у него дрожал. – Если отвлечься от того, что у него был повод?
– Да потому, что его сразу же увидели, – ответил Патерсон, расправив плечи и вздернув подбородок. – Это определенно. Никаких недоразумений и сомнений быть не может. Он, этот наглый подонок, подошел к цветочнице, чтобы купить цветы. Хотел, наверное, отпраздновать, что учинил. – В голосе Патерсона опять послышалась глухая ярость. – Он стоял прямо под фонарем. Как бы там ни было, эта женщина потом его узнала. Она видела его лицо на афише и сразу же признала. И было это на Сохо-сквер, полмили не будет до Фэрриерс-лейн, через несколько минут после того, как все и случилось. Годмен соврал, когда говорил, что был около цветочницы на полчаса раньше.
– Понимаю. Значит, это вы нашли продавщицу цветов? Хорошая работа.
– Спасибо, сэр.
– А что делал во время убийства О’Нил?
– Был в игорном доме в полутора милях оттуда.
– Есть ли свидетели?
Патерсон вздернул плечи.
– Можно сказать и так. Он мог выйти оттуда незаметно, но его видели, когда он туда возвращался. Крови на нем не было, а ведь там, на месте преступления, ее было полно, – на лице Патерсона снова отразились ужас и отвращение, испытанные тогда, пять лет назад.
– А Филдинг?
– Пошел домой. Конечно, тоже никаких доказательств, – Патерсон пожал плечами, – но у нас не было оснований его подозревать, потому что Годмен определенно действовал в одиночку. Люди, что тогда были поблизости от переулка, твердо на этом стояли. Может, Филдинг уже знал об убийстве или после догадался, но его точно не было поблизости.
– Спасибо. Все предельно ясно.
– Это все, сэр?
– Думаю, что да.
Патерсон встал.
– Ах, вот еще одно, – быстро прибавил Питт.
– Да, сэр?
– Когда Годмена привели в зал суда, он был весь в синяках, словно кто-то его избил. Кто бы это?
Патерсон густо и жарко покраснел.
– Я. Он был не из сговорчивых заключенных.
Питт удивленно поднял брови.
– Он что, сопротивлялся?
– Нет, но если бы вы видели, что он сделал с Блейном, сэр, вы бы не стали спрашивать, потому что сами чувствовали бы то же самое.
– Понимаю. Спасибо, Патерсон. Теперь все.
– Да, сэр. – Сержант рывком выпрямился, отдал честь, круто повернулся и вышел.
В следующие два дня Питт терпеливо шел по следам Патерсона. Он очень легко отыскал Примроз Уокер, костюмершу Тамар Маколи, которая все еще работала в театре, занимаясь тем же делом. Она повторила Питту то, что говорила пять лет назад: Кингсли Блейн часто посещал мисс Маколи, а в тот вечер он подарил ей дорогое ожерелье. И очень подробно описала его: бриллианты, расположенные в виде ветви на черепаховом основании. Примроуз сказала, что мисс Маколи приняла подарок неохотно и только чтобы надеть на один вечер, а затем вернула. А мисс Уокер видела, как она его вернула? Конечно, нет, ее не приглашают на вечера с шампанским. И больше она ничего сказать не может.
Питт опросил ее из чистой формальности. В уме он уже давно решил, что она повторит давно сказанное и тем самым поддержит Тамар Маколи, а значит, и Аарона Годмена. Только одно слегка удивило Томаса: когда она говорила о Кингсли Блейне, ее лицо смягчилось; было очевидно, что она вспоминает о нем с хорошим чувством, и даже сейчас в ней не было никакого недоброжелательства по отношению к нему, хотя он предал женщину, которую она обслуживала.
И Уимбуш, швейцар в театре, повторил то же, что говорил с самого начала. Это был низенький, мрачный, длинноносый человек. Питт расспросил его о человеке, пославшем мальчишку с сообщением. Хотя этот человек стоял в тени, он все же показался Уимбушу довольно высоким и плотным.
– Нет, я не разглядел его как следует.
– Ну а еще что вы можете вспомнить? – Томас был настойчив. – Закройте глаза и снова представьте, как все это случилось. Постарайтесь вспомнить все последовательно. Вы стояли у выхода и хотели удостовериться, что все уже ушли и можно запереть дверь. Вышел Кингсли Блейн. Он был последним?
– Да, сэр.
– А что насчет мисс Маколи?
– Она ушла немного раньше. Мистер Блейн вернулся за перчатками, которые забыл на столе. Я остановил кеб для мисс Маколи, и она уехала, прежде чем вернулся мистер Блейн. Я сказал ему: «Доброй ночи, сэр», и он тоже хотел уехать и стал высматривать кеб, когда этот тощий мальчишка, лет примерно одиннадцати-двенадцати, подбежал к нему через улицу и сказал, будто у него есть для него известие от мистера О’Нила, который жалеет, что они поссорились, когда мистер Блейн выиграл пари. И не желает ли мистер Блейн встретиться с ним в клубе «Дауро» прямо сейчас, чтобы уж совсем помириться. – Швейцар повел узкими плечами. – Так что мистер Блейн сказал: «Да, конечно», поблагодарил мальчишку, дал ему два пенса и пошел по тропинке к Фэрриерс-лейн, несчастный он человек. Тогда я последний раз видел его живым.
– А тот, кто послал мальчишку с сообщением, он напоминал по виду мистера О’Нила?
Уимбуш состроил гримасу.
– Не могу этого сказать. Не могу также сказать, что он был как мистер Годмен. Просто тень какая-то, вроде большая, в толстом пальто, но видно было, что это человек не простой, или он показался мне таким.
– И все решили, что это человек, который должен знать мистера Блейна, – заключил Питт. Не надо допускать в сердце разочарование, но сейчас он чувствовал себя разочарованным.
– Ведь вы же спросили, что я помню, – уязвленно заметил чуткий к настроениям других людей Уимбуш. – Вот я и говорю, что он был, наверное, из благородных. В цилиндре и шелковом шарфе. Я помню, как на него упал свет, а на шее что-то забелело.
– А мистер Годмен тоже носил цилиндр и шелковый шарф?
– Только по каким-нибудь важным случаям. – Швейцар презрительно усмехнулся. – Он здесь работал, а даже господа на работу в цилиндрах и шелковых шарфах не ходят.
– А в ту ночь? – сказал Томас, стараясь, чтобы его голос звучал очень ровно. Ламберт, уж конечно, спросил бы об этом, если Патерсон не поинтересовался.
– Нет, но он мог взять цилиндр из костюмерной. Да так и говорили, что он его надел, хотя зачем ему могло это понадобиться? Но тогда никто этим и не думал интересоваться! Просто, мол, хотел быть позаметнее, так бы я сказал. У этих артистов все не так, как у людей. – Он закашлялся и хотел было сплюнуть, но, взглянув на Питта, передумал.
– Вы видели, как мистер Годмен уходил в тот вечер?
– Нет, не видел. А хотел бы… Потом, правда, мне казалось, что видел, но особого внимания я на него не обращал.
– Понимаю. Спасибо. – Надо будет обязательно спросить, был ли на Годмене белый шарф, когда его арестовывали.
Питт опять поговорил с Тамар Маколи, но она повторила то, что уже говорила прежде, и ему было нелегко напоминать ей о жестоком событии, которое сразу отняло у нее брата и возлюбленного. Она стояла в пыльных театральных кулисах, где на колесиках над их головами висели блоки сценических механизмов; рампа была выключена, и на смуглом лице актрисы нельзя было ничего прочесть. Да и видеть его можно было только в желтом свете газового рожка, горевшего в коридоре около костюмерной. В некоторых театрах освещение было уже электрическим, но этот к их числу не относился.
Питт смотрел на волевое лицо Тамар, его прекрасные пропорции, на ее запавшие глаза, которые, как ни странно, придавали лицу выражение силы. Да, ее нежность, ее смех стоили того, чтобы добиваться любви этой женщины и долго ждать, если потребуется. Как же Кингсли Блейн мог помыслить, что ему удастся поиграть чувствами этой женщины, а затем просто так уйти? Он, наверное, был глупцом, мечтателем, безответственным простаком. Да, она способна на подлинную страсть, способна распять в порыве ярости. Может быть, она защищала брата потому, что считала, будто Кингсли заслуживает подобной смерти? И действительно ли, обладай Тамар достаточной физической силой, она пошла бы на это? Что движет ею сейчас? Чувство вины?
– Мисс Маколи, – громко сказал Питт, нарушая атмосферу ирреальности, окружавшую их. – Если мистера Кингсли Блейна убил не мистер Годмен, тогда кто же?
Она обернулась и взглянула на него. Во взгляде ее промелькнула искра иронии. В тусклом свете Тамар была особенно выразительна.
– Не знаю, но предполагаю, что это Девлин О’Нил.
– Из-за той ссоры по поводу пари? – Томас решил не скрывать своего недоверия.
– Из-за Кэтлин Харримор, – поправила Тамар. – Может быть, его охватила страстная ненависть к Кингсли, потому что О’Нил ее любил, а Кингсли обманывал ее вместе со мной. – По лицу Тамар скользнула тень сожаления и явной боли. – Но, может быть, он также думал в тот момент, что Кэтлин унаследует состояние Харримора, а оно очень значительно. Тем временем ему будет обеспечен максимально комфортный образ жизни. – Она прямо встретила его взгляд. – Вы считаете, что с моей стороны нехорошо его обвинять? Но вы же сами спросили, кто еще мог убить. Я не верю, что это был Аарон. И никогда не поверю.
Питт не стал оспаривать ее мнения, а так как сказать ему было нечего, он поблагодарил мисс Маколи и ушел на поиски того мальчишки, который видел убийцу в лицо, пусть даже в тени, и слышал его голос.
Однако, хотя он обыскал все окрестные улицы, просмотрел все донесения, расспросил всех полицейских на участке Ламберта, оживил все контакты с представителями полукриминального дна, все было напрасно. Оставались кое-какие обрывки информации, в конце концов оказавшейся неверной или слишком запоздалой. Мальчишка по имени Джо Слейтер не желал, чтобы его отыскали. Только на третий день, серый и холодный, с восточным ветром, секущим кожу почище ножа, Питт нашел его в квартале Севен-Дайалс около прилавка подержанной обуви. Мальчонка был долговяз, худ, светловолос, с настороженным, подозрительным лицом.
– Не помню, – отрезал он, сощурившись. – Я тогда все выложил, когда они меня допрашивали. Отстаньте от меня! Это вы его повесили, дурака несчастного! Чего вам еще надо? Ничего не знаю и не желаю знать!
Больше Питту ничего не удалось из него вытянуть. Парень наотрез отказался разговаривать на эту тему. Он был обозлен, на лице его застыло горькое, утомленное выражение.
…Питт поднимался по лестнице полицейского участка Ламберта, когда тот собственной персоной, с мертвенно-бледным лицом и остановившимся от ужаса взглядом, быстро сбежал вниз и резко остановился, едва не столкнув Пита.
– Патерсон мертв, – запинаясь, глухо выговорил он. – Его повесили. Кто-то его повесил! Его только что обнаружил судья Ливси.
Глава девятая
Питт последовал за Ламбертом и уселся рядом с ним в кеб, который сейчас с трудом продвигался по Бэтерси-бридж в сторону Стилфорд-стрит, к дому, где жил Патерсон. Внутри у инспектора все, казалось, заледенело от потрясения.
– Но почему? – спросил Ламберт, обращаясь больше к самому себе, чем к своему спутнику. Он сгорбился, подняв воротник, наполовину пряча в него лицо, словно колючий ветер задувал и в кеб. – Почему? Это же абсурд! Почему убили беднягу Патерсона? И почему именно сейчас?
Питт ничего не сказал. А мог бы ответить, что Патерсон узнал или вспомнил нечто, какое-то обстоятельство или улику, которые могли доказать несправедливость приговора, вынесенного по делу об убийстве на Фэрриерс-лейн. Конечно, могло быть тут и что-то другое, связанное с другим делом, даже нечто совсем иное, но подобные предположения появлялись лишь на самой периферии сознания Томаса – так они были слабы и неубедительны.
Кеб рывком остановился. В мысли полицейских назойливо вторглись уличный шум и крики, мешая сосредоточиться и делая невозможным разговор. Ламберт беспокойно пошевелился. Задержка ударила прямо по его нервам. Он наклонился вперед и требовательно осведомился, почему кеб стоит, но его никто не слышал.
Кеб покачнулся, лошадь заржала. Их опять бросило вперед. Ламберт выругался. Но теперь экипаж двигался довольно равномерно.
– Но почему же Патерсона? – опять громко спросил Ламберт. – Почему не меня? Я же тогда ведал тем делом. Патерсон только исполнял приказания, бедняга несчастный…
Голос у него охрип, лицо исказилось от безудержного гнева и глубокой, рвущей сердце боли. Он смотрел прямо перед собой, судорожно сжав кулаки.
– И почему именно сейчас? Спустя столько лет? Ведь дело было закрыто!
– Не думаю, что это так, – мрачно ответил Питт, – по крайней мере, судья Страффорд собирался к нему вернуться.
– Но Годмен был виновен, – процедил Ламберт. – Виновен! Все указывало на него. Его видел уличный мальчишка, через которого он передал сообщение, его видели люди, слонявшиеся у самого входа на Фэрриерс-лейн, и продавщица цветов. У него был повод к убийству, больше, чем у кого-нибудь другого. Он был еврей. Только еврей мог пойти на такое. Это был Годмен! Судебный процесс это доказал, и приговор поддержали члены Апелляционного суда. Все, единогласно!
Питт промолчал. Он не мог сказать ничего, что действительно стало бы ответом на вопрос Ламберта.
Они прибыли на Стилфорд-стрит. Старший инспектор резко распахнул дверцу и почти выпал на дорожку, предоставив Питту расплачиваться с кебменом, и Томас поравнялся с Ламбертом лишь на ступеньках крыльца. Входная дверь была уже наполовину открыта, в коридоре стояла женщина с белым как полотно лицом; волосы у нее были заколоты в небрежный пучок, рукава платья засучены.
– Что случилось? Вы полиция? Джентльмен там, наверху, послал Джекки за полицией, но не говорит мне, что случилось. – Она схватила за рукав Ламберта, быстро проходившего мимо. – Стойте! Его ограбили? Но мы не виноваты! Мы никогда никого не грабили! У нас порядочный дом!
– Где он? – Ламберт смахнул ее руку. – Где его комната? Наверху?
Теперь женщина испугалась по-настоящему.
– Да что случилось-то? – вскрикнула она пронзительно. Где-то за спиной у нее заплакал ребенок.
– Никого не ограбили, – тихо ответил Питт, хотя ему тоже было очень не по себе. Всего несколько дней назад, еще так недавно, он сидел в кабинете и разговаривал с Патерсоном. – Где человек, который послал за полицией?
– Наверху, – она дернула головой, – номер четыре, на первой лестничной площадке. Но что случилось-то, мистер?
– Мы еще не знаем. – И Томас последовал за Ламбертом, который уже бежал вверх по лестнице, перескакивая сразу через две ступеньки.
На площадке старший инспектор круто обернулся, разглядывая двери, и затем яростно забарабанил в номер четвертый, одновременно пытаясь открыть дверь. Под его натиском она открылась, и вместе с Питтом, наступавшим ему на пятки, он ввалился в комнату.
Большая и старомодно обставленная, она была похожа на тысячи других холостяцких жилищ: стены оклеены бумажными обоями, громоздкая мебель, все имеет подержанный вид, но безукоризненно опрятно и чисто. В ней было мало выразительного; очевидно, Патерсон выбрал ее потому, что она была удобна и даже в определенной степени комфортабельна, однако ничего в ней не носило отпечатка личности жившего здесь человека.
В лучшем кресле сидел Игнациус Ливси. Он был очень бледен, отчего глаза его казались темнее, чем обычно. В них застыло потрясение, и когда он встал, то было явно заметно, что обычное самообладание ему изменяет. Судья немного дрожал, и ему пришлось дважды схватиться за ручки кресла, прежде чем он сумел встать.
– Рад, что вы прибыли, джентльмены, – сказал он хрипло. – Должен со стыдом признаться, что пребывание здесь в одиночестве не относится к числу легких жизненных испытаний. Он в спальне, я нашел его там. – Ливси сделал глубокий вдох. – Я ничего здесь не трогал, только убедился, что он мертв, в чем вряд ли могло быть сомнение.
Ламберт бросил на него молниеносный взгляд, прошел мимо и открыл дверь спальни. И сдавленно вскрикнул.
Питт подошел ближе. Патерсон висел на крючке, предназначенном для небольшой некрасивой люстры, которая теперь валялась в стороне на полу. Сержант висел на обычной веревке длиной в двенадцать-четырнадпать ярдов, которой пользуются все возницы, если не считать, что у этой была подвижная петля на конце. Тело окоченело, а лицо, на которое Питт взглянул, обойдя вокруг, было пурпурного цвета, с выпученными глазами и видневшимся между губ языком.
Ламберт стоял недвижимо, лишь едва заметно покачиваясь, словно вот-вот сейчас рухнет без чувств. Питт твердо взял его за руку и вынужден был приложить силу, чтобы сдвинуть его с места.
– Идем, – приказал он резко. – Вы уже ничем не способны ему помочь. Мистер Ливси!
Тот хоть и с некоторым трудом, но все же осознал, что требуется и его помощь. Взяв Ламберта за руки, они подвели его к стулу.
– Садитесь, – мрачно сказал Ливси. – Дышите глубже. Ужасное потрясение для вас. Очень скверное дело. Представляю, что вы почувствовали, когда обо всем узнали. К сожалению, у меня нет с собой бренди, и сомневаюсь, что Патерсон держал его дома.
Ламберт отрицательно покачал головой и открыл было рот, но не издал ни звука.
Питт оставил их и опять вошел в спальню. Вопросы, которые не давали покоя Ламберту, когда они ехали, теперь теснились в его голове, но прежде, чем ответить, он должен установить кое-какие факты.
Томас дотронулся до руки Патерсона. Тело слегка покачнулось. Плоть была холодная, рука – жесткая. Он мертв уже несколько часов. Темные форменные брюки. Рубашка, порванная в одном месте. Сержантские знаки отличия сорваны. Он был в сапогах. Сейчас почти середина дня. Очевидно, Патерсон не сразу переоделся, когда пришел с последнего дежурства накануне. Если бы он спал эту ночь и поднялся утром, одеваясь на работу, его тело еще сохранило бы немного тепла и было бы вялым. Нет, он, должно быть, умер поздно вечером накануне или же ночью. Очевидно, все-таки вечером. Для чего ему быть в форме ночью?
Крючок, на котором висело тело, был вбит в середину потолка, от которого до пола было десять-одиннадцать футов, там обычно и вешают лампы. Вокруг не было нагроможденной мебели, что помогло бы влезть наверх. Нужно было быть очень сильным человеком, чтобы поднять Патерсона и повесить на крючке. А чтобы повеситься самому, надо было дернуть снизу за свободный конец веревки, чего сам Патерсон, естественно, не мог сделать, если допустить, что у него была причина для самоубийства.
Для порядка Питт огляделся в поисках записки, хотя был уверен, что совершено убийство – самоубийством это не могло быть просто физически. Но он ничего не обнаружил. Все опрятно, просто, невыразительно. Кровать с деревянным изголовьем стояла в дальнем конце комнаты. Из глубоко утопленного в стену окна можно было видеть узкую улицу с несколькими строениями и чем-то вроде конюшни.
Справа возвышался шкаф для одежды, шагах в четырех-пяти стоял комод. В комнате были также три стула: один мягкий, два других – жесткие и с прямыми спинками. Все выстроились в ряд у стены. Если бы Патерсон использовал один из них для самоубийства, он должен был поставить его под лампой, и, очевидно, тот упал бы на пол от движения ноги.
Питт подошел к стульям и внимательно, один за другим, осмотрел. Нигде не заметно царапин или следов. Но если бы сержант был не в сапогах, тогда тоже ничего не осталось бы.
Тут он услышал шаги Ливси у двери и оглянулся.
– Что-нибудь выяснили? – очень тихо спросил тот.
– Немногое, – ответил Питт, выпрямляясь и снова обводя комнату взглядом.
Ее безликость и равнодушие странно угнетали, создавалось впечатление, что Патерсон жил и умер в каком-то безвоздушном пространстве. Однако если бы здесь были книги, фотографии, письма, предметы ручного труда, выбранные со значением и заботливо, Питту было бы еще больнее. А сейчас он ощутил атмосферу тщеты и одиночества, словно кто-то проскользнул мимо незамеченным. А ведь этому человеку было, наверное, не больше тридцати двух – тридцати трех лет. Он прошел свой земной путь едва ли до середины, и уже все кончено. Осталась пустота.
В голове зазвенел вопрос Ламберта: «Почему?» Кто мог сделать это и почему именно сейчас?
– Мне кажется, он уже был мертв задолго до моего прихода, – тихо продолжал Ливси. – Клянусь Богом, хотел бы я прийти именно тогда, когда получил вчера вечером его записку! Может, мне удалось бы его спасти.
– Он прислал вам письмо? – удивился Питт и сразу почувствовал нелепость вопроса. Он уже давно должен был спросить у Ливси, зачем он тут и что делает. У членов Апелляционного суда не в обычае посещать полицейских у них на дому. – Извините, – сказал Томас, – я как раз хотел спросить, почему вы здесь оказались.
– Вчера он прислал мне записку, – голос у Ливси все еще был хриплый, словно во рту у него пересохло. – Он писал, что узнал нечто, что очень его обеспокоило, и хотел бы мне об этом рассказать. – Ливси порылся в кармане, вытащил сложенный листок и подал его Питту.
Инспектор прочел написанное. Буквы, хотя писавший спешил и волновался, казались чеканными.
Милорд!Простите, что пишу вам, но я узнал кое-что ужасное, о чем должен вам сказать, иначе не смогу ни дня прожить спокойно.
Я знаю, вы очень занятой человек, но это гораздо важнее, чем все прочее, клянусь вам. И я не смею сказать об этом никому, кроме вас.
Пожалуйста, ответьте, когда я могу с вами об этом поговорить.
Ваш покорный слуга,Д. Патерсон, сержант полиции
– И вы не знаете, что его так взволновало и почему он не рассказал об этом инспектору Ламберту?
– Нет. Боюсь, что ничего не знаю об этом, – ответил Ливси, понижая голос, чтобы Ламберт в соседней комнате не смог услышать его. – Но подтекст тут не очень приятный. И, должен сказать, бедняга Ламберт просто не в себе. Полагаю, это связано с каким-то делом, которым Патерсон занимался в последние дни и которое оказалось гораздо серьезнее, чем он вначале предполагал. – Он несколько раз моргнул; его тяжелое лицо выглядело усталым, потрясенным. – Боюсь, что оно имеет отношение к какому-то служебному нарушению или коррупции, но я отказываюсь от дальнейших предположений на этот счет из боязни совершить неоправданную несправедливость.
– Но почему в качестве доверенного лица он выбрал именно вас, мистер Ливси? – спросил Питт, пытаясь говорить очень любезно и убрать из слов даже намек на подозрительность. – Он был с вами знаком?
– Только по отзывам, полагаю, – ответил с несчастным видом судья. – Разумеется, я никогда с ним не встречался. Конечно, слышал о нем, потому что читал его показания по делу Аарона Годмена. Соответственно, он мог знать, что я заседал в Апелляционном суде. Но лично – нет, я с ним знаком не был. И мы никогда не встречались.
Питт, однако, все еще чувствовал удивление.
– Но это не отвечает на поставленный вопрос.
– Согласен, – ответил Ливси, качая головой. – Все это кажется просто невероятным. Могу только предположить, что этот несчастный молодой человек обнаружил – или подумал, что обнаружил нечто, о чем не смел доложить своим непосредственным начальникам, а поэтому обратился к тому, о ком он знал понаслышке, человеку с положением и с безупречной репутацией, чтобы тот помог ему. И я чувствую себя ужасно виноватым, что не пришел к нему вчера вечером. Я мог бы его спасти.
На это Питт не мог ответить ни «да», ни «нет», поэтому снова подошел к телу, все еще висевшему на веревке, осмотрел петлю, затем подвинул стул, чтобы посмотреть, можно ли, встав на ноги, достать до петли и опустить тело, чтобы оно достойно покоилось лежа до прибытия врача судебно-медицинской экспертизы. Но послать за нужными людьми мог и Ламберт; по-видимому, Ливси не успел этого сделать. Питт обернулся к судье.
– Вам… вам не нужна помощь? – спросил Ливси, судорожно проглотив комок в горле и делая шаг вперед. – Я… – Он откашлялся. – Что делать?
– Я как раз собирался узнать у вас, не послали ли вы за врачом.
– Нет… нет. Я только отправил мальчика сообщить в полицию. Я думал…
– Это может сделать и Ламберт, – быстро ответил Питт. – Я не могу снять с него петлю, под тяжестью тела она сильно затянулась. Мне нужен нож.
– Э… – лицо у Ливси приобрело болезненное выражение, словно сразу сказался возраст, – пойду узнаю у хозяйки, нет ли подходящего. Вам, наверное, надо сохранить веревку как вещественное доказательство.
– Благодарю. Попросите Ламберта вызвать врача, пожалуйста.
– Да-да, конечно.
Словно пытаясь поскорее покинуть страшный интерьер комнаты, Ливси быстро вышел. Через несколько секунд Питт услышал его тяжелые шаги в коридоре и затем по лестнице.
Томас снова вернулся в спальню и стоял там, пока Ливси не вернулся с ножом.
Дотронуться до трупа судья был не в состоянии. Лицо у него побледнело, пот крупными каплями выступил на лбу и верхней губе, руки дрожали, и он совершенно не мог координировать свои движения. Питту пришлось держать тело, а Ливси перерезал веревку. Это заняло несколько секунд, а затем на инспектора обрушилась вся тяжесть мертвого тела. Ливси сдавленно выругался и помог Томасу положить тело на пол.
– Больше здесь нечего делать, – тихо сказал Питт, ему стало жалко Ливси, он забеспокоился, что тому уже не под силу выносить весь ужас происходящего. – Давайте выйдем. Можно подождать врача в смежной комнате.
Спустя два часа Томас допросил хозяйку дома, то вскрикивающую от негодования, то немеющую от страха, и других жильцов, но ни от кого ничего не узнал. Врач отбыл, взяв с собой тело в специальной перевозке для передачи в морг, причем лошадь, чувствуя страх прохожих, забила копытом и тонко заржала. Ливси, все еще красный от пережитого волнения, внезапно снова стал холоден и отчужден и вскоре, извинившись, удалился. Питт и Ламберт стояли на лестничной площадке перед дверью, в замке торчали ключи.
Хозяйка все еще стояла в холле, пребывая в сильном возбуждении. Глаза у нее сверкали.
– Убийство! – яростно выкрикнула она. – В моем собственном доме! Я всегда себе говорила, что не надо пускать постояльцев, работающих в полиции! Чтобы я еще когда-нибудь на это пошла!.. Клянусь, что никогда их больше к себе не пущу!
Ламберт круто обернулся. Он был бледен, а глаза тоже сверкнули от негодования.
– Молодого полицейского убили в вашем доме, а вы еще имеете наглость возлагать вину за это на него самого? А может, если бы он никогда здесь не поселился, то был бы сейчас живой! И еще надо разобраться, что представляет собой ваш дом!
– А вы-то как смеете со мной так говорить? – закричала женщина и покраснела от ярости, как свекла. – Вот почему…
– Идем, – Питт взял Ламберта под руку и почти что вытащил его из дома силой, а тот все поворачивался к женщине, желая выместить на ней или все равно на ком свои гнев и горе. – Идем, – настойчиво повторил Томас, – у нас много дел.
Ламберт неохотно дал себя вывести. На улице их встретило набрякшее тучами небо. Начинался дождь. Прохожие шли, уткнувшись в шарфы, подняв воротники и пытаясь защититься от влажного холодного ветра.
– Так что же? – процедил сквозь зубы Ламберт. – Кто убил беднягу Патерсона? Мы даже не нашли еще убийцу судьи Стаффорда! И не знаем, почему его убили! А вы знаете, Питт? – Он соскользнул в полную воды канаву и снова выбрался на тротуар. – Есть ли у вас хоть какое-то предположение? И не говорите мне, что Годмен был тогда не виноват, – это чепуха! А если он был виноват, тогда зачем снова копаться в том деле? Нет, с ним все было покончено еще тогда. То было самое настоящее отвратительное убийство. Годмена повесили, и делу конец.
– А с чем еще работал Патерсон? – спросил Питт, приноравливаясь к шагу Ламберта, когда они шли по Бэттерси-Парк-роуд, туда, где могли нанять кеб, чтобы вернуться в участок.
– Над делом о поджоге. И была также пара дел об ограблении. Ничего особенного. Из-за этих дел никто не стал бы его убивать. Может, немного придушили бы в темном переулке или всадили нож в бок во время ареста. Но никто не явился бы к нему домой, чтобы вздернуть на веревке. Это безумие какое-то. Это все проклятая Маколи. Она на все способна из мести. – Он остановился и повернулся к Питту. Глаза его сверкали, лицо было несчастное. – Это она сошла с ума, это она охотится за людьми, которых считает убийцами брата!
– Она не смогла бы это сделать в одиночку, – ответил Питт, стараясь сохранять спокойствие. – Ни одна женщина не была бы в силах вздернуть Патерсона. Он большой, сильный, здоровый мужчина.
– Ну и что ж, – отрезал Ламберт, – значит, ей помогали. Она женщина умная, красивая, видная. Какой-то несчастный влюбился в нее, и она довела его до такого состояния, что он ей помог.
Старший инспектор говорил все быстрее, и Питт уловил в его голосе нотки истерии.
– А может, он сделал это по ее указанию, – продолжал Ламберт. – Найдите его, Питт, и докажите ее вину. Патерсон был хороший человек. Слишком хороший, чтобы умирать из-за таких, как она и ей подобные! Вы это, конечно, сделаете. Докажете, что это она. – Он вырвал руку и пошел по мокрой мостовой Бэттерси-бридж, по которой, стуча и гремя, носились взад-вперед экипажи.
Питт занялся долгим и утомительным расследованием убийства Патерсона. Медицинское заключение свидетельствовало, что «смерть наступила вследствие удушения от повешения», как и было видно с самого начала. Он умер накануне вечером. Причем скорее рано вечером, чем поздно.
Питт, разумеется, проверил, где в это время находился судья Ливси, и не удивился, что тот присутствовал на обеде, даваемом его коллегами по работе, и был на виду по крайней мере у дюжины людей. Не то чтобы Томас хоть на минуту предположил возможность его вины. Проверял он оттого, что так было положено по ходу расследования.
Гораздо больше его занимала мысль, что такого мог узнать Патерсон и почему столь отчаянно пытался поскорее встретиться с судьей. Касалось ли это дела об убийстве на Фэрриерс-лейн, как они с Ламбертом интуитивно предположили, или это было нечто иное?
Томас предоставил Ламберту заниматься опросом свидетелей, кто мог бы видеть кого-нибудь из входящих в дом, где жил Патерсон. А также тем, где могла быть куплена веревка, уликами, которые мог оставить преступник, следами, случайными клочками одежды и всем тем, что свидетельствовало бы о борьбе.
Сам же Питт пытался найти мотив такого явно бессмысленного преступления. Если оно связано с каким-нибудь недавним делом или объясняется личными причинами, тогда пусть Ламберт покопается во всех обстоятельствах. Но если убийство имеет отношение к Фэрриерс-лейн, тогда, значит, ответ можно получить, лишь расследуя то, прошлое дело.
Интересно, не пытался ли Патерсон связаться и с другими судьями, не только с Ливси? Может, он обращался и к остальным членам Апелляционного суда? Обратиться к Стаффорду, разумеется, Томас уже не мог. Сэдлер снял с себя всякую ответственность за прошлое и ничего бы ему не ответил. Бутройд слишком высоко ценил влиятельных друзей и прошлые связи, чтобы принять участие в таком непопулярном деле, как пересмотр дела об убийстве на Фэрриерс-лейн.
Оставался один Освин и, может быть, еще адвокаты, защищавшие Аарона Годмена, – его поверенный в делах и защитник на суде. Разумеется, надо было начинать опрос с них, если действительно появилось нечто новое, указывающее на несправедливость приговора или на участие в убийстве второго преступника.
Почему все-таки Патерсон обратился к Ливси? Считал, что тот обладает твердостью, принципиальностью или влиятельностью, которых нет у других?
Питт начал с того, что попросил свидания с судьей Грэнвиллом Освином, и был приятно удивлен, что тот сразу согласился.
Кабинет Освина оказался большим, длинным, неопрятным, заваленным книгами. Некоторые стояли в шкафах, другие грудами покрывали столы и возвышались на стульях. В кабинете было также несколько обитых бархатом кресел, совершенно не соответствующих прочим предметам обстановки, но в целом все выглядело удобно. На одной из стен были прикреплены театральные программки, другую украшали политические карикатуры Роулендсона [10]. Освин был человеком многообразных и широких интересов. На шкафу стояла прекрасная бронзовая статуэтка охотничьей собаки, на столе – пресс-папье из горного хрусталя.
Сам Освин оказался высоким добродушным человеком. Одежда на нем сидела плохо. Лицо его казалось Томасу знакомым, хотя он и был совершенно уверен, что прежде с Освином не встречался. Лицо судьи освещала улыбка, как будто он был искренне рад встрече.
– Дорогой мой, входите, входите. – Он приподнялся из-за стола и махнул рукой на самое почетное кресло. – Пожалуйста, садитесь. Устраивайтесь поудобнее. Чем могу быть полезен? Понятия не имею, но с готовностью выслушаю. – Он опять сел на место и улыбнулся.
Ходить вокруг да около или рассчитывать на эффект внезапности смысла не было.
– Я расследую причины смерти судьи Стаффорда, – начал Питт.
Лицо Освина омрачилось.
– Очень скверное дело, – ответил он, нахмурившись. – Очень, очень скверное. Не понимаю, что стало тому причиной. Такой почтенный человек… Думал, что у него нет ни одного врага. Значит, ошибался. – Он откинулся назад и положил ногу на ногу. – Что я могу вам сказать по этому поводу, чего бы вы уже не знали?
Питт тоже сел посвободнее.
– Он приступил к пересмотру дела об убийстве на Фэрриерс-лейн, вам об этом известно?
Лицо Освина потеряло теплое, дружелюбное выражение, в глазах промелькнула тревога.
– Нет, не знал. Вы уверены, что не ошибаетесь? Но там не было совершенно ничего, что бы стоило пересматривать. Мы самым тщательным образом изучили его, когда к нам поступила апелляция. – Он настороженно взглянул на Питта, еще больше откинулся на спинку кресла, опершись на подлокотники и сложив из пальцев домик. – Гораздо вероятнее, что он просто старался успокоить эту бедную Маколи. Она никак не желала забыть о деле, как вы знаете. Очень печально. Была очень предана брату и не могла поверить в его вину. Но для сомнений не было никаких оснований, понимаете ли. Совершенно никаких. Все было проведено законно и корректно.
– А каковы были основания для апелляции, сэр? – спросил Питт, словно ему было невдомек.
– О, медицинское свидетельство. Но то была просто формальность. Они должны были найти какой-нибудь предлог.
– И вы отнеслись к их апелляции тоже формально?
На лице Освина выразился ужас, и он уронил руки.
– Господи помилуй! Ну конечно же нет. Стоял вопрос жизни и смерти или даже больше: сомнению подвергались основы британского судопроизводства. Правосудие должно не просто осуществляться – а осуществляться при строгом контроле со стороны властей и ко всеобщему удовлетворению. Иначе правосудие перестанет работать, и тогда оно никому не нужно. О, мы изучили это дело до малейшей подробности. Не было допущено ни одной неточности, все доказательно и неоспоримо. – И он искоса взглянул на Питта.
– А судья Стаффорд говорил с вами об этом деле незадолго до смерти? – Томас двигался на ощупь, обдумывая вопросы, которые бы проникли в зазор между ответами, исполненными категоричной уверенности.
Освин заколебался – всего лишь на краткое мгновение, но Питт заметил его замешательство. Судья улыбнулся, поняв это по выражению его глаз.
– Ну да, он действительно кое-что сказал, – он пожал плечами, – но это было так несущественно. Вы понимаете, что я хочу сказать.
– Нет, – несговорчиво ответил Питт. – Разве в подобном деле что-то может быть несущественным?
Но у Освина было теперь время обдумать ответ, и он очень уверенно сказал:
– Это все от излишнего беспокойства: несчастная Маколи постоянно досаждала ему. Она пыталась найти человека, который бы ей поверил и помог снова открыть дело. И бедняга Стаффорд оказался тем, на ком она сосредоточила свои усилия. – Освин пожал плечами и безмятежно улыбнулся. – Мне Стаффорд едва упомянул об этом. Он был в смущении. Вы, разумеется, теперь понимаете, инспектор, что им двигало? – Освин легко рассмеялся; в этом смешке не было нервозности, хотя и веселья тоже.
– Он решил пересмотреть дело на всякий случай – вдруг в деле допущена какая-то неточность или ошибка?
– Нет! – Освин наклонился вперед, стукнув ладонью по столу. Лицо его немного порозовело, глаза смотрели искренне. – Там не было… там не было ошибки. Дело оказалось очень простым. – Освин все так же искренне и честно глядел на Питта. – Апелляция была подана на основании медицинского показания. Сначала Ярдли утверждал, что смертельная рана нанесена Блейну какой-то разновидностью кинжала. Затем, после тщательного осмотра, он сделал допущение, что она могла быть причинена также чрезмерно длинным кузнечным гвоздем.
– Но кузнечные гвозди используются для подков и бывают только определенного размера. Есть строгий лимит; длиннее, чем положено, они быть не могут, даже несмотря на то, что концы у них тупые.
– Да, разумеется. – Освин нетерпеливо махнул рукой, словно отмечая это соображение. – Так бывает с обычными гвоздями. Но Ярдли – хирург, а не кузнец, поэтому и мог ошибиться. Возможно, это вообще был не гвоздь, а заостренный отрезок металла, валявшийся во дворе. Главное, что это не обязательно кинжал.
– Но во дворе можно было найти другие гвозди такой же длины или же металлические отрезки, кроме найденного? Наверное, окровавленный кусок металла должен был сразу броситься в глаза искавшим?
Освин удивился.
– Понятия не имею. И, ради бога, старина, мы же заседали в Апелляционном суде. Прошло несколько недель после окончания судопроизводства, а сам суд тоже шел несколько недель. За это время через тот двор прошло множество народу.
– Значит, орудие убийства, каково бы оно ни было, так и не нашли?
– Полагаю, что нет. Возможно, он использовал этот гвоздь, прибивая тело. – Освин понизил голос. – Но как бы то ни было, инспектор, сейчас уже слишком поздно для выяснения этого обстоятельства. Бедняга Стаффорд вряд ли интересовался именно им, да и зачем? – Замечание было логичным, и он это знал.
– Тем не менее, – возразил Питт, – если Ярдли изменил свидетельство, то, значит, можно говорить о некоей неуверенности его показаниий. И ее можно было считать вполне существенным поводом для того, чтобы подать на апелляцию?
– Это от отчаяния. – Освин поморщился, широкий выразительный рот искривила печаль. – Человек на все пойдет, лишь бы избежать веревки; разве можно его за это осуждать?
– Вы помните дежурного констебля Патерсона? – внезапно переменил тему разговора Питт.
– Дежурного констебля Патерсона? – задумчиво повторил Освин. – Не думаю. А в чем дело?
– Он был тем самым констеблем, который энергично участвовал в расследовании дела. После него был повышен до сержанта.
– Ах да. Это не тот ли, кто представил последнее и самое убедительное доказательство? Он нашел цветочницу, которая видела Годмена на Сохо-сквер сразу же после преступления? Хорошая работа. Он был тогда героем дня, этот Патерсон. Но в чем дело?
– Он был убит в ночь на вторник.
Удивление и соболезнование ясно отразились на лице Освина.
– Боже мой, я искренне огорчен! Какой позор! Какое несчастье! Он был младшим чином, подающим большие надежды. – И покачал головой. – Опасное это ремесло, работа полицейского. Но вам, разумеется, это и без меня известно.
– Но убийство произошло не во время исполнения им служебных обязанностей, сэр. Он был убит у себя дома. А если быть точным, был повешен.
– Боже милостивый! – Освин был окончательно сражен. Кровь отхлынула от его лица, оно стало пепельно-серым; куда только подевался благодушый вид. – Какой ужас… Как… кто убил?
– Пока мы не знаем.
– Не знаете! Но вы же… – Он осекся, смутившись, чувствуя себя совсем несчастным. – Но вы же не думаете, что это имеет какое-то отношение к смерти Кингсли Блейна? Я хочу сказать… – Он инстинктивно поднес руку к горлу и потянул за тугой воротничок. – Но почему, ради бога, почему?
– Вот это я и пытаюсь определить, сэр. – Питт внимательно следил за лицом Освина. – Я выяснял у Патерсона некоторые подробности относительно того, как он собирал улики. Меня интересует, не заставили ли его кое-какие мои вопросы опять действовать в этом направлении и он что-то такое сказал кому-то, кто поэтому его и убил.
Освин провел рукой по лбу, что на время скрыло его лицо от зоркого взгляда Питта.
– Вы что, хотите сказать, что Годмен был невиновен, а виноват кто-то другой и этот человек теперь убивает всех, кто намерен пересмотреть дело? Но это ни с чем не сообразно, инспектор. Разве на вас покушались?
– Нет, – согласился Питт, – но я, в конце концов, нахожусь сейчас в таком же тумане, как и в начале расследования. Мне до сих пор не удалось найти ни одной улики, которая позволила бы предположить невиновность Годмена. Более того, чем глубже я вникаю в дело, тем все более вероятной мне кажется его вина.
Освин перевел дыхание и повеселел, словно чувствуя большое облегчение.
– Да, это так, это действительно так. То было трагическое и чрезвычайно неприглядное дело, но оно было завершено справедливо. – Он прикусил губу. – Я всю жизнь преданно служил закону, инспектор, и мне было бы нестерпимо думать, что мы могли допустить ошибку и осудить на смерть неповинного человека. Это подорвало бы в моих глазах репутацию института, который, по моему мнению, имеет величавую ценность для всего народа Британии. Наш суд – образец для всего мира. – Его слова звучали излишне напыщенно, будто он сам не совсем верил в то, что говорил. – Судопроизводство Соединенных Штатов во многом основано на нашей юридической системе; полагаю, вам это тоже известно… ну конечно же, известно. Закон превыше нас всех, он важнее отдельно взятой личности!
– Но разве для закона не высший долг, не высшая мера справедливости именно отношение к отдельной личности, мистер Освин?
– О, думаю, это слишком поспешное суждение, слишком общее и упрощающее суть вопроса, извините мне такое замечание. Ставкой тут являются глубочайшие ценности… – Внезапно он прервался и слегка покраснел. – Но все эти рассуждения не помогут вам в поисках убийцы мистера Стаффорда или того, кто убил этого беднягу Патерсона. Так чем я могу быть вам полезен?
– Не уверен, что это в ваших силах. Последнее, что Патерсон успел сделать перед смертью, – это послать письмо судье Ливси. В письме говорилось, что он узнал нечто очень важное и страшное и он хотел бы сообщить ему об этом как можно скорее. К несчастью… – Томас осекся, потому что Освин опять страшно побледнел, вид у него стал прямо-таки больной.
– Он… – промямлил судья, – он написал Ливси?.. Но что же он мог такое узнать? Он не говорил вам? Вы не знаете?
Питт хотел было ответить отрицательно, однако передумал.
– Письмо было адресовано судье Ливси. Это он нашел тело Патерсона, когда пришел к нему домой на следующий день.
– Но что было в письме? – допытывался Освин, наклонившись к Питту через стол. – Ливси должен был…
– Вот поэтому я и пришел к вам, сэр, – честно ответил инспектор, понимая, что Освин сразу же почувствовал бы фальшь. – Дело на Фэрриерс-лейн, вот о чем там было…
– Не знаю! Я тогда считал, что Годмен виновен. Я и сейчас так считаю. – На губе Освина выступил пот. – И ничего другого сказать не могу. Мне ничего не известно, и безответственно спекулировать на эту тему. – Голос у него стал выше, в нем зазвучало сильное беспокойство. – Человек, занимающий мое положение, не может высказывать всякие нелепые предположения относительно несоблюдения закона. У меня есть обязанности и, думаю, – он сделал глубокий вдох, – долг, чувство долга по отношению к закону, которому я служил и служу. Разумеется, если у вас есть доказательства, тогда дело другое… – Он пристально и тревожно, широко раскрыв глаза, посмотрел на Питта, требуя недвусмысленного ответа.
– Нет. Доказательств еще нет.
– Ах, – Освин с облегчением вздохнул. – Тогда, если я смогу быть вам чем-нибудь полезен, дайте мне знать.
Это было вежливое предложение оставить его в покое, и Питт его принял; все равно сейчас он ничего больше не мог узнать от Освина. Фактов не было, одни догадки.
– Благодарю вас, сэр. – Питт встал. – Да, разумеется, я приду. Как только точно выясню, что подразумевалось в том письме.
– Да-да, конечно.
Только на следующее утро Питт договорился о встрече с Эбенезером Мургейтом, поверенным Аарона Годмена. Мургейт предпочел встретиться с Питтом не в своей конторе, которую он делил с другими юристами, но в закусочной в полутора милях от нее. Закусочная была маленькая, забитая мелкими служащими, коммерсантами и праздношатающимися. Опилки на полу промокли от эля, в воздухе стоял запах вареных овощей, прокисшего пива и большого количества тел.
В своем ловко сидящем сюртуке, в белой чистой рубашке с накрахмаленным стоячим воротничком, гладко выбритый, Мургейт смотрелся здесь чужаком. В руке он держал кружку эля, но не притрагивался к ней.
– Вы опаздываете, инспектор, – сказал он, как только Питт, пробившись сквозь толпу, присоединился к нему, сев за маленький угловой столик, – хотя, по правде говоря, я не вижу причины, для чего нам вообще встречаться. Дело, о котором вы упомянули, давно закончено. Мы подавали апелляцию – и потерпели поражение. Возвращаться – значит только умножать печаль и горе, а это совершенно ни к чему.
– Но, к сожалению, мистер Мургейт, это дело теперь не может считаться законченным. В связи с ним погибло еще два человека.
– Не понимаю, о чем вы, – осторожно возразил Мургейт, сжимая ручку кружки. – Это не может иметь отношения к тому делу. Просто чепуха какая-то, извините.
– Погибли судья Стаффорд, а совсем недавно – полицейский Патерсон.
– Патерсон? – вытаращил глаза Мургейт. – Я не знал об этом. Вот бедняга… Это совпадение. Трагическая случайность. Такое бывает.
– Перед тем как его убили, он написал письмо судье Ливси и сообщил, что ему требуется немедленно сообщить нечто ужасное и совершенно безотлагательное.
Мургейт с трудом сглотнул.
– Вы не сказали сначала, что его убили.
За соседним столиком к ним обернулся человек с лицом, исполненным любопытства. Сидевший рядом тоже запнулся на полуслове и воззрился на них.
Мургейт облизнул губы.
– Что вы хотите сказать, Питт? Что кто-то связанный с делом на Фэрриерс-лейн убивает теперь других людей? Но почему? Мстя за Годмена? Это уж чересчур притянуто за уши.
Он слегка повысил голос и быстро заговорил, не обращая внимания на любопытных:
– Из того, что вы сказали, можно заключить, будто он узнал, кто убил Стаффорда! Или думал, что узнал. Но ведь это же очевидно! Убийцей может быть только эта женщина, Маколи. Потеря брата, скандал, вызванный всем этим делом, ужасный конец – от всего этого можно повредиться в уме. – Он пристально поглядел на Питта. – Женщина может сойти с ума и от меньших причин. Однако женщины обычно отравляют. Хотелось бы надеяться, что вы узнаете, кто убийца. – Вид у него был рассерженный и даже обвиняющий.
– Возможно, – согласился Питт, – хотя ввиду того, что Стаффорд готовился к пересмотру дела, не понимаю, что могло заставить ее пойти на отравление. Он был единственным человеком, чьей смерти она никак не могла желать.
– Ерунда! – отмел возражение Мургейт взмахом свободной руки. – Абсолютная чепуха, дорогой мой. Дело незачем пересматривать. Нет повода и веских оснований. Я очень хорошо знаком с этой историей, как вы догадываетесь. Если я когда-нибудь встречал совершенно безнадежное дело, так это именно тогда. Мы, конечно, сделали все, что было в наших силах. Исполнили долг до конца, но шансов на успешное решение не было никаких! – Он резко мотнул головой. – Тот несчастный был виноват, как сам дьявол.
Мургейт вдруг вспомнил про эль и отпил немного, оглядевшись вокруг: к нему прислушивалось уже немало присутствующих.
– Мисс Маколи не могла с этим смириться. Это очень часто бывает с родственниками, что, полагаю, естественно. Стаффорд, наверное, так ей и сказал, и, возможно, испытав сильное разочарование и отчаяние, она убила судью. Маколи могла рассматривать это как некое предательство с его стороны. Очень упорная женщина, знаете ли, и весьма эмоциональная. Наверное, все актрисы – неуравновешенные особы. Не очень-то подходящее занятие для дам, но ведь ни одна порядочная женщина и не станет играть на сцене, так что, очевидно, с этим надо примириться.
– Но не она же убила Патерсона, – сказал Питт, чувствуя некий неприятный осадок, удививший его самого.
– А вы в этом уверены? – Мургейт не старался скрыть свой скептицизм.
– Совершенно уверен, – резко ответил Томас. – Его повесили на крючке для люстры в комнате, которую он снимал. Ни одной женщине на свете не удалось бы с этим справиться. Также надо быть очень сильным мужчиной, чтобы поднять тело Кингсли Блейна и держать его на весу, прибивая руки к двери конюшни.
Мургейт сморгнул и поставил кружку, словно пиво вдруг скисло и пить его стало невозможно. Теперь все завсегдатаи на расстоянии двадцати шагов включительно молча смотрели и слушали их спор.
– Дайте обдумать ваши слова, инспектор. Что вы хотите всем этим сказать? – Мургейт рассердился и покраснел. – На что вы намекаете?
– Это факты намекают, мистер Мургейт, а не я, – спокойно отвечал Питт.
– Но мне они намекают только на личные мотивы ссоры с кем-нибудь. – И Мургейт опять сглотнул комок в горле. – Может, дело в любовной интрижке? Может, в деле замешан какой-нибудь ревнивый муж?
– Который его и повесил? – удивился Питт. – Вам часто приходится сталкиваться с такими случаями, мистер Мургейт?
– У меня таких случаев нет вообще, – холодно возразил тот, – я частный поверенный, а не адвокат. И, пожалуйста, говорите потише. Вы делаете из нас настоящее зрелище! В моей практике убийства встречаются редко. И у меня очень слабое представление о том, как поступают ревнивые мужья и любовники, когда им изменяют.
– Они совершают кровавые насильственные действия, – ответил Питт, криво усмехаясь и видя, как вокруг собирается толпа, привлеченная громким голосом Мургейта. – Они убивают из огнестрельного оружия, если у них оно есть. Вонзают нож в жертву, если он подвернется под руку, пускают в ход кулаки или душат. Но прийти в чужой дом с длинной веревкой, снять люстру с крючка – очевидно, заранее, до прихода жертвы, – предварительно привести человека в бессознательное состояние или связать, а затем вздернуть за шею и таким образом умертвить…
– Ради бога, старина! – взорвался Мургейт. – Неужели у вас нет никакого представления о приличиях?
– Все это заставляет думать о предумышленном убийстве, причем очень хладнокровном, – беспощадно продолжал Питт.
– Значит, существовал другой повод для убийства, – отрезал Мургейт. – Но, как бы то ни было, все это не имеет никакого отношения к моим делам, и я ничем вам не в состоянии помочь. – И он со всего размаха поставил кружку, расплескав при этом эль, к своему неудовольствию. – Лично я посоветовал бы вам очень внимательно вникнуть во все подробности жизни этого несчастного; может быть, он кому-нибудь задолжал… Заимодавцы могут быть очень склонны к насильственным действиям в таких случаях. Я лично не имею представления, как доискаться до истины, но это касается вас, а не меня. А теперь, если вам нечего больше сказать, я должен вернуться в контору. Я не могу заставлять своих клиентов долго ждать.
И не потрудившись узнать, нет ли у Питта еще каких-то вопросов к нему, Мургейт встал, рывком отодвинув столик, отчего пролилось еще немного эля, сухо кивнул и удалился.
Бартон Джеймс, защитник Годмена, был совсем другим человеком – выше, худощавее, более внушительного и уверенного вида. Он принял Питта в своей конторе и любезно осведомился о его здоровье, а затем пригласил садиться.
– Чем могу быть полезен, мистер Питт? – спросил он с любопытством. – Не касается ли это смерти бедняги Сэмюэла Стаффорда?
– Косвенным образом – да. – На этот раз Томас решил быть более осторожным, хотя бы сначала.
– Неужели? – удивленно приподнял брови Джеймс. – Но каким же образом я смогу вам помочь? Я, разумеется, был с ним знаком, но очень поверхностно. Он служил членом Апелляционного суда, но я не подавал апелляции лет пятнадцать-двадцать.
– Однако по одному своему, очень знаменитому, делу вы ему апелляцию подали.
– И не по одному, – согласился Джеймс. – Однако на этой основе близкие отношения не завязываются. И мне не знакомо ни одно дело, которое могло иметь хоть какое-то отношение к его смерти. Однако, пожалуйста, задавайте любые вопросы. – И он откинулся на спинку кресла, благодушно улыбаясь.
Держался Джеймс уверенно, голос у него был красивый и звучный. Питт представил, как таким отличным голосом он приковывает внимание всего зала и околдовывает присяжных своим личным обаянием. Интересно, насколько сильно он пускал это обаяние в ход, когда защищал Аарона Годмена или просил суд помиловать его? К каким средствам прибегал, пытаясь воздействовать на чувства или убеждения?
Томасу пришлось сделать усилие, чтобы вернуть мысли к происходящему, к вопросам, которые он намеревался задать.
– Благодарю вас, мистер Джеймс, но я расследую не только убийство мистера Стаффорда; с ним связано и другое преступление, – тут Джеймс широко раскрыл глаза, – убийство сержанта Патерсона.
– Патерсон? Это тот молодой полицейский, который занимался делом на Фэрриерс-лейн? – Какой-то крошечный мускул дернулся у него на лбу.
– Да.
– О господи! Но вы уверены, что они между собой связаны? Работа правоохранителя иногда очень опасна, но я уверен, мне не надо вам об этом рассказывать. Может быть, это совпадение? Дело об убийстве на Фэрриерс-лейн было завершено лет пять назад. О, я знаю, что мисс Маколи опять пытается привлечь к нему общественное внимание, но, боюсь, она понапрасну тратит время и силы. Ею движет только любовь к покойному брату, но ее старания обречены на неудачу.
– Вы уверены, что он был виноват?
Джеймс едва пошевелился в кресле.
– Разумеется, совершенно уверен. Боюсь, что тут сомнения невозможны.
– Вы и тогда так думали?
– Прошу прощения?
– Вы думали, что он виновен, еще до вынесения приговора? – повторил Питт, внимательно разглядывая лицо адвоката, его длинный патрицианский нос, рот, всегда готовый к веселой улыбке, осторожный взгляд.
Джеймс с печальным видом выпятил нижнюю губу.
– Я очень желал считать его невиновным, но призн а́юсь, это становилось все труднее по мере того, как разворачивался процесс.
– Вы считали, что приговор был справедлив?
– Да, я так считал. И вы считали бы точно так же, если бы присутствовали на суде, мистер Питт.
– Но вы подали апелляцию.
– Естественно. Этого желали Годмен и его семья. Это же в порядке вещей – использовать малейшую возможность для смягчения участи подсудимого, когда ему угрожает виселица. Я предупредил их, что вряд ли апелляция будет удовлетворена. И не питал ложных надежд, но тем не менее, конечно, сделал все, что было в моих силах. Как вам известно, апелляция была отклонена.
– Основания для апелляции были признаны недостаточными?
Джеймс пожал плечами.
– Патологоанатом Хамберт Ярдли, очень надежный и ответственный человек – вы, разумеется, знаете его, – по-видимому, изменил свое первоначальное мнение о том, каким оружием была нанесена смертельная рана. А это на него не похоже. Но, возможно, ужасный характер преступления – а оно было чрезвычайно скверное и страшное, как вам известно, – послужил причиной того, что он утратил свою обычную проницательность. – Джеймс откинулся на спинку кресла и слегка поморщился. – Это был вызов обществу, причем необычный. Жертву не только убили, но и распяли. Газеты пестрели огромными заголовками. Пробудились самые низменные и дикие страсти. В некоторых районах произошли антиеврейские выступления. Врывались в закладные лавки и громили их. Люди, известные как евреи, подвергались нападениям на улицах. То было вопиющее безобразие. – Он с горечью улыбнулся. – Я сам несколько пострадал из-за того, что стал защитником еврея. Меня подвергли довольно дорого обошедшейся и очень неприятной атаке гнилыми фруктами и яйцами, когда я проходил через Ковентгарденский рынок. Спасибо, что это была не тухлая рыба.
Питт подавил улыбку. Не однажды он бывал на рыбном рынке.
– А вам никогда не приходило в голову, мистер Джеймс, что Годмен, возможно, не виноват?
– Я исходил в своей защите из предположения, что он может быть невиновен. Такова моя обязанность в суде. Мой долг. Но это не одно и то же. Мои собственные суждения не имеют значения, – он серьезно взглянул на Питта. – Для того чтобы защитить его, я сделал все возможное. Я не верю, что во всей Англии нашелся бы адвокат, которому удалось бы добиться его оправдания. Улики были убойные. Его действительно видели меньше чем в полумиле от места преступления, в то самое время, и те, кто видел, опознали его по внешнему виду. Затем было еще свидетельство уличного мальчишки, который передал его устное сообщение Блейну, что и заставило того пойти по Фэрриерс-лейн. Еще были праздношатающиеся, которые видели, как он уходит, запятнанный кровью.
– А мальчик опознал его? – быстро спросил Питт. – Я предполагал, что он был в этом не совсем уверен.
Джеймс задумчиво сморщил губы.
– Полагаю, с некоторой натяжкой, но все же можно говорить, что признал. А если сделать еще большую натяжку, то можно было положиться и на показания бродяг. Конечно, они, говоря фигурально, могли и преувеличить насчет пятен крови. Трудно знать наверняка, чточеловек действительно видит в такие моменты, а что потом дорисовывает его воображение, когда ему уже известно о случившемся. – Джеймс покачал головой и снова улыбнулся. – Но признавшая его цветочница совершенно не сомневалась, что это он. Годмен действительно остановился и заговорил с ней, что свидетельствует о его необычном хладнокровии или о самомнении, граничащем с безумием.
– Но в его вине вы не сомневаетесь, – настаивал Питт.
Джеймс нахмурился.
– Вы так говорите, будто сами в этом сомневаетесь. Вы что-нибудь нашли, неизвестное для нас в то время?
Интересен был выбор слов. Джеймс так построил фразу, что было невозможно заподозрить его в допущении ошибки. И очень незаметно, словно намеком, он хотел защитить себя от обвинения в небрежности.
– Нет, – осторожно ответил Питт. – Не то чтобы я сомневался, но, по-моему, после нашего с ним разговора Патерсон мог пересмотреть свои действия во время расследования пятилетней давности и в процессе проверки обнаружил нечто новое или же осознал возможность иной интерпретации того, что он знал раньше. Его письмо к Ливси говорит о том…
– Письмо к Ливси? – очень удивился и даже испугался Джеймс, внезапно оцепенев и понизив голос. – Судье Игнациусу Ливси?
– Да. Разве я не упомянул об этом? – притворился Питт. – Извините. Да, прежде чем его убили, повесив на крючке для люстры. – Джеймс сморщился от все возрастающей тревоги. – Прежде чем его убили, – продолжал Томас, – он послал письмо судье Ливси, в котором сообщил, что узнал ужасающую новость, о чем немедленно должен ему сообщить. Именно бедняга Ливси и обнаружил его в петле на следующее утро. К несчастью, он не мог прийти к нему накануне вечером.
Несколько минут Джеймс молчал. Лицо у него было серьезно и мрачно. Наконец он, видимо, что-то решил.
– Вы мне об этом не рассказывали. А это очень неприятным образом усложняет все дело… – Он слегка покачал головой. – Боюсь, я не в состоянии придумать, чем хоть в малейшей степени вам помочь.
– А с вами ни Патерсон, ни судья Стаффорд не сообщались по тому делу?
– Патерсон определенно не обращался ко мне. Я не разговаривал с ним ни разу с того самого времени. – И Джеймс опять слегка пошевелился в кресле. – Стаффорд действительно приходил ко мне несколько недель назад. Мисс Маколи написала ему, как писала множеству других лиц, пытаясь привлечь их внимание к этому делу. Она все еще надеется обелить имя и память брата, что, конечно, совершенно невозможно, но она и слышать об этом не хочет. – Джеймс говорил все громче и быстрее. – Она совершенно неразумно настаивала на этом, но я не мог воспринять ее действия серьезно. Я уже наслышан о ее… мании. Вполне можно было ожидать, что она станет преследовать Стаффорда, но я крайне удивился, что тот вообще обратил на ее просьбу внимание, хотя она… очень красноречивая женщина и обладает магнетизмом, против которого иные мужчины не могут устоять.
– А что судья Стаффорд хотел от вас, мистер Джеймс? Извините, что спрашиваю, но сам он не может ответить на этот вопрос, а мне это необходимо знать, чтобы выяснить, кто мог его убить.
– Во многом то же, о чем спрашиваете вы, инспектор. И сожалею, что я не мог ничем ему помочь, как сейчас не могу помочь вам. Мне известно только то, что было известно тогда, во время процесса.
– Это все? Вы уверены?
– Ну, – Джеймс чувствовал себя не в своей тарелке, но не делал попыток уклониться от вопроса. – Он расспрашивал меня про Мургейта – тот был поверенным и консультантом Годмена – о его репутации и тому подобном. – Вид у адвоката был смущенный. – Бедняга Мургейт с тех пор довольно сильно сдал. Не знаю почему. Но он совершенно дееспособен и сейчас, а тогда славился как прекрасный профессионал.
– Но, подобно вам, он верил, что Годмен виновен.
Лицо Джеймса потемнело.
– На основании имеющихся доказательств, до сих пор не оспоренных, мистер Питт, нельзя было прийти к иному заключению. Да и у вас самого нет ничего, что опровергло бы те доказательства. Понятия не имею, кто убил Стаффорда или Патерсона. Я согласен, что их смерть каким-то образом связана с делом на Фэрриерс-лейн, но не имею представления, каким именно. А вы?
Это прозвучало как вызов.
– Нет, – тихо ответил Томас. – Еще нет, – он немного отодвинулся на стуле. – Но собираюсь это узнать. Патерсону было всего тридцать два, и я намерен выяснить, кто его повесил и почему.
Он встал. Джеймс тоже поднялся, все еще сохраняя любезный вид, и протянул руку.
– Желаю удачи, мистер Питт. Надеюсь услышать о ваших успехах. Всего хорошего.
– Только еще одно, – поколебался Питт. – Годмена жестоко избили во время пребывания под стражей. Как это случилось, не знаете?
Гримаса отвращения исказила черты Джеймса.
– Он сказал мне, что его избил один полицейский. У меня не было на этот счет никаких доказательств, но я ему поверил.
– Понимаю.
– Понимаете? – Слова адвоката опять прозвучали как вызов, но на этот раз в голосе Джеймса послышалось раздражение. – Я не упомянул об этом в ходе судебного разбирательства, потому что не смог бы ничего доказать, и это еще больше настроило бы присяжных против подсудимого, который якобы клевещет на силы правопорядка, а таким образом, пусть косвенно, это повлияло бы и на общество в целом. Кроме того, это никак не могло повлиять на сам факт убийства, – на щеках Джеймса появились два красных пятна, – и изменить суть приговора.
– Да, мне это известно, – ответил Питт. – Я просто хотел выяснить, вот и все. Это мне кое-что объясняет в отношении к нему Патерсона.
– А это Патерсон его избил? – требовательно спросил Джеймс.
– Скорее всего.
– Чудовищно! Однако вы, наверное, сразу же подумали об акте мести?
– Но не со стороны Тамар Маколи. Она не смогла бы убить Патерсона таким образом. Это должен был быть человек, обладающий немалой физической силой.
– А с помощью Филдинга? Нет?.. Ну что ж, это тем не менее версия, которую вам следует обдумать. Спасибо за откровенную беседу, инспектор Питт. Всего хорошего.
– Всего хорошего, мистер Джеймс.
Томас доложил обо всем Мике Драммонду – не потому, что ожидал услышать его суждение и получить определенную помощь, но по долгу службы.
– Делайте, что сочтете нужным, – ответил тот, рассеянно глядя на то, как барабанит в окна дождь. – Как ведет себя Ламберт? Вам с ним трудно приходится?
– Нет, – пожал плечами Питт, – бедняга слишком сильно потрясен смертью Патерсона.
– Да уж, ужасное ощущение, когда твоего подчиненного убивают, – процедил Драммонд. – Вы еще не испытали его, Питт, а если бы знали, что это такое, то еще больше сочувствовали бы Ламберту, уверяю вас. – Он все смотрел на бурные ручьи дождя, стекающие по окну. – Вы испытывали бы горе, сомнение в своих силах и даже чувство вины. Вы тщательно перебирали бы в памяти все, что говорили или делали, и искали бы неточность в ваших приказаниях или недосмотр, пытались бы решить, что можно было сделать иначе – и тогда ничего бы не случилось. Вы лежали бы без сна, мучились и даже сомневались в своих способностях командовать другими людьми.
– Но я другими людьми не командую, – ответил Питт с тонкой насмешкой, не потому, что для него это было важно, но потому, что почувствовал какую-то усталость в голосе Драммонда. Боль Ламберта он воспринимал как свою собственную.
– А что говорит врач медицинской экспертизы? – спросил Драммонд. – Повешение, как и следовало ожидать?
– Да, – осторожно ответил Питт, – просто повешение как причина смерти.
Драммонд наконец повернулся, нахмурившись.
– Что это значит «просто повешение»? Этого достаточно, чтобы человек умер. Чего вы еще ожидали?
– Яд, удушение руками, удар по голове…
– Чего же ради, Боже милосердный? Вряд ли нужно сначала отравлять человека, для того чтобы потом его повесить!
– Но вряд ли вы будете стоять спокойно, пока кто-то накидывает вам на шею петлю, закрепляет ее на потолочном крючке для люстры и вздергивает вас повыше?
На лице Драммонда попеременно отразились понимание, гнев, раздражение на самого себя и затем любопытство.
– А руки и ноги у него были связаны?
– Нет, ничего похожего. И это также требует объяснения, правда?
Драммонд нахмурился еще больше.
– Что вы собираетесь делать? Наверное, надо что-то предпринять. Ко мне опять приезжал помощник комиссара. Никто не хочет, чтобы расследование чересчур затягивалось.
– Вы хотите этим сказать, что никто из начальства не желает снова обращаться к делу на Фэрриерс-лейн? – спросил с горечью Питт.
Лицо у Драммонда приобрело жесткое выражение.
– Конечно, нет. Оно все еще очень болезненно.
– Я прослежу все последние дни жизни Патерсона с того самого времени, как опрашивал его.
– Дайте мне знать, если будут новости.
– Да, сэр, непременно.
Ламберт почти совсем ему не помогал. Как и сказал Драммонд, он все еще находился в шоковом состоянии от того, каким образом погиб его подчиненный. Старший инспектор допросил всех в меблированных комнатах, каждого встречного на улице, тех, кто работал вместе с Патерсоном или был с ним лично знаком. Тем не менее он нисколько не приблизился к разгадке тайны.
Однако Ламберт подробно рассказал Питту, чтоПатерсон делал в последнюю неделю своей жизни, какие служебные дела вел, и после утомительного свед е́ния воедино различных свидетельств о времени, местонахождении и прочем Питт понял, что в расследовании существуют многочисленные пробелы, когда никто не знал, где Патерсон находился в это время. Питт догадывался, что как раз тогда-то он и занимался своим собственным расследованием убийства на Фэрриерс-лейн.
И он тоже предпринял собственное расследование маршрутов Патерсона, начав с того, что опять обратился к театральному швейцару. В этот час дня в театре царила странная тишина. Все вокруг было бесцветным, в окна сочился серый дневной свет, не слышалось смеха, не чувствовалось возбуждения, которое всегда царит перед спектаклем; не было ни актеров, ни музыкантов, развлекающих толпу. Присутствовали женщины-уборщицы. Они сидели на ступеньках сцены с чашкой чаю и читали программки.
Питт нашел Уимбуша в его маленькой комнатке за сценой.
– Да, сэр. Мистер Патерсон опять приходил. – Уимбуш задумчиво прищурился. – Дней шесть, может, пять назад.
– Что он вам говорил?
– Да все об убийстве мистера Блейна, сэр. Как вы тогда. И я рассказал ему все то же, что и вам.
– Что же он сказал?
– Ничего. Поблагодарил меня, а потом ушел.
– А куда, вы не знаете?
– Нет, сэр, он не сказал.
Но Питту и не надо было обращаться к швейцару, он и так все знал.
Томас снова поговорил с костюмершей Тамар Маколи, но та повторила то же самое. Да, Патерсон приходил к ней и задавал все те же вопросы, и она ответила ему то же, что уже говорила Питту.
Томас ушел из театра и повернул на север, к Фэрриерс-лейн. Стоял поздний день, холодный, серый. Тротуары блестели от дождя, ветер гонял мусор по канавам.
Инспектор шел мимо нищих, уличных торговцев, лоточников и праздношатающихся, которые, съежившись от холода, искали себе ступеньки, на которых можно было бы устроиться на ночлег. Жаровня, в которой однорукий инвалид жарил каштаны, была единственным крошечным островком тепла, а огонь под ней – таким же единственным огоньком в сгущающейся мгле. Вокруг жаровни теснились с десяток человек. Это напомнило Питту о тех людях, которые, наверное, вот так же стояли у жаровни в ту ночь, когда был убит Кингсли Блейн. Томас знал из документов их имена. Они все значились в материалах судебного расследования. Он снова заглянул в свой список, чтобы освежить их в памяти.
Найти их снова было мало шансов. Они могли перебраться в другое место, изменить образ жизни на более благополучный, а могли, напротив, совсем захиреть. Могли заболеть, могли уже покинуть сей свет или сесть в тюрьму. Смертность среди них была высока, а пять лет – достаточно долгий срок.
Интересно, Патерсон побеспокоился найти хоть одного из них? Или уличного мальчишку, Джо Слейтера? Но он наверняка разыскивал цветочницу. Если она, конечно, еще продает здесь цветы.
На расстоянии нескольких сотен шагов от Фэрриерс-лейн Питт почувствовал, как та непреодолимо его притягивает. Иногда с трудом удерживая равновесие на влажном булыжнике, он ускорил шаг, словно мог что-то упустить, если станет медлить. Вот Питт завернул за последний угол и увидел впереди себя налево черную узкую расщелину Фэрриерс-лейн. Он сбавил шаг. Ему хотелось пройти по ней, и в то же время переулок внушал отвращение. Желудок свело, ноги окоченели.
Питт остановился напротив. Как говорил Патерсон, уличный фонарь находился примерно в двадцати шагах от переулка. Ветер громыхал листами железа на крышах и гнал по дорогам обрывки старых газет. Уже заметно смеркалось, и фонарщики уже зажгли газовые фонари. Однако Фэрриерс-лейн казалась темной и непроходимой. Питт остановился примерно там, где кучковались в ту ночь бродяги, и перешел на другую сторону улицы. Он очень отчетливо видел какую-то мужскую фигуру, но лица, пока не подошел и не очутился под фонарем, не мог разглядеть.
Томас прошел улицу. Пульс у него участился, горло перехватило. Вот она, Фэрриерс-лейн. Переулок был узкий, дорога под ногами гладкая, но Питт почти ничего не видел впереди, кроме очертаний стены прямо перед конюшенным двором. Однако там тоже должен быть свет. Еще шаг-два, и Питт увидел его слабое мерцание. Он представил себе, как Кингсли Блейн избрал эту кратчайшую дорогу, чтобы пройти через переулок в клуб, где ожидал встретиться о Девлином О’Нилом. Думал ли он, что его может кто-то поджидать, когда из-под неверного света уличного фонаря свернул в окутанный тенями переулок? Явилось ли для него нападение совершенно неожиданным?
Шаги Питта звучно отдавались по камням, походка была напряженная, ему было страшно. Туман душил его, дыхание стало прерывистым. Теперь он видел фонарь на стене, освещающий конюшенный двор впереди. Это тогда была конюшня, теперь же здесь находился кирпичный склад. Инспектор тихо, медленно вошел во двор, пытаясь вообразить, как все происходило в ту ночь. Что видел тогда Кингсли Блейн? Кто его ждал? Аарон Годмен, худощавый, хрупкий, очень подвижный актер, одетый, как одеваются, чтобы пойти в театр, с белым шелковым шарфом на шее, поблескивающим в свете конюшенного фонаря, с длинным заостренным кузнечным гвоздем в руке? Или то был кинжал, так и не найденный до сих пор? Да какое это, в сущности, имеет значение? Ведь гвоздь или кинжал было легко потерять. Конечно, полиции не удалось найти ни того, ни другого, и это понятно. Достаточно бросить оружие в водосточную трубу.
Но, может, вместо Годмена его ожидал кто-то другой? Джошуа Филдинг, например… А может, даже сама Тамар, понукающая Филдинга свершить задуманное?
Отвратительная, чудовищная мысль. Даже не понимая почему, Томас поспешно ее отбросил, остановился и внимательно огляделся вокруг. Вот там, слева, наверное, расположена конюшня на шесть стойл. Одна дверь казалась новее, чем остальные.
Питта слегка затошнило, и он снова вышел в темноту переулка, даже не вышел – почти выбежал. Выскочив на улицу и задыхаясь от ужаса, с сильно бьющимся сердцем, инспектор резко остановился и с минуту так стоял. А затем пошел обратно, к Сохо-сквер, где продавали цветы. Теперь Питт шел так быстро, что все время натыкался на прохожих. Он громко стучал каблуками по камням тротуара, дыхание его все еще было учащенным и неровным.
Цветочница стояла на обычном месте – низенькая толстая женщина, закутанная в коричневую, с ржавым оттенком, шаль. Она машинально протянула Томасу букетик из разных цветов и затянула, как обычно, нараспев:
– Свеженьких цветочков, мистер? Купите букетик свежих цветов для своей леди, сэр. Сорваны только сегодня. Посмотрите, какие еще свеженькие. Подышите вместе с ними деревенским воздухом, сэр.
Питт порылся в кармане и вытащил трехпенсовик.
– Да, пожалуйста.
Она не спросила, не надо ли сдачи, а просто схватила монету и подала ему два букета; лицо ее просияло от удачной сделки. Становилось все холодней; по-видимому, весь день в целом был для нее неудачным.
– Давно здесь торгуете? – спросил Питт.
– С шести утра, сэр, – ответила она, нахмурившись.
Мимо них прошла пара, направляющаяся в гости. Длинная юбка женщины намокла от влажной мостовой, шелковый цилиндр мужчины блестел от дождя.
– Я имею в виду, давно ли вы торгуете на этом месте?
– О, наверное, лет четырнадцать… – Она сощурилась. – А почему вы спрашиваете?
– Значит, это вы видели Аарона Годмена после совершения убийства на Фэрриерс-лейн?
Где-то в дальнем конце площади заржала лошадь и выругался кучер.
– Прошу прощения, сэр, но зачем вам это знать? – спросила торговка, настороженно взглянув на него.
– Вы знали мистера Годмена?
– Видела, как он выступает.
– А как он был одет в ту ночь? Не помните?
– Ну, в пальто, конечно, ведь поздно уже было. А что же еще он мог надеть?
– В цилиндре, белом шелковом шарфе?
– Да что вы! Это же актер был, бедняга, а не богатей какой-нибудь.
– Вы как будто о нем жалеете?
– Ну и что? Даже если и жалею? Этот ублюдок Блейн обрюхатил его сестру, шлюху несчастную, но парня, бедолагу, все равно повесили.
– Но был ли на нем белый шарф?
– Я уже говорила – он был одет, как на работу.
– Значит, шарфа не было. Вы в этом уверены?
– Ага. Да сколько мне еще вам повторять? Не было на нем никакого шарфа!
– А вы случайно не встречались недавно с полицейским Патерсоном?
– А если и встречалась?
Питт сунул руку в карман и достал полшиллинга.
– Пожалуй, еще прикуплю цветочков.
Торговка молча взяла монету и вручила ему четыре букетика. Чтобы не уронить цветы, Томасу пришлось наполовину засунуть их в левый карман. Мимо прошли двое джентльменов в вечерних костюмах, поблескивая цилиндрами и удивленно оглядывая Питта и его собеседницу.
– Вы недавно видели Патерсона?
– Да, он приходил позавчера. Спрашивал опять обо всем. Я ему ответила, как тогда. А затем пробили часы. – И она кивком указала на часы, висевшие на здании за ее спиной. – И он спросил меня о них.
– А что спросил? Разве не из-за этих часов вы решили, что Годмен подошел к вам без четверти час ночи?
– Так мне мистер Патерсон говорил. Он стоял на этом. Я не могла его с этого сбить и сама потом решила, что так оно, наверное, и есть. Но сначала я сказала: нет, это было в четверть после двенадцати. Но я тогда так и думала! Понимаете… – И она взглянула на Питта исподлобья, словно желая убедиться, что тот слушает ее внимательно. – Понимаете, часы эти у нас чудные. Они бьют один раз в первую четверть, два раза бьют в половине и только третью отбивают как положено. Вот он и говорит, что они били третью четверть, ведь я уже тогда много продала букетов. Но сначала-то я думала, что било только первую, потому что после того, как часы почистили, они стали бить так чудно, но только в без четверти, словно жужжат при этом. Но в ту ночь этого не было, – и она широко, словно испугавшись, раскрыла глаза, – а, начитца, били-то они первую четверть, а не третью, верно?
– Да, – тихо подтвердил Питт, чувствуя что-то странное: возбуждение, ужас и изумление одновременно. – Да, верно, если вы ничего не путаете. Вы сами-то уверены? Вы видели, как он брал кеб?
– Да, вон на том углу.
– Вы уверены в этом?
– Да уверена ж, мистер! Я и мистеру Патерсону так сказала, и ему вроде стало нехорошо. Я думала, что он грохнется без памяти прям рядом. Да что там, вид у него был – краше в гроб кладут.
– Понятно.
Питт выгреб из кармана оставшуюся мелочь – два шиллинга, девять пенсов и полпенни – и протянул всё цветочнице. Она уставилась на деньги, не веря глазам своим, затем сгребла их, засунула поглубже в карман и больше не вынула оттуда руки.
– Да, все так и есть, – тихо сказал Питт. – Если Аарон Годмен купил у вас цветы в четверть первого ночи и сразу же поехал домой в Пимлико, значит, он не мог убить Кингсли Блейна в половине первого на Фэрриерс-лейн.
– Нет, не мог, – покачала она головой. – Получается, что никак не мог, бедняга он этакий! Но его все равно повесили, и он уже не воскреснет. Да упокоит Господь его душу с миром…
Глава десятая
Питт приехал домой почти в одиннадцать вечера, промокший насквозь под проливным дождем. Он был бледен, волосы прилипли ко лбу. Томас снял верхнюю одежду в коридоре и повесил ее на крючок, но она рухнула под тяжестью впитавшейся воды и теперь лежала мокрой грудой на линолеуме. Он решил не обращать на это внимания и прошел на кухню, к теплу очага, где можно наконец стянуть сырые ботинки и протянуть к огню онемевшие от холода ступни.
Шарлотта встретила его в дверях. Лицо у нее было испуганное, волосы распущены по плечам. Очевидно, ожидая его, она заснула в кресле-качалке.
– Томас! Ты же совершенно промок! Где ты был и что делал? Входи, входи же! – Затем она увидела его лицо и выражение глаз. – Что случилось? Что такое? Еще кто-нибудь умер?
– Да, случилось. – Он грузно опустился на стул возле плиты и начал расшнуровывать ботинок.
Шарлотта встала рядом на колени и принялась расшнуровывать другой.
– Что ты этим хочешь сказать?
– Аарон Годмен. Он не убивал Блейна.
Она остановилась – пальцы ее застыли на мокрых шнурках – и пристально поглядела на него.
– А кто же?
– Этого я еще не знаю, но это не он. Продавщица цветов неправильно указала время, когда он подошел к ней, и Патерсон понял это в день своей смерти. Может быть, он догадался, кто убийца, и вот по этой-то причине его убили.
– А каким образом она могла ошибиться насчет времени? Разве они не допросили ее, как следовало?
Питт рассказал ей о часах и о том, что после ремонта они стали неправильно бить. Жена кончила расшнуровывать его ботинки, сняла их и поставила поближе к плите, чтобы просыхали, затем сняла носки и стала растирать ему ноги теплым полотенцем. Томас с наслаждением пошевелил пальцами, объясняя тем временем, как сначала ошибся Патерсон, как он настаивал на том, что виноват именно Годмен, как сбил женщину с толку и она сдалась.
– Бедняга Патерсон, – ответила тихо Шарлотта. – Он, наверное, ужасно чувствовал себя. Вероятно, именно сознание вины заставило его забыть о собственной безопасности. Он отчаянно стремился как-то поправить положение.
Она встала, подошла к котелку, который тихонько пел сбоку на плите, и поставила его на горячую конфорку, чтобы тот сразу закипел, а другой рукой подвинула к себе чайник.
– Почему же он написал судье Ливси, а не тебе или своему начальнику?
– Не знаю, – Питт растирал холодные ступни, закатав брюки, чтобы мокрая ткань не касалась ноги. – Наверное, он думал, что Ливси обладает достаточной силой и влиянием, чтобы снова открыть дело. Я такой власти не имею. Если у меня в руках окажутся самые неопровержимые доказательства, я в таком случае могу обратиться с ними в суд. Однако Ливси может сделать то же самое гораздо быстрее и непосредственнее. И он заседал в Апелляционном суде во время процесса. Более того, фактически вел тогда заседание. И это он представил суду окончательное решение по апелляции.
Шарлотта залила крутым кипятком чай и закрыла чайник крышкой.
– Он, наверное, не мог ошибиться… или как?
– Но ведь к самому судопроизводству он не имел никакого отношения. И не он, разумеется, убил Кингсли Блейна, как не мог убить и Патерсона. Он был на званом обеде и оставался там до часу-двух ночи. Но к этому времени сержант был уже убит. Все это мы можем доказать при помощи медицинской экспертизы, а также свидетельства хозяйки дома относительно того, когда была заперта входная дверь.
Шарлотта поставила чайник на стол, потом принесла чашки, достала из чулана молоко, большой кусок ржаного хлеба, масло и соленья, налила чай, подала мужу чашку и села напротив, глядя, как он начал жадно есть.
– Наверное, Патерсона убил тот же человек, что и Кингсли Блейна, – заметила она задумчиво. – Возможно, сержант сказал им, что все знает, то есть что он сам все расследовал, но удивляюсь, как ему это удалось. – Шарлотта нахмурилась. – Я не понимаю одного: как знание того, что это не Годмен, могло подсказать ему, кто настоящий убийца.
– И я не знаю, – ответил Питт с набитым ртом. – Можешь мне поверить, я голову сломал, пытаясь догадаться, что он такое обнаружил или каким образом пришел к выводу о невиновности Годмена, – но ничего не придумал. – Он вздохнул. – Как бы я желал, чтобы он хоть словом кому-нибудь обмолвился о своем открытии! Ведь только следуя по его стопам, я тоже узнал, что Годмен невиновен.
Шарлотта в обеих руках держала кружку с чаем.
– А кому ты об этом рассказал?
– Драммонду, только Драммонду. – Питт пристально поглядел на Шарлотту. – Это не такая новость, которую каждому хотелось бы знать. Это ведь значит, что они все – полиция, адвокаты, судьи, присяжные и члены Апелляционного суда, – все тогда ошиблись. Даже палач, потому что казнил невинного человека. И, наверное, ему долго должны были сниться кошмары. – Питт вздрогнул, словно в кухне стало холодно, несмотря на огонь в плите. – Были виноваты газеты, общество – все, все были виноваты, кроме Джошуа Филдинга и Тамар Маколи.
– А что сказал мистер Драммонд?
– Немногое. Ему тоже хорошо известно, какая на все это последует реакция.
– А какая? Ведь они не смогут отрицать правду?
– Не знаю, – Томас устало опустил чашку на стол. – Конечно, будет много злобы и поношений, все начнут обвинять друг друга – мол, они должны были знать лучше, они должны были тогда повести себя иначе. – Он насмешливо улыбнулся. – Наверное, один Адольфус Прайс вышел из этой истории более или менее незапятнанным. Он выступал со стороны обвинения и должен был выполнять свой долг, но Мургейт, поверенный Годмена, обязан чувствовать себя виноватым за то, что не поверил своему клиенту, как бы высокомерно он ни вел себя сейчас. И Бартон Джеймс – тоже, потому что не оказал давления на продавщицу цветов и не узнал истину. Он ведь изначально считал Годмена виновным, поэтому не видел смысла в допросе. Но ведь у него на руках был неповинный человек, а он позволил его повесить.
Питт опять поднял чашку, но она была почти пуста.
– И Телониус Квейд, который вел процесс, – он тоже виноват, и ему тоже придется поразмыслить над тем, не мог ли он слегка изменить ход судебного разбирательства и установить истину. А Ламберт будет сокрушаться, что обвинил в убийстве не того человека и, что столь же скверно, отпустил виновного и не только оставил его на свободе, но и вне подозрения и дал ему возможность снова убивать.
– И члены Апелляционного суда тоже хороши, – добавила Шарлотта, потянувшись к его чашке и снова наливая чай. – Они отклонили апелляцию и подтвердили несправедливый приговор. Они тоже просто так не сдадут своих позиций. – Она подала мужу чашку. – Когда ты сообщишь об этом Тамар Маколи?
– Не знаю. Я об этом еще не думал, – Томас провел рукой по глазам, потер их и покачал головой. – Может быть, завтра. Может, позднее. Сначала хотелось бы знать определеннее, кто настоящий убийца, прежде чем ей обо всем рассказывать. Не знаю, что она в связи со всем этим вздумает предпринять.
– Ну, как бы то ни было, – угрюмо улыбнулась Шарлотта, – не сегодня. Утром ты на все взглянешь иначе, и, может быть, что-нибудь еще прояснится.
Томас допил чай.
– Сомневаюсь, – он встал. – Но сейчас мне это все равно. Пойдем спать, пока я еще способен подняться по лестнице.
– Может быть, это Джошуа Филдинг? – спросила наутро Шарлотта с бледным от беспокойства лицом, глядя, как Питт намазывает джем на хлеб. – И если это так, то что мне делать с мамой, Томас?
Питт неохотно вернулся мыслью к этой проблеме. Его аналитические способности и чувства всецело поглотила смерть Патерсона и тот факт, что Годмен невиновен, но в голосе Шарлотты слышался хорошо обоснованный страх.
– Ну, начать хотя бы с того, что не надо говорить ей о невиновности Годмена, – ответил он медленно, на ходу обдумывая ответ. – Если убийца Филдинг, то она в большей безопасности, пока ему неизвестно, что он на подозрении.
– Но если он действительно виноват? – настаивала Шарлотта, чувствуя панический страх. – Если он убил Блейна, судью Стаффорда и Патерсона, Томас, тогда, значит, он совершенно безжалостен. И он убьет маму, если посчитает это необходимым для собственной безопасности!
– Вот именно поэтому ты и не должна сообщать ей, что Годмен не виноват, – решительно заявил Питт. – Шарлотта, послушай меня, нет никакого резона намекать ей сейчас на вину Филдинга. Она же в него влюблена.
– Чепуха, – горячо возразила молодая женщина, чувствуя, как у нее перехватило горло от ощущения одиночества, почти предательства со стороны матери, словно та ее бросила. Это было нелепо, но горло у нее заболело от сдерживаемых слез при одной только мысли, что Кэролайн действительно кого-то любит, как она сама любит Питта – всем сердцем, всем существом. Она глубоко вздохнула и постаралась взять себя в руки. – Это чепуха, Томас. Она, конечно, им увлечена. Джошуа, – интересный человек, такие редко встречаются в повседневной жизни. И, разумеется, ее заботит, чтобы справедливость была восстановлена. – Слова мужа поразили ее в самое сердце.
– Шарлотта! Мне сейчас некогда с тобой спорить. Твоя мать любит Джошуа Филдинга. Понимаю, ты изо всех сил стараешься это отрицать, но тебе придется смириться. Это факт, как бы он ни был тебе противен.
– Нет, это не так, – бурно отвергла она его предположение, – разумеется, это все не так. Томас, маме же порядком за пятьдесят! – Шарлотта опять почувствовала, как у нее сдавило дыхание, воображение начало рисовать ей отвратительные картины. Ее муж должен бы это все понимать. – Нет, это просто дружба, и все тут!
Шарлотта говорила все громче и пронзительнее. Она понимала, что это несправедливо, но сейчас очень сердилась на Эмили, на то, что та прохлаждается в деревне и ничего не знает – и не хочет знать, – как обстоят семейные дела. Ей надо быть рядом с Шарлоттой, делить трудности, помогать… Ведь в жизни семьи наступает настоящий кризис.
Томас негодующе посмотрел на жену.
– Шарлотта, сейчас не время жалеть себя! Люди не перестают влюбляться оттого, что им пятьдесят или шестьдесят, да сколько угодно лет!
– Нет, перестают!
– Тогда скажи, когда ты намерена перестать любить меня? Когда тебе исполнится полсотни?
– Но это совсем другое дело, – возразила Шарлотта.
– Нет, не другое. Иногда с возрастом мы становимся осторожнее, потому что больше знаем о грозящих нам опасностях; но чувствуем мы так же, как прежде. Почему же твоя мать не может влюбиться? Когда тебе исполнится пятьдесят, Джемайма будет считать тебя старухой, такой же статичной, как три кита, на которых стоит мир, потому что ты для нее именно такая опора, другой она никогда не знала, и эта опора по-прежнему будет внушать ей чувство безопасности и своего определенного, устойчивого места в мире. Но ведь ты-то останешься той же самой женщиной, что и сейчас, столь же способной чувствовать негодование, гнев, так же смеяться, сердиться, совершать глупости и так же любить.
Шарлотта яростно захлопала глазами. Сейчас она расплачется, и это очень глупо с ее стороны, но она ничего не может с собой поделать.
Питт положил свою руку на ее. Пальцы у жены были неподвижны. Она отодвинулась и спросила, тяжело дыша:
– Но что мне делать с ней? Если Джошуа убил Кингсли Блейна, не говоря уж о судье Стаффорде и бедняге Патерсоне, значит, он так опасен, как только может быть опасен человек! Он не задумавшись убьет и ее, если почувствует, что она представляет для него угрозу, – Шарлотта зашмыгала носом. – А если он не убивал, то каким образом я могу помешать ей вести себя так по-дурацки? А люди именно так и ведут себя, когда влюбляются. Значит, я должна как можно скорее ее разубедить. Мне надо рассказать ей обо всех его недостатках. Она не может выйти замуж за Филдинга, даже если он совершенно не виноват, – Шарлотта яростно затрясла головой, – даже если сделает ей предложение, чего он, конечно же, не сделает.
– Если он сделает ей предложение, ты не станешь вмешиваться, – твердо и даже жестко ответил Питт, что крайне изумило ее.
– Не стану? – запротестовала она. – Но, Томас…
– Не станешь, – повторил он. – Шарлотта, я расскажу ей все, что нам известно об этом деле, – но лишь через несколько дней, когда взвешу все обстоятельства и получу новые доказательства. И тогда она примет свое собственное решение относительно того, что ей следует делать.
– Но, Томас…
– Именно так! – Его теплая ладонь тяжело придавила к столу ее руку. – Я знаю, что ты собираешься ей сказать, но ничего хорошего из этого не получится. Дорогая, скажи, когда влюбленные слушались своих родных? Чем больше ты будешь ей доказывать, как он опасен, как неприемлем, неподходящ и недостоин ее и все, что только придет тебе в голову, – тем больше она будет стремиться быть ему преданной, не слушая голоса рассудка.
– Послушать тебя, так она просто глупа!
– Не глупа, а влюблена.
Шарлотта бросила на него яростный взгляд. Слезы щипали ей глаза.
– Тогда тебе лучше поскорее узнать, не он ли убил Кингсли Блейна… Но если это не он, тогда кто?
– Не знаю, но думаю, что Девлин О’Нил.
Царапая пол, Шарлотта резко отодвинула стул и встала.
– Тогда я собираюсь узнать об этом все, что можно. – Она часто задышала. – И не смей мне говорить, что я не должна этого делать. Я буду очень осторожна. Ни у кого не возникнет ни малейшего подозрения, почему меня все это интересует или что сама я подозреваю кого-то не то что в преступном, а даже просто в аморальном поступке.
Прежде чем муж успел возразить, она быстро вышла из кухни, взбежала вверх по лестнице и стала придирчиво осматривать свой гардероб в поисках платья, подходящего для визитов к Кэролайн, Клио Фарбер, Кэтлин О’Нил или к кому угодно, кто мог бы помочь в разгадке тайны Фэрриерс-лейн.
На самом деле Шарлотте ничего не удалось предпринять в последующие два дня, и все устроилось лишь с помощью Клио Фарбер, да и то с большим трудом. Это был небольшой заговор. Клио пригласила Кэтлин О’Нил в Британский музей – место, которое так любила посещать и Ада Харримор. Такие посещения давали ей возможность медленно расхаживать по залам – а ее здоровье было еще превосходным, – болтать, сплетничать, оглядывать с ног до головы других дам, в то же время чувствуя, что она просвещает свой ум без всяких обязательств перед людьми, которых нужно в свою очередь приглашать к себе. Можно также одеваться по своему усмотрению, приходить когда заблагорассудится и уйти, когда вдосталь насмотришься. Другими словами, посещение музея прекрасно соответствовало всем сложным и тонким правилам и ограничениям общественных условностей и этикета.
Клио сообщила Шарлотте, что все устроено, и та «совершенно случайно», точно без четверти три пополудни, наткнулась на Аду и Кэтлин в Египетском зале, явно обрадованная и удивленная. Она хотела сначала пригласить с собой Кэролайн, но передумала, так как сомневалась в своей способности скрыть от матери, что Аарон Годмен неповинен в убийстве Кингсли Блейна, и вытекающее отсюда опасение, что убийцей мог быть Джошуа. Что касается Девлина О’Нила, то это совсем другое. Шарлотте нравилась Кэтлин, и она будет огорчена, если окажется, что ее муж виноват в убийстве, однако с этим огорчением ее искусство притворяться справится вполне.
– Как чудесно увидеть вас снова! – воскликнула Шарлотта, удивляясь ровно настолько, чтобы удивление не показалось чрезмерным. – Добрый день, миссис Харримор. Надеюсь, вы чувствуете себя хорошо?
На Аде Харримор был темно-коричневый туалет с соболиной отделкой и шляпа, которая считалась в высшей степени элегантной два сезона назад и с тех пор была переделана так, чтобы замаскировать ее двухлетнюю давность.
– Не люблю зиму, но чувствую себя вполне хорошо, благодарю вас, – ответила Ада с видимой благосклонностью. – А вы, мисс Питт?
– Очень хорошо. Благодарю. Я согласна, что холод может доставлять массу неприятностей, но, знаете, не думаю, что мне хотелось бы жить в таком жарком климате, как в Египте. – И очень сосредоточенно стала разглядывать предметы искусства, выставленные в витрине перед ними: медные орудия труда, глиняные сосуды, прекрасные черепаховые ожерелья с ляпис-лазурью. Ее особенное внимание привлек маленький стеклянный кувшин. – Такие вещи заставляют задуматься над тем, как жили люди, которые могли создавать их и использовать в быту! – воскликнула она с энтузиазмом. – Как вы думаете, они очень отличались от нас или их чувства были, в сущности, те же?
– Совершенно другие, – решительно заявила Ада. – Они же были египтяне, а мы – англичане.
– Да, национальность влияет на обычаи, одежду, дома, пищу. Но неужели вы думаете, что это меняет образ чувств и кодекс ценностей различных людей? – спросила Шарлотта с наивозможной для себя вежливостью. Вопрос был задан беспечно и наивно, и ее удивили и страстность, и быстрота, с которыми Ада отреагировала на него. Шарлотту даже обеспокоило нечто, промелькнувшее по лицу старой леди. Это была не только излишняя и не желающая никаких перемен категоричность; выражение ее лица было сродни страху, как будто в самой чужеродности давно умерших людей заключалось нечто опасное.
Ада взглянула на предметы, выставленные в витрине, потом на Шарлотту.
– Извините меня за то, что я сейчас скажу, мисс Питт, но вы еще очень молоды, а следовательно, наивны и, смею сказать, не очень хорошо знакомы с представителями других рас. Даже если они родились в Англии и выросли среди нас, они все равно от нас отличаются. Кровь скажется обязательно. Можно сколь долго и усердно учить и воспитывать ребенка, но в конце концов его наследственность все равно даст себя знать.
Мимо них прошли две дамы, разодетые по последней моде. Они благосклонно кивнули и продолжили торжественное шествие.
Ада напряженно улыбнулась.
– Так как же можно ожидать, что те, кто рожден в другой стране и вырос в совершенно другой вере, могут иметь с нами что-нибудь общее, кроме манер, да и то в самом поверхностном смысле слова? Нет, дорогая моя мисс Питт, не думаю, чтобы они чувствовали так же, как мы, – во всяком случае, что касается духовных или моральных ценностей. Да и как это может быть?
Шарлотте хотелось ответить, но она поняла, что ответ ее прозвучит банально, а может быть, и грубо.
– Они поклонялись страшным богам с головами животных, – горячо продолжала Ада, – и пытались сохранять трупы своих мертвецов! Господи помилуй! Нам может быть очень любопытно изучать их образ жизни в целях просвещения и знакомства с прошлым, это так, – но прежде всего для понимания того, насколько высока наша собственная культура. И думать, будто у нас есть с ними нечто общее, – нет, это самая настоящая глупость.
Шарлотта порылась в поблекших воспоминаниях, почерпнутых из школьных учебников.
– Разве у них не было фараона, который исповедовал единобожие?
Ада вскинула брови.
– Понятия не имею. Но ведь это был не наш бог. Фараон хотел убить Моисея и весь его народ! И это, бесспорно, очень скверно. Никто из веривших в Бога истинного не стал бы делать ничего подобного.
– Но люди делают иногда ужасные вещи со своими врагами, особенно когда боятся их.
Лицо Ады омрачилось, в глазах ее на секунду появилось ледяное выражение, однако усилием воли она вернула благосклонный взгляд.
– Да, это совершенно верно, но в моменты панического страха мы проявляем самые глубинные наши чувства и понимаем, что эти иностранцы ведут себя совсем не так, как мы, потому что по натуре своей они совершенно другие люди. Я не хочу сказать, конечно, что они не способны – по крайней мере, некоторые из них – создавать прекраснейшие вещи и не знают много такого, что может быть нам полезно.
У соседней витрины стояла гувернантка в простом коричневом платье, а ее двенадцатилетняя подопечная хихикала над бюстом давным-давно умершей царицы.
– Особенно это относится к древним грекам, – продолжала Ада громче. – У них есть образцы совершенной, чудесной архитектуры. И, разумеется, они обладали великолепным чувством меры и самодисциплины. Муж моей внучки, мистер О’Нил, с которым вы знакомы, побывал в Афинах. Он говорил, что у него не хватает слов, чтобы по достоинству описать Парфенон. Он считает, что греческое искусство очень возвышает дух. Но он также восхищается сочинениями лорда Байрона, хотя, на мой взгляд, они несколько сомнительны. Я отдаю гораздо большее предпочтение нашему дорогому лорду Теннисону. С ним всегда чувствуешь себя спокойно и уверенно.
Шарлотта уступила поле боя без дальнейшего сопротивления. Продолжать спор означало бы гораздо больше потерять, чем приобрести. Мысленно она никак не могла позабыть только что мелькнувший ледяной взгляд Ады.
– Да, наверное, поездка мистера О’Нила была замечательной, – согласилась она с готовностью. – А интересно, здесь есть, наверное, и греческая экспозиция?
– Ну конечно! Давайте пойдем и посмотрим их погребальные урны и вазы. По-моему, нам сюда, – и широким жестом Ада показала дорогу из Египетского зала в следующий.
Шарлотта прошла мимо Клио и Кэтлин, стоявших на лестничной площадке, улыбнулась и поспешила за Адой, нагнав ее как раз на пороге Греческого зала.
– Как же повезло мистеру О’Нилу, что он смог побывать в Греции, – заметила она непринужденно. – А давно это было?
– Лет семь тому назад.
– Миссис О’Нил тоже с ним ездила? – спросила Шарлотта заинтересованно, однако в меру, позволяемую формальной вежливостью, хотя знала, что тогда Кэтлин была замужем за Кингсли Блейном.
– Нет, – отрезала Ада. – Он ездил до их свадьбы, но не сомневаюсь, что они опять туда когда-нибудь поедут. Я так понимаю, что вы, мисс Питт, в Греции никогда не бывали?
– Увы, нет. Вот почему это такое счастье – иметь возможность посетить музей и увидеть прекрасные предметы, не выезжая за пределы страны. А вы бывали в Греции, миссис Харримор?
– Нет. Я никогда не путешествовала. Мой муж о том не заботился. – Лицо у нее стало угрюмо-печальным, отвердело, но это было выражение не только печали, но и застарелой боли.
– Да, путешествовать не все любят, – спокойно ответила Шарлотта, делая вид, что не замечает ее чувств, а просто отвечает на слова, ибо чувство было слишком личное, интимное и тонкое, чтобы определить его природу. – Некоторые во время путешествия чувствуют себя плохо, особенно на море.
– Да, наверное, – согласилась Ада, почти не разжимая тонких губ.
– И, конечно, это довольно дорогое удовольствие, – продолжала Шарлотта, приноравливаясь к походке пожилой леди. – Особенно если семья большая. Однако не всегда возможно, да и не хочется оставлять маленьких детей без присмотра на длительное время, а взять их с собой не рекомендуют врачи – из-за климата, который может оказаться для них неподходящим, и непривычной пищи, да и медицинскую помощь непонятно как получить. Да, много существует причин, чтобы из-за детей не пускаться в дальние путешествия.
Ада долго смотрела на величественную мраморную статую женщины, на великолепные, тяжелые складки ее одежды, на тело, солидное, массивное и тем не менее исполненное такой простой и воздушной грации, что, казалось, достаточно одного дуновения ветерка, и эти великолепные складки шевельнутся. Статуя была без рук, лицо оббито, но все равно хранило следы величественной строгой красоты.
– Но у нас была небольшая семья, – ответила Ада, обращаясь к статуе, а не к Шарлотте. – Только один Проспер.
Она стояла близко к статуе. Клио и Кэтлин последовали за ними в Греческий зал и теперь восхищались каким-то экспонатом в дальнем конце, почему не могли их слышать. Ада, казалось, о них забыла. Рядом не было никого, кроме двух пожилых джентльменов, один из которых назидательно что-то говорил другому о художественных достоинствах ваз. Аду поглотили ее собственные чувства; она словно нашла место, где можно побыть в совершенном одиночестве, на несколько минут ослабить внутреннюю настороженность, перевести дух, прежде чем снова взвалить на себя тяжкую ношу. Она выглядела уставшей и странно беззащитной, словно с нее спали все покровы.
Шарлотте захотелось коснуться ее руки и утешить, прикосновение казалось ей менее грубым, чем слова, но этот жест мог показаться неделикатным, навязчивым, даже дерзким при столь недолгом знакомстве и разнице в возрасте. И постоянно где-то на краю сознания Шарлотты маячила мысль об Аароне Годмене. И не только мысль. Странно, но она наделила его лицом, хотя никогда не была с ним знакома и не видела его портрета.
– Но это же просто стыд! Мистер Харримор, человек такой сильный и твердый…
– Вы меня не поняли. – Ада опять воззрилась на статую, затем медленно подошла к чудесной краснофигурной вазе, на которой была изображена сцена вакхического разнузданного веселья, но Шарлотта готова была поклясться, что пожилая дама ее не видит; у нее было бы тогда совсем другое выражение лица – не такое неподвижное и полное боли. – Вы еще очень наивны, мисс Питт, хотя, несомненно, ваши замечания продиктованы добрыми чувствами…
В этой неожиданной фразе Шарлотте почудилось какое-то осуждение, однако она подавила инстинктивное желание возразить и вместо этого сказала:
– Я… мне кажется, я не понимаю…
– Конечно, не понимаете, – согласилась Ада. – Вам никогда не приходилось понимать такое и, даст бог, никогда и не придется. Он ущербен, мисс Питт. – Шарлотта смешалась. Странно, что мать так отзывается о сыне, однако та произнесла эту фразу со страстной убежденностью. Значит, не какое-нибудь мимолетное замечание, но что-то другое беспокоило Аду, и настолько, что она никогда не могла об этом позабыть. Шарлотта терялась в поисках слов.
– Но у нас у всех есть те или иные недостатки, миссис Харримор…
– Конечно, мы все не совершенны. – Ада отошла от вазы и приблизилась к витрине, в которой были выставлены блюда более раннего периода, составленные из фрагментов, и опять посмотрела на них невидящим взглядом, как будто они слились в одно туманное пятно. – Но это так обыкновенно и очевидно. Проспер хром. Не верю, чтобы вы не заметили этого до сих пор.
– Ах да, я понимаю, что вы имеете в виду.
– А что, по-вашему, я хотела этим сказать?.. Ладно, не думайте об этом. Не придавайте значения. Это все несерьезно, ничего рокового. Но другие дети, раз источник был отравлен… – Внезапно она осознала, где находится, и резко выпрямилась, словно солдат в карауле. – Не надо было мне говорить то, в чем нет ничего возвышающего душу и поучительного, в чем бы вы нуждались, – и снова в ее голосе прозвучала горечь. – Надо пойти и посмотреть выставку китайского фарфора. Очень умный народ; конечно, не такой умный, как европейцы, не говоря уж об англичанах, но по-своему цивилизованный, и цивилизация у них очень древняя. Разумеется, только Богу известно, что их ждет впереди! Когда я была еще девочкой, мы с ними из-за чего-то воевали. И, естественно, победили.
– Это как будто были опиумные войны? – попыталась вспомнить Шарлотта школьные уроки истории. – В пятидесятые годы?
– Да, очень возможно, что их стали так называть, – пожала плечами Ада. – Это началось сразу после Крымской войны и ужасного мятежа в Индии. Мы тогда все время с кем-то воевали. Но ведь наша дорогая королева была к тому времени на троне только лет тридцать. Теперь все иначе. Все в мире теперь знают, кто мы такие, и очень хорошо подумают, прежде чем затевать против нас войну.
Такая грандиозная самоуверенность не потерпела бы никакого ответа. Шарлотта обрадовалась, увидев вдалеке Клио и Кэтлин О’Нил, и улыбнулась им, чтобы привлечь их внимание.
Примерно через тридцать минут они покинули залы и удалились в буфет, чтобы выпить чаю и поболтать о разных интересных предметах вроде моды, здоровья, погоды, принцессы Уэльской, прочитанных книгах и прочих невинных и идеально подходящих для приятного чаепития вещах.
– Как поживает ваша дорогая матушка? – любезно спросила Кэтлин, глядя на Шарлотту поверх огуречных сэндвичей. – Надеюсь, она составит нам как-нибудь компанию в оперу или театр?
– О, я уверена, что с большим удовольствием, – заверила Шарлотта с большей искренностью, чем можно было бы ожидать, – вы очень добры, что поинтересовались ею. В последнее время она опять стала проявлять интерес к театру. Несколько лет назад, когда умер папа, она редко выходила в свет. И только сейчас снова почувствовала интерес к подобным вещам.
– Очень естественно, – согласилась Ада, величественно кивнув. – Все должны оплакивать умерших в течение какого-то времени, но после надо продолжать обычный образ жизни.
– Она как будто очень подружилась с Джошуа, – быстро вставила, улыбаясь, Клио. – Как это романтично!
– Романтично? – надменно вопросила Ада и круто повернулась на вертящемся стуле к Шарлотте, удивленно вскинув брови.
– Ну… – Та заколебалась, но внезапно приняла решение, о котором потом могла отчаянно пожалеть. – Да-да, это так. Но я… я не вполне уверена в своем отношении к этому. Точнее сказать, у меня есть определенная настороженность…
Клио продолжала угощаться и как раз протянула руку, чтобы взять крошечное пирожное с кремом.
Кэтлин взглянула на Аду, потом на Шарлотту и переменила разговор.
Когда они встали из-за стола, миссис Харримор схватила Шарлотту за руку и отвела в сторону, причем лицо ее приобрело твердое, напряженное выражение; какое-то мучительное чувство промелькнуло во взгляде.
– Дорогая моя мисс Питт. Не знаю, как это сказать, чтобы вам не показалось, будто я бесцеремонно вторгаюсь в ваши личные дела, но я не могу остаться равнодушной к тому, что происходит, и молчать. Ваша матушка попала в очень уязвимое положение. Она лишилась любимого мужа, она одинока в этом мире, и с ее стороны совершенно естественно опять хотеть вращаться в обществе. Но, честное слово, – подружиться с актером!
Шарлотта с готовностью согласилась с ней в душе и в то же время инстинктивно бросилась на защиту Кэролайн.
– Но он очень приятный человек, – выпалила она, – и просто знаменитость в своей профессии, один из ее столпов.
– Но это все так несущественно, – яростно возразила Ада и еще сильнее вцепилась в руку Шарлотты. – Он еврей! И вы, разумеется, не можете позволить своей матери иметь… ну, как бы выбрать слово поделикатнее для того, что я хочу сказать… Ради всего святого, моя дорогая, вы не должны позволять ей иметь с ним отношения!
Шарлотта почувствовала, что жарко вспыхнула. Сама мысль об этом была ей отвратительна – не потому, что речь шла о Джошуа Филдинге, но по той причине, что она просто не могла представить себе мать поддерживающей определенные отношения. Это было бы так… огорчительно, так противно.
– Понимаю, что вы не думали об этом, – продолжала Ада, превратно воспринимая реакцию Шарлотты и думая только о том, что Филдинг – еврей. – Вы слишком невинны. Но, моя дорогая, это не исключено – такие отношения, – а значит, и гибель вашей матушки. Разумеется, не в той степени, как если бы она была еще в детородном возрасте, так что это не осквернит ее, но все равно.
– Осквернит? – Шарлотта смутилась.
– Ну естественно! – Лицо Ады исказили боль и жалость, воспоминание о чем-то, о чем она не могла говорить без содрогания. – Иметь близкий, – она опять поколебалась в поисках слов, – союз с евреем – значит в чем-то измениться. Это нельзя объяснить незамужней девушке, которая хоть сколько-то наделена способностью чувствовать. Но вы должны мне поверить!
Шарлотта буквально онемела от изумления. Ада же истолковала ее молчание как сомнение.
– Я говорю правду, – продолжала она настойчиво, – клянусь. Да простит меня Бог, но я это знаю! – В голосе ее послышались стыд и горечь. – Мой муж, как многие мужчины, удовлетворял свои аппетиты на стороне, но, в отличие от других, с еврейкой. В то время я была беременна. Вот почему мой бедный Проспер родился с физическим недостатком. – Она запнулась на этих словах, словно даже произносить их было больно. – И вот почему у меня больше не было детей.
И внезапно Шарлотта представила все бесплодные годы, стыд, чувство предательства, ощущение нечистоты, которые эта женщина влачила за собой все годы своего существования и влачит до сих пор. Она почувствовала, что ей безмерно жаль Аду и страстно хочется утешить ее, пролить бальзам на ее рану. И в то же время Шарлотте было в высшей степени противно и гадко это слышать. Это противоречило всем ее принципам и убеждениям – думать, что есть люди, так отличающиеся от прочих, что союз с ними может быть нечист не по нравственным соображениям или из-за болезни, но просто потому, что они другой расы.
Шарлотта не знала, что ответить Аде, но страстное выражение неприятия на ее лице требовало ответа.
– О… – Она почувствовала, что такой ответ совершенно неадекватен ненавистническим настроениям старой дамы, но это было единственное, на что она сейчас была способна. И, по крайней мере, это восклицание передало ее изумление.
– Тогда, если вам хоть сколько-нибудь небезразлично поведение вашей матери, вы должны ей об этом сказать, – настоятельно прибавила Ада. – Это начало падения. И кто знает, что будет потом? А теперь нам надо присоединиться к другим, иначе они решат, что случилось что-то неладное… Идем!
На третий день после посещения музея Кэролайн пригласила Шарлотту в театр, навестить Джошуа Филдинга и Тамар Маколи в промежутке между репетицией и вечерним спектаклем. Шарлотта чувствовала себя очень неловко. Еще никогда ей не приходилось так мало радоваться обществу матери. Дочери очень хотелось сказать Кэролайн, что Питт установил невиновность Аарона Годмена, но она пообещала ему не говорить об этом и прекрасно понимала, что для этого есть самые веские причины. Однако Шарлотта все равно чувствовала себя обманщицей и предательницей и сомневалась, что Кэролайн простила бы ее за молчание, знай она всю правду.
Шарлотта также ужасно боялась, что Джошуа Филдинг вполне мог быть тем человеком, который убил и распял Кингсли Блейна, а потом отравил судью Стаффорда, потому что тот собирался снова открыть дело, а вот теперь и сержанта Патерсона, так как тот тоже узнал истину.
А если он не виноват и это был Девлин О’Нил или еще кто-нибудь, тогда что делать, если Кэролайн действительно вступила с Филдингом в любовную связь? Сможет ли Шарлотта контролировать в достаточной степени свое отношение к матери? А она уж наверняка не будет испытывать никакой радости по поводу этой близости, и все аргументы, увещевания и доводы Питта, которые так разумны, все равно не в силах изменить ее отношение к роману матери и Филдинга.
Итак, Шарлотта сопровождала Кэролайн, которая выглядела не так модно, как всего несколько месяцев назад, но определенно моложе. Теперь она не следила за новинками и скорее одевалась в романтическом стиле прерафаэлитов. Платье на ней было с цветочно-лиственным узором, волосы причесаны более свободно, и шляпу она не надела.
Их приветствовали у входной двери и разрешили войти, как старым знакомым, что тоже обеспокоило Шарлотту. Репетиция как раз заканчивалась. Это была комедия, хотя в ней присутствовали и очень драматичные моменты. Даже будучи просто любительницей-дилетанткой, весьма редко бывавшей в театре, Шарлотта могла заметить, как искусно ведется диалог, как точны интонации и жесты. На нее произвело огромное впечатление то, насколько неизмеримо выше, во всем блеске профессионализма, Тамар Маколи стоит над другими актерами. Взгляд Шарлотты чаще обращался в сторону Джошуа Филдинга, чем к другим актерам мужчинам. И дело не в том, что он привлекал ее как личность и что Кэролайн тоже не могла оторвать от него глаз. Дело было в его магнетизме, который притягивал всех без исключения.
Когда были сказаны заключительные слова, как раз перед тем, как мистер Пассмор разрешил актерам покинуть сцену, Тамар направилась к Шарлотте. Лицо у нее было сосредоточенное, взгляд – испытующий. Шарлотта очень удивилась; она и не подозревала, что Тамар известно о ее присутствии. На сцене она казалась всецело поглощенной игрой. Сейчас актриса обратилась к ней попросту, отринув все формальности:
– Шарлотта! Как приятно встретиться с вами. Я уж опасалась, что вы нас бросили, хотя вряд ли стала бы вас за это осуждать.
Она взяла Шарлотту за руку и потянула ее за собой из кулис, где они с Кэролайн ожидали конца репетиции, и пошла по коридору с незастланным деревянным полом.
– Мы пять лет боролись – и ничего не достигли. С моей стороны несправедливо возлагать на вас такие надежды, когда прошло всего несколько недель. Я очень прошу меня извинить, но самое плохое во всем этом то, что я и дальше стану надеяться. Ничего не могу с собой поделать. – Она глубоко вздохнула, глядя прямо Шарлотте в лицо, черные глаза ее сверкали. – Я все еще не верю, что это Аарон. Не верю, что он был способен убить Кингсли, и абсолютно убеждена, что он не сделал бы с ним того, самого страшного, после убийства. – Горькая улыбка скользнула по ее губам, голос слегка дрогнул. – И уж конечно, не он отравил судью Стаффорда.
– И не он повесил полицейского Патерсона, – импульсивно прибавила Шарлотта.
Тамар недоуменно моргнула.
– Повесил полицейского Патерсона? – переспросила она, ничего не понимая. – Почему его повесили? Это он убил судью Стаффорда? И почему его так быстро повесили? Я ничего не читала о процессе!
– Но это была не казнь. Его убили. Мы еще не знаем, кто и почему совершил это, но, по всей вероятности, эта смерть имеет отношение к делу на Фэрриерс-лейн, хотя, конечно, полной уверенности в этом нет.
Тамар прошла мимо нее и открыла дверь в маленькую, забитую мебелью артистическую уборную. Один ее угол был плотно завешан театральными костюмами, в другом беспорядочной грудой были навалены нижние юбки. Здесь находились туалетный столик с зеркалом, банки с гримом и пудрами и три стойки с париками. Тамар считалась ведущей актрисой, и это была ее личная уборная.
– Расскажите, – потребовала она, проходя вперед и рывком пододвигая стул для Шарлотты, а затем наклонилась, чтобы закрыть дверь.
– Полицейский Патерсон был… – начала Шарлотта.
– Я знаю, кто он был, – перебила ее Тамар. – Что с ним случилось?
– Его убили. Кто-то вошел к нему в комнаты поздно вечером и повесил его на крючке от люстры в его собственной спальне.
– Вы хотите сказать, что на него напали? – спросила недоверчиво Тамар. – Но разве он не сопротивлялся, не пытался защититься?
– По-видимому, нет, – покачала головой Шарлотта. – Возможно, это был кто-то из знакомых ему людей и сержант не ожидал никакого зла с его стороны; а этот человек каким-то образом атаковал его со спины и задушил, а потом повесил.
– Наверное, все так и было, – согласилась Тамар, отходя от двери. В комнате стоял какой-то непривычный для Шарлотты запах, одновременно затхлый и волнующий. – Только так это и можно объяснить. Но кто его убил и почему? Во время суда я просто ненавидела его. – Лицо ее сморщилось от боли. – Он тоже ненавидел Аарона, и очень сильно. Он не мог ни к чему относиться беспристрастно – так и кипел от ярости; у него даже голос дрожал, когда он давал показания. Я очень хорошо его помню. И уверена, что это он избил Аарона, хотя тот ничего об этом не говорил – по крайней мере, мне. Думаю, что брат не хотел меня расстраивать…
Тамар замолчала, пытаясь сдержаться и не заплакать. Она отвернулась и стала искать носовой платок, все время натыкаясь на стойку с париками. Внезапно на нее вновь нахлынули ужасные, мрачные мысли, как будто Аарон Годмен все еще был жив, все еще страдал…
Шарлотта едва сдерживала волнение, и только мысль, что в нескольких шагах от нее находится Кэролайн, причем в обществе Джошуа Филдинга, помогла ей справиться с отчаянным желанием рассказать Тамар сейчас же, сию минуту о том, что Аарон был невиновен и что ее муж может это доказать. Но никакие слова не могут излечить раны прошлого, будут звучать нелепо и только докажут всю невозможность понять другого человека. Единственный выход – говорить о чем-нибудь постороннем.
– Не теряйте надежду, – тихо сказала Шарлотта, глядя в напряженную, вздрагивающую от подавленных слез спину Тамар. – Мы вот-вот окончим расследование. Я не могу вам ничего рассказать, но говорю сейчас не просто для того, чтобы вас успокоить. Конец действительно близок, даю вам честное слово!
Тамар стояла совершенно неподвижно, затем очень медленно обернулась, чтобы взглянуть на Шарлотту. Несколько минут она молчала, но внимательно вглядывалась в ее лицо, пытаясь определить, насколько та искренна и действительно ли что-нибудь знает.
– Наверное, бессмысленно спрашивать вас, что именно вам стало известно? – спросила она едва слышно. – И что дает вам возможность так говорить?
– Да, – ответила Шарлотта. – Если бы я могла, то сразу все рассказала бы, но, пожалуйста, верьте, что я говорю правду.
Тамар глубоко вздохнула и с трудом проглотила комок в горле.
– Аарон будет очищен от обвинения в убийстве?
– Пожалуйста, не просите меня сейчас сказать больше, чем это возможно; и если вы хотите, чтобы я рассказала вам это потом, никому ничего не говорите, даже мистеру Филдингу. Он может что-то случайно сказать или предпринять и все испортить. Я думаю, что Аарон не совершал убийства, но еще понятия не имею, кто бы мог это сделать.
Тамар печально, иронически улыбнулась, сев немного боком на груду юбок.
– То есть вы хотите сказать, что возможный убийца – Джошуа Филдинг?
– А что, это невозможно? – спросила очень тихо Шарлотта.
Тамар села поудобнее.
– Я бы очень хотела сказать, что нет, но вам нужны не эмоции, а разумные доводы. Нет, я не могу полностью отрицать такую возможность. Он говорил, что сомневался, действительно ли Кингсли хотел на мне жениться, но не желал вмешиваться в мои личные дела и что в тот вечер из театра пошел прямо домой. Однако он не может представить доказательства этого. – Она вздернула подбородок. – Не верю, что это он, но вряд ли мои слова звучат для вас очень убедительно.
– Я не могу себе этого позволить, – ответила Шарлотта, понимая, что говорит не совсем правдиво.
Отчасти она желала, чтобы это оказался Джошуа. Это сразу бы отвело эмоциональную угрозу от Кэролайн. С этим фактом кончилась бы и неопределенность, странное ощущение утраты и гнева, нежности и ревности. Ревности! Наконец-то Шарлотта поняла смысл своих чувств, и хотя ей было очень больно даже мысленно произнести это слово, все же оно странным образом исцеляло душевную рану.
– Разумеется, нет. – Тамар выпрямилась, улыбнулась и встала; помост, на который были навалены юбки, заскрипел. – Не выпить ли нам чаю? Уверена, что вы продрогли и с радостью устроитесь поудобнее, и мы поговорим о чем-нибудь более веселом. – Она помедлила у двери.
– Да? – Шарлотта ожидала продолжения.
– Если я смогу вам чем-нибудь помочь, вы мне скажете? – В голосе Тамар прозвучало волнение.
– Конечно.
Кэролайн все еще стояла на краю сцены, когда Джошуа, улыбаясь, обернулся. Он знал, что она здесь, хотя его внимание до этого было обращено только к сцене. Кэролайн почувствовала, как ее объяла теплая волна, словно солнце выглянуло из-за туч. Она хотела подойти к нему, но сдержалась.
Он подождал несколько минут, разговаривая с Клио, потом кто-то из более зрелых актрис приветствовал Кэролайн прикосновением к руке. Мистер Пассмор обратился ко всей труппе, за исключением Тамар, которая к тому времени исчезла. Он дал актерам последние наставления к предстоящему спектаклю, подбодрил всех, покритиковал кое-кого, а кого-то похвалил, предрек замечательный успех, но сопроводил свое предсказание суеверной поговоркой, предохраняющей от чрезмерной самоуверенности. Каждый дотронулся до своих талисманов и амулетов, чтобы в который раз увериться в предстоящем успехе и что он еще долго будет играть на этой сцене. Кончив наставления, мистер Пассмор отвернулся; и вскоре его массивная фигура во фраке и пышном галстуке исчезла из виду, и Джошуа подошел к Кэролайн.
Вместо того чтобы произнести обычное приветствие, требуемое формальной вежливостью, он посмотрел ей в глаза, и они поняли друг друга без слов. Такая краткость отношений взволновала Кэролайн гораздо сильнее, чем можно было ожидать, и она не знала, что сказать, так как никакие слова не могли выразить ее чувств.
– Это Шарлотту я видел вместе с вами? – тихо спросил Джошуа.
– Да, она тоже захотела прийти.
Джошуа взял Кэролайн за руку и повел сквозь кулисы в партер, так чтобы никто не мог слышать их разговора и лица их были бы скрыты полумраком.
– Она все еще расследует обстоятельства смерти Кингсли? – спросил он очень тихо и обеспокоенно.
– Разумеется, – ответила Кэролайн, посмотрев прямо ему в глаза. – Мы вряд ли сдадимся.
– Но, мне кажется, ей больше не надо этим заниматься, – сказал он раздумчиво, словно преодолевая противоречивые соображения. – Из-за смерти судьи Стаффорда к этому вновь оказалась причастна полиция. И теперь все обстоит таким образом, что о деле на Фэрриерс-лейн нельзя не вспомнить или считать его завершенным. Бедного Аарона теперь нельзя обвинять в убийстве. Пожалуйста, Кэролайн, убедите ее оставить это дело профессионалам.
– Но полиция до сих пор действовала не очень-то успешно, – резонно заметила она и почувствовала легкое угрызение совести, подумав о Питте. Однако ее страх за Джошуа перевешивал ощущение вины перед зятем. – Полиция еще не достигла весомых результатов. По-видимому, они не подозревают миссис Стаффорд или мистера Прайса. Напротив, они убеждены, что те невиновны в убийстве Стаффорда.
– Но вы уверены?
– Разумеется. Томас не стал бы мне лгать.
Джошуа улыбнулся. Улыбка у него была одновременно нежной и насмешливой.
– Вы действительно уверены, моя дорогая? Не думаете ли вы, что он что-нибудь утаивает, зная о вашем дружеском отношении к Тамар? – Актер слегка покраснел. – И ко мне, что может служить причиной вашей необъективности?
Кэролайн почувствовала, как у нее вспыхнули щеки.
– Томас, конечно, может от меня что-то утаивать, но он не станет фабриковать ничего заведомо ложного. Я хорошо узнала его за последние годы. Разумеется, я выбрала бы для своей дочери другого мужа, это верно, но я также узнала, что человек другого социального положения может сделать женщину гораздо счастливее, чем все поклонники, которых выбрала бы для нее семья из числа своих друзей…
Она осеклась, понимая, что говорит чересчур откровенно. Ее слова могут быть отнесены и к ней самой, не только к Шарлотте.
Филдинг хотел было ответить, потом передумал, откашлялся и снова начал, но Кэролайн уловила проблеск иронии в его взгляде.
– Все равно, – ответил он вполне серьезно, – мне кажется, что для Шарлотты было бы лучше оставить расследование. Это может быть опасно. Если убийца не Аарон, значит, это совершил человек, который не остановится перед еще одним убийством, если почувствует себя в опасности. Я не знаю, насколько близко подойдет Шарлотта к установлению его вины, но она может приблизиться к смертельно опасной черте, даже не подозревая об этом. Они с Клио подружились с Кэтлин О’Нил только для того, как я понимаю, чтобы следить за Девлином. И если он это также поймет или же станет опасаться… – Джошуа замолчал.
Кэролайн раздирали противоречия. Неужели Шарлотте действительно угрожает опасность? Больше, чем в любом другом деле, к какому она имела отношение до сих пор?
– Кто может заподозрить женщину, рядовую жену и мать семейства, в чем-то большем, чем простое любопытство? – подумала Кэролайн вслух. – Что в силу его она невинно вмешивается в личные дела других, несмотря на свое социальное происхождение и воспитание? – «Как все это нехорошо звучит в устах матери», – подумала она. – Но это не опасно, а лишь недостойно и, может быть, глупо.
– Но судья Стаффорд мертв, и, как мне стало известно, сержант Патерсон тоже.
– Но они же были служителями закона, – жарко возразила Кэролайн. – А вы сказали, что они с мисс Фарбер следят за Девлином О’Нилом! В то время как сама полиция более склонна подозревать вас. А за себя вы не боитесь?
– Кэролайн, – Джошуа взял ее ладони в свои, нежно, но достаточно твердо, чтобы она не могла их отнять. – Кэролайн! Ну конечно, боюсь. Но каким же я был бы другом, если бы думал больше о том, что меня подозревают, а не об опасности, угрожающей Шарлотте, исходящей от того, кто действительно убил Кингсли? Пожалуйста, скажите ей об этом и посоветуйте теперь же отказаться от расследования. Очень опасаюсь, что это Девлин О’Нил. Больше никто мне на ум не приходит, разве что какой-нибудь сумасшедший убийца. Но если бы это было действительно так, то подобные убийства продолжились бы, а этого нет.
– А что вы скажете относительно опасности, грозящей вам самому? – настойчиво переспросила Кэролайн, в душе цепляясь за надежду, что Шарлотта разрешит и это дело, как ей удавалось прежде. – Ведь полиция однажды ошиблась, и уже никто не мог спасти Аарона.
– Моя дорогая, я знаю, но это ничего не меняет. – Голос у Джошуа был очень мягкий и нежный, а руки – теплые; он по-прежнему держал ее ладони в своих и смотрел на нее пристальным, немигающим взглядом. – Да, я знаю, что полиция меня подозревает, но у меня, по крайней мере, будет суд и возможность апеллировать. Тот же, кто убивает, Шарлотте этого шанса не предоставит.
– Да, – ответила тихо Кэролайн, – полагаю, что нет. Я скажу ей.
Филдинг улыбнулся, отпустил ее ладони и сразу же взял под руку.
– А теперь, может быть, мы отправимся куда-нибудь в приятное место и выпьем чаю? Мы бы смогли забыть весь мир с его опасностями и подозрениями, сегодняшний спектакль – и просто наслаждаться мирной беседой… Есть многое, о чем мы могли бы поговорить. – Он нежно увлек ее за собой. – Я только что прочел одну замечательную книгу о путях воображения. Совершенно невозможно сделать из нее пьесу, но она чрезвычайно обогатила меня. Вызывает разного рода мысли – и вопросы. Мне бы хотелось рассказать вам о ней, если можно, и узнать ваше мнение.
Кэролайн всецело отдалась радости момента. А почему бы и нет? Она так желала этой сладкой нежной близости, так хотела, чтобы та длилась вечно… Однако она была в достаточной степени реалисткой и понимала правоту свекрови: все это мечта, иллюзия, и пробуждение будет отрезвляющим и холодным. Однако это будет потом, а сейчас она, пока была возможность, отдавалась этой мечте всем сердцем.
– Ну разумеется, – улыбнулась в ответ Кэролайн, – пожалуйста, расскажите.
– Вы, мэм, уж давно ничего не говорите об этом убийстве, – пожаловалась Грейси на следующий день, когда они с Шарлоттой занимались хозяйственными делами на кухне. Грейси начищала ножи «Блестящим порошком фирмы Окли Веллингтона» – смесью корундового порошка и черного свинца, – а Шарлотта взяла на себя ложки и вилки, оттирая их домашним средством из воды, порошка и нашатырного спирта.
– Потому что пока мне не удалось узнать ничего нового, – объяснила Шарлотта с задумчивым лицом. – Мы знаем наверняка, что это не Аарон Годмен, но понятия не имеем, кто действительный убийца.
– Неужели мы таки ничегошеньки не знаем? – спросила Грейси, искоса, недоброжелательно рассматривая начищенный нож.
– Ну, кое-что нам, конечно, известно. – Шарлотта тоже усердно занималась своим делом. – Это человек, который знал, что Кингсли был в театре, и нарочно послал его на Фэрриерс-лейн. И потом, чтобы сделать такое с убитым, надо было очень его ненавидеть. – Шарлотта взяла чистую тряпочку, чтобы ложки блестели еще больше. – Но для убийцы было опасно оставаться на месте такого ужасающего преступления, хотя ярость и ненависть могли преобладать над чувством самосохранения.
– Вы уже говорили это, – с чувством ответила Грейси. – Но если бы я кого убила, то не стала бы слоняться вокруг да около и прибивать его к двери, что, надо думать, было нелегко! – Она опять взяла немного порошка из коробки на блюдце. – Я бы схватила ноги в руки и сбежала бы оттуда сразу, пока меня не застукали.
– Значит, это был человек, которого ненависть привела в такое исступление, что он согласен был рискнуть и, возможно, даже не думал об опасности быть схваченным, – заключила Шарлотта.
– Или же… – Грейси ожесточенно терла порошком лезвие, хотя то уже сияло, как солнце. – Или же какой-то тип хотел не то чтобы убить, а еще другого кого обвиноватить. И добился своего, раз повесили этого бедолагу Годмена.
– Но каким же образом то, что он распял Кингсли, бросило тень на Аарона Годмена? – спросила Шарлотта, передавая Грейси специальный, обтянутый бычьей кожей оселок.
– Ну, это чтобы все думали, будто распял его еврей, – резонно заметила Грейси.
– Но ведь никто из христиан никогда бы этого не сделал, правда?
– А может, и сделал! Может, он как раз этого и желал, ежели ненавидел евреев и хотел, чтобы их все ругали.
– Но почему все их так не любят? – Шарлотта сразу же вспомнила о Харриморах, предрассудках Ады и о том, что Девлину О’Нилу было известно о влюбленности Кингсли в еврейку Тамар Маколи. – Может, убийца ненавидел не только Блейна, но и вообще актеров из театра Пассмора и, когда убивал, хотел таким образом причинить кому-нибудь из них вред?
– Но вы сами-то этак не думаете, мэм? – спросила Грейси, пристально глядя на хозяйку. – Вы сами-то все еще думаете, что это мистер Филдинг, который нравится миссис Эллисон?
– Не знаю, Грейси, что и думать. Нет, это может быть и мистер О’Нил. И я даже отчасти этого хочу. Маме будет ужасно неприятно, если окажется, что это мистер Филдинг. Но если это не так… – Она вздохнула и решила промолчать.
– Зря вы так волнуетесь, мэм, – ответила Грейси, но ее худенькое личико выразило сильнейшую обеспокоенность, и ножи моментально были забыты. – Миссис Эллисон делает то, что хочет, и ни вы, ни хозяин ничем тут не поможете. Но я-то понимаю, каково вам, коли вы хотите узнать, кто убийца в этом деле. И я тоже об этом бесперечь думаю. – Она замолчала, уже не притворяясь, что работает, даже положила суконку и сосредоточенно уставилась на Шарлотту. – Тот парнишка, который сказал мистеру Блейну, что его ждут… Если бы хозяин смог с ним как следует поговорить, может, он и узнал бы чего о том мужчине, каков тот с виду. – Личико ее осветила надежда. – Те бродяги, которые стояли у костра, говорили, что это вроде мистер Годмен. Но ведь мальчишка-то, что он мог против взрослых, он ведь не мог с ними спорить и возражать, правда? И раз вы знаете, что это был не мистер Годмен, может, мальчишка теперь вспомнит что-нибудь полезное?
– Мистер Питт уже нашел его, – отвечала Шарлотта с холодной улыбкой, – и тот, боюсь, не сказал ничего такого полезного. Но сама мысль была хорошая.
– О! – И Грейси рьяно принялась опять чистить ножи, хотя лицо ее по-прежнему выражало глубокую задумчивость. За все оставшееся утро она не сказала почти ни слова, разве что иногда посматривала на Шарлотту, когда они начали чистить овощи к обеду.
– Вы завтра идете в театр с этими, как их, Хериморами?
– Да.
– Ну так вы будьте с ними поосторожнее, мэм! Если это все сделал мистер О’Нил, тогда он, значит, очень злой человек и ему наплевать на всех, кроме себя. И не спрашивайте его ни о чем и ни о ком.
– Да, я буду очень осторожна, – пообещала Шарлотта.
Но сердце у нее ушло в пятки и горло перехватило, словно она приблизилась к решению тайны, которая окажется очень страшной.
Питт не был в числе приглашенных в театр, и Шарлотта чувствовала себя виноватой, потому что спектакль обещал стать очень волнующим событием, а кроме того, она надеялась вытянуть какую-нибудь интересную информацию у Харриморов или О’Нила. Однако присутствие Томаса, конечно же, означало бы конец всяким разговорам – и в этот раз, и навсегда.
Так что в назначенный час они с Кэролайн двинулись вверх по широкой театральной лестнице вслед за Кэтлин, опирающейся на руку О’Нила, и Адой, тяжело повисшей на руке Проспера, который хотя и некрасиво хромал, но, по-видимому, не чувствовал неловкости или неприятных ощущений в больной ноге. Очевидно, причиной хромоты был какой-то врожденный недостаток, а не следствие болезни.
Фойе было заполнено людьми. Канделябры сияли так ослепительно, что было трудно смотреть на них в упор. В сложных изысканных прическах дам, на руках, шеях, запястьях сверкали бриллианты. Колыхались перья на головах. Обнаженные плечи белели в волнах шелка, тафты, вуали и бархата всевозможных оттенков. Здесь были и бледность лилий, и теплые персиковые и розовые тона, и вибрирующая яркость пурпура, и более темные влажные краски вишни и синего неба, а за спинами дам виднелись накрахмаленные манишки и черные как ночь фраки. Повсюду слышался шелест одежд, ропот приглушенных голосов, каждые несколько минут раздавался смех.
Шарлотта один раз обернулась, поднимаясь по лестнице, – и все вспомнила, и пульс у нее зачастил, и ощущение пьянящей, бьющей через край жизни и ожидания, охватившего тысячу людей, взбудоражило предвкушением чего-то необыкновенного, что должно сейчас свершиться.
Потом Кэролайн потянула ее за руку, и Шарлотта послушно последовала за ней по балюстраде к ложе Харриморов, где им с Кэролайн предложили, как гостям, места в середине между Адой слева и Кэтлин справа. До начала спектакля оставалось минут пятнадцать-двадцать. Сбоку от дам и несколько сзади стояли мужчины. Большим удовольствием было наблюдать, как заполнялись другие ложи, – и, конечно, показать себя.
Очень красивая женщина в туалете цвета фуксии и самой бледной розы, с роскошно уложенными локонами, прошла под ними по проходу. Походка ее была изящна, но все же она слегка покачивала бедрами. Женщина взглядывала то направо, то налево и слегка улыбалась.
– Кто это? – тихо спросила Шарлотта.
– Не знаю, – ответила Кэролайн. – Но выглядит она умопомрачительно.
Кэтлин издала слабый смешок, который сразу же подавила.
– Это никто и ничто, – колюче ответила Ада.
Шарлотта очень удивилась.
Миссис Харримор повернулась; на лице ее отражались и удивление, и брезгливость.
– Подобные особы могут проходить прямо перед вами, моя дорогая, но вы не должны их замечать. Для истинной леди они невидимки.
– О! О, понимаю. Она…
– Совершенно точно. – И Ада едва заметно повела рукой в сторону бенуара. – Это миссис Лэнгтри – или Лили из Джерси.
Шарлотта не стала скрывать улыбки.
– А кто-нибудь видел мистера Лэнгтри? Я никогда не слышала даже имени.
– А я слышала, – сухо ответила Ада, – но не стану повторять, что говорили о нем, о бедняге.
Она действительно не желала говорить на эту тему, и Шарлотта не стала уточнять. Вместо этого она оглядела другие ложи, вызывавшие ее интерес, и вскоре заметила, что по крайней мере половина публики смотрит в одном направлении, на ложу, куда многие входили и откуда выходили и мужчины, и женщины. Мужчины были одеты по последнему слову моды, хотя что это за мода, определить было трудно. Волосы у них были длиннее, чем принято, все были чисто выбриты, а воротники у них повязаны большими галстуками с воланами. Однако все выглядели элегантно, хотя и томно, и эта томность была очень заметна.
– Кто эти люди? – спросила Шарлотта с острым любопытством. – Это критики?
– Сомневаюсь, – ответил Девлин, улыбнувшись. – Иногда так бывают одеты актеры, и очень хорошо одеты, но они, пожалуй, больше считаются с условностями; а это представители эстетского кружка, внутренне, если не всегда внешне, очень уверенные в своей художественной непогрешимости. Боюсь, это их мистер Гилберт так ярко изобразил в своей опере «Терпение». Вам надо бы послушать. Опера очень веселая, и музыка восхитительная.
– Обязательно послушаю.
Шарлотта улыбнулась ему, но тут же вспомнила, для чего пришла в театр. И, все еще приветливо глядя на Девлина, она внутренне оцепенела, на какое-то мгновение вдруг осознав фарсовость ситуации. Они были одеты в свои лучшие одежды: он – в черный фрак с золотой цепочкой от часов, в манжетах видны запонки из оникса и жемчуга; она – в платье, взятое взаймы у Кэролайн, но с другой, более модной отделкой, с глубоким вырезом и небольшой драпировкой. Цвет бордо шел ей просто чудесно, и Шарлотта об этом знала. Они присутствовали в театре как гости Проспера Харримора и ждали, когда поднимется занавес и для них, кого вместе собрала ужасная трагедия, станут играть комедию нравов, произнося слова, в которые они не верили. И все это время она должна будет решать – и решить: это Девлин убил и распял Кингсли Блейна и позволил, чтобы Аарона Годмена повесили за убийство?
А сам О’Нил с любопытством рассматривал ее.
Шарлотта заставила себя перевести взгляд на огромное скопление народа. Все ярусы, обитые бархатом, были заполнены теперь публикой, нетерпеливо ожидающей начала спектакля; бледные лица людей с напряжением смотрели на сцену. Собственные житейские драмы зрителей были уже отыграны или временно забыты. Лили Лэнгтри сидела у барьера ложи, чтобы не только самой все видеть, но чтобы и ее все видели. Даже эстеты созерцали занавес, по-видимому забыв друг о друге и о том, что они очень остроумны.
Какой это удивительный договор, выражающийся в том, что несколько часов люди как зачарованные будут вглядываться в четко организованную и условную реальность, все вместе и в то же время наедине с собой, под властью воображаемой реальности, разыгрываемой несколькими людьми в заемных костюмах и говорящих заемные слова!
Шелест голосов затих, и воцарилось молчание, вибрирующее от затаенного дыхания сотен людей, слабого шороха тканей и скрипа корсетных косточек.
Занавес пошел вверх. По залу пронесся общий вздох, словно ветер пошевелил листву. Огни высветили одинокую фигуру Тамар Маколи, стоявшую в центре сцены. Она была неподвижна, но обладала таким магнетизмом, что все глаза моментально были прикованы к ней. Даже Лили Лэнгтри пренебрегла своими поклонниками и глядела сейчас лишь на сцену. Тамар не обладала ни ее красотой, ни славой, но в ней ощущалась такая глубина чувства, что ей не нужно было ни того, ни другого, и на короткий отрезок сценического времени публика была в ее власти.
На сцену вышел Джошуа Филдинг. Шарлотта почувствовала, как сидящая рядом с ней Кэролайн вся напряглась и затаив дыхание подалась вперед. Кэтлин О’Нил сидела в изящной позе, с легкой улыбкой на устах глядя на актеров. Шарлотта перехватила ее взгляд, брошенный на Джошуа, но не увидела в нем ни подозрений, ни любопытства. Если Кэтлин когда-нибудь и задумывалась, не сыграл ли Джошуа какую-нибудь роль в той трагедии, в данный момент она была явно далека от подобных соображений.
Потом на сцене снова появилась Тамар. Пока она произносила свой текст голосом, звенящим от сдерживаемого чувства, огни рампы ярко высветили ее лицо.
Морщина залегла на лбу Кэтлин. Она облизнула губы и поджала их. Ей было бы чуждо все человеческое, не задумайся она сейчас о том, чтобыло в этой женщине, какой огонь ее сжигал, что первый муж Кэтлин столь многим рисковал, только бы добиться ее расположения. Но, глядя на Кэтлин во все глаза, Шарлотта не заметила ни ненависти, ни отвращения – только печальное любопытство. И еще она заметила, как сжалась на спинке кресла дочери рука Проспера, так что побелели костяшки пальцев. Возможно, он переживал ее горе сильнее, чем она сама.
Кэтлин обернулась, и, не видя взгляда Шарлотты, улыбнулась Девлину, который стоял за креслом Ады. Он тоже ей улыбнулся, тепло и нежно, и уголки ее губ слегка поднялись, когда она вновь повернулась к сцене.
Как долго Девлин О’Нил был влюблен в нее? Задолго ли до смерти Блейна? Безобразная, отвратительная мысль, и Шарлотте стало от нее очень не по себе, хотя она понимала ее естественность. Ей нравились и Кэтлин, и Девлин. Достаточно в семье и одной трагедии.
Она взглянула на руку О’Нила, державшуюся за спинку кресла Ады, красивую руку с тщательно ухоженными ногтями; на его сюртук превосходного фрачного сукна, на шелковую рубашку, на дорогие запонки в манжетах. А как все это выглядело до женитьбы на Кэтлин?
Шарлотта снова повернулась, и теперь ее взгляд упал на Аду. Лицо пожилой леди было изрезано жесткими линиями какого-то затаенного, очень волнующего ее чувства. Оно было уже привычно для Ады – ничего яростного и острого, только застарелая боль. Она глубоко врезалась ей в душу, Ада ее терпит мучительно и уже давно. Что же это? Разочарование? Нет, для разочарования оно слишком остро. И это не страх, чувство гораздо более тяжелое, чем обычная привычная горесть.
Шарлотта взглянула на Проспера, сидевшего за Кэролайн, рука его все еще лежала на спинке кресла Кэтлин. Его одутловатое лицо с глубоко посаженными глазами и острым как лезвие носом было неотрывно повернуто к сцене, он словно забыл о семье и приглашенных. Что же так захватило его внимание? Драма, разыгрываемая на сцене, или сама Тамар Маколи, которая похитила у его дочери первого мужа?
Никто не обращал внимания на Шарлотту или О’Нилов, Аду и Проспера Харриморов. Только Джошуа на сцене вдруг повернулся в сторону их ложи, и тут же взгляд его скользнул мимо.
Шарлотта снова поглядела на Аду и поняла, какое чувство отражалось у нее на лице и мучило ее душу: чувство вины.
Но почему?
Не потому ли, что ее Проспер родился хромым и она ощущала себя ответственной за это? Нелепая, абсурдная мысль, что ее муж осквернил ее своей связью с еврейкой и от этого сын родился с физическим недостатком…
Ада оглянулась и поймала пристальный взгляд Шарлотты. Глаза ее расширились.
Молодая женщина прерывисто вздохнула и почувствовала, что густо краснеет.
– Благодарю, что вы пригласили нас, – выдавила она из себя, чувствуя себя при этом ужасной лицемеркой. – Великолепная драма. Как эта женщина страдает из-за своего ребенка! Очень трогательно… – Она осеклась, слова застряли у нее в горле.
– Очень приятно, что вам нравится, – с усилием произнесла Ада. – Да, пьеса очень сильная.
Примерно с четверть часа они сидели молча. Действие на сцене достигло кульминации с появлением самого ребенка. Шарлотта не ожидала этого и была очень удивлена. То было хрупкое, светловолосое дитя с грустным, мечтательным, невинным личиком. Оно настойчиво напоминало другое детское лицо, которое Шарлотта уже видела, но никак не могла припомнить где. Ребенок очень отличался от ее собственных детей; он был светлее и с более мягкими чертами лица.
А затем она услышала негромкое восклицание Кэтлин, увидела, как та поднесла ладонь ко рту, чтобы заглушить возглас, как Проспер Харримор так крепко вцепился в спинку кресла, что из-под ногтей его показалась кровь.
Ребенок на сцене был удивительно похож на дочь Кэтлин, только это был мальчик, или же, по крайней мере, казался им, потому что был одет в костюм мальчика. Разница между обоими детьми была, наверное, всего в несколько месяцев. Ребенок остановился перед Тамар Маколи, своей матерью по сюжету пьесы и, разумеется, в жизни.
Ребенок Кингсли Блейна от еврейки – прекрасное дитя, совершенное внешне, безо всяких физических недостатков. Тамар носила его, наверное, в одно и то же время, что и Кэтлин – свою дочь.
И вдруг со страхом и замиранием сердца Шарлотта поняла, почему Ада чувствует себя виноватой, почему на ее лице отразился страх, который появлялся и прежде, – и что это за чувство, которое заставляет кровь выступать из-под ногтей Проспера.
Нет, не Аарон Годмен убил Кингсли Блейна, и не Джошуа Филдинг, якобы убивший из ревности к нему, и не Девлин О’Нил – чтобы завладеть Кэтлин. Это был Проспер Харримор, который ненавидел и боялся всего чужого и того, в чем видел причину своего собственного физического несовершенства. А потом история повторилась с его дочерью: ей тоже изменил муж, и тоже с еврейкой, в то время как дочь была беременна от неверного мужа – и значит, дитя тоже должно родиться с каким-нибудь недостатком.
Не было никаких доказательств вины Проспера, только собственная убежденность Шарлотты в том, что Проспер – убийца. В этом она не сомневалась нисколько. Виноват был он. Об этом говорило лицо Ады. Об этом же говорил его взгляд, устремленный на ребенка на сцене.
Глава одиннадцатая
– Харримор? – не веря своим ушам, переспросил Драммонд. – Но это же чепуха, Питт! Ради бога, зачем бы ему убивать? – Шеф стоял в своем рабочем кабинете около книжного шкафа. В камине горел яркий огонь, распространяя по комнате тепло. – Он мог узнать, что Блейн обманывает его дочь, но ни один человек в здравом уме не станет убивать за это, причем таким ужасным образом! Он достаточно легко мог все это прекратить, если бы просто поставил перед Блейном вопрос ребром! Ведь, в конце концов, тот зависел от него материально. – Драммонд пронзительно посмотрел на Питта. – И, пожалуйста, не рассказывайте мне, что это он поджидал Блейна на Фэрриерс-лейн во дворе конюшни, что они из-за этого подрались и так далее. Ерунда это. Он со всеми удобствами мог предъявить Блейну ультиматум в своем собственном доме. Ведь и Кингсли жил там же. Ему незачем было таким необычным способом заманивать Блейна на Фэрриерс-лейн, да еще в полночь. Можете придумать что-нибудь получше, чем уверять меня, что Проспер Харримор лишился рассудка. Он заслужил прекрасную репутацию в деловом мире как в высшей степени уважаемый – во всяком случае, насколько это возможно – коммерсант.
Питт едва заметно улыбнулся.
– Вы отмели как раз те аргументы, которые я не собирался приводить.
– Что? – нахмурился Драммонд. Он был раздражительнее и невнимательнее, чем обычно, и не так быстро схватывал мысль собеседника. Томас знал, что он заметно охладел к расследованию.
– Я только сказал, что вы спорили с теми доводами, которых я даже не приводил.
– А! Так почему же вы все-таки верите, что у Харримора были причины для убийства зятя? Каким образом вы пришли к такому заключению? Об этом вы ничего еще не сказали!
Питт закусил губу, чувствуя неловкость.
– Вот это объяснить довольно непросто. Это вывод Шарлотты. – Томас быстро глянул на Драммонда, но не увидел раздраженного нетерпения, которого ожидал. Он набрал воздух в легкие, словно собирался глубоко нырнуть. – Она завязала и поддерживала знакомство с Адой Харримор, матерью Проспера, и не раз подолгу с ней разговаривала. Мы знали, что та питает недобрые чувства по отношению к евреям, но я лично думал, что это из-за уверенности, будто еврей убил мужа внучки, причем варварским, отвратительным способом. – Питт глубже засунул руки в карманы – вольность, которую он не позволил бы себе в присутствии любого другого начальника. – И очень многие испытывали то же самое чувство, даже не зная ничего ни о Кингсли Блейне, ни о Годмене. Но, оказывается, ее антисемитизм возник гораздо раньше, может быть, еще в детстве. Она считает, что евреи нечисты и виноваты в распятии Христа.
– Но они действительно его распяли, – обеспокоенно заметил Драммонд.
– Да, конечно, – устало возразил Питт, – но ведь все участники того события – хорошие, дурные и равнодушные, даже сам Христос – были евреями! А также и Дева Мария, и Мария Магдалина, и все апостолы. И все ветхозаветные пророки – тоже.
– Да, это так. – Драммонд выглядел озадаченным, словно такая мысль пришла ему на ум впервые. – Но какое это все имеет отношение к Аде Харримор и тем более к Просперу Харримору?
– Миссис Харримор придерживается того взгляда, который разделяют другие, – смущенно объяснил Питт, – особенно специалисты по разведению элитных пород скота – мне приходилось с этим встречаться, когда я жил в деревне, – что, например, если породистая сука сбежит и свяжется с непородистым кобелем, то родится ублюдок.
– Питт! Ради бога, старина! – взорвался Драммонд. – Какого дьявола, о чем вы толкуете?
– Тогда сука становится пропащей, – докончил Томас. – Все ее выводки будут уже не элитные.
– Ну, вам, наверное, об этом лучше известно, чем мне.
– Да. И Ада Харримор решила, что женщина, вступившая в сексуальную связь с евреем, тоже будет осквернена и эта связь скажется и на ее потомстве.
– Но какое это имеет отношение к убийству Проспером Харримором зятя? – нетерпеливо спросил Драммонд.
– Когда Ада носила Проспера, муж изменял ей с еврейкой. А Проспер возьми да и родись хромой, – устало закончил Питт. – И она решила, что это прямой результат связи. И внушила это предубеждение Просперу. Он винит в своем физическом недостатке отца. А когда он узнал, что Кингсли изменяет его дочери, вступив в любовную связь с еврейкой, а Кэтлин в то время тоже была беременна, он решил пойти на ужасный насильственный акт и прекратить все это, опасаясь за будущее дитя и остальных детей, которых родит дочь.
– Боже праведный! – Драммонд слегка покачал головой. – Я всего этого и не знал. Неужели здесь есть какая-то правда? И такое может повлиять на будущее потомство?
– Да нет же, конечно! – яростно возразил Питт. – Просто злобная, невежественная чепуха. Но есть люди, которые по своему невежеству верят в эту чушь, и Харриморы из их числа. Старая Ада прямо так все и выложила Шарлотте.
Драммонд смутился, что и сам он, хоть на мгновение, поддался суеверию, и слегка покраснел.
– Неужели Ада так считает?
– Да, именно так. И что именно из-за этого Проспер родился с физическим недостатком.
Шеф вздохнул.
– Но доказательств против Проспера у вас нет?
– Нет. Пока нет.
– Значит, постарайтесь их найти. Наверное, я воздержусь до поры от того, чтобы объявить Аарона Годмена невиновным в убийстве, пока мы не найдем исчерпывающих доказательств.
– Сделаю все, что смогу. Я опять пойду к театральному швейцару и попрошу вспомнить все как можно точнее.
Томас направился к двери и уже хотел было открыть ее, но Драммонд заговорил снова.
– Питт!
– Да, сэр?
– Когда это расследование будет закончено, я подам в отставку. Я уже сообщил об этом заместителю начальника округа. Я рекомендую вас на мое место. И прежде чем вы успеете возразить, скажу, что это будет для вас отнюдь не кабинетная работа. Вы сможете оставить себе солидное поле действий как следователь и сыщик, чем вы сейчас и занимаетесь. – Драммонд едва заметно улыбнулся, но в его улыбке были лишь доброта и уважение. – Вам, правда, не на кого будет положиться так, как я полагаюсь на вас. Вам придется самому заниматься наиболее сложными делами, особенно с политической подоплекой. Не отказывайтесь от моего предложения, не подумав как следует.
Томас с трудом сглотнул. Вряд ли стоило удивляться предложению, но он удивился. Он думал, что стремление шефа к отставке преходяще, но теперь понял, что это из-за Элинор Байэм, а значит, решение окончательное.
– Спасибо, сэр, – ответил он тихо. – Мне будет вас очень недоставать.
– Спасибо, Питт. – У Драммонд был смущенный и довольный, но и несколько печальный вид. – Смею надеяться, что время от времени мы будем встречаться. Я… – Он остановился, не зная, как выразить то, что хотелось сказать.
Питт улыбнулся.
– Да, сэр. – Он встретился с Драммондом взглядом, не сомневаясь, что все и так понятно, без слов. – Теперь пойду повидаться со швейцаром, – заключил Томас.
А Мика Драммонд теперь чувствовал чрезвычайное облегчение. У него, можно сказать, стало легко на сердце – не только оттого, что он принял решение, но и потому, что связал себя обещанием. Теперь и Питту известно о его решении. И для порядочного человека в данном случае отступления быть не может. В финансовом отношении он не пострадает. Денег, конечно, станет меньше, потому что он лишится жалованья. Для Питта такое жалованье будет очень серьезным подспорьем, для Драммонда же оно было приятной, но ни в коей мере не необходимой суммой. Он унаследовал значительные средства и занял свою должность по праву происхождения, а не вследствие повышения по службе. Его назначили на эту должность, во-первых, из-за того, что в прошлом он был военным, обладал административными способностями, но прежде всего потому, что был благородного происхождения, то есть человеком, на которого можно положиться, который легко управляет людьми одного класса, характера и привычек с теми, кто его назначал.
С Питтом дело обстояло совершенно иначе, но Драммонд знал из предварительных деликатных разговоров на эту тему в правительственных кругах, что его назначение встретят одобрительно. Конечно, будут и недовольные, они станут возражать и с недоверием относиться к человеку, вышедшему из низов, независимо от того, насколько он красноречив и способен убеждать. Питт никогда не сможет быть одним из властей предержащих. Для этого нужно родиться в определенном сословии. Однако наступило время, считал Мика, чтобы люди, занимающиеся расследованием сложных, значимых и таинственных преступлений, были талантливыми профессионалами, а не знатными дилетантами, какими бы те ни были почтенными и приятными людьми.
Через пятнадцать минут после того, как Питт ушел из конторы, Драммонд взял шляпу, пальто, трость и тоже удалился. К середине дня все было закончено. Он подал прошение об отставке за месяц до полагающегося срока, и его прошение хоть и с неохотой, но было принято, и, как было ему обещано ранее, его опять заверили, что на его должность будет назначен Томас Питт. Это назначение прошло не без борьбы мнений, было много разных поползновений со стороны некоторых лиц, пытавшихся помешать этому, однако Драммонд выиграл. Он покинул Уайтхолл и вышел на колючий ветер упругим шагом, с высоко поднятой головой, словно наступила весна. Спустился по Парламент-стрит, окликнул кебмена, и голос его прозвучал в холодном воздухе звонко, словно вызов.
Кебмен остановился.
– Да, сэр?
Драммонд дал ему адрес Элинор Байэм и с бешено бьющимся сердцем откинулся на спинку сиденья. Теперь его и ее ждет экзамен. Он опять сделает предложение, и она ответит согласием, иначе быть не может. А если она откажет, значит, не любит. Теперь исчезли все предлоги для отказа, не может быть никаких отговорок относительно утраты профессионального и социального положения. Драммонд снова и снова все обдумывал, пока кеб катил в восточную часть города, неторопливо пробираясь сквозь гущу движения. Он так и эдак снова пытался представить все аргументы против, которые может привести Элинор, и как он все их опровергнет, и опять повторил все заверения, которые он ей даст. Тем не менее более рассудочная и спокойная часть сознания подсказывала ему, что слова все равно ничего не могут изменить. Или она согласится принять его предложение, и в этом случае никакие аргументы «за» не потребуются, или же она отвергнет его, и тогда все слова потеряют смысл. Никого нельзя уговорить полюбить. И все же Драммонд сосредоточенно подыскивал эти слова, что, возможно, сейчас было для него некоей анестезией, успокоительным средством, пока он в пути, пока не бросил жребий. Слова легче чувств, они не причиняют такой боли и во многих отношениях менее реальны.
– Приехали, сэр! – ворвался в его размышления голос кебмена.
Вздрогнув, Драммонд снова вернулся к реальности и выбрался наружу.
– Спасибо, – поблагодарил возница за щедрые чаевые, которыми Мика, словно из суеверия, пытался задобрить судьбу.
И прежде чем Драммонд успел передумать и усомниться в необходимости своих поступков, он постучал в дверь.
Как и в прошлый раз, дверь открыла сердитая горничная.
– О, это вы, – сказала она, наморщив губы. – Ладно, вам лучше войти, хотя не знаю, что на это скажет миссис Бриджес. Это ведь порядочный дом, и ей не нравится, когда к ее постояльцам регулярно приходят посетители. Тем более ухажеры.
Драммонд покраснел.
– Ухажеры бывают у горничных, – ответил он колко, – а к дамам приходят знакомые или, если они претендуют на их руку, – поклонники. И если вы хотите сохранить за собой это место, я бы не забывал об этом, понимая разницу между ухажерами и поклонниками, и разговаривал бы повежливее!
– О! Да я ведь…
Но больше она ничего не сказала. Драммонд прошел мимо нее и быстро направился по коридору в глубь дома, к комнатам Элинор Байэм. Подойдя, он постучал, и громче, нежели хотел. Почти сразу же по ту сторону двери раздались шаги. Дверь распахнулась, и показалась горничная. При виде Драммонда лицо ее расплылось в приятной улыбке.
– О, сэр, я так рада, что вы пришли! Я так боялась, что вы, может быть, не вернетесь…
– Но я же обещал, что вернусь, – тихо ответил он, ему эта женщина очень понравилась своей преданностью хозяйке. – Миссис Байэм дома?
– О да, сэр. Она редко когда не дома. Нынче стало некуда выходить.
– Вы не узнаете, может ли она меня принять?
Горничная улыбнулась и поняла невысказанный смысл вопроса.
– Конечно, сэр. Если вы немного обождете.
У Элинор не было особой утренней комнаты для ранних посетителей или библиотеки – только крошечная передняя, даже не коридор, но Драммонд остался стоять, повинуясь просьбе. Горничная исчезла, но через мгновение показалась снова, с лицом, озаренным надеждой.
– Да, сэр, соблаговолите пройти сюда.
Она приняла у него пальто, шляпу и трость, а затем повела в маленькую гостиную с такими знакомыми ему вещами, принадлежавшими Элинор. Он даже не услышал, как горничная затворила за собой дверь. Миссис Байэм стояла у окна, и он сразу же почувствовал, почему она встала: женщина ощущала неловкость в его присутствии и, непонятно почему, даже боялась его.
Драммонд, однако, не рассердился, а, наоборот, почувствовал к ней симпатию. Он тоже боялся – боялся боли, которую она причинит ему, если ответит отказом.
– Как приятно видеть вас, Мика, – сказала она с улыбкой. – Вы очень хорошо выглядите, несмотря на скверную погоду. Или дело наконец продвинулось?
– Да, – ответил он слегка удивленно. – Да, действительно продвинулось. Питт узнал, кто убийца и почему убил.
Элинор тоже удивилась.
– Вы хотите сказать, что это не Аарон Годмен?
– Нет. Убийца не он.
– О, бедняга… – Голос у нее упал, лицо исказилось от горестного сознания чудовищной ошибки и боли, которую должны были испытывать его родные и друзья. – Как это ужасно. – Элинор посмотрела из окна на мокнущие под дождем стены соседнего дома. – Я всегда считала, что вешать людей – варварство. А теперь это варварство вдвойне. Что же должна теперь чувствовать его семья?
– Они еще ничего об этом не знают. Мы пока не можем доказать, кто был настоящим убийцей. – Драммонду очень хотелось подойти к ней, но это было бы чересчур поспешно. Усилием воли он заставил себя оставаться на месте. – Я совершенно уверен, что Питт прав или, по крайней мере, права Шарлотта. Это именно она нашла правильный ответ. Но доказательств и свидетельств, которые бы убедили присяжных в их правоте, нет.
– Однако Годмен невиновен?
– Да. И на этот счет мы располагаем очень веским и убедительным свидетельством.
Элинор быстро взглянула на него.
– И что вы собираетесь теперь делать?
Драммонд улыбнулся:
– Да, в общем-то, ничего. Все сделает Питт.
– Непонятно… Я знаю, что Питт ведет непосредственное расследование. Но ведь решения-то принимаете вы?
– Это будет зависеть от того, когда дело будет окончательно завершено, хотя не думаю, что это продлится долго. Питт слишком уж рассердился, слишком близко принял все к сердцу, чтобы оставить это дело без самого неотступного и пристального внимания.
– Но я все еще не понимаю. Вы словно чего-то недоговариваете. – Тон Элинор был вопросительным и недоумевающим, в глазах ее промелькнуло беспокойство. – Вы хотите мне что-то сказать?.. – Она не закончила фразу.
– Да, конечно, хочу. Извините. – Нелепо и смешно играть с ней в недомолвки или пытаться уйти от самого себя. Он должен набраться мужества и подвергнуть себя и ее испытанию. Драммонд глубоко вздохнул. – Сегодня я подал начальнику рапорт об отставке, которая вступит в силу через месяц. Я порекомендовал на свою должность Питта. Думаю, он справится с делом лучше всех. Он, конечно, не застрахован от ошибок и будет ошибаться и впредь, но более, чем остальные, способен достигать положительных результатов.
– Вы подали в отставку! – изумилась Элинор. – Но зачем? Да, я понимаю, что вы утратили к этому делу первоначальный интерес, но, разумеется, все вернется. Вы не можете взять и отступиться от всего.
– Нет, могу, потому что существуют вещи, гораздо более важные для меня.
Она стояла тихо, а в глазах ее застыл немой вопрос. Вот теперь настало время. Теперь незачем говорить экивоками или опасаться ее удивить.
– Элинор, вы уже знаете, что я люблю вас и хотел бы на вас жениться. Когда я спрашивал вас об этом раньше, вы сказали, что брак будет стоить мне карьеры и поэтому вы должны ответить отказом. Теперь это обстоятельство – моя карьера – больше не стоит у нас на пути. Брак больше не принесет мне никакого ущерба, он лишь сделает меня самым счастливым из смертных, насколько это вообще возможно. И теперь вы не можете мне отказать ни по какой причине – только если наш брак не будет столь же счастливым и для вас.
Драммонд замолчал. Он сказал все, что хотел.
Элинор все еще стояла неподвижно. К лицу ее прилила краска, глаза были очень серьезны, но вот губы тронула слабая, едва заметная улыбка. Еще несколько секунд она стояла молча и неподвижно, а потом протянула к нему руку, ладонью книзу. То было согласие, Драммонд с внезапной радостью понял это. Он улыбался, сердце билось где-то в самом горле. Ему хотелось запеть, но любой звук сейчас испортил бы это ощущение радости. Драммонд шагнул вперед, взял предложенную руку и нежно притянул Элинор к себе. Бесчисленное количество раз он страстно мечтал об этом мгновении, воображал, как все это будет… И вот теперь она была рядом. Он ощущал теплоту ее тела сквозь ткань платья, вдыхал запах ее волос и кожи, который был настойчивее и восхитительнее всех духов из лаванды и роз. Нежно-нежно он поцеловал ее, потом сильнее и крепче и, наконец, со всей страстью, на которую был способен. Она ответила ему с той безоглядностью, о которой он не смел и мечтать.
Грейси тоже приняла решение. Она желала разрешить загадку и знала, как это сделать. Не во всех подробностях – тогда пришлось бы ждать, пока кое-что не выяснится, – но она, безусловно, знала, с чего начать и что она должна выяснить. Она найдет того несчастного уличного мальчишку – вернее, теперь уже парня, – отказавшегося сообщить хозяину что-нибудь относительно мужчины, который передал ему сообщение для Кингсли Блейна, когда тот выходил из театра. Из того, что говорит хозяйка, Аарон Годмен, бедняга, совсем не такой, как, к примеру, мистер Проспер Харримор. Ну, во-первых, Харримор в два раза его старше, да и выше в два раза! И тот мальчишка не такой уж простофиля, чтобы не заметить этого, если его заставить вспомнить все, как оно было.
Конечно, это займет время, день-два по крайней мере, и нелегко придумать убедительный предлог, под которым можно отпроситься из дому. Но она в свое время здорово умела врать и теперь тоже сможет, ведь дело-то хорошее. От хозяина она уже знала, как зовут мальчишку и где его искать.
– Пожалуйста, мэм, – сказала Грейси, скромно потупив глаза, – моя мамаша сейчас в затруднении. Можно мне взять день-два отпуску, чтобы ей помочь? Постараюсь вернуться поскорее, как только смогу. Если я все успею переделать завтра, можно будет мне уйти? Я встану в пять утра и все приготовлю, и печи все затоплю, и пол в кухне вымою загодя. А вечером опять приду, чтобы овощи почистить, посуду помыть от обеда, постели постелить и все такое… Пожалуйста, мэм!
При виде озабоченного взгляда Шарлотты, которая явно обеспокоилась насчет ее матери и сразу же дала согласие на отлучку, Грейси почувствовала легкий укол вины. Но ведь она идет на доброе дело. И теперь, слава богу, сумеет разыскать того бедолагу и вытрясти из него правду!
И Грейси поспешила прочь, прежде чем Шарлотта успела спросить что-либо еще, и рьяно занялась повседневными делами.
На следующее утро она исполнила все в точности, как обещала. Встала в пять, спотыкаясь в темноте и дрожа от холода, крадучись спустилась по лестнице, выгребла пепел из очага в кухне, вычернила решетку и достала уголь, затопила, затем разожгла огонь в гостиной, выскребла кухонный стол, затем пол, а к семи уже подмела в гостиной и коридоре и приготовила все к завтраку.
В четверть восьмого, когда только стало рассветать, Грейси выскользнула из дома прежде, чем Шарлотта спустилась, чтобы поставить на огонь котелок с водой. Оказавшись на улице в серых утренних сумерках, еще освещавшихся желтым светом фонарей, Грейси поспешила к перекрестку на остановку омнибуса, с которой ей предстояло начать путешествие в квартал Севен-Дайалс.
Грейси еще не вполне решила, с чего начать, но она не раз сопровождала Шарлотту по ее детективным делам. Главное – уметь задавать нужные вопросы тем людям, которые могли знать на них ответы, и, самое важное, спрашивать правильно. Вот почему в данном случае она больше подходила для выполнения задачи, чем сама Шарлотта или даже Томас. Она встретится с Джо Слейтером на равных и, конечно, лучше сможет его понять. Она сразу учует, если он врет, и, может быть, даже поймет почему.
День был безветренный, но ужасно холодный и промозглый. Мостовые стали скользкими, холод проникал сквозь тонкую шаль и дешевую ткань платья до самых костей, а старые ботинки плохо защищали ноги от ледяных камней тротуара.
Омнибус остановился. Грейси сошла вместе с другими пассажирами и оглянулась. Оставалось шагов сто до места, о котором рассказывал хозяин, и она бодро отправилась в путь. Улица была узкой; по левой стороне стояли множество лотков и прилавков, на которых продавались вещи, главным образом платья и кожаные изделия. Грейси знала, что тут очень редко продают новое. Все, что претендовало на новизну, было переделано из старья, из которого выреза́ли прочные куски ткани и снова пускали их в ход. То же самое относилось и к обуви. Хорошие куски были вырезаны, вновь скроены и перекроены и опять прошиты сапожными нитками.
Теперь надо высматривать Джо Слейтера. Медленно, словно желая прицениться, Грейси шла мимо прилавков, сооруженных из деревянных планок, и лотков. Многие товары были выложены прямо на камнях тротуара. У нее не было чувства вины, которое испытывал мистер Питт, видя испитые лица, запавшие, с беспокойным блеском глаза, исхудавшие тела, дрожавшие в изношенной одежде от холода. Она досыта нахлебалась бедности в свое время. Здешние запахи и звуки тоже были для нее привычны, но ей захотелось повернуться и бежать без оглядки на остановку. Дома, в Блумсбери, ее ждали тепло растопленная печь, горячий чай в одиннадцать утра и возможность посидеть у жаркого огня, грея ноги у решетки; запах чистого дерева, муки и стирки.
С полдюжины торгующих были пожилые мужчины или женщины, и Грейси шла, отвернувшись из боязни, что ее втянут в перебранку. А потом она наконец увидела юношу, которого придирчиво оглядела, прежде чем начать разговор.
– Чего-нибудь хочешь или просто так глазеешь? – раздраженно спросил он. – Я вроде тебя не знаю.
Грейси дернула плечиком и улыбнулась.
– А я – тебя. Как звать?
– Сид. А тебя?
– А ты знаешь Джо Слейтера?
– А тебе зачем?
– Потому что мне надо кое-что купить у него, вот зачем, – огрызнулась она.
– Да у меня тоже всякого добра полно. Хочешь пару новых ботинок? Твоего размера? – с надеждой спросил он.
Грейси оглядела ряд ботинок, стоящих перед ней. Хорошо бы заиметь новую пару, но что скажет Шарлотта, если она купит ботинки, переделанные из старья, из чужих обносков? Может быть, и не заметит. Кто станет разглядывать ботинки под длинной юбкой? Грейси всегда носила длинные юбки по причине своего очень маленького роста.
– Может быть, – протянула она нерешительно, – а сколько?
Он уже держал в руке светло-коричневую пару.
– Шиллинг, пять пенсов и полпенса.
– Шиллинг, два пенса и три фартинга, – ответила она тут же. Ей бы и в голову не пришло сразу заплатить требуемую сумму.
– Шиллинг, четыре пенса и фартинг.
– Шиллинг, два пенса, три фартинга – или забудем об этом, – отрезала она. Ей очень понравился фасон ботиночек, и цвет хороший. И потерты они были только в одном месте, но Грейси сделала вид, что сейчас уйдет.
– Идет. Шиллинг и три пенса. Может, один фартинг-то уступишь?
Грейси порылась в большом кармане, выудила кошелек, достала два полушиллинга и монету в три пенса, но крепко зажала их в руке.
– А где мне найти Джо Слейтера?
– А чем мои ботинки плохи?
– Где его искать? – Ее пальцы сомкнулись над деньгами.
– В ряду, где торгуют кожаными передниками, через десять прилавков отсюда. – И парень протянул руку за деньгами.
Она отдала их, поблагодарила и взяла ботинки.
Грейси нашла Джо Слейтера приблизительно там, где указал Сид. Она исподтишка несколько секунд его разглядывала, раздумывая, что и как скажет ему и с чего вообще начать. Юноша был худой и тонкий, как прут, светловолосый, сероглазый, с осторожным взглядом. Лицо ей понравилось. Конечно, это самое первое впечатление, и Грейси при необходимости была готова сразу же его изменить, но при всем том было что-то в выражении его лица и всем облике достойное, что ей понравилось.
И она решилась. Вздернув подбородок, выпрямившись, чтобы казаться повыше, Грейси подошла к нему и устремила на него ясный и очень прямой взгляд.
– Ты Джо Слейтер? – спросила она весело, самим тоном давая ему понять, что она на сей счет не сомневается.
– А ты кто такая? – спросил он с легким подозрением. Сейчас такие времена, что осторожность не помешает.
– А я Грейси Хокинс, – ответила она совершенно честно. – И хочу с тобой поговорить.
– Я здесь для того, чтобы торговать, а не разговоры разговаривать с такими недомерками, как ты, – ответил он, но голос был не грубый, и смотрел он на нее не без удовольствия.
– Да я и не хочу тебе мешать торговать, – сказала она, и это была первая ложь. – Я работаю у одной леди, и она в большом затруднении, а ты мог бы ей помочь, если б, конечно, захотел.
– А что бы я с этого имел?
– Не знаю. Мне-то ничего не обломится, это уж точно. Но для тебя, наверное, будет неплохое дельце. Она не бедная и не жадная.
– Так почему я-то? Чего она от меня хочет? – Он скорчил физиономию, выражая тем самим большое сомнение. – Может, ты меня подставить хочешь?
– У меня есть дела получше, чтобы я стала тратить время на езду сюда, высматривать, кого никогда в глаза не видела, и подставлять его. – Грейси резко, осуждающе рассмеялась. – Твое дело решать, но ты один такой, кто знает, что ей надо.
– Знаю что? – он тоже заинтересовался.
– Ты видел в лицо человека, который кое-кого убил. Убил очень страхолюдно, а за убийство повесили не того человека.
Выражение лица Джо моментально изменилось. Черты словно обострились, интерес испарился, взгляд стал раздраженный.
– Ты говоришь о том, кто убил на Фэрриерс-лейн? Ну, я все уже рассказал, что знаю, ищейкам и больше никому ничего рассказывать не собираюсь. Это ищейки тебя подослали? Господи боже, когда они, черти этакие, оставят меня в покое? – Теперь в его голосе звучала откровенная горечь, все тело напряглось, он сжал кулаки.
– Да неужели? – насмешливо спросила Грейси, обозлившись на себя за то, что все испортила и у него пропало настроение говорить. – Я тоже, конечно, ищейка, и вид у меня такой, что я всегда занимаюсь такими делами. Ведь росту у меня шесть футов с лишним, и я сильна, что твой бык. Настоящая ищейка, только форму дома забыла.
– Ишь, язык-то у тебя хорошо подвешен, – усмехнулся Слейтер. – Так ты, значит, не из ищеек? Тогда зачем тебе знать все, а? Все забыто и закончено, и мне теперь все равно. Эти подонки из полиции гоняли меня, как крысу, с тех самых пор. Сначала они мне все твердили, что я видел не того человека, и чуть руки мне не выломали. – Он расправил плечи, словно хотел убедиться, что теперь все в порядке и у него ничего не болит. – А то четыре месяца болело, страх. Вот что они наделали. Потом, когда начался суд, они опять стали гонять меня по кругу. Я было заспорил с ними, а они сказали, что упрячут меня в Колдбат-Филдс [11]за воровство. – Он нахмурился. – А ты знаешь, сколько там народу померло от тюремной лихорадки? Тысячи! Они хотели поставить меня на ступальное колесо на фабрике, где задыхаешься, потому что дышать нечем, а если споткнешься и упадешь, то все причинное место отобьешь. Я никому ничего не скажу о той ночи – ни тебе, ни твоей леди. А теперь пошла прочь и приставай к кому-нибудь еще. Пошла! – Он хлопнул в ладоши, прогоняя ее, и прищурился от злости.
На минуту Грейси словно онемела. Она не стала с ним спорить, потому что знала, как незаконно иногда действует полиция, и не сомневалась, что парень не врет. У нее были дяди и брат, которых вот так же выслеживали полицейские, и троюродный кузен, попавший в тюрьму. И она видела, каким недоумком он пришел из заключения, замученный тюремной горячкой, с больными суставами, шаткой походкой, изнуренный непосильным трудом.
– Пошла, – повторил он грубее. – Ничего я тебе не скажу!
Расстроившись, Грейси отступила на шаг, однако не чувствуя себя побежденной. Пока еще нет.
Подошел покупатель и несколько минут переругивался с парнем, пока наконец не купил передник. Затем подошел другой, тоже поругался, но ничего не купил. Больше часа Грейси стояла и наблюдала за торговлей, все больше замерзая. Руки, в которых она держала новые ботинки, совсем закоченели.
Джо перешел к прилавку напротив, чтобы купить пирог с почками. Грейси последовала за ним и купила себе тоже. Он был горячий и замечательно пах.
– Ты напрасно за мной ходишь, – сказал Слейтер, увидев ее, – ничего тебе больше не обломится! И ни с какими полицейскими я больше встречаться не собираюсь. – Он вздохнул, облизывая соус с губ. – Послушай ты, глупая! Ищейки мне сказали, они поклялись, что арестовали того самого, кто убил, что они его арестовали и осудили и что важные шишки все просто с ума посходили от радости! И что они долго ходили вокруг да около, как они всегда делают, и нарыли много доказательств. А потом сказали, что это он убил и они все правильно делают, и потом повесили того бедолагу. – Он опять откусил от пирога и продолжал с набитым ртом: – И если ты воображаешь, что после всего этого они скажут, что ошиблись, потому что какой-то уличный бродяга что-то там говорит, значит, тебе пора в Бедлам, это уж точно. – Он проглотил кусок. – Твоя хозяйка воображает себе то, чего не было, и только себе навредит, и ты тоже, если такая же дура и слушаешь ее россказни.
– Но ведь убил-то не он, не тот, кого повесили… – начала было Грейси.
– А кому до этого дело? – сердито перебил он. – Слушай, идиотка, им неважно, кто убил. Им важно заткнуть того, кто говорит, что они повесили не того, кого надо было. И они не признаются, что ошиблись, ни за что не признаются. – Он ткнул рукой с пирогом в воздух. – Ты об этом подумай, дурья твоя голова, если у тебя все-таки там есть что-нибудь, кроме опилок. Ну кто из этих шишек признается, что они повесили не того человека? Да никто, можешь что угодно прозакладывать.
– Но у них не будет выбора, – яростно ответила Грейси, вонзая зубы в пирог. – Полиция уже знает, что повесили не того. У них уже есть доказательства. И они знают, кто убил, но вот доказать пока не могут.
– Не верю я тебе.
– Я не вру, – негодующе отвечала она, потому что на этот раз действительно сказала истинную правду. – И ты не имеешь права говорить, что я тебе наврала. Просто ты боишься встать перед ними и сказать все, что знаешь. – Она постаралась говорить как можно презрительнее, но с набитым ртом это было трудновато.
– Да, черт возьми, боюсь, – согласился он, – а почему? Потому что ничего хорошего из этого не выйдет. А теперь отправляйся к своей хозяйке и скажи, чтобы она обо всем этом позабыла.
– Никуда я не пойду, а вот ты пойдешь со мной и посмотришь на того бездельника, кто это сделал. – Она снова откусила пирог. – И потом скажешь мне, тот самый говорил с тобой у теантера или нет. И потом мы найдем тех бродяг, которые тогда шатались возле переулка, и узнаем, что они взаправду там видели. Ведь по-любому же не то, что ищейки им велели сказать.
– Что значит «мы»? – едва не пискнул Джо. – Никуда я не пойду! Мне от ищеек как следует досталось после того убийства, и мне незачем с ними встречаться.
– Конечно, пойдешь, – устало ответила Грейси, заглатывая следующий кус. – Что толку, если я пойду одна? Я ведь там не была и не видела его.
– Ну и ладно, а я не пойду.
– Ну пожалуйста.
– Нет.
– Но ведь настоящий-то убийца живет как миленький, – запротестовала она.
– Не имеет значения. А теперь иди давай и не приставай ко мне, слышишь?
– Нет, не уйду, пока ты не пойдешь со мной, чтобы посмотреть на того нахала, и не скажешь, он тебя послал к теантеру или нет.
– Не станешь ты ходить за мной, как хвост!
– Нет, стану.
– Ну, подумай, – Слейтер уже выбился из сил. – Я ничего не буду делать. И буду ходить там, где хочу. Не имеешь права вмешиваться. Давай отчаливай!
– Нет, не пойду, пока ты не взглянешь на того типа.
– Ну что же, тебе долго придется ждать.
Он повернулся спиной и заговорил с потенциальным покупателем, делая вид, что совсем не обращает внимания на Грейси. Она опять заковыляла за ним к его прилавку, остановилась, плотно запахнув шаль, и ждала, и снова смотрела. Было холодно, и ноги у нее так закоченели, что она их не чувствовала под собой. Но Грейси решила ни за что не сдаваться и не отставать, даже если он сейчас отправится домой.
Ближе к вечеру Джо привел в порядок свой прилавок, запер на ночь товар и ушел. Грейси встрепенулась и последовала за ним. Он дважды оборачивался, видел ее и злился; несколько раз махнул рукой, чтобы отогнать ее прочь. Она скорчила физиономию в ответ, но продолжала его преследовать.
Он зашел в пивную и пробился к стойке. Грейси протолкнулась за ним сквозь толпу и нашла местечко поблизости, наслаждаясь теплом после колючего холода снаружи.
– Убирайся! – крикнул Джо, вызверившись.
С полдюжины завсегдатаев обернулись и с любопытством оглядели его, потом Грейси.
– Не уберусь, пока не посмотришь на того громилу, который убил, – упрямо повторила она и шмыгнула носом, потому что от тепла из него потекло.
– Да утихомиришься ты, наконец? – прошептал Джо. – Я же сказал, они мне не поверят, сколько тебе твердить? Напрасно только время потрачу. У тебя, что, совсем мозгов нет?
Но Грейси не стала доказывать ему обратное.
– Просто пойдем со мной и посмотрим на этого типа. Если это он, они тебе поверят.
– Да с чего бы это? – На его худом лице отразилось глубочайшее недоверие.
Но Грейси не стала говорить, будто Питт уже знает, что убил именно Харримор. Джо не поймет, зачем в таком случае нужны доказательства. Не могла она и объяснить, почему сама верит в то, что это Харримор.
– Я тебе не могу все рассказать.
– Да ты сама ничегошеньки не знаешь.
– Нет, знаю. И стану таскаться за тобой, пока ты как следует на него не посмотришь. Ищейки тебя больше не застукают, если ты об этом беспокоишься.
– А ты не говори со мной через губу, противный недоросток, – зло сказал он. – Ты бы тоже испугалась, если бы у тебя было хоть две извилины в голове. Ты хоть представляешь, что эти ищейки могут с тобой сделать, если ты им не потрафишь? И они сделают, если ты скажешь, что их доказательства ни к черту не годились. Ты меня спроси об этом – я-то знаю, что почем.
– Но тебе-то ничего не надо им говорить и связываться с ними; ты только пойди посмотри и скажи мне, – заявила Грейси, уже празднуя победу. Джо отвернулся, но она потянула его за рукав. – И клянусь, я от тебя тогда отстану. А если не пойдешь, то я всюду буду таскаться за тобой!
– И ищейкам ничего не скажешь? – спросил он устало.
– Клянусь, не скажу.
– Значит, встретимся здесь в шесть вечера и пойдем вместе, и я погляжу на него. А теперь отвяжись и дай мне спокойно пропустить пинту пива.
– Я буду ждать тебя снаружи. – Грейси опять шмыгнула носом.
– Господи! Женщина! Я же сказал, что приду!
– Оно, конечно, я тебе верю…
– Тогда жди снаружи. Шмыгай там.
Грейси неохотно выбралась снова в холод и слякоть. Она терпеливо ждала в темноте, под моросящим дождем, но смотрела на дверь очень внимательно, чтобы Джо как-нибудь незаметно не улизнул. Однако через полчаса она с таким облегчением увидела его тощую фигуру и бледное лицо, словно он был ее верный друг. Грейси бросилась вперед, едва не поскользнувшись на мокрых булыжниках, потому что совсем уже не ощущала ног. Она промерзла до костей.
– Ну что, готов идти? – жадно спросила она.
Слейтер искоса и очень неодобрительно оглядел ее, и она почувствовала по тому, как упало сердце, что он не надеялся увидеть ее снова. Грейси сердито проворчала что-то, полная решимости не дать ему заметить, как она расстроилась. Их связывает только дело. Пусть думает о ней что хочет, ей это совершенно безразлично.
Они молча шли рядом по узкой дорожке; покрытые изморосью камни поблескивали, как островки света, под редкими фонарями, в тусклых кругах, светящихся под дождем, а рядом с ними по лужам шлепали и брызгали грязью колеса тачек, повозок. Время от времени из темноты выныривали экипажи и опять погружались во мрак.
– Ты что, скорее не можешь? – ворчливо спросил Джо, крепко схватил ее за руку и резко рванул за собой.
Они проходили мимо людей, сгрудившихся возле жаровен с горячими каштанами или другой едой или переминавшихся с ноги на ногу в тени подъездов.
– Надо бы сесть на омнибус, – сказала, задыхаясь, Грейси, – это в западной стороне. Он же важная шишка.
– А где он живет точно?
– В Челси, на Маркхэм-стрит.
– Тогда нам надо на поезд.
– Какой такой поезд?
– В подземку. К Слоун-сквер. Ты что, никогда не ездила на подземке?
– Я даже не слышала о ней. – Грейси поняла, насколько невежественна и ничего не знает о городе, в котором живет. – Моя хозяйка ездит в экипаже или в чьей-нибудь карете. Нам нет необходимости ездить поездами, если мы куда направляемся.
– Оба-на, гля, какие мы важные птицы! – ответил он насмешливо. – Ну что ж, коли у тебя есть монета, чтобы снять кеб, я с большим удовольствием проедусь с тобой.
– Не задавайся, – она столь же насмешливо отвергла предложение. – Значит, едем на поезде. Сколько стоит?
– Зависит от того, как далеко, но по-любому немного. Пенни или вроде того. А теперь возьми ноги в руки и не отставай.
Грейси показалось, что она пробежала рысцой несколько миль, неся новые ботинки под мышкой, но вряд ли они прошли больше полутора миль.
Затем они сошли по ступенькам в мрачный подвал, и там была станция, мимо которой по туннелю, как кроты, сновали поезда, рыча и дребезжа. В другое время Грейси очень испугалась бы, но сейчас у нее не было на это времени; кроме того, она была слишком возбуждена, слишком старалась не оплошать в глазах Джо и не показаться ему совсем дурочкой, и, наоборот, не уступать ему ни в храбрости, ни в каком другом качестве, которое он мог бы оценить по достоинству.
Ей не нравилось сидеть в вагоне, мчавшемся по туннелю; она очень старалась думать о чем-то постороннем, чтобы не вскрикивать от страха, когда ее трясло, качало из стороны в сторону и швыряло о стенку, и она с тоской думала, как далеко отсюда дневной свет и свежий воздух. Девушка искоса взглянула на Джо, раз или два, и увидела, что он тоже на нее смотрит, и поэтому быстро отвернулась. Но сердце ее забилось от радости, так что и страх стал отступать.
Наконец они вышли на Слоун-сквер и опять пошли пешком; на этот раз вела Грейси. Наконец под бойким холодным дождем они достигли Маркхэм-сквер и остановились в тени деревьев напротив дома, в котором жил Проспер Харримор.
– Ну, – сказал Джо, стараясь проявлять терпение, – что теперь? Что, если он не выйдет сегодня больше на улицу? Да и зачем бы ему? Только дураки и бездомные шляются по улицам под дождем в такое время.
Грейси и сама думала об этом, но сказала:
– Значит, мы должны выманить его из дому.
– Да неужели? И как ты это собираешься сделать?
– Пойду и постучу.
– И он, конечно, собственноручно тебе откроет? Для этого у них лакеи имеются, если те тоже спать не ушли, – ответил он устало. – Ты самая упрямая женщина из всех, кого я встречал, а это многое значит, если учесть, где я проживаю.
– Но я не из тех мест, где ты проживаешь, – возразила Грейси, хотя это была не совсем правда. – Ты просто на него посмотри. – И с этими словами она перешла через улицу с ботинками под мышкой и поднялась по ступенькам подъезда, а потом постучала в дверь.
Грейси не очень хорошо знала, какие порядки заведены в доме у богатых, если не считать отрывочных сведений, почерпнутых от Шарлотты или из грошовых книжек. Однако она была уверена, что дверь откроет лакей, и не удивилась, когда так и произошло.
– Да, мисс? – спросил он, недоброжелательно буравя ее взглядом и уже намереваясь предложить ей направиться к черному ходу, которым пользовались слуги. Он принял ее за родственницу какой-нибудь горничной, хотя прислуге запрещено принимать посетителей в этот час.
Грейси быстро заговорила, задыхаясь от волнения:
– Пожалуйста, сэр, у меня есть сообщение для мистера Харримора, личное, и я не могу передать его с другими.
– Мистер Харримор не принимает сообщений от таких, как ты, – сказал напыщенный лакей. – Передай мне, а я скажу ему.
– Так не пойдет, – быстро возразила девушка, перекладывая ботинки из руки в руку, чтобы крепче их держать. – Мне специально наказали: никому, только самому мистеру Харримору. Я подожду здесь, а вы пойдите и скажите, что его вызывает парнишка, с которым он встречался у теантера пять лет назад и тоже просил его передать кое-что. Вы ему так и скажите, и вот увидите, что он выйдет.
– Глупости! Убирайся отсюда, девушка.
Но Грейси не двинулась с места.
– Нет, пойдите и скажите – и тогда я уйду.
– Нет, ты уберешься сейчас, – лакей махнул рукой, – или я пошлю за полицией. Приходят тут всякие и беспокоят порядочных людей своими россказнями и сообщениями… – И он начал закрывать дверь.
– Но нам полиция здесь не нужна, – в отчаянии сказала Грейси. – Эта семья и так настрадалась. Идите и передайте. Не ваше дело решать, кого ему надо видеть, а кого нет. Или это он у вас работает?
Может быть, последний довод, а может, исключительно сила ее личности, решительный взгляд и худенькое гневное лицо все-таки убедили лакея, но он решил больше с ней не спорить, крепко захлопнул дверь и пошел доложить обо всем Харримору.
Грейси осталась ждать. Во рту у нее пересохло, она дрожала от холода и нестерпимого напряжения. Руки были холодные как лед, но они крепко держали ботинки. Только один раз она обернулась, чтобы убедиться в присутствии Джо: он по-прежнему стоял на противоположной стороне улицы, почти скрытый тенью, но пристально глядел на дверь.
Прошло несколько минут, прежде чем та снова отворилась, на порог вышел очень высокий и плотный мужчина и уставился на Грейси. Казалось, он возвышается над ней, как башня, и заполняет весь дверной проем. Его острый и тонкий, похожий на клинок нос и насупленный лоб показались девушке очень странными, в глубоко посаженных глазах выражались гнев и недоумение.
– Ты кто такая? – спросил он требовательно. – Никогда не видел тебя прежде и не понимаю, что ты такое мелешь о «теантере». Кто тебя подучил прийти сюда?
Насмерть перепуганная, Грейси попятилась.
Мужчина нахмурился еще больше и вышел на крыльцо. Девушка снова попятилась, поскользнулась на мраморной плите подъезда, полетела на мостовую и не упала навзничь только потому, что незаметно подскочивший Джо успел ее подхватить.
Харримор остановился как вкопанный, и лицо его исказилось от ужаса.
– Извините, мистер, – сказал Джо, изо всех сил пялясь на Харримора; вдруг он сильно побледнел, судорожно вздохнул, и голос его внезапно охрип. – Она у нас немного умом тронутая, понимаете, и ничего с собой поделать не может. Я ее домой заберу. Спокойной ночи, мистер.
И прежде чем Харримор успел ему помешать, Джо схватил Грейси за руку и потащил прочь. Они перескочили через обочину и помчались через улицу в тенистую аллею. Там Джо остановился и повернул ее к себе лицом, все еще крепко держа за руку.
– Это он самый, – сказал он, тяжело и прерывисто дыша. – Это тот самый тип, который тогда передал через меня весточку мистеру Блейну. Бог ты мой! Так, значит, он, наверное, и убил его и прибил к воротам… Боже милостивый! Что же мы теперь делать будем?
– Расскажем полиции. – Сердце у Грейси билось изо всех сил, она едва могла говорить. Ей удалось! Она выследила убийцу!
– Не будь дурой, – вне себя от злости ответил Джо. – Мне они не поверили, не поверят и тебе, тем более через пять лет, когда они уже повесили того несчастного дурака.
– Теперь этим занимается другой полицейский, потому что отравили судью Стаффорда, – возразила Грейси, крепко прижимая к груди новые ботинки. – И он тебе поверит; он знает, что Годмен не убивал.
– Да? Откуда тебе это известно?
– Известно, и всё тут. – Она еще не могла ему честно признаться, у кого работает.
Вдруг Слейтер весь напрягся, задрожал, и Грейси почувствовала, что на него внезапно накатил ужас. Пронзил он и ее – как электрический разряд. Она круто обернулась и увидела в желтом свете уличных фонарей огромную фигуру Проспера Харримора. Горло у нее перехватило, колени подогнулись, и она еле осталась стоять на ногах. Джо вскрикнул и так резко рванул ее за собой, что едва не вывихнул ей плечо, а Грейси чуть не уронила ботинки. Юноша бросился бежать, таща ее за собой, а сзади доносились тяжелые неровные шаги Проспера. Они добежали по аллее до самого конца, обогнули ее и снова попали на освещенную дорогу. Грейси подхватила длинные юбки, чтобы не мешали. Они с Джо перебежали через пустую улицу на аллею напротив, где было темно, и скорчились у лестницы, как два испуганных зверька. Сердца их, казалось, вот-вот выпрыгнут из груди, кровь билась толчками в жилах, лица и руки заледенели.
Они не смели шевельнуться, тем более поднять голову и осмотреться, но слышали, как неровные шаги раздались над их головами и затем остановились.
Джо обнял Грейси и прижал к себе так крепко, что, если бы она вся не онемела от холода, ей стало бы больно.
Проспер опять двинулся вперед, потом остановился, затем шаги стали удаляться.
Джо молча поднялся, потянул ее за собой и пошел к ступенькам, все время поглядывая направо-налево. Проспер стоял в сотне шагов от них. Вот он медленно оглянулся.
– Идем, – шепнул Джо и пустился бежать по мостовой в противоположном направлении.
Но Харримор уже услышал их и круто повернулся. Несмотря на хромоту, он мог бегать необыкновенно быстро для человека с таким недостатком.
Они пробежали по одному переулку, свернули в другой, на бегу натыкаясь на ржавые банки и другой мусор, перепрыгнули, слегка запнувшись, через старую тачку, опять выскочили на улицу, нырнули во двор с конюшней и промчались мимо стойл, освещавшихся единственной лампочкой, бросавшей на землю желтое пятно света. Заржали и зафыркали испуганные лошади. Потом Грейси и Джо перелезли через ворота, причем девушка застряла наверху, запутавшись в мокрой длинной юбке. Джо перетащил ее и почти проволок через сад, спотыкаясь на грядках и бордюрах клумб, продираясь через кусты, сквозь ветки, хлеставшие их по лицу, стараясь избегать только колючек остролиста. Грейси все еще прижимала к себе ботинки. Они пробежали по дорожке, усыпанной гравием, ведущей к дому, казалось, что гравий грохочет под ногами как гром, как их неистово, безумно стучащие сердца.
Внезапно Джо остановился, прижав к себе Грейси, но они так громко дышали, что не могли слышать, преследует их Проспер или нет.
– Люди, – выдохнула Грейси. – Если б можно найти улицу, где много народу, мы тогда спасены. Он не посмеет сделать нам что-нибудь на виду у прохожих.
– Да нет, посмеет, – с горечью ответил Джо. – Он закричит: «Держи воров» – и расскажет, что мы стащили у него часы или еще что-нибудь, и они все станут нас ловить.
Девушка поняла, что он прав.
– Ну, идем, – настойчиво произнес Слейтер. – Нам нужно рвануть в Ист-энд. Если мы будем среди своих, он никогда нас не поймает.
И юноша опять ринулся вперед, таща за собой Грейси, которая, задыхаясь, то и дело припускалась бегом, чтобы не отстать, и все еще сжимала под мышкой ботинки, держа другой рукой край юбки, чтобы не споткнуться и не упасть. Когда они снова выбежали на улицу, было ясно, что Проспер от них отстал.
– Блумсбери, – сказала она, переводя дыхание, – нам нужно поскорее добраться до Блумсбери, там мы будем в безопасности.
– Почему?
– Там мой хозяин живет. И он все устроит как надо.
– Но ты раньше говорила про хозяйку.
– Да, но хозяин как раз такой человек, который позаботится о мистере Харриморе. Пойдем, не спорь со мной. Мы только должны сесть на омнибус до Блумсбери.
– А что, у тебя есть деньги? – огрызнулся он, оглянувшись через плечо.
– Да, есть. И я больше не могу бежать.
– Плевать. Больше и не требуется, – неожиданно мягко ответил Джо. – А ты ничего, для девчонки бегаешь неплохо. Идем, сядем на омнибус, остановка отсюдова недалеко.
Грейси ему улыбнулась во весь рот, чувствуя огромное облегчение. Внезапно Джо наклонился и поцеловал ее. Губы у него были холодные, но поцелуй вышел очень нежным. На нее нахлынула горячая сладкая волна, все внутри запело, сердце словно обожгло. Грейси тоже поцеловала его, уронив ботинки.
А он вдруг отшатнулся, яростно покраснев, и пошел прочь, предоставив ей самой поднимать ботинки и потом нагонять его бегом. Девушка догнала его только на углу перекрестка, где проходили омнибусы.
Через полчаса они стояли уже на кухне Шарлотты, дрожа от холода, насквозь промокшие, растрепанные, грязные, в разорванной одежде, но живые.
Джо пришел в ужас, когда узнал Питта и понял, что очутился в самом логове врага, но было слишком поздно бежать, да и блаженное тепло растопило остатки его инстинктивного страха перед полицией.
– Где, во имя всего святого, ты пропадала? – гневно закричала Шарлотта. Голос у нее охрип от волнения и несказанного облегчения. – Я чуть с ума не сошла от беспокойства!
Томас положил руку ей на плечо, прерывая жену.
– Что случилось, Грейси? – спросил он ровным голосом, останавливаясь прямо перед ней. – Чем ты занималась?
Девушка глубоко вздохнула и посмотрела ему прямо в глаза. Она чувствовала себя почти счастливой от того, что опасность миновала. Грейси обожала Питта. Она знала, что придется держать ответ перед Шарлоттой, но в то же время очень гордилась собой.
– Мы с Джо пошли поглядеть на мистера Харримора, который убил бедного мистера Блейна, сэр. Джо как следует его разглядел и знает теперь, что это тот самый, кто тогда посылал его к мистеру Блейну, и он готов присягнуть в этом на суде.
Джо открыл было рот, чтобы заспорить, но взглянул на решительную маленькую фигурку Грейси и передумал.
Питт вопросительно посмотрел на него.
– Это верно? Это действительно был мистер Харримор, в ту ночь?
– Да, сэр, это он, – покорно отвечал Джо.
– А ты уверен?
– Да, сэр. И он меня тоже узнал и бежал за нами. Больше чем мили две. Наверное, если б догнал, тоже схватил бы и прибил гвоздями к какой-нибудь двери. – Он вздрогнул при одной только мысли о такой возможности, словно холодный ветер настиг его даже в теплой кухне.
Шарлотта хотела было что-то сказать, но вместо этого велела Грейси снять промокшие ботинки и подвинуть их к огню. Затем поставила котелок с водой на огонь и достала хлеб, масло и джем.
– И теперь ты действительно готов присягнуть, что это был он? – настойчиво переспросил Питт.
Джо взглянул на Грейси.
– Да уж, придется.
– Хорошо. – Томас повернулся к Грейси. – Ты очень умная девушка – и очень храбрая, – сказал он торжественно.
Та вспыхнула от удовольствия. В замерзших руках стало покалывать иголками.
– Ты проделала прекрасную детективную работу, – прибавил он.
Грейси выпрямилась еще больше, если это в принципе было возможно, не отрывая от него взгляда.
– Но при этом ты солгала миссис Питт насчет того, куда идешь и зачем; ты подвергала свою жизнь опасности, не говоря уже о том, что заставила рисковать жизнью и Джо; и, очень возможно, заполучила воспаление легких. Если ты когда-нибудь сделаешь еще раз такую штуку, я выдеру тебя так, что живого места не останется. Ты меня поняла, Грейси?
Хозяин, однако, не сказал того, чего девушка опасалась больше всего, – что она уволена. Но Питт очень старался, чтобы у нее даже подозрений на этот счет не возникало.
– Да, сэр, – попыталась ответить она самым кротким образом, но ей это совершенно не удалось, – спасибо, сэр. Я никогда больше так не сделаю.
Он что-то недоверчиво пробурчал.
Зашумел чайник. Шарлотта заварила чай и поставила чайник на стол вместе с хлебом, маслом и джемом. И Джо проглотил все чуть не прежде, чем она положила это на тарелку, а Грейси села и взяла в руки кружку с дымящимся чаем, чувствуя, как жизнь вместе с теплом и болью вливается в ее окоченевшие пальцы. Она улыбнулась Джо, глядя на него через стол; он тоже смущенно улыбнулся в ответ и отвел глаза в сторону.
– Пойду поищу тебе что-нибудь сухое из одежды, – Шарлотта с сомнением взглянула на его тощую фигуру, – а ты, Грейси, сейчас же ляжешь в постель. И встанешь только тогда, когда я тебе разрешу.
– Да, мэм.
Питт присел на край стола.
– Вы теперь его арестуете, сэр? – спросила Грейси.
– Конечно.
– Утром?
– Нет, – хмуро ответил Питт и, горбясь, встал. – Сейчас, прежде чем он испугается и сбежит.
– Один ты не пойдешь! – пронзительно вскрикнула Шарлотта.
– Ну конечно, один не пойду, – заверил он, – но ты меня сегодня не жди.
Томас быстро поцеловал ее, пожелал спокойной ночи Грейси и Джо и вышел из кухни в коридор, чтобы надеть пальто, шляпу и шарф.
Прошел почти час, прежде чем Питт и двое полицейских сели в кеб и поехали на Маркхэм-сквер. Было темно и пронзительно холодно; моросил ледяной дождь, сыростью проникающий до самых костей, блестя на тротуарах и образуя туманные ореолы вокруг уличных фонарей. Мокрая листва выстлала уличные канавы, и только иногда запоздалый экипаж нарушал грохотом ночную тишину. Шторы на окнах домов были опущены, и свет пробивался только через немногие узкие щелочки.
Питт поднял тяжелый дверной молоток. Один из полицейских встал у черного хода – на всякий случай, если Харримор попытается ускользнуть.
Прошло довольно много времени, прежде чем лакей открыл дверь и подозрительно осмотрел маячившую в темноте фигуру Томаса.
– Да, сэр?
– Добрый вечер. Меня зовут Питт, я из полиции. Мне требуется переговорить с мистером Проспером Харримором.
– Извините, сэр, но мистер Харримор уже лег спать. Вам нужно прийти завтра утром.
Он сделал движение, словно хотел закрыть дверь. Но, к немалой тревоге лакея, Питт выступил вперед.
– Так не пойдет!
– Но иначе нельзя, сэр! Мистер Харримор удалился к себе в спальню.
– Со мной двое полицейских, – мрачно ответил инспектор. – Пожалуйста, не заставляйте меня устраивать здесь шумную уличную сцену.
Дверь распахнулась, и побледневший лакей пропустил Питта в дом. Томас прошел за лакеем в холл и сделал знак другому полицейскому, стоявшему на ступеньках крыльца, следовать за ним.
– Вам лучше разбудить хозяина и попросить его спуститься вниз, – тихо сказал Питт. – Констебль, идите с ним.
– Да, сэр, – не очень охотно повиновался полицейский, и расстроенный лакей стал подниматься вместе с ним по широкой деревянной лестнице.
Питт остался ждать внизу. Раз или два он осмотрел стены, задерживаясь взглядом на картинах, дверях с изящной резьбой и таких же элегантных панелях, идущих по низу, но взгляд его постоянно возвращался к лестнице. Он увидел палки и трости в стойке, подошел к ним и тщательно осмотрел каждую. Третья по счету была с серебряным набалдашником. Прошло минуты две, прежде чем Томас понял, что внутри трости сокрыт клинок. Очень медленно, с неприятным чувством, словно ему стало вдруг нехорошо, он вытащил трость из стойки. Лезвие было длинное и ухоженное, в свете лампочки блеснула сталь. Оно было чисто; только в самом верху, в том месте, где начиналась рукоятка, бурело крохотное пятнышко. По лезвию стекала кровь, когда убийца вонзил его в тело распинаемого Блейна.
Питт стоял у двери в столовую, когда сверху послышались шаги. Там, держась за опорный столб балюстрады, стоял Девлин О’Нил в халате; лицо его было крайне встревоженно.
– Что привело вас сюда в такой поздний час, инспектор? Только не говорите, что произошло еще одно убийство.
– Нет, мистер О’Нил. Но вам лучше собраться с силами и быть в состоянии оказать поддержку жене и ее бабушке.
– Что-нибудь случилось с Проспером? – Девлин стал быстро спускаться по лестнице. – Дворецкий говорил мне, что тот ушел из дома, и я не слыхал, как он вернулся. Что с ним? Несчастный случай на улице? Он очень пострадал? – О’Нил поскользнулся на последней ступеньке и полетел прямо на Питта, но удержался, ухватившись за колонну внизу лестницы.
– Сожалею, мистер О’Нил, – заговорил Питт; Девлин поразился тому, как трагически звучит его голос, смертельно побледнел и молча воззрился на инспектора. – Боюсь, но мне придется арестовать мистера Харримора, – продолжал он, – за убийство Кингсли Блейна пять лет назад на Фэрриерс-лейн.
– О боже! – Ноги О’Нила подкосились, и он сел на нижнюю ступеньку, обхватив голову руками. – Это… Это… – Наверное, он хотел сказать «невозможно», но что-то, очевидно, вспомнил или интуитивно почувствовал необходимость молчать. Слова замерли у него на кончике языка.
– Вам лучше попросить лакея подать вам стаканчик крепкого бренди и быть готовым оказать помощь миссис Харримор и своей жене, – мягко ответил Питт. – Им потребуется ваша помощь.
– Да… – Девлин закашлялся. – Да, я… но так надо, понимаю. Не будете ли вы столь любезны… нет, я сам…
Довольно неуклюже он встал и, шатаясь, пошел к шнуру от звонка. И только выпустил его из рук, как наверху показался Харримор в сопровождении полицейского. Вид у Проспера был очень странный, словно тот шел во сне. Он медленно спустился, держась за перила.
– Мистер Харримор, – начал Питт и взглянул ему в лицо. Оно было совсем как у мертвеца, только в глазах светились безумие, беспросветный мрак и боль. – Мистер Харримор, – тихо повторил Питт. Он ненавидел такие моменты даже больше, чем когда должен был сообщать людям о постигшей их невосполнимой утрате. – Я арестовываю вас за убийство Кингсли Блейна пять лет назад на Фэрриерс-лейн, а также за отравление судьи Сэмюэла Стаффорда, а также за насильственное повешение полицейского Дерека Патерсона в его собственном доме. Советую вам пойти со мной, не оказывая сопротивления, сэр. Иначе вы расстроите свою семью еще больше, нежели это необходимо. Для них и так все это будет очень тяжело.
Проспер смотрел на него, словно ничего не слыша или не понимая.
По лестнице, держась за перила, спускалась Ада. Ее лицо было пепельно-серым, длинные седые волосы заплетены в тощую косицу; шаль распахнулась на груди, и можно было видеть ночную рубашку из толстой, грубой ткани. О’Нил наконец пришел в себя и направился к лестнице.
– Вам нехорошо здесь быть, бабушка, – сказал он ласково. – Ложитесь в постель, вы простудитесь.
Ада рассеянно отмахнулась и спросила Питта дребезжащим голосом:
– Вы заберете его с собой?
– Да, мэм. У меня нет выбора.
– Но это я виновата, – сказала она. – Сделал это он, но вина моя, перед лицом Господа Бога.
Девлин хотел было взять ее под руку, но она оттолкнула его, все еще не сводя взгляда с инспектора.
– Неужели? – поразился Томас, тоже пристально глядя на ее искаженное мукой лицо. Ему не хотелось ничего узнавать, но он понял, что она все равно расскажет ему, что не сможет совладать с этим порывом. Она полстолетия терпела чувство вины и муки раскаяния, и теперь признание рвалось наружу.
– Я знала, что он ущербен, еще до родов. Понимаете, мой муж вступил в связь с еврейкой, а потом спал со мной, когда я была беременна. Я знала, что случится потом. Я старалась избавиться от плода. – Она покачала головой. – Я все перепробовала, все средства, но мне не удалось прервать беременность. Он все равно родился, и с физическим недостатком – хромоногий, как видите. Я не знала, что это он убил Кингсли, но боялась этого. История повторилась, понимаете? – Старая леди пристально вгляделась в лицо Питта, стараясь удостовериться, что он ее понял.
– Да, – тихо ответил тот, ему стало тошно, – понимаю. – Он представил себе Аду, еще молодую женщину, которую предали, – несчастную, безусловно верящую во внушенные ей с детства предрассудки, ненавидящую дитя, которое она носила, опасавшуюся скверны, которой она теперь якобы запятнана, и в одиночестве своей ванной комнаты отчаянно пытающуюся вызвать выкидыш. Томас тронул ее за руку и поддержал на ступеньке. – Но теперь вы ничем не можете ему помочь, поэтому идите ложитесь. Все кончено.
Ада обернулась и поглядела на Проспера. На мгновение их глаза встретились. Оба молчали. Затем, последовав совету Питта, сгорбившись, как древняя старуха, она стала тяжело взбираться по лестнице, будто ноги ее налились свинцом. И ни разу не оглянулась.
– Но я не убивал судью Стаффорда, – сказал Проспер, глядя прямо в лицо Питту. – Клянусь Господом Богом, я его не убивал. И Патерсона тоже убил не я. И могу это доказать.
– Но это вы убили Кингсли Блейна!
– Убил, и да поможет мне Бог. Он это заслужил. – Лицо Харримора наконец ожило, рот искривился гримасой гнева и муки. – Он изменял моей дочери с той еврейкой и причинил моим внукам то же зло, что причинил мне мой отец. – Внезапно его ненависть исчезла, и он замолчал, широко открыв глаза. – А Стаффорда я не убивал. Я не видел его несколько недель, до самой его смерти. И Патерсона не убивал. Я провел весь тот вечер в гостях у друга, и это под присягой могут подтвердить два десятка мужчин и женщин.
Мысли Питта лихорадочно роились у него в мозгу. Если Проспер не убивал Стаффорда и Патерсона, тогда кто же? И почему? Господи, помилуй, почему?
Он молча взял Харримора за руку, полицейский встал по другую сторону. Они направились к входной двери мимо Девлина О’Нила, словно пораженного громом, и все трое вышли на моросящий дождь. Питт нес в руке трость, оказавшуюся смертельным клинком.
Глава двенадцатая
Кэролайн ликовала. Все конечно! С Джошуа сняты все подозрения, и навсегда. Он ни в чем не виноват, и это доказано. Все волнения позади, все малейшие, подспудные страхи рассеяны. Облегчение было потрясающее. Ей хотелось громко смеяться, плакать, скакать и кричать во все горло.
Она посмотрела на Шарлотту – и увидела тень в глазах дочери, заметила, что ее разрывают сомнения.
– Что такое? – спросила Кэролайн, ничего не понимая. – Что еще? Ты мне о чем-то не рассказала? О чем?
– А что ты собираешься теперь делать? – спросила Шарлотта. Они стояли рядом в гостиной дома на Кейтер-стрит. Было раннее утро, и огонь в камине только разгорался.
– Я собираюсь сразу же обо всем сообщить Джошуа, – ответила удивленная Кэролайн. – И, естественно, Тамар.
– Я не имела в виду, что ты станешь делать прямо сейчас…
– Тогда о чем ты?
– Я… имею в виду Джошуа. Больше незачем о нем беспокоиться… – Шарлотта остановилась, не зная, как продолжать.
– Понятия не имею, – тихо ответила Кэролайн, – это решать ему. Я же буду жить сегодняшним днем, а что будет завтра – узнаю завтра. И Шарлотта, дорогая…
– Да?
– Это все, что я могу ответить вам на этот вопрос – и тебе, и бабушке.
– О!
– А теперь я велю заложить экипаж и поеду, чтобы рассказать обо всем Джошуа и Тамар. Если хочешь, поедем со мной.
– Да-да, конечно. Я сама расскажу Тамар. Мне это будет приятно.
– Ну разумеется. Ты просто обязана ей рассказать!
Было еще слишком рано искать кого-нибудь в театре, поэтому Шарлотта и Кэролайн отправились в Пимлико, где жили актеры. Им открыла удивленная Миранда Пассмор, но по выражению лиц обеих дам она сразу поняла, что у них хорошие новости. Миранда распахнула дверь, впустила их, взяв Кэролайн за руку, и громко позвала отца.
– Мисс Маколи у себя? – спросила Шарлотта, охваченная радостью момента, несмотря на свои особые мысли относительно Кэролайн и Джошуа.
– Да, конечно, дома. Она так рано никогда не выходит… Хотите сама ей обо всем рассказать? Вы должны, обязательно. Все в порядке, да? Вы закончили дело? – Миранда обернулась к ним. – Я даже ни о чем вас не спрашиваю, но вижу, что вы справились прекрасно. Он был невиновен, да? – Ее слова сыпались как горох. – И вы теперь можете это доказать, правда?
Шарлотта почувствовала, что невольно улыбается.
– Да. И, самое главное, вчера ночью арестовали человека, который был действительно виноват.
– О, как замечательно! – Миранда закрутилась волчком на месте от непритворной радости, а потом накинулась на Шарлотту с объятиями. – Это чудесно! Вы просто замечательная умница, вы блестяще справились с задачей. Вам бы понравился Аарон. Он немного напоминал вас – импульсивный, постоянно обуреваем идеями… Идите и обо всем расскажите Джошуа. – Последние слова относились непосредственно к Кэролайн. – Он должен быть у себя в комнате – наверное, еще завтракает. Поднимайтесь наверх.
Шарлотта оставила мать у двери Джошуа. Ей не хотелось слышать, как та радостно и возбужденно заговорит с ним, как он с облегчением улыбнется и вспомнит о мертвом друге, как ощутит чувство победы – и печаль от того, что она так ужасно, так трагически непоправимо опоздала.
Шарлотта поднялась вслед за Мирандой к двери Тамар и постучала. Мисс Маколи почти сразу открыла и сначала посмотрела на сияющее лицо Миранды, потом на Шарлотту.
– Дело кончено, – тихо сказала последняя. – Прошлой ночью арестовали Проспера Харримора, и он даже не пытался отрицать свою вину. И все теперь узнают, что Аарон был невиновен.
Тамар стояла не шелохнувшись, неотрывно глядя на Шарлотту пытливым взглядом, обшаривая ее лицо, желая совершенно убедиться в том, что ошибки нет. И когда она уверилась, из глаз ее брызнули слезы, покатились по щекам. Она подняла было руки – и снова их уронила.
Шарлотта, забыв о сдержанности, сама крепко обняла ее, и у нее тоже защипало в носу. Она совершенно забыла о Кэролайн. Если сейчас ее обнимает Джошуа и они вместе смеются, или плачут, или крепко прильнули друг к другу, это все не имеет ни малейшего значения – во всяком случае, сейчас.
Однако Томас совсем не чувствовал себя счастливым победителем. Тайна убийства на Фэрриерс-лейн была раскрыта, справедливость, исполненная горечи, восстановлена, но это не могло воскресить Аарона Годмена. Ничто не могло отменить его страдание, его смерть. То, что сделал Питт, было слабым утешением для живых. Но любое исправление несправедливости, как бы ни было оно мало и запоздало, стоит того, чтобы за него бороться, даже если это выявляет вину другого человека и губит чью-то репутацию.
Но до этого Томас ожидал, что одновременно разрешатся и загадки смерти Сэмюэла Стаффорда и полицейского Патерсона. Этого не случилось. Питт верил Харримору. А если бы и не поверил, то потребовался всего час, чтобы убедиться в его невиновности. Было точно известно, где он был и чем занимался в обоих случаях. Так что по-прежнему стоял вопрос: кто убил Стаффорда? И почему? И возможно ли, что убил некто, бывший до сих пор вне подозрения? Никто из присутствовавших в театре, по мнению Томаса, не имел для этого ни малейшего повода. Если Стаффорд действительно думал снова рассмотреть дело об убийстве на Фэрриерс-лейн, то все бывшие подозреваемые должны были желать, чтобы он оставался в живых. Никто из них не виноват. Теперь это несомненно.
Инспектор перенесся мыслью к Джунипер Стаффорд и Адольфусу Прайсу. Оба они так явно опасались, что виноват другой… И тогда что же остается? Кто убил?.. Выходит, никто из тех, кого Томас подозревал раньше. Значит, делать нечего, надо снова пройти по тому же кругу – проследить все действия Стаффорда в последний день, в очередной раз поговорить со всеми, кто видел его в тот день, перепроверить все свидетельства – вдруг он сможет вытянуть из них какую-то новую ниточку.
Томас отправился в полицейский участок – надо было сказать Драммонду, что нет никаких оснований подозревать Харримора в смерти Стаффорда или Патерсона. День был суровый, холодный; слабое бледное солнце иногда просвечивало сквозь плывущие облака дыма из бесчисленных труб, камни тротуара стали скользкими от ледяной корки. В морозном воздухе на улицах остывал свежий лошадиный навоз.
Питт не надеялся узнать ничего нового от тех, кто имел отношение к делу об убийстве на Фэрриерс-лейн. В конце концов, смерть Стаффорда, очевидно, никак не связана с тем делом, тут имеет место какое-то совпадение. О’Нилу сейчас выпал тяжкий жребий утешать жену и ее бабушку, а такую трагедию вынести по силам не каждому мужчине, и Питт решил не тревожить его, разве что возникнет крайняя необходимость. Не было у него также и желания видеться с Джошуа Филдингом или Тамар. Они, наверное, сейчас празднуют окончание кошмарной пятилетней борьбы. Ничто не вернет им мертвого брата и друга, но, по крайней мере, его имя спасено от позора и поношения. И хотя Питт никак не был повинен в этом позоре – совсем напротив, он способствовал очищению его памяти, – все же инспектор чувствовал себя в чем-то виноватым. Ведь он тоже представлял закон в их глазах, сам принадлежа к полиции, которая так бездумно и злобно опорочила честь Годмена и его родных.
Глубоко задумавшись, Томас шел по тротуару, едва не натыкаясь на прохожих. Стук колес и копыт, крики кучеров, зеленщиков, мусорщиков сливались в единое море звуков, но он не обращал на них никакого внимания. Скоро продавцы утренних газет возвестят всему Лондону новость об аресте Харримора. Питт думал о том, какой фурор это произведет в городе. Не стоит ли ему самому пойти к Ламберту и заранее оповестить его? Но как об этом сказать? Просто сообщить? Но это прозвучит как похвальба и упрек Ламберту за его трагическую ошибку. А выразить при этом соболезнование или сочувствие будет непростительной снисходительностью. И Ламберт решит, что он, Томас, пришел насладиться своей правотой… Нет. Пусть узнает о присшедшем из газет и будет переживать свое поражение в одиночку. В данном случае одиночество – лучшее лекарство.
Патерсон, бедняга, будет избавлен от позора. Ему уже не придется терпеть общественное осуждение, хотя чего оно стоит по сравнению с ощущением собственной вины?
А что почувствуют все судейские? Например, Телониус Квейд, который все время, пока шел процесс, сомневался в его справедливости, так сомневался, что даже размышлял о возможности объявить судопроизводство в данном случае не соответствующим нормам строгой законности; но в конечном счете его вера в английскую юридическую систему возобладала. В какой мере он почувствует свою ответственность за несправедливый приговор?
А члены Апелляционного суда? Что заставило, например, судью Бутройда искать утешения в одиночестве и алкоголе? Подозрение, что они слишком спешили, что их эмоции мешали трезвому решению? Или так получилось бы в любом случае? Может быть, Бутройд что-то узнал, распознал какую-то фальшь, что-то сомнительное в самом ведении следствия, но не имел мужества заявить об этом? Да, надо быть смелым человеком, чтобы – при тех настроениях, в тех обстоятельствах – заявить перед лицом суда и общества, что они вынесли приговор невиновному и что дело отнюдь не закончено. Но нельзя просто закрыть досье и положить его на полку, объявив, что все это, конечно, трагично, однако приговор справедлив и теперь можно обо всем позабыть; что суд с честью вышел из трудного положения. Тщетной была попытка все позабыть, и никому тот процесс не принес чести.
Первой, с кем встретился Питт, была Джунипер Стаффорд. Она все еще носила траур, но на этот раз платье ее было простым и неинтересным. Оно по-прежнему было сшито из дорогой ткани и имело хороший покрой, но его можно было назвать не более чем модным; оно не носило никакого отпечатка индивидуальности и уже не шелестело заманчиво и таинственно при малейшем движении, а запах духов был только запахом свежести и опрятности. Она выглядела удрученной горем вдовой, и, глядя на ее лицо, Томас ясно понял, как тяжело она переживает утрату, пожалуй, даже поражение. Однако она облачилась в траур не по Сэмюэлу Стаффорду и, возможно, даже не по любви к Адольфусу Прайсу. Питт чувствовал, что дело в ней самой, что умерли ее мечты, ее вера в счастье, что самопознание принесло горькие плоды.
– Доброе утро, инспектор Питт, – сказала она равнодушно. – У вас появились новости? Горничная рассказала мне о сообщении в утренней газете, что вы как будто арестовали другого человека за убийство Кингсли Блейна? Полагаю, что он убил также и Сэмюэла, но газета по какой-то причине не упомянула об этом. Это странное упущение.
Джунипер стояла посреди утренней комнаты. Огонь в камине бросал отблеск на ее щеки, но не мог зажечь пламенем ее глаза или сообщить живость движениям.
– Это упущение было необходимо, миссис Стаффорд, – ответил Томас.
Миссис Стаффорд даже не поинтересовалась, как Харримор, которого она считала повинным в смерти Стаффорда, все это сделал. Наверное, она подумала, что ее муж угрожал Харримору обнародованием его тайны, но, в общем, теперь это как будто ее не слишком волновало.
– Проспер Харримор не убивал мистера Стаффорда, – сказал Питт.
Она слегка нахмурилась.
– Не понимаю… Странно. Если не он, то кто же? И зачем? – Внезапно в ее взгляде промелькнула искра юмора. – Вы же пришли не потому, что думаете на меня или мистера Прайса? Вы очень эффективно доказали, что мы оба невиновны, заставив нас обвинять друг друга в убийстве моего мужа. – Она слегка отвернулась. – Не хочу сказать, что вы добились своей цели в полной мере, – это означало бы чрезмерно превознести ваши достоинства. Но, окажись мы сильнее, будь наша любовь действительно настоящей, как мы думали, вам никогда не удалось бы преуспеть. – Она пригладила рукой юбку и сняла с нее едва заметную пушинку. – Зачем вы пришли ко мне?
Питту стало жалко миссис Стаффорд. Утрата иллюзий – одна из самых страшных горестей в жизни человеческой.
– Потому что обстоятельства снова заставляют меня вернуться к тому, с чего я начал, – честно ответил Томас. – Вся полученная мною информация теперь почти бесполезна. Получается, что смерть судьи никак не связана с убийством на Фэрриерс-лейн. А если такая связь и существует, я не знаю, в чем она заключается, не знаю до сих пор. Поэтому мне не остается ничего иного, кроме как опять вернуться к подробностям, касающимся материальной стороны дела, и вновь все тщательно рассмотреть, чтобы найти возможную ошибку или нечто, прежде неверно истолкованное.
– Как это все скучно, – безразлично произнесла Джунипер. – Я, конечно, могу повторить все, что говорила прежде, если вам это может пригодиться.
И, не ожидая ответа, она монотонно опять пересказала события последнего дня жизни своего мужа: как она встретилась с ним за завтраком, как потом пришла Тамар Маколи, как он взволновался и отправился повидаться с Джошуа Филдингом и Девлином О’Нилом. Она рассказала о том, как он вернулся, о его сосредоточенном молчании, что, в общем, не было для него обычным, и о том, как они вместе пообедали.
– И он был тогда совершенно здоров? – прервал Питт ее рассказ. – Он не был сонным или необычно рассеянным? И ел, не жалуясь на боль или какие-то неприятные ощущения?
– Нет, ел он с отличным аппетитом. И еду нам накладывали с одних и тех же блюд. У себя в доме он не мог быть отравлен, мистер Питт.
– Не мог, миссис Стаффорд, я тоже пришел к такому выводу. Кроме того, мы нашли следы опиума в его фляжке. Меня просто интересует, не мог ли он пить из нее до обеда, вот и все. Я сейчас проверяю каждую мелочь…
– Да, как я вижу, вы сейчас в совершенном замешательстве, – Джунипер едва заметно улыбнулась.
Томас не мог ее осуждать, хотя эта улыбка его уязвила. Это он пролил свет на тайну, которая так искалечила ее жизнь. Если бы не его вмешательство, Джунипер могла бы и дальше смотреть на свою незаконную страсть как на великую любовь всей своей жизни. И она должна была обладать большой щедростью души, чтобы не возненавидеть Томаса за то, что он развеял ее иллюзии.
– Мне можно поговорить с его камердинером, мэм?
– Конечно. Он все еще работает у меня, хотя скоро придется его уволить. Сама я не нуждаюсь в его услугах. – Миссис Стаффорд потянула за расшитый шелками шнур от звонка и попросила слугу прийти.
Однако камердинер не смог рассказать инспектору ничего полезного. Он не видел фляжку в тот вечер, и он также не думает, что судья пил из нее до обеда. Это было не в его обычаях – пользоваться фляжкой в собственном доме, когда он всегда мог велеть налить ему стаканчик из графина, достаточно было только позвонить. Никто из других слуг тоже ничего не мог добавить к словам камердинера или к тому, что они уже говорили. Питт мог чувствовать с их стороны невысказанное презрение: прошло столько дней после всех этих опросов, а ему опять приходится рыться в старых фактах, которые он уже знает, – и до сих пор он не нашел убийцу хозяина. Питт сам к себе питал отвращение за это, он пал духом и сердился на всех и вся.
Следующим, с кем он увиделся, был судья Ливси, но Питту пришлось дожидаться аудиенции до середины дня и встретиться с ним в его конторе в перерыве между заседаниями. Ливси как будто удивился новой встрече, но не выказал никакого беспокойства и недовольства.
– Добрый день, инспектор. Чем я теперь могу быть вам полезен? Надеюсь, вы пришли не для того, чтобы доложить о новых несчастьях?
Он улыбнулся, но в лице его явно сквозила озабоченность; настроение у него было неважное, а вид – утомленный. Под глазами набухли красноватые мешки, носогубные складки стали резче и глубже, рот приобрел более жесткие очертания. Питт подумал, как тяжело судья должен был, наверное, воспринять известие об аресте Харримора. Отклонение апелляции Годмена ознаменовало пик его карьеры. Достоинство и уверенность, с которыми он завершил то дело, заработали ему почтение со стороны общества и, что было для него важнее и приятнее, уважение равных ему по положению коллег. А теперь оказывается, он совершил трагическую ошибку и исправить что-либо уже невозможно.
– Нет, – спокойно ответил Томас. – Нет, слава богу, ничего такого не случилось. Я снова пришел к вам относительно преступления, которое мне поручено расследовать. Я никак не продвинулся вперед в разрешении загадочного убийства мистера Стаффорда. Сейчас мне известно столько же, сколько и вначале.
– И я понимаю, как это вас угнетает, – заметил Ливси почти без всякого выражения. – Не понимаю, каким образом я могу быть вам полезен. Я тоже не знаю больше того, что знал с самого начала.
– Нет, сэр, я и не надеялся, что вы узнали что-то новое. Однако, возможно, я что-то упустил в прошлый раз.
– Разумеется. – Ливси тяжело опустился в кресло около горящего камина, который был зажжен задолго до того, как он вернулся из суда, и указал Питту на стул напротив; но это было не столько приглашение садиться, сколько невысказанная просьба не стоять над душой. – Пожалуйста, спрашивайте, что вам надобно. Постараюсь быть полезным. – Голос у него был усталый, и любезность обращения давалась ему нелегко.
– Спасибо, сэр.
Питт сел с неприятным осадком в сердце. Он больше не спрашивал о визите Стаффорда к Ливси и не искал доказательств того, что содержимое фляжки еще не было отравлено, когда Стаффорд ушел от него. Они истощили эту тему раньше. Томас опять начал выяснять подробности происходившего с момента их встречи в театре.
– Сначала, как вы сказали, вы заметили его в фойе?
– Правильно, но тогда я с ним не разговаривал. Было достаточно много народу и довольно шумно; смею полагать, и вы отметили это.
– Да, верно. – Питт живо припомнил возбуждение и ожидание, разговоры на повышенных тонах в фойе, постоянный шорох движения. Да, действительно, разговаривать в таком шуме было трудно. – А куда вы направились из фойе?
Ливси подумал.
– Я стал подниматься по лестнице в свою ложу, однако увидел на галерее знакомого и хотел было остановиться, чтобы поздороваться, но в эту минуту к нему подошла женщина, которая всегда казалась мне очень скучной и неинтересной особой, поэтому я отказался от этой мысли и повернул обратно; сойдя вниз, подождал пять минут, пока они уйдут, а потом сразу поднялся к себе в ложу и сидел один, ожидая, когда начнется спектакль. – Он слегка повел плечами. – Разумеется, я видел и других знакомых, занимавших свои места в соседних ложах, но не разговаривал с ними. Иначе можно привлечь к себе внимание, если говорить громко. – И с любопытством вгляделся в лицо Питта. – Неужели это для вас действительно так важно, инспектор?
– Ну, может быть, и не очень важно, но кто знает… Тем более что я не представляю, к кому еще обратиться за нужной информацией.
– Очень жаль, если вам придется оставить это дело неразрешенным, – ответил Ливси, скривив губы в странной, невеселой усмешке. – Полагаю, вам этого очень не хочется?
– Ну, до этого еще далеко.
Ливси не позволил себе недоверие, он лишь с недоумением приподнял брови.
– Разумеется, я расскажу вам все, что смогу припомнить о том вечере, если это, как вы полагаете, может пригодиться вам в ходе расследования. Однако вы же сами были не очень далеко от него, всего за одну-две ложи, и, несомненно, видели все то же самое, что и я.
– Я имею в виду не то, что случилось в ложе, – быстро ответил Питт и по выражению лица Ливси понял, что промахнулся. – Извините, я неверно выразился, – добавил он, прежде чем судья успел его поправить. – Я не вижу во всем происшедшем никакой связи, а если вы ее заметили, то прошу вас поделиться со мной своими соображениями.
Ливси пожал плечами. На этот раз лицо приняло более насмешливое выражение – то была сдержанная, очень тонкая, но очень явственная насмешка.
– Ну конечно. Я, безусловно, не весь вечер наблюдал за ложей Стаффорда и следил за тем, что в ней происходит. Так, бросал взгляд время от времени. Сэмюэл сидел ближе к двери, немного позади миссис Стаффорд. У меня сложилось впечатление, что он пришел на спектакль скорее ради нее. Казалось, его больше интересуют собственные размышления, чем то, что происходит на сцене. И неудивительно. Я много раз вывозил жену в театр, и именно для ее удовольствия.
– Он не показался вам больным?
– Да нет, всего лишь задумчивым. По крайней мере, так мне показалось. Задним умом я теперь понимаю, что он, возможно, чувствовал себя не очень хорошо. – Ливси внимательно следил за Питтом, его голубые глаза по-прежнему были насмешливы. – Вы, очевидно, хотите допытаться, не видел ли я, как он пил из фляжки? Возможно, это действительно было, но поклясться я не могу. Мне кажется, он ничего не доставал из кармана, но ведь я не слишком пристально и постоянно следил за ним, время от времени обращая внимание и на сцену. Извините.
– Это неважно. Он, несомненно, пил из нее, – напрямик заявил Питт.
– Да, трагедия именно в том, что он к ней прикладывался, – нахмурился Ливси. – Скажите, Питт, что именно вы надеетесь выяснить? Если бы я знал, что у вас на уме, то сумел бы лучше ответить вам. Признаюсь, не понимаю, чем я могу вам помочь. Нам известно, что во фляжке был яд и что мистер Стаффорд умер от отравления. И вам было бы очень кстати, если бы кто-нибудь действительно видел, как он пьет из нее. Но это несомненно. Он из нее пил.
– Да, конечно, – сдался Томас, – согласен. Не знаю, зачем мне это… Я просто стараюсь найти какую-то мелочь, которая пролила бы на случившееся дополнительный свет.
– Ну, я больше ничего не могу прибавить к вашим наблюдениям. Я видел, как Сэмюэл постепенно погружается в состояние, которое я тогда принял за сон. Но в этом нет ничего необычного. Он, разумеется, не первый, кого в театре клонит в сон. – Усмешка снова скользнула по его лицу. – И только когда я заметил, что миссис Стаффорд взволнована, до меня дошло, что он заболел. И тогда, разумеется, я встал и прошел в их ложу, узнать, не могу ли чем-нибудь помочь. Все остальное вам известно.
– Не вполне. Был еще антракт. Вы выходили из своей ложи?
– Да. Я вышел, чтобы немного подкрепиться и размяться. Тело иногда немеет от неподвижности.
– А вы видели, как Стаффорд вышел из своей ложи?
– Нет, извините, не заметил.
– Вы пошли в курительную?
– Да, но очень ненадолго. Я вошел и немедленно вышел. По правде говоря, там была пара человек, с которыми я предпочел бы не встречаться. Они всегда беседуют на разные судебные темы, а я хотел в тот вечер насладиться отсутствием служебных разговоров.
– И вы не видели Стаффорда до самого возвращения к себе в ложу?
– Нет. Очень жаль, но это так. – Ливси встал, опираясь на ручки кресла. – И опасаюсь, что мне больше нечего сообщить, инспектор. Я не могу подсказать вам ничего полезного для дальнейшего расследования, кроме как поглубже копнуть семейную жизнь бедняги Стаффорда.
– Благодарю, что уделили мне столько времени. – Питт тоже поднялся. – Вы проявили большое терпение.
– Сожалею, что ничем не сумел помочь. – Ливси протянул руку и Питт пожал ее. Это была необычайная любезность со стороны судьи по отношению к полицейскому.
После ленча Томас направился в контору к Адольфусу Прайсу. Ему пришлось прождать почти полчаса, прежде чем тот освободился и смог его принять. Кабинет был все тот же – удобный, со вкусом обставленный и носящий отпечаток индивидуальности хозяина. Прайс был так же элегантен, как и прежде, но лицо его выглядело усталым, а движения – машинальными. Адвокат был слишком разочарован в себе: его мечты оказались пустым миражом, а чувства – бесчестными. И понимание этого уязвляло.
– Да, Питт? Чем могу быть полезен? – вежливо осведомился он. – Пожалуйста, садитесь. – И указал на кресло напротив. – У меня создалось отчетливое ощущение, что я рассказал вам совершенно все, что мне известно, но если у вас есть еще вопросы, то милости прошу. – Он холодно улыбнулся. – И поздравляю вас с раскрытием тайны Фэрриерс-лейн. Прекрасная работа, хотя вы покрыли всех нас позором. Бедный Годмен был невиновен, и этот факт мне будет нелегко пережить.
– Полагаю, другим тоже, – угрюмо ответил Питт. – Но вам лично не в чем себя упрекнуть, вы официально выступали общественным обвинителем. Вы были явным, неприкрытым врагом. Другие же выступали якобы в его защиту или считались беспристрастными.
– Вы слишком жестоко их осуждаете, Питт; все тогда считали его преступником. Доказательства вины были исчерпывающими.
– Но почему же? – с вызовом спросил Томас, глядя ему в глаза.
Прайс заморгал.
– Не понимаю, что вы хотите сказать этим «но почему же»?
– Почему доказательства казались исчерпывающими? И что важнее – доказательства или уверенность в своей правоте? Я начинаю думать, что в данном случае на первом месте оказалась уверенность.
Прайс устало сел.
– Возможно, и так, но мы все тогда были в ужасе. Вы же знаете, что толпа становится жестоким животным, когда затрагивают ее глубинные верования и предрассудки и пробуждают подавляемые страхи. В таких случаях напрасно пытаться урезонить ее, объяснять, что вы способны сделать, а чего никак не можете, и пытаться объяснить, как вам трудно. Толпа хочет только результаты, и ей безразлично, каким образом вы их обеспечите; они не хотят знать ни подробностей, ни цены, которую придется заплатить за эти результаты. Но вы же полицейский, вы сами должны все это знать. Думаю, что и вас не оставят без осуждения и порицания из-за дела бедняги Стаффорда.
– Да, – печально согласился Питт, – хотя по этому поводу и не наблюдается широкого общественного возмущения. Это преступление не такое кричащее. В нем нет элемента абсурда и ужаса. Полагаю, что люди относятся к судье как к существу, отличному от них, и поэтому у них не возникает такого неотступного и личного страха. В нем не повинно какое-то безумное чудовище, прячущееся в ночи и распинающее прохожих. Хотя премьер-министр уже снизошел до того, чтобы раз или два упрекнуть нас за промедление…
Адвокат скрестил ноги, почувствовав себя свободнее. По глазам его было видно, что разговор даже слегка забавляет его.
– Но вы как будто недовольны, Питт? Не могу ли я чем-нибудь помочь? Но чем? Я действительно понятия не имею, кто и почему убил Стаффорда.
– Я тоже, – кисло ответил Питт, – и по новой изучаю все те же факты. Вы встречались с ним в тот вечер во время антракта?
Прайс, казалось, слегка удивился, словно ожидал более каверзного вопроса.
– Да. Он был в курительной комнате и разговаривал с разными людьми… не могу припомнить, с кем именно. Я и сам с ним поговорил, но очень коротко. О чем-то неважном – о погоде, о последнем неудачном матче в крикет… Я не видел, чтобы он пил из фляжки, если вы это надеетесь выяснить.
– А у него не было в руке стакана?
Глаза Праса широко открылись.
– Подождите, дайте подумать. Да, действительно, был. Странно, не правда ли? Зачем человеку стакан, если он пьет прямо из фляжки?
– Значит, стакан был для кого-то другого, – заметил раздумчиво Питт. – Сам-то он пил из фляжки, ведь в его теле был обнаружен яд, содержавшийся там. Это, пожалуй, единственный неопровержимый факт.
– Но тех, кто мог влить яд во фляжку, могло быть совсем немного, просто физически, – логично заметил Прайс. – И можно сократить их количество еще больше, правда? Но это должен быть человек, который мог иметь доступ к фляжке после того, как судья покинул Ливси, потому что он угощал виски и Ливси, и его приятеля – и оба находятся в отличном здравии. Однако яд был во фляжке, когда Стаффорд пил из нее позже – очевидно, в театре. Значит, кто-то добавил туда яд в антракте.
– А кто еще был в курительной?
– Да человек двести.
– Но не все же они разговаривали со Стаффордом. Вы не можете припомнить имена тех, кто подходил к нему достаточно близко, чтобы поговорить?
Прайс на минуту-две замолчал, сосредоточенно смотря на Питта.
– Помню, одним из них был достопочтенный Джеральд Томсон, – сказал он наконец. – У него громовой голос, стекло может треснуть, и когда он говорит, его невозможно остановить. Он подходил к Стаффорду довольно близко, стоял с ним лицом к лицу. И Моулсворт, чиновник из казначейства, тоже был там. Вы знакомы с ним? Нет, полагаю, не знакомы. Такой большой, лысый и с седой бородой.
– Это все, кого вы можете припомнить?
– Но там было так тесно, – возразил Прайс. – Все еле протискивались, пихались локтями, старались не расплескать свои бокалы и говорили одновременно. Вообще там было небольшое столпотворение, потому что в курительной присутствовал и мистер Оскар Уайльд [12]и по крайней мере с десяток джентльменов хотели с ним поговорить. Не понимаю почему. Он стоял довольно близко к Стаффорду, – Прайс довольно ехидно улыбнулся, – вы всегда можете допросить и его тоже.
– А он мог что-либо заметить?
– Не знаю, – удивился Прайс. – Вряд ли. Он был слишком занят тем, что развлекал окружающих.
– Спасибо. – Томас встал. Прайс, по крайней мере, подсказал, по какому пути двигаться дальше. Кроме этого, не было никакого плана – нечего расследовать, некого расспрашивать.
– Не стоит, – ответил Прайс. – Полагаю, что мы снова вскоре увидимся. То, что я рассказал, вряд ли вам пригодится. Даже если кто и видел, как Стаффорд пил из фляжки, это вам ничего не даст – только если кто-то видел, как некто добавляет что-то во фляжку. Однако это практически невероятно.
Питт ничего на это не ответил и ушел.
На улице было очень холодно, с реки дул колючий ветер, пробиравший до костей. Томас быстро шел по тротуару, опустив голову, плотно закутав шею шарфом, подняв воротник, пока не достиг перекрестка, где мог нанять кеб до Боу-стрит. Прежде чем опросить тех джентльменов, которые были тогда в курительной, сначала надо узнать их адреса.
Было неприятно убедиться, что достопочтенный Джеральд Томсон в точности соответствует описанию Прайса. У него действительно был необыкновенно звучный голос и оглушительный смех, который Питт услышал еще до того, как увидел его обладателя.
Тот принял Питта в холле своего клуба на Пэлл-Мэлл, очевидно предпочитая, чтобы его не видели в обществе такого сомнительного субъекта где-нибудь в более респектабельном месте. Здесь же можно было притвориться, что он дает Питту какое-то поручение и что это вовсе не персональный визит.
– Хвала небу, что у вас хватило сообразительности прийти в партикулярном платье, – сухо заметил достопочтенный Томсон. – Итак, чем могу быть полезен? Только поскорее, будьте добры, любезный.
Питт проглотил резкий ответ, который обязательно сорвался бы у него с языка, не будь он на службе, и сказал без обиняков:
– Полагаю, вы присутствовали в курительной комнате в театре, сэр, в тот вечер, когда умер судья Стаффорд?
– Как и пара сотен других людей, – согласился Томсон.
– Да, это так. Вы видели судью, сэр?
– Да, однако я понятия не имею, кто подлил яд ему во фляжку. Если бы я знал, то давно уже сообщил бы, это мой моральный долг.
– Ну разумеется. Вы не помните, когда разговаривали с ним, в руке у него был стакан с виски?
Достопочтенный Джеральд Томсон скорчил физиономию, а затем вдруг вытаращил глаза.
– Да, как будто был, но, пока мы стояли вместе, он выпил его. Видел, как он поднял руку, чтобы дать знать официанту и получить второй.
– И вы видели, как официант подал ему второй?
– Нет, как я теперь думаю, он вообще не подошел. Знаете, в подобных местах ужасная теснотища. Если хоть что-то получишь, то можно считать, что тебе повезло. Поэтому он, наверное, и глотнул из фляжки, бедняга. Однако собственными глазами я этого не видел, так что ничем не могу помочь.
– Спасибо, сэр.
Питт задал еще несколько вопросов относительно других присутствующих, кто мог бы что-нибудь видеть, но ничего нового не узнал. Он поблагодарил достопочтенного мистера Томсона и ушел.
Ученый муж Моулсворт сообщил инспектору еще меньше полезного. Он, конечно, видел Стаффорда – как раз тогда, когда тот тщетно пытался привлечь внимание официанта. Нет, он не заметил, чтобы Стаффорд пил из собственной фляжки или был занят продолжительным разговором с кем-то. Мистер Моулсворт говорил быстро, отрывисто, деловито и, очевидно, очень спешил.
Мистер Оскар Фингал О’Флаэрти Уиллс Уайльд вел себя совершенно иначе. Питту потребовалось довольно много времени, чтобы отыскать его, но в конечном счете он отловил Уайльда за его письменным столом. Писатель принял инспектора с явным интересом и подчеркнуто любезно, встав, чтобы приветствовать, и взмахом руки пригласив садиться. В кабинете было полно книг и рукописей.
– Извините за вторжение, сэр, – искренне извинился Питт, – но я просто голову потерял, иначе не позволил бы себе такую навязчивость.
– Но именно тогда, когда мы теряем голову, у нас и проявляются мужество и воображение, свойственные отчаянию и невозможные в более заурядных обстоятельствах, и это заставляет нас действовать, – немедленно ответил Уайльд. – Но что заставляет вас испытывать столь сильные эмоции, мистер Питт? И что я могу сделать, кроме как выразить сочувствие, которое, что бы оно ни значило для вас, мне ничего не стоит?
– Я расследую убийство судьи Стаффорда.
– Бог мой! – Уайльд скорчил гримасу. – Какой отвратительный вкус, как это невежливо и нелюбезно – убивать человека в его театральной ложе… Ну как нам, бедным драматургам, соперничать с подобными сюжетами? Мистер Питт, я еще и критик, но даже самые мои горькие и ядовитые замечания не заходят так далеко. Я могу написать, что произведение бездарно, но лишь выскажу свои замечания и предоставлю зрителю самому сделать выбор, идти смотреть пьесу или нет. А убийство – это настоящий саботаж, и совершенно непростительный.
Питт знал, что услышит удивительные и необычные вещи; тем не менее взгляд Уайльда на убийство огорчил его и сбил с толку. Известный писатель, по-видимому, был к этому равнодушен, однако, вглядевшись в его длинное лицо с приспущенными веками и полногубым ртом, Томас не увидел в них признаков жестокости натуры; он проявлял скорее неведение, чем равнодушие.
– Кажется, вы были в курительной комнате во время первого антракта? – осведомился Питт.
– Определенно. Очень приятное место. Столько претензий, способов мышления и образов поведения; все хотят показаться теми, кем желают быть, а не теми, кем являются. Вы любите наблюдать за людьми, инспектор?
– Это входит в мои обязанности, – ответил Питт, слегка улыбнувшись.
– И в мои, – быстро согласился Уайльд. – Но, разумеется, по другим причинам. Что из моих наблюдений могло бы вас заинтересовать? Нет, я не видел, кто плеснул яд во фляжку этого несчастного. – Глаза его открылись шире. – Но, понимаете, я ведь читаю газеты, а не только критические статьи, хотя искусство гораздо интереснее, чем жизнь. В преступлении так редко наблюдается хоть малейший элемент чего-то смешного, вы не находите? Я имею в виду настоящее преступление. Ненавижу все обыкновенное и вульгарное. Если кто-то собирается сделать что-то безвкусное, ему надо делать это, по крайней мере, с блеском.
– Но вы видели судью?
– Да, видел, – подтвердил Уайльд, неотрывно глядя на Питта. Очевидно, тот казался ему человеком интересным и приятным; и, несмотря на то что писатель все время позировал, Питту он тоже понравился.
– Вы видели, как он пил из фляжки?
– Вы знаете, это смешно, но нет. Однако я видел, как он вручил фляжку мистеру Ричарду Гибсону. Я узнал судью в лицо, только разглядев фотографию в некрологе, но с Гибсоном встречался и прежде. Стаффорд вынул фляжку из кармана и подал Гибсону, который поблагодарил и сделал добрый глоток, а затем вернул. – Уайльд удивленно поднял брови и с любопытством взглянул на Питта. – Полагаю, это означает, что кто-то отравил содержимое фляжки после того эпизода? Не завидую вам. Не знал, что опиум может убить так быстро. Но уверяю, все было именно так, как я вам рассказал. – Он немного откинулся назад и сосредоточился на воспоминаниях. – Мысленно я вижу все очень ясно. Вот Стаффорд подает фляжку Гибсону, тот делает глоток и снова вручает ее владельцу. Сам Стаффорд из фляжки тогда не пил. Он в это время курил большую сигару. Тут прозвенел звонок ко второму акту; Стаффорд вынул сигару изо рта, вытряхнул уголек и сунул ее в карман пиджака. – Он нахмурился.
– Вы хотите сказать, что он положил ее в портсигар?
– Да нет, не хочу. Именно в карман. Отвратительная привычка. Очень неприятная. Но он не пил из фляжки, это я утверждаю определенно. И Гибсон по сей день жив и отменно здоров. Я видел его позавчера. Примечательное обстоятельство. Как бы вы это объяснили?
Питт задумался над тем же самым. В мозгу у него крутились обрывки мыслей.
– А вы вполне во всем этом уверены?
– Ну разумеется, – удивленно вскинул брови Уайльд. – Зачем бы мне это выдумывать? Интересно только то, что верно.
Томас встал. Уайльд глядел на него с живым интересом.
– А вы сейчас о чем-то подумали. Я вижу это по вашим глазам. О чем? А, я дал вам необходимый ключ к разгадке тайны! Вам теперь все открылось – вы поняли, что за человек убийца, и, что не так интересно, но, очевидно, важнее, вы теперь знаете его в лицо.
– Возможно, – невольно улыбнулся Питт. – Я определенно понимаю теперь, что послужило орудием убийства.
– Опиум во фляжке с виски.
– А может быть, и нет. Благодарю вас, мистер Уайльд. Вы очень, очень помогли мне. А сейчас, извините, мне надо приняться за одно в высшей степени неприятное дело.
– Мне теперь придется изучать газеты, чтобы узнать все подробности? – жалобно спросил Уайльд.
– Да, извините. Всего хорошего, сэр.
– Нет. Всего интересного, удручающего, неожиданного, иногда возбуждающего, – ответил Уайльд, – но не хорошего. Это слово такое рабское и расхожее. Неужели у вас совсем нет воображения, старина?
Томас снова улыбнулся с порога.
– Оно занято другими проблемами.
Уайльд очень любезно выпроводил его взмахом руки и снова занялся работой.
Питт взял кеб и сразу же поехал в дом Стаффорда, где попросил возможности увидеться с миссис Стаффорд.
– Я ожидала, что вы приедете снова, – заметила она колко, – но, признаюсь, не ожидала, что так скоро. Я понимаю, что вы находитесь в недоумении, но я уже сообщила вам все, что могла. Больше я, право, ничем не в состоянии помочь.
– Нет, можете, миссис Стаффорд, – торопливо ответил Томас. – Могу ли я снова поговорить с камердинером мистера Стаффорда? Мне нужно знать, что он сделал с его одеждой.
Ее лицо осунулось.
– Разумеется, вы можете увидеться с камердинером. Одежда моего мужа все еще находится в доме. У меня не хватило решимости расстаться с ней. Пока. Конечно, рано или поздно придется, но я еще не в состоянии с этим справиться. – Она позвонила, глядя на Питта. – Можно спросить, что вы надеетесь узнать таким образом?
– Я предпочел бы об этом умолчать, пока не буду в полной уверенности. Сначала я хотел бы переговорить с камердинером.
– Как вам угодно.
В тоне ее голоса и в лице не выражалось особенного интереса. Вся энергия жизни, что прежде била в ней ключом, теперь, казалось, совсем иссякла. Джунипер желала только одного: поскорее со всем покончить, и подробности теперь не имели значения. Когда вошел дворецкий, она попросила провести Питта в гардеробную хозяина, а камердинеру – ответить на все вопросы.
Камердинер вошел, несколько запыхавшись, и озадаченно уставился на Питта. Это был черноволосый, очень полный и некрасивый мужчина. Он не скрывал своего удивления, что снова понадобился полиции.
– Да, сэр, чем я могу вам служить?
– Мне нужен сюртук мистера Стаффорда, в котором тот был в день смерти. Где он сейчас?
Человек был явно неприятно удивлен.
– Но это был выходной сюртук мистера Стаффорда, сэр! Сшит всего несколько месяцев назад. Шерсть самого лучшего качества.
– Да, я не сомневаюсь, но где он сейчас?
– Он в нем похоронен, сэр. А как же иначе?
Питт выругался про себя от отчаяния.
Камердинер пристально на него воззрился. Он был слишком хорошо вымуштрован, чтобы позволить кому бы то ни было из джентльменов нарушить его выдержку. Конечно, если бы это был другой слуга, тогда совсем другое дело.
– А где его портсигар?
– В комоде, сэр, как и должно быть. Я, естественно, достал все, что было в карманах.
– А можно взглянуть на портсигар?
Камердинер удивился.
– Да, сэр. Конечно, можно. – Он говорил очень вежливо, но был совершенно уверен, что Питт крайне странный человек.
Камердинер подошел к комоду, открыл верхний ящик, вынул серебряный портсигар и вручил его Томасу. Дрожащими пальцами инспектор открыл его. Портсигар был пуст.
Очень глупо, но Питт был горько разочарован.
– Что вы отсюда вынимали? – спросил он глухо.
– Ничего, сэр, – человек был явно в смятении.
– Вы не брали отсюда дорогих сигар, чтобы выкурить самому? – настаивал Питт, хотя в другом случае неодобрительно отнесся бы к подобному методу дознания. – Даже окурка?
– Нет, сэр. В нем не было ничего. Клянусь богом, он был вот в таком виде, как сейчас. Пустой.
– Но судья выкурил в театре половину сигары и положил вторую половину в карман сюртука. Что с ней случилось?
– А, это! – На лице камердинера отразилось облегчение. – Я ее выбросил, сэр. Нельзя же хоронить несчастного человека с сигарой в кармане. Да и штука эта была в плохом виде.
– В плохом виде? Раскрошилась?
– Да, сэр.
– Значит, костюм все еще на мистере Стаффорде?
– Да, сэр. – Тревога камердинера относительно Питта все возрастала.
– Спасибо. Это всё.
Не ожидая ответа, Томас спустился по лестнице, попросил лакея поблагодарить миссис Стаффорд и ушел.
– Вы… хотите?.. – не веря своим ушам, спросил Драммонд, потемнев лицом.
– Я хочу эксгумировать тело Сэмюэла Стаффорда, – повторил Питт как можно спокойнее, но его голос слегка дрогнул. – Я должен на это пойти.
– Ради Господа Бога – зачем? Вы же знаете, отчего он умер! – Драммонд был в ужасе. Он перегнулся через стол и с отвращением уставился на Питта. – Чему это может послужить? Это вызовет всеобщее расстройство! У нас на руках и так достаточно общественного возбуждения и недовольства в связи с этим убийством. Не ухудшайте положения, Питт.
– Но это единственный оставшийся мне шанс разрешить загадку.
– Шанс? – в отчаянии спросил Драммонд. – Этого недостаточно для того, чтобы обратиться к правительству за разрешением опять выкопать тело. Объясните мне подробно и точно, что вы узнали.
Все еще стоя у его стола, словно провинившийся школьник, Питт объяснил.
– На сигаре? – удивился Драммонд. – Так же, как во фляжке? Но зачем? Ведь это нелепо!
– Не так уж нелепо, сэр, – объяснил терпеливо Питт. – Сигара могла тоже подействовать, если бы яда в виски оказалось недостаточно. Вот почему виски не подействовал на другого, кто также пил из нее.
– Но мы же нашли опиум именно во фляжке, вы не забыли? – заметил Драммонд с легким сарказмом; он был слишком обеспокоен, чтобы язвить. – И все это со слов Оскара Уайльда, и никого другого? Я знаю, вы в отчаянии, Питт, но, мне кажется, вы слишком закусили удила. То, что вы говорите, бессмысленно. Не думаю, что смогу достать вам разрешение на эксгумацию, даже если бы и захотел.
– Но если опиум был в сигаре, а не только во фляжке, это все меняет коренным образом, – отчаянно возражал Питт, – и тут может быть только один вывод…
– Нет, Питт, он был во фляжке. Его обнаружила там медицинская экспертиза. Это факт. И как бы то ни было, остаток сигары выбросили, вы же сами сказали.
– Да, но если остаток сигары несколько часов пролежал у него в кармане и раскрошился, как говорит камердинер, значит, там вполне можно обнаружить следы опиума.
Сомнение затуманило взгляд Драммонда.
– Это единственное объяснение загадки убийства, которым мы теперь располагаем, – сказал Томас. – Больше расследовать нечего. Вы способны закрыть дело нерешенным? Кто-то убил судью Стаффорда, а мы…
Драммонд глубоко вздохнул и тихо прибавил:
– И беднягу Патерсона. И я очень это переживаю. Не знаю, даст ли мне разрешение Министерство внутренних дел, однако я попытаюсь достать его. Но лучше бы нам не ошибиться в данном случае.
Питт поблагодарил шефа. Он не был достаточно уверен в своей правоте, чтобы убеждать в ней и Драммонда. Теперь им придется ждать результатов прошения, а до тех пор делать нечего. Но одно Томас понимал совершенно отчетливо. Разрешение загадки смерти Патерсона не связано с нахождением опиума в кармане сюртука судьи. Гибель сержанта все еще остается загадкой. Одно несомненно: Харримор его не убивал.
Не придя ни к какому определенному выводу на этот счет, Питт вышел на Боу-стрит и осмотрелся, нет ли поблизости свободного кеба. Остановив экипаж, он дал адрес патерсоновской квартиры в Бэтерси.
Кеб швыряло из стороны в сторону, и бока инспектора испытывали на себе все неудобства городской езды. Но вот они приехали на место. Томас вышел, расплатился и направился к двери. Ему открыла та же самая бледная, угрюмая женщина. Как только она узнала Питта, лицо ее еще больше омрачилось, и она хотела было захлопнуть дверь. Но он просунул ногу между косяком и дверью.
– Я хотел бы снова осмотреть комнаты сержанта Патерсона, если позволите.
– Комнаты эти не сержанта Патерсона, – ответила она холодно, – а мои, и я сдала их мистеру Гоббсу и не подумаю его беспокоить, пусть сюда хоть вся полиция заявится.
– Почему вы хотите помешать мне выяснить, кто убил мистера Патерсона? – спросил Томас почти сурово. – Для вас же будет очень неприятно, если я установлю круглосуточный полицейский надзор за домом и снова стану опрашивать всех ваших жильцов. Просто удивляюсь, что вы не понимаете, насколько будет лучше для вас позволить мне войти и осмотреть всего одну комнату.
– Ладно, – рыкнула она. – Чертовы полицейские! Что же с вами поделать? Подонки!
Питт сделал вид, что не обращает внимания на брань, поднялся по лестнице, подошел к двери комнат, которые теперь занимал мистер Гоббс, и громко постучал.
Несколько минут все было тихо, потом издали послышалось шарканье, и дверь отворилась на шесть дюймов. В щели появилось бледное лицо с седыми бакенбардами. Голубые глаза тревожно взглянули вверх, потому что человек был примерно на фут ниже Томаса.
– Мистер Гоббс? – осведомился Питт.
– Д-да… д-да, это я. Чем могу служить, сэр?
– Я инспектор Питт из полиции Ее Величества…
– О господи боже мой! – раззволновался Гоббс. – Уверяю вас, мне ничего не известно ни о каком преступлении, сэр, совершенно не известно. Я очень, конечно, сожалею, но ничем не могу вам помочь.
– Совсем напротив, мистер Гоббс. Вы можете впустить меня в занимаемое вами помещение, которое, как вы, несомненно, знаете, послужило сценой недавно разыгравшейся трагедии.
– Нет, сэр, вы ошибаетесь, – ответил, довольно сильно волнуясь, Гоббс, – вам надо постучать в соседнюю дверь.
– Нет, мистер Гоббс, это произошло здесь.
– Но вы ошибаетесь… и хозяйка меня заверила…
– Возможно. Но я был среди тех, кто обнаружил тело. И помню все очень ясно. – Ему жаль стало этого очень расстроившегося человека. – По всей вероятности, вам солгали, чтобы заставить снять эти комнаты. Но как бы то ни было, они очень приятны. Я не хотел вас расстроить.
– Но, сэр, убийство! Это же ужасно! – Гоббс стал переминаться с ноги на ногу.
– Можно войти?
– Ладно, входите. Полагаю, это ваш долг, а я законопослушный гражданин, сэр, и не имею права чинить вам препятствия.
– Почему же, имеете. Просто тогда я вернусь – но уже с ордером на обыск.
– Нет! Зачем же… Пожалуйста. – И он так распахнул дверь, что она стукнулась о стену.
В мозгу Питта ярко вспыхнуло воспоминание о первом визите сюда; он почувствовал, как защемило сердце, и опять явственно увидел бледного Ливси, сидящего на стуле, и тело молодого Патерсона, все еще висящее в спальне.
– Спасибо, мистер Гоббс. Если не возражаете, я загляну в спальню.
– Спальню! О, силы небесные! В спальню! – Гоббс поднес руку к лицу. – Господи помилуй, вы хотите сказать, что это произошло в спальне? Мне надо будет передвинуть кровать. Я больше не смогу там спать.
– Ну а почему бы и нет? Комната никак не изменилась с прошлой ночи, когда вы ничего об этом не знали, – ответил Питт с меньшим сочувствием, чем мог бы, если бы его не беспокоило множество других проблем.
– О, мой дорогой сэр, вы издеваетесь надо мной, – Гоббс, волнуясь, прошел за инспектором к спальне, – или же просто-напросто бесчувственны.
Но Томасу было не до мистера Гоббса. Он знал, что не очень-то любезен, но дело было превыше всего. Новые предположения мучительно пробивали себе путь в его голове. Питт осмотрел комнату. Она не изменилась с первого его посещения, если не считать, что, разумеется, здесь больше не было страшного трупа и люстра снова висела на своем месте. В остальном все выглядело так, словно здесь ни к чему не притрагивались.
– Что вы ищете? – потребовал Гоббс, стоя на пороге. – В чем дело? Что, вы думаете, могло здесь остаться?
Питт неподвижно стоял посередине комнаты; затем он начал медленно поворачиваться, глядя на кровать и окно.
– Я не уверен, – ответил он рассеянно, – не знаю, пока точно не увижу, как все было, и может…
Гоббс судорожно выдохнул и замолчал.
Томас повернулся к комоду. Тот стоял как будто не совсем на месте; однако Питт был совершенно уверен, что точно так же он стоял и в первый раз.
– Вы двигали комод? – Он оглянулся на Гоббса.
– Комод? – поразился Гоббс. – Нет, сэр. Определенно нет. Я вообще здесь ничего не трогал. Да и зачем?
Питт подошел к комоду. Картина на стене висела слишком близко к нему. Но картину тоже никто не перевешивал. Томас приподнял ее, чтобы убедиться в этом. На обоях не было никакого свежего отверстия. Он провел по обоям рукой, проверяя лишний раз.
– Что вы ищете, сэр? – снова спросил Гоббс, и голос его от страха звучал теперь выше и пронзительнее.
Томас нагнулся и тщательным образом осмотрел половицы. Наконец он увидел небольшое углубление примерно в шести дюймах от передней ножки комода. Неподалеку виднелось и второе углубление – тоже в шести дюймах, но от задней. Вот где обычно стоял комод! Он был передвинут. И когда Питт поднял скатерть и взглянул на полированную поверхность, то в глаза ему бросилась царапина, словно кто-то стоял на комоде в тяжелых сапогах и немного поскользнулся, потеряв опору. И ему стало не по себе.
– Вы уверены, что не передвигали комод? – Повернувшись, Томас вгляделся в глаза Гоббса.
– Я уже сказал вам, сэр, что не двигал, – яростно отвечал Гоббс. – Он стоит точно там, где стоял, когда я сюда вселился. Вы хотите, чтобы я присягнул? Извольте.
Питт поднялся.
– Нет, спасибо; думаю, это необязательно. Но если такая необходимость возникнет, я снова приду к вам и попрошу в этом поклясться.
– Зачем? Что это значит? – Гоббс побледнел от волнения и страха.
– Это значит, что полицейский Патерсон подвинул этот предмет обстановки, чтобы влезть на него и снять люстру, потом захлестнуть на крючке петлю и прыгнуть вниз.
– То есть так заставил его сделать убийца? – захлебнулся от волнения Гоббс.
– Нет, мистер Гоббс, – поправил его Питт. – Я хочу сказать, что Патерсон сам убил себя, когда понял, что он сделал с Аароном Годменом. Когда он понял, что позволил своему ужасу и страху ослепить себя, что пренебрег честью и справедливостью. Патерсон не только сделал ложный вывод: он пришел к нему бесчестными средствами. Он не слушал, что говорит продавщица цветов; он сам решил, что и как произошло, и заставил ее принять его версию. Он так был уверен в своей правоте, что оказал давление на судопроизводство и его конечный результат, – и ошибся.
– Перестаньте! – Гоббс сильно разволновался. – Я ничего не хочу слышать. Это все просто ужасно! Я знаю, о чем вы говорите, – об убийстве на Фэрриерс-лейн. Я помню, что тогда повесили Годмена. Но если то, что вы говорите, правда, тогда, значит, никому из нас не на что надеяться? Но этого не может быть! Годмена судили и признали виновным, все судьи были единогласны. Вы наверняка ошибаетесь… – В ярости и ужасе он стал ломать руки. – Они ведь еще не осудили Харримора и не осудят, вот увидите. Британская юстиция лучшая в мире. Я уверен в этом, сколько бы вы это ни отрицали.
– Мне ничего не известно о том, что она лучшая, – ровным тоном ответил Питт, – и это главное.
– Как вы можете такое говорить? – Гоббс был вне себя; он побледнел, только на щеках горели лихорадочным огнем два пятна. – Это чудовищно! Что же тогда главное на земле?
– Не имеет значения, судопроизводство какой страны справедливее, – объяснил Томас, стараясь сохранять терпение. – Главное, что в этом деле мы проявили несправедливость. Вам это, может быть, очень неприятно сознавать, и другим – тоже, но ведь этим ничего не изменишь. И выбор, стоящий перед нами, таков: или мы по-прежнему будем лгать и попытаемся скрыть от общества, что несправедливо осудили Годмена и проявили равнодушие к его смерти, либо обнародуем этот факт и сделаем все, что в наших силах, только бы не допустить повторения подобной трагедии. Вы бы что предпочли, мистер Гоббс?
– Я… я… э… – Тот смотрел на Питта с ужасом, словно тот на его глазах превращался в какое-то чудовище. Но у него не хватало ни мужества, ни убежденности в своей правоте, чтобы спорить. В глубине души он сознавал, что Питт прав.
Больше Томас не сказал ни слова. Он едва заметно прикоснулся к шляпе в знак благодарности и ушел.
– Я еще не получил разрешения на эксгумацию, – поспешно сказал Драммонд, как только инспектор вошел в его кабинет. – Я все еще пытаюсь…
Питт бросился в кресло около камина и выпалил:
– Патерсон покончил жизнь самоубийством.
– Но вы же говорили, что это физически невозможно! Да и зачем бы ему кончать самоубийством?
– А что бы вы сделали на его месте, если бы сфабриковали ложное доказательство, по которому повесили невинного человека? Вам это никогда не приходило в голову? – дерзко спросил Питт и глубже устроился в кресле. – Патерсон был неплохим человеком. Убийство на Фэрриерс-лейн ужаснуло его, и он позволил чувствам руководить своим поведением. Сержант был вне себя от ярости и в то же время испуган. Он должен был найти виновного, – не во имя справедливости и законности, но для собственного успокоения, потому что не мог спокойно жить, опасаясь, что закон окажется не в силах установить, кто преступник.
– И он не мог смириться со своей собственной слабостью, – тихо сказал Драммонд, глядя на Питта. – Думаю, некоторым из нас это знакомо. Мне страшно подумать, что такие преступления вообще возможны. Нам необходимо быть уверенными, что мы обязательно найдем преступника и докажем его вину. Мы хотим верить в свое собственное превосходство над ним, потому что альтернатива для нас ужасна. – Он засунул руки поглубже в карманы. – Бедняга Патерсон…
Томас промолчал. Душа его была омрачена жалостью. Он пытался представить, о чем Патерсон думал в последний день жизни, стоя в спальне, испытывая горечь одиночества и окончательного, непоправимого поражения. Он никогда не смог бы отделаться от сознания, что потерпел крах, но получал извращенное удовлетворение от того, что все больше и больше терзал себя сознанием страшной правды и того, что другого выхода из создавшегося положения нет. Да и одна только мысль о возможности такого выхода была для него тошной.
– Он собственноручно сорвал с себя нашивки, – сказал Питт. – Так он сам признал, что потерял право на самоуважение.
Драммонд долго молчал.
– Все же не понимаю, чем вы можете доказать свою правоту, – сказал он, наконец нарушая течение мыслей инспектора. – Вы же сказали, что для самоубийства не было возможности и поблизости не было ничего, на что можно было влезть и оттолкнуться. Как же это случилось?
– После самоубийства Патерсона кое-кто навел порядок в комнате, чтобы создать впечатление, будто совершено убийство.
– Но ради бога, зачем? И кто?
– Это, конечно, сделал Ливси, обнаруживший труп, прежде чем вызвал нас.
– Ливси? – недоверчиво переспросил Драммонд. – Почему? Какое ему было дело, будет ли Патерсон обвинен в самоубийстве? Ему, конечно, могло быть его жалко, но ведь он член Апелляционного суда и не стал бы извращать доказательства!
Питт встал.
– Этот поступок не имеет никакого отношения к жалости. Все произошло до того, как мы узнали о невиновности Годмена. Лучше скажите: когда вы надеетесь получить разрешение на эксгумацию?
– Да я не знаю, получу ли его вообще… Куда вы?
– Домой, – ответил Питт от двери. – Сейчас мне уже нечего делать. Хочу пойти домой, к чему-то чистому, незапятнанному и невинному, прежде чем выкопаю Стаффорда. Пойду и расскажу детям на сон грядущий что-нибудь о добре и зле, какую-нибудь волшебную сказку, которая кончается счастливо.
Разрешение было дано позже вечером, но Мика Драммонд не стал беспокоить Питта до раннего утра. Утром, в семь часов, он заехал за инспектором, и они отправились в путь еще в темноте, под холодным моросящим дождем. На улицах было мокро, мостовые блестели в свете фонарей, шум колес мешался со стуком копыт и отпираемых дверей.
Говорить было не о чем. Они сидели рядом в глубине кеба, закутавшись в теплые пальто; путь их лежал на кладбище. Так же молча они вышли из экипажа и зашагали рядом по хлюпающей грязи к маленькой группке людей в грубой одежде, стоявших, опираясь на лопаты. В холодной земле в свете карманных фонариков виднелась глубокая яма. Питт почувствовал влажный запах. Были приготовлены двойные веревки.
– Привет, шеф, – сказал один из мужчин Драммонду. – Вы хотите, чтобы мы достали гроб?
– Да, пожалуйста.
Насквозь промерзший Томас стоял около ямы, холодный ветер дул ему в лицо. Подняли повыше большой фонарь, свет которого выхватил из темноты мокрые лопаты.
Люди медленно потянули за веревки. Показался гроб, заблестели медные ручки. Один из могильщиков сбросил лопатой раскисшую от дождя землю с крышки гроба. Люди с трудом вытащили его из ямы и поставили рядом с могилой. Один из рабочих поскользнулся в грязи, и в яму обрушился град мелкого гравия. Кто-то выругался, а потом перекрестился.
– Открывайте, – приказал Драммонд.
Один человек вынул из кармана стамеску, другой поднял фонарь еще выше. Через несколько минут все гвозди были вытащены, и можно было открыть крышку. Побледневший рабочий отвернулся. Другой задрожал и стал читать молитву.
– Спасибо. – И Питт выступил вперед. Это он просил об эксгумации. Это он должен взглянуть первым.
Тело разложилось не так сильно, как ожидал инспектор – очевидно, из-за зимнего холода, земля уже промерзла, – но все равно Томас не хотел бы еще раз взглянуть в серое лицо Стаффорда. С большим усилием он поднял тело и почувствовал огромное облегчение, когда один из могильщиков стал ему помогать. Очень осторожно Питт расстегнул сюртук, снял его сначала с одной руки, потом – с другой и затем стащил со спины. Тело снова аккуратно положили в гроб. Питт посмотрел на сюртук. Да, камердинер был прав, ткань очень дорогая. Томас очень бережно сунул пальцы в один карман, потом в другой, явственно ощутил противный, сладковатый запах и порадовался холодному, освежающему дождю, моросящему прямо в лицо. В первом кармане не было ничего, кроме чистого носового платка. «Как странно, что его положили», – с внезапной жалостью подумал Питт, словно мертвый мог им воспользоваться. Он глубоко вздохнул и занялся другим карманом. Пальцы нащупали слипшиеся крошки. Он вынул руку и понюхал. Слабо запахло табаком. Питт взглянул на Драммонда.
– Что-нибудь нашли?
– Кажется. Если здесь есть опиум, значит, мы нашли и ответ. Сейчас отвезу на экспертизу. – И повернулся к могильщикам: – Благодарю, вы можете закрыть гроб и снова опустить его.
– Так это все, шеф, вам был просто нужен пиджак?
– Да, спасибо, только пиджак.
– Господи боже!
Драммонд и Питт отвернулись. Томас аккуратно сложил сюртук – надо было нести его с большой осторожностью. На востоке, набрякшем мрачными облаками, серел рассвет. Они медленно пошли по сырой дорожке к кебу. Лошадь, испугавшись могильного запаха, забила копытом и зафыркала, ее дыхание вырывалось морозным белым облачком.
– Я поеду с вами, – сказал Драммонд, как только они уселись. – Хочу знать, что скажет врач судебной экспертизы.
Питт мрачно улыбнулся.
– Это опиум, – констатировал врач, исподлобья глядя на Питта, – опиумная паста.
– Она достаточно сильна, чтобы убить человека, если он возьмет в рот сигару, на которую эта паста нанесена? – спросил Питт.
– Да, такая концентрация смертельна. Не сразу, конечно, но примерно через тридцать минут наступает конец.
– Спасибо.
– Но ведь опиум был и в виски! – поспешно напомнил врач.
– Знаю, – согласился Томас, – но из фляжки, по словам свидетеля, пил в театре и другой человек, и ему это никак не повредило.
– Невозможно. Концентрация была такая, что убила бы слона!
– Питт? – повелительно осведомился Драммонд. Оба, он и врач, пристально глядели на полицейского.
– Опиум, убивший Стаффорда, был на сигаре. А во фляжку опиум был влит уже после его смерти, – объяснил Питт.
– После!.. – Драммонд побледнел. – Вы… вы сбиваете нас с толку! Ведь это означает…
– Совершенно верно, – ответил инспектор.
– Но почему? Ради бога, почему? – Шеф был ошеломлен.
– Одна из самых древних причин: желание сохранить свой образ в глазах общества незапятнанным, сохранить почет и положение, которые приобретались в течение многих лет. Если бы доказали, что он ошибся, это стало бы непосильным для него ударом. Это гордый человек.
– Но убийство! – запротестовал Драммонд.
– Смею сказать, все началось с совпадения позиций и мнений, с молчаливого союза всех пятерых. – Питт сунул руки в карманы и ссутулился. – И только очень не скоро они стали понимать, что существовала возможность оправдания подсудимого, которую они просмотрели, слишком торопясь принять решение, которого от них ждали. Его шумно требовало общество, на нем настаивало правительство. Куда бы они ни обращали взгляд, всюду наблюдали истерию, ощущали давление и всеобщий страх. Тогда эти пятеро сплотились, подбадривая друг друга. И каждый потом избрал свой путь забвения. Один ушел в отставку, другой черпал утешение в бутылке, третий завязывал связи с нужными людьми на случай, когда те могут понадобиться. Кто-то заглушал голос совести хорошей, добросовестной работой. Все – кроме Стаффорда. Его грызла совесть. И наконец он нашел в себе мужество снова обратиться к делу. Что стоило ему жизни…
Вид у Драммонда был усталый и удрученный, он молчал.
– И они убили Годмена, – тихо закончил Питт. – Полагаю, в то время они думали, что поступают справедливо, что этим служат закону и обществу. Но в конце концов допущенная ошибка погубила так или иначе их всех. А теперь извините, я должен исполнить свой служебный долг.
– Да-да, конечно… Питт!
– Да, сэр?
– Я не жалею, что ухожу из полиции, но я мог бы пожалеть, если бы не оставлял эту должность на вас.
Томас улыбнулся, поднял руку, словно в знак приветствия, и медленно ее опустил.
Он вошел в кабинет судьи Ливси без стука и увидел, что тот сидит за письменным столом.
– Доброе утро, Питт, – устало сказал Ливси. – Я не слышал, как вы постучали. – Затем он увидел лицо Питта и вдруг стал медленно бледнеть. – В чем дело? – Голос у него внезапно охрип, он с трудом говорил.
– Я только что эксгумировал тело Сэмюэла Стаффорда.
– Ради бога, зачем?
– Мне нужен был его выходной сюртук. Вернее, опиум на невыкуренной части сигары.
Последние капли крови покинули лицо Ливси. Его взгляд встретился с взглядом Томаса, и он понял, что это конец, – как бывает всегда, когда человек видит свою смерть.
– Он предал закон, – сказал Ливси очень тихо, так что Питт едва услышал его, хотя слова падали тяжело, как камни.
– Нет, – возразил инспектор со страстной убежденностью, – это вы его предали.
Ливси поднялся словно во сне.
– Позвольте мне покинуть кабинет достойно, без наручников.
– У меня не было намерения надевать на вас наручники.
– Спасибо.
– Мне не надо вашей благодарности. Мне ничего от вас не надо! Вы нищий, вы самого себя ограбили, лишив всего, чем стоит дорожить!
Ливси остановился и посмотрел на него мертвым взглядом. Он понял, что имеет в виду Питт, и ощутил безмерность отчаяния и безнадежности.