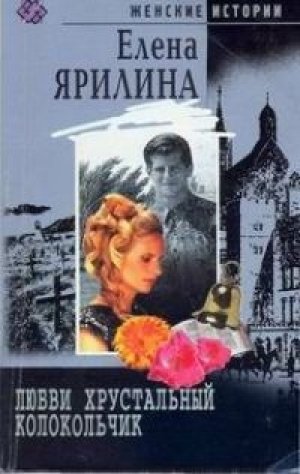
Все события и герои этой книги целиком и полностью созданы фантазией автора, сходство может быть только случайным.
Я была счастлива. Боже! Как неимоверно глупо и одновременно прекрасно я была счастлива! Я словно потеряла вес, стала легкой как пушинка. Жизнь воспринималась как поток или даже ветер. И этот радостный ветер нес меня куда-то и колоколом надувал мой ситцевый сарафан. Дороги были белы и горячи, пахло морем, цветами, фруктами, ну и, конечно же, шашлыками — куда от них денешься! Это был запах юга, отпуска и любви, запах моей тогдашней жизни. Средоточием радости, да и всей моей жизни был Павел, мой муж. Разойдясь с ним, я утратила это чувство легкости и счастья, я уже не летела как «пушинка от уст Эола», а тащилась по жизни как улитка. Интересно, так ли тяжело и неудобно улитке ползать с домиком на спине, как это кажется людям, глядящим на нее сверху вниз? Или ей гораздо комфортнее, чем нам, спотыкающимся на двух ногах?
Я была потом на море и без Павла. Сначала ездила с детьми, потом с подругой Лилькой мы провели две нескучные недели в Ялте. А два года назад, пытаясь устроить свою личную жизнь, я неделю отдыхала в Сочи с «кавалером», как сказала бы моя мама. Вроде бы я ему нравилась, он ухаживал как умел, но выдержала я с ним только неделю, хотя сначала планировались две. И дело было совсем не в его невыразительной внешности. А вот такие его качества, как сочетание потребительской беспомощности с мелкой расчетливостью, меня коробили. Например, он мог выразить желание куда-нибудь пойти или поехать, а осуществлять его желания надлежало уже мне. И еще эти постоянные подсчеты и выгадывания: пусть на десять копеек, но дешевле! Платили мы каждый за себя, как условились сразу. И все-таки, если я покупала какой-нибудь понравившийся мне пустячок или заказывала блюдо в кафе, которое мне больше было по вкусу, но, с его точки зрения, стоило дорого, он с неизменной улыбкой мягко пенял:
— Женя, ты бросаешь деньги на ветер! Так нельзя. Надо быть экономнее.
До сих пор помню его полушепот. Было отчего прийти в уныние и тоску, вот я и сократила наш совместный отдых. Как эти впечатления отличались от состояния легкости и постоянного счастья, которые я когда-то испытывала в присутствии Павла!
Вместо того чтобы встать и заняться делом, я все лежала, нежилась, воспоминания окутывали меня, словно облако. Помню так, словно это было только вчера, как после скромной свадьбы мы с Павлом поехали в Крым. Были в Феодосии, в Судаке — три волшебные недели! С утра Павел со смехом вытаскивал меня, заспанную, из кровати и, даже не дав позавтракать, вел на рынок. Там мы почти всегда у одной бабули покупали и тут же выпивали по стакану варенца, а она, улыбаясь, неизменно говорила нам: на здоровье! Потом, набрав разных фруктов: больших желтых медовых груш, нежных, как щечки ребенка, абрикосов, крупных сизых слив, — мы шли на пляж. Но не на тот более-менее оборудованный, где всегда было много загорающих, а совсем небольшой, дикий, мало кому известный. Каменистый берег в этом месте дробился на крупные валуны, а у самой воды, возле крошечной бухты, его усеивала разноцветная галька. На самом большом «нашем» валуне мы загорали и ели фрукты, а в мелкой гальке я часами рылась как маленькая, выискивая всякую всячину, но ничего путного, сердолик, например, мне найти так и не удалось. Обедали мы в небольшом рыбном ресторанчике, впрочем, мясо там подавали тоже, и очень даже вкусное. Меня, помнится, удивляло, как это Павел сразу отыскал лучшие места и для жилья, и для обеда, и для купанья. Потом-то я привыкла к его способности мгновенно приспосабливаться к любой обстановке, а тогда это восхищало. «Ну и нюх!» — восклицала я. Перекусив в «харчевне», мы возвращались на пляж, но шли уже длинной дорогой и очень медленно, чтобы съеденное хоть немного улеглось. Часа три-четыре загорали и купались, а потом возвращались в снятую комнату. Вместе принимали душ, что меня очень смущало, но так хотел Павел. В душе он поддразнивал меня своими ласками, я пугалась, поскольку еще не очень привыкла к сексу, тем более днем — мне все казалось, что нас кто-то увидит. Ему нравилось шокировать меня, и он не скрывал этого. После душа мы одевались уже более тщательно, я наносила макияж под его неусыпным оком. В то время я не любила краситься, естественный вид мне нравился больше, но Павел настаивал, а я не только не думала возражать, но была счастлива. Нарядившись, накрасившись и тщательно расчесав волосы, тогда я носила их распущенными, выходила под руку с мужем на вечернюю прогулку. Мы неспешно гуляли по городу, по набережным, танцевали на открытых верандах, пили сухое вино. Нет, вино пила я, а Павел всегда заказывал немного водки. Я ни разу не видела его напившимся, он презирал пьяных, все равно — мужчин или женщин. Говорил, что, если человек не знает меры, не умеет вовремя остановиться, — это недочеловек. Его отличало высокомерие, но я об этом не догадывалась в то время. Где бы мы с ним ни были: на улице, в баре или на танцевальной площадке — везде и всюду женщины бросали на Павла заинтересованные взгляды, пристально рассматривали его, провожали глазами. Если же кто-то из них случайно замечал меня, то тут же передергивал плечами и усмехался. Эти усмешки задевали меня, хотя я и гордилась мужем. Не выдержав, я как-то спросила у него: «Я что, выгляжу рядом с тобой некрасивой?» Он поднял бровь, оглядел меня с ног до головы, нахмурился и бросил: «Нормально». Когда вечерняя прогулка заканчивалась и мы поворачивали к дому, я уже заранее начинала трусить. Павел это чувствовал, и, когда поглядывал на меня, уголок его рта трогала насмешливая улыбка. До сих пор не могу понять: почему меня так пугал первое время секс с ним? Никогда он не причинял мне боли, если не считать самого первого раза, не было ничего неприятного в его прикосновениях и поцелуях. Наоборот, в постели с ним я неизменно испытывала экстаз, по меткому выражению одной моей знакомой — улетала! Он был умелым и сильным любовником. Может быть, отсутствие в нем нежности наводило на меня страх? Однажды я отважилась спросить, когда он, выпустив меня из объятий, как обычно, наградил на ночь небрежным поцелуем:
— Павел, ты так нравишься женщинам, на любой мог бы жениться, а выбрал меня, почему?
— Мне очень нравится дразнить тебя, нравится, как ты смущаешься и как пугаешься тоже.
— Ты все шутишь, ну а правда — почему?
Он помолчал несколько секунд, потом пожал плечами:
— Ты живая.
— Но ведь все живые.
— Представь себе, не все, далеко не все. Или, если тебе так будет понятней, все по-разному живые, в разной степени. Вот и все, чего мне удалось от него тогда добиться.
Стоп. С чего это я ударилась в воспоминания? И завтрак кое-как проглотила, и за компьютером не работаю, а грежу. С чего это я, спрашивается, раскисла? Да что тут лукавить, это Катино утреннее посещение на меня подействовало. Звонок телефона раздался, когда еще не было восьми, а в половине девятого дочь стояла на пороге. Стремительно влетела в квартиру: куртка распахнута, джинсы в обтяжку, бледно-розовый тонкий свитерок выгодно подчеркивает небольшую грудь, продуманно разлохмаченные короткие волосы, глаза блестят, на губах улыбка. Ни дать ни взять — девчонка-озорница, не поверишь, что она замужем и имеет трехлетнего сынишку. Такой она мне нравилась больше всего, и, заулыбавшись в ответ, я обняла ее. К сожалению, взаимное довольство продержалось совсем недолго. От кофе и завтрака Катюшка решительно отказалась, заявив, что забежала на минутку. Нужно, чтобы я несколько дней посидела с Мишуткой. Ей послезавтра ехать, вернее, лететь в Италию на десять дней, а свекровь внезапно заболела. Я была вынуждена отказать дочери: через две недели сдавать работу. Разве трехлетний ребенок даст возможность по восемь-девять часов в день сидеть у компьютера? Тем более такой, как Мишутка. Раздраженная Катька в категоричной форме потребовала бросить работу, если и не вообще, то хотя бы этот заказ, а деньги, которые я на этом потеряю, она мне возместит. На эту тему мы уже неоднократно спорили. Вот и сегодня я попыталась объяснить, что дело не только в деньгах, но и в том, что, не выполнив обещания, я подведу людей. Тут она мне и выдала, что я воображаю себя гением и незаменимой, а на самом деле то, что я делаю, — никому не нужные пустяки. Я в свою очередь вспылила и возразила, что это ее поездка в Италию, где она уже была, пустяк и этот пустяк вполне можно передвинуть на две-три недели. Катюшка сузила глаза:
— Что, в самом деле отказываешься? Свекровь и то лучше! Для нее на первом месте мы с Мишуткой, а для тебя — работа. — И, повернувшись, почти бегом покинула квартиру, на прощание так хлопнув дверью, что с телефонной полки упала записная книжка.
Случалось, мы с ней ругались куда серьезнее. Но когда Катюшка сказала, что моя работа никому не нужна, это прозвучало так, словно она имела в виду меня саму. И не важно, думает она так или нет, я так подумала, я сама! Вот в чем причина моего душевного раздора, тот червячок, что грыз меня с утра. Что ж, я не выращиваю хлеб, не варю сталь, не учу детей… Я только «выглаживаю» книги, причем книги, написанные не мной. Так уж получилось, что это единственное в моей жизни, что я хорошо умею, чем зарабатываю кусок хлеба. И все же, как ни крути, экономическая независимость — это единственный плюс в моем активе. Ничего интересного, значительного я в своей жизни не сделала, не создала. Правда, вырастила двоих детей. Павел, еще когда мы вместе жили, мало занимался ребятами, а уж после развода тем более. Но как бы я ни любила своих Катьку и Котьку, значительными я их назвать не могу — дети как дети, теперь уже взрослые люди, тоже вполне обычные. Так что — мой червячок зовется тщеславием или честолюбием? Да вроде бы нет, ведь не отсутствие известности или славы меня печалит, а то, что вся моя жизнь разошлась мелкой разменной монетой. Что-то я совсем, как старушка, загорюнилась. Ну, я, конечно же, далеко не девочка, но и не совсем еще старушка.
Ого! Девочка-старушка, время-то бежит, скоро магазин на обед закроется. Где же мой кошелек? Должен быть в сумке, а вот где сумка? На месте нет, куда же я могла ее зашвырнуть? Ничего себе — под столом валяется. Что-то я стала слишком рассеянной, пора брать себя в руки. Ну, побежала. Ой! А причесаться-то?.. Так и есть, на голове — черт копеечку искал. Шапку надевать не буду, уже тепло, да и идти недалеко. Лифт, конечно же, опять не работает. Ничего, говорят, по лестницам ходить полезно. Интересно, на каком этаже живет тот, кто это придумал? Кажется, кто-то меня зовет, или послышалось? Вроде нет никого?
— Господи! Свет, это ты? Как ты меня напугала! Ты чего, как шпион, из-за двери выглядываешь? И голос у тебя какой-то замогильный.
— А какой при простуде должен быть голос? Думаешь, у тебя был бы лучше? Слушай, Женюрочка, сделай доброе дело: купи хлеба и бутылку водки получше. Лечиться буду, надоело болеть.
— Какой же ты врач, если болеешь? Врачи болеть не имеют права, они лечить должны. И потом, разве водка — это лекарство? Другим микстуры и порошки прописываешь, а как себе, так сразу водку. Да, ладно, ладно, не хрипи, шучу. Иди в квартиру, на лестнице сквозняк. Сейчас все принесу.
…Мне снилась комната, большая, белая. Вся белая: и стены, и потолок, и пол. Огромный письменный стол, тоже белый и с очень скользкой поверхностью. Я пыталась писать что-то на листках бумаги, но они выскальзывают из-под рук, падают на пол. На полу множество разлетевшихся листков, трудно сказать сколько, на белом белого не видно. Сколько дней, месяцев, лет листки выскальзывали из моих рук? Уж не моя ли это разлетевшаяся жизнь? Я поднимаю один листок. Сначала он мне кажется совершенно чистым, но когда приглядываюсь, на нем проступают светло-серые буквы, складываются в слово — «Павел». Цвет букв постепенно темнеет, я с любопытством жду, когда они станут черными, но вот пробегает какая-то волна, рябь… Да это живые буквы! Рябь стихает, буквы перестают дрожать и приобретают ярко-красный цвет, оттенок крови. Я испуганно вздрагиваю, листок выскальзывает из моих рук и отлетает. Я не могу с этим смириться, ведь речь идет о Павле! Я встаю и делаю осторожные шаги — один, другой… В комнате ни дверей, ни окон: не должно быть никакого движения воздуха, тем не менее неизвестно откуда возникший воздушный поток разметал листки далеко от меня, а пол еще более скользкий, чем поверхность стола. Я боюсь упасть, оглядываюсь, на столе не осталось ни одного листка. Как же быть? Ведь на них я записываю свою жизнь: она еще не кончилась, вот я стою живая, а листков нет. Я ощущаю какую-то почти болезненную пустоту. Не страх, а именно пустоту. Вдруг что-то меняется в комнате, что-то или кто-то появился в ней, а я не вижу, сколько ни верчу головой. Но вот я слышу какие-то звуки. Сначала очень тихо, на пределе слышимости, потом громче и отчетливее начинают звучать хрустальные колокольчики. А я уже не стою на скользком полу, а снова сижу в кресле у стола, оно очень удобное, мягкое, а рядом еще одно кресло. Почему-то я не удивляюсь, хотя еще минуту назад его здесь не было. И я знаю, что человек, сидящий там, смотрит на меня и улыбается, а колокольчики все звенят… Мне просто надо успокоиться, и я все увижу. Фигура в кресле начинает проступать четче, непонятно, во что она одета: что-то светлое, бесформенное, многочисленные складки. Лицо не молодое, не старое, просто не имеющее возраста, даже непонятно, мужское или женское, хотя мне почему-то кажется, что мужское. Но это прекрасное лицо. Невозможно, непостижимо прекрасное! Рука протягивается ко мне — крупная, неожиданно темная по контрасту со светлым хитоном. В руке лист бумаги, но не такой, на каких я писала, — больше и плотнее. Я беру этот лист, успеваю разглядеть заглавную «В», но рука от волнения вздрагивает, и я роняю лист. Он выскальзывает, как прежние листы, но не успевает долететь до пола. Рука незнакомца перехватывает его, и, прежде чем подать его мне, он говорит. Вернее, его голос звучит во мне, так как губы не шевелятся.
«Не спеши. Потом прочитаешь. Но не торопись, спешка губительна, и никогда ничего не бойся. Ни сейчас, ни потом…»
Не знаю, не помню, как этот лист опять оказался у меня. Я держу его, но смотрю не на него, а в лицо незнакомцу. Его густые, длинные ресницы чуть-чуть вздрагивают. Светлые искорки вспыхивают в бездонных глазах. Темные губы сложены в улыбку. Цвет кожи бронзовый. Я так долго смотрю на него, так бесконечно долго, словно время перестало существовать. Это хрустальные колокольчики разбили время на бесконечное множество крошечных льдинок. Но вот какой-то туман начинает заволакивать комнату. Льдинки времени тают, догадываюсь я. Лицо, прекраснее которого я никогда не видела, исчезает в этом тумане. Колокольчики еле-еле слышны. Боль утраты сжимает мне сердце: как же я буду теперь жить? Невозможно жить теперь, нечем! И я цепенею от этой боли, пустоты и холода, страшного холода. Но что-то не дает мне замерзнуть. Листок в моей руке, о котором я забыла, от него через мою руку к сердцу идет живая, мощная волна тепла. Я подношу лист ближе. Глаза скользят по строчкам, но не успевает мозг осознать прочитанное, как раздается отвратительно резкий звон. Я мгновенно просыпаюсь. Будильник никогда не вызывал во мне симпатии, а сейчас я готова его просто расколотить!
День, проведенный в бегах и хлопотах, деловые разговоры и встречи не смогли стереть впечатления от сна. Лицо незнакомца плыло перед глазами, куда более реальное, чем все, что меня окружало. Несколько раз я пыталась заставить себя вспомнить текст на листке, но мозг безмолвствовал. Так, погруженная в себя, шла я по городу, заходила в магазины. Зачем-то купила эскимо и машинально съела его, хотя к мороженому совершенно равнодушна. Вернувшись домой, пошла на кухню, села на табуретку и просидела не знаю сколько. Воспоминания о сне все не отпускали меня. Хрустальные колокольчики опять звучали в памяти, и черты лица незнакомца оживали перед глазами. Но тут вплелся другой звон, куда менее мелодичный и приятный. Телефон. Подходить не хотелось, но пришлось. Это была моя сватья, Катюшкина свекровь. Сначала из-за всхлипываний трудно было что-либо понять, но потом она взяла себя в руки и сумела выговорить:
— Мишутка потерялся! Я вздрогнула:
— Где вы?
— Дома, то есть во дворе. Он пропал во дворе. Я разговаривала с соседкой, он играл рядом, повернулась — а его нет. Прошло уже полчаса, но его нигде нет, я все обегала!
— В чьем дворе — его или вашем? Катя знает?
— Так она же уехала позавчера. Двор их, не мой.
— Хорошо, сейчас возьму такси!
Слава богу, машина подвернулась тут же, через двадцать минут я была на месте. Заплаканная Валентина Николаевна показала место, где она разговаривала с соседкой: в метре от песочницы, в которой играл внук. Двор — это что-то новенькое, за последние три месяца внук уже дважды терялся. Первый — в «Детском мире», мать его искала полчаса. Второй — в цирке, там с ним были уже и мать и отец, тем не менее проказник улизнул, правда, нашелся минут через десять. А сейчас в своем же дворе! Но слишком уж долго его не было, в душу начал заползать страх. Нет, так нельзя, надо держать себя в руках. Валентина Николаевна, почувствовав мою тревогу, со слезами на глазах предложила вызвать милицию, но я предложила сначала расспросить детей.
— Но никого же нет.
Двор и в самом деле почему-то был пуст.
— Значит, пойдем по подъездам.
Только мы направились к ближайшему подъезду, как хлопнула соседняя дверь и появился Мишутка с яблоком в руке в сопровождении мальчика немного старше его. Валентина Николаевна схватилась за сердце, а я с суровым видом воззрилась на внука. Оказалось, что Мишутка ходил смотреть щенка, которого подарили новому приятелю. Что может быть естественней для ребенка, чем заинтересоваться таким чудом, как щенок? И какой ребенок вспомнит в такой момент о бабушке? Наш не вспомнил. Увидев нас, он с улыбкой подбежал и принялся взахлеб описывать впечатления. Ну и тут же, конечно, попросил точно такую же собачку. Надул губы, когда я ему отказала, и успокоился только тогда, когда Валентина Николаевна, души не чаявшая во внуке, пообещала поговорить с его матерью.
— В крайнем случае я сама буду его выгуливать, — смущенно посмотрела она на меня.
Я промолчала, ибо сильно сомневалась, что дочь решится на собаку. Катя не любит животных, особенно таких, с которыми много хлопот.
Отведя внука домой и убедившись, что благоухающая корвалолом сватья вполне оправилась от стресса, я оставила их, на прощание клятвенно пообещав ничего не говорить дочери.
Когда я подходила к троллейбусной остановке, кто-то преградил мне путь. Я машинально обошла незнакомца, у меня и мысли не возникло, что этот мужчина может иметь ко мне какое-то отношение. Но тут кто-то взял меня за локоть и развернул.
— Павел? Ты откуда здесь взялся? Как давно я тебя не видела!
Мы стояли в неудобном месте, на нас то и дело натыкались спешащие люди. Павел взял меня под руку и повел. Я послушно пошла, поймав себя на мысли, что вот так слепо и не рассуждая я всегда брела за ним, лишь бы он удосужился меня позвать. Вскоре мы оказались возле маленького кафе. Все так же молча, лишь улыбаясь краешком рта, как умел только он один, Павел пропустил меня, нашел свободный столик, отодвинул для меня стул и пошел к стойке. Я огляделась. Надо же, столько раз пробегала мимо, а кафе не замечала. Ну да, здесь же была пельменная. А ведь мы ходили сюда с Павлом лет десять или двенадцать назад! Столы здесь были грязные, стены покрывала темно-синяя жуткая краска, и отчаянно воняло хлоркой. А теперь — любо-дорого посмотреть! Словно попала в эдакую изящную бонбоньерку. Все очень мило, и пахнет кофе, ванилью. Павел вернулся с двумя пузатыми рюмками коньяку, почти тут же официантка принесла тарелочки с нарезанным лимоном и пирожными. О, да у Павла изменились вкусы! Неспешно смакуя коньяк, который всегда любила, я исподтишка разглядывала бывшего мужа. Те же резкие черты крупного красивого лица, жесткий прищур часто кажущихся синими глаз. Но я-то знала, что они серые… Седины нет, морщин вроде бы не прибавилось, но что-то новое появилось в нем, настороженность, что ли? Сколько мы не виделись с ним, года два?
— Хорошо выглядишь, и костюмчик тебе идет!
От неожиданности я вздрогнула. Комплименты он говорил нечасто, лучше бы и сейчас промолчал, настолько неуместными показались дежурные слова. Я задумалась, но, сообразив, что пауза затянулась, подняла глаза. Павел вертел в руках пустую рюмку. За это время он, видимо машинально, съел все пирожные, — неужели нервничает? Да быть такого не может! Наконец он прервал молчание, становившееся уже тягостным:
— Полагаю, ты живешь там же? Я завтра зайду. Не ожидая ответа, Павел встал, протянул деньги мигом подпорхнувшей официантке, и вот его уже нет, а я сижу словно дурочка с открытым от удивления ртом.
Я вернулась домой, разделась, повесила плащ и прошла на кухню. Включила чайник, достала из холодильника йогурт. Действовала я машинально, то и дело мысленно возвращаясь к тому моменту в кафе, когда Павел бросил меня, ничего не объяснив. Я снова и снова переживала унижение, раздражение, гнев. Сильнее всего гнев, увы, бессмысленный. Да и есть ли какой-нибудь смысл в том, что Павел говорит, делает, чувствует, если он вообще способен чувствовать? Над этим вопросом я немало билась в свое время, но он оказался мне не по зубам. Сколько ни силилась, никогда не могла понять, о чем муж думает, что для него важно, а что нет, что нравится или не нравится. Я не знала даже, как он ко мне относится, важна ли я для него, дорожит ли он мной, а ведь я была его женой. Родила ему двоих детей, заботилась о нем как умела, создавала уют, а самое главное — любила, любила до самозабвения. Точно так же он относился и к детям. Снисходительное равнодушие к дочери, подчеркнутое безразличие к сыну. Однажды я вздумала доказать ему, насколько для мужчины важен сын — продолжатель, наследник. Павел посмотрел на меня так, словно я ляпнула совершеннейшую глупость. Я почувствовала себя кукушкой, подкладывающей свое яйцо в чужое гнездо и застигнутой на месте преступления. Я не жалею, что так любила его, ведь это нормально для женщины — любить мужчину, мужа, отца своих детей. Любовь не торговля, не сделка: ты — мне, я — тебе, самое главное — любить самой. Но вот его бесстрастность, равнодушие, полная закрытость, его насмешки… В начале наших отношений меня это пленяло, казалось таким загадочным, таким романтичным. Но как же потом это стало меня бесить! Я прошла все стадии: от растерянности до откровенного бешенства. Пыталась тоже быть ироничной, язвила, лишь бы пробиться сквозь стену его отчуждения. Нет, я не сдалась без боя, без многочисленных боев, пыталась, как принято сейчас говорить, спасти свой брак. Но все было напрасно, мои стрелы не попадали в него. И тогда я выбросила белый флаг — потребовала развод и быстро получила его, причем без всяких комментариев. Зачем он женился на мне? После развода Павел появлялся раз в месяц, приносил деньги, выслушивал, если я или дети что-то говорили ему. Коротко отвечал, если просили его совета, но сам никогда ничем не интересовался и ничего не рассказывал о себе. Как-то я полюбопытствовала, есть ли у него другая женщина и не собирается ли он жениться, он ничего не ответил. Больше я таких попыток не предпринимала. Сумма, которую он приносил, была вполне приличной, незначительно варьировала из месяца в месяц, не знаю, от чего это зависело. Мне было любопытно, изменится ли эта сумма, когда Катюшке исполнится восемнадцать. Он пришел как раз в день ее рождения. Как всегда, с насмешливой улыбкой оглядел дочь: нарядную, суетящуюся, возбужденно что-то щебечущую, протянул ей букет тяжелых, пышных роз и футляр с золотым кулоном на цепочке. Катька тут же бросилась к зеркалу и нацепила украшение. Павел позволил один раз чмокнуть себя в щеку, но тут же отстранился. Протянул мне конверт с деньгами, посмотрел вопросительно. Я заглянула внутрь, прикинула: сумма та же. Я зарабатывала тогда немного, подросшие дети требовали больших расходов, слегка поколебавшись, я приняла деньги как должное. Через два с небольшим года уже Котьке исполнялось восемнадцать. На день его рождения Павел не явился — не хотел, не мог? Не знаю. Пришел через неделю, отдал Котьке не подарок, просто деньги, благодарности ждать не стал и протянул мне неизменный конверт. Я отступила на шаг и отрицательно покачала головой. Павел положил конверт на стол, внимательно посмотрел на меня и сказал:
— Напрасно отказываешься, это ведь не для тебя, а для них. — Кивок в сторону Котьки. — Буду давать, пока учатся.
Но жизнь внесла коррективы. На втором курсе пединститута Катька познакомилась с молодым инженером-электронщиком, выскочила за него замуж. Институт, конечно же, побоку. Поначалу молодые жили у меня: от родителей осталась большая трехкомнатная квартира. Молодожены привнесли с собой суету, звонкий смех, поцелуи и объятия по углам, а иногда и посреди кухни. В доме сразу же стало шумно и тесно. Павел заглядывал все реже. Через год Котька влюбился в однокурсницу, но, слава богу, учебу в Плехановском не бросил, жить ушел к жене. Затем Катя с Олегом купили квартиру. Павел перестал у меня появляться. Катьке он, по ее словам, иногда подбрасывал на молочишко, хотя она не особо нуждалась, а про студента Котьку словно забыл.
Последние два года не было никаких звонков, я вообще о нем ничего не слышала. Даже Катька ничего о нем не знала. И вот — здрасте пожалуйста! Явился не запылился, и мои обиды сразу ожили, подняли голову, зашипели — ну чистый гадючник! Зачем он появился? Завтра он, видите ли, придет, извольте ожидать! Костюм мой отметил, скажите пожалуйста! Да за все время Павел ни разу не похвалил ни мою внешность, ни манеру вести себя и одеваться. Какой-то он все же не такой был как всегда, словно бы в нем уверенности поубавилось. Или нет? Может быть, вспомнил о детях? Да нет, вряд ли. С чего бы он вдруг обрел отцовские чувства? Пару дежурных вопросов мог бы и в кафе задать. Нет, тут что-то другое, но вот что?
Время до вечера пролетело незаметно. Вот-вот появится Павел. А что же я все-таки надену? Вчерашний костюмчик? Ну нет, повторяться не буду, лучше персиковое платье, этот цвет меня молодит. Очень я буду себя презирать, если сделаю макияж? А собственно говоря, почему презирать? Пусть Павел меня женщиной никогда не считал, но я-то ведь себя уважаю. Стало быть, вперед! Ну, вот я и готова, выгляжу вполне сносно. Теперь буду мыкаться как дурак с мытой шеей.
Зазвонил телефон. Господи, неужели же Павел настолько изменился, что сначала звонит, как и положено воспитанному человеку? Да не может такого быть. Конечно, не может, это и был не он. Трубка буквально взорвалась Лилькиным голосом. Н-да! Давненько Лилька не вываливала на мою голову свои неприятности, видно, время пришло, но как же не вовремя. Хотя как знать, все, что ни делается, — к лучшему. Так и не сумев прорваться сквозь Лилькины истеричные вопли, я рявкнула: «Сейчас приеду!» — и бросила трубку. Невежливо, но объясняться с Лилькой по телефону напрасный труд, все равно ничего не поймешь. Когда Лилька впадает в истерику, то ничего не воспринимает, надо просто быть при ней, делать вид, что слушаешь, кивать, совать в руку стакан с водой. Через какое-то время она устанет, угомонится и можно будет понять, какой трагический пустяк или просто досадное недоразумение вызвали это слезоизвержение. Нет, Лилька не ошибка природы, она добра, покладиста и очень трудолюбива. Обычно из нее веревки можно вить, она с добродушной улыбкой прощает и рискованные шутки, и даже язвительные насмешки: не мои, я Лильку берегу, просто чьи угодно. Но иногда наступает критический момент, какое-то замыкание происходит в Лилькиной голове, она начинает раздражаться, мало-помалу закипает, и тогда держись!
Вот только как с Павлом быть? Оставлю ему записку на двери, сам виноват, если зря прокатится, номер своего телефона он мне никогда не давал, так что предупредить я его не могу. Лильку он знает, ее адрес тоже, так что, если ему так важно встретиться со мной сегодня, пусть приезжает к ней. Хотя Лилька всегда вызывала у Павла брезгливое недоумение. Он мне сам раз сто об этом говорил и не одобрял нашей дружбы.
Первые минуты я очень внимательно слушала подругу. Начала она издалека, стала почему-то рассказывать о своей работе и начальнице. Пока подобралась к главному, снова заводясь и выкрикивая ругательства, и я как-то незаметно для себя мысленно отвлеклась на Павла. Представила себе его самоуверенное лицо и как он подходит к моей двери, жмет на звонок раз, другой. Никто ему не открывает, и вот тут-то он замечает белый язычок записки. Читает ее и… Что он будет делать дальше, домыслить не успела, громкий вопль Лильки вернул меня в реальность:
— Какие же они гады! Сколько же можно?!
Я даже вздрогнула: речь вроде бы шла о ком-то одном, откуда же взялось множественное число этих самых гадов? Я что-то пропустила? Ах, какая разница! Я посмотрела на замолкшую Лильку, подошла, молча обняла ее, и она заплакала совсем тихо и по-детски. Значит, скоро конец. Завершающая фаза у Лильки, о чем бы ни шла речь, всегда звучит как тихая и незлобивая жалоба обиженного ребенка. И почему я не могу вот так взять и выплеснуть все обиды, недоумения, неудачи и вообще все злоключения? Зачем-то все коплю в себе, но ведь стыдно было бы так распускаться, разве нет? Пока я была занята собой, Лилька уже окончательно иссякла и отправилась в ванную умываться. Когда она вернулась, я в очередной раз отметила, что после такого рева у нее ни нос не распух, ни веки не набрякли. Лилька поставила чайник, стала накрывать на стол, а я вспомнила, что оставила в прихожей наш традиционный «Трюфель»: как-то повелось, что после бурных сцен мы с ней всегда пьем чай с маленьким тортом и каждый раз подворачивается именно «Трюфель». Разрезать торт я взялась сама, подруга погрузилась в какие-то свои мысли, очевидно, очень приятные. Даже кончик ее очаровательного, слегка вздернутого носика, предмета моего тайного восхищения и зависти, стал выглядеть радостным. Наконец Лилька заговорила, не поднимая глаз от чашки с чаем, не притрагиваясь к торту, что было более чем странно.
— Знаешь, я беременна.
— То есть ты надеешься, что беременна? — спокойно уточнила я.
Вот уже лет десять, как Лилькой овладело желание во что бы то ни стало заиметь ребенка. Она безуспешно пыталась забеременеть от каждого любовника, которые то и дело случались в ее безалаберной жизни. Хорошенькая, пухленькая, любящая уют и домашнее хозяйство, она пользовалась большим успехом у мужчин, но никто из них почему-то не задерживался надолго. После очередного разрыва Лилька долго ходила как в воду опущенная, правда, истерик не устраивала — это она делала только по пустякам. Потом опять знакомилась с кем-нибудь, быстро влюблялась и порхала до нового разрыва. А вот забеременеть не получалось. Мне давно хотелось избавить ее от напрасных надежд, тем более что и возраст поджимал, как-никак сорок один год. Но эта тема была для подруги крайне болезненна, я не знала, как приступить к разговору.
— Нет, я действительно беременна, врач подтвердил, срок — три месяца. Ты ведь знаешь, врачи всегда говорили, что у меня все в порядке!
От удивления я не нашлась, что сказать. Она с упреком посмотрела на меня:
— Ты за меня совсем не рада? Интересно почему? Тебе так можно было рожать, а как я собралась, ты уж и слов не находишь!
Хотелось возразить, что я-то рожала молодой и замужем, но благоразумно промолчала. Это все она и без меня знает.
— Нет, Лиля, я рада за тебя, очень рада, просто как-то все неожиданно. Но вот что хочу спросить: отец ребенка в курсе? Ты женщина храбрая, но одной растить ребенка трудно. Ты ему сказала?
Лилька слегка замялась и, к моему удивлению, покраснела, но улыбаться не перестала:
— Да, он знает. Очень рад. Наверно, теперь поженимся.
— О! В самом деле? Поздравляю! Вторая прекрасная новость. Но не тяните со свадьбой. Надеюсь, меня-то ты пригласишь? А кто он? Я его знаю? Подожди, подожди, помнится, ты не так давно была у кого-то на даче, это он?
Лилька отрицательно покачала головой, потом лукаво посмотрела на меня и выпалила:
— Это Павел!
— Как будто мне это что-то говорит. — Я улыбнулась, но она молчала. — Постой, не хочешь ли ты сказать… Нет, этого не может быть! Лилька! Ну что же ты молчишь? Какой Павел, мой? Мой Павел?!
— Да. Твой, твой, вернее, бывший твой. Что ты так подскочила, вы же давно разошлись. Он давно человек свободный, я тоже, почему бы и нет?
Я с ужасом смотрела на нее. Лилька говорила какие-то невозможные вещи. Где-то в области солнечного сплетения нарастало странное сосущее ощущение, похожее на тошноту. Может быть, именно об этом Павел и собирался поговорить? Но зачем, какой теперь прок от разговора? Я сделала неимоверное усилие над собой, сглотнула сухой ком в горле и спросила ровным голосом:
— Ну и что ты теперь будешь делать?
— Ну как что? Рожать, конечно! Ты же знаешь, как я хотела ребенка. Вот он и будет у меня, все равно кто — мальчик или девочка, кого Бог пошлет, лишь бы здоровенький, — затараторила Лилька, обрадованная тем, что я спокойно отреагировала на отцовство Павла. Она явно чувствовала, что самое тяжелое осталось позади. Мы еще немного поговорили о родах и грудных детях. И все-таки вопрос об участии Павла в этой непостижимой истории был мне не ясен, я подумала, что если уйду, ничего не выяснив, это будет малодушно. Собрав силы, спросила:
— Мне хотелось бы знать, как давно вы стали любовниками? Последние два года?
Это явно обидело Лильку.
— Почему же только два? Мы всегда ими были, если хочешь знать!
Я оторопела:
— То есть как это всегда? Не понимаю. А как же я? Я ведь была ему женой, а тебе подругой. Как же так можно?
— А что тут такого? Я ведь не ты, меня высокие материи не интересуют, беру что дают. Это для тебя он весь такой заоблачный и непостижимый, а для меня — просто красивый и щедрый мужик. Он мне всегда нравился, поэтому у меня с другими ничего путного не получалось, все о нем думала, — закончила она уже почти жалобно, глядя на меня как ребенок, который боится, что его накажут, но не считает себя виноватым.
— Бог с тобой! — С этим я и ушла.
Как доехала домой, не помню. Мне не было плохо, ничего не болело, но было пусто в сердце, холодное безразличие овладело мной. Записка на двери, оставленная для Павла, все так же белела за ручкой. Приходил он, не приходил? Догадался ли, что я все узнала о его связи с Лилькой? Плевать. Я сделала ванну с ароматическим маслом, выбрала пихтовое, оно тонизирует. Решила почитать Хмелевскую. Раньше ее книги всегда поднимали настроение, но только не сейчас. Ничего, никаких чувств в сердце, никаких мыслей в голове, только холод и пустота. Наутро ничего не изменилось. День тянулся за днем — однообразные, бесцветные, до удивления пустые: я ела, спала, работала, ходила в магазины, старалась занять себя каждую минуту. Я то ругала себя, чтобы расшевелить хоть немного, то выискивала причины для похвалы, чтобы поднять настроение, но ничего не помогало. Неужели же я так любила и до сих пор люблю Павла? Почему я тогда этого не ощущаю? Я не только всегда отдавала себе отчет в том, что у него есть другие женщины, но и относилась к этому по-житейски спокойно — это его личное дело, и меня оно не касается. Если сразу же после развода и были пощипывания самолюбия, то за давностью лет и они утихли. Но какие-то незнакомые дамочки — это одно, а Лилька, моя Лилька — совсем другое! Последние годы нашего брака Лилька часто у меня гостила. Что же, выходит, они и тогда были любовниками? Она ведь сказала — всегда. Пусть даже они ими стали сразу же после нашего развода, это мало что меняет. Лилька прекрасно знала, как я его любила, какой кровью мне дался развод, я делилась с ней самым сокровенным. Так что в любом случае это предательство. И если бы при этой мысли я почувствовала обиду, боль, даже отчаяние, было бы вполне естественно. Но я же ничего не ощущала, словно речь не обо мне, а я умерла еще в прошлом веке. Может быть, пойти к психоаналитику? На Западе это очень модно, у нас они тоже теперь есть. Сложно, дорого, а главное — зачем? Чтобы разобраться в причинах? Но ведь я их знаю. Мне надо как-то вывести себя из ступора, почувствовать себя живой, пусть и не прежней, но живой. Заправляя прядь за ухо, я вспомнила совет из женского журнала. Он советовал при душевном дискомфорте поменять прическу. Парикмахерские я не очень-то выношу, но надо хоть что-то с собой делать. Пока деньги есть, пойду в хорошую парикмахерскую.
Вечером осмотрела себя в зеркале. Что-то похожее я носила лет двадцать пять назад, названия стрижки не помню, но она точно стоила раз в сто дешевле! Теперь уж ладно, выгляжу вполне. Ну и что дальше? Купить что-нибудь из тряпок? Не хочется. Поменять мебель? Денег хватит на два с половиной стула. Обои? А что, куплю обои, что-нибудь экзотическое. Пока буду сдирать старые, клеить новые плюс еще уборка после такого стихийного бедствия — устану так, что и думать ни о чем не захочется. Так и не хочется: ни думать, ни клеить. Значит, обои отменяются. Уехать куда-нибудь на неделю-другую? Тоже не хочется. Значит, буду жить так, как получается, пусть даже эта жизнь сейчас не имеет для меня ни цвета, ни запаха, ни вкуса, ни желания, ни эмоций. Будем считать, что они просто взяли отпуск — погуляют и вернутся.
Телефон? Может быть, с помощью этого телефонного звонка жизнь уже что-то и расставляет? Звонила двоюродная сестра Любаша, мы с ней давно дружим, несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте. Впрочем, Лилька тоже моложе меня на шесть лет, и с ней мы дружили — а вот до чего додружились. Нет, о Лильке не буду сейчас думать. Любаша позвала в театр. Я согласилась. В моем состоянии совершенно безразлично, что делать и куда идти. Договорились с Любашей встретиться в метро, я опоздала почти на десять минут, против обыкновения сестра не сделала мне замечания. Я не сразу заметила, что Люба непривычно тиха. Что-то приуныла сестренка, но расспрашивать не хотелось, не было душевных сил. Только на полпути я сообразила, что мы идем в Театр оперетты, и вяло удивилась. Это что, Любаша таким образом хочет поднять себе настроение?
Бессмертная Сильва пела, страдала и металась по сцене, я думала о всяких пустяках. Мне вспомнилось, как в одно из первых наших свиданий Павел повел меня в театр Станиславского на «Лебединое озеро». В антракте рассказывал мне, почему в этом театре «Лебединое озеро» поставлено лучше, чем в Большом. Какое впечатление он на меня произвел тогда: красивый, непонятный, утонченный! Сейчас на сцене плясали канкан, я смотрела, как дружно вздымаются ноги танцовщиц, но другая музыка звучала во мне, не Кальман, а Чайковский. Не веселье, а борение страстей, вот только финал, светлый финал, я не смогла вспомнить. Люба отвлекла меня от воспоминаний, тронув за руку — пойдем. Я решила, что она хочет в буфет, и, вздохнув, поплелась за ней, но она направилась в гардероб. Мы молча вышли на улицу. Я собралась к метро, но Люба вдруг предложила:
— Зайдем куда-нибудь? — Увидев, что я колеблюсь, добавила: — Еще не поздно, выпьем по чашечке кофе.
Было понятно, что Любе сейчас не хочется оставаться наедине со своими мыслями, и я пошла за ней. В кафе народу было немного, но публика производила странное впечатление. Но Любаша ни на что не обращала внимания. Поскольку совсем свободных столиков не было, она села за ближайший. Два оживленно жестикулирующих молодых человека удивленно уставилась на нас. Оба были тщательно и модно одеты. У одного блестели на запястье золотые женские часики, у другого болтался на шее шифоновый шарфик. Совсем молодые, почти мальчики… Наше вторжение их явно раздосадовало, они молча допили то, что у них было, и ушли. Любаша принесла по чашке черного кофе с лимоном и с коньяком. Отпив пару глотков, потянулась к своей сумочке, вытащила распечатанную пачку «Честерфилда» и позолоченную зажигалку. Я застыла с открытым ртом. Никогда не видела, чтобы Любаша курила: всегда ругала меня, застав с сигаретой. Видно, уж очень сильно ее что-то допекло. Заговорила сестра не раньше, чем выкурила сигарету и допила кофе, все это с угрюмым и отрешенным лицом. Встала, принесла себе вторую чашку кофе, а мне апельсиновый сок, которому я по-детски обрадовалась, и наконец-то пробормотала, глядя куда-то мимо меня:
— Жень, как ты думаешь, я круглая дура или же мне просто не везет?
Вопрос был чисто риторический, поэтому я молча глядела на собеседницу.
— Понимаешь, чутье меня подвело. Уж больно он хорошенький, ну чистый херувим, вот я голову и потеряла.
Любаша сделала паузу, а я осторожно огляделась по сторонам, догадавшись, почему она меня привела именно сюда, — чтобы наглядно продемонстрировать, в какую глупую историю она влипла. Сестра продолжала молчать, а мне не терпелось проверить догадку.
— Ты хочешь, чтобы я воочию убедилась, каково тебе пришлось?
Любаша вздернула брови, вытаращила на меня глаза, потом слабо махнула в мою сторону рукой с зажатой между пальцами сигаретой, отчего пепел упал в ее чашку с недопитым кофе. Еще сильнее нахмурившись, продолжила:
— При чем здесь это? И вообще, что ты меня все время перебиваешь?!
Можно подумать, я и вправду перебила ее.
— Ну вот, сбила с мысли! Мне и так нелегко, до сих пор не могу прийти в себя. Знаешь, как мне этих денег жалко! Я ведь чуть ли не целый год их собирала, думала, машину куплю, не новую, конечно, но все же. Сейчас все бабы за рулем, а я что, хуже? Представляешь, как классно я бы за рулем смотрелась? Эхма! Да и не только денег до смерти жалко, но и цепочку золотую, и зачем я ее только с себя сняла? И колечко тоже, оно, правда, не нравилось мне, но все равно жалко, Славкин подарок. Ты что молчишь-то, Жень? Чего ты так смотришь? Небось опять в облаках витала. Я тут сижу, распинаюсь как последняя идиотка, а ты не слушаешь!
Любаша всерьез начала злиться. Но тут меня разобрал такой смех, что, сколько я ни крепилась, удержаться не смогла.
Любаша что-то шипела от злости, а я продолжала хохотать, — на нас стали обращать внимание, тем более что мы и так здесь были белыми воронами. Насилу отсмеявшись и вытерев слезы, выступившие от смеха, я поспешила успокоить сестру:
— Твой херувим оказался банальным вором? А я-то решила, что он голубой и поэтому ты меня сюда затащила, для наглядности.
Любаша с недоумением уставилась на меня, потом стала оглядываться по сторонам, и лицо ее мало-помалу прояснилось. В пылу своей трагедии она даже не заметила, куда мы попали и кто нас окружает. Наконец идиотизм ситуации дошел и до нее, и она тоже засмеялась, да так громко, что я поспешила увести ее из кафе, пока нас не изгнали с позором. Идя до метро, Люба посмеивалась, видно, пришла в свое неизменно хорошее настроение. Я же опять впала в ставшее привычным безразличие. Делиться с сестрой своими бедами совсем не хотелось: мне ничем бы это не помогло, тем более что Люба всегда недолюбливала Павла. Я заранее могла представить себе все те злорадные эпитеты в адрес Павла, которые полились бы из нее рекой, и это отбивало охоту к откровениям. Тут снова мелькнуло одно соображение.
— Любаша, так что же, ты так и не пыталась вернуть ценности? Что-то не узнаю тебя. Ты знаешь, где он живет, херувим-то твой? Сходи к нему, да лучше с милицией.
— Да неужели же не ходила? Пошла одна, опасного нет ничего, я бы с ним одной левой справилась. А квартира-то, оказывается, и не его. Он ее просто снимал, упорхнул уже, естественно. Сгреб все, что сумел накрасть по разным местам, и смылся. Он ведь не одну меня обаял своей неземной красотой. Только я объяснилась с квартирной хозяйкой, как в дверь уже другая брошенная зазноба ломится. Молодая, поинтересней меня будет. Да что толку-то, такая же дурища, как и я. У нее он и вовсе кучу брюликов увел. Поговорили мы с ней потом. Она тоже не стала в милицию заявлять: кто его искать будет? Неизвестно даже, откуда он и куда уехал, только посмеются над нами. Скажут, что сами дуры, нечего было рот разевать.
Тут Люба вздохнула, посмотрела на меня несколько смущенно и рассмеялась невесело:
— А ведь замуж звал. Я сначала отнекивалась, а потом и растаяла!
— Замуж звал? Значит, твой херувим был брачным аферистом. Они, как правило, всегда красавцы, ведь внешность — важнейший инструмент их профессии. Не повезло тебе, сестренка. Ну ничего, ты женщина сильная, скоро успокоишься и забудешь.
— Ты, Женька, в своем репертуаре. Тебе бы только слово подобрать, все расставить по своим местам. Но кое в чем ты права — забуду, куда я денусь.
Через несколько дней позвонила вернувшаяся из Италии Катька. Ей не нравилось состояние Мишутки, чувствовалось, что она не на шутку встревожена. Я перебралась временно к ним. Оказалось, что у ребенка корь, и где только он мог ее подхватить? Хорошо, хоть в легкой форме, но все равно чувствовал себя плохо. Да и в кровати ему было нелегко лежать, он ведь такой подвижный, проказник! Как температура у него спала, уже никакими силами удержать его в постели было невозможно. Бегал по всей квартире, играл в свои машинки, у него их целый автопарк. Нас с Катюшкой он не очень-то слушался, только Олега побаивался. Сидеть взаперти ему тоже скоро надоело, бросив игру, он подходил к окну и, расплющив нос о стекло, подолгу смотрел, как играют во дворе дети. Наконец ему разрешили гулять, а мне пора было возвращаться домой. Я уже успела соскучиться по своей квартире и даже компьютеру. Не люблю надолго уезжать.
В почтовом ящике меня ждал сюрприз — повестка из милиции. Странно, может, не мне? Фамилия моя, значит, не ошибка. Ничего не понимаю. Ладно, в четверг все разъяснится, бояться мне нечего, я никого не убила и не ограбила.
— Лиля, ты? Здравствуй, это Женя. Звоню тебе по делу. Что? Да, меня действительно несколько дней не было дома, сидела с внуком. Нет, теперь все в порядке, буду, как обычно, жить дома. Я тебе вот чего звоню, хочу спросить: давно Павла видела? Давно? Месяц? Даже больше месяца?! Однако. Послушай, а раньше он исчезал надолго? Ага, значит, ты не беспокоишься? Зря язвишь, это не я его разыскиваю — милиция. Нет, не разыгрываю, меня повесткой вызывали. Следователь говорит — исчез. В том-то и дело, что ничего конкретного, крутит-вертит. Нет, его сестре я звонила, милиция уже с ней встречалась, Лидка ничего не знает. Хорошо, если что узнаю, непременно позвоню. Ну и ты свистни, если он объявится, чтобы я не волновалась напрасно. Пока. Ой, извини! Как ты? Говоришь, уже здорово видно? Не тошнит? А, ну ладно, если торопишься, иди. Всего хорошего.
По дороге домой я думала о том, что довольно спокойно реагирую на последние события. Видно, я все-таки сильно изменилась, стала зомби. Который уже раз я была у следователя? Третий! Вцепился в меня мертвой хваткой, спрашивает одно и то же, и взгляд у него при этом такой, словно я утаиваю что-то важное.
Куда мог деться Павел? Неужели с ним что-то случилось? Не хочется об этом даже думать. А под утро он мне приснился.
Мы купаемся в море, он смеется, а я смотрю на него не отрываясь и думаю, какой же он красивый, как я люблю его. Проснулась в поту, посмотрела на часы — пять утра. Сон вызывал глухую, но ощутимую тревогу. Это было непонятно, ведь все было так красиво, отчего же сжимается сердце? Сон не шел, я вспоминала Павла. Теперь, когда он пропал, его связь с Лилькой, его предательство уже не казались мне такими важными. Я даже удивлялась, что так переживала. Может быть, когда Павел объявится и я пойму, что с ним все в порядке, все опять вернется на круги своя? По какой-то неясной, далекой ассоциации вдруг вспомнилось, как мы с ним ездили на день рождения к его другу Борису. Сначала мне было неловко в новой компании. Но я как-то очень быстро разговорилась с Нелли, женой Бориса, хотя обычно не сразу схожусь с людьми. Я рассказывала о детях, они были тогда еще маленькие, сетуя, что мне очень редко удается выйти из дому. Не с кем оставить детей: родителей ни у меня, ни у Павла нет. Его старшая сестра Лида племянников любит и с удовольствием сидит с ними, но здоровье у нее слабое, она часто болеет. Да и справляется она с ними с трудом, особенно с непоседой Катюшкой. Нелли внимательно на меня посмотрела и сказала с печальной улыбкой:
— Какая же ты счастливая, Женя! Ты просто не понимаешь, до чего ты счастливая и как у тебя все прекрасно.
Я растерялась, хотела было возразить, но вовремя вспомнила, что детей у нее нет, и прикусила язык. Гостей в тот день собралось много, но мы с Нелли весь вечер ухитрялись как-то общаться: то шуткой перебросимся, то просто улыбкой. Павел был удивлен скороспелостью нашей дружбы и на обратном пути поддразнивал меня, впрочем, беззлобно. А где-то через месяц обрадовал меня, сказав, что Боря с Нелли пригласили нас на выходные на дачу, он уже принял приглашение и договорился с Лидой, что она посидит с ребятами. «Тебе полезно будет развеяться», — сказал Павел. Эту поездку я запомнила надолго.
Нелли и Борис встретили нас радушно, тут же накрыли стол в саду. Мужчины пили водку, мы с Нелли сухое вино. Я веселилась от души.
Веселье мое кончилось, когда на даче появилась младшая сестра Нелли Рита с сынишкой полутора лет. Хозяйка сразу же переключила внимание на племянника, очень тихого и ласкового ребенка, не спускала его с рук, поминутно целовала и пичкала сладостями. И муж, и гости перестали для нее существовать. Рита меня заинтересовала, она была очень своеобразной. Лет на пять-шесть моложе сестры, совершенно на нее не похожа. Невысокая, худенькая, фигура как у подростка. Очень короткая стрижка усиливала сходство с мальчиком, да и одета она была в старенькие брюки и клетчатую рубашку, ни дать ни взять сорванец тринадцати-четырнадцати лет. Голос с хрипотцой, может быть, оттого, что много курила — буквально не выпускала сигарету изо рта. Лицо красивым не назовешь, брови асимметричны, глаза небольшие, нос, наоборот, мог быть и поменьше, рот тоже большой, губы пухлые, изогнутые. Никакой косметики, никакого маникюра, на ногах грубоватые сандалеты, явно купленные в «Детском мире» в секции для мальчиков. Первое впечатление — Рита старается забыть о том, что она женщина, и еще больше старается, чтобы об этом забыли окружающие. Но не тут-то было, впечатление оказалось обманчивым. Мужчины ее явно интересовали. Зятя она не только погладила по щеке, но и наградила нешуточным поцелуем в губы. Павла Рита видела впервые, и он ей понравился: в глубине глаз словно огонечек загорелся. По мне она скользнула равнодушным взглядом и вряд ли услышала мое имя. Но что показалось мне совсем удивительным, так это то, что мужчины тянулись к ней, как иголки к магниту. Борис вокруг нее носился электровеником: подливал вина, накладывал еду, подносил зажигалку, старался заглянуть ей в глаза и коснуться рукой. Пришел сосед по даче, то ли по делу, то ли на огонек. Но если и по делу, то он сразу о нем забыл, как только увидел Риту. Она небрежно посылала им сигналы — взгляд, улыбку, жест. Легко, совсем не затрудняясь, держала в напряжении, словно в невидимой узде, двух мужчин, что не мешало ей львиную долю своего внимания обращать на того, кто в данный момент ей был наиболее интересен, — на Павла. Кажется, она не сразу догадалась, что я его жена, а когда поняла, то начала вовлекать меня в разговор, который, по сути, одна и вела. Как это у нее так получалось, не знаю, но почти из каждой фразы, обращенной ко мне, сочился яд, а ведь никаких колких слов, а тем более гадостей она не произносила. Может быть, все дело в интонации? Я так и не уловила этого, но четко поняла, что, несмотря на молодость и невзрачную вроде бы внешность, эта неженственная женщина хорошо знает себе цену. Чувствовалось, что ей нравится играть с людьми, как кошке с мышью, нравится власть над ними, но сердце у нее было холодное, каменное. Мое некаменное сердце заныло. Я почти с испугом смотрела, как весь огонь ее батарей, вся тяжелая артиллерия направлены на завоевание моего мужа. Словно какой-то невидимый злой дух нашептывал ей в ухо маленькие тайны: она говорила и делала все так, как нравилось Павлу, уж я-то понимала это. Но странно, чем больше Рита старалась, чем ярче горел огонь в ее глазах и манили жаром ее сочные губы, которые она часто облизывала розовым, узким язычком, тем холоднее становился Павел. Действительно странно. Дамским угодником Павел никогда не был, но с женщинами обычно вел себя галантно. Он привык, что нравится многим и дамочки сами к нему льнут. Такие проявления внимания не были неприятны, а даже импонировали. Может, Рита была уж слишком агрессивна? Пусть ее агрессия и выражалась не столько в словах и действиях, сколько в так называемых флюидах. Многим мужчинам не нравится, когда на них давят, а Павел этого совершенно не терпел. Но как бы то ни было, под конец он от холодности перешел к враждебности, и я уже стала опасаться прямой грубости с его стороны в адрес Риты. Поэтому, когда он вдруг предложил мне сократить наш визит и уехать домой, не оставаясь на следующий день, как планировалось вначале, я только вздохнула с облегчением. Нас никто не уговаривал остаться. Рита молчала, наверное, исчерпала весь свой боезапас. Борис был занят Ритой. Нелли по-прежнему занималась только ребенком, она даже не увидела, как мы ушли, пошла укладывать племянника. За всю довольно длинную дорогу Павел только однажды открыл рот:
— Стерва холодная! Нашла мотылька, чтобы прикалывать булавкой!
Грубо, но точно, подумала я.
…Нелли с Борисом уж лет десять как в Штатах. Где-то через год к ним присоединились Рита с мальчиком. Вроде бы все у них там складывалось хорошо, Борис с Нелли нашли работу, купили дом на побережье, где-то недалеко от Нью-Йорка. Но совершенно неожиданно, без всякой видимой причины Рита покончила с собой, бросившись с высокого берега на скалы, не оставив никакой записки. Ребенок перешел на попечение тетки с дядей. Новость в то время сильно поразила меня, но потом я подумала, что у Нелли теперь есть ребенок, которого она так хотела. Хоть он ей и не родной сын, но ведь и не чужой, родная кровь. Больше я о них ничего не слышала.
Я еще долго перебирала всякие подробности нашей жизни с Павлом. Воспоминания приносили сладость и боль одновременно. И все же это состояние было лучше, чем та ледяная пустота, в которой я себя ощущала после столь памятного разговора с Лилькой. Лилька, моя Лилька, с которой я столько лет дружила, которую я, как мне казалось, хорошо знала! Предательница Лилька. И все же, несмотря ни на что, совсем выкинуть ее из сердца я не могла, слишком большое она там нагрела местечко. В последнее время она звонила мне несколько раз, хотела узнать, нет ли каких известий о Павле, не сообщили мне что-нибудь из милиции. С каждым звонком тон ее становился все агрессивнее, она говорила со мной так, будто я держала Павла связанным под кроватью. Все это задевало, но я не обижалась, понимая, что ею владеет тревога за Павла, неуверенность в завтрашнем дне, беспокойство за судьбу будущего ребенка. Вот она и нервничает, срывается на мне.
Случайно мой взгляд упал на часы. Ничего себе, скоро десять! И тут раздался звонок в дверь. Кто мог прийти ко мне в это время? Разве что Света, соседка снизу. Она врач, мы с ней взаимовыгодно приятельствуем: она мне — бесплатные медицинские советы, а я ей — внимание и сочувствие. Но это оказалась Лида, сестра Павла, и в каком виде! Когда я увидела ее бледно-землистое лицо, бессмысленный взгляд и растрепанные седые волосы, у меня подкосились ноги. Лида вошла как сомнамбула, захлопнула дверь и привалилась к стене. Смотрела не на меня, а куда-то в пространство. Я не стала ни о чем ее спрашивать, молча взяла за руку и повела в кухню. Усадив на табуретку, задумалась: можно ли ей сейчас выпить? Она сидела с тем же отсутствующим видом, и я решила, что спиртное ей ни к чему, уместнее лекарство, но вот какое? Она и всегда-то принимала таблетки чуть ли не горстями, а сейчас и подавно наглоталась. В конце концов я не придумала ничего лучше, чем налить ей чаю. Она взяла чашку в руки и застыла. Я наклонилась к ней:
— Выпей, Лида.
Последние несколько недель из-за исчезновения Павла мы ежедневно перезванивались, но не виделись давно. Я поразилась происшедшей с ней перемене. Лида и раньше прихварывала, а непонятное исчезновение брата совсем выбило ее из колеи. Она была старше на восемь лет, отец их бросил, мать умерла от рака, когда Павлу было одиннадцать лет, так что Лида заменила ему мать. Личная жизнь у нее не сложилась, и всю нежность и заботу она направила на брата. Сейчас передо мной сидела старуха, древняя старуха: кожа на лице пожелтела и сморщилась, рот запал, руки мелко тряслись. Лида рассеянно сделала несколько глотков и попыталась поставить чашку в никуда, в воздух, так что я едва ее перехватила. Неожиданно она произнесла тонким бесцветным голосом:
— Как я жить теперь буду? Женя, скажи мне, как?! Я растерялась: скорее всего, Лиду опять вызывал следователь и от этого она разнервничалась. Пока я придумывала, как ее успокоить, она продолжила все тем же чужим голосом:
— Ему-то хорошо, ему все равно теперь, а я? Я маме обещала о нем заботиться, она ведь не простит, когда мы с ней встретимся, ох, не простит!
Господи! О чем это она? Какая мама? Она умерла давно.
— Лежит синий весь, и лица почти нет, А сердце сразу почувствовало — он это! Он!
Лида начала раскачиваться на табуретке. Я все еще не понимала, но сердце почему-то сжалось. Лида закрыла лицо руками и закричала без слов, заплакала. Вот теперь до меня наконец дошло, я обняла ее, молча гладила по голове, спине, рукам, а в голове болезненно звенела и билась мысль: «Не мог он умереть! Как же он мог, как?!»
У могилы я стояла в каком-то отрешенном состоянии, словно это вовсе и не со мной происходит, и это не я, а другая женщина хоронит бывшего мужа, отца своих детей, хоронит несбывшуюся огромную любовь. Немногочисленные родственники Павла сгрудились у самого гроба, поддерживая Лиду, я с ребятами стояла чуть в стороне. Слез не было. Позже всех подошла Лиля и стала поодаль. Выглядела она неважно, лицо бледное, отекшее. Одета в довольно дорогой брючный костюм с широкой блузой навыпуск, но живот все равно был виден, срок, наверное, месяцев шесть-семь. С Лидой они даже не посмотрели друг на друга. Меня мучила мысль: знает или не знает Лида о том, что Лилька носит ребенка от ее брата, и сказать ли ей об этом? Но решила не вмешиваться, они взрослые люди, сами разберутся, меня это все, в сущности, не касается. Наконец гроб закрыли, стук молотка ударил по нервам. Но отчего-то стало легче. Я так и не смогла заставить себя поцеловать его мертвого, изуродованного, страшного, даже цветы положила не глядя. Не хочу помнить его вот таким — только живым!
На поминки мне страшно не хотелось идти, я предпочла бы помянуть Павла только с детьми. Но Лида неожиданно вцепилась мне в руку, совершенно не слушая, что я ей говорю. Я смирилась с ситуацией. Поминки хотя и проходили в Лидиной квартире, но руководила всем одна из ее двоюродных племянниц Тамара. Эта Тамара ненавидела меня с первого взгляда. Вечно измышляла всякие гадости и рассказывала их направо-налево. Лично с ней мы виделись считаные разы, но сплетницу это не останавливало. Даже Лида несколько лет назад сообщила мне, что Тамара считает абсолютной виновницей нашего с Павлом развода меня, и даже утверждает, будто я исковеркала Павлу жизнь. Хотелось бы знать чем?
Поминки затягивались. Вся энергия Лиды, похоже, ушла на то, чтобы заставить меня приехать сюда, и теперь она опять молчала. Тамара сновала из кухни в гостиную, ей было не до меня. Единственное, что она себе позволила, — это пару злобных взглядов. Я украдкой посмотрела на часы — стрелки словно остановились. Обвела глазами присутствующих: большинство вяло жевали, Лилька уставилась в чистую тарелку. Лида вдруг заговорила дрожащим, неуверенным голосом, но по мере того, как она говорила, голос ее окреп:
— Когда Павлику было почти пятнадцать, он как-то попросил у меня денег на мороженое, я ему дала. Он обещал вернуться через час. Его не было долго, часа три-четыре. Обычно он держал слово — сказал, через час, значит, через час, и я места себе не находила. Хотела уже пойти на угол к гастроному, найти его, но тут раздался звонок, слабенький такой звоночек. Открываю дверь, а он стоит — в чем душа только держится! Лицо и руки в крови, глаз заплыл, губы распухли, двух зубов нет, дышит часто, я чуть сознания не лишилась! Но не время было падать в обморок, я кое-как скрепилась, помогла ему войти в дом, сняла с него порванную рубашку и испачканные брюки. В этот день я его ни о чем не спрашивала, только лечила ссадины и меняла холодные компрессы на кровоподтеках. А на следующий приступила к детальным расспросам: кто его так изуродовал? Все было, как я и думала: двое ребят постарше хотели отнять у него деньги, а он не давал, вот они его и избили. Но сколько я ни спрашивала, что это за ребята, знает ли он их, мне так и не сказал. Видно, знал, но не сказал. А я хотела пойти к их родителям или в детскую комнату милиции — двое ведь на одного, да еще и старше. Пока синяки не прошли, Павлик в школу не ходил. Унизительно ему было показаться в таком-то виде, он ведь гордый был. Я за учебу не переживала, он все равно лучше всех в классе учился, а может, и во всей школе. Потом несколько дней все бегал куда-то, да, видно, неудачно, приходил хмурый, отмалчивался. И вот как-то пришла я с работы, вижу — настроение у него хорошее. Спросила, а он мне и признался, что записался в какую-то спортивную секцию, я уже забыла, как она называлась. Нужны деньги на форму и еще на что-то, кажется, инвентарь, немало денег. А я как раз премию тогда получила, хотела куртку ему купить новую, тут же их все и отдала, лишь бы он был счастлив. Прошло сколько-то месяцев, мальчик исправно ходит на занятия в секцию, не бросает и вроде доволен, ну и я за него радуюсь. Про тот случай я уж и думать забыла, а Павлик не забыл, не-ет. Возвращается раз с занятий позже, чем обычно, рубашка порвана, на левой щеке синяк, и глаз немного заплыл, но довольный, смеется. Я оторопела прямо. А он мне и говорит: «Сеструшка, — он меня так часто называл, особенно когда настроение у него хорошее, — сеструшка, ты помнишь, как меня избили год назад и деньги отняли? Я рассчитался с этими подонками. Их было двое, но я и один с ними справился». Очень он был тогда возбужден, весь вечер только об этом говорил и смеялся много. Но не потому, что был злым и жестоким, просто он уже тогда был настоящим мужчиной, а мужчина должен уметь постоять за себя. А так он был очень хорошим и добрым. Ведь правда, Женя?
Лида застала меня врасплох. Было так невыносимо больно слушать, с какой любовью и гордостью говорит она о брате. Я как раз думала в этот момент: правильны ли были мои претензии к Павлу? Теперь все они казались мелочными. Может быть, и в самом деле права Тамара, я испортила Павлу жизнь? Но чем же, чем? Тут я вспомнила все то ужасное, грязное, что сказал следователь о жизни Павла и о причинах его смерти, и мне стало нехорошо. Этими сведениями я ни с кем еще не делилась, думаю, что и не поделюсь. А тут еще вопрос Лиды о его доброте. Мужественный — да. Смелый — наверное. Но доброта, отзывчивость?.. Вот уж нет! Павел и отзывчивость — да это просто смешно! Но ведь не скажешь об этом его сестре, и где, на поминках!
— Да. Да-да, — наконец выдавила я.
Катька, которая давно оправилась после кладбища, стрельнула в меня насмешливым взглядом. Лида, казалось, только и ждала моего подтверждения и тут же продолжила вспоминать:
— А на втором курсе МВТУ он вдруг влюбился. Женечка, ты не обижайся, это ведь еще до тебя было.
Той девочке было только семнадцать, хорошенькая, как кукла. Ребята за ней стаями ходили, а она и глазом не моргнет, такая самоуверенная, хоть и молодая. Как-то она мне сразу не показалась. Я понадеялась, что при стольких-то кавалерах она на Павлика и не посмотрит, хотя в душе понимала, что вряд ли. Ведь Павлик был такой красивый, такой видный, и это несмотря на дешевую одежду. Не получалось у меня заработать на дорогие и модные вещи, эх! Как я боялась, так и вышло, Павлика она сразу заприметила. Стала я тогда разузнавать, кто она, да чья, да откуда. Оказалось, через два дома от нас живет. Побывала я у нее во дворе, поговорила с бабками, что возле подъездов сидят, бабки-то эти все про всех знают. И таких страстей они мне порассказали! Матери у девчонки давно нет, куда делась, никто не знает. То ли уехала куда, сбежала из дома, то ли сама умерла, то ли ее муж убил. Отец девчонки форменный бандит! Гости у них часто бывают, а вид у них у всех такой — тюрьма по ним горючими слезами обливается. Я, как все это узнала, так сразу к Павлику. Брось, говорю ее, брось. Затянут они тебя, и не выкрутишься. А он мне в ответ — нет, я ее очень люблю, а она будет меня слушаться, а не отца. Уперся на своем и ни в какую, как уж я его ни уговаривала. А потом смотрю как-то, а он не в себе, я к нему с расспросами. Павлик сначала ничего не хотел мне говорить, а потом признался, что испытание какое-то она для него придумала. Мол, если любишь меня, то сделаешь. А вот какое испытание, он мне так и не сказал, вроде как знать мне этого не надо, чтобы я не нервничала. Что, Пашенька, спрашиваю, такое страшное испытание? Тяжелое, говорит, рискованное, и не знаю, говорит, решусь на него или нет. Я уж тут и спать перестала, ночами ворочаюсь, не могу уснуть, представляю себе всякие ужасы. Да и Павлик мается, я же вижу, с лица спал, ничего не ест. Наконец, в воскресенье решился он, нервничать перестал, в лице вроде жесткость какая-то появилась. Сказал, что ближе к вечеру пойдет к ней, а там будь что будет. А как сели с ним обедать, у него вдруг живот сильно заболел, рвота началась, температура подскочила. Я неотложку вызвала, его сразу же увезли в больницу, оказалось, аппендицит. В другое время я бы переживала, а тут обрадовалась даже. Может, думаю, пока он в больнице, все и переиначится, все их отношения. Выписали его на восьмой или на девятый день, так он в тот же день к ней и пошел, я вздумала было не пускать, да куда там! Взрослый ведь, за ногу не привяжешь. Обратно пришел быстро, меньше чем через час, прошел на кухню, сел на табуретку и смотрит в одну точку. Что, спрашиваю, не видел ее, не получилось, что ль, встретиться? Отчего же, видел, говорит, а сам усмехается как-то нехорошо, криво. И что теперь? — спрашиваю. А ничего, говорит, все, конец. Очень мне хотелось тогда узнать, что да как, но вижу, переживает уж очень, прямо белый весь, и не стала к нему лезть. А он к ней больше и не пошел ни разу. Ходить к ней не ходит, но и на человека не похож, молчит все, думает о чем-то. Месяца через три она вдруг сама звонит ему по телефону. А я голос-то ее помню и говорю Павлику: эта, кукла твоя звонит. В первое-то мгновение он было дернулся, подойти хотел, но потом передумал: нет меня, говорит. Больше она ему не звонила. Долго он потом еще переживал, но время все лечит, забыл все-таки. А я потом стороной узнавала о ней. Отца ее опять посадили, она выскочила замуж за кого-то из своих воздыхателей. То ли муж ей неудачный попался, то ли в голове у нее ветер, но только стала она погуливать. А он, не будь дураком, выследил ее, застукал прямо в постели со своим дружком. Дружок-то успел убежать, а ее муж так избил, что едва до больницы довезли, она и умерла. А ведь совсем молодая, еще девятнадцати не было. Вот тебе и судьба, даром что красавицей слыла. А Павлика Бог тогда спас, беду от него отвел. Я ведь тайком ходила тогда в церковь, молилась да свечки ставила. Вот и вступились за него светлые силы, не дали пропасть честному человеку.
Лида замолкла. Я тут же стала выбираться из-за стола, ведь если Лида опять примется вспоминать, будет труднее уехать. За мной и ребята стали подниматься, но все наши планы нарушила Лилька. Все это время она внимательно слушала Лиду, пристально глядя ей в лицо. И как только та замолчала, неожиданно для всех разразилась гневной речью:
— Честный человек, говоришь? Ха-ха! Нет слов, какой честный! Мало того что бандит, так своих же подельников обмануть хотел, вот и пристрелили его, чтоб другим неповадно было. Что головой трясешь? Ведь убили же его, не сам умер. Не надо так смотреть на меня и овцой прикидываться. Со мной следователь не очень-то разговаривал, а уж тебя, Лид, он раз десять вызывал, не меньше.
— Не твое дело! Это недоразумение, поняла? А тебе тут вовсе делать нечего, чего ты примазалась? Я тебя не приглашала, мне посторонние тут не нужны.
Я привстала опять, чтобы попытаться погасить набирающий силу скандал, который мало того что был безобразным сам по себе, но и мог иметь бог знает какие последствия для его участников. Здоровье Лиды в данный момент было очень хрупкое, а Лиля беременна, и чувствовалось, что нервы у нее на пределе. Но мое вполне невинное движение только ухудшило дело, скандал разгорелся еще пуще и обратился против меня. Когда я привстала, Лида повела в мою сторону рукой:
— Ты, Женечка, сиди. Ты-то здесь своя, родная, а эта шалава пусть уходит!
— Ага! Значит, эта пролаза Женька своя, а я с пузом, в котором ребенок Павла уже вовсю ножками сучит, чужая! И я, стало быть, шалава, а твоя драгоценная Женечка вся из себя порядочная и хорошая. А чего ж тогда твой Пашка от нее, порядочной, ко мне, непорядочной, в постель бегал, а? Не знаешь? А я тебе скажу. Женька и не любила его никогда, только корчила из себя добродетельную жену и мать. А сама все в облаках витала да книжки дурацкие читала. А я баба простая, нормальная, дают — беру. А чего не взять-то? Мужик красавец, и в постели будь здоров, и на деньги не жмотничал, как раз по мне. А Женька дурында, со своими книжками да всякими принципами и не разглядела, что мы у нее под носом любовь давно крутим!
Лида ошеломленно молчала и слабо поводила головой, словно воротничок черной блузки натирал шею. Я попробовала утихомирить Лильку:
— Лиля, помолчи, я прошу тебя!
— Раньше надо было просить, голубушка, раньше, когда ты еще его женой была. Да только я тебе никогда бы его не отдала, хоть на коленях передо мной ползай, хоть плачь в три ручья. Хватит с тебя, что ты его бывшая жена. Да с тобой и бывшей до сих пор считаются больше, чем со мной. Лида ни во что меня не ставит. Даже следователь мной не интересовался, а вдруг бы я знала чего, так нет. Как будто и нет меня вовсе. Только ты да ты, тоже мне сокровище какое! Да я, если хочешь знать, в тысячу раз лучше тебя, и умнее, и красивее. Да, красивее!
Выпалив все это, Лилька расплакалась и выбежала из квартиры. Эта гадкая сцена произвела на всех удручающее впечатление. Только Тамара явно получила удовольствие. Глаза ее так и посверкивали, и смотрела она на меня с вызовом: что, мол, получила?! Я задержалась еще ненадолго, чтобы не столкнуться ненароком с Лилькой. Этот ее неожиданный выплеск эмоций, хотя и был мне понятен, тем не менее поставил точку в наших многолетних отношениях. Нервы и у меня не железные, хватит! Я не желала ее больше видеть. Но нужно было успокоить Лиду. Впрочем, говорить мне ничего не пришлось.
— Жень, ты даже не думай, ребенок у нее не от Павла. Она могла залететь от кого угодно, чтобы только его окрутить. Она же всегда на него зарилась, я не слепая, все видела.
Раз такой взгляд на последние события успокаивал Лиду, я не стала подвергать его сомнению. Мы попрощались и ушли. На прощание она крепко расцеловала меня и Котьку. Катька от поцелуя ловко уклонилась. Лида просила навещать ее и почаще звонить, я обещала. В метро мы с ребятами расстались, Котька торопился к больной жене. Вид у него был совершенно потерянный, и неудивительно, подобные выяснения отношений и мерзкие бабские штучки действуют на мужчин тошнотворно. Катюха же, наоборот, никуда не спешила. Олег ее пребывал в деловой поездке, Мишутка — у свекрови, и она решила заехать ко мне помянуть отца. По дороге мы купили бутылку коньяку. Я хотела купить сухого вина, поскольку мы немного уже выпили у Лиды, но Катька заупрямилась и настояла на своем, мол, после таких сцен нужно что-нибудь покрепче. Что ж, коньяк так коньяк.
Отпив глоток, я внимательно посмотрела на дочь. Меня все-таки тревожило, как она восприняла поразительные новости об отце: она всегда его любила, а тут такой удар по его авторитету. Дочь казалась спокойной, но я угадывала какое-то внутреннее волнение. Несколько минут длилось молчание, наконец Катя отставила пустую рюмку, потянулась и нервно зевнула.
— Я вижу, что тебя это все достало. Но зря ты так переживаешь, мамуля! Лично я нисколько не удивлена, что отец был связан с бандитами, его всегда тянуло на авантюры. Я уже лет в пятнадцать поняла, что он пройдоха и кобель тот еще! Кстати, он сразу смекнул, что я его раскусила. И знаешь, ему это, кажется, даже нравилось. Во всяком случае, он весьма охотно отстегивал мне денежки, и просить не надо было, сам спрашивал: не нужно ли, дочка? А вот Котька, как ни ловчил, так и не сумел к нему примазаться, папаша ему ни гроша не давал. По-моему, отец и не любил его совсем, называл «амебой». Не любил он слабаков. Вот сам он был настоящим мужиком. Ого, как тебя передернуло! Знаю, знаю, не любишь, когда я так говорю, но только брось ты свои принципы, они ни к чему. Только вот что странно — отец всегда считал себя эдаким сверхчеловеком, а пришил его какой-то паршивый бандитишка. Не очень-то все это вяжется.
Катька допила вторую рюмку и хихикнула:
— А ведь признайся, мамочка, для тебя он всегда был непревзойденный герой, прямо-таки свет в окошке. Отца жаль до соплей, тем более такая нелепая, дурацкая смерть! Но может быть, хотя бы теперь ты выйдешь, наконец, из гипноза и найдешь себе хоть самого завалященького мужичка, а, мам? Ведь ты же одна потому, что всех знакомых мужиков с отцом сравниваешь? Ясное дело, все они рядом с ним пустое место, а теперь все, нет твоего героя. Слушай, мам, а ты веришь, что твоя драгоценная Лилька и вправду от отца залетела? Ха-ха! Чтобы отец польстился на эту жирную шлюху? У него знаешь какие бабы были? О-го-го! Красотки как на подбор, моложе меня, между прочим. Думаю, тетя Лида права, твоя толстуха просто хотела отца заловить. Она ведь тебе всегда завидовала, правда, правда, вот только я никогда не могла понять чему. Но в любом случае у Лильки облом вышел. А она-то уж небось радовалась, что удалось тебя обскакать. Все! Нет больше вашего яблока раздора, закатилось оно, теперь не достанешь!
Тут Катька не выдержала и все-таки расплакалась. Я стала ее утешать, предложила ей кофе, но все как-то автоматически, настолько меня ошеломила ее циничная речь. Кофе она выпила, быстро успокоилась, попудрила нос и позвонила свекрови, что скоро заедет за ребенком. Небрежно чмокнула воздух возле моего уха и ускакала.
Ночью я долго лежала без сна и не могла прийти в себя. Теперь, когда события этого чересчур насыщенного дня отошли в прошлое, я осталась одна, мне не надо было ни перед кем держать марку и притворяться спокойной, я чувствовала себя раздавленной, оплеванной, униженной до глубины души. Кажется, не осталось ни одного человека в моем окружении, который, так или иначе, не кинул бы в меня камнем. И самое главное, что я сама в этом виновата, сама! Как холодно, как же мне холодно! Может быть, выпить еще чашку чаю? Нет, выпью я лучше коньяку, пожалуй, даже большую рюмку, согреюсь и смогу уснуть. Сколько сейчас? Уже два часа ночи. Нет, мне не нужен коньяк, разве алкоголь может изменить хоть что-нибудь? И не согреет он меня, этот холод у меня внутри, в моей душе, в моем сердце. Мне сорок семь лет, сорок семь! Я была замужем, вырастила двоих детей. Я выжила в восемнадцать лет, когда в автомобильной катастрофе погибли мои родители, не сломалась в тридцать, когда развалился мой брак. Меня не сделала брюзгой неудачная личная жизнь. У меня есть скромный заработок, я независима, числюсь неплохим редактором, многие меня считают умным человеком. Может быть, я не жила до сих пор, а спала и все мне только снилось? Все в жизни, буквально все, оказалось совсем не таким, как представлялось. Кто же я? Моральный банкрот! Идиотка, пускавшая мыльные пузыри и ничего не понимающая ни в жизни, ни в людях? Мало того что Павел и Лилька много лет обманывали меня, смеялись за моей спиной! Оказывается, Павел был связан с криминалом, да мне такое и в самом страшном сне не могло присниться! А Лилька? Моя Лилька, которую я считала хотя и взбалмошной, но доброй и мягкой, совершенно неожиданно обнаружила звериный эгоизм и злобу! А по отношению ко мне — тупую, завистливую ненависть! А с каким цинизмом говорила со мной дочь! Господи, как я могла до такой степени быть слепой?
Когда болеть, как не в октябре? Вот я и болею. Сырая промозглая погода, с неба сыплется мелкая нудная морось, под ногами хлюпает, и я захлюпала за компанию с погодой: горло заложило, из носа течет, глаза красные. Работой не занимаюсь, по телевизору ничего интересного, книгу взяла — не читается. Пойду-ка почту достану, сегодня газета должна быть с кроссвордом. Вот она, родимая, а это что? Письмо! А, это же от Зины. Зина-Зинуля, своеобразная достопримечательность нашей семьи. Есть у меня троюродный брат Коля, живет в Ульяновске. Лет тридцать назад или чуть больше он женился на этой самой Зине. Помнится, семья его пришла в ужас, мои родители тоже много об этом говорили. А, шестнадцатилетняя, я не понимала, из-за чего скандал: ну и что такого уж страшного, что она детдомовская? Из них получаются прекрасные жены. Да, получаются, но вот из Зины, почему-то ничего путного не вышло. Колины родители все же расстарались, свадьбу сыграли пышную, а довольно скоро, где-то через месяц, Зина стянула из дома все деньги и золото свекрови и подалась куда-то в теплые края. Правда, вернулась быстро, через полтора месяца, видно, деньги все вышли. Плакала, просила прощения — свекровь прокляла, Коля простил, любил сильно. И все равно не задалась у них семейная жизнь, прожили около года да и разошлись. Казалось бы, на этом можно поставить точку и забыть благополучно шальную Зину. Ан нет! Проходит еще полгода, и вдруг она заявляется к ним домой и сообщает бывшим свекру и свекрови, Коли в тот момент не было дома, что беременна от их сына. Им стало плохо! Тут и Коля с работы вернулся, ну и началось! Коля руками и ногами замахал, открещивается, заявляет, что после развода он Зину и в глаза не видел, не то чтобы спать с ней. Зина кричит: как ты можешь, да как у тебя язык только повернулся! Короче, стоит на своем — его это ребенок, и все тут. Конечно же родители поверили сыну, а не бывшей снохе, тем более что они уже сыну и невесту присмотрели по своему вкусу, и свадьба не за горами, а им навязывают какого-то ребенка, невесть от кого нагулянного, и кто? Женщина, которая им не нравилась с самого начала да еще так подло обманувшая. Зина не сразу отступилась, приходила еще пару раз, пыталась что-то доказать, скандалила, но бывшие родственники даже милицию вызвали. Пришлось ей убраться несолоно хлебавши. Через какое-то время родила она мальчика, имя ему дала как у бывшего свекра — Александр, отчество — Николаевич, а в графе отца — прочерк. Ребенка она тут же сдала в дом малютки, да ей и некуда было бы с ним деться, жила Зина тогда в общежитии, с ребенком ее туда и не пустили бы. Вскоре уехала из города и не появлялась пять лет. Вернувшись, сняла комнату в маленьком доме на окраине города у какой-то старушки и взяла сына к себе. К этому времени мальчик находился уже не в доме малютки, а в детском доме, и в весьма жутком. Ребенок был очень запущен: болезненный, нервный, мочился в постель и плохо говорил. Зина немало с ним помучилась, но через три года ей удалось довести сына до нормы, и она с опозданием на год, но все-таки отвела его в первый класс. Сначала учился он очень слабо, но потом стал выправляться, учеба наладилась. Когда мальчику исполнилось десять лет, Зина привезла его в Москву и прямо с вокзала позвонила мне. Откуда узнала номер, не знаю. Довольно долго объясняла, кто она и кем мне приходится. Не очень-то мне хотелось пускать Зину в дом, но ведь с ней был маленький Саша. Делать нечего, я дала адрес. Приехали они поздно, ужинать не стали, и я сразу уложила их спать. Рассмотрела я своих гостей только утром за завтраком. А когда рассмотрела, то мне стало не по себе! Зина довольно симпатичная, крупная женщина, хорошо и модно одетая, видимо, неплохо зарабатывала. А вот ее ребенок Саша был в то время очень худеньким и маленьким для своих десяти лет, сказывались трудные первые годы его жизни. Но дело, собственно говоря, не в этом. Я оторопела, увидев, что он как две капли воды похож на моего двоюродного дядю Александра, бывшего Зининого свекра, в честь которого и был назван. А это значило, что Зина говорила правду — отцом ребенка был Коля! Ошибиться я никак не могла. После гибели моих родителей я столько раз рассматривала альбомы с фотографиями, и на многих из них мой отец был снят со своим двоюродным братом Сашей, с которым очень дружил в детстве. Зина, которая зорко следила за моей реакцией на ребенка, увидев, как у меня расширились глаза, невесело усмехнулась и кивнула.
— Подожди, подожди, я ничего не понимаю. Как же это? Они что же, ни разу не видели мальчика? — не очень-то внятно забормотала я.
Но Зина поняла:
— Ну, отчего же, видели.
— И что же? — все еще не понимала я.
— А ничего. Похож не похож, не хотят они его признавать и все, тут уж ничего не поделаешь. Да и мне теперь все равно. Это раньше, когда деваться было некуда да и денег кот наплакал, вот когда они мне были нужны. Я прямо обезумела тогда от ужаса, не знала, что делать. Теперь-то крепко на ногах стою. Не нужны нам эти крохоборы. Пусть они Сашеньке и родня, ближе некуда, да разве они будут его любить так, как я? Они, поди, и вовсе любить не умеют, лицемеры эти, у них в голове арифмометр постоянно крутится, деньги считает. Не нужны они нам с Сашенькой.
Зина была в отпуске, приехала с сыном посмотреть столицу. Она попросила разрешения побыть у нас дня три-четыре. Моя Катя, которой тогда исполнилось восемь, отдыхала в санатории, а шестилетний Котька еще ходил в детский сад. Я прикинула да и взяла на работе отгулы. Забрала из садика Котьку, решив, что сама покажу гостям город, который хорошо знаю и люблю. Уставали мы все ужасно, но зато побывали в стольких интересных местах, столько всего увидели! Нечего и думать, что мы смогли уложиться в три дня, десяти-то еле-еле хватило. Первым делом повезла их в зоопарк. Потом были в Уголке Дурова, в цирке, попали на очень смешной утренний спектакль в ТЮЗе. В Сокольниках и ЦПКиО перекатались чуть ли не на всех аттракционах, проехались на речном трамвайчике по Москве-реке. Посмотрели Красную площадь, слава богу, в мавзолей они не запросились, были на ВДНХ, а уж в метро накатались! Зина была довольна, а уж о мальчишках и говорить нечего. Нельзя сказать, что дети сдружились, уж очень они разные. Котька был моложе Саши на четыре года, спокойный, не задиристый мальчик, ласковый и открытый. Саша же сначала всего стеснялся, мне он отчего-то напоминал туго скрученную пружину, но понемногу отошел, стал больше нам доверять и даже смеяться иногда. Первый раз он развеселился в зоопарке. Долго стоял у вольера с обезьянами, смотрел на их ужимки, прыжки и кривлянье и вдруг как захохочет. В Уголке Дурова тоже была обезьянка, одетая в ярко-желтые штанишки и жилет. Саша обрадовался ей как старой знакомой. За этот смех сына Зина была очень мне благодарна.
Засиделись мы как-то вечером с Зиной на кухне, мальчишки наши давно уже спали, набегавшись за день, а мы все болтали с ней о том о сем. Я ей немного о своей жизни рассказала, о Павле, конечно, мы с ним как раз недавно развелись, и я все еще очень сильно переживала. Зина слушала меня очень внимательно, сопереживала, а потом вдруг рассказала мне свою историю, полночи мы тогда с ней проговорили.
— А ничего, собственно, в моей истории интересного и нет. Только молодость и глупость, больше ничего. Ты ведь знаешь, я в детдоме выросла, родителей у меня сроду не было, меня грудную в помойном баке нашли, представляешь? Ну вот, закончила я ПТУ, выучилась на маляра. Работала на стройке, жила в общаге. Самое счастливое время у меня тогда было. Мы с девчонками на танцы бегали, почитай, каждый день. Вот на танцах-то я с Колей и познакомилась. Его туда какой-то приятель уговорил пойти, раньше он и не ходил никогда. Ребятам я тогда нравилась. А что — молодая, мне еще и восемнадцати не стукнуло, веселая, заводная, меня всегда приглашали, у стенки-то никогда не стояла. Но лишнего никому не позволяла, не любила я этого, если кто чуть руку протянет, так я ему сразу по морде — хлоп! А тогда танцую, смотрю: какой-то новенький появился — сам ничего, симпатичный, но худенький! И видно, что боязливый. И че я завелась тогда, сама не знаю, говорю в перерыве между танцами девчонкам: спорим, говорю, закадрю новенького, через неделю с рук у меня есть будет. Эх, знала бы я тогда, во что ввязываюсь! Но ума-то совсем еще не было, домашних мамы учат разуму, а меня кто? Девчонки меня знали, а все ж поспорили для интереса на шоколадку, ну я и подошла к нему. Ух и засмущался же он! Теперь-то я уж и не помню, что ему тогда говорила, небось ерунду какую-нибудь, только просто все оказалось, даже и не интересно, сразу ко мне прилип. Ну ладно, стали мы с ним встречаться, поначалу-то мне непривычно было. Я к другим ребятам привыкла: побойчее, погрубее, попроще, одним словом. А этот руки целует, рассказывает всякие вещи интересные: где был, чего видел, может, и врет, но складно так, а мне все интересно, да и внимание лестно. Короче, слово за слово, и уговорил он меня, как, когда, я даже не приметила, а ведь до него девочкой была, представляешь? Он потом весь сияет, что твоя лампочка, такой гордый, что прямо и не сказать. Я, говорит, твой мужчина, единственный и на всю жизнь. Как он это сказал, мне так тоскливо и страшно стало, пожалела я, что с ним связалась, и как дальше теперь жить — не знаю. Ему-то что, он мужчина, и дом у него есть, а я? Через пару месяцев мне восемнадцать стукнуло. Коля своих-то родителей, видно, хорошо знал, взял да и расписался со мной тайком. Свидетелями подружки мои были, думала, что и попразднуем мы с ними, хоть в кафешке какой захудалой, да не вышло. Коля от моих подруг как от чумных каких шарахался, даром что помогли нам. Чтобы больше, говорит, не дружила с ними, ни к чему они теперь тебе, у тебя теперь я есть. Так и не попраздновали. Я думаю, что не в одних подружках дело, денег ему жалко было, а ведь были у него деньги-то. Ну, повел он меня домой, а у меня, вот веришь, Жень, и ноги туда не идут. Думаю: как-то меня встретят? И правда, вытаращились чисто совы — молчат и глазами хлопают. А Коля им и говорит: мама, папа, знакомьтесь, моя законная жена. Я им совсем не понравилась, это было видно. И слова не успела сказать, а уже не понравилась! Так и стали жить. Нет, они со мной не ругались — то ли не принято было у них ругаться, то ли боялись, что отвечу им, а я бы уж точно нашла что сказать, за словом в карман не полезла бы. Но уж смотрели они на меня так, словно я кошка какая облезлая. Дня три я у них прожила, вдруг вздумали свадьбу делать. Но только сказали, что свадьба, а было так, не пойми что, вечеринка вроде. Купили бутылку водки, сделали винегрет, почистили селедки да картошки сварили. Я им говорю: у других-то на свадьбах шампанское пьют, хоть бы купили одну бутылку. Аж зашипели — мы и так, говорят, на тебя потратились! Скупердяи, одним словом. И мне позвать никого не разрешили, и сами никого не приглашали. Хозяйничать не разрешают и запирают ну буквально все. Я и смекнула, раз из детдома, то, стало быть, воровка. Вообще-то многие наши девки и правда на руку нечисты были, тырили где что плохо лежит. Только мне это не нравилось, и не потому, что я такая честная и хорошая, а просто не по душе: сама, что ль, не заработаю? А эти сразу запирать все кинулись, хоть бы посмотрели сначала, что я за человек такой. Мне поначалу смешно было, а потом такая тоска взяла, хоть волком вой! Я раньше лучше жила, в общаге с девчонками весело — мертвый и то рассмеется. На танцы бегали, с ребятами кадрились, интересно жить было. Мне и на стройке нравилось, грязно, правда, но я работать люблю. А тут Коля как женился на мне, так сразу с работы меня снял — нечего, говорит, в этой грязи копаться. А чего дома-то делать? Только пыль вытирать с утра до вечера да мебель ихнюю, над которой они трясутся, полиролью натирать. Пойти никуда не могу — не разрешают, да и денег нет ни копейки, даже в булочную и то не пойдешь, че там без денег-то делать? А читать я тогда совсем не любила, это я потом приучилась, уж много времени спустя. Одна тоска зеленая, а не жизнь. Я себе раньше все не так представляла, точно и не знаю как, но не так. Коля все — Зиночка да Зинулечка, а мне что-то не слишком от этого тепло, да и в постели с ним так и не понравилось. Тогда я еще не понимала, что да как: и зачем, думаю, это дело так все хвалят, ну ничего хорошего. Потом-то я поняла, что Коля мой в этом деле был жидковат, ну и эгоист, конечно, только о своем удовольствии и думал, даже не спросил меня ни разочка, как мне-то с ним. Как слезет с меня, гордый такой, поворачивается спиной ко мне и спит. А мне и тошно, и противно, хоть плачь, но я не плакала, много чести из-за такого плакать. Плакать не плакала, а на душе-то копилось все. И такое меня как-то зло разобрало, нашла я у них деньги и золото ихнее, думали, не найду, а я сразу нашла, взяла, правда, не все, только половину денег, а из золота всего лишь колечко одно. Да и то чтобы свекровь позлить — раз ты думаешь, что я воровка, так вот на тебе, сопру твое колечко! В общем, совсем дурочкой была. Колечко-то это мне и не нравилось совсем, я его подружке отдала, побрякушки всякие, блескушки не любила тогда, да и сейчас не люблю. Оставила им записку, что поехала в теплые края, к синему морю, не поминайте, мол, меня лихом. А никуда я ведь, Жень, и не ездила, побоялась, все время у подружек проторчала, то у одной, то у другой. Одно слово — дурочка! Может, и надо было поехать, кто знает, как бы жизнь повернулась, как сложилась, да, видно, не судьба. Ну да я не жалею, ни о чем не жалею, почти ни о чем. Деньги-то быстро у меня все кончились, думала, что надолго мне их хватит, да быстро разбросала, расфукала на конфеты, мороженое, на ерунду всякую. А у подружек-то и у самих негусто, нет, ты не думай, они меня не гнали, я сама ушла. А че, пойду, думаю, попробую, авось и примут назад, ну а если завернут оглобли, в общагу попрошусь. Особо-то не надеялась, да и не очень унижалась, но прощения все-таки попросила, понимала, что есть за что, стыдно мне было. Но, как ни странно, приняли. Свекор промолчал, он не шибко говорливый был, да и не решал ничего, а свекровь выдала:
— Ничего другого от тебя и не ожидала.
Зато Коля мне как обрадовался! Но знаешь, он все-таки какой-то странный. Целует меня, обнимает. Люблю, говорит, очень скучал без тебя, а у самого глаза злые-презлые. Не понимаю я этого, ну, не принял бы, прогнал, а раз принял, то чего злиться-то? Стали опять с ним жить, да только плохо жили, нерадостно. Я стала на работу проситься, все равно на какую, лишь бы дома не сидеть да их поменьше видеть, так не пускает меня Коля. Я раз, другой, третий прошусь, не пускает, и все! Ну, думаю, че делать? Стала с ним ругаться, сначала тихо, а потом такой крик подняла, что аж чертям тошно стало, даже свекровь прибежала, вмешалась, а то ведь и не замечала меня вовсе. Да пусть идет, говорит, работает, все, говорит, лишняя копейка в доме. А Коля мать свою боится, я это давно заметила, отца-то нет, а мать боится. После скандала насупился как сыч и не разговаривает со мной, я на это ноль внимания, жду — будет результат какой или нет, а то ведь я и повторю ор-то свой, мне недолго. Ну, он молчал, молчал, у меня уж терпение лопнуло, тут он приходит и говорит: ладно, мол, твоя взяла, но на прежнюю работу не вернешься, пойдешь на другую, я тебе ее сам найду. Я удивилась, но возражать не стала, мне-то что, ищи, говорю, только побыстрее. Дня через три приходит с работы и говорит: пойдешь работать оператором на станки-автоматы на заводе, где я, говорит, инженером работаю, только в другой цех. Я очень удивилась сначала, думала, что со злости-то мне такую тошную работу подыщет, какие-нибудь бумажонки перебирать, а тут работа интересная, живая, чистая, да и платят хорошо. Вот, думаю, как он ко мне хорошо относится, стыдно мне за свой крик стало, да только оказалось, что зря я стыдилась. Начали меня учить на оператора, сразу не больно-то у меня получалось: работа тонкая, сложная, станки капризные, детальки делают малюсенькие, глаз да глаз нужен, смотреть надо сразу в десять мест, с непривычки и не уследишь за всем. Я, поверишь, Жень, даже плакала поначалу. Коля меня утешает, по голове гладит, а сам-то, видно, рад — брось, говорит, сиди дома. Ну, думаю, нет, авось не совсем я дура, как-нибудь справлюсь. Ну и что ты думаешь? Справилась, мастер меня все чаще хвалить начал, я радуюсь, дома Коле рассказываю, а он, голубчик мой, и поскучнел сразу. Тут я и смекнула — он-то надеялся, что на такой непростой работе я, дура неученая, не сумею, опозорюсь да и не сунусь больше никуда, дома буду сидеть, а по его-то и не вышло. Вскорости дали мне два, а потом и три станка, я справляюсь, поднаторела малость. Коля молчит, не говорит мне ничего, а глаза прямо как у волка. Да и то, поди, обидно ему, что зарабатываю я теперь больше, чем он, вот и злится. Да я к деньгам не больно жадная, что зарабатываю, почти на себя и не трачу, только самое необходимое себе купила, а так все домой приношу. Коля денег не берет, отворачивается. Вот свекровь, та сразу, как денежки увидела, глаза загорелись, цап — и в карман! На хозяйство — говорит, а какое уж хозяйство, все прячет, все копит, да мне-то что, пусть ее. На работе ко мне хорошо относиться стали, да и я с ними душой оттаиваю, мне с ними легко и просто. Дома-то как в тюрьме: ни разговора, ни улыбки, одни косые взгляды. А Коля чувствует, что мне с другими-то куда радостнее, чем с ним, видит, поди, на одном ведь заводе работаем, прямо бесится весь, да и ревновать начал. Я говорила с ним, пыталась объяснить, что просто так я болтаю и шучу и никогда ничего себе не позволю. Да разве ж он слушает? Чем дальше, тем больше его нечистая сила разбирает. А как-то совсем обалдел: ты, говорит, со мной до свадьбы жить стала, значит, и со всяким можешь. Ну вовсе с катушек съехал. Я отшутиться хотела, надоели скандалы, так он на меня руку вздумал поднять, ну, я ему и подняла! Руку-то назад вывернула, он и взвыл. Еще чего придумал — бить! Не на таковскую напал. Я ведь не домашняя, считай, на улице выросла, за себя всегда постоять могу, ну, он и струсил. Надоело мне такое житье хуже горькой редьки. А этот его попрек нелепый, что я с ним до свадьбы жить начала, и вовсе как последнюю точку в душе поставил. Пусть, думаю, меня маленькую в помойке нашли, но это еще не значит, что я так и соглашусь всю жизнь жить на помойке. Вот и заявила своему Отелло: все, говорю, я так больше жить не могу и не хочу, давай разводиться. Он, конечно, сразу хвостом завилял — что ты, что ты, Зиночка, да как же так, я ведь тебя люблю, я без тебя жить не могу! А мне так уж все обрыдло, так он сам опостылел, что я ему и отрезала — не можешь, говорю, не живи. И подала на развод. Детей нет, нас бы тут же развели, да он все тянет, говорит, хочу семью сохранить. А там, что ж, они его не знают, верят. Дали нам срок, подумать, значит, а мне что, думать нечего, я все уж давно передумала. А все равно, живу-то пока у них, на заводе обещали за хорошую работу комнату выделить, да ведь, как известно, обещанного три года ждут. А тут еще, как на грех, заболела я. Никогда не болела, здоровая как лошадь, да, видно, где-то грипп подхватила, еще такой тяжелый, прямо страсть, температура сорок, головы поднять не могу. До этого Коля со мной не разговаривал, даже не смотрел в мою сторону, а тут стал ухаживать за мной, лекарство подает, водички попить, ну прямо ангел какой. Может, думаю, зря развожусь-то? Но скрепилась, молчу. Отболела, назавтра мне на работу выходить, а я листка больничного никак найти не могу. Все перерыла, нигде нет, у этих всех спросила, никто не видел, а листок пропал. Мне бы, дуре, сразу в поликлинику бежать, еще один, глядишь, написали бы или выдали справку, что, мол, был у нее больничный лист, ведь в карте-то все записано. А я на работу побежала — так и так, говорю, не могу найти, буду еще искать. Вижу, начальник цеха мне не верит, мне обидно, ведь не виновата я, разгорячилась, доказываю ему, а он мне и влепил прямо в лицо, что я воровка и верить мне ни в чем нельзя. И все это на людях, мастера рядом стоят. Я поняла, что это Коля ему все про меня порассказал-то, ну как же, друзья-приятели. Тут и выложила я все, что думаю о нем самом и в основном о его приятеле. И тут же хлоп — заявление об уходе написала и ему на стол. Прощай, говорю, будь здоров, не кашляй, а сама заторопилась, чтоб не заплакать при народе-то, а пуще всего при нем. А начальник цеха мне в спину — не по собственному желанию, по статье уйдешь. Ну что тут делать? Повернулась да и пошла, народ мне вроде сочувствует, но молчит, против начальника цеха не попрешь — сила. Вернулась домой — ни жива ни мертва. А вечером Коленька мой ненаглядный и говорит мне, вроде ласково так: заберешь заявление о разводе, будешь со мной жить, тогда замну скандал. Будешь и дальше работать, как работала, а не захочешь — так уволят тебя по статье, нигде на работу больше не возьмут, с голоду сдохнешь. Вот тут я и поняла, куда делся мой больничный лист, аж в голову ударило. Никогда не будет по-твоему, и не надейся даже. И с голоду я не умру, работу всегда себе найду и на свой кусок хлеба заработаю, а если бы даже и сдохла, так и то лучше, чем с тобой, пакостником, жить! Тут же, несмотря на ночь, собрала кой-какие вещи свои да и ушла к девчонкам в общагу, где раньше жила. Мало что я из своих вещей тогда взяла, а остальные вещи они мне так и не отдали тогда, хотя все до последней тряпочки я на свои деньги покупала, не на ихние, да и не покупали они мне ничего, и Коля никогда ничего не дарил. Вот только не пойму, зачем им мои тряпки? Разве что другой снохе отдали потом, только неужто взяла? Я бы ни в жизнь. А по статье меня все же не уволили. Говорят, начальник отдела кадров был против. Уволилась я и сразу на старую работу, так и так, мол, берите, они и взяли. А чего ж не взять, небось помнят, что работаю я хорошо, не ленюсь, не халтурю. Только вот с койкой в общежитии никак сначала не могла пристроиться, во всех комнатах битком народу набито. Ну, так я себе в коридоре коечку поставила, нашла одну развалюху, сама починила ее и поставила. Все ж таки в коридоре, не на улице. А комендантша общаги орет: нечего здесь замужним делать, не положено, дескать. Я тихо-мирно объясняю ей, что развожусь, не сегодня завтра бумагу соответствующую получу, а она ничего не слушает, знай себе разоряется. Ох и не любила она замужних, у самой не получилось замуж выйти, вот и лютовала, завидовала. А чего, спрашивается, завидовать? Одной-то лучше. Спорить я с ней перестала, а сделала по-своему, ну, драться она ко мне, понятное дело, не полезла, да и девчонки все за меня были. Побежала она жаловаться к начальству, что они ей там сказали, не знаю, но только она от меня враз отстала. Вскорости ее уволили с этой должности, на пенсию отправили, стала вместо нее другая работать, эта вообще ни во что не вмешивалась, спала, что ли, на ходу, что хошь делай, ей хоть бы что. Как неживая, ее тут же прозвали Вошь Сушеная. А тут вдруг затеяли ремонт в общаге делать, не иначе как медведь какой в лесу сдох, сроду никакого ремонта не делали. Сама знаешь, когда ремонт, так ад стоит кромешный. Так вот в этом-то аду я для себя поживу и нашла, выделилась вдруг как-то одна крохотная каморочка, только и поставить что койку да тумбочку, а проходить уж боком. Я эту каморочку себе тут же цап-царап и захапала. Мне никто в этом не мешал, Вошь эта, по-моему, и не заметила даже. Как я этому пеналу радовалась-то, будто дворец какой получила! Вот на этих-то радостях и заявился ко мне в каморку Коля. Видно, девчата подсказали ему, где я обретаюсь-то, я ведь им ничего про него не рассказывала, то есть никаких подробностей. Не люблю я про себя особо много рассказывать, тебе вот только, чем-то ты мне, Женька, глянулась, душевная ты. Ну вот, пришел он, значит, а я ж отходчивая, не могу долго зла на человека держать, забываю. Нет, ты не думай, Жень, что я его прямо-таки с распростертыми объятиями встретила, нет, конечно, но и по башке поленом все ж не треснула, а надо было. Первый-то раз он недолго у меня пробыл, повертелся, побормотал чего-то да и ушел восвояси. Скоро, однако, опять пришел, пришибленный какой-то, бледный, все на жизнь жаловался, как ему плохо без меня да как одиноко. А ведь он в это время уже с другой амуры крутил, а я и не знала ничего. Говорят, что мы, бабы, через свою жалость бабью одни беды имеем, вот уж это точно. Пришел он в третий раз, а я с работы только что, усталая как собака и спать очень хотела, просто ужасно. А он чего-то все говорил, говорил, да вдруг и заплакал! А я, поверишь, Жень, первый раз мужика плачущего видела. Сейчас бы меня этим никто не взял — плачь не плачь, а тогда что, мне девятнадцать только было, хоть и строила из себя бывалую, а настоящей-то жизни не знала. Ну, я прижала его к себе, по спине глажу, утешаю, значит, а он, бедняга, весь дрожит, а сам меня на коечку, на коечку тихонько так толкает. Я уж вижу, к чему он ведет, да ладно уж, думаю, авось не убудет от меня, потерплю еще. Короче, утешила я его как надо, думала, что больше не придет, а он опять пришел. Тут уж я уперлась вроде, а он мне: да какая, мол, тебе разница, где один раз, там и другой, да и нет у тебя никого, я, говорит, знаю. Я скрепя сердце и согласилась, у меня и правда никого не было, от этого еще не оклемалась, ни о ком и думать пока не хотела. К тому же и не боялась я, ты прикинь, Жень, ведь год без малого с ним прожила не предохраняясь, а все ж не беременела, вот и не боялась. Больше Коля не пришел, утешился, значит, совсем. Понятно было, что это он надо мной верх взять хотел, будто не я его, а он меня бросил. Да мне на это наплевать, я в эти глупые детские игры сроду не играла, а, наоборот, радовалась, что отвязался от меня наконец, не чаяла, что так быстро получится. А как месячные мои не пришли, я улыбаться-то и перестала, ох и закрутилась я тогда! Ну что делать? Хочешь не хочешь, а надо идти к этим крокодилам. Как я к ним ходила, ты уж знаешь, лишний раз вспоминать радости нет. Только я вот хочу тебе объяснить, зачем я к ним еще-то раз потащилась. Ты понимаешь, ведь все не верилось мне, казалось, что они до конца не понимают, как же так, думаю, ведь это ж Колькин ребенок, кровиночка их. Все объяснить им хотела, я ведь своими ушами слышала, как свекровь себя порядочной называла, гордилась этим, словно званием каким, неужто, думаю, своего внука-то не пожалеет? Не пожалела. Что? Ну нет, аборт я сделать не могла, ведь это ребенок, живой ребенок, как же можно убить его?! Просто не могла, и все. Да и чувствовала, наверно, не знаю только чем, сердцем ли, печенкой, но чувствовала, что это мой единственный раз, другого у меня не будет. И точно, я ведь больше никогда не беременела. С общаги меня не сразу выкинули, пожалели маленько, сказали: живи до родов, а там как знаешь, сюда с ребенком уж не вернешься. Я беременная как чумная ходила, все думала, что дальше делать. Ну и нашла на свою голову одного советчика. По его совету я, как родила, сразу сказала, что мальчика не возьму. Отдала сразу, и грудью не покормила, и не поцеловала ни разу, а не то сердце бы разорвалось, а куда я с дитем? Меня выписали, а потом бумаги оформили, быстро, правда, я-то думала, что волокита будет. Сказала имя ребенка, отчество, ничего не придумала, теперь сама ведь видишь, Жень. Потом я уехала с этим гадом, а через пять лет вернулась, деньжат немного привезла. Э нет, Женя, этого я ни тебе да и никому не скажу, это со мной умрет: где я была, что делала. Я ни о чем не жалела, ни о том, что Кольку встретила, замуж за него без любви вышла, даже не зная его толком-то. Ни о том, что родила от него, а он и не признал ребенка, даже об этом не жалею, черт с ним. Но один-то раз я пожалела, ох как я пожалела, Женя. Это когда я пришла за Сашенькой, домой его забирать, к себе. Я, когда в город-то вернулась, ведь не сразу за ним пошла, да сразу мне, поди, и не отдали бы — ведь ни жилья, ни работы не было еще. Сначала я у бабушки одной комнатенку сняла. Дом старый, развалюшка без всяких удобств и на самой окраине, но зато тихо, чистый воздух, зелень кругом, а самое-то главное — хозяйка золотая, в смысле сердце у нее доброе, это я сразу поняла. Потом на работу устроилась маляром, а со временем и мастером стала. Бумаги оформила, и уж только когда все сделала, пошла за Сашенькой, а до этого и не видела его. Привели его, я как глянула — аж сердце оборвалось, такой он был, и не сказать! Какой-то даже не худой — прозрачный, кроме глаз словно и нет ничего, руки и ноги как зеленые стебельки. Про таких раньше говорили — не жилец. И не идет ко мне, упирается, но слабо так, видно, силенок-то совсем нет. Ему говорят: мама твоя, а он молчит, отворачивается. Воспиталка, что его привела, вздумала меня утешить: не обращайте внимания на его капризы, мы, говорит, не обращаем, он, мол, все равно ничего не понимает, поскольку умственно отсталый. Эх, сама ты, думаю, умственно отсталая, ни души, ни сердца! Подхватила своего на руки, да скорее, скорее оттуда!
Что ты говоришь? Каково мне пришлось? Да это все ерунда на постном масле, я все выдержать могу, но он-то такой маленький, в чем он-то виноват?! Нет мне прощения и не будет никогда! Разве бы он таким вырос, если бы всегда при мне был? И пусть бы мы с ним ничего, кроме черного хлеба, и не видели, ну так что ж, все же вместе. Ты посмотри, сколько лет уже прошло, а он и сейчас словно смеяться и жить боится. А как он кричит по ночам, когда ему кошмары снятся, что ни делаю, они все равно ему снятся. А ведь знала я, на своей шкуре знала, что такое детский дом! Моя шкура дубленая, а у него-то? За деньгами погналась, как же без них, думаю, ребенка вырастить? А ребенку нужна прежде всего любовь, мать ему нужна, а все остальное потом. Бабулька, у которой я жила, мне хорошо помогала и к Сашеньке сразу же привязалась. Она меня и успокоила: и-и, милая, не бойсь, выходим, не таких выхаживала. Бабка-то не простая была, целебную силу трав знала, хорошая бабка, царствие ей небесное! Словно бы с родным внуком нянчилась. Да недолго мы с ней пожили, умерла она, старая уж очень была.
Дом свой она на меня записала, сама так решила, я ее и не просила, да и то сказать, больше ей и не на кого было записывать-то, одинокая она была. В последние несколько лет в нашем городе строительство полным ходом идет, вот и до моей окраины добрались, стали сносить частный сектор. Два года уж будет, как дали и мне квартиру двухкомнатную. Сначала я в восторге была, все мне нравилось: квартира большая, светлая, комнаты изолированные, потолки высокие, и лоджия есть. Двор большой, есть где детям побегать, поиграть, да и вообще район не шумный, зеленый. А потом я и наткнулась на них, через дом от нас живут, это надо же, до чего тесен мир! Ну да, Колька с женой и дочкой, и эти зануды — его родители, у них две квартиры, но в одном подъезде, видно, при переезде специально так подгадали. И что самое неприятное, куда ни идешь — в магазин или на остановку, — так обязательно мимо их дома проходишь. А уж когда я поняла, что дети вместе в одну школу ходить будут, так прямо ужом завертелась. Хотела поменяться, стала варианты подбирать, да попадается все не то, что нужно, все варианты куда хуже того, что у меня есть. Ну, я и успокоилась. Че, думаю, горячку-то пороть, мне стыдиться нечего, это пусть они стыдятся, если еще остался у них стыд-то. Для меня главное, чтобы Сашеньке хорошо было, а я уж потерплю. Ему вроде все нравится: и квартира, и двор, и особенно школа. Уж очень он в школу-то хотел, прямо рвался. Я очень этому удивлялась, сама-то не больно учиться любила, так, шалтай-болтай, тройки есть, и ладно, а ведь мне учеба легко давалась. А Сашенька отличником хочет быть, такой самолюбивый, такой упорный! Одна беда у него — ни с кем не дружит, уж почему так, ума не приложу. Незадолго до конца учебного года пришла я как-то в школу за ним, глянула, а он в школьном дворе с Юлькой, да так оживленно что-то ей рассказывает. Ведь сестра ему родная по отцу-то, а он и не знает, да, видно, так и не узнает никогда. Они в параллельных классах учатся, она на год его моложе, но он-то у меня с восьми лет в школу пошел. Эти-то? Даже не здороваются и не смотрят в мою сторону. А меня это и не волнует совсем, давно прошло то время, когда я от них зависела. Все у меня не хуже, чем у них: и квартира, в которую пригласить не стыдно, и одета я нормально, не хуже их снохи. А уж для Сашеньки я и вовсе ничего не жалею, ни одежды, ни игрушек, ни книжек, ни сластей каких, всего у него полно.
Через день Зина с Сашенькой уехали. Больше мы с ней не виделись, но иногда она мне звонила. Когда Зининому сыну было примерно шестнадцать лет, она позвонила мне, явно чем-то не на шутку взволнованная. После первых же приветственных слов Зина вдруг огорошила меня новостью, что буквально на днях она выходит замуж. Как-то сразу чувствовалось, что она явно находится в смятении. На заданный мною прямой вопрос она призналась, что ее очень и очень беспокоит Саша, он весьма враждебно воспринял новость и никакие объяснения и уговоры на него не действуют.
— Жень, я ведь первый раз влюбилась, до этого даже и не догадывалась, что это за штука такая, любовь. Думала, что просто выдумали про любовь в книжках, а на самом деле ее и нету, только сказка красивая. А это такое счастье, такая радость, Женя, без которого, оказывается, нет и смысла жить. Я встретила мягкого, доброго человека, он очень любит меня, а я его. И все-таки из-за Саши я бы отказалась от своего счастья, но не могу, слава богу, не могу. Ты только не падай, представляешь — я беременна! Так хочу девочку! Я всем бы пожертвовала ради сына, но только не жизнью будущего ребенка. Я твердо знаю, что жизни ребенка ничто в мире не стоит. Саше придется это понять, он уже достаточно взрослый. Но сердце у меня рвется пополам! И еще рожать боюсь, мне ведь уже тридцать шесть.
Последний раз она позвонила мне, когда ее девочке было уже полгода. Я спросила у нее, как Саша. Она со вздохом ответила, что все так же злится, ни с кем не разговаривает. На сестренку даже не взглянул ни разу! И она со страхом все больше обнаруживает в нем черты характера его отца. На этой грустной ноте мы с ней и распрощались. Больше она мне не звонила, и вот по прошествии более десяти лет вдруг конверт. Может быть, она собирается приехать?
Практически все Зинино письмо касалось старшего сына, Саши. Судя по всему, она очень гордилась им, несмотря на то что он так и не простил замужества. Зина писала, что Саша совсем не признает своего отчима и совершенно равнодушен, если не сказать хуже, к сестренке и братишке. Когда Саше исполнилось восемнадцать лет, он ушел жить к какой-то женщине вдвое старше его, видимо, просто старался побыстрее уйти из дома. Учился в институте, на дневном отделении, жил на деньги этой женщины, но отказывался брать что-либо у матери. Когда закончил институт и начал работать, то женщину, столь существенно помогавшую ему, он безжалостно бросил. Та пробовала вернуть его, скандалила, приходила даже к Зине, но та ей, естественно, ничем помочь не могла. Саша сделал очень недурную деловую карьеру, купил себе однокомнатную квартиру, живет вроде бы один. И вот теперь по делам, связанным с работой, он должен приехать на несколько месяцев в Москву. Зина просила пустить его пожить у меня первое время, хотя бы пару недель, а там он что-нибудь себе подыщет. Я на этом месте письма хмыкнула, сообразив, что когда Саше надо, то он не стесняется обращаться к матери, которую ни в грош не ставит. Еще Зина просила в письме, чтобы я проявила к ее отпрыску максимум терпения, судя по всему, характером Саша и вправду пошел в своего папочку. Жить я его, конечно, пущу, пусть поживет немного, а вот что касается терпения, то дудки. Пускай особенно не обольщается, хамства я терпеть не буду. Зине он сын, и она до сих пор чувствует себя перед ним виноватой, поэтому прощает ему все. Мне он — седьмая вода на киселе, и я ни в чем перед ним не провинилась. Но будем надеяться, что все обойдется без эксцессов, все-таки мы оба взрослые люди. Сколько же лет Саше теперь? Должно быть, уже двадцать девять, действительно, совсем большой мальчик. Поселю я его, пожалуй, в Котькиной комнате, это будет удобней всего, надо там только как следует убраться. Да и вообще, в связи с этим приездом не мешает сделать генеральную уборку, глядишь, и простуда моя пройдет или я хотя бы на время о ней позабуду.
Уже неделя, как Александр живет у меня. Пришлось сразу при встрече назвать его полным именем, уж больно представительным он оказался на вид: высокий рост, широкие плечи, язык не повернулся сказать «Сашенька». Да-а, Зинуля не зря старалась, вон каким здоровым вымахал! Черты лица правильные, можно даже сказать красивые, хотя все портит замкнутое, какое-то надменное выражение. Но держится вежливо, во всяком случае пока, а там посмотрим. Впрочем, мы с ним почти и не общаемся. Как обговорили в самом начале срок и условия, на которых я согласна на его проживание, так с тех самых пор я его почти и не вижу. Уходит он совсем рано, я в это время еще не выхожу из своей спальни, приходит поздно. Здесь он почему-то никогда не ест, только спит и пользуется ванной. Если и дальше все пойдет таким же манером, то пусть хоть весь срок своего пребывания в Москве живет у меня, впрочем, поостерегусь пока говорить ему об этом, поживем — увидим. Что это? Вроде бы входная дверь хлопнула? Сколько же времени, что уже Александр пришел? Да нет, еще только шесть часов, просто он что-то сегодня рано. Надеюсь, ничего у него не случилось. А пойду-ка я, пожалуй, на кухню, поставлю чайник, заодно, может быть, и узнаю чего. Может быть, и ему предложить чаю? Он, правда, никогда здесь не пьет его, но кто знает, вдруг сейчас захочет?
— Добрый вечер, Евгения Михайловна.
— Здравствуй, Александр.
— Евгения Михайловна, у меня к вам просьба. Случилась маленькая неприятность — кончились чистые рубашки, надеюсь, что вы мне постираете. Я, конечно, заплачу, но нужно сделать это срочно.
Сначала мне показалось, что я просто ослышалась и он говорит о чем-то другом, например о чашке чаю, ведь не может же он разговаривать со мной таким высокомерным тоном, в самом деле?! Но он явно ждал ответа и нетерпеливо передергивал плечами. Ничего себе!
— Знаешь, Александр, есть простой и легкий выход. В соседнем доме есть прачечная. Там и самообслуживание, и срочная есть, качество — на уровне европейских стандартов, — ответила я, гордясь своим спокойным, невозмутимым тоном.
— О чем вы говорите, Евгения Михайловна?! У меня очень дорогие рубашки, и я не доверю их в чужие руки. Сам я, естественно, не стираю, но уверен, что вам это сделать нетрудно.
— Что ж, если ты не хочешь отдавать в прачечную, то в ванной машина, порошок тоже там, я объясню, как с ней обращаться, впрочем, там и надписи есть, ничего сложного, ты быстро все сообразишь. Но, извини, стирать будешь сам, ты достаточно взрослый, чтобы обслуживать себя, а руки у тебя точно такие же, как и у меня, только посильнее, вот и все.
— Вот уж не ожидал, что вы откажете в таком пустяковом для вас и важном для меня деле. Совершенно не понимаю вашего поведения: ведь вы же женщина!
— По-твоему, главное занятие женщины — это стирка, уборка, готовка, то есть обслуживание мужчины? В таком случае мне жаль тебя, вряд ли ты преуспеешь в современном мире с философией домостроя, но, впрочем, это твое личное дело. Я дала тебе исчерпывающие советы, дальше поступай как знаешь. А мне, извини, спорить с тобой некогда, меня работа ждет, я прервалась только на чай. Вот чашку могу тебе налить, если желаешь, чайник как раз уже вскипел.
— Нет уж, спасибо.
— Как знаешь, голубчик. И не надо смотреть на меня с таким негодованием. Любой здоровый взрослый человек способен обслужить себя сам, мужчина это или женщина — значения не имеет. Удивительно, что ты не понимаешь элементарных вещей!
Ничего себе, как хлопнул дверью, аж стекла задрожали! Может быть, зря я с ним так резко? Но уж очень надменно он себя ведет, просит так, словно приказывает. Не терплю хамства. Характер кое-что, конечно, значит, но уж больно Зинуля его избаловала, прямо-таки царь-самодержец! Ничего-ничего, это ему полезно, давно так с ним пора.
Уф-ф! Наконец-то я закончила эту работу. Господи, как спина-то затекла! Пойти попить чаю? А сколько времени, не слишком ли поздно для чая? Ого! Уже час ночи. А что это моего надменного постояльца все еще нет? С тех пор как мы с ним поцапались из-за стирки его рубашек, он что-то стал совсем поздно приходить. Интересно, где же это он пропадает допоздна, ведь не по прачечным же, в самом деле, ходит? Хотя что напрасно гадать, я ведь даже не знаю, чем он и в дневное-то время занимается. Зина ничего не писала о том, что у него за дела, а сам он не счел нужным мне об этом рассказать. Ну вот и чайник закипел, сейчас выпью полчашки — и баиньки. А это еще что за звук? Послышалось, наверное, или кошка соседская на лестничной площадке дверь поцарапала? Да нет, на кошку это тоже не похоже, посмотреть, что ли? Что-то боязно. А-а, в конце концов, что я, не в своем доме?
— Боже мой! Александр, Саша, встать можешь? Вот так, обопрись на меня, шаг, еще шажок, ну вот и вошли, подожди, сейчас, только дверь закрою. Вот так, вот так. На кровать? Нет, лучше в кресло, осторожненько. Сиди, сиди, не дергайся, сейчас воды принесу, лицо оботру.
Н-да! Отделали его, однако! Вроде бы ничего опасного нет, кажется, все кости целы, но он весь в кровоподтеках и ссадинах. И здорово промок, может быть, какое-то время на земле лежал? Конец октября, уже подмораживает по ночам, неудивительно, что он весь дрожит. Что нужно делать в таких случаях?
Что-нибудь горячее внутрь, это сейчас будет готово. Пожалуй, мне и самой не мешает выпить чашечку, отличная штука — глинтвейн.
— Пролил? Это ничего, я все сейчас вытру, давай я тебе помогу. Может быть, все-таки вызвать неотложку? Ну, не упрямься! Ну хорошо, хорошо.
Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего. Эк его трясет. Что бы еще сделать? Обтереть его спиртом? А что, это мысль. Спирта нет, есть бутылка водки, почти год стоит запечатанная, никак не находилось ей применения, вот и нашлось. Да, но ведь его придется тогда раздевать догола, не в одежде же обтирать? Ну, ничего страшного, представлю себе, что это мой сын. Ишь, пытается сопротивляться и зубы стиснул, очень больно ему, наверное.
— Саша, Саша, успокойся, ну, успокоился? Пойми, мне надо обтереть тебя спиртом, то есть водкой, а для этого надо сначала тебя раздеть. Я спрашиваю тебя: ты что, лежал на земле? Так я и думала. Долго? Сколько времени ты пролежал? Примерно полчаса? Ну, это еще ничего, а не больше? Не знаешь? Ну вот, я почти тебя раздела. Нет, трусы тоже надо снять, тем более что они насквозь мокрые. Ну что, право, за церемонии, думаешь, я никогда мальчишек голышом не видела? Теперь начну тебя обтирать, постараюсь делать это поосторожнее, ну а ты потерпи, если будет больно. Чем я буду тебя обтирать? Странный вопрос — руками, конечно, это удобнее всего. Ничего, ничего, терпи, ты уже большой мальчик, вот так, вот так, молодец! Теперь давай я на спину тебя переверну, ну как же не надо? В чем дело? Стесняешься? Не стоит, это все ерунда, дела житейские, как любит говорить Карлсон. Если так стесняешься, то просто закрой глаза.
Все, кажется, уснул. И дрожать перестал, помогло обтирание, да и вторая чашка глинтвейна, надо думать, свое дело сделала. Бог даст, все обойдется и он не разболеется. Ну надо же, трусы не давал снять, стеснялся, бедняга, впрочем, с этим-то как раз все понятно. Но вот то, что творится со мной, мне непонятно вовсе. Хорошо, если он ничего не заметил, а то ведь и со стыда можно сгореть, попробуй докажи потом, что ничего не хотела! Непонятно, почему этакое со мной происходит и почему именно сейчас, ведь никогда же ничего подобного не испытывала. Вот старая перечница, и чего это меня так разобрало, не понимаю? Рефлексы, физиология — это более-менее ясно, но почему столько лет они спали и вдруг проснулись при виде этого мальчика? Просто уму непостижимо, так не должно быть. А интересно, можно ли настолько контролировать свое тело, чтобы ничего подобного не ощущать? Ладно, хватит сокрушаться, уже три часа ночи, давно пора спать, пойду посмотрю, как он там, и на боковую. Утром зайду к Светке, попрошу его посмотреть, она ведь врач, а то мало ли что.
— Только этого мне и не хватало! Свет, а ты уверена? Извини, сама не знаю, что говорю. Но для меня это такие проблемы, ты себе просто не представляешь. Да нет, подушка-то как раз ерунда, сейчас принесу. И что, ему совсем вставать нельзя? Ну, есть, пить я ему подам, с этим проблем нет, а вот в туалет-то ему как? Тебе бы только насмешничать. Да это нам с тобой понятно, Свет, а у него характер жуть, просто порох какой-то! И сколько ему так лежать? Три дня?! Да я с ума сойду за эти три дня. Ты заходи почаще, ладно, потом сочтемся. А может, все-таки его лучше в больницу? Не лучше? Да нет, я как раз о нем беспокоюсь. Светка! Да ты просто с ума сошла! Как ты могла такое обо мне подумать?! Он совсем еще мальчик. Чему не помеха? Нет, право, Свет, ты переходишь все границы!
— Саша, ты что, хочешь сказать, что я нарочно все это придумала? Ах нет? Вот и ладно, главное, что ты ведь хочешь обойтись без всяких осложнений и поскорее встать на ноги? Значит, надо вылежать положенное время. Да, Света моя соседка, но это совсем не мешает ей быть хорошим врачом. Но если ты ни ей, ни мне не доверяешь, то давай положим тебя в больницу. Доверяешь? Ну хорошо, ты мне вот что тогда скажи, что с тобой, собственно, вчера произошло? Кто так с тобой обошелся? Ах, несчастный случай. Ничего себе! Тебе лучше знать, что с тобой на самом деле произошло, я не собираюсь тебя допрашивать, ты человек взрослый, полагаю, знаешь, что делаешь. Но позволь дать тебе совет на будущее: Москва — город отнюдь не безопасный, и не стоит по нему без особой нужды поздно разгуливать.
Как же я устала с этим Сашей — любой пустяк превращает в проблему, ну и характер! У меня сложилось впечатление, что любое мое прикосновение его раздражает, ладно, хоть терпит молча. А вот со Светкой он неожиданно разговорился, подшучивает даже над ней. Мне показалось, он ей весьма понравился, а это совсем даже неплохо. Она всего на два года его старше, это сущая ерунда. Оба молоды, свободны, чего еще желать? Кто знает, может быть, это судьба?
Наконец-то Саша стал ходить, уф-ф, как гора с плеч. Со мной он как-то странно себя ведет. С одной стороны, стал больше разговаривать, нет былой надменности, но с другой — смотрит так, словно я его личный враг. Не может же быть, чтобы он все еще обижался из-за тех несчастных рубашек. Я ведь выстирала всю его одежду, в которой он был, когда его избили, так что вполне себя реабилитировала.
Тьфу! Ну надо же так опростоволоситься! Я легла сегодня довольно рано и почти тут же уснула. Проснулась от непонятного звука — словно где-то скулил щенок. Пошла на этот звук, а это Саша у себя в комнате — спит, во сне плачет. Вспомнила, как Зина, его мать, жаловалась мне на его ночные кошмары. Потрясла его за плечо, но он не проснулся, только еще жалобнее заскулил. Решила перевернуть его на другой бок, по опыту знаю, это лучше всего помогает. Стала переворачивать, а он проснулся, резко сел в кровати, зажег бра и на меня уставился. Только я открыла рот, чтобы объяснить ему, почему я здесь нахожусь, он вдруг выдает:
— Что вы здесь делаете, Евгения Михайловна? Да еще в таком виде?!
Я глянула на себя в растерянности — халат второпях я не надела, ночная рубашка короткая и почти прозрачная. Смутилась, естественно. А он продолжает все тем же издевательским тоном:
— Я давно понял, что нравлюсь вам, так что можете не краснеть, но все-таки никак не ожидал, что вы будете сами себя предлагать. Вы мне показались женщиной гордой, во всяком случае поначалу.
Не знаю, как я не умерла на месте от его слов. Мне стало так худо, что я повернулась и молча, как последняя дурочка, пошла к себе. Хорошо еще, что хватило сил обернуться на пороге.
— Ты плакал во сне, поэтому, и только поэтому я пришла. Извини, если оскорбила твою стыдливость, но за свою нравственность можешь не опасаться.
И почему у меня все так глупо получается? Хотела ведь помочь, а нарвалась на оскорбление. Ну и самомнение же у этого молокососа! А все потому, что он заметил мою нечаянную реакцию в те моменты, когда я его раздевала и обтирала. Но ведь это же рефлексы, черт бы их подрал! Ни один человек не в состоянии управлять ими, во всяком случае, я об этом не слышала, и потом, это же никак не проявилось, я не сделала ни одного лишнего, и уж тем паче ласкающего движения. Так что не за что меня оскорблять, неблагодарный свин! Ну и пусть думает обо мне все, что ему угодно, мне наплевать на его мнение. Уснула я только под утро, но спала мало, Саша разбудил. Постучал ко мне, видно, хотел поговорить, но я не откликнулась. Может, это и малодушие, но ни видеть его, ни говорить с ним не хотелось. Скорее бы он уехал к себе домой или же нашел другое пристанище. Надо будет сказать ему об этом прямо.
Я только налила себе чашку чаю, как вошел Саша. По моим расчетам, он еще должен был находиться на работе и вернуться нескоро. Поэтому я чувствовала себя вполне свободной не только от его присутствия, но даже и от мыслей о нем. Мне недавно пришло в голову кое-что интересное, такое, чем бы я могла заняться не по заказу, а для себя. Я вдруг вообразила, что и сама могла бы попробовать что-нибудь написать. То есть не совсем уж вдруг, мне и раньше приходили в голову такие мысли, я даже делала некоторые попытки, но робкие и неудачные. А сейчас чувствовала в себе уверенность, даже и контуры кое-какие проступили. Я была настолько захвачена планами, что не слышала, как объявился жилец. Но и в тот момент, когда я увидела его уже на кухне, я была еще вся не здесь и мне настолько было не до него, что я ощутила его как досадную помеху, не более. Совершенно машинально я молча кивнула ему и так же машинально стала делать себе бутерброд с сыром.
— Евгения Михайловна, здравствуйте. Я специально пришел пораньше, чтобы поговорить с вами. Я должен извиниться за ночной случай, просто спросонья плохо соображал. Надеюсь, вы не очень рассердились на меня и сможете простить. Почему вы так странно на меня смотрите? Все еще сердитесь? Я вполне понимаю вас, но даю слово, что ничего подобного больше не повторится.
— Ах, ну хорошо, хорошо! Чаю хочешь?
За исключением трех-четырех дней его болезни, он никогда здесь не ел, а чай, по-моему, и вовсе не любил. Но меня очень волновало сейчас то манящее, то новое, чем была полна моя голова, а Саша своими несвоевременными разговорами меня отвлекал. Поэтому я сказала ему первое, что пришло на ум, лишь бы отстал. Кажется, он очень удивился моим словам, однако послушно взял чашку. Я рассеянно следила за ним, углубленная в свои мысли.
— И все-таки вы какая-то странная сегодня…
— Почему странная? По-моему, как всегда.
— С вами ничего не случилось? Вы здоровы?
— Просто задумалась. Так что ничего не придумывай и не волнуйся за меня.
То ли его вывело из равновесия мое поведение, то ли раздосадовало, как слабо я отреагировала на его извинения, только повел себя Саша весьма бесцеремонно. Подошел ко мне, взял за плечи и слегка встряхнул. Но то, что для него было слегка, для меня оказалось весьма ощутимым. Зубы мои лязгнули, я очень больно прикусила кончик языка, и, самое печальное, мысли, которые становились все более подробными и красочными, разом вылетели из головы. Я молча уставилась на него, потом, в считаные мгновения, воспоминание о ночном унижении наложилось на этот нелепый случай, и я сделала то, на что не считала себя способной, — размахнулась и с силой ударила его по лицу. От удара зажгло ладонь, что еще больше разозлило меня.
— Не смей трогать меня! — рявкнула я, налила себе еще чаю и продолжила: — Что ты меня трясешь? Я тебе не дерево. И вообще, ходишь тут, лезешь ко мне с разговорами, мешаешь думать да и жить тоже.
Последнее я сказала уже совсем не знаю зачем. Вид у Саши был совершенно потрясенный, видно, оплеухи, да еще такой звонкой, он в жизни не получал. Он молча топтался рядом, не зная, что ему сказать или сделать. Так ничего не придумав, развернулся уходить. Умиротворенная тем, что противник оставил поле битвы, я тут же совершила ошибку, пожалев своего недавнего врага:
— Сходил бы лучше к Светке, это куда интереснее, чем приставать к старой тетке.
Мои довольно глупые, но в общем-то невинные слова повлияли на Сашу как валерьянка на кота: буквально одним прыжком он подлетел ко мне, сгреб с табуретки и поднял в воздух. Ноздри его от гнева раздувались, лицо потемнело и перекосилось. Я испугалась и разозлилась одновременно, не слишком приятно ощущать себя щенком, болтающимся в сильных и безжалостных руках. Понимая, что он сейчас размажет меня по стенке, я тем не менее попыталась ударить его ногой. Удар не получился, что было неудивительно, никогда не дралась, даже в детстве. Но все-таки он тут же поставил меня на пол. Вся дрожа от злости, с вызовом глядя ему в лицо, я высказала вслух то, что думала о нем:
— Не знаю, что ты о себе воображаешь, но не кажется ли тебе, что ты чересчур много на себя берешь? Кто ты такой, чтобы себя так вести? А? Я тебя спрашиваю! Мне до смерти надоело твое чванство и твоя смешная павлинья спесь, я с нетерпением жду того счастливого момента, когда ты наконец съедешь. Так что давай-ка срочно подыскивай себе другое жилье, здесь ты мне не нужен!
Саша по-прежнему молча, пристально смотрел мне в лицо, как будто раздумывал, что же ему со мной делать. А я начинала приходить в себя. Почему в его присутствии я делаюсь совершенно на себя не похожей? Ведь всегда была сдержанной, замкнутой и, смею надеяться, воспитанной, а с ним веду себя как истеричная школьница — дерусь, говорю бог знает что. Может быть, я забыла, что мне сорок семь лет, что я весьма почтенная матрона, а этому павлину к тому же довожусь теткой, пусть и весьма дальней?
— Я не павлин, и это вовсе не спесь. Ты слышишь меня? Я отнюдь не павлин. А вот ты, ты такая странная, почти сумасшедшая, но знаешь… ты, пожалуй, нравишься мне, да, очень нравишься. В тебе определенно что-то есть, от тебя исходят какие-то интересные токи, или флюиды, просто не знаю как их назвать. Возле тебя, в твоем присутствии во мне рождаются совершенно новые и сильные для меня ощущения.
— Извини, но ты не обалдел ли, часом? Что за чушь ты городишь? Что значит, я тебе нравлюсь?
— Ага, значит, не понимаешь? Судя по изумленному взгляду, и в самом деле не понимаешь, — а мне все время казалось, что ты заигрываешь со мной. Я определенно чувствовал, что когда ты растирала меня, то вкладывала в каждое касание ласку, причем не очень-то затаенную. Ты словно играла со мной, провоцировала! Конечно, я мог ошибиться в твоих мыслях на мой счет, но в своих собственных ощущениях уж точно не ошибся. Видимо, ты и сама еще не вполне осознаешь свои чувства ко мне. Скажи, такие чувства внове для тебя? Я понимаю, ты не привыкла так хотеть мужчину, я первый, кто вызвал в тебе такое желание, и это сильно потрясло тебя. У тебя и вправду невменяемый вид, ты сейчас похожа на маленькую испуганную девочку. А знаешь, мне это очень нравится, я буквально очарован. Я был не прав, что столько медлил, но я уже предвкушаю, насколько мне будет хорошо с тобой. Не говоря уже о тебе, ты просто растаешь от моих ласк!
У меня в голове творилось не пойми что, все мешалось, и мысли налетали одна на другую. Боже мой, что он говорит! Какие невозможные, немыслимые вещи он говорит! Да как он смеет думать, а тем более говорить обо мне такое?! Я буквально задыхалась от смятения, ужаса, отвращения и еще каких-то горячих, липких, мне самой непонятных чувств. Я видела перед собой его улыбающееся, похотливое, самодовольное лицо, лицо не человека — сатира. Оно сводило меня с ума, лишало последних защитных сил. Какая-то темная, давящая волна накатила на мое сознание, я еще успела подумать, что именно это и называется помрачение рассудка. Я закричала, затопала ногами, слезы вдруг хлынули у меня из глаз, и я кинулась на него, чтобы исцарапать, изуродовать это ставшее таким ненавистным лицо. Помню только жгучий гнев внутри, он ощущался мною как боль, — потом провал.
Я очнулась на своей кровати, совершенно голая. Часы показывали восемь вечера. Странно, почему я легла спать в такую рань, может быть, заболела? Я и в самом деле как-то не так себя чувствую. Да, но почему я не удосужилась надеть ночную рубашку? Спать голышом не в моих привычках. Почему у меня ощущение, что я не одна в постели, что за чушь? Медленно, осторожно, словно это бомба, я поворачиваю голову и тут же отшатываюсь в ужасе! Рядом со мной на боку лежит Саша, тоже обнаженный, и улыбается! Может, я еще не проснулась или же сошла с ума?
— Ты, ты… что ты здесь делаешь? Как ты здесь оказался? Наверно, я все еще сплю? Ты мне снишься?
— О нет! Моя дражайшая тетушка Женя, это не сон, а самая натуральная явь. Но, судя по твоему недоумению, ты совсем ничего не помнишь. Ах, как жаль! Мне обидна такая твоя забывчивость, но это ничего, ничего. Тешу себя надеждой, что ты совсем скоро все вспомнишь, не сможешь не вспомнить, ведь как-никак, а мы с тобой провели незабываемые, божественные, упоительные полчаса. Мне необыкновенно понравилось, право слово, не ожидал! То есть я думал, что будет хорошо, но чтобы настолько! Но ведь и тебе было не хуже, ты так стонала и кричала от восторга…
— Этого не может быть! Ты… ты все врешь! Нагло и подло врешь, я не могла так себя вести. Я ведь ничего не помню, потому что ничего и не было! Так не бывает, чтобы ничего не помнить, так не может быть.
Я смотрела на него широко открыв глаза, а он все продолжал улыбаться своей наглой, бесстыжей улыбкой победителя и… павлина. Господи! Как я сразу не догадалась, что с его стороны это просто ничтожная, подлая месть. Этот гаденыш лжет, чтобы помучить меня. Но даже если он настолько негодяй, что воспользовался моим беспамятством, то все равно кричать от наслаждения я никак уж не могла, поскольку была без сознания.
— О, я понимаю, ты ударил меня, а может быть, даже придушил немного, у меня горло что-то саднит, а когда я отключилась, ты обрадовался, воспользовался моим бесчувственным состоянием, и сейчас у тебя хватает низости дразнить меня!
— Ты что, окончательно спятила? Неужели ты думаешь, что я смог бы тебя ударить? Я не бью женщин.
Негодование на его лице казалось вполне искренним.
— Знаешь, не надо мелодраматических эффектов. Все вполне естественно, более того: ты хотела меня, не отрицай, это бесполезно, очень хотела. А я хотел тебя, мы оба взрослые люди, почему бы и нет? К чему устраивать трагедию? А если уж досконально разбираться в твоем якобы бесчувственном состоянии, то должен сказать тебе, что чувств в тебе было очень даже много, они просто переполняли тебя, били через край, никогда не встречал такой страстной женщины. От восторга ты так визжала, что я даже испугался, как бы не прибежали твои соседи. Так что не надо ни возмущаться, ни лгать.
— Нет! Этого не может быть! Это неправда! Скажи, скажи мне, что это все неправда, все, что ты наговорил сейчас. Это не я лгу, это ты выдаешь свои эротические фантазии за действительность.
Теперь была моя очередь бледнеть от негодования. Я вцепилась в его руку изо всех сил, все еще надеясь, что он признается, что пошутил.
— Да успокойся ты, все же нормально. Чего ты разволновалась? Все было просто отлично, ты страстная, горячая женщина, лично мне очень даже понравилось — не выношу, когда баба корчит из себя монашку. С тобой же все нормально, а что кое-что забыла, так это не беда, не из-за чего пороть горячку, я помогу тебе наверстать упущенное.
Он улыбнулся мне, высвободил свою руку, которую я все еще судорожно сжимала, и стал легкими прикосновениями гладить меня по лицу. Но я все еще не могла поверить в то, что он мне только сейчас говорил. Не могла и не хотела! Вдруг я почувствовала, что его рука переместилась с моего лица уже на шею и продолжает двигаться дальше. Только тут я сообразила, что все еще не одета, и быстро протянула руку, чтобы прикрыться хотя бы одеялом. Саша прижал ее к кровати, в то же время другой рукой он несколько раз сжал мою грудь и вдруг резко потянул за сосок. Я вся содрогнулась — мое тело, которое только что мною ощущалось каким-то онемевшим и почти неживым, мгновенно ожило, наполнилось тысячью разных ощущений, задрожало. В ушах какими-то странными, словно бы нездешними отголосками зазвучали стоны и крики, которые я вдруг с ужасом, столь запоздало признала своими. Что это? Когда это было? Неужели же это кричала я? Неужели я могу, умею так протяжно стонать и так хрипло кричать?
— Нет! Это была не я! Это не я кричала! Я не могла так безобразно кричать, я никогда не кричу в постели, даже если мне очень хорошо. Ты слышишь?! Я никогда, никогда не кричу!
Я как одержимая бросала эти глупые, беспомощные слова ему в лицо и при этом трясла его, как будто от моего отчаянного крика могло что-то измениться. — Это ты под другими не кричишь, а подо мной еще как кричишь! — Склонившись ко мне совсем близко, он не то утешал меня этими словами, не то, наоборот, хотел сильнее разозлить, улыбка у него была какая-то кривоватая, и слово «другими» он цедил сквозь зубы. — Со мной ты, милая тетушка, ведешь себя как мартовская кошка.
На меня словно кипятком плеснули. Я даже зарычала от бешенства и рванулась к нему, чтобы вцепиться в ненавистную физиономию, стереть с нее эту наглую усмешку. Но не успела, Саша опередил меня и впился в мой рот жгучим, раздирающим поцелуем. Задыхающаяся, смятая его натиском, я вдруг вспомнила, что все это уже было. Мы ссорились с ним на кухне, я потеряла от злости голову и бросилась на него, а он ответил поцелуем. Что же было потом? Ох, что он делает?!
— Нет, боже мой! Нет! Отпусти меня, я не хочу, я правда не хочу, ох! Ну отпусти же меня!
Мои испуганные крики только возбуждали его, он ни на мгновение не прекращал своих движений и не скрывал, насколько ему приятен и мой испуг, и мое сопротивление.
— Ага, давай, давай! Мне нравится, как ты изображаешь из себя жертву, я ведь уже был в тебе! Ну что, чувствуешь меня, чувствуешь? Это я в тебе! И вот так, и вот так! Ты теперь моя, вся моя! То, что я делаю, тебе приятно. Тебе хорошо, очень хорошо, поэтому ты и кричишь! Кричи, кричи, мне нравится, когда ты стонешь. Громче! Еще громче! Вот так! Вот теперь правильно!
Тело мое перестало слушаться, оно полностью вышло из-под контроля. Сдавшаяся, я какой-то дальней, периферийной частью сознания, в шоке от происходящего, фиксировала наши с ним слитные, бешеные телодвижения, свои кошачьи стоны, перешедшие вдруг в крик, и его частое-частое, хриплое дыхание и тоже протяжный, резкий крик и стон. Закричали мы вместе, ощущения были почти непереносимы по остроте, и даже та, дальняя часть сознания, что у меня была еще в действии, выключилась. Но, видимо, на какие-то мгновения, потому что, очнувшись, я еще чувствовала свои и его содрогания, на меня давила все возрастающая тяжесть его тела. Когда я открыла глаза, Саша лежал на мне распластавшись, но, ощутив, как я зашевелилась, тут же поднял голову, хмыкнул, глядя на меня насмешливо и вместе с тем удивленно, и сказал:
— Ну и ну, Женя! Ну и ну! Да ты просто бесподобна! Мне казалось, что еще мгновение, и я улечу в космос. Второй раз был даже лучше, чем первый, так, может быть, третий будет еще лучше. Попробуем, а?
— Уйди! Уйди сейчас же. Ненавижу! Как же я тебя ненавижу, видеть тебя не могу, уходи!
Судя по всему, мой хриплый шепот нисколько не испортил Саше настроения, он немного приподнялся на руках, дав мне наконец возможность вздохнуть полной грудью. Однако освобождать меня совсем он не торопился, нависнув надо мной, довольный и потный.
— Так что ты там шепчешь? Значит, ненавидишь? Ну как же так? Только что, несколько минут назад, ты меня обожала, себя не помнила от удовольствия, а сейчас все сразу забыла. Что-то я не пойму тебя. Объясни-ка мне поподробней. Ну же, давай говори. Я слушаю, я весь внимание.
Говоря это, он улыбался мне так, как мог бы улыбаться кот пойманному мышонку, если бы умел. В этот момент я почувствовала глубоко в себе одну из последних судорог ушедшего наслаждения, от чего невольно содрогнулась и застонала. Мой стон вызвал ехидный смешок у Саши.
— Вот видишь, дорогая моя, все, как я и говорил, — ты не только не ненавидишь меня, напротив, все еще продолжаешь наслаждаться мной. Ну, признайся же, признайся, что без меня ты теперь и дня не проживешь. Ты же обожаешь меня.
Я отрицательно покачала головой, сил не было даже для того, чтобы разозлиться как следует, настолько я была опустошена и расслаблена промчавшимся животным шквалом. Заулыбавшись, он напряг руки, чтобы совсем встать, как мне показалось, и действительно стал выходить из меня, но в самое последнее мгновение остановился, послал мне хитрую усмешку и, совершенно неожиданно, сделал несколько резких движений тазом во весь мах. Насколько я успела понять, таким образом он хотел пошутить надо мной, а может, и наказать меня. Но получилось так, что он ощутимо подшутил и над собою тоже, так как результат оказался внезапным и неожиданным для нас обоих. Как будто рядом со мной ударили в набат, и мое тело, словно огромный колокол, отозвалось низким, вибрирующим гулом, таким тяжелым и мощным, что этот гул придавил и поглотил собой весь остальной мир. Я не только забыла о Саше, но и себя-то в первый момент не сознавала. Потом словно разорвалась завеса, я увидела над собой Сашино лицо, на котором последовательно сменялась гамма чувств: сначала недоверие, потом изумление, торжество, и, наконец, все заполнил восторг. Он оскалился и навалился на меня всей своей тяжестью, словно собирался расплющить меня. Вместо того чтобы задохнуться, испугаться, я тоже исполнилась восторгом, словно только и ждала этой тяжести, и приняла ее с благодарностью, обхватив его тело руками и ногами. Двигаясь с ним в такт, я лизала ему грудь и урчала, словно большая кошка. Да ведь мы с ним словно леопарды в период случки, еще успела подумать я, но тут горячая лава стала разливаться во мне, и, сорвавшись, я стала падать в жерло вулкана. Падала я стремительно и вместе с тем медленно, мучительно медленно, и падение это вызывало острую, небывалую боль. Наконец, огонь сомкнулся у меня над головой, и больше я ничего не чувствовала.
В себя я пришла только наутро, посмотрела на часы — десять. Чувствовала я себя, мягко говоря, неважно, на душе кошки скребли. Да и немудрено, решила я, вспомнив все, что было вечером. Но вздыхай не вздыхай, этим делу не поможешь. Повернув голову, посмотрела, конечно, я была не одна. Рядом спал Саша, вольно раскинувшись, почти сбросив с себя одеяло, легко и почти неслышно дышал во сне. Я коснулась его руки, легонько провела по лицу — никакой реакции. Тогда я решилась и, совсем откинув одеяло, принялась рассматривать его тело. Тело как тело: молодое, крупное, поджарое, ухоженное. Все в нем было обычным и не давало ответа на вопрос, почему, даже слегка соприкоснувшись с ним, я теряю не просто самообладание, но всю себя теряю, превращаясь в обезумевшую мартовскую кошку. С печальным вздохом я слегка тронула пальцем вялый знак его мужской доблести, он чуть перекатился под пальцем, но никак не среагировал, Саша же слегка вздрогнул во сне, но, слава богу, не проснулся. Спохватившись, я прекратила опасные эксперименты, выскользнула неслышно из кровати и отправилась под душ, испытывая что-то вроде душевной тошноты. Душ мне не очень-то помог, да и как иначе? Если я была сама себе отвратительна, тут уж никакая мочалка не поможет, три не три. В том же отвратительном настроении я принялась готовить завтрак, хотя есть мне совершенно не хотелось, душевная тошнота перешла в физическую. Задумалась: готовить на Сашу или же не надо? А если готовить, то будить или ждать, когда он сам проснется? Невесело усмехнувшись, подумала, что для полноты картины следовало бы отнести ему завтрак в постель, то-то порадовала бы его такой покорностью. Но мои невеселые размышления прервали хлопанья дверей: сначала туалета, потом ванной, немного спустя его комнаты. Чувствовалось, что он очень торопится, ну да, ему же на работу надо. Обычно он уходил рано, а сейчас здорово проспал. Я хотела уйти в свою комнату, переждать, пока он не уйдет. Потом подумала, что не хватает только прятаться по углам в собственной квартире. Саша появился на кухне, подлетел ко мне и попытался поцеловать в шею, но я успела увернуться. Тогда он схватил меня, развернул к себе лицом, всмотрелся в мои глаза, нахмурился, но отчего-то передумал и, держа в ладонях мое лицо, крепко поцеловал в губы, невзирая на мое сопротивление. Оторвавшись, заметил чашку черного кофе, который я себе налила, схватил и выпил, после чего по-хозяйски шлепнул меня пониже спины и, очень довольный собой, ушел. Вся эта сцена прошла как в немом кино, без единого звука.
Вечером он пришел с работы не поздно, около восьми часов. Я весь день просидела безвыходно дома, пыталась работать, но так и не смогла. Долго всерьез раздумывала: а что, если поставить на дверь своей комнаты задвижку, чтобы можно было закрыться изнутри?
Саша разделся в прихожей, прошел к себе, я слышала, как он несколько минут крутился на кухне, даже хлопал дверцей холодильника, что меня удивило. Наконец решительно направился к моей двери, постучал, не получив ответа, постучал еще раз. Преспокойно открыл мою дверь и вошел, в руках букет розовых хризантем, на губах широкая улыбка, прямо джентльмен с плаката, да и только. Я стояла у окна и с упавшим сердцем наблюдала за тем, как он ко мне приближается.
— Добрый вечер, любовь моя. Соскучилась? Извини, что задержался, но все важные и нужные дела, никуда от них не денешься.
Я посмотрела на букет и тихонько вздохнула. Мне очень нравились розовые хризантемы. Эх, такой бы букет, да от кого-нибудь другого! А от кого? Сама не знаю. Цветы мне дарил только Павел, но делал это так небрежно, что они не приносили особой радости. Уйдя в свои мысли, я совершенно забыла о Саше и конечно же совсем его не слушала.
— Как можно быть до такой степени рассеянной, Женя? Ты хоть что-нибудь слышала из того, что я сейчас говорил? Нет? Вот и делай после этого женщинам комплименты. Давно пора взять тебя в твердые руки, а не то ты пропадешь совсем. Не понимаю, как ты без меня жила все это время?
— Очень хорошо жила, просто здорово, гораздо лучше, чем с тобой. Была свободна, принадлежала только себе.
— Ну ладно, хватит киснуть, я же теперь с тобой, так что улыбнись. Посмотри, какие цветы, правда, красивые? И накрой на стол, поужинаем, ты наверняка ничего не ела, вечно у женщин всякие диеты. Посмотри на кухне, я там кое-что принес, тебе и делать-то ничего не надо, все уже готово.
Я поплелась на кухню. Поставила цветы в вазу, нарочно выбрала самую плохую, словно мои любимые хризантемы были в чем-то виноваты. На кухонном столе горкой были свалены продукты, в основном готовые к употреблению, так называемые нарезки. Я вспомнила, что в холодильнике у меня есть зелень, неплохо бы бросить на тарелки для украшения. В дверце увидела бутылку шампанского и бутылку коньяку, слегка подивилась тому, что обе стоят не там, где надо, и переложила шампанское в морозилку, ведь наверняка он его сейчас пить собирается, не успеет же охладиться, а коньяк вытащила. Коньяк оказался весьма средненьким, но все равно я ему, в отличие от шампанского, обрадовалась. С этой бутылкой в руках меня и застал Саша, который зачем-то переоделся и выглядел весьма торжественно, что было странновато и не совсем уместно для кухни. На его фоне я смотрелась совсем уж серенькой мышкой, но этот факт меня волновал сейчас меньше всего. Но мой жилец думал иначе. Он оглядел меня, сморщился и покачал головой:
— Ну и вид у тебя! Иди переоденься, да поторопись, долго ждать не намерен.
— Зачем? Я вполне нормально одета.
— Не вижу ничего нормального в этих обносках, как ты вообще можешь носить эти брюки? Надень что-нибудь поприличней, лучше, конечно, юбку, все-таки у нас с тобой сегодня праздник.
— В этих брюках я всегда хожу дома, мне так удобно, и снимать их не собираюсь, не говоря уже о том, что праздновать мне совершенно нечего.
— Господи! Ну какая же ты все-таки упрямая, не одобряю эту черту в женщинах, учти на будущее. Сейчас спорить с тобой не хочу, оставайся уж в чем есть. Зачем ты, кстати, взяла эту бутылку? Я купил ее просто так, на всякий случай, пить мы будем шампанское.
— Этой бутылке в холодильнике делать нечего. Потому что: во-первых, коньяк не охлаждают, во-вторых, я собираюсь пить именно его, поскольку не люблю шампанское.
— Странно. Я думал, ты обрадуешься. И потом, коньяк слишком крепкий напиток для женщины. Но уж если тебе пришла в голову такая блажь, то так и быть. Хотя, по-моему, ты просто оригинальничаешь.
— Это не я оригинальничаю, это ты сделал плохой выбор: у меня масса недостатков, есть и куда более серьезные, чем пристрастие к коньяку. Но этой беде легко помочь — кругом полно женщин хороших и разных, ручаюсь, что если постараешься, то найдешь по своему вкусу, хоть он у тебя и чудовищный.
Весь остальной вечер я вела себя точно так же, задавшись целью испортить дурацкий праздник. Молола всякую чушь, высмеивала его, меня словно прорвало. Саша налил мне только одну рюмку и счел, что для меня этого вполне достаточно, но я так не считала и сама за собой ухаживала. Он попробовал отнять у меня бутылку, но я не дала, и он махнул на меня рукой. Я напивалась намеренно и целенаправленно и делала это назло ему. При этом понимала, что в конечном итоге хуже всего будет не ему, а мне. Но ведь плохо будет только завтра, а сегодня моя неумеренность и вызванные ею залихватские манеры раздражающе действовали на моего жильца, он прямо из себя выходил. То ли еще будет, мстительно подумала я. А что, собственно говоря, будет-то? Уже поздно, скоро спать, так что ничего не будет, кроме сна.
Я проснулась одна и чувствовала себя при этом просто ужасно. Похмелье — что может быть отвратительней? Господи, и зачем же я так вчера напилась? То, что я чувствовала себя так плохо сейчас, было весьма неприятно, но странно, мне совсем не было стыдно. Это Саша на меня так разрушительно действует, мрачно решила я. Кстати, который час? Наверное, мой злой демон уже ушел на работу, но повернуть голову, чтобы посмотреть на часы, было выше моих сил. Уснуть бы опять и проснуться с прекрасным бодрым настроением, зная, что нет никакого Саши, что он мне просто приснился в страшном похмельном сне. Нет, надо что-то с ним делать, невозможно так дальше жить. Казалось бы, чего проще — сказать ему, что его время вышло, пусть немедленно съезжает. Почему же я не говорю? То есть я что-то такое ему уже говорила, но, видно, не очень серьезно, а почему? Чего я опасаюсь? Боюсь его реакции на мои слова? Пожалуй. Но надо решиться, нельзя же все время трусить. А может быть, он все-таки мне нравится и поэтому я не гоню его в три шеи? Кое-как я выползла из кровати и поплелась в ванную, стараясь поменьше шевелить головой. Особой бодрости душ мне не принес, и чашка черного кофе, которую я выпила потом на кухне, тоже не слишком помогла. Несмотря на сильную вялость, я все-таки решилась выйти из дому, понадеялась, что на улице мне станет лучше. Кроме того, я просто не знала, чем заняться, работать сил не было.
На улице мне полегчало, холодный ветер слегка взбодрил, поднялось настроение. Дождя не было, хотя по небу неслись темно-серые тучи, но ветер так быстро гнал их, что они просто не успевали пролиться дождем. Я шла куда глаза глядят, но вскоре начала зябнуть. Возвращаться еще не хотелось, давненько я не бродила вот так, без всякой цели. Оглядевшись по сторонам, я увидела, что нахожусь недалеко от новомодного магазина, так называемого бутика. Светка говорила мне о нем как-то, кажется, еще летом, очень хвалила. Я решила зайти полюбопытствовать, посмотреть, что там за товар, тем более что в магазине наверняка тепло. Здесь оказалось не просто тепло, но даже жарковато и душно. Одежда была развешана очень удобно, легко все как следует рассмотреть. Вещи и впрямь были хорошие, некоторые даже очень хорошие, но цены!.. Боже мой! Цены прямо-таки ошеломляли, к ним надо было долго привыкать. Впрочем, какая мне разница, покупать я все равно ничего здесь не собираюсь. Обойдя весь магазин, нигде не задерживаясь подолгу, я окончательно согрелась и повернула к выходу. Совершенно случайно взгляд мой упал на один из манекенов, и отвести глаз я уже не смогла. Меня попросту заворожило платье. Вроде бы и не было в нем ничего особенного, и в то же время оно мне настолько нравилось, что во рту пересохло. Про него можно было смело сказать: стильная штучка. Оно мне подойдет, совершенно определенно я буду в нем выглядеть более чем хорошо, и я так давно ничего себе не покупала. Уговаривая себя подобным образом, я решилась наконец взглянуть на ценник, он превзошел мои самые худшие ожидания. Нет, я решительно не могу себе этого позволить. Думая так, я тем не менее пожирала глазами платье, и при этом у меня в голове словно арифмометр крутился, прикидывая и высчитывая. Деньги у меня с собою были, все, какие у меня есть, последние — напомнила я себе, но уже знала, что куплю платье, даже если следующие два месяца буду сидеть на хлебе и воде. Ничего страшного, стройнее буду. Тут я наконец заметила, что возле меня стоит молодая, роскошно одетая продавщица и смотрит на меня скептическим взглядом. Это как веником смело мои последние сомнения, и я твердо решила, что если платье на мне будет хорошо сидеть, то я обязательно куплю его, а там будь что будет! Платье сидело идеально, я это видела во всех зеркалах кабинки для примерки и не спешила снимать его, поскольку сама себе в нем нравилась, а это бывает со мной ой как не часто. Конечно, я купила его. Не знаю, зауважала ли меня продавщица, я себя уважала минут пять точно. Потом опасения нахлынули вновь, как вдруг мелькнула спасительная мысль. У меня есть очень дорогой кулон с рубином, подарок Павла. Равнодушная к драгоценностям, я берегла эту вещь в память о нашей любви, честнее сказать, о моей любви. Павел мертв, а мне теперь все безразлично, все давно перегорело, что с ним связано. Если совсем не на что будет жить, то можно будет продать кулон и решить проблему. Я сразу повеселела. Совершив столь неожиданную покупку, я так воодушевилась, что, придя домой и слегка перекусив, смогла переделать массу мелких дел, откладываемых раньше по каким-либо причинам, и, в довершение ко всему, настряпала картофельных котлет под грибным соусом. Весьма довольная проделанной работой, а главное — собой, посмотрела на часы: уже начало девятого, ну и где же носит этого типа? Через несколько минут открылась дверь, и упомянутый тип вошел в квартиру. Я в этот момент была в прихожей, конечно же не встречала его, упаси меня боже! Поговорила по телефону с дочерью и как раз клала трубку, когда он вошел. С совершенно непроницаемым лицом, молча, он прошествовал мимо меня, словно это была и не я, а какая-нибудь кариатида. Что это с ним? С ума окончательно спрыгнул? Ах, ну да, испорченный праздник. Ну и что? Подумаешь, это все пустяки, дела житейские, не стоит из-за этого себе кровь портить. Решив тоже не обращать на него внимания, я преспокойно уселась за стол и, положив себе две котлеты, щедро полила их своим любимым грибным соусом. Вошедший в эту минуту на кухню Саша невольно потянул носом. Еще бы, такие запахи! Но ел он с таким недовольным видом, словно у него на тарелке лежали опилки. Презрительно ковыряя вилкой уже пятую котлету, Саша вдруг небрежно спросил:
— А этот Павел, он кто?
Я не сразу сообразила, о чем он меня спрашивает.
— Ответь лучше, нашел ли ты себе другое жилье, ведь мы с тобой как договаривались… Постой, постой, как это, кто такой Павел? Откуда ты вообще о нем знаешь?
— Еще бы мне о нем не знать, ты вчера мне все уши прожужжала. Павел то, да Павел се, да такой, да сякой. То ругала, то хвалила, а уж плакала-то!
Я закрыла глаза, сжала зубы и мысленно дала себе клятву больше никогда так не пить. Открыв глаза, я осведомилась как можно равнодушнее:
— Вот как? И что же такого особенного я тебе о нем сказала?
Но с Саши уже слетела вся его небрежность и напускное равнодушие, он смотрел на меня волком и рявкнул так, что уши заложило:
— Отвечай, когда тебя спрашивают! — И продолжил уже спокойнее: — Так кто он тебе, любовник? Поэтому ты меня гонишь? Новая любовь гонит старую, так получается? Не выйдет, дорогуша!
При этих словах он весь перекосился и с такой силой хрястнул кулаком по столу, что соусник упал на пол и разбился. Вот тебе и поспокойнее. Особенно жалко было соуса. Когда-то я еще соберусь такой сделать! Намеренно задержавшись взглядом на осколках и безобразной лужице на полу, я уже гораздо спокойнее продолжала:
— Как-то ты назвал меня сумасшедшей, но до тебя мне ох как далеко. И нечего сверлить меня пронзительным взглядом, я не боюсь. Кто ты такой, чтобы задавать мне эти вопросы? Каким бы Павел ни был, он все же был в тысячу раз лучше тебя, о нем и поплакать не грех. А что касается того, что я якобы выгоняю тебя, то разве мы не договаривались, что ты поживешь у меня две-три недели, пока не подыщешь квартиру?
— Теперь все изменилось. Ты спрашиваешь, кто я такой, чтобы задавать тебе вопросы? Ну, так я тебе отвечу. Я — твой мужчина, твой единственный мужчина, отныне и до скончания твоих дней. Если ты надеялась, получив удовольствие, избавиться от меня, как от ненужной тряпки, то сильно ошибалась. Я остаюсь здесь, и даже десять Павлов не смогут мне помешать.
— Десять не понадобились бы, не обольщайся на свой счет. Будь Павел жив, ты летел бы отсюда как птичка! А чтобы прекратить этот бессмысленный разговор, я скажу тебе, что Павел был моим мужем, отцом моих детей. И ты его, кстати, видел, когда приезжал с матерью сюда еще маленьким тихим мальчиком. Никогда не знаешь, что из кого получится!
— Да, действительно, припоминаю. Весьма неприятный тип был. Очень хорошо сделал, что умер. Так что же, получается, ты теперь вдова? Надо же! Никогда не спал со вдовами.
— Нет, я разведена. Все, иду спать, а ты будь любезен убрать за собой, раз сам насвинячил.
— Подожди, если ты разведена, то давно? И был у тебя после мужа кто-нибудь или нет?
— Мне сейчас только твоей ревности и не хватало. Кто в моей жизни был и кого не было, уже давно не имеет значения. Все, я устала, хочу спать.
— Спать ты пойдешь, когда я тебя отпущу! Сначала убери с пола. Во-первых, это ты вывела меня из себя. Во-вторых, мыть пол я не привык, это женская работа. А моя работа начнется чуть позже.
Я на самом деле устала, и спорить с ним у меня не было сил. Да и совершенно бесполезно спорить с человеком, имеющим сильно развитую манию величия. Вот это и называется вляпаться! Мне пришлось повторить это себе еще раз, когда, приведя в порядок кухню, а потом в ванной и саму себя, я добралась наконец до комнаты с единственным намерением лечь и уснуть и обнаружила в своей постели Сашу. Никакие мои отнекиванья, ссылки на усталость и даже на свой возраст успеха не имели, мне было недвусмысленно сказано:
— Дорогая, ты совершенно напрасно стараешься убедить меня в своей усталости, от моих ласк она сразу же рассеется. Что же касается твоего возраста, то больше я не желаю слышать о нем ни слова. Ну же, не упрямься, со мной тебе будет хорошо, настолько хорошо, что ты забудешь про всех подонков, которые у тебя были. Я прощаю их, потому что ты тогда меня не знала так, как знаешь сейчас, но теперь смотри — если что, я просто сверну тебе шею!
И видимо, наглядности ради он сжал мою шею двумя руками, не слишком сильно, но ощутимо, я испуганно сглотнула. Саша разжал руки, глядя на меня скорее насмешливо, чем сердито. Но мне-то было уже не до смеха, но и не до секса тоже. Все его последующие попытки привести меня в надлежащее состояние оказались несостоятельными, конечно, свое-то он получил, но все настолько отличалось от предыдущего раза, что мой мучитель остался недоволен. Ведь ему так хотелось ощущать себя дарителем блаженства, тем более после только что заявленной декларации. Он ушел раздраженный и даже разобиженный, хлопнув дверью. Уснула я мгновенно, мне снилось что-то хорошее, веселое, но от этого прекрасного сна меня пробудили Сашины поцелуи. Я была такая сонная и размягченная, что ему вполне удалось наверстать все, чего ему не хватало для полноты ощущений. Оставив меня совершенно разбитую, он ушел на этот раз вполне довольный собой.
В последующие дни Саша почти постоянно пребывал в хорошем настроении, на работе не задерживался, иногда даже приносил продукты, ведь ужинал он теперь всегда со мной. Ему нравилось обставлять трапезу торжественно, со свечами, пошутить, посмеяться. И каждый вечер заканчивался одинаково: он неизменно приходил в мою постель. И здесь мне уже ничто не помогало, приходилось отрабатывать по полной программе. Как-то я додумалась до того, что решила симулировать экстаз, чтобы побыстрее освободиться. У других женщин, как я слышала, это очень даже неплохо получается. То ли они такие умелые актрисы, то ли мужчины у них не столь чуткие и не замечают обмана. Саша мой подлог раскусил мгновенно, разъярился и показал мне наглядно, что такое грубый, жесткий секс. Мне было больно, и я испугалась, не сразу заметив, насколько доволен моим испугом Саша. После его ухода я поплелась отмокать в теплой воде. Лежа в ванной и вдыхая запах розового масла, которое я добавила в воду, чтобы немного порадовать себя, я думала о том, насколько этому монстру важно ощущать свою власть надо мной, с помощью экстаза ли, испуга, все равно. Как же вырваться из ловушки, в которую я столь неосмотрительно забрела?
Постепенно отношения наладились, насколько это вообще было возможно. Но вчера меня пригласили на презентацию по случаю пятилетия издательского дома. Саше я ничего не сказала. Начало в пять часов, как ни торопись, но вернуться раньше его я не успею. Как он отреагирует?
Я убралась, приготовила ужин из двух блюд, не считая салата, украсила стол. Оставила записку, где сообщала, что вынуждена срочно уйти по издательским делам и что вернусь вечером. Теперь надо решить вопрос с тряпками. Я открыла шкаф: так, по делам я всегда езжу в строгом сером костюме, для сегодняшнего случая он не годится, нужно что-то другое. Но что? Взгляд остановился на нежно-голубом шелковом костюме. Макияж нанесла едва заметный. Оглядев себя в зеркало, решила, что вполне на уровне.
Начался вечер как-то уж слишком официально, все были скованы, но постепенно народ мало-помалу оживлялся. Я отпила из бокала и решила подойти к своей редакторше, которая только что мелькнула в другом конце зала. Пока я к ней пробиралась, лавируя между группками гостей, меня неожиданно окликнул главный редактор. Когда, слегка недоумевая, я подошла к нему, он представил меня своему собеседнику. Мужчину звали Модест Сергеевич. Меня поразил контраст между солидным именем нового знакомого и его внешностью. Был он очень высоким, крупным, даже толстым. Ярко-рыжие волосы растрепались, дорогой костюм помялся, и вообще чувствовалось, что человек очень мало обращает внимания на свою внешность. Но в его галстуке сверкала булавка с большим бриллиантом. Я так увлеклась, рассматривая рыжего Модеста, что не сразу уловила, зачем им понадобилась. Оказалось, главный рекомендует меня как литобработчика, способного спасти даже самую слабую книгу. Главный наш был человеком довольно суровым, в первый раз он удостоил меня похвалы, и я даже покраснела от смущения. Модест Сергеевич сунул мне визитную карточку, попросил непременно ему позвонить. И, не дожидаясь моего согласия, тут же откланялся, куда-то, видимо, спешил. Я посмотрела ему вслед: несмотря на его грузность, походка у него была легкая. «Порхающий бегемот», — подумалось мне. Конечно, это был только предварительный разговор, не заказ, но на сердце все же потеплело, я поняла, что мне не придется просить денег ни у сестры, ни у дочери. Уйти с презентации удалось только в начале девятого, оставив веселье в самом разгаре.
Такси я поймала тут же и через несколько минут была уже возле дома. По дороге я думала о том, как хорошо, что я выпила всего бокал и вряд ли от меня сейчас пахнет. Господи, до чего же я докатилась! Поднимаясь по лестнице, я взяла себя в руки и в квартиру вошла уже вполне уверенно. Было темно и тихо, наверное, Саша еще не вернулся. Войдя в темную кухню, я сразу же наступила на что-то хрупкое, стеклянное и торопливо зажгла свет. Мама моя! Сколько живу, такого не видела, разве что в кино. То, что я со старанием приготовила на ужин, было разбросано, да еще как! Сначала все бросалось в стену, а потом уже брызгами и осколками разлеталось по кухне. Но и этого ему показалось мало: банки с различными припасами, крупами, из шкафчика и холодильника, вообще все, что можно разбить, было разбито, рассыпано, растоптано! Ни в сушилке, ни в серванте не осталось ни одной чашки! Зато на полу красовалась куча осколков. Да он псих! Тут появился и автор данного шедевра авангардизма и, схватив меня за волосы, резко развернул к себе. Больно было так, что выступили слезы, но я напомнила себе его фразу, что он не способен ударить женщину. Как ни странно, в его глазах читалось только изумление. Саша внимательно рассматривал меня, словно я превратилась в экзотическое насекомое. Ах да! Он же никогда не видел меня нарядно одетую и накрашенную! Взгляд переместился ниже, неспешно обежал всю мою фигуру и надолго замер на открытых коленях. Юбка была короткая, при своих ногах я могла позволить себе небольшие вольности. Но Саша явно придерживался другого мнения на этот счет, ибо брови его сдвинулись, а губы искривились. Наконец он отпустил мои волосы, и я тут же тряхнула ими, словно проверяя: цел ли скальп? Все так же молча, чуть приобняв за плечи, он повел меня в комнату. Я хотела ему сказать, что очень голодна, но вспомнила, что есть после его погрома совершенно нечего, и нехотя подчинилась. Саша подвел меня к кровати, чуть отстранился, придерживая за плечи, и резко рванул на мне жакет. Тонкая ткань не выдержала, порвалась в двух местах, и пуговицы как горох запрыгали по полу. Я остолбенела, но тут раздался звонок в дверь. Саша выскочил в коридор. Как ни была я испугана, но сообразила, что юбку надо спасать, быстро сняла ее, кинула в шкаф и накинула халат. Послышался громкий голос моей любопытной соседки:
— Кто вы? Где Евгения Михайловна? Что здесь происходит? Я звонила и в дверь, и по телефону, всего полчаса назад, ну никакой реакции. А грохот как при землетрясении, я уж собралась вызывать милицию. Объясните, что случилось?
— Вы мне просто слова сказать не даете. Помилуйте, какая милиция? Все в порядке, просто мы затеяли небольшой ремонт на кухне. Впредь постараемся не шуметь, чтобы вас не беспокоить, а сейчас мне некогда, извините.
Голос Саши дрогнул только раз, на слове «милиция». Пока я завязывала пояс халата, он уже успел закрыть дверь. Схватив меня за локоть, стал развязывать пояс халата, а когда начала сопротивляться, просто разорвал его. Такая же участь постигла и дорогое нижнее белье. Затем поднял на руки и, как мячик, швырнул на кровать. Наши интимные отношения и раньше выходили за рамки общепринятых, но сейчас это было фактически изнасилование.
— Скажи спасибо, что легко отделалась, в следующий раз можешь сразу писать завещание, — заявил он под конец.
Потрясенная не столько смыслом его слов, сколько самодовольным тоном, словно он не женщину изнасиловал, а подвиг совершил, я хотя и была очень измучена, но все же не выдержала:
— Саша, подожди. Я хочу спросить тебя: много ли доблести надо, чтобы справиться с беспомощной женщиной? А, герой?
Саша потемнел лицом, молча пошел прочь и с такой силой захлопнул за собой дверь, что с моей прикроватной тумбочки слетел на пол и разбился будильник. Еще одна потеря! При этой мысли я чуть не засмеялась, но, почувствовав, что начинается истерика, затихла. Забыться я долго не могла, все разбиралась в своих ощущениях: странно, что после всего я совсем не чувствую себя униженной. Оскорбленной — да, но не униженной. Наверное, если бы я любила Сашу, то его поступок уничтожил бы меня, а так я словно попала в лапы разбушевавшейся гориллы. Горилла может убить, навредить, но не унизить, не тот уровень.
Проснулась я поздно, робкий луч солнца играл на оконных стеклах. Прислушалась: в квартире тихо. Встала, привычно протянула руку за халатом… черт, да ведь его нет! Ну и жизнь, рассказал бы кто-нибудь раньше, не поверила бы. Надела спортивный костюм и пошла на кухню. Для начала расчистила дорожку к холодильнику, но он пустовал, только в емкости на дверце подсыхал небольшой кусочек сыра. Ну что ж, все лучше, чем ничего, и я с неожиданным удовольствием съела жалкий завтрак.
Уборка заняла немало времени: пришлось то и дело бегать к мусоропроводу. Потом, когда выкидывать было уже нечего, стала отмывать стены, мебель и пол, даже потолок кое-где оказался забрызган. Когда все было убрано, подсчитала убытки. Н-да! Из стеклянной посуды выжил только хрусталь, да и то потому, что он хранился в гостиной. Кухонная утварь была в общем-то цела, только у кастрюль местами отлетело обливное покрытие. Приборы не пострадали, все же остальное… Особенно мне было жалко немецкий чайный сервиз с очаровательными пастушками. Его когда-то купили еще родители, и в детстве я часами рассматривала румяных селянок в причудливых нарядах, представляя себя одной из них. В руки мне эти чашки не давали, тонкий фарфор был почти прозрачен, не для детских неуклюжих игр. А теперь эти чудесные вещицы валяются в мусоросборнике, эх! Даже разделочные доски вандал расколотил. Плафон кухонного светильника был разбит, от него чудом сохранился какой-то осколок. Осколок я, забравшись на табуретку, сняла, чтобы не упал на голову, лучше уж голая лампочка. Казалось бы, кухню постигло полное, тотальное уничтожение. Но вот что странно — вчерашний погром отнюдь не был вызван слепой яростью озверевшего человека. Плита, мебель, мойка были целы, даже окна, которые так легко разбить, уцелели. Что ж, все понятно. Ведь Саша еще собирается здесь жить, поэтому не покорежил ничего из того, без чего невозможно обойтись. Нет, зря я сравнивала его с гориллой, горилла бы порушила все, а этот куда больше напоминает шизофреника.
Я отправилась в магазин, сама себе удивляясь. Конечно, о хорошем настроении не могло быть и речи, но ведь и до отчаяния далеко! Да, я пока еще не имела представления, как мне выкручиваться, как спровадить жильца, ставшего не только любовником, но и мучителем. Объявить, что он надоел мне до чертиков, пусть выселяется? Небезопасно, а главное — совершенно бесполезно, только нервы очередной раз потреплю. Пожаловаться на него? Интересно кому. Не в милицию же, в самом деле. Могу представить себе веселые добрые лица милиционеров, когда я стану рассказывать им свою горестную историю. Мной овладело убеждение, что раз жизнь решила за что-то меня наказать, то, значит, во-первых, есть за что, во-вторых, выход найдется сам собой. Раньше я что-то не замечала за собой подобных мыслей, но за последнее время со мной столько разного произошло, что неудивительно, если я хоть чуть-чуть поумнела. А даже если и нет и вся эта философия не от ума, а от глупости, то все равно уже ничего не поделаешь.
Занятая подобными мыслями, я незаметно дошла до хозяйственного магазина. Вдоволь налюбовавшись красивым фарфором, я со вздохом отправилась в другой отдел, где купила две эмалированные кружки и миски. Жалкого остатка моих денег хватило на хлеб и сосиски.
У своего подъезда столкнулась со злополучной соседкой. Та, естественно, вцепилась в меня мертвой хваткой:
— Евгения Михайловна, голубушка, ну как же так?! Вы так шумели вчера, я нервничала, а у меня сердце слабое, мне противопоказано волноваться, ну, вы же знаете. Неужто и правда зимой ремонт затеяли?
— Да, я-то все оттягивала, а тут племянник принялся, да так горячо взялся…
Тут меня под руку подхватил невесть откуда возникший Саша. Правильно в народе говорят: черта только помяни, он появится! Сладко поприветствовав соседку, он повел меня домой, с виду очень чинно, а на самом деле до боли сжимая локоть. В лифте мы молчали, так же молча вошли в квартиру. Я разделась и, не обращая внимания на Сашу, пошла на кухню раскладывать покупки. Он увязался следом. Эмалированная посуда сразу же привлекла его внимание, он буквально выхватил ее у меня из рук, повертел небрежно:
— Испугалась, что я опять буду посуду бить? Зря! Я ведь уже сказал, что в следующий раз тебя просто задушу!
Он еще что-то нудно говорил о правилах женского поведения, но я не слушала. Каким-то звериным нюхом угадав мое состояние, Саша забеспокоился. Видимо, почувствовал, что потерял надо мной власть. Потоптавшись на кухне, он не выдержал затянувшегося молчания:
— Отмалчиваешься? Но ты же сама виновата, ведешь себя черт знает как! А если ты пообещаешь вести себя как положено женщине, я куплю тебе новую посуду. Ну что, даешь слово исправиться?
Интересно, за кого он меня принимает, за трехлетнего ребенка? Этак скоро посулит игрушку или леденец.
— Никаких обещаний я давать не собираюсь, у меня своя голова на плечах, и в твоих советах я не нуждаюсь, молод ты еще учить меня. Что касается посуды: ты ее разбил, ты и покупай новую, без всяких условий. Ты обязан возместить мне ущерб, включая порванную одежду. Ты мне не муж, не на твои деньги все покупалось, так что будь любезен.
Саша аж побагровел, хотел что-то сказать, но, увидев, что я положила сосиску на хлеб и собираюсь есть, мигом подскочил, выхватил импровизированный бутерброд, сгреб остальную снедь и утащил. Судя по звукам, донесшимся с лестницы, он все выбросил в мусоропровод — ну точно шизофреник! Вернувшись после славного подвига, заявил:
— Голод обостряет разум, тебе полезно немножко поголодать. Ты еще попросишь у меня прощения, причем как следует попросишь! Поняла?!
— Может быть, голод и обостряет разум, но вот твоему уж точно ничего не поможет, ты просто безнадежен.
С этими словами я отправилась в гостиную смотреть телевизор, проигнорировав его гневные восклицания в мой адрес. Он потащился следом, задавая бестолковые вопросы, на которые я давала еще более бестолковые ответы, а потом и вовсе замолчала — шла интересная передача о сусликах. Зверьки выглядели так забавно, казались такими важными, что я невольно рассмеялась. Мой добровольный надсмотрщик тут же выключил телевизор. Надо же, даже к сусликам приревновал! Я даже возмущаться не стала, ушла в свою комнату, взяла с полки первую попавшуюся книжку и удобно устроилась на кровати. Мой мучитель, видно, уже просто не знал, что делать. Он потоптался рядом, похмыкал и ушел, традиционно хлопнув дверью. На этот раз ничего не упало, ведь будильник он уже разбил. Но успокоиться так и не смог, где-то через полчаса опять ворвался, отыскал мою сумку и демонстративно в нее полез. Я состроила неодобрительную гримасу, ожидая новой пакости. Не глядя на меня, Саша вытащил ключи и кошелек, что показалось мне смешным: там не было ни копейки! Через несколько минут хлопнула входная дверь. В его действиях не было смысла — я ведь могу уйти не закрыв двери, а деньги одолжить у соседей.
Именно так и следовало поступить, но мной овладела какая-то расслабленность, апатия. Никуда не хотелось идти да и вообще двигаться. В глубине души я понимала, что веду себя неразумно, особенно если учесть, что больше суток не ела. Но я утешила себя, что сутки — это совсем не много, голода я не чувствую, сейчас отдохну чуть-чуть и позвоню Любаше или Катюхе. Но звонить тоже не хотелось — не люблю просить. И я все лежала и лежала, пока не уснула.
Как я потом узнала, Саша пришел только на следующий вечер, увидел, что я сплю одетая, во сне улыбаюсь. Решил, что я его как-то перехитрила и добыла еды. Разозлился, конечно, но будить меня не стал, поскольку день у него выдался сложный. Утром он очень торопился, ко мне не заглядывал вовсе. Но то ли его грызло какое-то беспокойство, то ли это была случайность, в обед он отправился домой. Увидев, что я лежу в той же позе, он слегка струхнул и побежал за Светкой. Светке он правды, конечно же, не сказал. Он, мол, пришел с работы и обнаружил меня на постели без сознания. Что уж там делала Светка, не знаю, но очнулась я ближе к вечеру и немного удивилась, увидев склоненные надо мной головы. На Светином лице проступила тревога, но, увидев, что я пришла в себя, она ободряюще улыбнулась и что-то ввела шприцем в вену. Я снова провалилась в темноту.
Утром я проснулась почти в норме. Подняла голову и увидела, что Саша скрючился у моих ног в неудобной позе, небритое лицо его осунулось. Я смотрела на него и думала: стоило ли все доводить до таких крайностей, почему он не может жить по-человечески и не мешать жить другим? Оставив риторические вопросы в покое, я попробовала посмотреть на свои наручные часы, это у меня получилось, было почти десять часов утра. Мои движения разбудили Сашу, он поднял голову и посмотрел на меня с тревогой, причем искренней, не наигранной. Такая его реакция рассмешила меня.
— Не понимаю, чего ты так убиваешься? Сам этого хотел, разве нет?
Он замялся, а я уж подумала, что и на сей раз услышу, что сама во всем виновата. От продолжения этого неприятного разговора Сашу спасла Светка, но мне пришлось несладко. Невзирая на слабые протесты, она мне опять что-то вколола и велела выпить красного вина с медом. Только я хотела сказать, что этого у меня нет, поскольку помнила, что в доме вообще отсутствуют и еда и напитки, как Саша молча встал и пошел на кухню. Я с интересом ждала, что будет дальше. Почти сразу же он вернулся с кружкой. Света стала осторожно вливать мне в рот сладкое вино, я с удовольствием глотала. Потом моя соседка прогнала Сашу на работу и осталась со мной, сообщив, что у нее сегодня отгул. Видя, что я не засыпаю и выгляжу вполне бодрой, она принялась расспрашивать, из-за чего у меня такой упадок сил, такое низкое давление и ослабление сердечной деятельности? Я только пожала плечами, и она тут же решила, что, скорее всего, виноват недолеченный грипп. Я бы сейчас с любым объяснением согласилась, чтобы только избавиться от ее расспросов.
Уже на следующий день, несмотря на слабость, я засела за компьютер: надо было срочно наверстывать упущенное. Погрузившись в работу с головой, я тем не менее заставляла себя каждые два-три часа отрываться от текста, чтобы выпить молока или бульона. Продуктами Саша забил холодильник буквально под завязку, а сам допоздна пропадал на службе. То ли работы у него много накопилось, то ли не хотел мелькать у меня перед глазами, мне было не важно, я просто радовалась его отсутствию.
Наши отношения стали чуть-чуть иными. Саша поумерил драконовские замашки, не хамил, напролом ни во что не лез, старался худо-бедно договориться со мной. А я в свою очередь почти ни от чего не отказывалась, но совсем не потому, что наши желания в чем-либо совпадали, наоборот, у меня не осталось никаких желаний, а уж в том, что касалось его, тем более. Несколько дней после моей болезни он не приходил ко мне в комнату вечерами, у меня даже затеплилась слабая надежда, что я ему надоела. На таком условии я была готова примириться с его присутствием. Но радужным планам не суждено было сбыться, увы. Высчитав какой-то только ему ведомый срок, он решил, что я достаточно оправилась, и возобновил притязания, даже с еще большим жаром. Я оставалась холодна и безразлична. Однако со временем начала реагировать на его ласки острее, чем была неприятно удивлена, зато Саша ликовал. Да, к сожалению, секс с ним стал опять приносить мне удовольствие, но прежнего вулкана страстей не было. Меня это радовало. Слишком уж удручала полная бесконтрольность тела, животные проявления натуры. В глазах Саши я видела твердую решимость раздуть огонь поярче и старалась по мере сил перевести наши отношения в другую плоскость. Я старалась разговорить Сашу, это было нелегко, но я упорно спрашивала его о работе, о сослуживцах, о жизни в Ульяновске, о матери. Он был очень скрытен, чуть ли не каждое слово из него приходилось вытаскивать будто клещами, и все-таки кое-что я узнала. Это были грустные открытия, меня удручало его отношение к людям: он их не любил, ни о ком не говорил ничего хорошего, только выпячивал недостатки окружающих, причем достаточно зло. Я долго не решалась заговорить о матери, полагая, что тема для него весьма болезненна, вдруг он вспылит? Но как-то он заговорил об этом сам, хотя результат меня не порадовал. Рассказывая о семье, он без малейшего стеснения выплескивал целые ушаты грязи и ненависти — ни слова любви или нежности. Я пробовала объяснить, сколько мать для него сделала, как трудно ей было одной и как хорошо, что она счастлива хотя бы сейчас. Но он просто не слышал меня, не способен услышать: ведь я обращалась к его сердцу, а к нему было не пробиться через целые бастионы обид, нелепых претензий, болезненного эгоизма. Я поняла — бесполезно призывать его порадоваться за Зину, потому как именно счастья-то он и не прощает матери. Счастья без него, помимо него, с кем-то другим. Уж не потому ли он в меня так вцепился? Мне расхотелось задавать ему вопросы, уж на больно неприятные выводы наводили ответы.
В декабре мне дважды приходилось ездить в издательство. Днем, в рабочее время. Но я заблаговременно ставила Сашу в известность, не скрывая иронической улыбки, которую он намеренно не замечал, поскольку игнорировал то, что не укладывалось в его жизненную схему. А вот то, что я у него чуть ли не отпрашиваюсь, Саше чрезвычайно нравилось. Как несчастна будет женщина, на которой он женится. Или был женат? А что, ведь, в конце концов, он не мальчик, как-никак двадцать девять стукнуло, не семнадцать. Мысль прочно засела у меня в голове, и хотя я понимала, что обычно любопытство до добра не доводит, все-таки рискнула разъяснить для себя этот вопрос. Вечером после ужина мы наряжали искусственную елку. Саша пребывал в хорошем настроении, даже насвистывал какой-то мотивчик. Я подумала, что момент самый подходящий, и приступила к расспросам. Он отвечал очень спокойно. Сказал, что женат пока не был и не собирается.
— Саша, но ведь были же у тебя с женщинами прочные, серьезные отношения? Никогда не поверю, что не было.
— Ревнуешь?
— С какой стати? Просто не верю, что твое сердце было всегда свободным. Ты, наверное, просто боишься в этом признаться.
Саша насупился, бросил в мою сторону гневный взгляд, который не произвел на меня никакого впечатления, и, помявшись, выдал:
— Какое значение имеет теперь, кто и когда мне нравился? Все, что было раньше, давно прошло, и следов не осталось. Не стоит ворошить остывший пепел; тебе ведь не понравилось, когда я спросил тебя о Павле, помнишь?
Я не стала напоминать, что в тот раз меня задел не вопрос о Павле, а глупая ревность, но я побоялась, что возражения уведут разговор в сторону. Убирая коробки из-под игрушек, я словно невзначай спросила:
— Ну и где она теперь, вышла замуж?
Саша в этот момент думал уже о своем и не сразу меня понял, а когда смысл вопроса дошел до него, резко вздрогнул:
— Почему сразу вышла замуж?
Сообразив, что выдал себя, слегка побледнел и сразу же ушел к себе, громко хлопнув дверью. Скоро в этом доме все двери слетят с петель!
Итак, у него когда-то была девушка, которая ему нравилась. По какой-то причине они расстались, но одна мысль о ее замужестве для него невыносима. Ну еще бы, ведь Саша такой собственник!
Немного погодя, когда я чаевничала на кухне, он пришел и тоже налил себе кружку — молча, с недовольным лицом, что не помешало ему вскоре с удовольствием смотреть предновогоднюю телевизионную программу. Затем Саша повел меня в постель, но на этот раз он был чересчур уж возбужден. Может быть, от моих вопросов и своих воспоминаний? Он был удивительно нежен, все шептал ласковые слова и не собирался, как обычно, уходить к себе, а мне совсем не хотелось оставаться с ним до утра. Следующая ночь праздничная, поэтому надо загодя выспаться, и я с трудом, но все-таки выпроводила его.
Спала я до двух дня, прямо-таки рекорд по сну! Когда же приняла душ и прибрела в купальном халате на кухню, то увидела Сашу, заспанного и всклокоченного, тоже только что вставшего. Он встретил меня кружкой кофе и собственноручно приготовленным омлетом, который подал в миске, что несколько портило эффект. Но делать нечего, посуду он так и не купил. Только я успела допить кофе, раздался звонок в дверь. Пошла открывать, Саша на звонок не отреагировал.
На пороге стояла высокая, очень красивая девушка в песцовой шубке, но без головного убора. Незнакомка держала в руках довольно большой чемодан и сумку, тоже немаленькую. Я открыла рот, чтобы объяснить, что посетительница ошиблась квартирой. Но красотка, устав ждать, решительно ломанулась в квартиру, оттеснив меня чемоданом. Я машинально закрыла дверь и воззрилась на непрошеную гостью. С какой сырости здесь завелась эта фотомодель? Гостья между тем поставила вещи на пол, мгновенно, одним грациозным движением плеч сбросила свои песцы прямо мне на руки и, словно по компасу, устремилась на кухню. Я была жутко заинтригована происходящим, но бросить дивный мех не могла и поэтому несколько секунд потратила на обустройство шубки в шкафу. Как я ни спешила, но увидеть выражение Сашиного лица мне не посчастливилось. Еще в коридоре услышала стук кружки об пол и его изумленно негодующее:
— Ты?!
Влетев на кухню, я увидела, как Саша вскинул кулак прямо в прелестное лицо гостьи. Девушка вскрикнула и отшатнулась. Кровь из разбитого носа закапала на модную кофточку. «Так вот как Саша не может ударить женщину», — мелькнуло у меня в голове. Я бросилась между ними, чтобы предотвратить дальнейшие боевые действия. Но вряд ли здесь требовалось мое вмешательство, визитерша могла и сама за себя постоять. Отшвырнув меня как котенка, она бросилась перед Сашей на колени. Я даже рот открыла от изумления, а побитая гостья, обняв Сашины ноги, хрипло завыла:
— Прости меня! Саша, прости!
От зрелища чужого унижения стало совсем муторно. На меня никто не обращал внимания, словно меня здесь и не было. Похоже, даже если они сейчас станут убивать друг друга, я тем более буду здесь лишняя. Юркнула в свою комнату, сбросила халат, быстренько натянула брюки и свитер, потом оделась и вышла на улицу.
На улице было хорошо, низко сидящее солнце придавало всему какой-то умиротворенный вид, и я с удовольствием вдохнула хрусткий морозный воздух. Настроение поднялось. Я прямо-таки внутренне ликовала, смутно предугадывая скорое освобождение. Наконец я перестала глупо улыбаться, стоя без всякой цели на улице. Немного подумав, решила пробежаться по продовольственным магазинам. Продукты дома были, но хотелось чего-нибудь еще, тем более что вчера в издательстве мне заплатили гонорар и я обзавелась-таки деньгами. Я ходила больше часа: зашла в два магазина и накупила всякой всячины: апельсинов, яблок, торт, оливок, зелени, шоколада, а также нежнейшую вырезку. На улице заметно подморозило, и я решила вернуться, очень надеясь, что двум сумасшедшим вполне хватило времени для выяснения их запутанных отношений.
Дверь открывала с опаской, но в квартире было тихо, трупов нигде не валялось. В ванной шумела вода, отчего-то я решила, что там моется приезжая девушка. Но она, словно услышав мои мысли, вышла из Сашиной комнаты. Судя по всему, они только что занимались любовью. На щеке у нее наметился синяк, пока еще красный, а нос, на удивление, распух совсем немного. Но незнакомка была так хороша, что даже это ее не портило. На ней красовались голубые джинсы и красная футболка, под которой просматривалась грудь, впечатляющая и размерами, и упругостью. К этому надо было добавить тонкую талию, широкие бедра и круглую попу, и создавалось полное впечатление, что передо мной ожившая античная статуя. Статуя протянула мне руку и представилась Таней. В ответ я тоже назвала имя, не забыв невзначай добавить, что являюсь хозяйкой квартиры: парочка уже начинала действовать мне на нервы, они вели себя так, будто я — назойливая гостья, и ничего больше. Таня попросила сделать ей кофе. Я решила, что мне тоже не помешала бы кружечка, и поставила на плиту чайник. Пока вода закипала, появился Саша, еще влажный после душа, ни на меня, ни на Таню он не смотрел, но вид имел, конечно же, не виноватый, а какой-то утомленно-отчужденный. Объясниться по поводу приезда Тани он и не подумал. Такое хамское поведение мне не нравилось, но пока я решила не возникать и посмотреть, что же будет дальше, боялась спугнуть начавшееся везение. Я заварила кофе для Тани и Саши: кружек было всего две, но я, как хозяйка, могла подождать. Но Таня не спешила взять протянутую кружку. Сначала она, подняв в недоумении брови, несколько секунд рассматривала ее, а потом, переведя на меня надменный взгляд, спросила:
— Здесь что, посуда как в тюрьме, железная?
Я перевела дыхание, сосчитала до трех, успокоив себя мыслью, что не стоит сердиться на человека, который, сам не ведая того, несет мне спасение.
— Не знаю, какие кружки подают в тюрьме, пока еще, благодарение Богу, там не была. А что касается железа, Таня, то с недавних пор у меня завелся полтергейст. У него очень своеобразный вкус: совершенно не выносит стеклянную и фарфоровую посуду, всю уже переколотил.
Таня смотрела недоверчиво, Саша по-прежнему на нас не обращал внимания, не вмешиваясь в разговор, вроде бы он его и не касался. Ну нет, подумала я, у тебя не получится свалить все на меня, посуду расколошматил ты и девушка тоже твоя, вот и разбирайся с ней как хочешь. Вслух я ничего не сказала, а забрала злополучную кружку, ушла в свою комнату и плотно прикрыла дверь. Когда через несколько минут я снова посетила кухню, в ней уже никого не было, а из Сашиной комнаты доносились раздраженные голоса. Я подумала, что новогодний праздник из-за этой парочки может получиться весьма бурным.
Зазвонил телефон, и я поспешила к нему, решив, что моя Катюшка спешит с поздравлениями. Сестра сообщила, что встречать Новый год собирается не где-нибудь, а именно у меня, причем не одна, а с женихом. Приедут они в десять часов. Когда я, ошеломленная ее натиском, не зная, как сочетать своих разномастных гостей, стала блеять что-то нечленораздельное, она, поняв меня по-своему, посоветовала зря не дергаться — они все привезут с собой. В голове у меня наконец-то просветлело от обилия новых впечатлений, и я заверила Любашу, уже недовольную отсутствием возгласов восторга, что буду просто счастлива ее видеть. Любаша радостно добавила, что для меня они тоже постараются кого-то привезти, и, не слушая моих отнекиваний, повесила трубку.
Отклеившись от телефона, я медленно побрела в комнату, обдумывая, насколько кстати оказалось Любашино предложение. Ведь и в самом деле, вечер с двумя такими неуравновешенными личностями, как Саша и его девушка, представлялся мне весьма тяжким, и очень хорошо уравновесить их кем-то. Прервав мои размышления, в дверь вошел Саша, слегка постучав для приличия. У него было ко мне два вопроса: кто звонил и что делать с посудой, вернее, с ее отсутствием? Первый вопрос меня удивил: даже после приезда его девушки, присутствие которой все еще им не объяснено, он считает возможным следить за мной? Но заводиться я не стала, напротив, с большим удовольствием объяснила, что ко мне вечером приедут гости. Саша побледнел, помявшись, спросил, не лучше ли будет отменить визит.
— Знаешь, Саша, и моему терпению есть предел! Сначала приезжаешь ты на две-три недели, а вместо этого остаешься на неопределенно долгий срок. Потом как снег на голову, без всякого предупреждения, сваливается твоя девушка, а теперь я, оказывается, в своем собственном доме не могу принять гостей, потому что тебе это не нравится. Дудки! Не нравится — уезжай сам, Москва большая, найдешь себе уголок по вкусу!
Его передернуло. На некоторое время воцарилось молчание. Не знаю, о чем думал Саша, а я — о посуде, все ломала голову, как же выйти из положения, и кое-что надумала. Наше тягостное молчание прервала Таня, которая вошла без стука и осведомилась, что мы тут делаем. Наверное, она хотела спросить это игриво, но получилось враждебно. Присутствие этой неотесанной девицы в моей квартире действовало мне на нервы, но я пока не одергивала ее, чтобы не дать Саше повод обвинить меня в ревности, чему он был бы рад. А самое главное, она была моим шансом навсегда избавиться от этого ненормального. Ради такой перспективы можно было немного потерпеть ее дурные манеры, а порой и откровенное хамство. Поэтому я улыбнулась ей так ласково, как только смогла, и объяснила, что нас тревожит проблема посуды и выход из нее я вижу только такой: почему бы им вдвоем не прогуляться по магазинам, пока они еще открыты, и не купить посуду, какая им глянется? Денег я им, естественно, не предложила. Посуда стоит дорого, а Саша просто обязан загладить свою вину и возместить нанесенный им ущерб, пусть сделает мне хоть такой подарок к Новому году. Таню мое предложение настолько возмутило, что она аж подпрыгнула и завизжала:
— Как же это так, вы здесь хозяйка, а перекладываете все на нас! Мы, между прочим, гости и не обязаны ничего делать или идти куда-то. Даже не подумаю никуда идти и Сашу не пущу!
Ого! Я перевела взгляд с девицы на Сашу — он смотрел на меня с издевкой: мол, получила? Надежда на то, что он в самом деле пойдет в магазин за посудой была очень слабая, поэтому я и не огорчилась, когда мой план с треском лопнул.
— Это хорошо, что ты, Таня, помнишь, кто здесь хозяйка. Поэтому будьте любезны сидеть в отведенной вам комнате и под ногами у меня не путаться. Время уже к шести, а у меня полно дел. Не хотите помогать, не надо, но и не мешайте мне. В десять часов жду вас в гостиной, а пока отдыхайте.
Не посмев возразить, они с кислыми лицами поплелись к себе. В течение всего вечера парочка старалась не попадаться мне на глаза. Но есть им хотелось, поэтому кое-какие партизанские вылазки на кухню они делали: кипятили чайник, готовили бутерброды, в основном из тех продуктов, что купил Саша. Мне было совсем не до них, пришлось еще раз протереть пыль в гостиной, раздвинуть стол, накрыть его красивой белой клеенкой, сделанной под настоящую кружевную скатерть. С посудой я придумала вот что: хрусталь остался цел, поскольку обитал в гостиной, приборы, естественно, не разбились, а тарелки нашлись одноразовые из какой-то синтетической ерунды, причем и большие, и маленькие. Года два назад их просила меня купить Катя для загородных пикников, но так почему-то и не забрала, а вот сейчас они меня здорово выручили.
Я не только успела к назначенному часу все приготовить, но и выкроила время полежать с марлевыми тампонами, смоченными ромашковым чаем, на глазах. Платье решила надеть новое, то самое, которое стоило мне таких денег. Хорошая примета встречать Новый год в новой одежде. Сделала себе нехитрую, но миленькую прическу. Поскольку вечер, то макияж можно сделать чуть-чуть поярче. Оглядела себя в зеркале и осталась довольна. Конечно же мне не сравниться с молодой девицей, тем более такой красавицей, как Таня, но ведь я и не собиралась ни с кем соперничать, я сама по себе, она сама по себе. Ровно в десять я собиралась выйти из своей комнаты, но услышала, как Саша с Таней пошли в гостиную, и решила подождать минутку, чтобы не сталкиваться в коридоре. Раздался звонок в дверь, и я услышала, как ребята пошли открывать, то ли потому, что были от двери в двух шагах, то ли из любопытства. Судя по тому, какие недоумевающие вопросы при этом задавала Таня, она не знала, что будут еще гости, почему-то Саша не счел нужным предупредить ее, может, надеялся, что никто, не придет? Я еще раз посмотрела на себя в зеркало, поправила прядь волос и не спеша выплыла навстречу гостям. По телефону я успела сказать сестре о своих молодых гостях, впрочем, ее трудно было чем-нибудь удивить. В прихожей было темно, гости раздевались, знакомились, потом вновь прибывшие Валера и Сережа остались с молодежью в гостиной, а мы с Любашей пошли на кухню, вечное женское прибежище. Первым делом Любаша оглядела меня и сказала:
— Вот это да! Где платье оторвала? Мало сказать, что ты в нем отлично выглядишь, ты в нем вообще какая-то другая, черт, даже не знаю, как и сказать! Дай-ка я тебя поцелую. Да, чтобы ты не запуталась: Валера — это мой жених, а Сережу мы привели для тебя, и нечего морщиться. Интеллигентный мужик, как раз то, что ты любишь. Слушай, а этот твой племянник мне совсем не понравился, угрюмый какой-то. Ну да фиг с ним! Давай разбираться, что кинем на стол, ты что-то планировала на горячее? А то мы привезли с собой две курицы гриль, их ведь подогреть можно, как ты думаешь?
— Спасибо за комплимент, Любашенька, ты в ответных не нуждаешься — прекрасно смотришься, впрочем, как и всегда. Куриц мы твоих греть не будем, и без них всего хватит. На горячее у меня грибы, тушенные со сметаной, ветчиной и сыром, — это раз, твои любимые свиные отбивные на ребрышках — это два, ну и картошка, естественно. Из закусок, кроме нарезки всякой и консервов, два салата — оливье с курятиной и свежий из пекинской капусты с перцем, огурцами и зеленью. Хватит, я думаю.
— Еще бы! Ой, а икру мы как подадим? На хлебе как-то банально, яйца есть у тебя вареные?
— Икра? А, да оставь ее на утро, холодных закусок и без икры — есть не переесть. Бери вот эту тарелку и эту тоже, пошли.
За стол сели в начале двенадцатого, наполнили тарелки, под звон хрустальных фужеров проводили старый год, и я, наконец, осмотрелась, а то все некогда было. Разглядела как следует Любин элегантный красный костюм, очень красивый, явно дорогой. Макияж она тоже сделала яркий, женщина-вамп — ее стиль. Валера был моложе лет на пять, привлекательный внешне, он мне тем не менее не понравился. Я подумала, что, видно, забыла Любаша про «херувимчика» и что вряд ли Валера долго продержится в ее женихах. Люба была натура увлекающаяся, но далеко не дура и после первых бурных всплесков эмоций быстро выводила на чистую воду своих возлюбленных, ее на мякине не проведешь. Сережа выглядел лет на сорок, внешность имел самую обычную, вел себя вежливо и тихо, а большего от него и не требовалось, никакие отношения с ним я заводить не собиралась. Раньше я не позволила бы Любе привести ко мне в дом незнакомых мужчин, но Саша меня закалил. Таня была в ярко-розовом платье, очень длинном, цвет мне не понравился, но фасон был классический, и оно ей очень шло. Саша надел костюм стального цвета, гармонирующий с платьем его спутницы. Но вот поведение его мне совсем не нравилось, я ведь ни слова не сказала Любаше про наши с ним запутанные отношения. За столом он без всякого стеснения рассматривал меня, мой вид явно ему не понравился, особенно глубокое декольте. Я подумала, что, не будь здесь других людей, он бы сорвал с меня это платье, может, и Тани бы не постеснялся. Неприятные мои раздумья были прерваны суетой, поднявшейся за столом, было почти двенадцать.
Вскоре все развеселились, начались танцы. Я постаралась от них уклониться, некогда было, начала подавать горячее. Таня перетанцевала со всеми имеющимися в наличии кавалерами. Праздник ей явно нравился, она улыбалась всем, но особенно нежна и предупредительна была с Сашей, даже танцуя с кем-нибудь другим, заискивающе смотрела на него. Чувствовалось, что она привыкла быть в центре внимания и не стесняясь тянула одеяло на себя. В первое время действительно мужчины уделяли ей повышенное внимание, но длилось это не очень долго, ведь тут была еще и Любаша, которая сама любила чувствовать себя царицей. Она хоть и гораздо старше Тани, которой я на вид определила лет двадцать пять, но гораздо опытнее и умнее. Я в царицы не лезла, мне и так было неплохо, к тому же терпеть не могу эти бабские тайные турниры. Сашин упорный взгляд меня несколько тревожил, но не станет же он устраивать скандал в присутствии стольких людей. Улучив минутку, когда я перестала бегать туда-сюда, он поймал меня за руку. Я не сразу поняла, чего он хочет, оказывается, приглашает танцевать, в такой безделице я не смогла ему отказать. Танцуя, он довольно тесно прижал меня к себе и сказал очень тихо, на ухо:
— Я не позволю тебе с ним спать, и не надейся! Я ответила ему также тихо и тоже на ухо, на каблуках вполне доставала:
— А я и не собираюсь этого делать.
Я сразу поняла, что он говорит о Сереже, и поспешила рассеять его злость, не хотела скандала в праздничную ночь. Но Таня, очень внимательно за нами наблюдавшая, нахмурилась. Стали снова рассаживаться, я принесла из холодильника очередную бутылку шампанского. Саша перестал на меня пялиться, и я смогла вздохнуть свободнее. Но тут Таня, которая не могла простить наших перешептываний, решила хоть как-то мне досадить и привлекла внимание присутствующих к тарелкам, годным лишь для пикника, и в довершение рассказала, как утром я предлагала ей кофе в железной кружке. Но гостям было весело, и они выказывали полное безразличие к поднятой ею проблеме. «Было бы что пить и есть, а уж из чего, это дело десятое», — сказал Тане кто-то из мужчин. Она продолжала хмуриться, смотрела на меня косо, но вдруг посветлела лицом. Что-то придумала, поняла я. И правда, спустя несколько минут, воспользовавшись редким затишьем за столом, она обратилась сразу ко всем торжественным тоном и попросила поздравить их с Сашей, поскольку они намереваются в самое ближайшее время пожениться. Новость эта всех заинтересовала, посыпались поздравления, которые Таня принимала с милой и вроде бы смущенной улыбкой, но не забывала с торжеством поглядывать на меня. В ответ на ее взгляды я только пожала плечами и перевела взор на Сашу. Тот улыбался. Люба при этом известии встрепенулась, как боевой конь при звуке трубы, слишком нравились ей всякие помолвки и свадьбы. Она заинтересованно спросила:
— А когда же свадьба? И где вы будете пока жить, здесь? Ведь, насколько я поняла, вы оба из Ульяновска? Или, может быть, ты, Таня, пока уедешь к себе?
Саша продолжал хранить непонятное молчание, словно все, о чем сейчас говорилось, не имело к нему отношения. Таню это отчего-то не смущало, и она бойко отвечала за себя и за него:
— Поженимся мы, наверно, через месяц-полтора, да, Сашенька? И, конечно же, я без него никуда не уеду, как же я без него? А вот где мы будем жить, я пока не знаю. Здесь, наверно, где же еще? В принципе, здесь неплохо, до центра близко, и Саше вроде нравится, вот только посуды приличной нет, а так ничего.
Наконец она примолкла, и все взгляды обратились на меня. Я была очень рада, что Любаша так своевременно подняла столь важный и столь больной для меня вопрос. Чувствуя, что этот шанс я упустить никак не должна, сейчас или никогда, и медлить нельзя, я собралась с силами и оглядела всех. Танин взгляд выражал простодушие, Люба смотрела на меня вопросительно и несколько тревожно. В Сашиных глазах таилась угроза, хотя он все еще улыбался.
— Ну что ж, я очень рада, Таня, что тебе у меня понравилось, даже невзирая на отсутствие приличной посуды. И все-таки говорю вам прямо и без обиняков, что у меня вы жить не будете. Сашина мама просила приютить его на небольшой срок, так мы с ним и договаривались, срок этот давно вышел, о тебе же, Таня, речи вообще не было. После праздника я в любом случае собираюсь поторопить Сашу с переездом, но сейчас добавилось еще новое обстоятельство, которое, пользуясь случаем, я и довожу до вашего сведения: мне позвонил сын, они с женой возвращаются из-за границы и поэтому квартиру нужно освободить в спешном порядке.
Таня пока еще не собиралась сдаваться:
— Но здесь же целых три комнаты, мы все прекрасно уместимся!
— Знаешь, Таня, ты рассуждаешь так, словно у меня общежитие. Но я не собираюсь тесниться в своей квартире. Да и Котьке вряд ли придется по вкусу такая перенаселенность, мы давно не виделись, и посторонние нам совсем не нужны.
Это прозвучало достаточно резко, гости притихли, но я чувствовала себя хирургом, вскрывшим давно назревший нарыв. Я должна была это сделать, и я это сделала. Стало сразу легко на душе, я встала из-за стола и спросила:
— А что же никто не танцует? Объявляю белый танец — дамы приглашают кавалеров!
Включили магнитофон, я решила пригласить Сережу, как самого безопасного для меня из мужчин, но он и сам уже шел мне навстречу. Настроение у меня было просто отличное, этакое летящее, я бы сказала, и оно не испортилось даже тогда, когда Саша отловил меня на кухне, где я ставила чайник.
— Не думал, что ты сможешь вот так меня вышвырнуть, даже не предупредив заранее, и это при наших с тобой отношениях. Ты подумала, куда я денусь? И про сына своего ты придумала мне назло, чтобы избавиться от меня, ведь раньше ты ничего о нем не говорила.
— Саша, почему я должна думать о том, куда тебе деться? Об этом думать как раз должен ты сам. И не сочиняй, пожалуйста, что я тебя не предупреждала заранее. Сколько раз я тебе говорила, что твой срок проживания здесь вышел, но ты же не обращал ни малейшего внимания на мои слова, потому что тебе удобно было здесь жить. Теперь тебе придется искать очень срочно новое жилье, но это уже твои проблемы, в которых ты сам виноват. Что же касается сына, то предупредить о нем я не могла никак, он только недавно позвонил поздравить меня и сказал, что приезжает сразу после праздников. Так что, Саша, не все коту Масленица. Самое позднее — второго утром, а еще лучше, первого вечером чтобы тебя здесь не было. Да, и не забудь Таню забрать с собой.
— Ну, подожди! Это ты храбрая такая, пока народу здесь много, а как все разъедутся, ты у меня по-другому запоешь!
— Не запою я по-другому, Саша, не запою. Квартира моя, я здесь хозяйка, и только я решаю, кому здесь жить. А ты мне надоел хуже горькой редьки.
— Так, в чем тут дело, при чем здесь какая-то редька? Мы чай ждем, давай вынимай торт, Евгения, я разрежу.
Любаша появилась, как всегда, удивительно удачно, я улыбнулась ей и достала торт. Попили кто чаю, кто кофе, и Любаша громогласно заявила:
— Ну что, мужики, поехали по домам? Время-то позднее, вернее, раннее — четыре часа. Валер, Сереж, я надеюсь, что вы сможете доехать без моего присмотра, сами, и при этом никуда не врезаться? Ну вот и чудненько. Отдохнете, отоспитесь и вернетесь сюда, тогда и продолжим праздник, вон еще сколько всего осталось. А теперь баиньки, баиньки!
Я ведь недаром сравнивала Любашу с царицей — как царица сказала, так и будет. Растерянные мужчины, не ожидавшие, что Любаша останется здесь, тем не менее мигом собрались и уехали. Таня с Сашей сразу же ушли спать, а мы с Любой убрали со стола. Мыть посуду не стали, ее и было не так много благодаря одноразовым тарелкам. Любе я постелила в гостиной, на раздвинутом диване, она любила спать просторно раскинувшись, так что на нем ей было в самый раз, и ушла к себе. Первое, что я сделала, войдя в свою комнату, — это стала искать предмет, который можно сунуть в ручку двери так, чтобы дверь нельзя было открыть из коридора. Ничего, кроме больших портновских ножниц, не нашла, сунула их. Уснула я сразу, проснулась от грохота упавших на пол ножниц. Достала часы из-под подушки — восемь утра, услышала, как от двери кто-то торопливо отошел. Ага! Правильно говорят: береженого Бог бережет.
Проснулась я в час дня. Выползать из постели совсем не хотелось, но в ванной шумела вода, значит, кто-то уже встал. К тому же я опасалась, что уехавшие мужчины могут скоро вернуться, если они, конечно, вообще собираются возвращаться, надо бы срочно обсудить этот вопрос с Любой. Когда я вошла в кухню, Люба была там, слегка заспанная, но веселая. Командирским голосом она велела мне быстренько умываться, так как чайник скоро вскипит, я засмеялась, приложила руку к голове ковшиком и сказала: есть! Умываясь, я все продолжала тихонько посмеиваться про себя, ни почему, просто так. Я увидела сестру, и это привело меня в прекрасное настроение. Я так устала от Саши с его завихрениями, а тут вполне нормальный, живой, веселый человек, и я поверила наконец, что моя жизнь выйдет из штопора. Выйдя из-под душа, я не обнаружила своего махрового халата. Вспомнила, что именно в нем видела Любашу, и натянула футболку, она, правда, короткая, но попу прикрывает, и к тому же я у себя дома. Люба уже успела приготовить пышный омлет с грибами и порезать сыр, увидев меня, она проворчала:
— Наконец-то! — Но, оглядев еще раз, одобрительно кивнула: — Прямо как девочка. Вот так и ходи.
— Что? Прямо в футболке и ходить? На дворе вроде бы зима.
— Умная очень, да? А в истории вечно вляпываешься. Ешь давай лучше, а то остынет, глянь, какой пышный получился.
Я засмеялась, поцеловала ее в нос. Попробовав омлет, я мычанием подтвердила, что он божественен, я наслаждалась каждым кусочком, одновременно слушая рассказ о любовных похождениях сестрицы. Мне очень нравится, как Любаша тараторит, особенно если это касается не меня, поэтому я внимала с большим интересом, не забывая, впрочем, про омлет и кофеек. История знакомства с Валерой оказалась вполне типичной для Любаши. Нетипичным в ней была только шляпная коробка, предмет, словно позаимствованный из водевиля. В тот день Любаша собиралась пойти на какое-то свидание, но, как на грех, по дороге забежала в магазин и соблазнилась на шляпку. Покупку упаковали в круглую высокую коробку. Выйдя из магазина, сестра принялась ловить такси, времени до свидания оставалось совсем немного, а ей еще надо было попасть домой, переодеться и привести себя в порядок. На Любины отчаянные взмахи рукой почти тут же остановилась машина, но у самой дверцы этой машины она столкнулась с каким-то мужчиной, который тоже, видимо, торопился. Мужчина оказался проворнее, а главное, сильнее, отпихнув Любу от дверцы, преспокойно полез в машину. Такого уж Любаша стерпеть никак не могла. При себе у нее были небольшая сумочка на длинном ремешке и шляпная коробка. Вот эту картонку она и водрузила на голову незнакомому хаму. Хлипкое дно порвалось, и нижняя часть коробки оказалась на шее мужчины вроде средневекового воротника, а на голове у него красовалась щегольская белая дамская шляпка. Мужчина угрожающе двинулся к Любе, но в таком виде много не навоюешь, к тому же прохожие стали обращать на них внимание. Вот только как Люба смогла прельститься подобным хамом? Ответ был очень даже неожиданным:
— А, вот ты о чем волнуешься. А никакого хамства ведь и не было. Машина эта остановилась как раз для Валеры. Это ведь не такси, а частник. А за рулем был Сережа, он случайно проезжал мимо, заметил Валеру, который ловил машину позади меня, и остановился. Валера, увидев, что я ринулась к машине, на бегу крикнул: «Это мне!» Но я его не услышала, на улице ведь шумно. Произошло забавное недоразумение.
Такое объяснение показалось мне забавным и милым. Я смеялась, слушая дальнейшие Любашины излияния о том, как она продолжила столь негаданное знакомство с Валерой, сблизилась и, по ее собственному выражению, подцепила его на крючок. Рассказы сестры не просто посмешили меня, они подняли мне тонус, к тому же я выспалась и со вкусом позавтракала. Короче, мне было хорошо и я радовалась жизни, как вдруг увидела на пороге кухни Сашу, о котором умудрилась настолько позабыть, будто и не знала его никогда, и теперь, внезапно увидев, вздрогнула как от ожога. Он подошел к нам совсем бесшумно и неизвестно как долго стоял, слушая откровенные Любины рассказы, глядя, как я сижу полуголая, смеюсь и дрыгаю ногой, — от неожиданности и смущения нога моя дрогнула, и сорвавшаяся тапка угодила Любе прямо на колени. Прервавшись на полуслове, она схватила мою тапку и уже собралась кинуть ею в меня, но, проследив за моим взглядом, обернулась, тоже вздрогнула, но, быстро оправившись от неожиданности, хмыкнула:
— Ну и чего ты, спрашивается, там стоишь? Решил слабых женщин попугать? Найди другое развлечение. Ишь, насупился как сыч! Лучше бы поздоровался да поздравил с праздником еще раз, а я, так и быть, тебе кофе бы предложила. Что молчишь-то? Жень, чего это у тебя такой племянник невоспитанный и странный, а?
— Женя! Евгения Михайловна, мне надо с вами поговорить, — выговорил Саша официальным тоном, но не удержался и с ненавистью покосился на мою короткую футболку: — Оденься сейчас же! Что ты ходишь как шлюха?
Я уже успела взять себя в руки, вытащила из Любиных рук свою летающую тапку. Она в изумлении от происходящего сначала вцепилась в нее, теперь машинально отдала мне. Пока я надевала тапочку, она продолжала таращиться на Сашу, начиная догадываться о характере наших взаимоотношений, на такие вещи у нее был прямо-таки нюх. Я подлила себе еще кофе и снова уселась на стул:
— Здравствуй, Саша. Уже встал? С завтраком придется подождать, Любаша немного поспешила, предложив тебе кофе, кружки по-прежнему только две. Но ничего, мы уже заканчиваем, минут через десять кухня будет свободна. Поесть приготовите себе сами, да и уже готового в холодильнике полно, выбирайте, а кофе, надеюсь, твоя Таня сумеет сварить.
— Женя, не притворяйся, будто не слышала, мне надо с тобой поговорить, наедине, это очень важно и очень срочно. Пойдем к тебе.
Тон его был повелительным, и в нем проскальзывали угрожающие ноты, но старался он напрасно, на меня теперь любые его слова производили действия не больше, чем шорох дождя за окном. Поэтому совершенно спокойно я повернулась к Любе и попросила ее продолжать. Но Любаше, в отличие от меня, эта ситуация еще не набила оскомину, ей было очень интересно, и, переведя несколько раз взгляд с меня на него и обратно, она не утерпела и спросила, глядя на меня круглыми глазами:
— Слушай, Жень, как же это ты так, а? Бес, что ли, тебя попутал?
Такая трактовка меня вполне устраивала.
— Точно, Люба, бес, да еще какой! Помрачение ума у меня было, не иначе. Но сейчас я уже выздоравливаю от этой бесовской хворобы, прихожу в норму и нуждаюсь в присмотре опытного человека. А ты, с твоим острым умом и зорким глазом, с ходу разглядела всю сложность ситуации и поддержала меня, за что большое тебе спасибо!
Я несла всю эту ахинею скорее для Саши, чем для Любы. Не знаю, что поняла из моих слов сестра, но она перестала улыбаться и заерзала, глядя на еще более помрачневшего Сашу.
— Бес, само собой, он, как известно, еще и не то может, но и ты, голубушка моя, хоть немного думать должна. А то что же это делается — не успела от одного избавиться, надеюсь, что он в аду горит, так ты еще хуже себе нашла на свою же голову. Он же ненормальный, ты посмотри, посмотри на него, как глазищами-то зыркает, просто жуть берет.
Такого Саша выдержать уже не мог и ушел, обозвав нас на прощание шалавами и собаками женского рода. Вслед ему звучал жизнерадостный Любин смех. Но, отсмеявшись, она меня спросила озабоченно:
— Слушай, Жень, а ведь он может быть опасен?
— Еще как может.
— Да, сестренка, заварила ты кашу. Что-то больно круто. Конечно, жизнь нас учит, что кто заварил кашу, тот ее и расхлебывать будет, но ты не боись, я тебя не брошу. Вдвоем-то авось справимся, и не таким рога обламывали. Что делать-то, говори, я мигом.
— Спасибо, Любаша, я знала, что могу на тебя опереться, но делать, собственно говоря, ничего не надо. Ты все, что надо, и так делаешь, просто побудь со мной, пока он не уедет вместе со своей девицей, вот и все.
Тут Люба вдруг вспомнила:
— Да, кстати, о его девице, как ее — Таня? Я правильно разглядела, у нее вроде как хороший фингал имеется? И совсем свежий. Это, случайно, не любезный друг Саша засветил? Или это все без тебя случилось?
— Вот именно, что при мне. Та еще сцена была. Это он вчера ее так встретил после долгой разлуки. Представляешь себе такую картину: она к нему подлетает, а он вместо «здравствуй» — кулаком в физиономию!
— Ничего себе! Нет, на мой взгляд, это чересчур уж знойная любовь. Слушай, а ведь ночью эта Таня сказала, что они скоро поженятся, и он этого не отрицал, мило так улыбался. Так что, они правда женятся?
— Понятия не имею, Любашенька, может быть, и правда, разве таких ненормальных поймешь?
— Два сапога пара. Оба совершенно сумасшедшие. А тебе надо держаться от них подальше, и знаешь что, Жень? Тебе надо выйти замуж, да, да! Не качай головой, одной очень трудно, вон видишь, в какое болото угодила. Давай Сережу захомутаем, а? По профессии он, кажется, электронщик, раньше в каком-то «ящике» работал, ну а теперь в фирме, то ли совместной, то ли нашей, точно не знаю, но деньжата имеются. Опять же, разведен, детей нет и интеллигент. Короче, мужик по твоему вкусу, все, будем делать его. Ну чего ты? Смотри, как хорошо получится: я выйду за Валеру, а ты за Сережу, почти еще раз породнимся, красота! Пропадешь ведь одна, ей-богу, пропадешь.
— Люб, ну что ты все меня сватаешь, ты ведь даже и не знаешь его толком, а уже расписываешь. Да и молодой он для меня слишком, хватит с меня молодых.
— Хватит, говоришь? — Тут Люба буквально закатилась от смеха.
Глядя на нее, и я тоже начала смеяться. Отсмеявшись и вытерев слезы, мы наконец освободили кухню.
Я беспокоилась, что скоро Валера с Сережей могут приехать, а у нас посуда не мыта, ничего не приготовлено, да и сами мы распустехами ходим. Любаша лениво возражала, что они еще спят, но, подстегиваемая мною, все же позвонила Валере, ласково поинтересовалась, когда «зайчики» собираются приехать. Узнав, что не раньше пяти часов, поворковала еще о чем-то, мило распрощалась и повернулась ко мне:
— Ну? Что я тебе говорила? Давай сначала что-нибудь по ящику посмотрим, наверняка там сейчас что-нибудь путное пустили, а потом уже и суетиться начнем. Я пока еще не в форме, мне надо еще на диванчике поваляться, посмотреть что-то эдакое сердцековырятельное, чтобы слезу прошибло. Ух! Люблю индийские фильмы, плачешь, слушаешь песенки, а через пять минут уже не помнишь ничего, красота! Да не боись ты, что такая дерганая! Все успеем сделать, тут и делать-то нечего, тем более двум таким женщинам, как мы.
Мужчины приехали почти в шесть часов, стол был уже накрыт, и благоухание мяса разносилось по всей кухне. На этот раз я не стала особо мудрствовать и потушила отбивную говядину, предварительно обжаренную в укропном соусе. Мясо оказалось очень кстати, потому как мужчины на завтрак лишь слегка перекусили, а пока собирались да ехали, окончательно проголодались. Чуть позже показались мои молодые жильцы, причем чувствовалось, что это была инициатива Тани, а Саша идти не хотел. Сегодня синяк на Танином лице был виден отчетливее, он потемнел, и тональный крем тут уже не помог. Валера с Сережей, наконец-то разглядев это странное для молодой девушки «украшение», таращили на нее удивленные глаза, но Танюша не обращала на их взгляды ни малейшего внимания, была весела и щебетала, как птичка. Сегодняшнее ее поведение разительно отличалось от вчерашнего, она стала очень любезной, я бы даже сказала, вкрадчиво-любезной. Я вела себя с ней по-прежнему вежливо и спокойно, а про себя думала, что она наверняка рассчитывает расположить меня к себе, чтобы я не выгоняла их из дома. Только зря бедная девочка старается, все ее хитрости шиты белыми нитками: я не самоубийца и вешать их себе на шею не собираюсь.
Сережа тоже заметно оживился после новогодней ночи, вчера он был какой-то заторможенный, все время молчал, а нынче ухаживал за мной, говорил комплименты и целовал руки, мне это было слегка приятно, но не больше. Видимо, он принадлежал к тем людям, которые тушуются в обществе малознакомых людей. Так это на самом деле или нет, я гадать не бралась, его поведение мне было в общем-то безразлично. Удивительно и хорошо было то, что Саша в мою сторону почти не смотрел, чему я тихо радовалась и тоже старалась не смотреть в его сторону. Праздник шел своим чередом, не слишком шумно, но достаточно весело, во всяком случае, Любаша то и дело смеялась. Вдруг по рукам пошла гитара, я очень удивилась, оказывается, ее с собой привез Сережа. Для меня это был очень приятный сюрприз. Голос у Сережи был не сильный, но мягкий, да и пел он с чувством, а играл и вовсе виртуозно, причем чувствовалось, что он это знает и самую малость, но рисуется. Недостаток в данном случае вполне простительный, тем более что репертуар у него был отличный, он пел все то, что я так люблю: Визбора, Окуджаву. Люба слушала со скучливой миной на лице, она любила народные песни, в основном такие, которые можно петь хором за столом. Таня вертела головой и все спрашивала, что это за песни и почему она их раньше никогда не слышала. Я только успела подумать, что из современной молодежи мало кто знает бардовские песни, как Сережа произнес эту фразу вслух. Я была признательна ему за эти слова и улыбнулась благодарно, он взглянул на меня и тоже улыбнулся — смущенно и радостно. Это была уже искренняя, живая улыбка, а не та дежурная вежливость, с которой он поначалу ко мне относился. Тотчас же к нему подошел Саша и попросил у него гитару. Я поняла, что он подметил наши с Сережей переглядывания и улыбки и это разозлило его настолько, что он забрал у Сережи гитару, источник его успеха. Но вот что он будет с ней делать? Я почему-то представить себе не могла, что Саша может петь, но вопреки моим представлениям о нем, он пел, да еще как! Все притихли, слушая его сильный, гибкий, с переливами голос. Я слушала его, а у меня внутри буквально все переворачивалось, словно кто-то властной рукой касался моего сердца, то сжимая, то отпуская его. Саша пел больше часа и Высоцкого, и Визбора, и Окуджаву, и Сухарева, и Никитина, и Кима, и еще кого-то. Закончил он вполне традиционно, песней «Милая моя», смотрел при этом нарочито и вызывающе на меня, стараясь поймать мой взгляд. Я держала себя в руках и потому встретила его взгляд спокойно, даже отрешенно, и все-таки недодержала какой-то момент, чуть раньше, чем надо, отвела глаза, почти сразу опомнившись, посмотрела на него снова. Он уже допел, стоял, опустив гитару, в глазах его сквозь темное упорство пробивалось и вспыхивало огоньками торжество. Господи, мы словно ведем нескончаемый бой! В голове сразу всплыло тютчевское:
Все захотели вдруг чаю. И певцы, и слушатели пили, как и вчера, из хрустальных стаканов, чай я заварила в хрустальной же сахарнице. Все посмотрели на нее с недоумением. Таня, смутно недовольная поведением Саши, была до этого момента угрюмой, но тут сразу оживилась и рассказала байку про полтергейст, которую я вынуждена была ей поведать накануне. Любаша до этого рассказа, очевидно, просто не думала о том, куда же в самом деле исчезла вся моя посуда, выслушала байку с большим интересом, под аккомпанемент иронических замечаний мужчин. И вдруг произнесла, вроде бы про себя, но достаточно громко, задумчиво глядя куда-то в пространство:
— Интересно, что за имя у этого полтергейста? Я с ним, случайно, не знакома? — И тут же, без всякого перехода, обратилась к Саше: — Слушай, ты собрал вещи? А то мужики скоро уже поедут, подвезли бы вас с Таней куда вам там надо. В самом деле, чего мыкаться по такси с вещами-то?
Встрепенувшийся Валера сразу повернулся к ней:
— Радость моя, я чего-то не понял, ты что, опять остаешься здесь?
— Остаюсь, мой зайчик, остаюсь, надо же помочь Женечке все убрать, порядок навести, к ней сын со снохой скоро приедут, а тут после нас грязи-то!
Саша, до этого, видимо, еще на что-то надеявшийся, угрюмо посмотрел на меня и опустил голову. Только я успела с облегчением подумать, что с этой тяжкой проблемой, кажется, все в порядке, как в разговор влезла Таня:
— Евгения Михайловна, хозяюшка вы наша, благодетельница! Ну не выгоняйте нас, пожалуйста! Мы будем вести себя тихо-тихо, как мышки. Оставьте нас, ну хотя бы на пару недель, за это время Саша обязательно что-нибудь найдет, и тогда мы сразу же уедем. Все-таки Саша вам родственник, а я его невеста, значит, тоже родственница, а родственников не положено выгонять на улицу. Вам же ничего это не стоит, ну, пожалуйста-препожалуйста!
Эк, повернула! И Танин голос, она говорила тоненьким, дрожащим голоском маленькой, беззащитной девочки, казалось, еще чуть-чуть, и слезы ручьями польются из ее широко открытых, невинных глаз, и сам смысл ее слов — все это было беззастенчивым шантажом, ударом ниже пояса. О, конечно, я отдавала себе отчет в том, что эта «маленькая невинная девочка» вполне способна одной левой закинуть меня на шкаф, но слушать такие жалобные, слезные просьбы было очень неловко, я уже начинала казаться самой себе безжалостным чудовищем. Я молчала, не зная, как выйти с честью из пиковой ситуации. Оставлять их у себя я решительно не хотела, но и отказать не хватало то ли слов, то ли мужества. В комнате повисло тягостное молчание. Любаша тревожно посмотрела на меня, нецензурно выразилась себе под нос, а вслух сказала:
— Милочка, не дави на жалость! Дружку твоему любезному давно пора было подумать, где он будет гнездо вить. Не понимаю, неужели вы с ним такие бедные, что не осилите снять хотя бы комнатенку, если уж нет денег на квартиру? Сейчас это не проблема, предложений полно. А у Евгении Михайловны своих забот выше крыши, незачем ей еще добавлять.
От Любиных слов бедная Танюша моментально забыла, что она маленькая и беззащитная девочка, и окрысилась:
— Как-нибудь мы уж тут разберемся и без непрошеных советчиков! У вас есть, дорогуша, своя жилплощадь, вот и распоряжайтесь там на здоровье. Здесь хозяйка не вы, а Евгения Михайловна, вот с ней я и разговариваю, а вы не лезьте, куда вас не просят!
Любаша побагровела, и я поспешила вмешаться, поскольку Танина грубость привела меня в надлежащее чувство и мне уже гораздо проще было произнести решительные слова отказа, но этого не понадобилось. Только я привстала и открыла рот, меня опередил Саша:
— Совершенно точно, что мы уедем завтра утром, говорить тут не о чем. Насчет вещей беспокоиться не стоит, мы прекрасно довезем их и на такси, не так уж их много. И уж совершенно напрасно вы волнуетесь, мадам, в отношении моих денег, никто из вас их не считал. Я сам разберусь, бедный я или нет.
Он был очень бледен, когда это говорил, и сверлил Любашу злобным взглядом. Нам всем было ясно, что именно Любино, в общем-то случайное, замечание о деньгах задело его больнее всего, но разбираться в причинах его нежданной обиды мне было недосуг. Главное, что они с Таней уезжают завтра, он сам это только что сказал, а больше меня сейчас ничего не трогало, потом обо всем подумаю.
— Завтра так завтра, ничего не имею против, но это последний срок. А пока праздник еще не кончился, есть еще что поесть и выпить, не говоря уже о чае, мы еще не пробовали пирожные, те, что вы сегодня привезли.
Таким образом я подвела черту под дискуссией и показала рукой в сторону полного стола. Но все были какие-то вялые, нерадостные, и я подумала, что, вопреки моим словам, праздник все-таки уже закончился и, наверное, пора расходиться. Саша с Таней молча, ни с кем не попрощавшись, ушли к себе.
— По-английски, — пробурчала Люба им вслед.
После их ухода довольно быстро все вдруг оживились, и оказалось, что праздновать вчетвером куда приятнее. Не только Люба с Валерой, но даже тихий Сергей стали такими веселыми и жизнерадостными, что я поняла: присутствие Саши действовало угнетающе на всех, а не только на меня одну, как мне казалось. Сережа принялся ухаживать за мной весьма рьяно и даже начал мне делать какие-то авансы, на будущее, весьма туманные, впрочем. Я сделала вид, что не поняла ничего, невзирая на то что Любаша с многозначительным видом мне подмигивала и кивала в сторону Сергея. Я улыбнулась ей в ответ, думая про себя, что завтра перенесу спокойно все ее выражения недовольства по этому поводу, потому что все самое трудное и страшное для меня уже позади. Так я искренне думала в тот момент. Увы, как правило, мы не умеем предвидеть свое будущее.
Мужчины собрались уезжать только во втором часу ночи, причем собирались с явной неохотой, конечно, жаль заканчивать такое теплое веселье, но было уже слишком поздно, да и устали все. После их отъезда, кое-как распихав продукты в холодильник и на подоконник, мы с Любашей отправились спать, глаза у обеих уже слипались. Уснула я мгновенно, как провалилась. Проснулась сама не знаю отчего, как будто домовой толкнул в бок, потом поняла, что меня разбудил страх. Полежала, не открывая глаз, — все тихо, слышно только тиканье часов возле подушки, но страх не проходил, грудную клетку словно сдавило чем-то, было больно и трудно дышать, видимо, инстинктивно я задерживала дыхание. Боясь шевельнуться, открыла глаза, было еще темно. За окнами ветер, снег шелестит по стеклам, эти такие мирные, привычные звуки немного отвлекли и успокоили меня. Я закрыла глаза, повернулась на другой бок и стала уже погружаться в сладкую дрему, как вдруг почувствовала чье-то дыхание над собой. Причем именно почувствовала, не услышала, но испугалась уже не так сильно, потому что поняла, в чем дело. Страх неизвестности, ирреальный страх был куда сильнее, а тут все было ясно — я забыла, когда ложилась спать, воткнуть ножницы за ручку двери. Немного успокоившись, решила лежать тихо, подождать и посмотреть, зачем он пришел, что будет делать. В квартире я не одна, переполох поднять всегда успею. Долгое время ничего не было слышно, наконец он шевельнулся, еще, нагнулся надо мной, страх снова начал леденить сердце, но я продолжала ровно дышать. Это, видимо, успокоило его, и я почувствовала еле заметные, легчайшие касания его губ у себя на лбу, щеках, губах. Вот он чуть-чуть коснулся рукой волос, еле ощутимо провел по шее, выпрямился, тихо постоял надо мной и пошел к двери, и, когда затворял ее за собой, она тихонько и жалобно скрипнула, это было как удар по натянутым нервам. Надо же, попрощался со мной, приласкал! И как нежно. Не человек, а живой клубок противоречий! После его ухода я еще долго лежала с закрытыми глазами, но не спала, вслушивалась в шуршание снега за окном, то ли мечтала о чем-то, то ли грезила, наконец незаметно уснула.
Утром меня разбудила Любаша, довольно бесцеремонно потрепав по плечу. Увидев, что я проснулась, она села у меня в ногах и с любопытством уставилась на меня. Спросонья я никак не могла понять, чего она от меня хочет. Наглядевшись досыта на мою заспанную физиономию, но так ничего и не услышав, Люба недовольно нахмурилась и буркнула:
— Ну, давай, подруга, колись, рассказывай. — Заерзала, усаживаясь на постели поудобнее, и добавила грозным тоном: — Да смотри не ври мне!
Я по-прежнему не могла взять в толк, о чем она спрашивает, чего требует от меня.
— Я никак не пойму, что ты хочешь услышать? И почему такая срочность? Давай еще поспим, ну хоть немножко, а?
И я стала укладываться, намереваясь еще поспать, но вдруг вспомнила и резко подскочила в кровати:
— Ой, я совсем забыла! А Саша с Таней где? Еще спят, наверное, вот черт, вставать надо.
— Ну, подруга, ты даешь! Ты бы попозже спохватилась. Они уж часа два как уехали, злые, как бесы, кофе пить не стали, в мою сторону даже не посмотрели, ну, я плакать по этому поводу не стала. Я-то думала, что ты специально не встала к их отъезду, а ты, стало быть, просто проспала! Ну ладно, хватит зевать да глаза тереть, ты будешь мне рассказывать или нет? Я вся горю от любопытства и нетерпения, а ты позевываешь да тянешься!
— Любаш, ну что ты, право! Я не выспалась, а ты пристаешь со всякой чепуховиной. Лучше пошла бы и занялась чем-нибудь хорошим и полезным.
— Вот как, значит! И чем же это я должна заняться, по-твоему?
— Вчера утром у тебя получился просто роскошный омлет. Можно было бы повторить или новое что-то придумать, да и кофе бы не помешал.
— Слушай, радость моя, да ты вконец обнаглела, теперь еще прислугу из меня хочешь сделать. А что, интересно, твое сиятельство будет делать, пока я буду готовить, опять завалится спать?
— Нет, к сожалению, спать у меня уже не получится, да если бы и получилось, разве ты дашь? Нет, мое сиятельство пойдет чистить зубки и принимать душ, а что?
— И чего я тебя до сих пор терплю, сама не знаю, иди умывайся.
Когда я пришла на кухню, там витали кофейные ароматы, значит, кофе она все-таки сварила, но омлет делать не стала. Сказала, что за мое гнусное поведение с меня достаточно и хлеба с маслом, себе она демонстративно намазала поверх масла икру. Икра меня не волновала, я к ней довольно равнодушна, но вот сыр мне потребовался, заодно достала из холодильника и сырокопченой колбаски, вот ее я любила. Завтракая, я размышляла: что же мне ей сказать? Но Люба долго ждать не привыкла и стала торопить меня вопросами:
— Ну, вижу я, что ты, сестренка, совсем запуталась с этим придурочным Сашей, а? — Получив мой утвердительный кивок, она с энтузиазмом продолжила свой допрос: — А вот шашни-то кто из вас первый начал, ты или он?
Увидев, что я чуть не подавилась кофе и никак не могу откашляться, Любаша весело хмыкнула:
— Ну, понятно, он, значит. Я так и думала. Это неудивительно, ты всегда была овца-овцой, ни в жизнь бы первая не начала, но вот как ты ему позволила сесть тебе на шею и свесить ножки? Вот это уже непонятно, ведь это, пожалуй, и для тебя слишком.
— Как позволила, как позволила, да никак я ему не позволяла! Можно подумать, что он моего разрешения спрашивал. Не успела опомниться, как уже вляпалась по самые ушки! Да я даже не могу тебе сказать, как это все началось, я была не в себе, понимаешь?
— Конечно, понимаю, еще бы тут не понять. Разве в здравом уме с таким свяжешься? Ну ладно, а он-то чего хотел?
Этот вопрос несколько смутил меня.
— Ну, что значит — чего хотел, меня он хотел, разве не ясно? Да и жить ему здесь было весьма удобно.
— Подожди, я вот чего не могу понять. Ну, получилось так у вас, переспали разочек, ничего страшного, это нормально, но дальше вы о чем думали? Ведь ваши отношения не могли продолжаться долго, слишком большая разница в возрасте, то да се, да еще и невеста эта — Таня. Ну?!
— Ну?! — повторила я, не поняв до конца, чего она хочет услышать.
— Жень, я не понимаю, ты специально дурочку из меня делаешь? Неужели ты не можешь связно все объяснить? Я торчу тут вторые сутки, а у меня, между прочим, и свои дела есть. Жениха вон, Валерку, совсем забросила, того и гляди уведут из-под носа, пока я твоими проблемами занимаюсь, а ты мне голову морочишь. Последний раз спрашиваю: будешь говорить или нет? — рявкнула Любаша рассерженным медведем и для наглядности помахала крепким кулачком перед моим лицом. Кулак был увесистый, и я покаянно шмыгнула носом.
— Любочка, милая, я все понимаю и очень-преочень тебе благодарна, только успокойся, сделай милость. Если бы можно было тебе все объяснить в нескольких словах, я давно бы это сделала.
Люба уже успокоилась, она не умела долго сердиться, налила себе еще кофе и, отхлебывая его, о чем-то размышляла, добродушно поглядывая на меня. Чувствовалось, что любопытство гложет ее по-прежнему, хотя она и поверила — я в самом деле ничего рассказать ей связно не могу. Она вздохнула и сказала примиряюще:
— Все у тебя не как у людей, Женька. Но хоть на некоторые вопросы ты же можешь ответить?
— Могу, наверно, смотря какие вопросы.
— Про эту Таню ты мне почти ничего не рассказала, не могла же она возникнуть из ниоткуда, что-то ведь этот хмырь тебе про нее рассказывал, ну, об их отношениях, и о приезде предупреждал, наверно?
— Вот то-то и оно, что из ниоткуда, это ты правильно сказала. О ее приезде он меня не только не предупреждал, но я вообще не знала о ее существовании. Как-то перед самым праздником я спросила его, не был ли он женат, Саша ответил, что не был и в ближайшем будущем не собирается.
— Ну да, как же это он не собирается, когда очень даже собирается.
— Любаша, не перебивай меня, я и без тебя собьюсь. Я всего лишь передала его слова. Говорили мы с ним, кажется, тридцатого, а тридцать первого, только мы успели позавтракать, звонок в дверь, открываю, а на пороге эта самая Таня, я даже рот открыла. Представляешь?
— И они сразу поссорились?
— Да они и вообще не ссорились, просто он ей врезал, и все, может, это у него так любовь проявляется, с него ведь станется, тот еще псих.
— Лихие ребята, ничего не скажешь. Этому Саше надо было бы родиться лет на сто-двести раньше, и не здесь, а где-нибудь на Востоке. Может, был бы каким-нибудь султаном или визирем, имел бы свой гарем — кого хотел бы лупцевал по-всякому или там отрубал что, короче, развлекался бы, как там у них было принято. Ну ладно, черт с ним, с этим Сашей. Мы все с тобой сидим болтаем, а ведь надо убираться, когда твой Котька приезжает?
— Любочка, Котька приедет, скорее всего, в начале марта, а может, и позже, и жить с женой они будут не здесь, а у себя. Котька был просто весомым предлогом, чтобы побыстрее выставить Сашу, он ведь никак не хотел выселяться, я сколько раз ему говорила, и все как об стенку горох. Кстати, он догадался вроде бы, что про Котьку я соврала, его обмануть трудно.
— У меня тоже мелькнула такая мысль, но вижу, лицо у тебя серьезное, ну, я и подумала, что правда приезжает. Но что-то я ведь еще хотела у тебя спросить, все в голове вертелось, а теперь забыла. Ах да! Так что еще у тебя за полтергейст объявился? Правильно я угадала? Значит, всю посуду расколотил у тебя этот придурок? Ну надо же! А еще говорят, что битье посуды бабское дело, так вот же объявился конкурент, черт его побери! Ну и племянничка ты себе надыбала, Женька. И сколько же он этим занимался, неделю, что ли? Ведь у тебя посуды было немало, и хорошей, елки-палки, посуды! И от родителей осталось, и сама, поди, прикупала, ты же любишь хорошую посуду, я знаю. И как же только ты ему позволила? Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало, так, что ли? И не жалко было? А соседям-то внизу как было весело!
— Ты скажешь тоже, Люб! Никакого разрешения он у меня, конечно же, и не думал спрашивать, да меня в этот момент вообще дома не было, если хочешь знать.
— Ни фига себе момент! Неслабый момент, однако! И сколько же этот «момент» продолжался, часа три-четыре?
— Не знаю, сколько времени это у него заняло, говорю тебе, меня дома не было. А соседка, да, всполошилась, прибегала с вопросом, что у нас такое происходит. Он ей заявил, что, видите ли, ремонт на кухне делает.
— Силен мужик. Но если дома тебя не было, то зачем он посуду-то колотил, что он этим сказать-то хотел?
— Ревность, Люба, ревность. А ревность штука злая. Я пошла в издательство на презентацию, не поставив его в известность, просто записку написала, что ушла по делам. Зря так ехидно улыбаешься, правда по делам, как раз большой заказ тогда получила. Не так уж долго я тогда отсутствовала, вернулась около девяти, можно сказать, детское время. А в квартире словно тайфун промчался.
— Ревность там или еще у него что, но за такие идиотские выходки ему бы надо руки оторвать! Ишь ты, деспот какой! Но хоть эти убытки-то он тебе возместил? Нет?! Вот змей! Как есть змей! Слушай, а тебя-то он, случаем, не бил? Не смущайся, выкладывай, я про него, кажется, уже ничему удивляться не буду.
Я ответила отрицательно на бесхитростный Любашин вопрос, поскольку бить он меня и в самом деле не бил, а все некрасивые подробности нашей с ним жизни, особенно тех дней, когда он морил меня голодом и я чуть не рассталась с жизнью по его вине, рассказать Любе я не смогла, как ни легко я чувствовала себя с сестрой, да и кому такое расскажешь? Дурочкой Люба никогда не была, почувствовала, что я что-то недоговариваю, утаиваю от нее что-то серьезное, но настаивать все же не стала.
— Ладно, будем считать, что ты легко от него отделалась. А посуда — дело наживное, — подытожила она. — Главное, в квартиру его больше не пускай!
При этих словах я встрепенулась и посмотрела на нее:
— Любаш, а ключи от квартиры он тебе отдал?
— Нет, ничего он мне не отдавал. Ну ты смотри, какой гаденыш! — почти с восхищением воскликнула сестра. — Меняй замок, подруга, другого выхода теперь нет.
Замок в двери я поменяла. А следующим вечером, когда я уже собиралась ложиться спать и только вышла из ванной, услышала, что в скважине поворачивается ключ. Открыть новый замок старым ключом Саша, естественно, не смог, тогда он стал звонить. Я даже к двери подходить не стала, позвонит, позвонит, думаю, и уйдет. Действительно, потрепав мне немного нервы множеством трелей, он все-таки ушел. Пятого утром, около десяти часов, когда я уже позавтракала и работала, снова раздался звонок в дверь, я тихонько, на цыпочках, подкралась и посмотрела в дверной глазок — это был, конечно, Саша. Так же тихо я отошла, но, позвонив несколько раз, он стал барабанить в дверь, сначала рукой, а потом и ногами. Уже не скрываясь, я подошла к двери и, не открывая ее, крикнула, чтобы он прекратил шуметь, поскольку я не впущу его ни сейчас, ни вообще никогда. Из квартиры напротив выглянула соседка с поварешкой в руке и спросила сурово:
— Это что здесь происходит?!
Саша моментально ретировался. Где-то часа через полтора раздался звонок телефона, я была уверена, что это опять Саша, тем не менее трубку взяла. Телефон — это мое уязвимое место, основная связь с внешним миром, могут позвонить дети, знакомые, по делам из издательства, я просто не могу не отвечать. Конечно, это был Саша. Первое, что он сказал: «Не вешай трубку». Я и не собиралась этого делать, разговаривать по телефону вполне безопасно, тем более что он звонит наверняка с работы, а значит, ничего особенно интимного или хамского сказать не может. Так оно и было, он просто попросил меня о встрече, я наотрез отказалась. Он настаивал, уверяя меня, что это очень важно. В свою очередь я попросила его больше никогда не звонить мне, заведомо зная, что моя просьба для него просто звук пустой. В этот день он звонил мне еще дважды, впрочем, может быть, и больше, я после обеда гуляла, ходила в магазин за хлебом, отсутствовала в общей сложности больше двух часов. Шестого последовало уже пять звонков, я старалась не раздражаться, просто говорила «нет» и клала трубку. Но работать своими звонками он мне мешал весьма существенно. Не только потому, что приходилось отрываться от компьютера и подходить к телефону, но и после каждого его звонка я не сразу могла успокоиться и приняться за работу, ибо, несмотря на свои благие намерения быть спокойной и невозмутимой, все равно нервничала. Седьмого я была у Кати, она уехала с Олегом к его друзьям на дачу праздновать Рождество и попросила меня посидеть с Мишенькой. Я с большой радостью согласилась, поскольку давно не видела внука, соскучилась по нему. Да и от работы можно было немного отдохнуть, не говоря уже об идиотских звонках Саши!
Домой я вернулась только восьмого, где-то уже после обеда, и довольно скоро легла спать, потому что терпеть не могу ночевать не у себя дома. Чтобы мне никто не помешал как следует выспаться, телефон я отключила. Девятого после раннего завтрака я сразу же засела за работу, надо было нагонять простой. Не разгибаясь сидела до трех часов, и только когда пошла ставить на кухню чайник, я подумала, как хорошо, что сегодня телефон молчит и не мешает мне работать. Вот тут-то я и вспомнила, что он у меня выключен со вчерашнего дня, едва успела воткнуть вилку в розетку, как сразу же нарвалась на звонок. Саша вкрадчиво осведомился, где же я все-таки была все это время. Я не стала делать тайны из своего пребывания у дочери, а в ответ на его удивление, что я была у нее так долго, вежливо пояснила, что бываю и гораздо дольше. Это ему совсем не понравилось, но я быстренько оборвала все возражения, сказав, что отношения с детьми — это мое личное дело, которое его никоим образом не касается. Тогда он снова попросил о встрече. Я задумалась: а почему бы и нет, чего я боюсь? Он желает встретиться? Будет ему встреча!
— Хорошо. Встречаемся в ближайший вторник в два часа дня.
Местом встречи я выбрала кафе «Колибри», где сравнительно недавно была и помнила, что там подают приличный кофе. Саше не понравилось ни место, ни время. Но я жестко дала ему понять — или мы встречаемся на моих условиях, или не встречаемся вовсе. Деться ему было некуда, он нехотя согласился.
Кафе оправдывало свое название, оно было маленьким, яркоокрашенным внутри, и в зале стоял экзотический запах, чуть резковатый, но очень волнующий. Чем в нем так пахло, я не знала, но мне очень понравилось. Я шла на эту встречу, изрядно нервничая, а сейчас расслабилась и была довольна, что выбралась из дому, где несколько последних дней почти не разгибаясь сидела за работой. Мне все здесь нравилось: и аромат, и освещение, и интерьер, и то, что маленький зал был почти пуст, поэтому я сидела и улыбалась. Саша же, напротив, был угрюм, глаз на меня не поднимал и молчал. Последнее несколько удивляло, так как встреча наша была нужна ему для какого-то важного разговора, во всяком случае, так он мне сказал по телефону. Черный кофе с коньяком и лимоном был просто превосходен, и я закурила. Эту слабость я позволяла себе очень редко, когда-то давно меня к сигаретам приохотил Павел, ему, в отличие от большинства мужчин, нравилось, когда женщины курят, он утверждал, что это очень сексуально. Когда мы с ним ходили в гости или в ресторан, после первой же рюмки он мне всегда предлагал сигарету. С тех пор как мы разошлись с ним, я стала курить гораздо реже, от случая к случаю, а после смерти Павла закурила первый раз. Затянувшись, я закрыла глаза, и на одно короткое, сумасшедшее мгновение мне показалось, что я, как когда-то, сижу с Павлом в ресторане, даже его хриплый смешок мне почудился. Но эту несвоевременную иллюзию развеял Саша, которого мое курение вывело из мрачных бездн раздумий, он моментально взъярился и очень резко высказал все, что думает о курящих женщинах. Чтобы хоть немного умерить его воинственный пыл, я положила свою руку поверх его руки, лежащей на столе. Можно было подумать, что я прикоснулась к нему раскаленным железом, так он дернулся.
— Саша, ты напрасно тратишь свое красноречие и свои нервы, мне совершенно безразлично, что ты думаешь обо мне в связи с курением, да и по любому другому поводу тоже. Тебе уже пора понять, я человек давно взрослый и сама отвечаю за себя и свои поступки.
— И тебе не стыдно? Ты ведешь себя как… нет, мне не хочется тебя оскорблять, но ты говоришь, что ты человек взрослый, а взрослый человек должен руководствоваться нормами поведения, и…
— Это ты будешь учить меня нормам поведения? И каковы же эти твои нормы поведения взрослого человека? Битье посуды входит в эти нормы? — перебила я его запальчиво.
— Да при чем тут посуда? Это ведь было дома, а не на людях, и вообще, ни к чему быть такой злопамятной. Я хочу поговорить с тобой о другом, но меня раздражает запах табака, я не смогу ни о чем думать, пока ты куришь.
Я послушно загасила сигарету: интересно, что такое важное он собирается мне сообщить, да и выкурила я уже больше половины. Прежде чем заговорить, он заказал еще по чашке кофе и дождался, пока их принесли. Чувствовалось, что ему очень трудно начать.
— Женя, я понимаю, ты сердишься на меня, и признаю, что у тебя есть для этого некоторые причины. Я перегибал иногда палку. Посуда, которую я разбил, ну и еще кое-какие поступки — здесь мне гордиться нечем. Но в сравнении с нашими отношениями это ведь мелочи. Подожди, не перебивай меня, слушай внимательно. Ты должна понять и накрепко запомнить, что ты не случайный человек в моей судьбе, ты очень нужна мне и очень дорога, понимаешь? Очень! И я знаю, я чувствую, что ты относишься ко мне с… ну, скажем, очень серьезно, что бы ты там ни говорила. Мы просто обязаны сохранить в чистоте и целости наши с тобой отношения. И никакие третьи лица, ты ведь понимаешь, о чем я говорю, так вот, никакие третьи лица не способны нам помочь, наоборот, они могут только помешать, разрушить то важное и глубокое, что есть между нами, не надо подпускать их, Женя, гони всех прочь! Только ты и я — вот что имеет смысл, имеет значение, единственное, что действительно важно.
Он замолчал и смотрел на меня с нескрываемой тревогой — ждал, что я ему скажу. Но я не могла ему ничего сказать. Горло мое туго перехватил спазм, сердце билось какими-то неровными толчками, холодная испарина выступила на лбу.
Все вокруг мгновенно озарилось каким-то необыкновенным, неземным светом, я еще успела увидеть вокруг себя десятки, сотни живых, блестящих, как ртуть, капелек-существ, с оживленными, красивыми, смеющимися личиками, но тут свет внезапно померк, раздался чей-то отчаянный вскрик: «Женя!» И я погрузилась в полную тьму.
Как плохо быть мертвой! Только боль, острый запах в ноздри, металлические звуки, крикливые, хриплые голоса, резкий свет и черные, мельтешащие тени.
— Ну все! Кажется, вытащили. Можно радоваться, рано ей еще умирать, пусть еще поживет.
— Слушай, она вроде что-то сказать хочет.
— Да нет. Это просто легкие конвульсии.
Я концентрируюсь и всю себя выливаю в крике:
— Отпустите! Отпустите назад! Не хочу здесь!
Надо мной, опустошенной, обессиленной, мертвой, раздаются какие-то перекатывающиеся звуки, это они так смеются, догадываюсь я.
— Нет, ты слышал, ты слышал, что она шепчет? Мы так старались, столько сил вложили, еле вернули ее с того света, а ей не нравится, назад просится!
С этого момента началось мое выздоровление. Во всяком случае, то вялое, безрадостное, дремотное состояние, в котором я все время пребываю, мой лечащий врач называет выздоровлением и при этом радостно улыбается и даже подмигивает мне. Поэтому я с ним не спорю, не хочется огорчать такого веселого человека. На мой вопрос, что же со мною было, он ответил с готовностью и весьма пространно, но так обтекаемо, с таким обилием медицинских терминов, что из его объяснений я ровным счетом ничего не поняла. Катя ответила мне очень коротко: сердце — и при этом почему-то недовольно покосилась на меня. Еще я узнала, что привезла меня сюда неделю назад «скорая помощь» с улицы. Почему же с улицы? Несколько часов эта мысль не давала мне покоя и весьма занимала меня. Мне смутно помнилось, что я была с Сашей в кафе, почему-то потеряла сознание, все это я смутно, но помнила, но вот как я из этого кафе вышла на улицу, этого не помнила совершенно. И хотя все это, в сущности, было не важно, пустяк, но пустяк этот почему-то мучил меня. Мое тягостное недоумение рассеяла медсестра, пришедшая вечером делать мне очередной укол:
— Да что вы так волнуетесь? С улицы — это значит не из дома, вот и все, вам нельзя волноваться, надо поберечь себя, сердце слабое, да и не девочка уже.
Еще через неделю меня выписали, и Катюша с мужем отвезли меня домой. Они хотели забрать меня к себе, чтобы я не оставалась одна, а была под присмотром. Но я устроила мини-скандальчик в машине, заявив, что у них я опять разболеюсь. Поскольку волноваться мне запретили, Катя была вынуждена подчиниться моему желанию и отвезла домой, хотя все время ворчала. Но я прекрасно знала, что хорошо мне будет только дома, и потому осталась непреклонна. Огорченная и раздраженная, дочь ограничилась тем, что забила мой холодильник продуктами до отказа, предупредила некоторых соседей, что мне может понадобиться помощь, и дала очень длинный инструктаж не слишком обрадованной Светке. Я понимала Светку, мало того что ей в последнее время часто приходится со мной возиться, так еще всякие дилетанты лезут с советами. Поэтому Светку я тоже вскоре отправила домой, клятвенно заверив, что в ближайшее время умирать не планирую, а если мне этого уж очень захочется, то я ее сразу предупрежу. Довольная Светка умчалась на какую-то встречу, в последнее время личная жизнь у нее била ключом, но на всякий пожарный случай оставила мне какие-то таблетки и велела быть осторожной и ничего не делать, а лучше вообще лежать в постели.
— А больше ты ничего не хочешь?! — сказала я ей вслед, но вряд ли она меня услышала.
Все-таки как хорошо дома! Я коснулась кровати, стола, компьютера и сообщила им всем, что я вернулась. Раньше я не была способна говорить вслух сама с собой и уж тем более с вещами, мне казалось, что кто-нибудь услышит и осудит, скажет, что я сумасшедшая, а вот сейчас мне казалось нормальным и вполне естественным общаться с вещами, гладить их. Наверное, пройдет еще какое-то время, и я стану такой, как прежде — закрытой, завернутой в фантики условностей. Но пока я была еще немного свободной, еще немного живой, и, ей-богу, такая я себе нравилась больше.
К вечеру мне уже до смерти надоело листать дорогие и глупые журналы, которые оставила дочь, и я стала думать, чем бы заняться. Ответив на два телефонных звонка Катюхи и один Светкин, поев и попив чаю, я наконец решилась и подошла к компьютеру. Я собиралась просто посмотреть, на чем я остановилась. Посмотрела и… проработала часа три с большим удовольствием, так приятно быть занятой делом! Но хорошего понемножку, спать легла почти в детское время — десять часов. Так, очень благоразумно, делая в работе перерывы, я провела два дня. Но на третий приехали Катя с Любашей, и началось! В два голоса мои любимые родственницы потребовали, чтобы я в обязательном порядке ехала в какой-то тмутараканский санаторий. Я попробовала отказаться вежливо — не понимают. Обеих заклинило на свежем воздухе и природе. Я попыталась объяснить им, что поскольку родилась и всю жизнь прожила в Москве, то свежий воздух мне противопоказан. Нет, такие упрямицы, с места их не сдвинешь!
— Ну хорошо, будь по-вашему. Свежий воздух так свежий воздух, но не санаторий, там я тихо скончаюсь, лучше чья-нибудь дача, пустая разумеется, ничьего присутствия я сейчас не вынесу, хочу быть одна. Зимой почти все дачи пустуют, ищите, договаривайтесь, если вам так уж приспичило выселить меня на лоно природы. Да, и я возьму с собой компьютер.
Словесная битва разгорелась по новой, сражаться сразу с двумя было очень трудно, а их прямо-таки из себя выводило мое желание не расставаться с компьютером, пришлось сдаться, но зато в отношении других своих условий я стояла насмерть. Конечный результат наших торгов выглядел так: я согласилась начиная с 1 февраля пожить три недели на чьей-то даче в Фирсановке. При этом я обязуюсь вести себя благоразумно, то есть много гуляю, нормально и вовремя ем, рано ложусь спать, никакого компьютера с собой не беру, но зато и они меня не тревожат.
Дача оказалась маленькой, но теплой и уютной, а главное, на самой окраине поселка, возле леса. Перед отъездом я позвонила в издательство, сообщила, что болела, а то они уже потеряли меня, и, договорившись с ними, быстренько к ним съездила. Отвезла большую законченную работу, даже деньги смогла сразу же получить за нее, — небывалый случай. Дочери сказала, что гуляла возле дома, врать, конечно, нехорошо, но она раскричалась бы, узнав правду. А всех дел-то, что съездила туда и обратно, зато о деньгах теперь думать не буду.
Мои, выгрузив и разместив меня и все мои вещи, сразу же обследовали окрестности, главным образом их интересовали почта и магазин. И то и другое имелось в наличии и исправно функционировало, что их порадовало, а меня, признаться, не очень. То есть против магазина я ничего не имела, но вот с почты мне надлежало систематически отзваниваться любимым родственникам. Но раз я им обещала звонить, значит, буду, не люблю нервировать людей, тем более попусту. Для облегчения и успокоения их душ я при них затопила печку, а они, проверив, что я на самом деле владею этим умением, и натаскав в сени побольше дров из сарайчика, наконец-то отбыли. Уже после их отъезда я вспомнила, что так и не выяснила, чья это дача. Кажется, каких-то Любашиных знакомых и этих знакомых сейчас нет, куда-то уехали и будут не скоро, не то через год, не то через два. В конце концов, какая разница, чья это дача, главное, что тут нет никого и я одна.
Проснулась я с чувством приятных перемен. Глаза открыла, вокруг меня все незнакомое, странное. Огляделась в недоумении — батюшки, да ведь я на даче! Ходики на стене, сделанные в виде кошачьей головы, с бегающими глазками-бусинками, которые я вчера старательно завела, показывали без четверти десять. Однако заспалась я. Печку пока растапливать не стала, и так тепло. Чайник подогрела на электроплитке, позавтракала, глядя за окно. На улице, по всему видно, стоял морозец. Любаша снабдила меня валенками — серыми, смешными, мохнатыми. Обула их, прошлась по дому — ступать в них было очень непривычно, ну, ничего, привыкну, зато тепло. Старательно оделась, как мне было велено: теплый платок на голову, даже не платок, целая шаль, дубленка, такие же варежки — ну ни дать ни взять баба, которую сажают на чайник. Выкатилась, как колобок, на улицу, все как у Пушкина — мороз и солнце! Везде искрится снег, но не как в городе — серый, а рафинадно-белый, только возле самых стволов сосен на снегу мелкие веточки, чешуйки коры, хвоя. Или это птицы, белки намусорили? Стояла я тихо, и на ближайший ко мне куст опустилась синичка, довольно большая, пузатенькая, брюшко как желтый шарик, а спинка сизенькая. Я ей негромко сказала: здравствуй, она наклонила голову набок, словно пыталась меня понять, я засмеялась, уж больно потешно она выглядела. Птичка, испугавшись, вспорхнула. Я прошлась неспешным шагом до магазина, но заходить в него не стала. На улице встретились мне несколько человек, пожилые здоровались, и я им отвечала, а те, что помоложе, только окидывали любопытным взглядом. Повернула к дому, который должен был на ближайшие недели стать моим пристанищем и, значит, могла временно считать его своим.
У соседнего дома стоял мужчина в полушубке без шапки, седые волосы серебрились на февральском солнце. Он смотрел в небо. Хотела молча проскочить мимо, но тут он опустил голову, я встретилась с ним глазами, поздоровалась и, сама не понимая зачем, остановилась. Вроде бы он смотрел на меня серьезно, во всяком случае, на его губах улыбки не было, но светло-карие глаза смеялись.
— С возвращением! — очень странно приветствовал он меня.
— Да я только вчера приехала, а раньше здесь никогда не была, — пробормотала я, почему-то смутившись.
— Я имею в виду жизнь. Трудно, но жить еще можно, а?!
И он улыбнулся мне. Ничего особенного в нем не было: среднего роста, худощавый, на вид чуть постарше меня, голова вся седая, но улыбка!.. Пожалуй, для меня это было чересчур, я смутилась донельзя и заторопилась домой.
Весь вечер я вспоминала соседа и все думала, почему он так сказал. Ведь не мог же он знать обо мне, мы совершенно незнакомы.
На третий день моего пребывания на даче с утра я немного поработала, я ведь решила, наконец, написать свою вещь, даже не знаю, в каком жанре, как получится, наработки были, но все еще сырое, бесформенное. Работа шла ни шатко ни валко. К полудню я совсем выдохлась, и солнце выманило меня на улицу. Потоптавшись во дворе, я вышла за калитку и остановилась в нерешительности: куда пойти? В сторону магазина я вчера ходила, маршрут совсем неинтересный. Решила пойти в сторону леса, до него было рукой подать. Хотела пройтись просто по краю, но, пройдя с десяток метров, увидела, что вглубь ведет узенькая, но хорошо утоптанная тропиночка. «Дойду вон до того поворота и сразу назад», — сказала я себе. Оставалось метра три до намеченного поворота, когда из-за кустов вылетела большая, почти сплошь черная овчарка, подбежала ко мне, я предусмотрительно остановилась. Собака внимательно обнюхала меня, виляя хвостом в знак дружелюбия, и вдруг встала на задние лапы, положив передние мне на плечи, и попыталась лизнуть меня в лицо, такие нежности мне уже совсем не понравились, я попятилась, уворачиваясь от ее языка, и шлепнулась в сугроб. Собака пришла в восторг и радостно запрыгала рядом, ей явно нравилась такая игра. Из-за тех же кустов, тяжело дыша, выбежала девочка лет двенадцати в красной вязаной шапочке и теплой куртке. Увидев меня в снегу и скачущую собаку рядом, она принялась во весь голос кричать на своего пса, тот запрыгал еще веселее и запорошил меня снегом вконец.
Тут возле нашего шумного трио возник вчерашний незнакомец.
— Что, Ксюша? Не слушается тебе Рекс? И соседку мою напугали, — с легкой укоризной, но весело сказал он девочке, а мне протянул руку, чтобы помочь выбраться из сугроба. Как бы мне его самого не свалить, мелькнула мысль у меня в голове, когда я подавала ему руку. В платке, дубленке и валенках я казалась самой себе такой тяжелой! Но он только слегка дернул меня за руку, и я оказалась уже стоящей на тропинке. Сосед деловито отряхивал меня от снега, Ксюша помогала ему, а Рекс прыгал и всем мешал. Когда я перестала напоминать снежную бабу, сосед вдруг предложил:
— После такого небольшого приключения, я думаю, самое разумное — это выпить чашку горячего чая, так что пойдемте-ка все ко мне.
Не говоря более ничего, он взял оторопевшую меня и Ксюшу под руки, и мы в самом деле пошли к нему. Я шла и размышляла: это я такая сговорчивая стала или воздух в Фирсановке особый? Вот ведь что делается: иду совершенно спокойно домой к человеку, которого вижу всего второй раз, совсем ничего о нем не знаю, даже не знаю, как его зовут! Но тут же утешила себя тем, что Ксюша идет со мной, пусть она всего лишь ребенок, но с ней как-то спокойнее. Да и если быть совсем честной, то мне очень даже заманчиво попасть в дом такого странного человека уж больно он меня заинтересовал. Когда мы раздевались, Ксюша деловито поинтересовалась:
— А с чем будет чай? С печеньем?
— Ну, конечно, с печеньем, как же без него. И Рексу дадим, — успокоил девочку хозяин.
Пес оглушительно залаял, словно понял, о чем идет речь. Чайник закипел уже через две минуты, а еще через пару минут мы все, за исключением собаки, сидели за столом. Хозяин подвинул вазочку с печеньем и карамелью поближе к девочке, мне положил в розетку варенье из китайки и разлил по чашкам красно-золотой чай, в воздухе сразу же запахло жасмином. Вообще-то это были не чашки, а пиалы из тончайшего белого фарфора, на которых были нарисованы нежные японки в розовых кимоно с серебряными зонтиками в руках. Первую пиалу сосед подал девочке: «Ксюше». Вторую протянул мне, выжидательно глядя на меня. Я приняла игру и с улыбкой назвалась: «Евгения Михайловна». Он повторил мое имя, в его устах оно звучало музыкой, и у меня сладко сжалось сердце. Последнюю пиалу с чаем он взял себе и произнес: «Владимиру Алексеевичу». Затем он протянул печенье нетерпеливо ждущей собаке и сказал: «А это Рексу», — и мы все весело рассмеялись. Китайка была прозрачной насквозь, в глубине даже виднелись черные семечки, а вкус у нее был просто непередаваемый, божественный вкус! Очевидно заметив, с каким удовольствием я ем варенье, Ксюша засмеялась и сказала:
— Владимир Алексеевич сам варил это варенье, мужчины никогда не варят, а он умеет, я видела. Правда?
— Правда, — подтвердил тот.
Я внимательно посмотрела на девочку. Судя по ее разговору и поведению, ей было не двенадцать лет, как я предположила сначала, а меньше. Она быстро и шумно выпила свой чай, а поскольку мы примолкли, ей стало с нами скучно, и она засобиралась на улицу. Я тоже привстала, остаться вроде бы было неудобно, но сосед сделал жест рукой в мою сторону и мягко сказал:
— Посидите еще немного, я только провожу Ксюшу и налью вам еще чаю.
Закрыв за девочкой дверь, он налил мне чаю, положил новую порцию варенья и сел на свой стул. Отпив глоток из своей чашки, сказал:
— Ксюше только семь лет, просто она крупная, рослая девочка. — На мое неподдельное удивление улыбнулся и объяснил: — Я просто подметил ваш взгляд, брошенный на девочку, и подсказал вам решение этой маленькой загадки, а вы уж небось решили, что я мысли читаю? Признавайтесь, подумали так?
В ответ на его улыбку невозможно было не улыбнуться, его улыбка веселила душу.
— Конечно, решила. А как я могла решить иначе? После того как вчера вы поздравили меня с возвращением, можно сказать, с того света, я теперь в любые чудеса поверю.
Засмеялись мы вместе, и это было очень приятно — смеяться с ним вместе.
— У вас в глазах, Евгения Михайловна, остался еще отблеск нездешнего света. А я калач тертый, во многих местах бывал, многое видал, в том числе и такие отблески видеть доводилось, вот я и понял, откуда вы недавно вернулись. А чудес нет, Евгения Михайловна, есть только опыт.
Я, вдруг осмелев, неожиданно для самой себя спросила:
— Вы специально меня с девочкой пригласили?
— Конечно, специально. Ведь без Ксюши вы, скорее всего, не пошли бы, верно? А уговаривать, зазывать я бы не стал — человек должен быть свободен в своих поступках, а уговоры рождают принужденность, настороженность. С Ксюшей же вам было не страшно и вы пошли.
— Вы так интересно говорите! И чай у вас вкусный, давно не пила жасминового, а варенье просто замечательное, спасибо вам! Мне уже нужно идти.
Он поцеловал мне руку и подал мне дубленку.
— Евгения Михайловна! Я тут, рядом с вами, помните об этом, если вам захочется поговорить или даже молча посидеть в компании, не говоря уже о чае, — приходите в любую минуту, я всегда рад вам.
Я оделась и уже почти на пороге сказала:
— А вы, Владимир Алексеевич, приходите ко мне в гости, если захотите, конечно.
Но он отрицательно покачал головой и, глядя на меня очень серьезно, пояснил свой отказ:
— Я-то захочу вас видеть. Но если вы придете ко мне, то я точно буду знать, что вы сами хотите общения, что я не навязываю вам свою компанию.
— Но ведь я тоже могу подумать, что навязываю вам свое общество.
— Нет, вы не можете так подумать, — сказал он очень твердо. — Я первый проявил инициативу, первый позвал вас и говорю вам без всяких околичностей и обиняков, что я хочу вас видеть, рад вас видеть в любое время дня и ночи. А вы можете так сказать?
Так смело и прямо сказать этого я не могла, конечно же, и смутилась.
— Ну вот видите. Поэтому лучше приходите вы.
Я вышла во власти какого-то смутного, безотчетного, но сильного очарования, даже чуть не прошла свой дом. Дома, чтобы хоть немного успокоить разыгравшееся воображение, я сказала себе, что ничего особенного не произошло, обычный человек, обычная встреча, а виноват во всем жасминовый чай и необычайно вкусное варенье. «Ну хорошо, а улыбка?» — спросила я сама у себя. И была вынуждена признать, что такой обаятельной улыбки я еще ни у кого не видела. А его манера говорить? Да, очень интересный собеседник, но ничего такого уж выдающегося нет. Я уже боялась, что происшедшее только что настолько взбудоражило меня, что я не смогу в этот день больше работать. Ничего подобного, впечатления осели, легли на сердце теплым и невесомым перышком, которое в глубине нежно грело, а думать о нем было не обязательно. И я очень хорошо, плодотворно проработала часа четыре.
На следующий день я гуляла мало, мне хорошо работалось, и я не хотела отвлекаться, поэтому соседа своего не видела. Но на пятый день работа зашла в тупик, и сколько я ни понукала свое воображение и свой мозг, они отказывались выдавать свежие идеи. Я решила освежить голову прогулкой, быстро оделась и вышла. Над землей разлились голубые сумерки, очень красивый и очень короткий период суток. Я шла, наслаждаясь тишиной и свежестью вечера, подкидывала валенком слежавшийся комок снега, мне было необыкновенно хорошо и легко, и уже в голове моей начали прорисовываться контуры многообещающего сюжетного хода. Но тут же все мои мысленные планы как ветром сдуло, стоило мне только обратить внимание, что вот уже второй раз мимо меня проезжает такси и в нем на заднем сиденье виден силуэт какого-то мужчины. Машина проехала немного вперед, затормозила, остановилась совсем. Из нее никто не вышел, но задняя дверь слегка приоткрылась, словно там ждали, когда я подойду. «Саша!» — стукнуло у меня в голове. Я остановилась как вкопанная. Когда Катя с Любой приехали за мной, чтобы везти меня в Фирсановку, и я уже вышла в прихожую одеваться, зазвонил телефон. Это был Саша. Я не видела и не слышала его после той злополучной встречи в кафе. Я ведь так и не знала его реакции на происшествие, но рядом со мной находились дочь и сестра, а я совсем не хотела, чтобы они поняли, с кем именно я говорю. Поэтому я очень быстро, не называя его по имени, сообщила, что недавно вышла из больницы, чувствую себя хорошо, но сию минуту уезжаю долечиваться в санаторий, куда именно, не сказала и повесила трубку. Катя на звонок никак не отреагировала, а Люба спросила только:
— Из издательства?
Я молча кивнула.
Нет, это не он, он не мог меня найти, он понятия не имеет, где я! Пока я успокаивала себя подобными соображениями, в такси устали ждать, когда же я решусь подойти, и машина стала медленно сдавать назад. Я заметалась в панике, поняла, что добежать до дому не успею, он меня перехватит, и вдруг заметила, что стою возле самой калитки соседа. Что есть силы рванула ее на себя, пробежав по маленькой дорожке, взбежала на крыльцо и уже подняла руку, чтобы позвонить, как дверь распахнулась, сосед схватил меня за руку, втащил в дом и мгновенно закрыл дверь. Молча он прижал меня к себе, я же обняла его так, словно от крепости моего объятия зависела вся моя дальнейшая жизнь. Сколько мы так простояли, не знаю, мне показалось, что час, но вряд ли больше пяти минут. Наконец Владимир Алексеевич пошевелился, попытался оторвать меня от себя, но я зажмурила глаза и уткнулась ему в плечо. И все-таки он отстранился, снял с меня дубленку, платок и повел в комнату. Там я плюхнулась на стул, он налил мне чашку чаю, который, видимо, недавно вскипел, и пододвинул чашку ко мне. Видя, что я как села, так и сижу неподвижно, поднес мне чашку ко рту, я стала пить маленькими глоточками. Горячие струйки потекли мне в горло и немножко ослабили тиски внезапного немотивированного страха. Наконец, я опомнилась настолько, что взяла чашку из его рук и стала пить сама. Понаблюдав за мной несколько мгновений, Владимир Алексеевич налил себе чаю и сел напротив. Я тем временем допила свой чай и стала думать, как объяснить ему, почему я ворвалась в его дом столь внезапно и так глупо и странно веду себя. Наверное, он уже решил, что я сошла с ума. Пока я обдумывала, что сказать, он заговорил сам:
— Теперь, когда ты уже не так сильно боишься, ведь тебе лучше, правда? — И, дождавшись моего кивка, продолжил: — Я хочу сказать тебе, что люди в такси, а там были водитель и пассажир, скорее всего, заблудились и всего лишь хотели спросить у тебя дорогу. Мне, право, очень жаль, что этот пустяк вызвал у тебя такую панику. Но зато во всем этом есть и маленький плюс, я обычно очень долго перехожу с «вы» на «ты», а тут переход был почти мгновенным, и я попрошу не сердиться на меня за это и в свою очередь называть меня Володей, что и проще, и короче. Ну что, Женечка, не сердишься?
Я слабо улыбнулась и помотала головой, никогда не предполагала раньше, что такая эмоция, как страх, может за несколько минут сожрать столько энергии.
— А почему вы… откуда ты, Володя, узнал, что я испугана, ведь ты открыл дверь и втащил меня в дом, когда я еще ничего не успела сказать, позвонить даже не успела.
Он улыбнулся своей светлой улыбкой и сказал с непередаваемым юмором:
— Ну, если хрупкая женщина открывает мою, довольно крепкую, калитку не в ту сторону, то либо она безумно хочет меня видеть, что маловероятно, либо еще более безумно испугана, что и оказалось. Это заблудшее такси я увидел случайно в окно, оно ехало так медленно, что я понял: они разыскивают какую-то улицу или же дом, и уже хотел выйти помочь им, но тут появилась ты, и мне стали безразличны все такси мира.
Мне было так хорошо от его слов, от всего его вида, что я расслабилась наконец и начала смеяться, но почти тут же осеклась, вспомнив, что сломала ему калитку. Я начала бормотать, что мне неудобно, что я приношу ему неприятности, пусть и мелкие, и вообще несла всякую чушь. Когда я окончательно запуталась в этих глупостях и подняла на него пристыженный взгляд, то услышала несколько неожиданный вопрос:
— Тебе действительно неловко и ты хотела бы загладить ущерб, нанесенный моей калитке? В таком случае ты должна рассказать мне, почему тебя так напугало безобидное такси. Кто, какой человек привиделся тебе в этой машине, кого ты боишься до такой степени? Ты вольна сама решать — говорить об этом или же нет. Но я буду считать, что мы квиты только в том случае, если ты расскажешь мне все.
— Ведь дело совсем не в калитке, верно? Зачем тебе это условие? То, о чем ты спрашиваешь, настолько не лучшие страницы моей жизни, что я их и сама-то не хотела бы вспоминать, а не то что кому-то рассказывать. Не могу поверить, что ты так любопытен.
— Правильно делаешь, что не веришь, я совсем не любопытный, не люблю чужие тайны, вообще не терплю лезть человеку в душу. А сейчас я просто вынужден, ибо как иначе помочь тебе? Ты вся опутана, словно сетью, каким-то нешуточным страхом. Вот я и хочу, чтобы с моей помощью ты вытащила на свет божий всех своих затаенных чудовищ. Ручаюсь тебе, что на свету все твои монстрики будут выглядеть уже не так страшно. Вместе мы быстро с ними справимся. А калитка?.. Да бог с ней, я ее завтра за десять минут починю.
— Володя, но я не могу об этом с тобой говорить. Просто не могу, и все. Ты не понимаешь, о чем меня просишь. Это… это ужасно и стыдно! Нет, во всяком случае, не сейчас.
— Конечно не сейчас. Конечно. Завтра. Завтра ты все мне расскажешь, придешь ко мне в шесть часов вечера и все расскажешь. А что касается стыда, то послушай меня внимательно. Когда чувство, которое мы зовем стыдом, мешает нам совершить что-то нехорошее, предостерегает от опасностей, то это действительно стыд, и он вполне уместен. Но когда похожее на него чувство мешает нам очиститься от какой-то грязи, спастись от навязчивых страхов, то это вовсе не стыд, а проявления ущемленного самолюбия. А самолюбие совсем не грех приструнить, поставить на место, ты меня понимаешь? Ну вот и хорошо, вот и умница, а сейчас иди домой, я провожу тебя, а завтра в шесть часов вечера буду тебя ждать.
И Володя действительно, невзирая на мои возражения, оделся и проводил меня до самой моей двери. Калитка его висела на одной петле, и я виновато шмыгнула мимо нее. Остаток вечера прошел уже совсем спокойно, я подтопила печку, немного поработала и рано легла спать.
Утром я сходила на почту и позвонила Кате, получила от нее порцию разнообразных замечаний. На обратном пути зашла в магазин и, уже открывая свою дверь, увидела Володю, который, видимо, гулял в лесу, а теперь возвращался домой. Я помахала ему рукой и вошла к себе. Разогревая нехитрый обед, я размышляла, почему Володя днем всегда дома. Свободный ли он художник, как, например, я, или же в отпуске? Решила, что, скорее всего, в отпуске. К шести часам я уже себе места не находила, металась по дому, буквально раздираемая на клочки дикой смесью противоречивых мыслей, чувств, ощущений, стыда и боли. Весь этот яростный клубок шипящих и жалящих змей звался коротким словом — Саша! Нет, не знаю, не понимаю, как я смогу обнажить перед Володей, таким спокойным, таким добрым и хорошим человеком, свою рану? Тем не менее я знала, что, всем своим чувствам вопреки, я пойду и попробую это сделать, даже если потом умру от унижения и стыда.
Ровно в шесть часов вечера я вошла в починенную калитку и поднялась по ступенькам. Дверь, как и вчера, открылась прежде, чем я успела позвонить. Подавив внутреннюю дрожь, я разделась и прошла в комнату. Володя предложил мне чаю, но я не хотела расслабляться и отказалась. Долго я сидела молча, никак не могла заговорить, язык мой словно прилип к гортани. Наконец, кое-как стала рассказывать, начала почему-то с Лильки, потом перескочила на совсем давнее время, еще когда мы с Павлом жили вместе, потом на его похороны. И только рассказав о Павле, словно он был необходимым прологом, я смогла перейти к рассказу о Саше. Рассказала о нем все, кроме своих интимных, постельных подробностей, их бы передать я не смогла, да и незачем было. По мере того как я рассказывала, не только голос перестал дрожать, но и вообще мне стало легче, словно бы я освободилась от какого-то тяжкого и давно мне мешающего груза. Володя весь мой путаный рассказ выслушал внимательно, но особенно его заинтересовали все те загадочные сцены в кафе и в больнице, когда я ощущала себя рыбкой. В эти моменты он не просто слушал внимательно, а весь подался вперед, словно происходившее касалось его лично. По окончании моего монолога он еще какое-то время оставался задумчивым, потом задал два-три незначительных вопроса и опять надолго замолчал. Я ждала с замиранием сердца сама не знаю чего. Нет, конечно, я не думала, что Володя тут же заклеймит меня презрением, но какие-то его суждения, скорее всего негативные, готовилась выслушать. Но того, что он мне сказал, я уж точно не готова была услышать.
— Так, Женечка. Ну, чай-то мы будем пить или нет? — спросил он меня, встав со стула. Этот простой вопрос поверг меня в полное замешательство.
— Чай?! Я… я не знаю. Да, будем, почему бы и нет? Но… разве ты ничего не скажешь мне? По поводу моей истории?
— Для продолжения этого непростого разговора, Женечка, я полагаю, у нас еще будет время. Не будем торопить судьбу. В какой-то мере тебе, как я чувствую, уже легче, ты немного вылезла из этого болота и теперь находишься чуть-чуть в стороне.
Мы стали пить чай, он, как всегда, был превосходен на вкус, а Володя мне рассказал, как ему пришлось когда-то греть чайник в условиях безлесной тундры. Рассказывал он очень забавно, и я смеялась, конечно, хотя отлично понимала, что вряд ли ему тогда было так уж смешно. Потом мы пошли с ним гулять, но гуляли совсем недолго, мороз к ночи усилился, и я замерзла. Володе все было нипочем, он проводил меня до дому и на прощание поцеловал в висок, это показалось мне настолько приятным, что даже мурашки побежали по телу.
Седьмой день начался не слишком хорошо. Проснулась я от холода и вспомнила, что вчера совсем забыла протопить печку. Вот растяпа! А позавчерашнее тепло уже все выстудилось. Едва я успела как следует раскочегарить печь, так что она, моя хорошая, даже гудела от усердия, как под окнами моего домика загудела машина. Я удивилась и выглянула в окно: Любаша с Валерой. Мне не очень-то понравилось, что сестра нагрянула вопреки моей просьбе. Но возражать я все же не стала, как-никак это была дача Любиных знакомых. И правильно сделала: Люба и без того пребывала отнюдь не в лучшем расположении духа, такое настроение у нее случалось редко, но, как говорится, метко. Вот и сейчас она без конца ворчала и жаловалась: на дорогу, машину, тесный домик, печной жар, на мои вылинявшие брюки и мою якобы ехидную улыбку. Я перевела взгляд на Валеру, и хотя он был, как всегда, спокоен и выглядел, можно сказать, безмятежно, я почему-то почувствовала, что причина Любашиного раздражения и злости кроется именно в нем. Люба вдруг ни с того ни с сего посоветовала мне вернуться в Москву сегодня же. Поскольку здесь я, по ее словам, рискую скоропостижно скончаться от тоски зеленой. Я поспешила уверить Любашу, что не ощущаю здесь никакой тоски — ни зеленой, ни синей, наоборот, я только начала входить во вкус здешнего житья, да и работается здесь неплохо. Люба состроила в ответ недовольную мину и пробормотала себе под нос что-то вроде того, что у некоторых наивных дурочек на уме одна работа. Переспрашивать ее я не стала, и, к моему великому облегчению, поворчав еще немного, сестра отбыла восвояси, оставив мне большой пакет яблок и лимонов. Лимоны я люблю, а тут на радостях, что меня оставили в покое, съела пол-лимона сразу, запила чаем и отправилась гулять в лес. В лесу было тихо, ветер совсем не чувствовался, и я с удовольствием прогуляла часа полтора. Во время прогулки мне никто на этот раз не встретился, хотя следы собачьих лап были повсюду, видимо, до меня здесь гуляла Ксюша с Рексом. Дома было жарковато от натопленной печки, я постепенно все с себя сняла, раздевшись, таким образом, до футболки, и села работать. Сначала никак не могла расписаться, но потом пошло-поехало, я, что называется, вошла в раж и даже взмокла от жары и азарта. Внезапно до меня дошло, что в дверь стучат уже несколько минут. Я, все еще витая в облаках своего вдохновения, пошла открывать. Это оказался Володя, он вошел в прихожую, протянул мне какую-то баночку и окинул быстрым взглядом. Машинально приняв у него банку, я глянула на себя и ужаснулась. Я же стою перед ним в одной коротенькой футболке, даже шорт на мне нет! Но Володя не дал мне долго переживать по этому поводу.
— Добрый вечер, Женя! Извини, что помешал тебе работать, ты, судя по всему, что-то пишешь. Я всего на одну минуту, принес тебе мед, и поскольку, вижу, у тебя все в порядке, то я ухожу.
— Подожди, Володя! Неужели ты пришел только из-за меда, и как ты узнал, что я пишу?
Улыбка осветила его лицо.
— Я видел, что с утра к тебе кто-то приезжал. Так как потом тебя нигде не было видно, я забеспокоился и зашел узнать, как ты тут поживаешь и все ли у тебя в порядке, заодно и мед занес. Дверь ты мне открыла с рассеянным видом и авторучкой в руке, совсем не трудно понять, что ты что-то пишешь.
Действительно, я до сих пор держала авторучку в руке, сама не замечая этого. До чего же я стала рассеянная! Володя сразу же ушел, я куда-то поставила баночку, им принесенную, и тут же забыла про нее, уйдя с головой в работу.
На восьмой день я проснулась поздно, было уже начало одиннадцатого, и немудрено. Накануне я так заработалась, что писала почти до двух часов ночи. Солнце освещало комнату, я нежилась и потягивалась в постели, точно кошка, рассеянно глядя по сторонам. Взгляд мой упал на какую-то банку, стоящую на узком подоконнике и освещенную солнцем. Загадочная банка светилась ярким желтым цветом и отбрасывала веселые блики. Несколько секунд я озадаченно смотрела на нее — не было у меня никакой банки, откуда же эта взялась? Ой! Да ведь это же Володя вчера принес мне мед. Скорее всего, эта банка с медом была для него поводом зайти ко мне, подумала я с немалым удовольствием. Я вскочила с постели, схватила банку и прижала к себе. Он беспокоился обо мне, эта мысль согревала, но тут же щеки мои заалели, я вспомнила, в каком виде открыла ему вчера дверь. А, да ладно, это все пустяки, дела житейские. Одна небольшая и приятная идея пришла мне в голову, я проверила все свои продовольственные запасы, нужных мне продуктов не было. Я быстренько оделась и, забыв даже позавтракать, побежала в магазин. Там я купила большой пакет муки, пакетик французских сухих дрожжей и небольшой вилок капусты. Как давно я ничего такого не стряпала, а сейчас вдруг захотелось испечь пирожки! Почти бегом я вернулась домой и, замесив тесто, стала жарить капусту. Когда все было готово, я сложила пирожки в глубокую миску, миску укутала в два кухонных полотенца, а потом еще и в свой шерстяной платок, накинула дубленку и с непокрытой головой побежала к Володе. Предвкушая его удивление при виде моих пирожков, с улыбкой я звонила в его дверь. Открыл он не сразу, только на третий звонок. Очень удивился мне:
— Женя? — И, увидев, что я без головного убора, нахмурился: — Что-нибудь случилось? С тобой все в порядке? Да проходи же!
Но тут из глубины дома послышался незнакомый женский голос, у меня сжалось сердце. Я невольно попятилась, да так неловко, что едва не свалилась с крыльца. Володя успел поймать меня за руку, втащил в дом и укоризненно покачал головой. Не раздеваясь, в обнимку с миской, я машинально прошла в комнату и остановилась возле двери. В комнате за накрытым столом сидели Ксюша и молодая миловидная женщина, очень нарядно одетая. Я поздоровалась, они обе молча кивнули и стали в этот момент так похожи друг на друга, что я поняла: это Ксюшина мама. Непонятно почему, только от этого открытия мне стало еще более неловко. Но тут почти одновременно заговорили Ксюша и Володя:
— Ой, тетя Женя! А я вас совсем и не узнала, думала, какая-то чужая тетя, а мы с мамой пришли пить чай с яблочным вареньем.
— Поставь, что там у тебя есть, и давай твою дубленку, я ее повешу, ты удивительно вовремя пришла: мы и в самом деле собираемся пить чай с Ксюшей и ее мамой Ларисой.
На этом месте Володя чуть-чуть приобнял меня за плечи и продолжил:
— А это вот Женя, Евгения Михайловна, прошу любить и жаловать. — С этими словами он меня легонько, но настойчиво стал подталкивать к столу.
Я наконец сумела справиться со своим замешательством, раскутала миску с пирожками и, усаживаясь за стол, стала объяснять, что мне захотелось сегодня непременно что-нибудь испечь, и решила, что лучше всего подойдут именно пироги с капустой. Боюсь, голос мой звучал фальшиво и это было всем заметно. Разливая чай, Володя словно невзначай коснулся моей руки и слегка сжал ее. Не знаю, успокаивал ли он меня таким образом, или предостерегал от чего-то. Лариса отпила несколько глотков чаю, попробовала варенье и принялась на все лады расхваливать его. Смотрела она на Володю да и обращалась к нему, но тон и манера говорить у нее при этом были такие, словно она разговаривает с несмышленым младенцем. Такие манеры изрядно меня удивили, но ведь я ничего не знала об их отношениях. Мои пирожки Лариса даже не попробовала, а вместо этого стала рассказывать, как она любит печь, и не только пирожки, но и торты, и печенье, и как всем ее родным и знакомым необыкновенно нравятся ее изделия.
— Мама, но у тебя ведь не так вкусно получается, как у тети Жени, — с простодушным видом заметила Ксюша, взяв очередной пирожок.
Володя чуть заметно улыбнулся, а Лариса нахмурилась. Я поняла, что пора выручать мою маленькую приятельницу, и примиряюще произнесла.
— Почему-то детям чужое всегда кажется вкуснее и лучше.
Лариса приняла мою защиту благосклонно и спросила, есть ли у меня дети. Я в нескольких словах рассказала о своих детях, не утаив, что они у меня давно уже взрослые. В завершение добавила, что у меня внук — четырехлетний Мишутка. Было очевидно, что, по крайней мере, обеим моим слушательницам рассказ о детях и внуке понравился. Ксюша, как и подавляющее большинство девочек ее возраста, любила возиться и играть с маленькими детьми — они такие смешные! А Лариса, поняв, что я намного старше ее, приободрилась и стала любезнее. Сочтя, что должным образом восстановила безмятежность, нарушенную моим вторжением, я встала и собралась уходить. Ксюша заметно опечалилась, зато ее мать столь же заметно обрадовалась моей попытке исчезновения со сцены. Честно говоря, все происходящее сильно напоминало какую-то пошловатую пьесу. Володя, который до этого момента скорее напоминал зрителя, чем участника, поскольку в разговор не вмешивался, только молча подливал всем чай, попробовал меня остановить.
— Ну что ты, Володя, какой невежливый, задерживаешь человека, который торопится. Насколько я поняла, она твоя ближайшая соседка, еще не раз увидитесь с ней, — капризно протянула Лариса.
Не обратив ни малейшего внимания на ее слова, Володя буквально заставил меня опуститься на покинутый стул и, заглянув в глаза, попросил:
— Женя, я очень прошу тебя — не уходи, пока мы не поговорим, хорошо?
Его рука лежала на моем плече и показалась мне такой горячей, что прожигала сквозь одежду, я поспешно кивнула, соглашаясь. В воздухе повисло тягостное молчание. Я просто не знала, как поступить, Лариса откровенно злилась. Выручила всех Ксюша, которая, видимо, тоже что-то почувствовала своим детским сердцем. Она как-то почти по-взрослому вздохнула и потянула мать:
— Мам, пойдем домой! Мы ведь уже попили чаю и варенья тоже поели, а дома нас бабушка ждет и Рекс, и уроки я еще не делала.
Уходя, Лариса одарила меня еще одним неприязненным взглядом. Володя пошел проводить их в прихожую. Пока они одевались и прощались с хозяином дома, я все сокрушалась, насколько не вовремя пришла. Должно быть, у Ларисы с Володей давние отношения, она явно на что-то рассчитывает, вон ведь как разозлилась, а я тут что, факир на час, скоро уеду и вряд ли когда вернусь, так что мне незачем им мешать. Но почему-то меня опечалили собственные, такие вроде бы правильные мысли, а тут еще я вспомнила, как Володя сказал, что рад видеть меня в любое время дня и ночи — вот тебе и в любое время! Но тут стук закрывшейся входной двери прервал поток моих невеселых дум, через несколько мгновений Володя вошел в комнату. Я обратила внимание, что двигается он одновременно и неторопливо вроде, и вместе с тем стремительно, мотнула головой, отгоняя несвоевременные мысли, и встала ему навстречу. Но сказать ничего не успела, он был уже совсем рядом со мной, провел рукой по моему лицу, на мгновение задержался возле губ. Я почувствовала в нем какое-то напряжение, тревожно вибрирующий нерв, и слегка испугалась. Но он уже отвел свою руку, лицо его было по-прежнему спокойным и ласковым.
— Как же ты пуглива, Женя! Словно улитка, чуть что не так, сразу прячешь рожки. Я дружу с Ксюшей, понимаешь? Именно с Ксюшей, а ее мама, Лариса, — это просто дополнение к ней, отнюдь не самое приятное дополнение, но ведь Ксюша в этом не виновата, не правда ли?
— А я? — почему-то охрипшим голосом спросила я совсем неожиданно и тут же пожалела об этом. Господи, что же я делаю! Не хватает только, чтобы я начала выяснять с ним отношения да еще набиваться на признания, вот уж дура-то! — мгновенно промелькнуло у меня в голове. Очень быстрым движением я прикрыла рукой уже шевельнувшиеся губы Володи. — Не говори, не надо. Я не хочу знать. Я просто дура, не обращай на меня внимания. Тебе не повезло с соседкой: мало того что взваливаю на твои плечи все свои проблемы, так еще и вести себя не умею.
Почувствовав как бы легкий поцелуй на своих пальцах, я резко отдернула руку от его рта, но он просто улыбался. Мне стало вдруг страшно, очень страшно. Я боялась, что он скажет сейчас что-нибудь такое, что испортит наши с ним отношения, разрушит их хрупкое равновесие. Не знаю, понял ли он мои страхи, но сказал всего лишь:
— У тебя очень вкусные пирожки, Женя, спасибо тебе за них.
Когда я вернулась к себе, то работать уже не смогла, мысли о Володе не давали мне покоя. Я все вспоминала, какое лицо было у него, когда он хвалил мои пирожки, нет, явно не о пирожках он в тот момент думал, мысли его были куда серьезнее. Его глубоко проникающий в душу взгляд, ласковая и немного печальная улыбка, с которой он смотрел на меня, привели меня в смущение. И тогда я вспомнила один давний случай с пирожками и Павлом и рассказала ему о нем. Катеньке было тогда почти два года, и я была беременна Котькой, но еще не знала об этом. Мы оставили дочь на попечение Лиды, сестры Павла, а сами уехали к морю на две недели. Ужинали мы либо где-нибудь в ресторане, либо готовили сами, а вот завтракали и обедали всегда в одном укромном маленьком кафе, где всегда было сравнительно немного посетителей. И вот где-то на пятый или шестой день нашего отдыха мы, как всегда, завтракали в своем любимом кафе, и нам подали пирожки с брынзой, которые мне очень понравились. Но когда я уже допивала кофе, меня вдруг сильно затошнило, еле успела добежать до туалета. Когда я вышла оттуда, едва держась на ногах, бледная, даже зеленая, то Павел, посмотрев на меня, так отчитал бедного повара, что тот стал цветом лица похож на меня. Обедать в то кафе мы уже не пошли, а к вечеру я поняла, что опять беременна, а кафе с его пирожками и несправедливо обруганным поваром вовсе даже и ни при чем. Рассказав эту историю, я тут же сообразила, что зря это сделала, вряд ли уместно рассказывать соседу столь интимные вещи о себе. И я разозлилась на свою бестолковость: ну почему я не могу сообразить это все вовремя, почему только задним умом крепка?! Но в тот же миг я забыла про свой очередной конфуз, как только услышала, как Володя задумчиво сказал:
— Ты ведь любишь Павла?
— Любила, — поправила я.
— Мне почему-то кажется, что ваши отношения еще не закончились.
— О чем ты говоришь, Володя? Ведь Павел умер! Понимаешь — умер!
— Ну-ну, Женя, успокойся, что ты так разнервничалась, я совсем не хотел тебя волновать, извини. Я понимаю, что он умер. Но для ваших отношений это еще не конец, рано еще ставить точку. Ведь ты жива, а живым людям свойственно меняться. Вот и ты можешь измениться, взглянуть на прошлое под другим углом зрения, понимаешь? Вот что я имел в виду, когда говорил, что ваши отношения не закончились.
И сейчас я все вспоминала, как он мне это объяснял, успокаивал, поглаживал мои руки и, поднося их к губам, легонько целовал. Вот поэтому мне и не работалось, и вообще на месте не сиделось. Я решила пораньше лечь спать, но и в темноте перед моими глазами упорно вставало лицо Володи, я словно слышала его негромкий, спокойный, ласковый голос. Все же, поразмыслив немного, я пришла к успокоительному выводу, что, скорее всего, мое волнение проистекает из того, что разговор шел о Павле, из-за воспоминаний о нем, а не из-за самого Володи. Ведь смешно сказать, но я знаю Володю чуть больше недели, даже, вернее, можно сказать, вижу, а не знаю. Знать-то я о нем как раз ничего не знаю. Исходя из этого, у меня не может быть никакого особенного отношения к Володе. Ну не могу я, не должна испытывать никаких нежных чувств к малознакомому мужчине. Тем более после всех потрясений, связанных с Сашей, от которых я до сих пор еще не до конца оправилась, что и подтвердил случай с такси. Успокоив себя такими логическими выкладками, как будто логика в чувствах когда-нибудь имела значение, я в конце концов уснула.
Под утро мне приснился вполне связный сон. Снился мне мотылек, большой белый мотылек, таких я никогда не видела, да и вряд ли где-либо такие бывают — крупнее голубя! По краям его белоснежных крыльев шла угольно-черная полоска, и его смешные глаза тоже были черные, блестящие и загадочно мерцали. Я сидела за письменным столом у себя в комнате в Москве, а мотылек летал вокруг меня и садился то на руку, то на голову, не давал писать, словно играл со мной. Несмотря на размеры, он был очень легкий, почти невесомый, а прикосновения его лапок и крыльев были похожи на нежнейшие поцелуи. Но вдруг распахнулось окно, ворвался холодный ветер со снегом, и голос Павла откуда-то издалека глухо произнес: «Наши отношения еще не закончились». Тут же снежный вихрь подхватил мотылька, закрутил и вынес в окно, створки которого тут же захлопнулись. Стало очень жарко и тихо, только несколько снежинок, оставшихся от вихря, опустились мне на лицо, сразу же растаяли и растеклись каплями, щекоча лоб и щеки. Когда я проснулась, то щекотное ощущение переместилось со щеки на шею. Это капли сползли, спросонок подумала я, но тут же раскрыла глаза, проснувшись окончательно. По шее, а затем, перелетев, по руке ползла бабочка, из тех, что так нравятся детям, они зовут их «шоколадницами». Эту бабочку я видела в первый же день, как приехала сюда, она сидела в складках штор, довольно высоко. Я тогда долго смотрела на нее и все думала: оживет она летом или нет? Но бабочка лета ждать не стала и ожила через день, когда я особенно жарко протопила печь. И с тех пор я ее частенько видела, то она спала в каком-нибудь укромном уголке, то летала по комнате. Она мне нравилась своей независимостью, я даже имя ей придумала — Настя, почему именно Настя, не знаю, ни одной знакомой с таким именем у меня нет. Сейчас Настя деловито ползала по мне, щекоча лапками и трогая усиками, я не выдержала и рассмеялась, Насте это не понравилось, она обиделась и улетела на подоконник. Я смотрела на бабочку, вспоминала свой сон, лень было вылезать из кровати и начинать свой очередной, девятый день житья-бытья на даче. Но раз начавшись, день покатился и промелькнул очень быстро, в суете, хозяйственных мелочах и работе. Когда я посмотрела на часы, было уже семь вечера. Уже больше часа я испытывала неопределенное томление, сосредоточившись на нем, я поняла, что мне просто до смерти хочется пойти к Володе, попить чаю с его знаменитым волшебным вареньем, поговорить о чем-нибудь, все равно о чем, хоть о пустяках, или даже просто помолчать, но рядом с ним. И в то же время вот так просто взять и пойти я тоже не могла, словно что-то не пускало меня. Да это я сама себя не пускаю! Все мне кажется, что неудобно ходить к человеку так часто, надоедать ему и поедать его сладкие припасы. Конечно, он мне сказал, чтобы я приходила к нему, когда захочу, и все-таки, все-таки… Ох! Ну и зануда же я! Я крутилась по комнате, не зная, на что решиться. Решила не ходить, но это меня так сильно расстроило, что я, как малый ребенок, надулась сама на себя. Вдруг в дверь постучали, во мне разом все всколыхнулось: Володя! Радость была столь сильна, что даже испугала меня. Дверь я открывала трясущимися руками, стоя на подгибающихся ногах. Но, увы! За дверью стояла всего лишь Лариса, причем одна.
Я удивилась: какая такая надобность могла ее привести ко мне? С непроницаемым лицом, молча, она прошла в комнату и встала возле двери. Даже не поздоровалась, мелькнула у меня мысль. Лицо Ларисы стало как-то странно и судорожно подергиваться, совсем перекосилось, и она вдруг заплакала, к моему ужасу. Пока я суматошно придумывала, что бы мне ей такое сказать, чтоб хоть немного привести в чувство, она заговорила сама. Слезы безостановочно катились по ее лицу, крупные, как горох, но голос при этом звучал как-то ненатурально, манерно, и это еще больше подчеркивало всю нелепость сцены.
— Зачем, ну зачем ты приехала? Зачем лезешь в нашу жизнь? Я уже так давно люблю его, собираюсь за него замуж, девчонка к нему привязалась, да и он в ней души не чает. А тут ты! Все нам портишь, можно подумать, тебя здесь ждал кто! Что тебе, больше делать нечего, кроме как жизнь людям поганить? Не ходи к нему больше, не мути зря воду, найди себе другое развлечение!
Лариса буквально захлебывалась слезами. Я молча смотрела на ее перекошенное, злое лицо, с легкими разводами туши и карандаша под глазами. Сначала я была слишком ошеломлена ее вторжением ко мне, потом ее слова о Ксюше разбередили мою совесть, и я почувствовала себя виноватой. Но когда она бросила упрек, что Володя для меня всего лишь развлечение, то я страшно возмутилась и спросила ее с некоторой иронией:
— А тебя он любит?
Горькие слезы, только что сыпавшиеся по щекам, как-то сразу высохли, лицо Ларисы стало злым и надменным.
— А что?! Сомневаешься? Ты, дорогуша, раскрой глазки-то пошире да посмотри на меня как следует. У любого мужика слюнки потекут! И мне, кстати, двадцать пять, не то что некоторым. Ты-то небось и не помнишь, когда тебе столько было. Пусть не болит твоя голова обо мне, он меня любит. А если и не понял этого, то поймет, как только ты перестанешь к нему шляться. Забудь смотреть в его сторону, мой он! Поняла? Смотри, я тебя предупредила! Ну, чего молчишь?
Я только пожала плечами, поскольку и в самом деле не знала, что ей на это сказать. У меня было только одно-единственное желание, чтобы она ушла, и как можно скорее. Наверное, это как-то выразилось на моем лице, потому что Лариса едко усмехнулась:
— Сейчас уйду! Не волнуйся, не задержусь, мне и самой у тебя не сахар. Но сначала поклянись, что не пойдешь к нему больше никогда.
Терпеть не могу клясться. Но ее присутствие в доме, ее злобный взгляд и усмешка были крайне неприятны и с каждой секундой становились все более нестерпимыми для меня. И у меня возникло и стало крепнуть малодушное желание покончить со всей этой мелодраматической историей разом, все равно мне скоро уезжать отсюда. Я уже почти открыла рот, чтобы выдавить из себя требуемое и столь нежелательное мне обещание, но вдруг, совершенно неожиданно, я услышала, как где-то высоко-высоко зазвенели хрустальные колокольчики, и что-то мгновенно мелькнуло у меня перед глазами, чуть ли не большой белый мотылек. Я поперхнулась, закрыла рот, посмотрела на Ларису, все еще ждущую моих обещаний, подошла, молча отодвинула ее и распахнула дверь на улицу. Клубы морозного воздуха ворвались в дом. Ларису передернуло.
— Ну, как знаешь, пеняй потом на себя! Она с такой силой хлопнула дверью за собой, что стекла еще долго дребезжали, хорошо, хоть не вылетели. Только что произошедшая сцена была достаточно банальной и короткой, но столь неприятной, что я еще некоторое время не могла успокоиться, поэтому решила пройтись немного по улице. Так сказать, моцион для успокоения нервов. Пошла сначала в одну сторону, потом в другую, дошла до уже закрытого магазина и повернула обратно. Теперь, когда неприятное впечатление немного сгладилось, я думала о том, что не визит взбалмошной и дурно воспитанной Ларисы продолжал меня будоражить, чего-то подобного от нее вполне можно было ожидать. Но вот колокольчики! Хрустальные колокольчики моего давнего сна. Ведь это было самое настоящее чудо! Я опять их слышала, но уже не во сне, а наяву, нет никаких сомнений в этом, а еще говорят, что сны — пустые фантазии. В задумчивости я прошла мимо дома Володи, у него нигде не горел свет. Неужели он так рано лег спать? Или, может быть, ушел куда-нибудь? Но куда он мог уйти, неужели к Ларисе? Но прежде чем успела как следует ощутить горечь такого предположения, я увидела сам предмет моих надежд и сомнений. Он шел ко мне своим стремительным, скользящим шагом, и шел явно от моего дома. От неожиданности я остановилась, мы поздоровались и отчего-то оба немного замялись. Потом он взял меня под руку и повел к себе, помог раздеться, стал, как и всегда, хлопотать с чаем. Я сидела на стуле, молчала, но мне было хорошо и спокойно, словно я обрела наконец свою пристань, после многих лет непогоды и штормов. Володя все поставил на стол, разлил чай и сел, но не напротив меня, как садился обычно, а рядом. Я выпила чай, на этот раз даже не различив его вкуса, а Володя к своей пиале и вовсе не притронулся. Взял мою руку, стал перебирать пальцы, потом поцеловал их все по очереди, я сидела как зачарованная.
— Я беспокоился, — сказал он немного приглушенным голосом.
Я подняла на него вопросительный взгляд.
— Я случайно видел, как Лариса мелькнула возле твоего дома, но не понял, заходила она к тебе или нет?
— Володя, ты перед ней хоть в чем-нибудь виноват?
Володя пристально посмотрел на меня и ответил не сразу, минуты две, показавшиеся мне вечностью, он размышлял.
— Мне кажется, я понял, о чем именно ты спрашиваешь. «Мы в ответе за тех, кого приручили». Ты об этом? Нет, не думаю, я уверен в том, что ни в чем перед ней не виноват. Ни словом, ни жестом я никогда не давал ей повода надеяться на какие-либо отношения между нами, кроме соседских, конечно. Меня мало заботит, если она забивает себе голову беспочвенными фантазиями, это ее трудности, и она уже взрослая. Но я не хочу, чтобы она хоть чем-нибудь обидела тебя. Так что беспокоился я о тебе.
Договорив, он коснулся рукой моей щеки, нежно провел по ней, потом повернул мое лицо к себе и хотел поцеловать. Я внезапно задрожала и вывернулась из его рук. Володя побледнел и изменился в лице.
— Почему? Женя, почему?
Я опустила в волнении глаза.
— Сама не знаю. Я… я боюсь.
— Меня? Ты боишься меня? — Видно было, что это сильно поразило его. — Но меня бояться не надо. Я никогда не сделаю тебе больно и никогда ничем не обижу тебя.
— Да, я понимаю, Володя, понимаю. И все равно боюсь — тебя, себя. Боюсь того, что между нами может быть. И того, что ничего не будет, ничего не сбудется, тоже боюсь. Наверное, я та пуганая, ненормальная ворона, которая уже каждого куста боится.
— Бояться тебе совершенно нечего, но, наверное, я все-таки виноват в твоем страхе, хоть и пустом. Просто я чуть-чуть, самую малость, но поторопился. А что касается вороны, то тут я резко не согласен, на эту крикливую и сварливую птицу ты совершенно не похожа, так что, будь любезна, выбери себе какую-нибудь другую птицу для сравнений, хорошо?
— Мм, другую, легко сказать другую, какую же выбрать? О, придумала, синичку можно?
— Вот уже совсем другое дело. Синичка прекрасная птица. Мне очень нравится — шустрая, веселая и симпатичная. — На этом месте он блеснул на меня плутовским взглядом и продолжил нарочито восхищенным голосом: — А уж как она поет! Ну просто заслушаешься.
Все же он не выдержал, рассмеялся, я засмеялась вслед за ним, облегченно и радостно. Смеясь, он как-то незаметно склонился ко мне и поцеловал в губы. Вернее сказать, он начал поцелуй, а я как-то незаметно сама для себя подключилась к нему, и поэтому поцелуй стал нашим общим поцелуем. Я далеко не девочка, за всю мою немаленькую жизнь меня целовали много раз, но так — никогда! Я даже и представить себе не могла, что поцелуй может быть таким! В нем не было ни малейшего оттенка страсти, только нежность, ободрение и поддержка. Не знаю, можно ли говорить о поцелуе такие слова, но все эти ощущения в нем были.
— Володя, — начала я, но он тут же перебил меня:
— Ш-ш-ш, моя девочка! Тише, не говори ничего, все равно ты сейчас ничего не сможешь сказать.
Он был прав, я сама не знаю, что я хотела сказать, слов у меня не было, да они были и не нужны. Можно было просто сидеть, положив голову ему на плечо, но поскольку сидели мы с ним не на диване, а на стульях, пусть и поставленных рядом, моя попытка положить ему голову на плечо вышла неудачной, я чуть было не упала, и это опять нас рассмешило.
— Действительно синичка, веселая синичка, — поддразнил он меня.
— А ты, а ты… — Но я так и не смогла придумать ничего удачного, никакая птица ему не подходила, и я ограничилась тем, что легонько дернула его за ухо. Наказание за мой поступок последовало незамедлительно. Володя шутливо, по-медвежьи зарычал и вдруг сгреб меня в охапку, но не грубо, а очень даже бережно, словно я была хрупким сосудом или цветком. И не просто сгреб, а, прижав меня к своей груди, преспокойно пересел на диванчик. Это изрядно поразило меня. Ведь Володя был среднего роста, худощавым, на вид совсем не сильным, и пусть сама я не была ни толстой, ни крупной, но в его руках я словно ничего не весила. Держа меня на коленях и все еще продолжая смеяться, он хотел опять поцеловать меня, но я быстро и ловко уклонилась и спросила:
— Володя, а сколько тебе лет?
Ответа его я ждала с любопытством, мне было интересно, угадала я его возраст или нет. Про себя я предположила, что ему должно быть примерно пятьдесят. Голова у него совершенно седая, но морщин почти совсем нет, глаза смотрят молодо и живо, а самым характерным признаком возраста мне казались движения, у него они очень быстрые и гибкие. Я нисколько не удивилась бы, например, окажись он моим ровесником или немного моложе. Пауза затягивалась. Володя не торопился отвечать на мой вполне невинный вопрос и даже слегка нахмурился. Я удивленно расширила глаза, странно, обычно женщины не хотят отвечать на этот вопрос, а тут вдруг всегда невозмутимый Володя стушевался, ну и ну! И я энергично мотнула головой, подтверждая, что все еще жажду услышать ответ. Он испытующе посмотрел на меня, вздохнул и все же ответил:
— Хорошо. Если тебе так уж необходимо знать мой возраст, то я отвечу. Совсем недавно, в январе, мне исполнилось шестьдесят четыре.
Вот это да! Пока я переваривала эту новость, его губы оказались на моей шее, прочертили на ней горячую дорожку поцелуев и стали спускаться ниже. Я быстренько обеими руками подняла его голову и вгляделась ему в глаза — да нет, не может быть! Я поняла, что он просто пошутил надо мной за мое любопытство, этакое забавное наказание. Я решила вывести его на чистую воду:
— Ага, да ты шутить надо мной вздумал?! Сказал бы уж сразу, что тебе девяносто четыре, вот тогда бы я поверила.
Володя таинственно молчал, только улыбался насмешливо и печально. Я хотела продолжить эту тему и потребовать подтверждения того, что он пошутил, но отчего-то передумала. Володина затаенная грусть передалась мне, и, спасаясь от нее, я сама потянулась к нему. Это был совсем другой поцелуй. Да, и в нем тоже была нежность, но вместе с тем столько огня, живого, действенного огня! Даже дыхание пресеклось, и только это и смогло угомонить нас. Раньше, если мне приходилось читать или слышать выражение: огонь в жилах, то это понятие связывалось с вожделением, то есть если и с огнем, то темным, какой-то тяжелой страстью. Может быть, это и так, но только для других людей, не для Володи. Володя знал другое чувство, он умел гореть другим огнем, и этот свой огонь он перенес на меня, это пламя не давало копоти — оно горело весело, ровно и чисто. Этой ночью я не вернулась в свой дом, осталась с Володей. Я не могу назвать эту ночь райской, рай для меня — понятие, лишенное живости и огня, рай мне всегда представлялся миром шелестящих теней, что-то вроде красивого и невнятного сна. А мы не спали с ним, мы бодрствовали, но не в этой жизни, не в этом мире, а в каком-то более живом, наполненном светом, запахом, звуком, настоящей нежностью, настоящей любовью. Где-то под утро я сказала ему:
— Знаешь, я боюсь спать. Боюсь уснуть здесь, рядом с тобой, а проснуться в прежнем мире, где тянутся скучные серые будни, где на несколько грамм любви и нежности приходятся тонны лжи, насилия и лицемерия. Теперь, когда я встретила тебя, когда я знаю, что такое настоящая любовь, в которой нет и не может быть ни насмешки, ни упрека, ни предательства, я уже не смогу жить прежней, постылой жизнью. Но ведь так уже не будет, правда? Ты теперь всегда будешь рядом со мной.
Выслушав меня, Володя как-то глубоко и судорожно вздохнул, взял мою руку, положил на свою грудь, туда, где горячо и неровно билось его сердце, и сказал мне то, от чего я вся содрогнулась:
— Женя, птичка Женя! Какой будет твоя жизнь — постылой или живой и светлой, зависит только от тебя, от твоего отношения к ней. Как будешь относиться к жизни, такой и будет она для тебя. А я, к величайшему моему сожалению, не могу тебе ничего обещать. Подожди, выслушай меня. Девочка моя, неужели ты думаешь, что если бы я мог пообещать тебе много-много таких ночей и дней, как эта ночь, то не сделал бы этого? Непременно, не только пообещал бы, но и выполнил свое обещание. Это самое заветное желание для меня сейчас. Но я не могу! Каждый следующий день, каждый следующий миг может стать для меня последним. Я уже прожил свою жизнь. Прожил по-всякому, по-умному и по-глупому. Мне многое в жизни удавалось, я считался везунчиком, но и терять приходилось много и страшно. Не могу хвалить себя, ошибок я наделал немало, но в одном могу ручаться: всегда, везде и во всем я старался жить полной жизнью, дышать полной грудью, а это совсем не просто в нашем мире, где перемешано прекрасное и злое, где за каждую сполна прожитую минуту нужно платить вдвойне и втройне. И я платил, но больше нечем, мой организм сгорел, сам удивляюсь, чем я еще живу? Нет, девочка моя, не пугайся, преодолей свой ужас, не нужно вспоминать судорожно врачей и лекарства, все это уже было и все бесполезно. Прости, что я вовлек тебя во все это, но так уж получилось, прими мой удел в смирении, как его принял я. Так, как мы принимаем все неизбежное в жизни, все, что сильнее и выше нас: восход и закат, лето и зиму, свет и тень, жизнь и смерть. Я должен, обязательно должен сказать тебе об этом, может быть, надо было и раньше сказать, но случилось именно сейчас. Я ничего не прошу у тебя, но и ничего обещать, гарантировать тоже не могу. Но именно в этот, пограничный миг своего существования я действительно понял, что значит любить, понял, когда увидел твои глаза, одновременно испуганные и сияющие. А все, что я раньше по глупости своей принимал за любовь, все это суета, ярмарка тщеславия, эгоизм и животная тяга. Может быть, и существуют на земле люди, которые могут любить по-настоящему еще тогда, когда они полны жизненных сил. Мне этого не было дано, свою силу и жизнь я уже растратил, не скажу, что зря, но растратил. Но я безмерно благодарен почти уже ушедшей жизни за то, что и теперь умею любить, за то, что понял, успел причаститься самому живому в жизни — любви!
Только в самом начале, когда Володя заговорил о своей близкой и неминуемой смерти, я действительно испугалась, очень испугалась, заметалась мысленно в поисках выхода. Но я смогла поверить Володе, поверить полностью, до конца, преодолела свой ужас и как бы заново обрела саму себя, и его, и счастье. Лежа с ним в одной постели, соприкасаясь головой на одной подушке, слушая его сонное дыхание, он уснул раньше меня, я не плакала, не отчаивалась, я просто жила то мгновение жизни, которое текло надо мной. Именно теперь, рядом с Володей, я начала понимать смысл евангельского изречения, что никто не знает ни часа, ни срока своего. Жизнь такая хрупкая, каждое мгновение для любого может стать последним, а вместо того чтобы жить, наслаждаться этим даром, мы чего-то все ждем, требуем, злимся, засоряем его какой-нибудь ерундой, и это вместо благодарности жизни и любви к ней. Так можно мгновение за мгновением и всю жизнь растерять, бездарно растранжирить.
После завтрака я пошла к себе, хотела поработать до обеда, после обеда мы договорились идти с Володей гулять. Мне было здорово не по себе, я в общем-то понимала, что со мной происходит, но справиться с собой не могла. Какой резкий контраст ощущений между ночью и днем. Ночью, рядом с Володей, слушая то, что он мне говорит, любя в ответ на его любовь, я, конечно же, не поднялась до его высоты, но все же стала на ступеньку выше, ничто суетное, мелкое не было властно надо мной в тот момент. А сейчас! Сотни страхов, сожалений, сомнений нахлынули на меня, копошились во мне, словно насекомые, кусали и раздирали на части. Я дошла до того, что мне стало жалко себя. Господи! Какая же я безмозглая кукла, слепая и эгоистичная! Мне выпал единственный и неповторимый шанс в жизни встретиться с настоящим человеком, настоящей любовью, причем шанс ничем мною не заслуженный. И вот, вместо того чтобы радоваться ему, любить и быть счастливой, я обижаюсь, требую от судьбы гарантий на завтра, послезавтра… А без этих гарантий мне и жизнь не мила и любовь, видите ли, не в любовь! Зачем, спрашивается, мне завтра, когда я и сегодня не умею прожить как следует, а только все порчу своими жалобами, сомнениями и тоской. Этот внутренний разлад настолько измучил меня, я настолько опротивела самой себе, что позорно бежала с поля незримого боя. Схватила дубленку в охапку, держа платок и ключи, выскочила из дому и побежала к Володе так, словно за мной гнались многочисленные враги. «Господи! — молилась я по дороге, даже и не пытаясь скрыть своего эгоизма. — Он так мне нужен, Господи, ничего больше, только чтобы он был!»
Он был, загодя открыл мне дверь, впустил, отбирая у меня дубленку и платок, с улыбкой спросил: опять калитку не в ту сторону открыла? Я мотала головой и прижималась к нему. Рядом с ним меня сразу отпустило, дыхание стало ровнее и глубже, сердце билось уже не в столь сумасшедшем ритме, и сама себе я казалась уже не такой ужасной. Вместе с Володей мы приготовили обед, много шутили и смеялись. Я очень радостно воспринимала все его подшучивания, скорее всего, он подозревал о той мышиной возне, что происходит внутри меня, и своими шутками старался меня развеселить и ободрить. После обеда мы с ним отправились на прогулку в лес и долго гуляли. Обычно я очень быстро замерзаю, а вот сейчас мне было отчего-то все время тепло. Показав на три очень тесно растущие елки, Володя придвинулся ко мне поближе и таинственным шепотом сказал, что там живет леший. А когда я засмеялась, он зашикал на меня и стал на полном серьезе рассказывать, как однажды вечером они встретились с ним в этом месте и побеседовали «за жизнь», а на прощание печальный леший вдруг попросил у него сигаретку. Тут уж не только я, но и сам Володя не выдержал и засмеялся. Когда мы возвращались с прогулки, я решила к себе не заходить, но стоило мне только поравняться со своей дачей, я вдруг заявила, что мне надо идти работать. Володя посмотрел на меня, как мне показалось, с юмором, поцеловал в щеку и попросил не опаздывать к ужину, он приготовит что-нибудь повкуснее. Оказавшись у себя, я без сил присела к столу. Зачем я пришла сюда, кто меня дергал за язык, черт? А может быть, тот леший, выпрашивающий у прохожих сигаретки? Я засмеялась сквозь слезы, собралась с силами и все же попробовала работать, заодно и печку немного протопила. Где-то с час я работала нормально, а потом мне опять стало невмоготу, пометавшись по дому как угорелая кошка, я закрыла прогоревшую печку и побежала к Володе, благо бежать было недалеко. Ночью, мучимая виной и раскаянием, я обняла его и сказала:
— Володя, я знаю, что мучаю тебя, это так подло, так недостойно, и я борюсь с собой, а поделать ничего не могу. Но я люблю тебя, очень люблю! Научи меня, что же мне делать, я такая дура!
Он улыбнулся мне, было темно, но я явственно почувствовала его улыбку, прижал к себе и поцеловал в висок:
— Нет, девочка моя. Нет, моя хорошая и моя отважная, ты не мучаешь меня, это попросту невозможно. Себя, к сожалению, да, ты мучаешь, а меня нет. Я понимаю, как отчаянно ты сражаешься со всякой нечистью, когда остаешься одна, как всякие сомнения и страхи мучают и раздражают тебя, но я не могу тебе здесь ничем помочь, и никто не может. Такие битвы каждый ведет в одиночку, ведь нельзя за другого жить, за другого любить, нельзя за другого быть храбрым, но не добавляй еще и эту несуществующую вину к своре твоих маленьких воющих чудовищ. Как же ты меня можешь мучить? Я люблю тебя, и очень счастлив этим, даже если ты не останешься со мной, если решишь, что без меня тебе гораздо лучше, любой твой поступок не изменит, не умалит, не очернит моей любви к тебе. Ты дала мне великое счастье — счастье любви, но вот забрать назад ты его не можешь, это не в твоих силах, да и вообще ни в чьих. Тем и отличается настоящая любовь от той расхожей, разменной монеты, которой многие люди пользуются в обыденной, так называемой реальной жизни и которую за неимением другой зовут любовью. Подлинная любовь, раз возникнув, начавшись, уже не исчезает, не ломается, не портится, не пачкается, это солнце, которое не закроешь ни рукой, ни шапкой, ни тучей. Я люблю тебя здесь, сейчас, но и уйдя отсюда, я не перестану любить тебя, верь мне!
— Значит, ты унесешь любовь с собой? — прижимаясь, спросила я.
— Унесу, — улыбнулся он, — но не всю, что-то, какая-то часть останется с тобой. Пока будешь ты, будет с тобой и живая часть моей любви, чтобы оберегать, защищать, согревать по мере сил. Помнишь, ты мне рассказывала свой давний сон о хрустальных колокольчиках?
Я вздрогнула, когда он это сказал. Володя моментально почувствовал мое волнение, прижал меня к себе еще теснее и продолжил:
— Не знаю, чья любовь звенела тогда тебе этими колокольчиками, да это и не важно, но отныне это будет звук моей любви.
Взволнованная впечатлением, которое на меня произвели его слова о любви и о колокольчиках тоже, я решила рассказать ему недавнее происшествие, связанное с Ларисой.
— Володя, а ведь совсем недавно я слышала такие же колокольчики, но уже наяву, это когда Лариса ко мне приходила, я ведь тебе не рассказывала.
По тому, как стремительно он повернулся, услышав мои слова, я поняла, что он удивлен и заинтригован. И я рассказала ему уже со всеми подробностями, когда и в какой момент они звонили. Выслушав, Володя сначала долго молчал, потом заговорил:
— Я просил тебя верить мне и моей любви. Даже на этом примере ты видишь, что моя любовь стоит твоей веры. Я и сам этого еще не знал, а звук моей любви, действенной, живой любви, уже влился в хрустальный звон, уже звучал и предостерегал.
Вот и опять он уснул раньше, а я специально боролась со сном, чтобы слушать его сонное дыхание и молиться за него, я часто стала молиться, как никогда раньше. Господи! Продли мне это великое счастье, его любовь. Знаю, что недостойна, но мне так нужна, так необходима его любовь, так нужен мне он! Господи! Продли жизнь его!
Утром Володя встал раньше меня. Когда я раскрыла еще сонные глаза, то Володя стоял возле постели, умытый, в домашних брюках, голый до пояса. У меня внезапно сжалось сердце: неужели это только видимость? Это еще нестарое, сухощавое, подтянутое тело, на вид вполне здоровое и полное сил?! Тут какой-то шрам привлек мое внимание. Я ничего не понимаю в шрамах и ранениях, но мне показалось, что это след от пули, я даже вздрогнула.
— Это пулевое? — спросила я, протягивая руку и пытаясь коснуться его.
— Птичка Женя! Я у тебя спрашиваю существенные вещи, а именно: что ты хочешь, чтобы я подал тебе в постель на завтрак? А тебя интересует всякая ерунда, да еще очень давняя. Да, это след от пули, впрочем, ранение было нетяжелым и, как я тебе уже говорил, очень давно. Можешь потрогать, если тебе очень хочется.
Я испытующе посмотрела на него:
— Володя, у меня напрашивается вопрос, скорее всего, очень глупый вопрос, настолько глупый, что я заранее прошу прощения за него, но сейчас такое время, чего только не бывает. В общем… ты бандитом, случайно, не был?
Приятно было смотреть, как заразительно он смеется.
— Ты, оказывается, большая шутница, Женя. Случайно не был и неслучайно тоже не был. А чтобы предупредить твои дальнейшие вопросы на эту тему, я скажу тебе так: я был воином. Но все уже давно в прошлом, ныне я пенсионер, и в настоящий момент меня больше всего волнует завтрак, о подробностях которого ты так и не пожелала со мной говорить.
Завтрак в постели, на мой взгляд, сущая гадость: несмотря на поднос или специальный столик, крошки все равно везде будут сыпаться, и вообще неудобно. Читать описание такого завтрака в книжке еще туда-сюда, в кино смотреть уже хуже, я всегда с замиранием сердца только и жду, что кто-нибудь из актеров уронит на постель бутерброд с маслом или кофе прольет. А уж делать это самой — да ни за какие коврижки! Потому стол в свое время и придумали, что есть за ним гораздо удобнее, чем как-либо еще. Вот все это я и изложила Володе с самым что ни на есть серьезным видом, что не помешало ему вовсю улыбаться. А я наконец отправилась в ванную. Вся моя жизнь протекала теперь в двух измерениях: возле Володи и без него. Без него я мучилась и стыла в коросте страхов и сомнений, возле него — мгновенно отогревалась в живительном тепле его любви, нежности, ласки. Хотя он и признался мне сокрушенно, что вся его жизненная сила иссякла, тем не менее ее остатков хватало на нас двоих! Он был силен и нежен за нас двоих и любил тоже за двоих — за себя и за меня. Нет, он меня совсем не подавлял, наоборот, я в его присутствии расцветала пышным цветом, во мне с большей силой начинали проявляться мои лучшие черты и качества. Тогда что же такое грызет меня, не дает покоя, заставляет время от времени отдаляться от него? Я находила этой странной муке только одно объяснение: меня жжет и мучит то, что я сияю отраженным светом, загораясь от его огня, а ведь должна гореть сама, пусть маленьким, пусть дымным, но своим огнем, своим светом, который был бы во мне независимо ни от кого и ни от чего. Вот извлечением, высеканием этого огня, говоря высоким слогом, я и занималась, убегая от Володи к себе. Я хотела обрести себя твердую, ни в чем не сомневающуюся, не романтически влюбленную, а любящую. Но долго выдержать без него я не могла, он был теперь магнитом моей жизни, средоточием всех моих мыслей и желаний. Два, от силы три часа без него — и я опрометью бежала обратно. Господи, что же со мной будет без него, когда его совсем не станет?! А ведь мне скоро надо возвращаться в Москву. А надо ли? Зачем, зачем мне туда ехать, когда мое сердце останется здесь?
И все-таки о своем возвращении я заговорила с Володей. Он внимательно выслушал меня, все мои доводы за и против поездки, больше, конечно, против, и был, как всегда, спокоен. А я разнервничалась вконец, закрутилась, забегала по комнате.
— Эй, птичка-синичка! Ты не устала еще перебирать своими маленькими лапками? Иди, ну, иди же сюда. Садись рядом, возьми мою руку, ну, надеюсь, теперь тебе стало немного лучше? Стоит ли так по-пустому переживать и нервничать?
— Ах, Володя, Володя! Конечно, с тобой мне лучше, возле тебя всегда хорошо. Но ведь это значит, что я питаюсь твоей энергией, да? Это ужасно, получается, что я энергетический вампир.
— Эге! Что я слышу? Ты, никак, намекаешь, что пора идти в лес, вырубать осиновый кол? Ты, видимо, насмотрелась дешевых американских фильмов, ну-ну, не хмурься, я шучу. Если ты и в самом деле черпаешь от меня хоть что-то, если мое тепло помогает тебе, то я просто счастлив, что и такой, полумертвый, могу что-то давать тебе. Мне же ты повредить не можешь, не волнуйся напрасно.
— Ну почему мы так поздно встретились? Я прихожу в бешенство от мысли, что столько времени провела впустую. Разменивалась на какие-то мелочи, на ерунду. Ненужные встречи, пустые, глупые разговоры. Только сейчас, полюбив тебя, я понимаю, до чего случайной и легковесной была моя жизнь. А теперь, когда мы встретились, когда так нужны друг другу, во всяком случае, ты мне очень нужен, нам осталось так мало, так бесконечно мало времени для любви, для жизни!
— Не надо думать, Женя, что вся твоя жизнь была легковесной, что время ты проводила впустую, это нехорошие, а главное, несправедливые мысли. Если бы ты в самом деле была этакой свистушкой и легко прыгала по жизни, то никогда не полюбила бы меня, даже не обратила внимания, потому что я был бы для тебя скучен, неинтересен. Ты стала такой, какая есть сейчас, в результате всего того, что происходило с тобой в жизни. И я люблю тебя именно такую, со всем тем, что в тебе есть. А будешь напрасно сама себя ругать, я рассержусь, в гневе я страшен! Отшлепаю и поставлю в угол.
Я слушала, как он защищает меня от меня же, и улыбалась. Вдруг невзначай вспомнила, как Володя говорил, что, может быть, есть и другие люди, которые могут любить вот так, по-настоящему, когда у них еще много сил, а ему выпала такая любовь только на излете жизни. И мне пришла в голову мысль: вот, даже умирающий, он дает мне силы и бодрость, но, может, как раз сильного, здорового, я бы и не смогла вынести, может, такая любовь была бы чересчур огромной для меня, еще совсем глупой и слабой? Или нет? Володя, увидев, что я опять погрузилась по самую маковку в невеселые раздумья, отвлек меня, коснувшись руки. Я слабо улыбнулась ему и решила поговорить о чем-нибудь вполне житейском.
— Володя, а ты был когда-нибудь женат? — поменяла я тему разговора, заодно рассчитывая разузнать что-нибудь из того, что меня давно интересовало.
— Был, один раз.
— А где твоя жена? Ты разошелся с ней? Или она… она умерла?
— Нет, она жива, кажется, замужем, надеюсь, что счастлива, я ничего не знаю о ней, с тех пор как мы развелись.
— А дети? Детей у тебя не было?
— Была девочка, она умерла совсем маленькой, не делай такое лицо, птичка Женя, это было очень давно, больше тридцати лет назад. Время все лечит, и эта давняя рана уже зарубцевалась и почти не болит. А тогда казалось, что я не переживу ее смерти: тем не менее жил вполне деятельно столько лет, а теперь еще и счастлив под конец.
— И все равно мне очень, очень жаль, мне кажется, что ты был бы замечательным отцом. Расскажи что-нибудь еще о себе, так нравится тебя слушать.
Но Володя в ответ только улыбнулся молча и пожал плечами.
Мы гуляем в лесу. День пасмурный, но тихий, ни ветерка, мороз небольшой, вряд ли больше пяти градусов. Воздух пахнет уже не так, как в начале зимы, как-то иначе. Я говорю об этом Володе, он соглашается со мной:
— Да, чувствуется, что весна не за горами. — Потом добавляет совсем тихо, не для меня, а для себя: — Еще одна весна… последняя.
Расслышав это, я в ужасе трясу головой, начинаю весело рассказывать о какой-то ерунде, перескакиваю с одного на другое, лишь бы мысленно отодвинуть призрак его смерти. Володя смотрит на меня с улыбкой, по его глазам я вижу, что он, как всегда, понял, что со мной происходит.
Вечером сидим не зажигая огня, вполне достаточно света камина. Камин в доме маленький, но другой здесь и не нужен, дом обогревается батареями, а камин только для красоты и уюта. Я забралась с ногами на диванчик, Володя сидит рядом, откинувшись на спинку. Одной рукой он обнимает меня, а другая лежит на подлокотнике дивана, лицо у него задумчивое, далекое. Наверное, он что-то вспоминает, я не хочу прерывать его раздумий, мне и молчать с ним хорошо.
— Птичка моя, завтра твой срок, ведь тебе уже пора лететь?
Я резко вздрагиваю и бледнею, у меня напрочь вылетело из головы, что завтра и в самом деле заканчивается обговоренный срок и за мной должна приехать Любаша. А я и забыла, я обо всем забыла, что не имело непосредственного отношения к Володе, словно до него у меня не было никакой жизни, никаких родственников и знакомых, а стало быть, и никаких обязательств перед ними. Возврат к прежней реальности не радует меня, я тесно прижимаюсь к Володе и отрицательно трясу головой:
— Нет! Я не поеду, и не уговаривай. Нужно быть совершенно ненормальной, чтобы уехать от тебя. Любаша завтра приедет, я ей все объясню, она умница, она все поймет. Я думаю, что она мне позволит пожить здесь еще, все равно хозяева дачи в отъезде и приедут не скоро. А если Любаша почему-либо мне все-таки откажет, то разве я не смогу перебраться к тебе совсем и жить у тебя? Ведь ты же не будешь против, правда? Ну скажи, не будешь? Ну что ты улыбаешься и молчишь?! Володя, я не буду тебе в тягость, честное слово. У меня есть немного денег, я перед самым отъездом сюда получила в издательстве гонорар, а потратить еще ничего не успела, пока хватит этого, а я еще заработаю потом, нам ведь с тобой немного нужно, правда? Ну скажи хоть что-нибудь!
— Самая большая для меня радость — это, просыпаясь утром, видеть тебя рядом. Я знаю, что это эгоистично, но когда ты рядом со мной топорщишь свои перышки, меня охватывает то, что в старинных книгах называлось неизъяснимым блаженством. И все-таки, несмотря ни на что, я думаю, что тебе полезно будет съездить в Москву. Ну, хотя бы на несколько дней. Подожди, подожди, не сверкай на меня глазами, дай все тебе объяснить. Полезно, прежде всего, потому, что ты снова окажешься в привычной обстановке, и там ты сможешь без помех, спокойно обдумать, действительно ли я тебе нужен, и если нужен, то в какой мере. Тебе ведь ничто не мешает вернуться сюда, ко мне, насовсем или же приезжать только иногда, скажем по выходным. Я приму любое твое решение, моя любовь к тебе ни от чего не изменится. Это первое. Второе: ты сможешь договориться в издательстве о новой работе, которую ведь все равно где делать — в Москве или здесь, компьютер у меня есть, и неплохой. Пойми, речь совсем не идет о деньгах, деньги у меня есть, вполне хватит на нас двоих, и на потом тебе немножко останется. Но ты ведь привыкла быть самостоятельной, привыкла работать, ведь так? Ну вот, я же понимаю, что без своей привычной работы ты будешь комплексовать, а тебе и без этого хватает сложностей. И наконец, третье — Саша. Но прежде чем с ним встретиться, ты должна совершенно ясно понять две вещи: помочь ты ему ничем не можешь, даже если бросишь ему под ноги свою жизнь. Но и относиться к нему с ненавистью, злостью тоже не надо. Ненависть — бесплодное чувство, никогда ничего не способна разрешить, она только затемняет разум, иссушает сердце. Вижу, что ты это хорошо понимаешь. Конечно, тебе нужно с ним встретиться, поговорить, и не важно, что он будет тебя плохо слушать или совсем не будет. Но для тебя самой необходимо сделать все, что только можно сделать в этой ситуации, и тогда все, связанное с Сашей, уйдет в прошлое, не будет мучить тебя, перестанет иметь значение. Но… Женя! Я прошу тебя, будь крайне осторожна. Встречайся с ним только в людных, общественных местах, ни в коем случае ни на чьей квартире. Говори с ним спокойно, без насмешек и сарказма, но твердо. Если бы я только мог тебе в этом помочь, я бы непременно поехал с тобой, но, к моему великому сожалению, я тебе ничем помочь не могу. Обещай мне, что, как только с ним поговоришь, сразу же позвонишь мне, вне зависимости от того, как ты спланируешь наши с тобой дальнейшие отношения, обещаешь? Почему ты удивляешься, ну да, у меня есть сотовый телефон, а я разве тебе не говорил о нем?
У меня тут же мелькнула мысль, что я могу позвонить Любаше и отсрочить ее приезд, ну хотя бы на несколько дней, но я передумала. Володя, как всегда, прав — мне нужно ехать, а раз так, то стоит ли откладывать, — раньше уеду, значит, раньше и вернусь. А размыкать наши тесные объятия, чтобы просто поговорить с кем-нибудь по телефону? Ну нет!
Не могу сказать, что в эту ночь, когда мы прощались на неизвестный срок, Володя был нежнее, чем обычно, это было просто невозможно, но в каждом нашем поцелуе, в каждом касании я ощущала боль и горечь, что ощущал он, я даже не дерзала угадать. Володя казался настолько сильнее и выше меня, да и всех, кого я знаю, что иногда представлялся мне и не человеком даже, а кем? Не знаю.
Около одиннадцати часов утра под окном дачного домика загудела машина, это приехали Любаша с Валерой. Небольшие пожитки мои были давно собраны, я прибрала за собой и ждала их одна, с Володей мы попрощались у него. Сестра была в хорошем настроении, все шутила, и Валера ей с готовностью вторил. Я была молчалива, но не грустна, скорее, сосредоточенна. Любаша своим орлиным взором сразу подметила мое настроение, оно ее обеспокоило, но спросить отчего-то не решилась, только все старалась заглянуть мне в лицо. Чтобы разогнать ее тревогу, я улыбнулась ей так весело, как только смогла, и вроде бы этим немного успокоила. Разместились в машине, Валера стал заводить мотор, на какое-то мгновение мне стало так плохо, что почудилось, будто я сейчас умру, но тут же отпустило. Как только я смогла говорить, я попросила остановить машину, мы как раз только тронулись и проехали всего несколько метров. Люба с Валерой дружно вытаращили на меня глаза, после секундной паузы Любаша махнула рукой: мол, не обращай на нее внимания, поезжай. Но я окончательно пришла в себя и повторила уже тверже:
— Валера, пожалуйста, останови машину. Мне надо срочно выйти. Да не волнуйтесь вы так, со мной все в порядке, и я вернусь через две-три минуты, не больше. Но не ходите за мной.
Я открыла знакомую калитку, поднялась по ступенькам, хотела позвонить, но раздумала, толкнула дверь, она была открыта, прошла через прихожую. Володя стоял посреди комнаты, повернувшись ко входу, с напряженным лицом, словно чувствовал, понимал, что я не смогу уехать, не увидев его еще раз, хотя бы на минуту, он ждал меня! Я посмотрела ему в глаза — уж и взгляд почти нездешний! Мне стало больно, но я затолкала свою боль поглубже, взяла обе его опущенные руки в свои, мне показалось, что они чуть дрожат, но мне вполне могло это показаться. Но вот то, что кожа его рук имела слишком бледный оттенок, я заметила впервые. Я нежно поцеловала обе его руки и сказала, глядя прямо ему в лицо:
— Володя, я скоро вернусь, дождись меня!
— Да, если только это будет зависеть от меня. Что ж, это было действительно все, что он мог мне обещать, все, на что я могла рассчитывать.
Когда я вернулась в машину, Люба с Валерой о чем-то спорили, но при виде меня сразу же замолчали, только смотрели с нескрываемым любопытством, которое я не стала удовлетворять. Сами они ни о чем меня не спросили. Дорогой мы почти не разговаривали, мне было сейчас не до светских бесед, а они, глядя на меня, тоже притихли.
Дома я предложила им чаю, но они дружно отказались. Люба, улучив минуту, когда мы оказались с ней одни, спросила:
— Поговорить не хочешь? — И когда я отрицательно покачала головой, неуверенно добавила: — Надеюсь, что ничего плохого с тобой не случилось. Но ты стала какая-то другая, как будто незнакомая.
После их ухода я бесцельно бродила по квартире, не зная, чем заняться. Не только у Любы, но и у меня самой было такое ощущение, что я стала каким-то другим человеком и что это совсем не мой дом, очень хорошо знакомого мне человека, у которого я много раз была и все здесь знаю, но не мой. Зачем я уехала из Фирсановки, зачем? Мне хотелось только одного — развернуться и уехать назад, но было глупо уезжать ничего не предприняв, ничего не сделав, и я мысленно прикрикнула на себя, надо было срочно брать себя в руки. Господи! Сделай так, чтобы Володя дождался меня! Чтобы он жил как можно дольше!
Выпив для успокоения чаю, я наудачу позвонила в издательство и застала свою любимую редакторшу на месте. Она предложила мне завтра с утра приехать, добавив, что кое-что интересное есть. Оставался Саша, позвонить сама я ему не могла, просто не знала куда, значит, надо было ждать, но ожидание просто убивало меня. Быстренько я выскочила в магазин, купила самое необходимое и сразу же вернулась, чтобы сидеть у телефона и ждать звонка. Не знаю, но я отчего-то была уверена, что Саша должен почувствовать, что я вернулась. А если нет, если не почувствует? Может быть, он и думать обо мне забыл? Ну и черт тогда с ним! Нет звонка — нет встречи. Я совсем не уверена, что мне нужно с ним встречаться. Звонок раздался вечером, но не по телефону, звонили в дверь. Я решила, что это мой веселый сосед-алкоголик, наверняка видел, как я приехала, и разбежался стрельнуть денег на бутылку. Долги он никогда не отдает, но все же иногда я подбрасываю ему немного денег, поскольку от него бывает польза: то замок врежет, то упавшую вешалку прибьет. Но сейчас общаться с ним у меня не было никакого желания. Поэтому я тихонько, не зажигая света в прихожей, подошла к двери и заглянула в глазок. За дверью стоял отнюдь не сосед, а Саша. Я оцепенела, в голове быстрым хороводом замелькали противоречивые мысли. Ну надо же! И вправду почувствовал. Но что же мне теперь делать? Не открывать — уйдет и неизвестно когда позвонит по телефону. А я не могу долго ждать, у меня нет на это времени. У Володи его нет. Открыть? Но это опасно. Звонок выдал еще одну трель, и Саша собрался уходить. Я решительно протянула руку к замку и стала поворачивать собачку. Видимо, Саша услышал, так как остановился, обернулся и выжидательно посмотрел на дверь. От волнения дрожащие руки плохо слушались меня, и я судорожно повернула собачку не в ту сторону, не открыла замок, а, наоборот, закрыла еще больше. Стала поспешно поворачивать в другую сторону — и тут услышала хрустальный звон, совсем тихий, лишь на какое-то мгновение, но услышала. Я совсем растерялась, закрыла глаза и вспомнила, как Володя говорил мне, что отныне я буду слышать в этом звоне и его звук — звук его любви, вот это уж точно его звук! Саша, устав ждать, когда, наконец, откроется дверь, принялся опять давить на кнопку звонка и даже нетерпеливо барабанить в дверь, чувствовалось, что он сильно разнервничался. Тут открылась дверь квартиры напротив, и соседка, которую я недолюбливаю за излишнее любопытство, высунув голову, сказала:
— Евгения Михайловна приехала сегодня в обед, я слышала. Но довольно скоро ушла, вроде бы еще не вернулась, наверно, к дочери поехала.
Я сообразила, что соседка видела, как я побежала в магазин, но не видела, когда я вернулась. Я была готова расцеловать ее за весьма своевременное на этот раз вмешательство. Саша еще постоял некоторое время под дверью, но больше ничего не услышал, да и соседка настороженно смотрела на него, и ему ничего не оставалось, как уйти.
Сначала я очень долго не могла уснуть, а когда все-таки забылась, мне снились беспокойные, тревожные сны. Снилось, что я бегу на электричку, поскальзываюсь на льду, падаю, встаю, снова бегу и все-таки не успеваю. В последний момент электричка уходит из-под самого моего носа, а следующая пойдет очень не скоро, а мне куда-то срочно надо, я куда-то опаздываю. А тут еще оказывается, на мне нет юбки! Я понимаю, что все пропало, что никуда уже не успею, и меня охватывает дикий ужас. Неясно, куда и зачем я так тороплюсь, но ощущение ужаса и неотвратимости какой-то потери было столь сильно, что я с ним и проснулась. Полежала некоторое время, восстанавливая нормальное дыхание, вытерла холодный пот со лба и встала. Было еще только начало восьмого, но спать уже не имело смысла. Приняла душ, умылась, сварила себе кофе. Но и кофе не взбодрил меня. Я хотела включить магнитофон, чтобы попробовать поднять себе хоть немного настроение, но, перебрав несколько кассет и не остановившись ни на одной, махнула рукой на музыку. И слава богу! Буквально через пять минут в дверь позвонил Саша. Но сейчас я уже так не нервничала из-за него. Я теперь понимала, что он специально заехал пораньше перед работой, чтобы застать меня врасплох, авось я ему открою дверь. Но это было уже не важно, главное, что он теперь точно знает, что я вернулась, и, значит, позвонит по телефону. Я очень надеялась, что он позвонит мне с работы сразу же, как приедет туда, но звонка не было. Я выругалась себе под нос. А может, он занят?
Пора было ехать в издательство, отложить поездку не могла, сама же напросилась. Для быстроты поехала на такси, но не тут-то было, машина попала в пробку. Редактор встретила меня с улыбкой, стала расспрашивать о здоровье, о пребывании в больнице, но, заметив, что я буквально ерзаю от нетерпения, перешла к самой сути. Предложение действительно оказалось заманчивым, и в другое время я бы прыгала от радости. Необходимо было подписать договор с двумя авторами, неизвестно, сколько времени это займет, поэтому я подумала с минуту и отказалась. Редактор обиженно поджала губы и сказала, что никакой другой работы у них для меня нет и неизвестно, когда будет. Я понимала ее обиду: она припасла для любимой литобработчицы интересную работу, а я с ходу отказываюсь. Но поскольку на уме у меня были более важные вещи, то я только пожала плечами. Увидев, что и это не подействовало и я собираюсь в самом деле уходить, она предложила компромисс: они пока все обсудят с авторами, а я подключусь на последней стадии. Я задумалась.
— Сколько времени это займет? День, два? Больше двух дней я ждать не могу.
Брови редакторши поползли вверх: так я себя с ней никогда не вела. Но, посмотрев мне в глаза, она осторожно пошутила:
— Что, вопрос жизни и смерти?
— Да, и в гораздо большей степени, чем вы думаете.
— Хорошо. Два дня — обещаю. Все-таки эта рукопись словно для вас написана.
Дома я была в три часа. Пообедала, телефон молчал. Звонок раздался только в начале шестого, когда я уже решила, что по телефону Саша звонить не собирается, а собирается снова прийти сюда, и уж тогда я его точно впущу. Я больше не хотела, не могла ждать, время воровало мою любовь! Я сняла трубку, это был он. Несколько вежливых фраз для начала: о делах, о здоровье, голос его звучал как-то глухо, или я просто отвыкла? Потом он сказал, что сейчас ко мне подъедет, я категорически отказалась, он стал настаивать, угрожать — весь обычный его набор. Поскольку я держалась как оловянный солдатик, он предложил такой вариант: квартира его знакомых, и эти знакомые тоже там будут. И опять все пошло по кругу — мой отказ, его уговоры и угрозы. Потом он замолчал, устал, должно быть. После длительной паузы осведомился: каков же будет мой вариант? Я предложила ему завтра днем, в обеденное время, встретиться в каком-нибудь кафе, можно по его выбору. Он слегка засопел и недовольным голосом напомнил мне, чем закончилась наша встреча именно в кафе. Я молчала. Деться ему было некуда, и, поворчав еще немного, он все же согласился. Кафе он выбрал сам, я там никогда не была, но добираться до него было несложно, время тоже подходящее — час дня, так что никаких подвохов я не ждала. Уже попрощавшись с ним и положив трубку, я подумала, что стоит ли так трепать себе нервы из-за разговора, который, можно быть заранее в этом уверенной, ничего не даст? Лучше было бы и вовсе не встречаться, и не говорить с ним. Но потом, остыв немного, поняла, что это было бы не совсем справедливо по отношению к Саше, что ни говори, но есть и моя доля вины в том, что наши отношения зашли туда, куда совсем не должны были заходить. И хотя делить нам нечего, общего у нас ничего нет, даже воспоминания о произошедшем, я полагаю, у нас с ним разные, все же встретиться надо, чтобы поставить эту пресловутую точку над «i». И забыть, забыть о том, что мы были когда-то знакомы!
В кафе мы оказались единственными посетителями. Я даже головой повертела, чтобы убедиться в этом невероятном факте, но так и есть — только мы с Сашей. Какой-то мужчина в жутко грязном халате, который когда-то, возможно, был белым, поставил на стол перед нами две тарелки с рубленым бифштексом и жареной картошкой, две тарелки поменьше с капустным салатом и два стакана с чем-то, отдаленно напоминающим сок. Хлеба почему-то вообще не дал. Пока он получал от Саши деньги, платить надо было вперед, и, как мне показалось, немалую сумму, я все гадала: кем бы он мог быть — поваром, официантом или кассиром? Но кто бы он ни был, подучив деньги, таинственный мужчина тотчас же ушел в подсобку и плотно закрыл за собой дверь. Я огляделась — помещение донельзя запущенное и унылое, как Саша мог выбрать такой хлев, у меня просто в голове не укладывалось, мне назло, что ли? Не выдержав, я спросила у него:
— Почему здесь никого нет?
Не дождавшись ответа, я встала со стула, собираясь уйти. Не хватало мне еще тайн мадридского двора! Саша нехотя проговорил.
— Они завтра закрываются на ремонт и сегодня уже никого не обслуживают. Я снял помещение на час.
— Все равно не понимаю, почему тебе захотелось именно сюда? Это же сарай, хлев для скота. Неужели в другом месте было бы хуже?
Помня о наставлениях Володи, я старалась держать себя в руках, но вид этих унылых стен, заляпанного пола и липких столов поневоле вызывал во мне какую-то дрожь, и я говорила более эмоционально, чем следовало.
— Ты правда не понимаешь? Я хотел хоть немного побыть с тобой наедине, ведь другой возможности ты не даешь. Неужели ты не помнишь, как хорошо нам было вдвоем? Только ты и я… А теперь ты почему-то избегаешь меня. Боишься, да? Даже здесь.
— Нет, здесь я не боюсь, в случае чего сразу закричу и ударю тебя стулом по голове.
— Не верю, Женя, не верю! Ты не сможешь меня ударить. Кто угодно, но только не ты!
— Еще как смогу. Стыдно признаться, но если придется, то сделаю это с удовольствием. Но мы ведь не для того с тобой встретились, чтобы говорить о такой ерунде? Что ты хочешь, Саша? Что ты на самом деле от меня хочешь?!
Саша опустил глаза, подумал немного и вдруг занялся бифштексом. Ах, ну да, ведь у него же обед. Я не мешала ему, но сама есть не стала, эта еда вызывала у меня брезгливость. Попробовала отпить соку, но и он мне не понравился! Наконец Саша отодвинул от себя пустые тарелки, покосился на мои нетронутые, вздохнул, но ничего не сказал. Я сидела, от нечего делать вертела вилку в руках, терпеливо ждала. Саша откашлялся, я подняла на него глаза, и сердце мое немного екнуло. Занятая осмотром помещения и поражаясь необычности обстановки нашей встречи, я не разглядела его как следует. Сейчас дневной свет падал на его лицо, и было отчетливо видно, что он похудел, глаза запали, и вообще, выглядел Саша неважно. Ну уж в этом-то я точно не виновата, подумала я и, чтобы совсем подавить неуместное сейчас чувство жалости, спросила:
— Как поживает Таня?
— Таня?! — Казалось, что он безмерно удивлен моим простым и вполне естественным вопросом, но быстро справился с собой. — Хорошо. Впрочем, она уехала. Я отправил ее обратно в Ульяновск.
— Вот как? Отчего же, вы опять с ней поссорились? Саша недовольно нахмурил брови и сердито скривил рот.
— Да нет, с чего нам ссориться? Просто она ждет ребенка, а в таком состоянии мало хорошего мотаться по чужим квартирам, пусть сидит дома.
— У вас будет ребенок? Это здорово, я поздравляю тебя, а когда свадьба, теперь уж, наверно, скоро?
— Через две недели, но не здесь, конечно, там, в Ульяновске. Ну и довольно об этом. Я вообще не понимаю, почему тебя интересует Таня. Я совсем не собирался говорить с тобой о ней. Хочу поговорить совсем о другом: о тебе, о нас.
Я даже привскочила на стуле от удивления и негодования.
— Саша, что с тобой? О чем ты? Приди в себя, опомнись! Зачем я тебе теперь нужна? Ты скоро станешь мужем и отцом, у тебя красавица невеста. Что тебе еще надо?
— У тебя короткая память, Женя. Я уже говорил тебе, но повторю еще раз: мне нужна ты, и сейчас, и потом, всегда, целиком и полностью. Я женюсь, потому что все так делают — женятся, заводят детей, для жизни, для дела. Таня меня вполне устраивает, она красива, молода, здорова — значит, и ребенок будет здоров. У нее, конечно, есть недостатки, и не так уж мало, но я их знаю и вполне с ними справляюсь. В наши с тобой отношения она лезть не будет, я уже говорил с ней, и она мне это твердо обещала, для нее главное, что я женюсь на ней. Ведь не могла же ты, Женя, в самом деле рассчитывать, что я женюсь на тебе? Это просто нелепо. Ты совершенно не годишься для этого ни по возрасту, ни по характеру. Ты совсем другое дело. Ты часть моего «я» — без тебя мне плохо, я не могу полноценно работать, полноценно существовать. Ведь ты же не можешь не понимать, насколько это важно! Женя, ты умный, опытный человек, добрая, чуткая женщина и не должна из-за мелких недоразумений и обид, из-за женского самолюбия непоправимо испортить нашу жизнь.
Я слушала его и думала о том, насколько благотворна для меня встреча с Владимиром. Скажи все эти слова Саша мне в декабре, я ведь, скорее всего, согласилась бы, как выразился Володя, бросить жизнь к его ногам. Не думаю, что такую жизнь я бы смогла долго выдержать, но поначалу согласилась бы. И дело тут, конечно же, не в польщенном самолюбии, какое тут, к черту, самолюбие! Но мне бы показалось нужным, ценным, важным помочь человеку, поддержать его. А сейчас я думала, что он обращается ко мне так, словно я и не человек вовсе, со своими планами и желаниями, а некое вещество, пища, необходимая для поддержания его драгоценной жизни. Словно бутерброд какой-то! Он и собирался воспользоваться мной как бутербродом, смаковать по кусочку, пока не надоест, а потом выкинуть и забыть. Ведь он так уже сделал когда-то с той несчастной женщиной, которая содержала его, когда он учился, а сейчас и не вспоминает о ней, Какой-то пожиратель женщин. Я чувствовала, видела, что ему безразлично, что будет с моей жизнью, да и не только с моей. Как отразятся наши отношения на жизни и судьбе его жены и его будущего, еще не родившегося ребенка, ему тоже безразлично. Он и не думал об этом, все это было мелочью, важна была только его жизнь, его чувства и желания. Не знаю, мог ли помочь ему психоаналитик, я уж точно не могла. Почувствовав, что пауза затянулась, я очнулась от своих мыслей и сказала ему спокойно и серьезно:
— Саша! Я очень внимательно выслушала тебя. Я благодарна тебе, что ты так высоко меня ценишь, но твое предложение мне не подходит, совершенно не подходит. У меня совсем другие планы на собственную жизнь. Это мой окончательный ответ.
— Но ты же не можешь мне отказать. Не можешь! Как ты этого не понимаешь? Наши с тобой отношения зашли так далеко, что их нельзя прервать, нельзя закончить. Ты просто не имеешь морального права так поступить со мной.
— Могу и имею. Никаких, повторяю, никаких моральных обязательств у меня перед тобой нет и быть не может. Не знаю, что ты там навоображал себе, но я никогда тебе ничего не обещала. Ты просто жил у меня на квартире, и все. Да, мы переспали с тобой несколько раз, это было большой ошибкой, обоюдной ошибкой, не надо было этого делать.
Саша перебил меня, он весь побелел, губы его подергивались, на него было страшно смотреть. Да он совершенно болен! — подумала я.
— Ошибкой?! Ты… ты называешь наши отношения ошибкой? Кем нужно быть, чтобы так говорить?! Ты что, шлюха, которая трахнулась пару раз в свое удовольствие, а поманил ее новый кобель, и она к нему побежала?! Не пачкай наши отношения ложью! Тем более, что ничего изменить ты уже не можешь. Да, ты мне причинила сейчас сильную боль, ты оказалась куда низменнее и пошлее, чем я о тебе думал, но какая бы ты ни была — ты моя! Ты принадлежишь мне, и с этим фактом ты ничего не можешь сделать.
— Успокойся, Саша. Держи себя в руках. Нет никакого факта, есть только твое желание продолжать нашу связь, но это не факт. Твои желания для меня не закон, и я никогда не принадлежала тебе и принадлежать не буду, да и вообще никому, поскольку я не вещь. И я не рабыня твоя. Хоть это ты способен понять? Я не рабыня, у меня есть свои желания и жизненные планы, которым я следую, а уж какие они — пошлые или нет, это никого не касается. Я согласилась сегодня встретиться с тобой только с единственной целью — сказать, чтобы ты немедленно прекратил меня преследовать, приходить, звонить. Живи своей жизнью, а я буду жить своей.
Я резко встала, но Саша вцепился в мою руку. Я хотела позвать на помощь, но он схватил меня другой рукой за горло, так что вместо крика получился какой-то сип. Ситуация оказалась критической. Вряд ли он мог задушить меня одной рукой, но это соображение как-то мало утешало. Я была во власти сумасшедшего, обезумевшего человека, мне было очень больно и страшно. Я стала задыхаться, в глазах потемнело. Опираясь на стол, я, видимо, конвульсивно задвигала свободной правой рукой, под пальцы что-то попалось — вилка! Сжав ее, я изо всех последних сил воткнула ее душителю в спину. Длинные стальные зубья легко проткнули одежду и вошли в тело — не глубоко, но, должно быть, ощутимо. Саша сразу выпустил меня, и я бросилась к выходу. Вспомнив, что он закрыт, устремилась к двери во внутренние помещения. Саша бросился за мной. Я едва успела закричать и изо всех сил толкнула стол, на котором стояли перевернутые вверх ножками стулья. На шум влетел тот мужчина, что подавал нам еду. За ним спешили молодой лохматый парень и краснощекая полная женщина.
Мужчины принялись оттаскивать и утихомиривать Сашу, а женщина подбежала ко мне и помогла собрать мои вещи. Ни на кого не глядя, даже не поблагодарив за помощь, я устремилась через подсобные помещения на улицу, одеваясь на ходу.
Дома немного пришла в себя, но безотчетный страх не давал покоя. Я боялась не Саши — почему-то была уверена, что никогда не встречусь с ним больше. Боль в горле, как ни странно, усилилась. Есть я ничего не могла, только выпила немного холодного чая.
Володе звонить не стала, не хотела пугать его своим хрипом. Совсем уже поздно вечером, чтобы хоть немного отвлечься, я совершенно бездумно смотрела телевизор, то и дело переключая каналы. Во время одного из таких переключений я вдруг услышала, что сегодня днем в кафе, которое только что закрылось на ремонт, ворвался какой-то молодой, весьма странный мужчина и неожиданно устроил драку с персоналом кафе. Пришлось вызывать милицию, но нападавший успел убежать. Хорошо, что ни слова не сказали обо мне, видно, персонал кафе не хотел обнародовать сделку с Сашей, и все происшествие изобразили как нелепый случай. Поистине в жизни от трагического до смешного всего один шаг. Еще я подумала, что случившееся должно хоть ненадолго остудить Сашин пыл. Он всегда так высоко ставил свою респектабельность, а тут вилка в спине, в милицию чуть не попал, какое уж там реноме!
На следующий день мне пришлось надевать свитер с высоким воротом, а под него я еще навертела шарф. «Если спросят, — думала я мрачно, — скажу, что горло болит». За ночь боль в горле немного утихла, но еще изрядно жгло и саднило, к тому же шея сильно распухла, а на коже отпечаталась почти вся пятерня. Я мысленно чертыхалась по адресу Саши и желала ему отнюдь не самых приятных вещей. Но что же делать, надо было ехать, и я поехала.
Редакторша, увидев мое укутанное горло и услышав хриплый шепот, обронила что-то о гриппе и тут же переключилась на дело, и немудрено. Я тоже сразу же забыла о горле, послушав словесные баталии ершистых авторов. После долгих и утомительных споров, когда я уже почти лишилась жалких остатков голоса, мы пришли к шаткому согласию, решили еще кое-что обдумать и подработать и через два-три дня снова встретиться для выработки окончательных вариантов. Авторы ушли, и только тут я опомнилась и спросила измученную редакторшу: почему только через два-три дня? Ведь можно было бы завтра, в крайнем случае послезавтра. Она устало объяснила, что один из авторов по какой-то важной причине не может и что тут она бессильна, сколько бы я ее ни упрекала. Но я вовсе не думала ее упрекать, да и вообще слушала не очень внимательно, потому что мне пришла в голову идея уехать сегодня же вечером в Фирсановку и пробыть там до встречи с авторами.
Мысль об этом принесла столько радости, что волна ее смыла все возможные сомнения. Прервав бедную редакторшу на полуслове, та бубнила что-то о разновариантности концовки второй сюжетной линии, я сказала, что позвоню ей послезавтра в первой половине дня и мы сможем договориться о дальнейших встречах, если эти молодые ершистики нас не подведут. Домой я просто летела, но поскольку начинался час пик, то приехала только в начале седьмого. Зато собралась всего за десять минут, еще столько же потратила, чтобы доложиться любимым родственникам, что меня не будет в Москве дня два-три, причем не стала объяснять, где же я это время буду. Катюшка заикнулась было об этом, но я сказала, что целую, и положила трубку, перезванивать она не стала. Когда я ракетой вылетела во двор, от нашего подъезда как раз собирался отъезжать один из соседей, недавно купивший роскошную иномарку и очень гордившийся ею. Я попросила его подвезти меня к вокзалу, парень согласился. Как ни странно, в пробку мы не попали, доехали быстро. Через пятнадцать минут, после того как вылезла из машины, я уже сидела в отъезжающей электричке. Нечасто мне так везет.
В заснеженной Фирсановке было тихо и малолюдно, возле станции еще попадались люди, но дальше улицы были совсем пустынные. Мела февральская поземка, сильный ветер дул в лицо, и я моментально окоченела, просто зуб на зуб не попадал. Когда повернула на свою улицу, ветер был уже со спины, и стало хоть немного легче. Наконец я добралась до Володиного дома, слава богу, в окнах горел неяркий свет. Поднялась на крыльцо и остановилась отдышаться, задохнулась от ветра и быстрой ходьбы. Стояла я, опираясь на дверь, и она подалась под моей рукой, была не закрыта, как и в день моего отъезда. Я вошла и тихо прикрыла дверь за собой. Разделась, предвкушая, как будет удивлен и обрадован Володя моим неожиданным и ранним приездом. Если спросит, почему не позвонила, скажу, что хотела сделать ему сюрприз, улыбалась я про себя. Из комнаты доносилась негромкая музыка, что-то очень приятное. Стала вешать свою дубленку на вешалку и тут увидела серую беличью шубку на вешалке. Ларисина! Взяв сумку, вошла в полуосвещенную комнату и остановилась в изумлении. Горел камин, и светилась настольная лампа. На диванчике сидела закутанная в плед Лариса. Володи поблизости не было. Увидев меня, Лариса сначала очень удивилась, потом скорчила гримаску, встала, подошла, придерживая плед, и вполголоса запела:
— Бедная, бедная старушка. Ты так долго ползла сюда по холоду, а зачем, кто тебя сюда звал? Уползай-ка назад, пока электрички ходят. И нечего на меня таращиться, все самое интересное ты уже пропустила. Не скрою, мы тут с Володечкой неплохо расслабились, очень ему понравилось со мной любовью заниматься. Потом тебя к слову вспомнили: ну и посмеялись же мы! А теперь собираемся повторить, и третий лишний нам ни к чему. Или хочешь свечку подержать?
Машинально я положила сумку на кресло. В голове от растерянности и пустоты аж звон стоял. Где же Володя, почему его не видно? Может быть, он заболел, поэтому Лариса и говорит так тихо? Я перевела взгляд на нее. Судя по виду, она рассвирепела: из глаз прямо искры сыпались.
— Что встала как истукан? Вали отсюда, говорю, пока я тебе последние волосенки не повыдирала!
Лариса, видимо, на самом деле думала, что после первых же ее слов я убегу, проливая горькие слезы. Когда же она увидела, что я продолжаю стоять и никуда не ухожу, то потеряла и без того небольшое самообладание и, подскочив ко мне, сильно толкнула руками в грудь, отчего я отлетела на метр и ударилась плечом о косяк двери. Плед упал на пол, и я увидела Ларисину короткую кружевную черную сорочку и черные же колготки. В этот момент в комнате появился Володя, держа на вытянутых руках что-то похожее на юбку. Судя по всему, эту злополучную юбку Володя только что застирал и прогладил горячим утюгом, чтобы подсушить. В голове у меня прояснилось: теперь я знала, на каком я свете. Трюк был очень старым, я много раз слышала о якобы испорченной одежде от ловких подруг. На лице Ларисы поочередно мелькнули растерянность, досада и злость. Но справилась с собой она и на этот раз быстро, видно, Володя ей в самом деле нравился, раз она так старалась. Заговорила она, как запела, нежным и сладким голоском:
— Не удивляйся, милый, это Евгения Михайловна заглянула к нам буквально на минутку, но ей некогда, и она уже уезжает.
С этими словами она подошла к нему и прижалась, глядя на меня с каким-то почти детским вызовом. Володя молчал, как вошел, так и не проронил ни звука, только смотрел, смотрел на меня не отрываясь, но выражение его глаз было непонятным для меня. Я тоже смотрела на него и тоже молчала, горло перехватило. Первой не выдержала этого напряженного молчания Лариса. Она перестала прижиматься так нарочито к Володе, чего он, по-моему, вовсе и не замечал, шагнула ко мне и почти прошипела мне в лицо:
— Ты уйдешь, наконец?!
Она даже замахнулась, но Володя перехватил ее руку.
— Да, ты прав, не стоит марать о нее руки, — отреагировала на это побледневшая, но все еще улыбающаяся Лариса, значит, решила идти до конца в своей глупой и безрассудной игре. Но мне сейчас было не до игр, я устала, переволновалась, у меня зверски болело горло и только что, по вине Ларисы, ушибленное плечо. Весь этот дешевый спектакль до чертиков надоел мне, и я устало сказала:
— Лариса, уймись, повыступала, и хватит, надень наконец свою юбку и иди домой, дома давно ждут, а здесь тебе делать совершенно нечего.
Лариса подбоченилась, сверкнула глазами и собралась пустить в меня залп очередных недобрых слов, но Володя опережающе повернулся к ней:
— В самом деле, даже если юбка и не совсем еще высохла, то ты все равно не замерзнешь, шуба у тебя теплая, да и идти недалеко. Иди, поздно уже, твоя мать наверняка волнуется.
Лариса схватила юбку, кое-как напялила ее, сейчас ей было не до аккуратности, и, еще раз остервенело сверкнув на меня глазами, но не посмев при Володе ничего сказать, ушла в прихожую одеваться. Против обыкновения Володя, всегда такой изысканно вежливый со своими гостями, не пошел ее провожать. Сегодня он смотрел на Ларису, только когда говорил с ней, и, сразу же забыв о ней, опять смотрел на меня каким-то непонятным взглядом. Громко хлопнула закрывшаяся дверь, я вздрогнула и подумала, что это прощальный Ларисин салют. Володю же стук двери словно пробудил от какого-то зачарованного сна. Он наконец подошел ко мне, провел рукой по моему лицу, но как-то неуверенно, словно был слепым и только таким образом мог удостовериться, что это тот, кто ему нужен. И вдруг резко, порывисто прижал меня к себе:
— Все-таки ты приехала, птичка Женя, все-таки ты приехала, я дождался тебя, видишь — я дождался, как и обещал.
Какая-то неимоверная усталость навалилась вдруг на меня, почему-то захотелось заплакать, даже закричать. Я осторожно высвободилась из Володиных объятий и села на стул, ноги не держали меня, и холод еще словно бродил по телу, хотя в комнате было тепло. Я зябко поежилась и попросила чаю. Чай был готов очень быстро, я выпила его и стала понемногу согреваться, но все еще дрожала, скорее всего, это была нервная дрожь. Володя хотел закутать мои ноги пледом, но я выхватила у него плед и бросила на пол, его брови поползли вверх.
— Лариса, — коротко пояснила я ему.
— Ну и что же, я дал ей этот плед просто прикрыться, пока застирывал юбку, признаться, не понимаю твоего отвращения.
— Конечно не понимаешь, ты же мужчина. А что она пролила себе на юбку, чай или кофе?
— Ни то ни другое, варенье.
— Бедная юбка. Это старый трюк.
— Конечно старый, а главное, что ты приехала вовремя и расстроила все ухищрения и козни Ларисы. — И он светло улыбнулся мне.
— А что было бы, если бы я не приехала так вовремя и не смогла бы расстроить ее козни?
Все-таки не смогла удержаться я от банальнейшего и глупого вопроса.
— Ничего бы не было. Женя, Женечка, неужели ты так плохо меня знаешь и так мало мне доверяешь, что тебе нужны объяснения и оправдания?
Мне стало стыдно, и я, прижавшись, пробормотала ему в плечо:
— Я так скучала без тебя, так скучала! А дела все не делались, но вот получилось окно в два дня, и я сразу приехала.
Он сидел рядом, обнимал меня, легонько гладил по спине. Я наконец поверила, что и в самом деле вернулась к нему, что он жив и любит меня. Сердце стало оттаивать, а я уже расслабилась и не сразу поняла его.
— Это грипп или ангина? — И он легко коснулся моей шеи, все еще обмотанной шарфом.
Я замялась и покраснела, как сказать ему правду, я не знала, но и солгать тоже была не в силах. С трудом преодолев замешательство, я наконец вымолвила:
— Прости, я нарушила свое обязательство и не позвонила после встречи с Сашей. Сначала я просто не знала, как тебе рассказать, а потом подумала, что раз все равно еду, то незачем звонить, все расскажу при встрече. Это не ангина, это Саша.
Лицо Володи как-то сразу застыло, стало строгим и немного отчужденным. Он отогнул воротник моего свитера и стал осторожно разматывать шарф. Потом внимательно рассмотрел шею, даже слегка ощупал ее и сказал:
— Болеть перестанет через день-два, а вот опухоль и особенно синяки некоторое время подержатся. Ну а теперь рассказывай.
И я рассказала ему во всех подробностях, включая сообщение по телевизору, старательно подчеркивая юмористическую сторону, пытаясь хоть немного вывести Володю из того непонятного, пугающего меня состояния, в которое он впал, как только услышал о Саше.
— Это моя вина, — наконец сказал он все еще отчужденно, глядя куда-то вдаль, словно там он видел Сашу и хотел испепелить его своим взглядом. — Я недооценил этого прохвоста, я полагал, что он больше держит себя в руках, не столь хитер и не столь безумен.
Володя погладил меня по голове, словно маленькую девочку, может быть, так он гладил когда-то свою дочь, и печально попросил:
— Прости меня, дурака старого. Это моя вина, и я понимаю, как тебе было больно и страшно. Зря я тебе посоветовал с ним встретиться, но теперь сожалеть об этом уже поздно.
С этими словами он обнял меня за плечи, а поскольку одно плечо у меня все еще ныло после удара о косяк, то я невольно поморщилась.
— Так! А это еще что?
Объяснять мне не хотелось, я благоразумно промолчала и стала гладить его лицо, шею, руки. Когда мы ложились в постель, я заметила, что он впервые не взял меня на руки. Ему очень нравилось самому укладывать меня в постель, это было что-то вроде игры, а теперь, наверное, уже не хватало на нее сил. Мне стало страшно, очень страшно! Но я отогнала все отрицательные чувства и мысли, в его присутствии я хотела ощущать только нежность, любовь и доверие. И, целуя его, я предложила пассивный секс для него, но, к смущению своему, к глупому смущению, говорила об этом сбивчиво, путано, впрочем, Володя и не дал мне досказать.
— Нет! — сказал он резко. — Нет, даже если это последний раз. — Потом добавил уже гораздо мягче: — Во всяком случае, если ты предложила это для меня, то нет, если хочешь этого для себя, то да, для тебя я готов на все, что только тебе угодно.
Потом он откинулся на подушки, тяжело, с трудом дыша. Таким обессиленным я его еще не видела, но сказать об этом не посмела, да и чем тут можно утешить? Только нежно гладила его плечо и руку, он сжал мои пальцы, но даже пожатие вышло слабым, и, словно это было последней каплей, он вдруг решился:
— Да, ты была права… — хотел еще что-то сказать, но помолчал, потом добавил уже тише: — А тебе не будет… не будет неприятно?
Я засмеялась и потерлась об него носом. Такой ответ его вполне устроил, и, видя, что он немного утешился, я решила продолжить эту тему и стала говорить о том, что секс совсем не обязателен для выражения любви, любовь и без него самодостаточна. Я сказала еще несколько фраз, подбирая подходящие слова, стараясь объяснить как можно лучше свою мысль и подчеркивая, что это относится в равной степени и ко мне, а не только к нему. Я поняла это совсем недавно, но не стала говорить Володе о том, что поняла это из недавних отношений с Сашей. Секс у нас с ним был горячим, куда уж горячее! А вот любви ни на грош. Так стоит ли непременно соединять эти понятия, как все обычно делают? Задумавшись, я не сразу заметила, что Володя давно молчит, я решила, что причинила ему боль своими неосторожными словами, и, приподнявшись, попыталась разглядеть в темноте его лицо. Это мне, конечно, не удалось, тогда я прижалась к нему и заговорила, чуть не плача и целуя его:
— Прости меня, мой хороший, прости! Я не хотела причинить тебе боль.
Володя сразу встрепенулся:
— Ну что ты, девочка моя, что ты! Успокойся, ты ничем не обидела меня, я просто задумался о том, что ты только что сказала, о справедливости, я бы даже сказал, о высшей справедливости твоих слов. Ты совершенно права — любовь самодостаточна. И наверно, даже в большей степени, чем мы способны пока понять. Когда люди станут более духовными, а я уверен, что это неизбежно произойдет, и не так уж долго этого ждать, по историческим меркам конечно, то секс останется только для продолжения рода. А та избыточная энергия, которая сейчас уходит в секс, будет уходить в творчество, то единственное качество, которое по-настоящему отличает нас от животных. Но знаешь, мне трудно это наглядно себе представить, во мне слишком много животного, грубого, я сейчас это отчетливо понял. Должно быть, смешно теперь, когда во мне и тела-то почти не осталось, так цепляться за его проявления. Мне, как говорится, о душе пора вовсю думать, и только о душе, а я все стараюсь выразить свою любовь к тебе как самец, прости уж меня, дурака, но я так привык, и мне уже поздно меняться. Простишь?
Меня так насмешило, что он назвал себя самцом, было настолько легче думать об этом, чем о том, что он тает на моих глазах, хотя я и не сомневалась, что таким образом он специально отвлекает меня от гнетущих мыслей и чувств. И я вовсю расхохоталась и не сразу смогла остановиться, совсем забыв о больном горле, за что сразу же поплатилась. От резкой боли в горле я закашлялась, от кашля болевой спазм стал еще более мучительным. Сопереживание моей боли смогло сделать с Володей то, что не смог даже секс, который считается чуть ли не самым сильным чувством на земле. На какое-то время к нему вернулись силы, он сел на постели, взял меня на руки и стал покачивать, похлопывая несильно по спине. Боль уже отпустила, а он все покачивал, все прижимал меня к себе, словно не в силах был отъединиться от меня, отторгнуть меня, словно, обнимая меня, он черпал во мне физические силы.
Потом он положил меня на кровать, все еще не размыкая объятий, и мы соединились с ним еще раз, так легко, без усилий, словно и не мы это делали. Я снова почувствовала себя рыбкой, плывущей в воде, пронизанной солнцем. Только теперь в этой воде я была уже не одна и поэтому могла, растворившись, объединиться не только с солнечным бликом и водой, но и другой рыбкой, оставаясь собой, не теряя своей индивидуальности. Прежде чем блаженство полностью овладело мной, я успела подумать: так вот он каким еще может быть — секс, эрос!
Я проснулась, когда только-только рассвело. Володя еще спал, дышал очень тихо, но ровно. Я вгляделась в его лицо — нет, глаза меня не обманывают, он и вправду стал более истонченным, почти прозрачным, в чем только душа держится — всплыло в голове старое выражение. Я знала, что спящих не следует пристально разглядывать, но не могла отвести глаз, не могла наглядеться, налюбоваться. Кто знает, сколько еще осталось сроку этой хрупкой клетке, ведь уже чувствовалось, что скоро-скоро птица-душа расправит доселе сложенные крылья и покинет ее! В висках у меня заломило, и я перевела дыхание, оказывается, я забыла дышать, пока смотрела на него. А я была просто уверена, что «не дыша» — это книжное, литературное выражение. Вот тебе и выражение! Володя, Володя, когда я нахожусь возле тебя, то каждый миг — это познание, открытие тебя, себя, мира. Словно почувствовав мои мысли, он открыл глаза, радостно, почти по-детски улыбнулся, потянулся ко мне, и мы опять слились, соединились, как-то незаметно, само собой, но опасливая мысль, что он может умереть от этого, во время этого, мысль, нагонявшая прежде столько страху на меня, уже не тревожила больше, она была пустой и уже не нужной.
А потом мы завтракали, и в первый раз завтрак у него готовила я, а он лежал, улыбался, сладко нежился в постели и о чем-то думал. А я в свою очередь думала, что с нас слетела чешуя условности, стало не важно, кто гость, кто хозяин, кто мужчина, кто женщина, были просто два любящих существа, и каждый делал что хотел и что мог.
Но чешуя слетела не вся, уж с меня-то точно. Я собралась пойти в магазин, купить свежих овощей и фруктов. Володя уже много лет был вегетарианцем и не ел ни мяса, ни рыбы. Он хотел дать мне денег, а я не хотела их брать, почему-то мне непременно хотелось все купить на свои деньги. Только я собралась серьезно сказать ему о том, что не собираюсь быть на его иждивении, даже рот для этого уже открыла, но посмотрела на его смеющееся лицо, моментально передумала и сказала другое:
— Володя, я дура! — Опустилась на колени перед креслом, в котором он сидел, и, уткнувшись подбородком ему в ноги, продолжила: — Но я ведь знаю, что ты меня и такую, глупую, любишь. Я стараюсь быть умнее, правда стараюсь, и у меня иногда получается, а когда получается плохо, то ты просто не обращай внимания на мои заскоки, ладно?
— Еще как буду обращать! Во-первых, я люблю тебя всю, а стало быть, и твои, как ты называешь, заскоки, даже их особенно, они у тебя очень милые и забавные. А во-вторых, это дает мне сознание своей значительности и глубокой мудрости, а это очень даже приятно.
Он тихо смеялся и перебирал мои волосы, а я, чтобы не засмеяться или не заплакать, не знаю, чего мне хотелось больше, совсем зарылась лицом в его колени. Я думала о том, как быстро он одной-двумя фразами снимает с меня ощущение неловкости, сознания своего промаха, при нем я не боюсь выглядеть глупой и беспомощной. Да и вообще, при нем, с ним я ничего не боюсь, ничего, кроме его скорой смерти.
В магазине совершенно неожиданно я столкнулась с Ларисой, она демонстративно отвернулась, но и выбирая продукты, я все равно чувствовала устремленный на меня ее враждебный, обжигающий взгляд. Я расплатилась в кассе, когда она еще что-то выбирала, и решила подождать ее на улице. Сначала я хотела вовсе не обращать на нее внимания, но уже когда расплачивалась, меня кольнула мысль, что раз она злится, то, значит, страдает, а я вполне в силах избавить ее хотя бы от части этих страданий. А уж сама она в них виновата или нет, судить об этом не мне, это дело не мое. Увидев меня на ступеньках магазина, Лариса заметно передернулась.
— Что, радуешься, старая вешалка? Но это еще не конец. Еще неизвестно, чья возьмет. Я так просто не сдамся!
Она хотела уйти, но я взяла ее за руку и не отпускала, пока она не перестала вырываться.
— К великому моему сожалению, это конец, Лариса. И чья возьмет, уже известно. Володя умирает, ему совсем немного осталось, может быть, несколько дней. Так не надо мучить его и себя. Тебе нужен молодой, полный сил мужчина, ты такого еще встретишь.
Глаза Ларисы, еще минуту назад излучавшие злобу, наполнились слезами.
— Но я… я не думала, он же еще молодой… не может этого быть! — На лице Ларисы появилось подозрение. — Я тебе не верю! Ты просто хочешь устранить меня с пути, потому что ты боишься. Он совсем и не умирает, зачем ему убирать, он еще молодой, ему чуть больше сорока.
— Бог с тобой, Лариса, такими вещами не шутят. Володе в январе было шестьдесят четыре года, и он уже давно болен, поэтому и живет здесь, а не в городе, он пенсионер. Ты же сама видишь, что он не работает.
Видимо, ей никогда не приходило в голову задаться вопросом: почему, собственно говоря, Володя не работает? И сейчас мои слова о том, что он пенсионер, убедили ее больше, чем что-то другое. На ее подвижном лице, на котором одна гамма чувств мгновенно сменяла другую, стала проступать мина обиженного, обманутого ребенка. Но я не стала ждать, когда она осмыслит то, что я ей сказала, мне было пора идти, меня ждал Володя.
Когда я вернулась, он спал в кресле, я прикрыла его пледом и стала хлопотать на кухне. Обед я приготовила довольно быстро, меню было простеньким. Тихонько напевая себе под нос, я накрывала на стол, как вдруг меня обожгла страшная мысль, я все бросила и побежала в комнату, наклонилась над ним, ловя его дыхание. Сначала в панике мне показалось, что он не дышит, но он дышал, почти беззвучно, и открыл глаза, когда я уже распрямлялась успокоенная. Увидев, что он проснулся, я уже готова была солгать, чтобы только не признаваться, зачем я склонилась над ним, но этого не понадобилось. Он, конечно же, все сразу понял, улыбнулся ободряюще, он еще меня и ободрял, и сказал:
— Нет, еще нет. Не думаю, что это случится при тебе. Во всяком случае, я бы очень не хотел этого.
Это рассердило меня, и я заметила недовольным тоном:
— Вот как?! Тогда я вообще никуда не уеду. Так и знай! Брошу работу и буду все время с тобой. Что ты тогда будешь делать, а?
От этих моих детских претензий во мне почему-то зародилась глупая, ни с чем не сообразная надежда.
— Если я все время буду с тобой, то тогда ты не уйдешь, ты же просто не сможешь уйти!
Выслушав мои бредни, Володя с ласковой усмешкой спросил меня:
— Это ты мне специально зубы заговариваешь, потому что не успела приготовить обед, да?
Вот и поговори с ним.
После обеда, который Володя преувеличенно нахваливал, чем заставил меня все-таки засмеяться, мы пошли гулять в лес. Я думала, что мы походим совсем чуть-чуть, но Володя на этот раз не казался уставшим, и мы прогуляли с ним больше часа. Ветер надраил мои щеки и нос докрасна, даже у Володи лицо, которое всегда было бледным, и то слегка порозовело. Выглядел он задумчивым, но легкая улыбка витала на его губах, значит, мысли его были приятными. Мои же мысли, естественно, все касались его, больше для меня сейчас никого не существовало, даже о своих родных и близких я не вспоминала, правда, может быть, оттого, что пока они вполне могли обойтись без меня. Не то что мы с Володей не могли обойтись друг без друга. По ассоциации я вспомнила роман Шарлотты Бронте «Джен Эйр», где героиня думает о возлюбленном, что он стал для нее всей Вселенной. В книге это звучало весьма возвышенно, а здесь, сейчас, рядом с задумчивым, притихшим Володей, вспоминая слова романа и следя за малейшими изменениями в выражении любимого лица, я подумала: как это, в сущности, немного — Вселенная.
На следующий день, сразу после завтрака, я, как и обещала, позвонила в издательство, лелея надежду, что встреча еще не может состояться, и чувствуя полную невозможность уехать сейчас отсюда. Про себя я твердо решила, что в противном случае я просто-напросто откажусь от этой работы, невзирая на то что Володя будет слышать разговор, ведь за эту работу я еще не принималась, а стало быть, имею полное моральное право от нее отказаться. Редактор была на месте, но чувствовала себя, если судить по голосу, неловко, что-то там опять не вытанцовывалось, не клеилось, причем неувязки явно затягивались. Бедняга принялась извиняться, но я быстренько прервала поток ее извинений заявлением, что все это мне только на руку. И пока ошеломленная редакторша решала, хорошо это или плохо, я выдвинула встречное предложение — раз уж так получается, то не лучше ли будет смириться с обстоятельствами, подождать и вернуться к этому разговору через неделю, а еще лучше — через две? После минутного колебания редактор нашла, что это действительно более разумно, чем уговаривать капризных авторов, пусть пока поварятся в собственном соку, а там будет видно, может, станут сговорчивее. Под конец разговора я заверила, что непременно позвоню ей через полторы-две недели, и мы расстались взаимно довольные друг другом. Я была настолько счастлива, что светилась не хуже электрической лампочки. Володя посмеивался и всячески вышучивал меня, говорил, что я просто ленюсь и не хочу работать, но, по-моему, он был доволен еще больше, чем я. Звонки своим я отложила до вечера, не хотела портить себе настроение, да и решила запастись сначала терпением, предвидела, что оно мне может понадобиться, и оно понадобилось. И Катюшка, и Любаша изрядно потерзали меня вопросами: где я нахожусь, одна или нет, и что я вообще там делаю? Держалась я как партизанка на допросе, и они, бедные мои, были вынуждены отступить, так и не удовлетворив своего любопытства. Володя поинтересовался, с чего это я им морочу голову, не проще ли сказать им так, как есть? Но я и ему выдала ответ, содержащий минимум информации:
— А не все же им голову мне морочить. — Мне даже самой понравился такой мой залихватский ответ.
Володя спрятал улыбку и в комическом ужасе завертел головой:
— Ой-ой-ой! Кажется, птичка Женя изображает из себя опытную интриганку? Ну все, разбегайтесь кто куда!
Несколько дней пролетели как мгновение, никогда еще время не летело так быстро, и в то же время каждая прожитая минута была весомой, полнокровной, каждый миг казался часом или даже годом. А ведь ничем особенным мы не были заняты: просто ели, гуляли, спали, разговаривали ни о чем и в то же время обо всем. Казалось бы, пустяки, но это со стороны, а нам все представлялось значительным, важным, да и было таким. Володя радостно удивлял меня. К нему вернулись силы, он дольше гулял, громче и охотнее смеялся, даже ел немного больше, вообще он был малоежкой. Но особенно этот его прилив сил я ощущала ночью! Это вызывало во мне некоторые опасения, я не выдержала и спросила его:
— Володя, а тебе не кажется, что ты чересчур активен в постели? Может быть, не стоит тратить на это столько сил и лучше поберечь себя?
Ответ я получила дерзкий, можно сказать, фанфаронский:
— Ты, кажется, что-то говорила о пассивном сексе? Ну что ж, я не против, давай добавим и его, так сказать, до кучи.
Чувствовалось, он очень рад, что я никуда не еду, что все время здесь, возле него, занята исключительно им и думаю только о нем.
— Вот видишь, какой я эгоист! — радостно признавался он мне.
Я улыбнулась. Да уж, он эгоист! Если бы все были такими эгоистами, то на нашей бедной земле давно воцарился бы рай.
Видеть его радостным — это лучший подарок, какой могла преподнести мне жизнь, и все было бы прекрасно, если бы не одно но. Когда по утрам, на рассвете, я просыпалась и вглядывалась в него спящего, я не видела в нем никакого улучшения — прозрачное, даже скорее призрачное лицо. И каждое утро я заново испытывала чудовищную боль. Я перестала молиться, то есть перестала делать это так конкретно, как раньше, теперь я только повторяла про себя: «Господи! Господи!»
Седьмое марта… Я не слишком удачно родилась, под женский день, и из-за этого мой собственный праздник оказывался смазанным или даже забытым — практически всегда, но только не в этот раз. Для Володи сейчас не существовало женского праздника, потому что теперь для него не существовало никаких других женщин, кроме меня. И стало быть, оба дня принадлежали целиком и полностью мне. Совершенно роскошное ощущение, которое я испытывала в первый и, скорее всего, в последний раз! Еще накануне, шестого, Володя звонил куда-то по телефону, вел какие-то таинственные переговоры, предварительно выставив меня на кухню. Он звонил после завтрака, а вечером вдруг собрался и куда-то ушел. Я сильно беспокоилась, но возражать не посмела, ведь это означало бы лишний раз намекнуть на его слабость и болезнь, а я не хотела доставить ему ни малейшей горечи, пусть уж лучше я поволнуюсь немного. Он отсутствовал около часа и вернулся усталый, но довольный. Я слышала, как он возится на терраске, но не стала выглядывать, чтобы не испортить его предстоящие сюрпризы. Но после своего таинственного похода Володя устал настолько, что уснул сразу же после ужина. Правда, после полуночи, я еще не спала, он проснулся уже немного бодрее, сон освежил его, стал ласкать меня и, по его собственному выражению, наверстал все сразу. Разглядывая его, как и всегда, на рассвете, я подметила, что он не просто прозрачно-бледный, а какой-то серый, и я поняла: скоро. Но спал он так спокойно, так безмятежно, что и я уснула. Когда я проснулась, было почему-то плохо видно, лицо было в чем-то влажном, и одуряюше пахло розовым маслом. Оказывается, я уткнулась лицом в букет нежно-розовых роз, который лежал на моей подушке. Я повернула голову, ожидая увидеть рядом Володю, но вместо него увидела еще один букет роз, только белых. Его отсутствие обеспокоило меня, но он тут же вошел, неся мне завтрак на подносе. Я никогда не ем в постели, о чем уже говорила ему, но он так старался сделать мне приятное, что, видимо, забыл об этом, значит, надо забыть и мне. Но оказалось, завтрак в постель — это еще не все задуманное: он принялся сам кормить меня, причем с такой уморительно важной физиономией, что, вместо того чтобы есть, я то и дело смеялась, даже устала от смеха! А когда отсмеялась и вытерла выступившие слезы, то обнаружила, что уже одиннадцать часов, ну и спала же я сегодня! На прогулку мы с ним собирались так долго, что вышли только в час дня. Гуляли немало, светило солнце, пичуги оживленно щебетали, чирикали и пересвистывались на все голоса.
— Это в твою честь! — уверял меня Володя. Встретили Ксюшу с Рексом и немного поиграли с ними. Вернее, в основном играла-то я, а Володя только смотрел на нас и смеялся.
— Ты гораздо больше похожа на девочку, чем Ксюша. Правда, правда, и, знаешь, она куда серьезнее, чем ты, — нашептал он мне на ухо, а потом, улучив момент и, вероятно, оглянувшись по сторонам, поцеловал меня. Поцелуй получился совсем коротким, крохотным, но все равно Ксюша успела его углядеть, дети такие глазастые.
— А я видела, а я видела!
Она запрыгала и захлопала в ладоши от радости, что ей удалось увидеть столь занимательный момент. Рекс же в это время носился вокруг нас как сумасшедший и оглушительно лаял.
— Но вы не бойтесь, я никому не скажу, — добавила Ксюша весьма покровительственным тоном, и в этот момент действительно казалась старше меня. Мы переглянулись с Володей и дружно прыснули. В общем, прогулка удалась на славу.
Когда вернулись домой, я заметила, что Володя украдкой поглядывает на часы. Я всполошилась и уверила его, что сейчас же начну готовить и скоро обед будет на столе. Но тут Володя состроил преувеличенно важную мину и изрек капризным тоном:
— Ну уж нет, еще чего! С самого утра я сегодня только и делаю, что выполняю все твои желания, а теперь наступила моя очередь, теперь ты будешь выполнять мои!
От его заявления я даже рот открыла в изумлении:
— Это какие же мои желания, интересно мне знать, ты выполняешь?!
— То есть как это какие? Мадам, вы слишком забывчивы! А завтрак в постель, а кормление тебя с ложечки? Ты такая требовательная, такая капризная, ты меня просто загоняла, и я устал. Но зато теперь, повторяю, моя очередь капризничать.
Тон его был совершенно серьезным, но глаза все равно его выдавали, они смеялись.
— Ты диктатор и свирепый тиран, но я всего лишь слабая женщина, и поэтому я подчиняюсь. Чего изволит мой господин?
Стараясь не испортить игры, я опустила глаза и поклонилась. Моя восточная псевдопокорность пришлась ему по вкусу, он довольно весело фыркнул, но тут же спохватился, что выбивается из роли, напустил на себя свирепый вид и, вытянув перед собой руку, вперил в меня палец:
— Женщина! Место твое в спальне твоего господина! Там ты будешь лежать в одиночестве и размышлять о своем поведении. Без моего позволения ты не смеешь выходить оттуда! Я сам приду за тобой, когда будет срок. Я все сказал!
— А в туалет можно? — жалобно, стараясь при этом не прыснуть от смеха, попросилась я.
При моей просьбе Володя свел глаза к переносице, нахмурил брови и погрузился в размышления, сложив руки на животе и пошевеливая пальцами. Через минуту размышлений он вернул глаза на место и важно сказал:
— Можно, в виде исключения, но только быстро!
В спальне я сплоховала, легла отдохнуть на постель, думая, конечно же, о Володе: какой он замечательный, какой милый, как он старается устроить мне что-то необычное, и наверняка у него все отлично получится. И еще я думала о том, что я такая обыкновенная и ничем не заслужила такого счастья. От этих мыслей мне было так хорошо, я так разнежилась, что не заметила, как уснула. От сладкого сна меня пробудил еще более сладкий поцелуй Володи.
— Вставай, соня. Ты проспишь весь свой праздник, лежебока!
— Нет, свой праздник я не просплю, ведь мой праздник — это ты! — ответила я, обвивая его шею руками и возвращая поцелуй.
Он озабоченно посмотрел на часы и сказал:
— Сейчас без четверти пять, как ты считаешь, хватит тебе пятнадцати минут, чтобы одеться и привести себя в порядок? — И он показал рукой на кучу коробок разных цветов и размеров, сваленных в ногах кровати.
Я только собралась поблагодарить его за подарки, но он не дал мне такой возможности.
— Здесь все, моя сонная птичка, что тебе сейчас нужно. Пожалуйста, поторопись, ровно в пять я жду тебя внизу. — И он быстро вышел.
Времени он дал мне в обрез, и я засуетилась, душ принимала почти в пожарной спешке. Но вот я опять в спальне, конечно, мне не терпится поскорее открыть коробки. А это что в таком красивом пакете? О боже! Это было вечернее платье, но какое! Темно-темно-бордовое, почти черное, из какого-то непонятного переливчатого материала и сильно открытое. Вот черт! У меня лифчик к этому платью не подойдет, будут видны бретельки, разве только рискнуть без лифчика? Не знаю! Ладно, что там дальше? В широкой коробке я нашла французское белье, это была великолепная грация, и у меня сразу отлегло от души, проблема с лифчиком была разрешена. Ну, теперь быстро, быстро! Грация была мне в самый раз, изучил меня Володя, ничего не скажешь — прямо не Володя, а Ретт Батлер, да и только! Так, теперь платье, где же здесь «молния»?
Ага, вот она, голубушка! Я подошла к небольшому зеркалу и попыталась в нем разглядеть себя. Эх, мне бы сейчас мой трельяж сюда. Но ничего не поделаешь, это мужская спальня, хорошо, хоть такое зеркало есть. К моим темно-каштановым волосам цвет платья подходил как нельзя более, туфли к платью были на высоком тонком каблуке, из тисненой кожи бордового цвета. Обуваясь, я увидела, что на полу лежит небольшая бархатная коробка, видимо, я уронила ее в спешке, когда открывала другие коробки. Подняла, открыла — в коробке лежало аметистовое колье, дома у меня были аметисты, я их любила, но этим они и в подметки не годились. Камни были крупные, нежно-розового, теплого оттенка. Так, теперь я обута и одета, что дальше? Интересно, где моя сумочка, там у меня косметичка, необходимо подкраситься, а то без краски лицо бледное, невыразительное, а под такое платье можно и чуть-чуть поярче, поизысканнее. Так, ресницы в порядке, еще немного тронуть скулы, помада, пожалуй, все. Ну, я готова. Интересно, что он задумал, неужели кого-нибудь пригласил? Я ведь никого из его друзей и знакомых не знаю, он мне даже никогда о них не рассказывает, а вдруг я им не понравлюсь?
Вниз я спустилась с опозданием почти в десять минут, что и неудивительно, все-таки я женщина, а не пожарный! Не очень удобно я себя чувствовала на таких высоких каблуках, обычно я ношу пониже, но каблуки люблю. Платье было длинное и очень узкое, но движений не стесняло из-за большого разреза на боку, отсутствие бретелек на платье несколько выбивало из колеи, уж слишком обнаженной я сама себе казалась. Но, войдя в комнату, я обо всем этом забыла! Комната была освещена всем светом, какой только был, включая горящий камин, что оказалось очень кстати — в таком открытом платье я уже немного замерзла. Но помимо электричества и камина, горело еще множество свечей, отражаясь веселыми огоньками в хрустале и серебре по-королевски накрытого стола. Володя был во фраке, очень нарядный и торжественный. Но кроме Володи в комнате находилось еще трое незнакомых мне людей, двое мужчин и одна женщина, все в вечерних нарядах. Володя пошел мне навстречу, взял мою руку и поцеловал. И в этот момент зазвучали скрипки! Я не успела увидеть, любуясь Володей, как музыканты, а эти двое мужчин оказались музыкантами, подняли свои скрипки, и музыка ударила по натянутым нервам своей внезапностью. Володя подвел меня к столу, отодвинул стул, помог сесть, а сам остался стоять за моим стулом очень близко ко мне, его дыхание слегка шевелило мои волосы, И тут молодая женщина запела низким чувственным голосом на итальянском языке какую-то арию. Мелодия была незнакомая, впрочем, я не знаток музыки, однако чувствовалось, что это что-то старинное, не сегодняшнее. Во что бы то ни стало мне надо было удержаться от слез, хотя их тугой комок подкатил к самому горлу, я так не хотела портить слезами этот необыкновенный праздник. Я стала вслушиваться в музыку и в необычного тембра голос певицы. Очень сильный, глубокий и вместе с тем мягкий. Мало-помалу я стала различать в звуках страсть, борение, скорбь, и так было довольно долго, но вот стала прорываться радость, все чаще, и вот зазвенела победно, разлилась, заполнила собой весь мир.
Когда смолкли последние звуки, я встала и молча поклонилась артистам, говорить я не могла, горло было перехвачено, да и слов не было. Во мне все дрожало от пережитых чувств. Лучше этого подарка мне никогда в жизни не получить! Володя быстро разлил по красивым хрустальным фужерам настоящее французское шампанское, раздал всем и, повернувшись ко мне, сказал:
— За тебя!
— За вас! — мгновенно отозвались в тон ему музыканты и певица и, улыбнувшись мне, подняли свои фужеры.
Володя выпил первым и первым швырнул в камин свой бокал, за ним туда же бросили свои фужеры артисты, и последняя я. Володя предложил гостям закуску, весьма аппетитную и изысканную, но они торопились и, поклонившись мне, ушли. Володя пошел их провожать в прихожую. Когда он через пару минут вернулся, я взволнованно бросилась и прижалась к нему. Надо было поблагодарить, сказать, насколько я тронута его любовью, вниманием, безупречным вкусом и прочее в таком же духе. Но я могла только восклицать:
— Володя! Володя! — И это все, что я смогла сказать.
— Ну, ну, моя хорошая, моя любимая девочка, только, чур, не плакать. Ведь это твой праздник, он еще в самом разгаре. Сегодня тебе положено только смеяться. Только радость и смех, и ничего больше.
Я обещала ему не плакать и сдержала свое обещание. Я не плакала за столом, когда мы ели, не плакала, когда танцевали под старые, любимые нами обоими мелодии, тесно прижавшись друг к другу. Я не плакала, когда, погасив все огни, мы сидели обнявшись на диванчике и разговаривали, глядя на красные угли почти совсем прогоревшего камина. И потом, когда мы в постели любили друг друга нежно и страстно, до дрожи, до самозабвения, я тоже не плакала. Я не плакала весь этот сказочный вечер и не менее сказочную ночь. Но утром, когда он еще спал, я нарушила свое обещание и разревелась. Не смогла удержаться от слез и, глядя на его любимое, родное, но уже нездешнее лицо, я глотала слезы и, давясь ими, едва слышно шептала:
— Господи, почему? Ну почему, Господи?!
Десятого марта утром мне надо было ехать в Москву, по настоянию Володи я позвонила и договорилась с редактором. Мне совсем не хотелось звонить, я полагала, что еще пару деньков это дело подождет, но Володя был другого мнения. Я пробовала с ним спорить, говорила, что всю жизнь работаю и вполне могу позволить себе небольшой перерыв, тем более теперь, когда мне так хорошо с ним и нет никакого желания расставаться. Но на этот раз он был совсем несговорчивый, и даже мой шутливый упрек, что он хочет от меня избавиться, что я ему надоела, не помог, Володя даже не улыбнулся. Уперся как осел, что мне непременно надо ехать, — работа отвлечет меня от грустных мыслей, а он чувствует себя в последнее время вполне сносно. Действительно, все эти дни марта он был оживленный, деятельный и куда бодрее, чем в конце февраля. Я начинала верить в то, что у него ремиссия. В конце концов мы договорились с ним, что я вернусь через четыре, максимум пять дней. На прощание он очень долго и нежно целовал меня, а потом сунул мне в карман карточку с каким-то номером телефона.
— Что это за телефон, чей?
— Это тебе на всякий случай, если понадобится помощь.
— Какая помощь, по работе? — не поняла, а потому удивилась я, но он только улыбнулся и пожал плечами. — Дождись меня! Только дождись! — как и в прошлый раз, попросила я его и получила в ответ столь обжигающий поцелуй, что все грустные мысли вылетели из моей головы, я улыбнулась ему и побежала на электричку. Прежде чем свернуть за угол, я оглянулась: он стоял на крыльце без шапки. Было солнечное утро, косые лучи еще невысоко стоящего солнца освещали его, и он мне показался радостным, бодрым и почти здоровым.
Уже подъезжая к Москве, я вспомнила, что он так и не ответил ничего на мою просьбу дождаться меня, и настроение мое упало. Но, подумав еще немного, я пришла к оптимистическому выводу, что столь энергичный поцелуй в словесном оформлении не нуждается, поскольку служит более убедительным ответом, чем любые слова.
В Москве меня не было всего-то двенадцать дней, а как будто целую вечность. Снег уже везде подтаял и лежал по краям тротуаров грязными черно-бурыми кучками. Тем не менее весной в городе и не пахло, пахло выхлопными газами автомобилей на улицах, псиной от бомжей в переходах и метро, кошачьей мочой в подъездах домов. Люди кругом были дерганые, нервные, даже их улыбки, какие-то судорожные, больше напоминали оскал животного, чем улыбку человека. Раньше мне это как-то не бросалось в глаза, не замечала, что ли? Еще больше я утвердилась в своей мысли, встретившись в издательстве с авторами. Редактор встретила меня с завязанным горлом, красным распухшим носом и слезящимися глазами.
— Теперь у меня грипп, уже десять дней, и все никак не отцепится.
Я выдала ей пару расхожих, но верных советов, как отвадить эту хворобу. Вряд ли она слышала меня, чувствовалось, что состояние у нее хуже некуда. Началось обсуждение, но тут авторы из-за сущих пустяков сцепились между собой как два петуха, чуть ли не с первых же слов. Поскольку редакторша из-за гриппа пребывала в полусонно-обморочном состоянии, я взяла бразды правления в свои руки, мы пришли к приемлемому для всех решению. К консенсусу, как выразился один из уже умиротворенных авторов. Они оба вдруг, словно впервые увидели меня, наперебой ринулись делать мне комплименты, наверное, потому, что больше их делать было некому, редактор вследствие насморка и кашля в счет идти не могла. Ну, у этих молодых петушков теперь и в самом деле весна наступила, подумала я, а вслух сказала:
— Господа! Господа! Дело прежде всего, итак…
И мы договорились встретиться завтра с уже набросанными планами, но не здесь, а у меня на квартире, чтобы не напрягать бедного редактора и дать ей время подлечиться. За это удачное для нее предложение она мне благодарно и слабо улыбнулась.
Я еще успела в этот день купить кое-какие продукты, убраться в квартире, где за время моего отсутствия скопилось много пыли. И даже позвонила дочери и сестре. Разговоры с ними обеими были далеко не самыми приятными, как я, впрочем, и предполагала. Дочь обижалась, что я не поздравила ее с праздником, и сегодняшние запоздалые поздравления принимать отказывалась. Я стала спрашивать ее о муже и Мишутке, и она слегка оттаяла. Мне было на руку, что за своими обидами она не поинтересовалась, где я была, и даже не упомянула про мой день рождения, впрочем, про него все всегда забывали. Но вот казус: Любаша, напротив, только про мой день рождения и говорила. Она тоже была на меня в обиде, да еще какой!
— Сестра называется! Смоталась неизвестно куда. Я купила тебе подарок, звоню, звоню, а тебя нет. Где ты была? Тебе не кажется, что ты ведешь себя кое-как? — и т. д. и т. п. примерно минут на двадцать.
Любаша обижалась всегда очень эмоционально и громогласно, чувствовалось, что ей доставляет немалое удовольствие выкладывать свои обиды. Наконец, когда мне показалось, что ее раздражение начинает иссякать, удалось и мне вставить слово в разговор:
— Любаша, лапушка моя, я тебя очень люблю, хотя ты и шумишь чересчур уж много. Знаешь что, приезжай завтра ко мне вечером, посидим, отпразднуем задним числом праздник, и за рюмочкой я тебе расскажу, где я была все эти дни, а главное — с кем. От концовки моей фразы Любаша, что называется, выпала в осадок, по всей видимости, до этого момента ей и в голову не приходило, что я могла быть не одна. Прошло несколько секунд, прежде чем она начала говорить, да и то сначала раздалось какое-то бульканье, и только потом послышалась членораздельная речь.
— Подожди, подожди, подруга, как же это так? Я-то была в полной уверенности, что ты пребываешь в мерехлюндии, уединилась и работаешь дни напролет, а ты, хитрюга такая, и не работала вовсе, а романы крутила, вот это да! Вот это номер! Мне нравится это куда больше, чем всякие там твои бумажонки. Это по-моему! Слушай, а давай я сейчас приеду, а?
— Нет, лучше завтра, Любочка, завтра вечером, хорошо? Сегодня у меня была деловая встреча, довольно тяжелая и нудная, всю душу из меня вымотала, да и завтра днем тоже будет, так что мне надо как следует отдохнуть и набраться сил. Не будем все делать наспех, мы и завтра вечером обо всем успеем поговорить. Договорились?
— Ну, завтра так завтра, о чем разговор. Мне, между прочим, тоже есть о чем с тобой поговорить. Чао!
Авторы появились у меня с небольшим опозданием, но это все пустяки, главное, что они все-таки набросали вчерне то, о чем я их просила. Правда, между собой у них опять шли нестыковки, но я не стала эту тему даже затрагивать. Про себя я все уже продумала и решила, как связать между собой сюжетные хитросплетения и сгладить шероховатости. Наконец они ушли, на прощание я сказала, что увижусь с ними недельки через три, не раньше, уже в издательстве.
Проводив гостей, я отправилась в магазин, в основном затем, чтобы просто пройтись по воздуху, за городом я привыкла гулять, ну и купить все же нужно было кое-что. Вернувшись, приготовила картофельный салат со свежими огурцами и зеленью, лобио и сырные тосты, порезала лимон и выложила фрукты в вазу.
Любаша в квартиру не вошла, а влетела как ракета, с ходу вручила мне цветы и коробку пирожных. Раздевалась, напевая себе под нос что-то бравурное.
— Ого! Какая ты хорошенькая и нарядная, Любаша! Я очень рада тебя видеть, и еще более рада тому, что у тебя хорошее настроение, мне, признаться, вчера по телефону показалось, что твои новости отнюдь не из самых лучших. Проходи, Любочка, у меня все готово.
— Ты зришь в самый корень, так и есть, Женька. Так и есть. Валерка — подлец, меня бросил! А, каково?! И вышла я из дому смурнее некуда, но пока ехала, развеселилась, сама не знаю почему. Да, чуть не забыла, вот тебе подарочек, а бутылку не купила, ты уж извини.
— Садись, Любочка, садись и не волнуйся, все у меня есть.
Любаша оглядела стол придирчивым глазом, отметила сервировку, свечи, кивком одобрила приготовленные блюда и закуски, но что-то ее не устроило, и она спросила:
— Лобио, оливки, салат, фрукты, орешки там всякие — это хорошо, но я вот чего не понимаю, почему у тебя на столе нет ничего мясного, забыла, что ли?
— Нет, не забыла, но я теперь, Любаша, не ем мяса.
От моих слов Люба вытаращила на меня свои круглые глазищи и чуть не села мимо стула. Покрутила недоверчиво головой, вид у нее при этом стал весьма недовольный.
— Как это ты не ешь мяса? Ты же всегда его ела? И оно тебе очень даже нравилось, я прекрасно помню. И давно это с тобой приключилось?
Я только махнула рукой в ответ на ее слова и разлила коньяк по рюмкам. Сестра, увидев бутылку хорошего коньяка, про мясо сразу же забыла.
— За что пьем? — деловито поинтересовалась она, но тут же спохватилась: — Ах да! Что же это я? За тебя же пьем.
Я не возражала, и мы выпили. Налегая на закуску, Люба рассказывала о ссоре и расставании с Валерой, не скупясь на нелестные и хлесткие эпитеты по адресу бывшего жениха. Я ела, слушала и удивлялась — ведь по ее рассказу выходило, что это она его выгнала, а в самом начале встречи она сказала мне, что он ее бросил. Я попробовала внести ясность в этот запутанный вопрос, но Любаша искренне удивилась моему непониманию:
— Конечно, он меня бросил, я же тебе сразу сказала, что тут непонятного? То есть я его выгнала, конечно, но ведь он первый начал, ты ж посмотри, что этот паразит учудил, что он вытворил-то. Ведь сначала мы с ним только встречались. Я имею в виду, что он ко мне приходил, ну и ночевал иногда, конечно, но не жил. И все было чудесненько, так мне казалось. После новогодних праздников Валера ко мне переехал насовсем, то есть уже с вещами. И тут же стала вырисовываться такая оригинальная картина нашей семейной жизни. С работы он приходит когда захочет, может вовремя, а может и в двенадцать часов ночи заявиться, и тогда уже под хмельком, конечно. И что особенно интересно, где и с кем он бывает, мне не рассказывает и от вопросов моих отмахивается: с друзьями, мол, ты их не знаешь. А вот я отлучиться из дому никуда не могу, должна сидеть дома, приготовив ужин, и смотреть в окошко — не идет ли мой милый. И все это по той простой причине, что я женщина, ничего себе, а?! Навестила тут как-то своих стариков, святое ведь дело, правда, Жень? А он в этот день, ясное дело, заявился домой вовремя. Только я от своих вернулась, он мне и устроил! Ну нет, зря смеешься, посуду он не бил, да я бы его тут же на месте самого на части разбила, пусть бы только попробовал! Но это еще не все, это, Жень, только цветочки. Денег на хозяйство он мне не дает, продукты когда купит, а когда и нет, короче — норовит за мой счет проехаться. Ну, ты меня знаешь, на мне где сядешь, там же и слезешь. А чего, я что, должна кормить такого бугая, что ли? Да еще мамочка его все печенки мне проела, звонит по два раза на дню, как там ее драгоценный сыночек поживает? А тут он вообще на два дня куда-то запропал. Пришел потом как ни в чем не бывало и заявил мне, что был у друзей на даче, пиво, мол, пили, в бане парились. Это уже окончательно переполнило чашу моего терпения! Взяла да и выкинула все его паршивые шмотки на лестничную клетку, даже в чемодан не стала запихивать, кинула как были, вслед чемодан шваркнула, а там и его самого выпихнула, дверь захлопнула и задвижку задвинула. Небось на четвереньках ползал по всей лестничной площадке, тряпки свои собирал. Этого я, правда, не видела, но как он вовсю матерился, слышала. И поделом ему, ишь, думает, я вовсе дура какая, поверю в его враки про баню и дружков. Да эта же басня стара как мир. Не дружки, а подружка, это больше похоже на правду. Ну, думаю, молоденькую девочку себе отхватил, а мне мозги вкручивает. Что? Ты поверила, что он правду говорил? Эх ты, святая простота! Все, как я думала, так и было. Хотя нет, не все именно так. Через неделю после того, как я его выкинула, звонит мне его мамочка, а я еще не совсем остыла, и начинает с ходу на него жаловаться. Нет, ты прикинь только — мне на него! Действительно, нашел он себе бабу, но не девчонку-соплячку, как я думала, а даже постарше меня и страшную, как кикимора. Что — почему? Ну, тут все ясно как белый день, удивляться нечему. Баба крутая, денег у нее немерено, короче, банальнейшая ситуация. Ну и черт с ним, с этим Валерой, отделалась от него, и ладно.
Мы выпили, наконец, по второй, стали закусывать, и Люба мне сказала:
— Ну ладно, сестренка. Я тебе специально все сразу вывалила про этого хмыря Валерку, чтобы он уже больше не путался у нас под ногами. А теперь, Жень, давай рассказывай ты. Ты у нас женщина сугубо серьезная, не то что я, горемыка, и несерьезных романов у тебя вроде бы быть не должно. Но я очень надеюсь, что ты мне не про этого идиота Сашу собираешься рассказать, если все же про него, то можешь даже рта не открывать, я про этого ненормального больше ничего слышать не могу. А если ты опять с ним связалась, то, значит, и сама такая же ненормальная и, стало быть, вы два сапога пара.
— Да нет, какой Саша, при чем тут он? Да он, я думаю, после всего того, что было, ближе чем на пушечный выстрел ко мне и не подойдет. Дело совсем в другом, даже и не знаю, как тебе сказать. Понимаешь… — Но больше я ничего сказать не успела, поскольку нетерпеливая моя слушательница довольно бесцеремонно меня перебила:
— После чего это всего он не появится? Ты что, все-таки виделась с этим придурком?
Делать нечего, сгоряча сболтнула лишнее, теперь и в самом деле надо было рассказывать. Ну, я и рассказала ей со всеми подробностями про пустое кафе, и про вилку в спине, и про сообщение по телевизору. Любаша смеялась так, что я стала бояться, как бы ей не стало плохо. Отсмеявшись, что произошло не так скоро, она назвала меня лихой бабой и согласилась, что, скорее всего, Саша в моей жизни не появится больше никогда. Плеснув в рюмку коньяку и выпив еще немного, она вдруг спохватилась:
— Ах да, извини, сестренка, ты ведь что-то рассказать хотела.
— Прежде всего я хотела поблагодарить тебя, Любаша. Ты даже и представить себе не можешь, что ты для меня сделала! Ты… В общем, отправив меня в Фирсановку, ты сделала для меня такое, что я даже слов не могу найти, чтобы выразить тебе свою признательность и благодарность! Ты дала мне единственный и неповторимый шанс в жизни. Я… — На этом месте я запнулась, чувствуя, как огромный комок подкатил к горлу, и пытаясь его сглотнуть.
Любаша ошеломленно смотрела на меня во все глаза, не понимая, за что я ее так усиленно благодарю, но начиная подозревать, что за моими словами стоит что-то весьма непростое.
— Если бы не ты, то я не встретила бы лучшего в мире человека. Он такой… такой… — И тут я все-таки разревелась.
Столько дней я крепилась, не плакала, а тут мы выпили, я немного расслабилась, и из меня буквально хлынул поток слез, я давилась, захлебывалась ими, пыталась что-то сказать Любе и не могла. Кажется, сестра никогда не видела меня плачущей и в первый момент совершенно растерялась, но потом вскочила, чуть не опрокинув стол, и обняла меня. Я ручьем разливалась у нее на груди. Люба, видя, что меня прорвало, сунула мне под нос рюмку с коньяком. Я выпила и не сразу, но постепенно стала успокаиваться.
— Ну ты даешь! Ох и напугала ты меня! Ты же никогда не плачешь, ты ж у нас железная. Уф-ф! Ну ладно, насчет благодарности я поняла, значит, ты с ним в Фирсановке и познакомилась, но вот реветь ты завязывай, а то у меня никаких нервов на тебя не хватит.
— Ничего я и не железная вовсе, я часто плачу, просто ты не видела никогда моих слез. Ох, Люба, Люба, ты ничего не понимаешь, он же не просто человек какой-нибудь, он единственный для меня.
— Конечно, пока ты его любишь, он будет для тебя единственным. Так я не понимаю, он что, на тебя ноль внимания?
Я даже обиделась на Любины слова:
— Ну ты что, с ума сошла?! Он меня очень любит. Он знаешь какой мне день рождения устроил?! — И я подробно рассказала ей, как провела этот день.
Любаша даже крякнула от восхищения. Но потом похлопала глазами, подумала немного и вернулась к тому же вопросу:
— Так! Теперь я, кажется, и вовсе ничего не понимаю. Ты его любишь, он, судя по тому, что вытворяет, тебя просто обожает. Тогда о чем это ты тут плачешь?
— Люба, Любочка. — Тут я опять заплакала. — Он умирает, Люба! Ему совсем немного осталось!
Люба замерла. По опыту своей жизни и своих знакомых, где каких только коллизий ни случалось, она, казалось бы, привыкла ко многому, но вот со смертью возлюбленных встречаться ей не приходилось. Родители, да, умирали, но любимые нет, и ей трудно было как-то сразу понять до конца, вникнуть в смысл моих слов. Она еще задавала мне какие-то вопросы, я отвечала на них как могла, но чувствовалось, что слушает она рассеянно, о чем-то думает. Я понимала ее потрясение, действительно, перед всесокрушающим фактом смерти все остальное казалось просто пустяками. Выпив с ней целую бутылку коньяку, мы были совсем трезвые, в другое время от такого количества выпитого мы с ней, как говорится, лыка бы не вязали, а сейчас нас ничего не брало. Совершенно неожиданно для меня Люба вдруг тоже горько заплакала. Она плакала и терла глаза руками.
— Господи! Что же это за жизнь! Кругом одни крохоборы, так и норовят на шею сесть и последний рубль из дома вынести. В кои-то веки встретился хороший человек, настоящий мужчина, так и тот умирает! Ну где же справедливость? Что же нам делать, сестренка? Как жить теперь, а? Нет никакой жизни, хоть в монастырь подавайся!
В первый момент, как Люба заплакала, я было встревожилась за нее, вот, думаю, достали человека. Но потом вспомнила, что она и всегда-то была на слезы легка, а тут еще и коньяк сыграл свою роль. Так что ничего страшного, пусть немного поплачет, коли охота пришла. Глядя, как она разливается, я вдруг засмеялась, у меня у самой еще слезы не просохли, а я все смеялась. Увидев это, Люба страшно обиделась:
— Чего гогочешь-то? Как сама небось плакала только что, так я тебя утешала, жалела, а ты надо мной смеешься, сердца у тебя нет, сестра называется!
— Сердце у меня есть, но в монастырь тебе все равно еще рановато, Любочка. Еще погуляй в свое удовольствие. Ну, если только ты в мужской монастырь собралась, тогда иди, конечно.
Люба подняла голову, посмотрела на меня все еще с обидой во взоре, но потом, видимо, до нее дошел смысл моего незатейливого юмора, и она полезла ко мне целоваться с еще мокрыми от слез щеками. Потом мы сели пить кофе и говорили о ее родителях, моих детях. О Володе мне говорить больше не хотелось, а Люба тоже из тактичности о нем не заговаривала, хотя ей наверняка хотелось узнать побольше. Но думала я о нем беспрестанно, о чем бы ни шел разговор, а после ухода Любы тем более.
На следующий день, 12 марта, у меня было много мелкой суеты, боялась даже, что не смогу сделать все намеченное за один день, но я очень старалась и успела. Я хотела уехать завтра в Фирсановку, на два дня раньше, чем обещала Володе, и ради этого готова была горы свернуть. Домой я попала только вечером, усталая донельзя, но довольная тем, что никакие дела не будут тянуть за душу. Отдохнула, поела и решительно набрала номер Володиного сотового телефона. Сначала долго, очень долго слышались длинные гудки, я ждала, но вот мне показалось, что кто-то в телефоне проявился, но почему-то молчит, и я, не выдержав этого непонятного молчания, громко закричала:
— Володя, Володя, это ты?!
Я услышала чей-то легкий, но явственный вздох, потом вдруг какой-то стук, и пошли короткие гудки. Я стала убеждать себя, что его телефон отключен или же где-то далеко лежит и Володя не слышит звонков, а первый звонок, это был просто сбой на линии, так бывает. Так действительно бывает, но мне не удавалось успокоиться. В тот миг меня всю, с головы до ног, пронзила какая-то мощная, но короткая вибрация, словно некий сгусток энергии прошел сквозь меня, прокатился по позвоночному столбу, болезненно отозвался во всех нервных стволах и разветвлениях. Очень странное ощущение, ничего подобного я раньше не испытывала. Даже когда я легла спать, мне все еще казалось, что мой организм сотрясается от какой-то неведомой вибрации, но уже более легкой и тихой.
Уснуть я долго не могла. А когда заснула, то мне приснился Володя. Сон был такой ясный, отчетливый. Словно я нахожусь в его доме в Фирсановке, раздается звонок в дверь, я открываю и вижу, что на пороге стоит Володя, рядом с ним маленькая девочка, он держит ее за руку. Личика девочки не разглядеть, она опустила головку, видны только светлые, льняные волосы, заплетенные в две косички. У Володи лицо очень ясное, светлое, с отчетливым румянцем, и вообще, чувствуется, что со здоровьем у него все прекрасно. Я отчего-то немного смущена, но рада, что он пришел, приглашаю его войти, но он не входит, смотрит на меня не отрываясь и улыбается. А потом вдруг ни с того ни с сего говорит, чтобы я не боялась, что все будет хорошо. Я спрашиваю его: а ты? Он отвечает, что теперь он мне уже больше не нужен. Я удивляюсь, хочу сказать, что он мне всегда нужен, но тут девочка начинает тянуть его за руку, он поворачивается и уходит ни разу не оглянувшись, а я смотрю ему вслед. Потом каким-то образом я оказываюсь в его комнате, собираюсь работать на Володином компьютере, вдруг слышу звон хрустальных колокольчиков и улыбаюсь. С этой счастливой улыбкой на губах я и проснулась. Полежала немного, вспоминая сон и раздумывая над ним. В общем-то сон совсем неплохой, ничего вроде страшного, даже наоборот: и Володя улыбался, и колокольчики звенели, но все же какую-то щемяще-тревожную ноту он оставил. Ну, нечего валяться, я ведь сегодня еду. Я вскочила и стала собираться.
Настроение было великолепное, я, не стесняясь, пела вслух и думала только о том, что скоро увижу Володю, я уже заранее предвкушала счастье этих мгновений. В восемь часов утра я уже выскочила из дому и побежала на остановку. Но городской транспорт сегодня, видимо, решил испытывать мое терпение. Когда автобус наконец подошел, то, конечно же, влезть в него я не смогла, но не огорчилась, поскольку издалека показались усы троллейбуса. В троллейбус с большим трудом я все же попала, но рано радовалась, ибо через остановку он встал намертво. Я пересела в первый же подошедший автобус, только пошел он совсем к другой станции метро, а это втрое удлиняло путь. Я поняла, что мой девиз на сегодня: это терпение и еще раз терпение. Поэтому психовать не стала, пусть подольше, но ведь когда-нибудь он все же довезет меня?! А уж в метро я как-нибудь разберусь. Наконец я доехала, но этот автобус, в довершение ко всему, останавливался не у самого метро, надо было перейти на другую сторону широкой улицы, чтобы попасть в него. Я уж было собралась спуститься в переход, но увидела книжный киоск рядом с табачным и подошла к нему, чтобы купить что-нибудь для чтения в электричке. Отходя от киоска, столкнулась с каким-то мужчиной, который, видимо, только что отошел от табачного ларька и на ходу прикуривал. От столкновения, достаточно сильного, я выронила сумку, а мужчина — сигарету и зажигалку, мы оба нагнулись за своими вещами одновременно, хорошо, хоть лбами не стукнулись. Я собралась уже поделиться этой мыслью с незнакомцем и, подобрав свою сумку и распрямившись, повернулась к нему с улыбкой, которая сразу же погасла, ибо это был не незнакомец.
Зажав в руке зажигалку, на меня не мигая, пристально смотрел… Павел! Не может быть! Это немыслимо! Но это его серые, почти синие глаза, его резкая складка у рта, его насмешливый прищур с затаенной издевкой в глубине глаз. Я знала его так хорошо, что просто не могла ошибиться. Две мысли мелькнули у меня в голове одна за другой, и обе были нелепые: он хорошо выглядит для покойника! Это первая. А вторая: и за что только я его так долго любила? Я машинально качнула головой, пытаясь отмахнуться от обеих. Павел вдруг засмеялся, я сразу узнала его смех, и внутри у меня что-то дрогнуло. Смеясь, он взял меня за руку:
— Ты все та же. Узнаю свою милую женушку: в голове, как всегда, полно мыслей, и ты отгоняешь их, словно ос.
— Только две, — глухо хихикнула я.
— Ну и какие же?
Я почти с удовольствием озвучила ему обе, надеясь его смутить. Он рассмеялся коротко и отрывисто, оглянулся по сторонам и, взяв меня крепко под руку, куда-то повел.
— Куда ты меня тащишь? Отпусти, мне в метро надо. Да отпусти же!
— Ну вот, мы так долго с тобой не виделись, целую вечность, а ты норовишь тут же убежать, давай поговорим хоть немного. По-моему, у нас масса общих тем, вполне интересных к тому же. Ну, не упирайся же, как козочка.
— Ты прав, ты, конечно же, прав, нам есть о чем поговорить, но знаешь, давай в следующий раз, а? Сейчас мне совершенно некогда. Лучше когда-нибудь потом.
Его брови в удивлении полезли вверх, но он уже довел меня до какой-то машины и принялся чуть ли не насильно усаживать в нее.
— Ты что, с ума сошел? Павел, ты меня слышишь? Отпусти сейчас же! Мне сейчас не до тебя, я тороплюсь, мне нужно в метро.
— Ну хорошо, хорошо. Не голоси так, толпу соберешь. Разве ездить можно только на метро? Тем более если ты торопишься.
В самом деле, я и не сообразила сразу, зациклилась на этом метро, а ведь он вполне может меня подвезти. Я кивнула, соглашаясь, он вздохнул с облегчением и открыл мне дверцу машины. Сев в машину, я пристегнула ремень и сказала, куда мне нужно. Сначала ехали молча, меня опять одолели мысли о Володе, я все думала, как он там себя чувствует, сильно ли соскучился по мне и как будет рад, что я так быстро приехала. Но долго размышлять Павел мне не дал, его, видимо, раздражало мое молчание, и он, не выдержав, сказал:
— Женя! Это ты или другая, совсем чужая женщина? Ты так сильно изменилась, я не могу узнать тебя. Мало того что мы с тобой очень долго не виделись, между нами теперь обстоятельства по меньшей мере интригующие, а ты молчишь, ни о чем не спрашиваешь, одним словом, ведешь себя так, словно мы с тобой только вчера расстались. Я-то думал, ты меня при встрече засыплешь вопросами, а ты холодна, спокойна. Тебе все, как видно, безразлично?
Когда он перебил мои мысли о Володе, то сначала я почувствовала только глухое раздражение, но быстро опомнилась и задумалась над его словами. Где-то он прав, наша встреча действительно очень странная. Где он был все это немалое время? Скрывался? Но почему, что он сделал? Почему его имя связывают с бандитами? И кто был тот человек, которого похоронили под его именем? Вопросы эти были и правда интересные, даже интригующие, но для какого-нибудь другого времени, а сейчас меня целиком занимали мысли о Володе. А Павел, какие бы объяснения ни привел, как бы ни оправдывался, все равно уже прошлое. Прошлое, которое мне недосуг ворошить, тем более что дорога коротка, скоро приедем. Но раз уж мы с ним встретились, то уж один-то вопрос я ему все же задам.
— Лилька от тебя ждала ребенка?
— Помилуй, что значит ждала? Она что, еще не родила? Быть не может, так долго только слонихи носят.
— Не ерничай, пожалуйста! Родила, наверное, точно не знаю, мы рассорились. На твоих поминках, кстати. И я послала ее к черту, давно следовало, да все жалко было. Но все это так, ерунда. Ты лучше ответь на мой вопрос, не увиливай. Это твой ребенок?
— Да кто его знает?.. Лилька та еще штучка. Видишь ли, она спала еще с двумя, и никто из нас друг про друга не догадывался.
Вроде бы все это было в прошлом: измены Павла и Лильки, разговор с дочерью после похорон. Но все равно сердце сжалось. Еще какое-то ощущение стало томить меня и тревожить, но Павел не дал мне сосредоточиться:
— Как там дети поживают?
«Ну надо же, вспомнил-таки», — подумала я и стала подробно рассказывать про Катю с Олегом и Мишуткой, про Котьку с женой и их отъезд за границу, а он задавал все новые и новые вопросы. Я отвечала, по привычке радуясь, что он хотя бы немного интересуется своими детьми. Но внутренняя тревога все не отпускала, какое-то странно-тоскливое чувство не давало покоя. И тут я наконец глянула в окно — да мы ехали уже по окружной! Внутри меня вдруг образовалась гулкая пустота, еще что-то прозвенело и смолкло, словно это нерв во мне оборвался, не выдержав напряжения. Павел опять что-то спросил, но я его уже не слушала. Мне стал понятен его внезапно проявившийся интерес к детям и почему он без конца засыпает меня вопросами. А я-то, овца, еще радуюсь, что он о детях вспомнил.
— Почему мы так едем? — спросила я очень спокойно.
— А какая разница, как ехать? Все равно ведь приедем, или так уж сильно торопишься?
— Какая теперь разница? Ты затащил меня в машину и заговариваешь зубы не потому, что соскучился, верно? У тебя совсем другие планы насчет меня, не так ли? Ты же собираешься убить меня, как убил того человека, которого похоронили под твоим именем, так ведь?!
Павел вздрогнул и посмотрел на меня, но тотчас снова отвел взгляд на дорогу.
— Что ты несешь?! Кого я убил? Никого я не убивал и убивать не собираюсь, а уж меньше всего тебя. У тебя просто нервишки не в порядке. Подлечиться бы надо, седуксен попить.
— Что-то поздновато ты о моих нервишках стал беспокоиться!
В это время машина свернула, как мне показалось, в лес, и сердце сразу сжалось, но нет, это была дорога, через несколько минут мелькнул какой-то поселок, к сожалению, я не успела увидеть указатель с названием. Потом мы свернули еще на какую-то дорогу, еще поворот, и вот мы подъехали к большим черным металлическим воротам. Я встрепенулась, подумала, что Павел выйдет сейчас из машины, чтобы открыть ворота, а я выскочу и попробую убежать, шанс невелик, конечно, но не идти же добровольно на убой! Но видно, я совсем отстала от жизни, никуда он выходить не стал, а нажал на такое маленькое электронное устройство, и ворота открылись. Мы въехали на территорию чьей-то дачи, Павел вышел из машины и любезно предложил мне руку, открыв дверцу машины.
— При жизни ты был не столь воспитан, — съязвила я.
— Смерть — хороший учитель! — парировал он.
Внезапно я вспомнила о Володе, и меня даже затошнило при мысли о том, что вдруг он подумает, что я разлюбила его и не хочу видеть, раз не приехала. Нет! Он так не подумает, не может так обо мне думать, он знает, как я его люблю. Тут я вспомнила, как приехала к нему внезапно, а у него была Лариса без юбки, и как он мне сказал при этом, что мы не будем играть в эти глупые игры, подразумевая подозрения и оправдания. Вдруг Павел крикнул мне в самое ухо:
— Женя!
Я вздрогнула от неожиданности и сердито посмотрела на него:
— Что с тобой? Чего ты так орешь? Я не глухая.
— Ничего себе не глухая! Да я тебя уже третий раз спрашиваю: ты есть будешь?
— Почему есть? — растерялась я.
— А что же еще? Неужели ты в самом деле думала, что сейчас я буду тебя убивать? Слушай, ты какая-то странная. Женя! Да посмотри на меня. Слушай меня внимательно: глядя тебе в глаза, я твердо обещаю, что ничего плохого с тобой не случится! Ты меня слышишь? Ты понимаешь меня?
Он говорил со мной как с ребенком, даже вознамерился пощупать мне лоб, но я резко уклонилась.
— Ну хорошо, хорошо! Я поняла, оставь меня в покое! — И я готова была снова погрузиться в свои мысли, но тут же встрепенулась: — Слушай, Павел, отпусти меня, а? Ну на что я тебе? Ты же сам только что сказал, что не хочешь мне ничего плохого, вот и отпусти, сделай милость, мне сейчас совсем не до тебя.
— Да я уж вижу, — сквозь зубы процедил он, — но ума не приложу, что это на тебя накатило? Ты такой никогда не была, конечно, иногда ты была не совсем, я бы сказал, адекватна, но все в пределах нормы. У детей, судя по твоим же словам, все в порядке, тогда что с тобой, отчего ты как сумасшедшая курица топорщишь свои перышки?
Павел смотрел на меня пристально и недобро, а мне его слова напомнили слова Володи: он мне сказал тогда, что испытывает большое наслаждение, когда я возле него топорщу свои перышки. При этом нечаянном воспоминании дорогое и любимое лицо настолько ясно встало перед глазами, что я закрыла их, чтобы хоть ненадолго продлить ощущение его присутствия рядом со мной. Но Павел отнюдь не собирался вникать в мои переживания, мое поведение ему было непонятно и оттого страшно раздражало. Чтобы вывести меня из этого состояния, он схватил меня за плечи и встряхнул так, что голова моя резко мотнулась, я прикусила немного язык, и мне стало нехорошо. О господи! Да ведь это уже все было! Точно так же меня тряс Саша, и тогда я тоже прикусила язык, только сильнее. Я словно хожу по одному и тому же месту, может быть, это все не на самом деле, я просто сплю, мне снится страшный, глупый сон, ведь не может этот кошмар быть правдой?! Вот сейчас открою глаза: я в Фирсановке, рядом улыбающийся Володя, и все просто прекрасно. Увы! Открыв глаза, я увидела все того же Павла, который смотрел на меня не столько сердито, сколько недоуменно. Нет, к сожалению, все это происходит со мной наяву! Я отцепила руки Павла от своих плеч, отошла от него, села на стул и обвела глазами помещение. Комната большая, светлая, дорого, но как-то неуютно обставленная, хотя, может быть, в этом впечатлении виновата не обстановка, а мое теперешнее состояние.
— Павел, Павел, ну зачем я тебе нужна? У нас с тобой разная жизнь, разные пути, у тебя свой, у меня свой, ну отпусти меня. Клянусь, я никому не скажу, что ты жив, это ведь и не в моих интересах тоже. Ты ведь этого боишься? Так отпустишь?
— Нет!
— А когда?
— Что — когда? — Он опять начинал сердиться.
— Когда ты меня отпустишь, я же не могу быть тут вечно?
— А чем тебе здесь плохо? Оглянись кругом, посмотри повнимательнее: и дом вполне приличный, и мужчина рядом с тобой хоть куда. Лучше и не найдешь, ищи не ищи. Ну что тебе еще надо?
— Никак ты болен нарциссизмом? Уж очень сильно переоцениваешь себя.
— Ага! Вот оно, кажется, мы и до сути докопались. То-то я смотрю, ты какая-то чудная стала, а ты, значит, влюбилась. Ну-ну! Значит, я тебе больше не интересен, ты теперь витаешь в облаках на крылышках неземных страстей. Что ж, и на старуху бывает проруха. Да ведь только это ненадолго — все, рассеются твои красивые, романтические грезы, и останется тоска и грязь, а твой былой нежный возлюбленный вдруг окажется мелким таким сукиным сыном. Вот это я тебе могу совершенно точно предсказать. Твоя беда всегда была в том, что ты слишком все романтизируешь, а жизнь штука очень жесткая, серая и скучная.
— А ты?
— Что — я? — не понял и от этого слегка растерялся он.
— Ты сам разве не сукин сын? Ты что же, пай-мальчик?
— Нет, я далеко не пай-мальчик. Все мы — сукины сыны, но все-таки все разные. Так вот, чтоб ты знала, я не мелкий, по крайней мере. И что бы ты там обо мне ни думала, широкий жест мне не чужд.
— Ну вот и сделай широкий жест, отпусти меня.
— Однако ловко ты к этому подвела. Раньше ты была не способна так ловчить, кто же тебя так изменил, уж не новый ли возлюбленный?
— Значит, не отпускаешь? Вот как?! Ты что-то там о еде говорил, давай корми, пленников положено кормить, а я ведь у тебя в плену нахожусь, не так ли?
— Слушай, Жень, а мне твой теперешний характер больше нравится, с тобой стало интереснее, ей-богу. Раньше ты была изрядной овцой, как ни крути.
— Да? Значит, ты у нас молодец среди овец. Да и всегда таким был, только с бабами сражаться мастер.
Я и сама не ожидала, что смогу сказать ему такое, но вот в запале и выложила. Может, и зря, может, не стоит его особенно злить, кто его теперь знает? Он после моих слов пристально посмотрел на меня, усмехнулся и покрутил головой, откуда, мол, что берется! И пошел было на кухню, но на полдороге передумал, вернулся, подошел и стал меня раздевать, я ведь как приехала, так и сидела в куртке. Я хотела воспрепятствовать ему, но не тут-то было, силы наши явно не равны. Он вытряхнул меня из куртки, как котенка, бросил куртку на стул, туда же последовали мои вязаная шапочка с шарфом. Потом он сделал приглашающий, шутовской жест в сторону кухни.
— Ну уж нет! Готовить не буду, и не надейся. С меня вполне хватает того, что я твоя пленница. — Сказав это, я на какое-то мгновение почувствовала боевой задор.
— Не волнуйся, я не имел этого в виду. Готовить буду я, так и быть, а ты просто постоишь рядом, чтобы я не скучал. Пойдем, пойдем!
Делать нечего, я поплелась за ним. Кухня была большая, судя по обстановке, она использовалась и как столовая, везде чисто, грязной посуды и беспорядка не наблюдалось. Я задумалась, кто же здесь убирает, но потом мои мысли переключились на другое, более существенное. Из кухни был выход в сад, но дверь эта вряд ли открывалась. Все-таки я попробовала нажать на ручку, когда Павел стоял ко мне спиной и не видел, что я делаю, никаких результатов! Наконец он перестал сновать у плиты, я села за стол, а он стал раскладывать по тарелкам яичницу с ветчиной. Ну правильно, чего еще можно было от него ожидать? И я тут же решительно отодвинула от себя тарелку.
— Ну, только твоих детских капризов мне и не хватало! Что я еще мог приготовить за десять минут? Давай ешь, что дали.
— Я не ем мясо, — кротко пояснила я.
— Ну и где ты видишь мясо? Это всего лишь ветчина. Не хочешь, не ешь.
Я молчала. Он озадаченно посмотрел на меня и полез в холодильник, из недр которого вскоре донесся его голос:
— А рыбу ты ешь?
Я не стала вспоминать, ел ли Володя рыбу, а поднялась и тихо-тихо направилась к выходу. Может, пока Павел роется в холодильнике, я успею уйти?
— Далеко собралась? Дверь входная заперта, ключ у меня, ни одно окно не открывается. Ты напрасно держишь меня за идиота. Я тебя сюда привез, и только я тебя отсюда могу выпустить. Пока. Так что не дергайся понапрасну, садись на место и ешь, пока я добрый.
За стол я вернулась, но есть не стала, сидела, демонстративно от него отвернувшись.
— Женя! Ты лучше не зли меня, не надо. Ты ведь меня злым еще никогда не видела, и я тебе не советую!
— Да, а что будет? Какая мне разница, злой ты или добрый? Ты ведь зубы-то мне заговариваешь, а сам все равно рано или поздно убьешь меня, не будешь же ты держать меня здесь всю жизнь. Это, мягко говоря, глупо.
— Ну что ты заладила, как ярмарочный попугай: убьешь, убьешь! Я ведь обещал тебе уже, что ничего плохого с тобой не случится. Так что давай закроем эту тему.
— Грош цена твоим обещаниям! Да и что ты понимаешь в плохом и хорошем? Ты уже сделал мне плохо, и с каждым часом становится только хуже.
— Насколько я понимаю, ты торопилась на свидание, а я тебе помешал, вот ты и бесишься. Так, говоришь, становится все хуже? Тебе? Или предмету твоей любви? Если ему, то я рад, очень рад! Ого! Какой ненавистью полыхнули твои глаза! Вот уж не думал, что ты когда-нибудь сумеешь испытать это чувство. Должно быть, ты и вправду наткнулась на интересный экземпляр, раз из-за него научилась даже ненавидеть. Ты сейчас похожа на львицу, защищающую своего детеныша, ну просто очень интересно, и чем дальше, тем интереснее. Из-за одного этого стоило похитить тебя. Кстати, мне еще никогда не приходилось похищать женщин, это первый опыт такого рода. И должен тебе сказать, это довольно-таки волнующее ощущение, хотя ты всего-навсего бывшая жена, а не какая-нибудь юная красотка.
Он смотрел на меня с вызовом, но в глубине его глаз я увидела разгорающийся огонек, и это мне совсем не понравилось. Очередной раз прав Володя: ненависть ничего не решает, она способна скорее завести в тупик. Но вот последние слова Павла заронили во мне надежду — весьма призрачную, но все же попробовать надо.
— Послушай, Павел, ты ведь в тупике, привез меня сюда, а что дальше, и сам не знаешь. Так вот, чтобы разрешить этот вопрос, я предлагаю тебе обоюдовыгодную сделку: ты отпускаешь меня, а я знакомлю тебя с молодой и очень интересной женщиной, обещаю тебе. Я ведь, в отличие от тебя, свое слово всегда держу. Ну, идет?
Павел рассмеялся, но смех его был злой, и глаза холодно блестели.
— Драгоценная моя, тебе так хочется улизнуть, что ты совсем рехнулась. Да у меня этих красоток — пруд пруди, не знаю, куда и девать. Нашла чем соблазнить!
Я встала, отодвинула Павла от холодильника, открыла и, рассмотрев, что в нем имеется, достала оттуда сыр и яблоко. Порезала сыр, вымыла яблоко и стала невозмутимо есть, бросив Павлу:
— Чайник поставь!
Перекусив и даже выпив кофе с лимоном, который любезно предложил Павел, все-таки он еще помнил мои вкусы, я отправилась в комнату, вытащила из своей сумки журнал, который купила в злополучный момент встречи с Павлом, ах, если бы я тогда поехала другой дорогой, я бы уже давно была в Фирсановке! Уселась на диване и стала листать журнал, пыталась читать, но не смогла сосредоточиться ни на одной статье. Павел наблюдал за мной с одобрительной усмешкой, мое поведение хотя и несколько озадачивало его, но в принципе нравилось. Вдруг мне кое-что пришло на ум, и я резко подняла голову:
— Ну хорошо, отпустить ты меня не хочешь, но могу я хотя бы позвонить? Ведь это даже арестованным дозволяется.
— Нет, детка, не можешь. Неоткуда, да и было бы откуда, я бы не позволил тебе. Я ведь уже говорил и еще раз повторю: не держи меня за идиота. Обойдешься без телефона!
— Да ладно, что это с тобой? Чего ты так панически боишься? Не волнуйся, я не собираюсь звонить в милицию — я тоже не идиотка. Это вполне невинный звонок, просто хочу поинтересоваться здоровьем одного человека, если не доверяешь мне, можешь сам набрать номер. Ну же, я не верю, что у тебя нет сотового телефона.
Сотовый у него был, поколебавшись несколько мгновений и что-то взвесив про себя, он откуда-то принес телефон, может быть, из машины. Наверное, на него подействовали мои упреки в трусости и мой спокойный, уверенный тон. Но в руки он мне его не дал, ну и не надо, на это я и не рассчитывала. Я продиктовала ему номер Володиного сотового, он набрал и, слушая длинные гудки, спросил:
— Кто ответит?
Я сказала. Мне было все равно, лишь бы из телефона послышался голос Володи — больше мне в этот момент ничего не было нужно! Но никто не откликнулся! Это порождало самые черные мысли, я вспомнила свой вчерашний вечерний звонок. А что, если это все-таки Володя подходил к телефону, а потом ему стало плохо и он потерял сознание, вдруг я на самом деле слышала его вздох?! Ему плохо, он лежит беспомощный, а я сижу тут из-за амбиций этого сукиного сына! Но злостью делу не поможешь, что же делать, что делать?! И вдруг, как по наитию, я вспомнила — когда последний раз уезжала от Володи и прощалась с ним, он сунул мне в карман карточку с каким-то телефоном и сказал, что если мне понадобится помощь, то надо позвонить по этому номеру. Я тогда еще никак не могла понять, какого рода помощь мне может понадобиться. А вот понадобилась же, да еще как! Где же эта карточка? Куда я ее сунула? Неужели оставила в Москве, это было бы просто ужасно! И я бросилась к своей куртке, которая все еще валялась на стуле, куда ее швырнул Павел, и стала шарить по карманам трясущимися руками. Павел с большим интересом наблюдал за моими действиями. Карточка была на месте! Я поднесла ее поближе к лицу, ожидая увидеть мужское имя кого-либо из друзей Володи, но на карточке после цифр телефонов, а их было два, стояло — Наталья Николаевна. Секунду я таращила глаза на это имя, а потом подумала: а почему бы и нет?! Разве женщина не может быть другом? Еще как может! Да и вообще, кем бы она ни была, хоть бывшей любовницей, лишь бы дозвониться до нее и узнать, что с Володей, почему он не подходит к телефону? Я протянула руку за телефоном, но Павел не дал, конечно, а в свою очередь протянул руку за карточкой. Прочитав, он весело хмыкнул и отдал мне и карточку, и телефон. Мое невезение продолжалось, никто не отвечал ни по одному, ни по другому номеру, хотя я набирала каждый номер трижды. Я спрятала карточку в сумку и отдала Павлу телефон. Мрачное оцепенение накрыло меня с головой. Из этого состояния меня вывел неугомонный Павел:
— Вот видишь, твой распрекрасный возлюбленный где-нибудь крутит любовь с этой Натальей, это же ясно как белый день. Я ведь уже говорил тебе, что мы все сукины сыны. И вообще, в этом мире никто не заслуживает преданности: ни мужчины, ни тем более женщины, все хороши. Одна ты, как была дурочкой, так дурочкой и осталась. Ты еще заплачь мне тут, это будет так трогательно! Глядишь, и меня проймет так, что я заплачу за компанию с тобой, обнимемся и будем реветь.
Я только отрицательно покачала головой, чтобы он от меня отстал. Но ему вовсе не хотелось молчать, и он продолжал теребить меня, мое горе очень раздражало его.
— Он тебе изменяет, а ты вместо того, чтобы сидеть как в воду опущенная, возьми да и отплати ему той же монетой. Уверяю, это очень действенное средство: клин клином вышибают.
Я посмотрела на него, вздохнула и горько улыбнулась:
— Эх, Павел, Павел, ни черта-то ты не понимаешь! Если бы! Если бы он изменил мне, я была бы просто счастлива. Все, что угодно! Но только бы знать наверняка, что он жив, что с ним ничего не случилось.
Павел недоверчиво посмотрел на меня. Убедившись, что я не шучу, резко встал, пнул ногой стул и стал ходить кругами по комнате, насвистывая какой-то мотив. Я смотрела в окно: там сгущались тучи, уже начинал падать редкий снежок. Пометавшись так продолжительное время, Павел подошел ко мне, присел на корточки и, глядя в глаза, отчеканил:
— Эти сказки ты можешь вкручивать кому угодно, только не мне. Я воробей стреляный. Я не верю и не поверю никогда в совершенную любовь. В этой жизни каждый за себя — и это нормально. А если ты действительно испытываешь то, что говорила, тебе пора показаться психиатру — это болезнь.
— Конечно болезнь. Да не волнуйся ты так. Если нормален ты, то я точно сумасшедшая. При желании можно найти любое оправдание, вот и ты считаешь, что вся та низость, что ты вытворяешь, — норма. А любовь, сострадание, дружба — болезнь. Каждый выбирает сам.
— Смотри-ка, все по полочкам разложила! Вот только зубки не надо мне показывать! Не забывай, я могу сделать с тобой все, что захочу.
— Ты мужчина сильный, и тебе со мной справиться — раз плюнуть. Только вот мало чести.
Вечер прошел в гробовом молчании. От ужина я хотела отказаться, но Павел опять начал злиться. Я мудро решила не раздражать его по пустякам, даже предложила приготовить что-нибудь. Он отказался, поджарил картошки с грибами для меня, а себе кусок курицы. К ужину он достал бутылку немецкого белого вина.
— Знаю я, помню еще. Ты любишь коньяк и грузинское сухое красное. Но, во-первых, наша встреча была незапланированной, поэтому коньяком я не запасся. Во-вторых, Грузия уже который год чудит, выделку вин почти совсем забросила, а то, что продается в магазинах, сплошь подделки.
— Извинения приняты.
Павел улыбнулся, хотел что-то сказать, но махнул рукой. Он выпил водки, я — вина. Разговорчивее мы не стали. Потом Павел сварил кофе, причем по какому-то особому рецепту: долго колдовал. Я хотела напомнить, что не пью кофе на ночь, но передумала.
Самое удивительное, что очень скоро я захотела спать. Объявив об этом Павлу, я сразу же решительно расставила все по местам, сообщив, что мы ляжем в разных комнатах. Услышав заявление, Павел засмеялся:
— А если я не соглашусь? Ведь хозяин здесь я, а ты даже не гостья, а пленница.
— Я ничего не могу противопоставить твоей силе, у меня нет никакого оружия. Но хочу, чтобы ты знал — ты мне омерзителен!
Я зевнула и, не дожидаясь его реакции, повернулась и вышла. О спальне на втором этаже я уже знала, поэтому сразу же направилась туда. Подперла дверь стулом, не бог весть какая защита, но ничего другого под рукой не было.
Павел меня не преследовал. Глаза у меня буквально слипались. То ли это была нервная реакция, то ли он что-то подсыпал в кофе, но я даже раздеться толком не смогла.
Утром долго не могла понять, где нахожусь. Какая-то незнакомая комната и постель, сплю я почему-то в белье и колготках, что такое? Память возвращалась очень медленно, мозг работал вяло. Наконец я все вспомнила. С трудом встала, собрала разбросанные как попало свои вещи, оделась. Руки едва шевелились, да и вообще я была как осенняя муха. Внезапно раздался резкий стук в дверь, и голос Павла велел мне немедленно спуститься. Пришлось идти на кухню, впрочем, там довольно аппетитно пахло. Усевшись за стол, я немедленно предалась размышлению: до чего же человек подлец, и, в частности, я. С ума схожу от беспокойства за Володю, но аппетита, однако, не теряю. Я облокотилась о стол и положила голову на руку.
— О чем закручинилась? — спросил Павел, ставя передо мной тарелку сырных тостов.
— О том, куда ты подсыпал мне отраву: в кофе или в вино?
Он весело рассмеялся:
— Что, голова ватная? Ничего, после кофе полегчает.
— Кофе? Наверное, опять с отравой?
— У тебя прямо-таки навязчивые идеи. Обычное снотворное; я же сказал, что тебе ничего не угрожает. Простая мера предосторожности. И потом, разве тебе есть на что обижаться? Ты сладко спала двенадцать часов подряд.
Я посмотрела на часы: без четверти одиннадцать! Судя по всему, Павел давно позавтракал. После двух чашек довольно крепкого кофе мне стало значительно лучше, паутина в голове растаяла, движения обрели привычную уверенность. Я решила опять позвонить. У Володи по-прежнему никто не отвечал, и я позвонила Наталье Николаевне. По первому номеру тоже никто не отвечал, а вот по второму трубку сняли, но Натальи Николаевны на месте не оказалось. Это была явно какая-то контора, и я поинтересовалась, когда ее можно будет застать. От ответа у меня подкосились ноги.
— Точно сказать не можем. Видите ли, у нее умер близкий друг…
Дама еще что-то говорила, но я уже не слушала, выпустив трубку из рук. Машинально села, мне хотелось немедленно умереть. В голове беспрестанно вертелась только последняя фраза — умер близкий друг, у нее умер близкий друг. Наверное, я повторяла это вслух, потому что откуда-то издалека, почти с другой планеты, донесся голос Павла:
— Мало ли у человека друзей?
«Он что, утешает меня?» — мелькнула в голове мысль и пропала. Следующие два-три часа я не помню, полный провал, хотя ощущения, что я теряла сознание, не было. Пришла в себя почему-то на полу, я лежала на боку, поджав ноги, в позе эмбриона. Почувствовала, как затекли ноги и спина, но распрямляться не хотелось, в этой позе было легче. Наконец я села на полу и обвела глазами комнату. Павел сидел на диване. Встретившись со мной взглядом, он с каким-то демонстративным отвращением отвернулся, вид при этом у него был обиженный. Я встала, ноги держали плохо, пошатываясь, словно пьяная, я потащилась на кухню и принялась шарить по шкафам, выбрасывая все на пол. Но того, что мне так было необходимо, не попадалось. На шум, который я устроила, прибежал Павел, с трудом оттащил меня от шкафа и стал сильно трясти:
— Что ты ищешь, ненормальная?
— Дай мне, где это у тебя? Дай!
Внезапно Павел решил сменить тактику, пригладил мне волосы, провел рукой по щеке:
— Скажи, что ты хочешь? Я дам тебе, только скажи.
— Где отрава?
— Снотворное? — Он облегченно вздохнул. — Подожди, сейчас найду, ты все тут раскидала.
— Не нужно мне твое снотворное, сам пей! Яд где? Или пистолет? Есть у тебя пистолет? Какой же ты бандит без пистолета?!
Он опять встряхнул меня, а потом несколько минут что-то втолковывал, крепко, до боли сжимая мои предплечья. Я тупо слушала, но почему-то не поняла ни слова. Я стала вырываться, но он не отпускал, и тогда я завыла! Сама не знаю, как это у меня получилось, но получилось громко и хорошо. Только Павлу не понравилось, он вздрогнул, отпустил меня и тут же влепил мне пощечину, одну, другую. Было так больно, что я заплакала навзрыд. Этот злыдень обрадовался и сказал:
— Наконец-то!
Меня это обидело, и я стала плакать еще сильнее, потому что хотелось умереть, а у меня не получалось. Стоять было невыносимо, и я сползла по холодильнику на пол, где опять попробовала свернуться калачиком, но на этот раз у меня не получилось. Павел взял меня на руки и куда-то понес. Я обрадовалась, что теперь он меня точно убьет. Но убивать он меня не стал, а внес в комнату и положил на диван. Тут появилась какая-то женщина и стала что-то громко у него спрашивать, Павел отвечал, но я уже совсем ничего не понимала. Вскоре я осталась одна, совсем одна, только я и тишина. Я лежала очень долго: день, неделю, год. Века проходили один за другим, а я все лежала. Я была мертвая, а потому бессмертная, ведь умереть могут только живые, а я была мертвой и холодной, потому что умер Володя — солнце моей жизни, а без него мне оставалось только бессмертие: холодное, пустое и бессмысленное.
Рядом со мной зазвучали голоса, я подняла глаза: около меня стояли мужчина и женщина. Про мужчину я знала, что мы знакомы, но не помнила ни кто он, ни как его зовут, но почему-то он мне был неприятен. Женщину я видела впервые. Она заговорила:
— Ты уверен, что она не сошла с ума? У нее взгляд совершенно бессмысленный. Слушай, а что, если дать ей водки? Точно, Павел, налей ей целый стакан и заставь все выпить, если она не тронулась, это поможет.
Слова были знакомые, но смысла их я не понимала, однако мне нравилось, как она говорит и хлопочет возле меня. Помогла мне сесть, подложила под спину подушку. Я хотела ей сказать, что все бесполезно, Володя умер и все уже ни к чему, но побоялась, что она огорчится, а мне этого совсем не хотелось, она была такая красивая. Вдруг мужчина протянул мне полный стакан с водой, но я не хотела пить и отвернулась. Он начал что-то громко говорить, кажется, сердился на меня. Но красавица не позволила ему ругаться, она взяла у него из рук стакан и поднесла его к моему рту. Я видела, что она так и не поняла, что я мертвая, и сказала ей об этом, хотя опять испугалась, что ее это огорчит. Но она совсем не огорчилась, только тряхнула головой и сказала мне: «Да, да», — опять протянула стакан, и, чтобы не рассердить ее, я выпила. Вода была холодная и невкусная.
Потом я опять лежала на диване, и время опять летело надо мной, но теперь это было еще более неприятно. Вскоре вернулась женщина и остановила время. Я захотела поблагодарить ее за это, с трудом вспомнила нужное слово и очень этому обрадовалась:
— Спасибо, спасибо!
Женщина тоже очень обрадовалась, улыбнулась мне и повернулась к мужчине:
— Ну вот видишь. Я была права, ей уже гораздо лучше. Теперь надо отвезти ее домой, говори адрес, я сама поеду, пока ты раскачаешься, сто лет пройдет. И пожалуйста, не спорь, ничего не случится. Ты просто сдрейфил, признайся. Сделал из мухи слона, эх ты, рохля! А я говорю, что все будет нормально. Или ты собираешься держать ее тут до бесконечности? Нет? Ну, слава богу! Да не вспомнит она ничего, а и вспомнит, куда с этим пойдет? Зачем ей вообще это нужно? Судя по тому, что лепечет эта идиотка, ей своих проблем хватает. Все, я везу ее.
Она повернулась ко мне и, кажется, что-то спросила, я не расслышала, я рассматривала узор на ее кофточке. Тогда она повторила очень медленно:
— Хочешь домой? Я отвезу тебя домой, хочешь? Опять слова знакомые, а вот что они значат, я не помнила, но поняла, что она мне что-то предлагает, заботится обо мне, но у меня не было слов, чтобы ответить ей, а мне так хотелось! Но тут, к счастью, я вспомнила, что она мне говорила, когда давала воду, и пробубнила:
— Да, да! — Потом, подумав немного, добавила: — Спасибо!
Что было потом, не помню, все было как-то смутно и нехорошо. Я вроде бы спала и в то же время куда-то двигалась или даже летела. У меня кружилась голова, и немного тошнило, наверное, я все-таки летела, так всегда со мной бывает в самолете. Вдруг я оказалась в какой-то другой комнате, и комната эта была мне странно знакома. Женщина была рядом и зачем-то стала укладывать меня, я удивилась, но послушно улеглась. Женщина повернулась, чтобы уйти, но мне было хорошо, когда она рядом, я попыталась остановить ее, схватив за рукав. Но женщине это совсем не понравилось, она что-то сказала резко и коротко, почему-то больше она не хотела быть мягкой и вежливой. Такая, злая, она мне не нравилась, и я не стала держать ее больше, раз все уходят, значит, так надо. Пусть я останусь одна, пусть!
Я проснулась утром в своей квартире, но почему-то не в спальне, а в гостиной на диване, одетая, только туфли стояли рядом с диваном на полу. Меня поразило, что это были не тапочки, а именно туфли. Что же это значит? Неужели я вчера напилась до такой степени, что даже не смогла дойти до своей комнаты и завалилась одетой?! Но по какому это случаю я так напилась и с кем? Не могла же я, в самом деле, пить одна? Почему я совсем ничего не помню? Было у меня смутное, неопределенное ощущение, что случилось что-то страшное, но сколько я ни понукала свой мозг, так и не смогла ничего вспомнить. Может, это похмельный синдром вызывает во мне чувство тревоги, а на самом деле все в порядке? Да, но тогда почему нет ни головокружения, ни тошноты? И вообще, чувствую я себя более-менее нормально, только слабость небольшая, и все. Ничего не понимаю! Я встала, пошла в ванную, приняла контрастный душ, потом сварила крепкий кофе и выпила его. Тревожное чувство никуда не делось, оно по-прежнему точило меня изнутри, но теперь к нему добавились кое-какие крайне неприятные штрихи. Я не помнила, какой сегодня день, не помнила, что было вчера. Кажется, у меня в памяти образовалась дыра! Наконец, после долгих и мучительных усилий, от которых я даже вспотела, я вспомнила, что одиннадцатого встречалась с авторами. Так что, выходит, сегодня 12 марта? Интересно, почему я легла в гостиной? Нет, мне точно надо выпить еще кофе, тогда, может, и память вернется. Но оказалось, что кофе кончился, да и хлеба тоже не было. На всякий случай я заглянула в холодильник, он оказался пустой, это меня уже не очень удивило. Потом я заметила, что он вообще отключен. Так! Я что, собиралась куда-то уезжать, поэтому отключила холодильник? Подняла голову и посмотрела на антресоли, чемодан преспокойно лежал на месте, значит, уезжать я никуда не собиралась. Нет, все, ничего больше вспоминать не буду. Пойду-ка лучше куплю кофе и еще каких-нибудь продуктов, что-то есть хочется.
Выйдя из магазина, я купила свежую газету и поднялась к себе. Заморив червячка и выпив еще чашку кофе, развернула газету, решив хоть немного отвлечься от своих непонятностей. Машинально посмотрела на число, и газета задрожала у меня в руках. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» — стукнуло у меня в голове. В газете жирным черным шрифтом было обозначено число — 15 марта. Эта скромненькая дата означала, что из моей памяти, из моей дырявой головы каким-то непостижимым образом улетучились целых три дня. Значит, все-таки что-то случилось, причем такое, что у меня память отшибло. Холодок страха пополз по моей спине. Спокойно! Только не волноваться, постепенно все встанет на свои места. Я ведь обычный человек, и со мной ничего чрезвычайного случиться не могло, какая-нибудь банальная причина типа гриппа или сотрясения мозга, но я все вспомню, я обязательно вспомню. Вдруг мне пришло в голову, что Любаша может знать о том, что со мной приключилось. Может, мы были с ней вместе? Сейчас позвоню ей, она посмеется надо мной, обзовет забывчивой тетерей, и все встанет на свои места. Я подошла к телефону и протянула руку, но тут же отдернула ее. Это было нелепо, но звонить я не хотела, более того, я боялась звонить. Было такое ощущение, словно внутренний, глубинный человек во мне знал что-то очень страшное, ужасное и не хотел, чтобы внешний человек узнал об этом. Но ведь надо же что-то делать, не могу же я так жить, ничего не помня. Опять протянула руку к телефону и опять отдернула ее, даже отошла от аппарата подальше. С полчаса я ходила вокруг телефона, как кот вокруг аквариума с рыбками, и когда, вконец измучившись собственной нерешительностью, со злостью повернулась к нему спиной, он вдруг сам зазвонил. Звонок грянул по натянутым нервам как набат. Не позволяя себе ни о чем думать, я быстро схватила трубку. Голос был совершенно незнакомым.
— Евгения Михайловна? Как вы себя чувствуете?
— Спасибо, хорошо. А с кем я, простите, разговариваю?
— Как бы вам сказать? Вы вряд ли знаете, как меня зовут, мы так с вами и не познакомились. Вы помните, что было вчера?
Вот они, последствия амнезии, что же мне теперь делать, в голове ведь совершеннейшая пустота? А, будь что будет, но я скажу правду.
— Мне как-то неловко в этом признаваться. Но по неизвестной мне причине у меня провал в памяти, и я совсем не помню три последних дня. А вы… простите, не знаю, как вас называть, вы не подскажете, что со мной произошло?
Женщина, видимо отвернувшись от телефона, сказала не мне, а еще кому-то, потому что голос ее звучал глухо:
— Да успокойся ты, она совершенно ничего не помнит, так что все о’кей! — И моя собеседница повесила трубку.
Я обалдела. По-другому и не скажешь. Я переживаю, волнуюсь, а какие-то незнакомые люди боятся, что я что-то помню. Ничего себе! Может быть, со мной что-то сделали, провели какой-нибудь эксперимент? От такой неожиданной догадки мне стало более чем нехорошо, но я преодолела свой ужас и взяла себя в руки: ну что еще за глупости, кому я нужна. Нет, теперь-то уж точно позвоню Любаше, надоело бояться неизвестно чего. И я решительно протянула руку к телефону. Но когда я уже коснулась трубки, опять раздался звонок. Я подпрыгнула от неожиданности и быстро сняла трубку, если это опять та женщина, то я попытаюсь узнать у нее хоть что-нибудь. Голос опять был женский, и опять незнакомый, но совсем другой:
— Евгения Михайловна? Здравствуйте, вы меня не знаете, меня зовут Наталья Николаевна, я вам звонила вчера, но, к сожалению, не застала вас, а автоответчика у вас нет.
При этом имени что-то больно сжалось у меня в сердце, но знакомых с таким именем-отчеством у меня не было. Странно, кто бы это мог быть? Тем не менее я отозвалась:
— Здравствуйте, я вас внимательно слушаю.
— Извините, что приношу вам плохие новости. Мужайтесь, Евгения Михайловна. По моему предисловию вы уже, наверное, поняли, что Володя ушел от нас, умер!
Я еще успела удивиться, хотела сказать, что она, очевидно, ошиблась, я не знаю никакого Володю, но уже что-то темное, страшное вырвалось из меня, словно я вдруг вывернулась наизнанку, звериной стороной наружу. Комнату потряс вопль, вырвавшийся из моей глотки, но это не мог быть человеческий крик, никакой человек не в состоянии издавать такие звуки! Это настолько испугало меня, что мой же испуг помог мне справиться и загнать вырвавшегося зверя назад в клетку.
— Простите! — сказала я в трубку. — Я позвоню вам позже.
Я говорила сдавленно, каким-то чужим, ненатуральным голосом, но это уже была вполне человеческая речь. На том конце провода пробормотали что-то сочувственное и отключились. Я стала ходить по комнате и коридору. Странно, но никакого горя я не испытывала, только чувство неловкости, стесненности и надоедливое мельтешение одних и тех же фраз в голове. Я все убыстряла и убыстряла шаги, кружила по квартире, как спятивший автомат, словно собиралась убежать от самой себя, от того ужасного, что на меня свалилось. В голове жужжало одно и то же: «Вот так вот, взял и умер! Умер! Умер! Вот так вот!» И мое кружение по квартире, и жужжание слов были безостановочны. Мое подсознание забило тревогу, надо остановиться, так нельзя! Я кружила все быстрее и быстрее, я уже не могла остановиться. Интересно, что будет, если я не остановлюсь? Кажется, я сойду с ума, а может быть, уже сошла? И я хихикнула. Но тут где-то позади зазвучали хрустальные колокольчики, я, продолжая двигаться, непроизвольно оглянулась и тут же с разгона ударилась о косяк двери. Удар был таким, что я разбила себе голову и сползла на пол. Кровь из раны чуть выше виска поползла тонкой струйкой по лицу и шее. Я испытала облегчение, пусть удар, пусть боль и кровь, но это спасение от безумия. Володя обещал оберегать меня и после своего ухода, и он держит свое обещание. Его любовь продолжает звучать невидимыми хрустальными колокольчиками. Мне стало болезненно стыдно за свою слабость, за свое поведение. Из памяти пробивались какие-то воспоминания, связанные, как это ни странно и удивительно, с Павлом, но сейчас это было не важно. Я наконец преодолела полное нежелание двигаться, встала, пошатываясь, пошла в ванную, промыла и обработала перекисью рану на голове. И только после этого я нашла в сумке карточку с телефоном, как хорошо, что она не потерялась! Набрала номер домашнего телефона Натальи Николаевны, отчего-то я была уверена в том, что звонила она из дому.
— Наталья Николаевна? Это Евгения Михайловна. Простите, я, наверное, напугала вас, но теперь я готова вас выслушать.
Она, чуть-чуть, самую малость поколебавшись, предложила мне приехать к ней, поскольку такой разговор совершенно неуместен по телефону. Но при этом опасалась, смогу ли я доехать до нее в таком состоянии, или, может, лучше ей приехать ко мне. Но я заверила ее, что справлюсь, она продиктовала мне адрес и объяснила, как лучше и быстрее доехать. Я быстро переоделась и хотела уже выходить, но лицо Володи вдруг так ясно встало передо мной, и я осознала, что невозможно ехать в таком виде к людям, которых он знал и любил. Траур по другим людям, в других обстоятельствах, наверное, вполне совместим с унылой одеждой и постным лицом, но не по Володе. Он слишком любил жизнь, радовался ей и ценил ее красоту. Я вернулась от порога, переоделась еще раз, выбрала неяркий, строгий, но нарядный костюм, нанесла неброский макияж, и по тому, как я себя почувствовала, поняла, что поступаю правильно.
Я позвонила в дверь, и она почти мгновенно открылась, словно кто-то ждал меня. Так, почти всегда, мне открывал Володя, прежде чем я успевала позвонить. Теперь уже не откроет!
Молодой человек лет двадцати предложил мне раздеться, принял мою одежду и указал, куда надо пройти. Квартира была большая, просто огромная, а я еще свою считала большой!
В комнате у большого окна спиной ко мне стояла женщина в длинном бархатном темно-лиловом платье. Она тут же обернулась, и с минуту мы молча рассматривали друг друга. Лицо женщины было не просто красивым и поражало даже не классической правильностью черт, а редким благородством. Мне показалось, что она старше меня лет на пять, но в ее черных блестящих волосах еще не было видно ни одного седого волоска. Высокие скулы, удлиненный овал лица, губы словно резцом выточены, интересно, нет ли в ней грузинской крови? Я замечала, что грузинки иногда выглядят величественно, царственно. Молча, одним жестом она предложила мне сесть. Чувствовалось, что хотя она сдержанна и хорошо владеет собой, но сильно взволнована. Я села на маленький диванчик, она опустилась в кресло. На журнальном столике стоял хрустальный графин, наполненный темно-красным вином, и две фарфоровые тарелочки с нарезанным сыром и бисквитами. Хозяйка разлила вино, подала мне небольшую рюмку, я взяла ее и, помедлив несколько секунд, выпила, она сделала то же самое. Мы молчали, словно не могли решить, кому первому надлежит в этих обстоятельствах говорить. Наконец Наталья Николаевна первой нарушила тишину, уже становившуюся неприличной:
— Володю похоронили вчера. Очень просто: без музыки, речей и венков, так, как он хотел. Народу было мало, только очень близкие друзья.
Голос у нее был довольно низкий, говорила она медленно, но спокойно.
— Мне безумно, бесконечно жаль, что по не зависящим от меня обстоятельствам я не смогла пойти. Я… я предчувствовала, я все время звонила ему, но никого не застала, вам я ведь тоже звонила. А когда я уже освободилась, было поздно. Не надо было мне уезжать, но Володя так уговаривал, сказал, что хорошо себя чувствует, а я, дурочка, поверила. Никогда себе этого не прощу!
— Не корите себя, не надо. Уговорам Володи трудно было противостоять. Он хотел умереть в одиночестве, я это точно знаю, он сам мне говорил, а уж тем более вам он никогда бы не позволил присутствовать при этом — он так вас любил!
Последнюю фразу она произнесла со сдержанной силой, что дало мне возможность слегка заглянуть за занавес непроницаемости и отчужденности, за которым она пребывала, что, впрочем, было уместно в данных трагических обстоятельствах. Немного поколебавшись, я все же спросила ее:
— Вы ведь любили его?
Она подняла голову, пристально посмотрела на меня, но ответила сразу, без колебаний:
— Да, любила. Очень любила и давно.
— Наверно, Володя ничего не знал об этом, иначе он непременно выбрал бы вас.
Наталья Николаевна едва заметно улыбнулась:
— Знаете, однажды он сказал мне: если в любви можно было бы выбирать, то я выбрал бы тебя. Так что, как видите, он знал. Мы были только друзья с ним, давние, близкие, но только друзья.
Наконец я решилась спросить то, что меня больше всего мучило:
— Наталья Николаевна, а когда именно умер Володя? Мне очень важно знать день и час.
— Одиннадцатого он позвонил моему мужу, Андрею, они очень близкие друзья. Сказал, что времени ему осталось очень мало, но от немедленного приезда Андрея отказался, сказал, что позвонит ему за несколько часов до конца и предупредит. Как уж он мог так точно рассчитать, я не знаю, но только позвонил он двенадцатого днем. Попросил Андрея приехать к нему на ночь, часов в одиннадцать вечера. Муж на всякий случай поехал чуть раньше, без четверти десять он уже звонил ему в дверь, никто не открыл, но свет в окнах горел. Входная дверь была не заперта, только прикрыта, поэтому Андрей смог войти. Володя, уже мертвый, лежал на полу, но был теплый, судя по всему, умер всего несколько минут назад. В руке он сжимал разбитый телефон, видимо, с кем-то разговаривал в момент смерти или же набирал номер и, падая, разбил его о край стола. На лице его застыла улыбка, не знаю, способно ли это утешить вас, но в последнее мгновение своей жизни он был счастлив.
— Наталья Николаевна, внимательно выслушайте меня. Я позвонила Володе двенадцатого ровно в девять тридцать вечера, я посмотрела на часы, так что за точность ручаюсь. Трубку он снял, но почему-то молчал, видимо, уже не мог говорить, и тогда я выкрикнула его имя, в трубке услышала отчетливый вздох, через секунду какой-то стук и сразу же короткие гудки. Перезвонила тут же, но трубку уже никто не брал, я думаю, что он все же успел услышать мой голос.
Моя собеседница вздохнула коротко и глубоко, переводя дыхание. Она помолчала, обдумывая услышанное, потом подняла на меня заблестевшие глаза и сказала:
— Скорее всего, вы правы, и последний его вздох вы смогли услышать, он был адресован вам!
Я продолжила и рассказала ей, какой мне сон приснился потом. Она выслушала, промокнула глаза и подтверждающе качнула головой:
— Да, конечно, он приходил прощаться.
— Но почему с девочкой?
— У него была дочь, умерла в два с половиной года от пневмонии. Мать ребенком интересовалась мало. Володя был в командировке, когда девочка заболела. Вернувшись домой, он увидел, насколько серьезно больна малышка, и забил тревогу, но было поздно, уже ничего нельзя было сделать. Он очень тяжело пережил смерть дочери. Вы, видимо, не знали, он не любил об этом рассказывать, Володя был замкнутым человеком.
— Ох, Наташа! — Мы были с ней еще на «вы», но отчества уже опустили для краткости. — То-то и оно, что знала! Ведь Володя говорил мне про дочь, а я совсем забыла. Ну надо же!
— Сколько вы были с ним знакомы, Женя? Два месяца, меньше? А я больше двадцати лет, так стоит ли удивляться, что я помню и знаю про него очень многое, а вы нет. Володя был человеком настолько большим и сложным, что просто привыкнуть к нему, а не то что понять, и то требовалось время, а у вас его совсем не было, слишком быстро все произошло: ваше с ним знакомство, любовь и почти тут же его смерть. Но знаете, мне любопытно, как вы с ним познакомились, если это не секрет, конечно, и если вам не слишком больно об этом говорить.
— Нет, мне очень приятно говорить о Володе, тем более с вами. Но давайте еще чуть-чуть выпьем и, может быть, сможем перейти на «ты»?
Вино не пьянило, но расслабляло, потихоньку распрямлялась до боли сжатая пружина в груди, легче было говорить. Я рассказывала подробно, не торопясь, словно заново воскрешая мельчайшие подробности нашего знакомства. Кому еще я могла рассказать так, кому еще это было бы интересно и нужно?
— А ты, Наташа, как познакомилась с ним?
— Наше знакомство не такое романтичное, все было вполне обыденно. К тому моменту он уже давно разошелся со своей Светой, хотя не разводился по некоторым причинам, и она еще доставала его иногда, в основном требовала денег. А знаешь, однажды я видела ее: очень красивая женщина, но почему-то напоминает змею — узкая, вертлявая, и чувствуется, что злая. В общем, он был тогда одинок и очень несчастен, так я думаю, по нему-то никогда нельзя было определить, что на самом деле происходит в его душе, его сердце.
А я была тогда веселой и счастливой, у меня был отличный парень — Андрей, и мне казалось, что именно это и есть любовь. Накануне Андрей сделал мне предложение, а в этот день привел меня к своим друзьям, чтобы представить им свою невесту. Увидев Володю, я поняла, что увлечение — это одно, а любовь — совсем другое. Ситуация была ужасная! Конечно, я не сдалась сразу, я решила, что если постараюсь как следует, то смогу все расставить в своем сердце по местам. И действительно, на следующий день мне довольно легко удалось убедить себя, что это совсем и не любовь, а временное помрачение, вызванное помолвкой, знакомством с друзьями жениха и выпитым вином. Помогла мне и разница во внешности: Андрей был очень красивым, высоким, что называется, видным молодым человеком, он и сейчас красив, ну а Володя, ты же сама знаешь, невысок, худощав, лицо обыкновенное, только улыбка прекрасная, ну, и конечно же, обаяние. На несколько дней аутотренинг помог — я не думала, не вспоминала о нем, ну все, думаю, излечилась. За две недели до свадьбы мы поехали с Андреем в выходные дни на дачу одного из его друзей, туда же приехал и Володя. Вот когда мне стало плохо. Ничего не помогало, все мои благие намерения полетели псу под хвост. Все кругом веселятся: жарят шашлыки, пьют вино, поют песни под гитару, а я хожу как побитая. Ничем не могу заняться, все валится из рук, ничего меня не радует, Андрею сказала, что у меня голова болит, а сама боюсь даже взглядом с ним встретиться — стыдно. Два дня продолжалась эта пытка, а потом мы вернулись в Москву. Время было позднее, не до разговоров, Андрей проводил меня и уехал к себе, договорились встретиться с ним через два дня. На эти дни я в буквальном смысле затворилась дома, никуда не выходила, никого не видела, ни с кем не говорила, все думала, что же мне теперь делать. Выход представлялся один — все рассказать Андрею, иначе было бы просто непорядочно. Когда Андрей приехал, я все ему выложила, выпив предварительно лошадиную дозу валерьянки, чтобы не заплакать на первых же словах. Он слушал меня внимательно, сцепив руки и опустив глаза. Когда же я закончила словами: «Как видишь, наша свадьба состояться не может», он поднял на меня глаза и спросил: «А почему, собственно?» Я была так ошарашена его вопросом, что просто не знала, что тут можно сказать, и молчала, только смотрела на него во все глаза.
— То, что на тебя подействовало очарование Володьки, я понял сразу. Не ты первая, не ты последняя, такой уж он «чаровник». Он ведь для этого ничего не делает, все само собой получается, и я что-то не заметил, чтобы он обращал на тебя особенное внимание. Ты же не считаешь, что он разделяет твои чувства?
— Нет, не считаю.
— Значит, в нашем разговоре он не участвует, можно оставить его персону в покое. Главное — ты и я. Чувствуешь ли ты ко мне неприязнь, отвращение, разочаровалась ли ты во мне?
— Нет, этого ничего нет. Мне только очень стыдно перед тобой, я чувствую себя виноватой. Но в остальном, пожалуй, ничего не изменилось.
— Ну, стыд еще понятен, это естественная реакция. А вот насчет вины передо мной, это ты брось. Ты не Господь Бог, знать заранее ничего не могла и ни в чем не виновата ни передо мной, ни перед собой. Про себя я могу сказать, что я по-прежнему тебя люблю и по-прежнему хочу на тебе жениться. И без всякого зазрения совести я напоминаю тебе, что ты дала мне слово, и я настаиваю на его выполнении, так как убежден, что наш брак будет прочным и счастливым.
Наташа замолчала и погрузилась в какие-то свои мысли. Я понимала ее, но мне не терпелось услышать продолжение этой неожиданной истории. Поэтому я кашлянула, чтобы привлечь ее внимание, а когда она взглянула на меня, спросила ее:
— Ну и?..
Она улыбнулась:
— Что ж, он оказался прав, Женя, совершенно прав. Наш брак был и остается прочным и счастливым, и я ни разу ни на минуту не пожалела, что вышла замуж за Андрея. Он не только любящий, но и внимательный, заботливый муж, никогда ничем не обидел меня и не укорил. У нас двое детей — дочь и сын. Сына ты видела, он открыл тебе дверь, а дочь живет у своего мужа. Знаешь, первое время мне даже начало казаться, что мои чувства к Володе — это просто наваждение, романтический флер и жизнь быстро развеет их, но ничего не развеялось, ничего! Не знаю, поверишь ли ты мне, но оказалось, что можно любить двоих. Каковы мои чувства к Володе, нет нужды говорить, вряд ли они сильно отличаются от твоих. А к Андрею я всегда чувствовала уважение, привязанность, доверие, я восхищалась им и никогда ни в чем не предала.
— А Володе ты так и не призналась? Я понимаю, что он догадывался, он всегда все знал, не успеешь подумать, а он уже знает. Но сама ты ничего ему не говорила?
— Ты права, мне кажется, что он сам все понял с первого же мгновения. Долгое время у меня не было повода заговорить об этом с ним. А признаться вот так, ни с чего, мне казалось непристойным и глупым. Но однажды случилось несчастье, один из их друзей погиб, у них ведь работа связана с постоянным риском. И Андрей, и Володя очень переживали эту смерть, Володя прямо почернел весь. После смерти дочери и разрыва с женой он очень болезненно переносил потери, старался не заводить новых прочных знакомств и связей, но тем больше дорожил старыми. Не помню теперь уже отчетливо, почему возникла потребность сказать ему о своей любви, но, скорее всего, я хотела, чтобы он знал, что есть еще кто-то, кому он бесконечно дорог, кто думает о нем и переживает за него. Я хотела хоть немного поддержать его, облегчить его горе. Он мне сказал:
— Я знаю. Спасибо, что ты есть, — и поцеловал мне руку. Больше мы никогда не говорили на эту тему, хотя виделись довольно часто.
— Наташа, а я не могу познакомиться с друзьями Володи? Мне очень интересны люди, которых он знал и любил. Поверь, что это не праздное любопытство, а потребность души.
Наташа замялась, но потом решительно подняла на меня глаза и сказала мягким тоном:
— Боюсь, это невозможно, Женя. Их осталось всего двое, Володиных друзей, Андрей и Виктор, и, увы, они оба заочно к тебе не расположены.
— Но почему?!
— Умные люди имеют свой слабости, их слабостью был Володя. Они очень любили его, многое пережили вместе. Им кажется, что, не будь тебя, Володя прожил бы дольше.
— Так они что, обвиняют меня в смерти Володи?
— Нет, конечно же. Володя был очень болен, и все шло к неизбежному концу. Но им кажется, что из-за тебя конец наступил слишком быстро.
— А ты, Наташа, ты тоже так думаешь?
— Нет, я так не думаю. Точнее, я думаю не об этом. Не знаю, прожил бы он без тебя дольше, столько же или меньше — вряд ли это дано знать. Но то, что без тебя он не был бы счастлив в свои последние дни, я знаю совершенно точно, а для меня это куда важнее. Моя любовь, несмотря на всю ее силу, не смогла обогреть его сердце, а твоя смогла, потому что он сам любил тебя, в то время как ко мне относился только по-дружески. А ребята? Они не понимают этого, не могут да и не хотят. Андрей счастлив в личной жизни и просто не в состоянии понять эту сторону жизни своего друга, знаешь по поговорке: сытый голодного не разумеет. А у Виктора всегда было множество женщин, он легкомысленен и непостоянен в связях, не верит в любовь и не придает ей значения. Встречаются иногда эмоционально неполноценные люди, во всем остальном полноценны, а любить не могут, вместо любви у них секс. Вот и Виктор такой. Так что, как видишь, они оба не в состоянии принять любовь Володи к тебе. Ну и ревность, конечно, они же живые люди: по тридцать, сорок лет были вместе, сколько вместе пережито, а тут появляешься ты, и он весь твой. Как им спокойно переварить такое?
При последних словах Наташи у меня чуть не сорвалось с языка: а как тебе, тебе, так его любившей, переварить такое? Но, тут же поняв, насколько мелким и непорядочным будет сказать ей это, я устыдилась своих мыслей и, порывисто встав, обняла ее.
Потом мы с ней пили чай и говорили, говорили, словно впрок наговаривались. Конечно, средоточием наших разговоров был Володя. Я спросила о кладбище и попросила показать мне его могилу.
— Могилы нет, только урна, он так хотел. Я не присутствовала при кремации, поэтому не знаю, где урну захоронили, и тебе он просил этого не сообщать. Я думаю, что он был прав. Неужели какое-то место в длинном ряду таких же может напомнить о нем? Его место в нашем сердце, и никакие камни и земляные насыпи нам для памяти не нужны.
Я посмотрела на нее и, неожиданно даже для себя, вдруг проговорила:
— Оставьте мертвым погребать своих мертвецов. Ты права, Наташа, для нас он всегда будет живой, просто отсутствующий, и могила нам не нужна.
Она посмотрела на меня, улыбнулась и тоже процитировала:
Слова эти так точно отразили мое состояние, что я встрепенулась:
— О, что это? Чьи это стихи, это ведь стихи?
— Да, это стихи. Есть такой прекрасный поэт — Николай Панченко. Володя его очень любил, я прочитала последние строки из его стихотворения «Послание Хирона». Никогда не слышала о таком поэте?
— Нет! — с сожалением отозвалась я.
— Не огорчайся, я дам тебе его сборник.
Она вышла в соседнюю комнату и через минуту вернулась с толстой светло-серой книгой.
— На вот, держи. Прочитаешь и поставишь на место, это Володина книга, он мне дал ее 1 января, мы с Андреем и Витя с очередной пассией были у него на Новый год.
Я смотрела на нее непонимающе:
— Как и куда я ее поставлю?
Какое-то мгновение Наташа тоже смотрела на меня озадаченно, а потом легонько стукнула себя ладонью по лбу и рассмеялась как девочка:
— Очевидно, у меня начинается склероз. Я же совсем забыла тебе сказать. Ведь ты теперь Володина наследница! Он все, что у него было, оставил тебе: дом в Фирсановке, все, что находится в доме, счет в банке, но вряд ли большой, деньги копить он не умел. Все оформлено официально, через несколько дней нотариус введет тебя в наследство, я позвоню тебе и скажу, когда точно это будет. Или ты предпочитаешь, чтобы нотариус сам позвонил тебе?
— Что? Нет, лучше ты позвони. Да дело вообще не в этом. Наташа, ну как я могу принять это наследство? И дом, и тем более деньги. Ну ты сама-то посуди. Я никак принять этого не могу! Деньги мне ничьи не нужны, я всегда сама зарабатывала. Нет, нет, тут даже говорить не о чем, это все твое, Наташа, это ты наследница, а не я. Да, я очень любила Володю и продолжаю его любить, но мы были знакомы чуть больше полутора месяцев, а ты его знаешь более двадцати лет.
— Арифметика тут ни при чем. Володя все оставил тебе, и, на мой взгляд, совершенно правильно сделал. Это его последняя воля — не забывай об этом. Женя, если ты официально откажешься от наследства, все отойдет государству, ты этого хочешь? Чтобы в Володином доме, где он жил, где он любил тебя и где умер, жили совсем чужие, равнодушные к его памяти люди?
При последних Наташиных словах у меня аж горло перехватило, и я смогла только молча помотать головой: нет, мол, не хочу.
— Возьми этот дом, Женя, живи в нем, и тогда я смогу иногда приезжать туда, ты ведь позволишь? Надеюсь, тебе не будет неприятно видеть меня в этом доме?
— Наташа! Ну о чем ты спрашиваешь? У меня внутри такое теплое уютно чувство, когда я смотрю на тебя или слушаю тебя, словно у меня вдруг появился родной и очень близкий человек. Можешь не сомневаться, не только в Володином доме, но и везде я буду рада тебя видеть!
Мы еще немного поговорили, и я собралась уходить, унося с собой Володину книгу. Я предвкушала встречу не только с новым, неведомым мне раньше поэтом, но и с Володей, раз он так любил его.
Наташа вышла в прихожую проводить меня, я оделась, и мы еще раз обнялись с ней, так сказать, на дорожку. Условились звонить друг другу, и я ушла.
Прошло две недели. В самом конце марта, солнечным, уже совсем весенним днем, я вернулась в Москву из Фирсановки, где прожила пять последних дней и где теперь собиралась проводить много времени. Мне очень хорошо, спокойно и плодотворно работалось там. Поначалу я боялась, что мысли о Володе, воспоминания о нем будут мешать сосредоточиться, я буду отвлекаться и плакать, но ничего подобного, Володя мне совсем не мешал. Он как бы находился в доме, я чувствовала его незримое присутствие, но это присутствие не будоражило и не тревожило, наоборот, согревало душу. Я успела сделать тот издательский заказ, с ним только вначале было много нервотрепки и возни, а потом все пошло как по маслу. В издательстве просили с работой подождать, а я и не печалилась ее отсутствием, в голове моей теперь зрело совершенно иное. Я задумала и даже успела немного начать совсем новое творение, свое, посвященное Володе. Потому что чувствовала настоятельную потребность перенести на бумагу хотя бы небольшую часть тех живых и радостных впечатлений, которые остались у меня от соприкосновения с его необыкновенной душой, от нашей любви с ним. Меня согревала мысль, что в случае удачи эта вещь останется и после того, как я уйду. Меня уже не будет, а часть меня и Володи, часть нашей с ним любви, будет продолжать жить. То прежнее свое, что частично написала уже, я не забросила совсем, просто отложила до другого времени.
Приехав в Москву, я тут же, не заходя в квартиру, побежала по магазинам закупать продукты, в доме ни крошки съестного. С ворохом пакетов, нагруженная, я только успела переступить порог своей квартиры, тут же зазвонил телефон. Я наспех пристроила пакеты в кухне на полу и подошла, наконец, к телефону, который все звонил и звонил не переставая, такой настырный! Подходить к нему мне совсем не хотелось, но было неудобно — я так давно никому не звонила. С первого же слова звонившего у меня холодок побежал по телу, это был Павел, а я так надеялась, что уже никогда не услышу его. Совсем недавно, пока жила в Фирсановке, в тихой, спокойной обстановке мне удалось восстановить в памяти практически все эпизоды, связанные с Павлом, и момент нашей злополучной встречи, и мое тягостное пребывание на какой-то даче, — в общем, почти все. Плохо помнилось только, как я лежала на полу, но это вполне можно было пережить. Я помнила также о странном звонке женщины, которая интересовалась, помню ли я, что происходило со мной накануне. Теперь, вспомнив и связав воедино все нити тогдашних событий, я понимала, что это была та самая красотка, которая привезла меня домой в состоянии почти полного идиотизма. Как же мне теперь в этой ситуации поступать — лгать и изворачиваться? Ну нет! Не дождутся. Лгать я не буду, и раньше не умела, а теперь и вовсе поздно учиться. Занятая вихрем разнообразных мыслей, я не услышала первых фраз Павла, чем вызвала немалую его досаду, раньше он был куда сдержаннее.
— Женя, Женя! Ты что, оглохла? Может быть, откликнешься, наконец? Ну что, узнала?
— Совершенно незачем так кричать, я хорошо слышу. Да, я узнала тебя, здравствуй!
— Ага! Я так и думал, что ты просто притворялась, так и знал! Изображала из себя этакую беспомощную, убитую горем идиотку, а на самом деле это была всего лишь актерская игра. Ты стала мастерски притворяться, поздравляю!
— Свои поздравления можешь оставить себе, для меня они неуместны, поскольку притворяться я не умею. Так что не суди о других по себе. На твоей мерзкой даче, или чья она там, мне было настолько плохо от тоски и горя, что произошло что-то вроде нервного срыва, впрочем, такие материи тебе вряд ли понятны, поскольку сам ты никогда ни за кого не переживал. А в тот момент, когда от тебя позвонила женщина, она ведь звонила от тебя, не правда ли? Так вот, в тот момент я ни о чем не помнила, у меня исчезли из памяти три последних дня, как корова языком слизнула. Я как раз пыталась хоть что-то понять и вспомнить, когда она позвонила, и я честно призналась, что ничегошеньки не помню. Память возвращалась ко мне в течение нескольких дней, но теперь все основное я вспомнила. Если ты звонишь из-за того, что тревожишься за себя, из-за нашей нелепой встречи и своего случайного возврата в мир живых, помнящих тебя людей, то совершенно напрасно. Могу тебя заверить, что я никому ничего не сказала и не собираюсь говорить, даже если ты сам меня об этом попросишь. Для меня и моих близких ты умер и воскресать не надо!
— Но, Женя, дело не в этом, не только в этом. Мне очень надо увидеть тебя, действительно надо.
Мы ведь ни о чем тогда толком и не поговорили. Давай встретимся, и чем скорее, тем лучше.
— Павел, что с тобой, у тебя что-то со слухом? Я тебе русским языком сказала, что для меня ты умер, умер — понимаешь? Ни говорить с тобой, ни тем более видеться у меня нет ни малейшего желания. Как говорится, спи спокойно, дорогой товарищ! И на этом давай закончим.
Первой ко мне приехала Любаша. Я рассказала ей о смерти Володи, о том, что он оставил мне дом, где я теперь бываю чаще, чем в городе. О Павле, разумеется, я не сказала ни словечка. Она охала и ахала, ругала меня за скрытность, потом прослезилась от избытка чувств. Отдав дань слезам, Люба быстренько перешла к веселью. Как человека практического склада, ее очень радовало нечаянное приобретение мною недвижимости.
— Ух ты! Нет, ну это надо же! Ну ты, Жень, даешь! Вот это ты любовь закрутила, молодчина, вот это я понимаю. А он-то какой благородный оказался! Ну и везет же тебе, Женька, какой жирный кусище от пирога отхватила! А я-то, горемыка, как ни бьюсь, копейки никто не даст. Наоборот, все только с меня норовят побольше содрать, подлецы! И почему я только такой невезучей уродилась?
Тут она опять вдруг захлюпала, на этот раз совсем уж неожиданно. Но у меня было верное средство для поднятия ее настроения. После третьей рюмки Любаша, наконец, простила мне, что я так внезапно стала домовладелицей, шмыгнула носом и стала рассказывать о своем совсем новом, свеженьком знакомстве. Я не удивлялась уже, привыкла. На что, на что, а на знакомства моя сестрица была просто-таки неистощима.
Но когда я, перестав веселиться, внимательно выслушала ее, то мне пришлось-таки слегка удивиться. Из ее рассказа выходило, что это действительно что-то совсем другое, новое и несколько неожиданное для Любаши. Кажется, она, наконец, оставила в покое молодых и смазливых бездельников и обратила внимание на более серьезных людей постарше. Стало быть, и для нее все это может оказаться более серьезным, а главное, более благополучным, чем случалось раньше. Я не замедлила поделиться с ней своими мажорными мыслями, и Любаша повеселела.
С Катюшкой мы совсем было уже договорились о встрече, но внезапно из Германии вернулся Котька с женой Лизой. Он тут же позвонил мне и сестре, и наши планы тут же переигрались. Мы встретились на день позже, и уже не у меня, а у Котьки дома. Когда я приехала к ним, Катя уже была там. Как давно мы не собирались все вместе! Оказалось, что Лиза ждет ребенка, а рожать решила дома, невзирая на все прекрасные мюнхенские клиники. Я в принципе понимала ее, дом есть дом, здесь у нее мать, тетка, старшая сестра, короче, куча родственниц женского пола, которые ее тут же принялись опекать. Где-то месяца через два мне опять предстоит стать бабушкой. В гостях у ребят я довольно-таки задержалась, у них было полно рассказов, смешных и грустных, о своем заграничном житье-бытье. Ну и Кате надо было дать время поговорить, так что домой я возвращалась уже поздно, но знала, что телефонного звонка Павла мне не миновать. Он звонил каждый день утром и вечером, словно измором хотел взять. Может, он и днем звонил, но днем я сейчас дома не бываю, все бегаю по разным делам и встречам.
Мне осталось только войти в арку, и я окажусь в своем дворе, но тут мне навстречу из темноты выдвинулась мужская фигура, в которой я моментально признала Павла, несмотря на усы и надвинутую шляпу. Совсем еще недавно усов у него не было, это я помнила хорошо. Не мог же он их так быстро отрастить или мог? Наверное, все-таки мог, ведь не приклеил же. Это было бы уж совсем как в дешевом детективе. Павел молча взял меня под руку, крепко прижав мой локоть, и куда-то потащил. Я упиралась как могла и одновременно вертела головой по сторонам, я не понимала, куда он меня тащит, машины нигде не было видно. Павел так сжал мне руку, видимо разозленный моим сопротивлением, что я даже вскрикнула от боли. В это время сзади, несколько в отдалении, раздался женский голос:
— Женя! Да подожди же!
Павел моментально отпустил меня и словно исчез, растворился в темноте. Вскоре появилась запыхавшаяся Светка:
— Господи, Женя! Ну ты и ходишь! От самой остановки бегу за тобой, а ты как торпеда. Так давно тебя не видела, а тут выхожу из троллейбуса, смотрю, ты тоже выходишь, только с передней площадки. Хотела сразу окликнуть, но тут какой-то псих налетел на меня, толкнул, я уронила сумку да половину вещей рассыпала, пока все собирала, ты уже ушла. Бежала, бежала за тобой, аж упарилась! Нет, мне, видимо, надо бросать курить, а то уж совсем бегать не могу. Слушай, мне тебя сам Бог послал! Мне позарез нужна тысяча рублей, но отдать их тебе я смогу только через пару месяцев, не раньше. Сможешь на таких условиях меня выручить?
— Конечно, Светик, о чем разговор. Отдашь, когда сможешь, мне не к спеху, не волнуйся.
Мы поднялись ко мне, я тут же дала ей деньги, и она ушла, рассыпаясь в многочисленных благодарностях. Я закрыла дверь, прислонилась к ней лбом и застыла в этой позе. Когда Павел схватил меня за руку, я не испугалась, наверное, просто не успела, а вот сейчас меня стала пробирать дрожь. Если бы Светка так своевременно не подоспела, то даже боюсь предположить, что могло произойти, скорее всего, он увез бы меня и на этот раз я вряд ли от него бы вырвалась. А Светка еще утверждает, что меня ей Бог послал, все обстоит как раз наоборот. Только теперь я в полной мере осознала, насколько опасной для меня оказалась неожиданная встреча с «воскресшим» Павлом. И что же мне теперь делать, как выбираться из очередной непростой ситуации, в которые я то и дело ухитряюсь попадать? Прямо не жизнь у меня, а роман «Как закалялась сталь», и я в главной роли — стали. Конечно, я могу уехать в Фирсановку хоть сейчас, электрички еще должны ходить, но ведь это же не выход, сколько я смогу прятаться? Да и что это за жизнь: прячься и дрожи! Надо найти, придумать какой-то способ, как убрать этот дамоклов меч, подвешенный над моей головой, но вот как?
Спать я легла, так ни до чего толкового и не додумавшись. Входную дверь закрыла на цепочку, швабру и вдобавок придвинула вплотную к двери тумбочку, на которую водрузила бак, в нем я когда-то кипятила белье, причем поставила его специально неровно, чтобы при сотрясении он непременно грохнулся. Баррикаду эту я сооружала, подтрунивая над собственными страхами, но, как говорится, береженого Бог бережет. Более того, прямо возле своей кровати я положила скалку и молоток для отбивания мяса.
В общем, уснула я почти с улыбкой. Когда же посреди ночи меня разбудил грохот упавшего на пол бака, я уже совсем не улыбалась. Схватив заготовленные боевые орудия, я села на кровати, прислушиваясь. Но все везде было тихо, может быть, бак упал случайно? Мало ли, какие-нибудь сотрясения почвы, вибрации, в городе ночью чего только не происходит. Наконец, я уговорила себя встать и пойти посмотреть, что же происходит в прихожей. Покрепче зажав скалку и молоток, я тихонько стала двигаться к двери, зажигая везде свет. В прихожей ничего не происходило, все было тихо. Бак валялся на полу, тумбочка вроде бы не была сдвинута, палка от швабры перекосилась в ручке двери, но она тоже могла сама перекоситься. Наконец, я додумалась посмотреть на замок, он был открыт! А ведь я его закрывала до упора. Вот уж замок никак не мог открыться сам. Я закрыла замок снова, поставила бак на тумбочку в прежней неустойчивой позиции и пошла на кухню. По дороге меня пошатывало, но не от страха, а от какой-то почти тошнотворной злости и раздражения. Так надо мной измываться! И ведь ни за что же! Вернись Павел сейчас, я просто распахнула бы перед ним дверь, чтобы иметь удовольствие хоть разок трахнуть его скалкой по голове, а там будь что будет! Рюмка сосудорасширяющего средства показалась мне просто водой, но вторую я пить все же не стала. Вернувшись в спальню, посмотрела на часы: без пяти минут три, самое время для татей, убийц и привидений. Долго не могла уснуть, от страха, правда, не тряслась, но глаза в темноту таращила. И только когда сначала на лестнице, а затем и во дворе стали раздаваться различные звуки: гудение лифта, шарканье шагов, стук автомобильных дверей, я расслабилась наконец и смогла уснуть.
Проспала до одиннадцати, а мне надо было уже в десять часов быть в редакции. Ехать туда уже поздно, и я позвонила извиниться. Но как назло, очень долго телефон редактора был занят. Когда уже к полудню я наконец дозвонилась и стала торопливо извиняться, веселая нынче редакторша меня порадовала, наконец-то имел место консенсус. И она с удовольствием повторила это ныне модное словечко. Образумившиеся авторы, кроткие как овечки, выразили горячее желание завезти мне на дом утвержденный, надеюсь, на этот раз окончательно, экземпляр рукописи. Поскольку они были на машине, то ждать их надо минут через тридцать. Я привела себя в порядок, и, когда расчесывалась перед зеркалом, мне вдруг пришла в голову одна мысль. Я позвонила Наташе на работу, но она сказала, что на сегодня все дела закончила и уже направляется домой, это было мне на руку, и я условилась с ней о встрече у нее дома.
Авторы задерживаться у меня не стали, отдали мне рукопись и собрались уходить, но я попросила их задержаться на пару минут. И действительно, собралась за две минуты, сунула рукопись в сумку и попросила подвезти меня до метро. Еще через тридцать минут я уже звонила в дверь Наташи. На этот раз открыла мне она сама. Мы прошли в комнату, где я уже была в прошлый раз. Наташа предложила кофе и сыр, я с признательностью взяла, завтрака у меня сегодня, по существу, не было. Но мне тут же пришла в голову мысль, что вот уже второй раз я здесь в гостях, меня угощают, а я опять ничего не принесла. Я так растерялась, что положила на тарелку бутерброд, который начала есть с таким аппетитом. Заметив мою растерянность, хозяйка вопросительно посмотрела на меня. Я не нашла ничего лучшего, чем выложить ей все как есть. Она чуть-чуть улыбнулась:
— Я желала бы тебе, Женя, чтобы все твои огорчения были такими, но боюсь, это не так. Ведь у тебя что-то случилось, какие-то неприятности?
Я поразилась ее интуиции, кивнула утвердительно и задумалась: с чего же начать?
— Ты права, Наташа, у меня неприятности, и, кажется, немалые. Признаться, я и сама не знаю, почему пришла именно к тебе и что ты можешь помочь, но у меня такое чувство, что Володя нас сроднил. Да и не к кому мне больше с этим идти. Я сейчас попробую связно рассказать тебе свою фантасмагорическую историю, а там, кто знает, может, ты мне и посоветуешь что-либо, но даже если и нет, то спасибо за то, что выслушаешь.
Без дальнейших предисловий я принялась за свой рассказ. Рассказывать мне пришлось долго, практически всю мою жизнь с Павлом, тем более что Наташа реагировала живо и задавала вопросы. Наконец я выдохлась и замолчала. Кофе в чашках остыл, и Наташа пошла подогреть чайник. Вернулась она с бутылкой арманьяка и рюмками, мы выпили не чокаясь, молча, и задумались обе. В молчании прошло несколько минут, прежде чем я отметила, что Наташа не просто молчит, но и смотрит куда-то в другую сторону. Только тут я сообразила, какую совершила глупость, придя сюда и вывалив на голову малознакомой, в сущности, женщины свою бредовую историю. Я-то испытываю к ней живейшую симпатию как к другу Володи, и сама она мне нравится: умна, обаятельна, прекрасно воспитана. Но ведь все это чувствую я, а вот как она относится ко мне, я ведь не имею ни малейшего понятия, она-то мне ни в каких чувствах и симпатиях не признавалась. Чувствуя себя полной дурой, я тихо встала, поблагодарила хозяйку и хотела уйти. Но Наташа удивилась, подошла ко мне и взяла меня за руку. Слегка сжав и погладив мне руку, она сказала:
— Что случилось, Женя? Куда ты собралась? Тебе не понравилось, что я молчу? Но я еще только собираюсь с мыслями, согласись, что случай у тебя отнюдь не простой. Посиди, выпей еще кофе, ты ведь не очень торопишься?
— Спасибо, с удовольствием выпью, кофе у тебя ароматный. Я не тороплюсь, хотела сегодня поехать в Фирсановку, рукопись у меня с собой, а работать там даже лучше, спокойнее. Просто мне стало неловко, что я злоупотребляю твоим гостеприимством, рассказывая свои глупые приключения.
— Женя, ну что ты придумываешь! Ничем ты не злоупотребляешь, пей кофе, пока не остыл, и вот тебе еще бутерброд с сыром.
Я выпила и съела все, что мне предложила Наташа, мы перебросились с ней еще парой ничего не значащих фраз и опять погрузились в молчание. Меня мучило ощущение, что что-то не так, но что именно, было непонятно. Я тупо разглядывала узор на ковре и думала о том, что Наташа ждет чего-то или скорее кого-то. Подняв глаза, я успела увидеть, как Наташа украдкой посмотрела на часы, этот ее жест усилил мою тревогу. Кажется, я опять сама не знаю как, но вляпалась в очередную историю, и это при том, что не успела выбраться из предыдущей! Скоро меня вполне можно будет записать в эту идиотскую Книгу рекордов Гиннесса. О господи! И как это только я ухитряюсь, я ведь такая тихая!
В прихожей открылась дверь, хозяйка встала и, извинившись, торопливо вышла. Меня пробрал озноб, но я тут же постаралась собраться и взять себя в руки, уговаривая, что уж здесь-то мне бояться нечего. Наконец, в комнату вошли Наташа и двое незнакомых мне мужчин. Я в общем-то сразу поняла, кто приехал, поднялась, посмотрела на них внимательно, с любопытством и перевела взгляд на Наташу. Не знаю, был ли в моем взгляде укор, но она его там явно увидела.
— Женя, я понимаю, что поступила нехорошо, решив без твоего позволения расширить круг посвященных. Я чувствовала, что ты не согласишься на это, но самой тебе будет невозможно справиться. Извини, но я хотела как лучше.
Мужчины представились, сразу переходя на «ты», я не возражала, поскольку с Наташей мы были накоротке. Андрей оказался высоким широкоплечим блондином, действительно очень красивым, с правильными чертами лица, в его прямых, коротко стриженных волосах не было и намека на седину. Виктор немного ниже, но тоже высокий, черноволосый, с седыми висками и темно-карими пристальными глазами. Движения его были быстрыми, и по сравнению с Андреем он казался более суетливым. Конечно же, я не сердилась на Наташу, в какой-то мере я ее понимала, тем не менее рассказывать этим людям ничего не хотела, я слишком хорошо помнила, какого они мнения обо мне. У меня тоже заочно сложилось мнение о них, и вполне понятно, что совсем не благоприятное. Вздернув голову повыше, я посмотрела еще раз на них: Андрей ответил мне непроницаемым взглядом, Виктор же уставился так, словно хотел дыру во мне просверлить, в глубине его глаз горела злость. И этим вот людям я должна рассказывать сейчас свою жизнь, выворачиваться наизнанку?
— Наташа, я понимаю, что ты хотела мне помочь, спасибо тебе за это. Спасибо и вам, что потрудились приехать, но сделали вы это зря, я как-нибудь попробую сама справиться со своими трудностями и проблемами.
Я самым решительным образом направилась к двери, но Андрей перехватил меня, слегка придержал за плечи и мягко усадил в кресло. Зря мне казалось, что он двигается неторопливо, реакция у него была будь здоров. И уж во всяком случае, быстрее моей.
— Мелкие недоразумения, симпатии-антипатии в сторону, они не должны мешать в серьезном деле. А насколько я уже успел понять, дело твое, Женя, совсем не простое, но может быть, ты и вправду справишься сама. Сначала расскажи, в чем суть, причем как можно подробнее, а потом уже будем решать.
Говорил он не приказным тоном, а вполне будничным, спокойным голосом, но ослушаться его было невозможно. Вздохнув, я принялась рассказывать свою историю второй раз за сегодняшний день.
Внимательно выслушав меня, они принялись задавать многочисленные вопросы. Сначала Андрея заинтересовало, что сообщили мне в милиции, когда в прошлом году они искали Павла. Но я знала мало, можно сказать, вообще ничего, чем весьма разочаровала мужчин. Но при чем тут я? Я не следователь, дело вела милиция, мне они ничего не сообщали, а я всего лишь бывшая жена, какой с меня спрос? Но ведь у мужчин своя логика, с ними не поспоришь. Потом Андрей перешел к более свежим событиям и стал интересоваться подробностями недавнего похищения: по какой дороге мы ехали, что миновали, сколько времени занял весь путь, сильно ли петляли, как выглядела дача, что было во дворе. Мне казалось, что и об этом я не смогу сообщить ничего существенного, но что-что, а спрашивать он умел. С помощью его вопросов я, к собственному удивлению, смогла все-таки выдать кое-какую информацию. Андрей задумался, но за меня тут же, без передышки принялся Виктор, этого почему-то очень интересовала женщина на даче: как выглядела, как была одета, как двигалась, как говорила. Я практически ничего не могла ответить, кроме нескольких фраз, произнесенных ею, и никакие наводящие вопросы тут уже помочь не могли. Виктор был неприятно удивлен отсутствием каких бы то ни было сведений об этой женщине и спросил меня с издевкой: уж не была ли та женщина в плаще и маске, раз я ничего о ней не запомнила? Кажется, он решил, что я что-то знаю, но намеренно утаиваю. Это задело меня, и я в запале нечаянно проговорилась о том почти невменяемом состоянии, в котором была на даче. Поэтому у всех троих на лицах выразилось удивление, смешанное с недоверием, и я поняла, что раз уж затронула эту тему, то только максимальная откровенность с моей стороны может спасти положение. И я описала все так подробно, как только смогла, задушив в себе ощущение неловкости. Наташа женским чутьем поняла, насколько мне трудно сейчас, когда я буквально выворачиваю душу наизнанку, присела на подлокотник моего кресла и обняла меня. От ее нежного, дружеского участия мне стало немного легче. Виктор все никак не мог успокоиться и стал выспрашивать у меня, какой голос и интонации были у этой женщины, когда она говорила со мной по телефону. А я недоумевала, почему он с такой настойчивостью интересуется женщиной, явно не имеющей ко всей этой истории никакого отношения, ведь она звонила мне, потому что ее об этом попросил Павел, вот и все. Но потом я вспомнила, что Наташа рассказывала о Викторе как о большом любителе женщин, и подивилась тому, насколько он неутомим в поисках удовольствий, что даже в такой момент уделяет столько внимания незнакомой мадам. Мужчины же тем временем перебросились несколькими непонятными фразами и решили выйти из комнаты, но Наташа остановила их:
— Вы можете поговорить здесь, мне все равно нужно идти на кухню обед готовить, я и так с ним подзадержалась. Ты не поможешь мне, Женя?
Я с радостью последовала за ней, ибо мне срочно требовалась смена впечатлений, мужчины, и в особенности Виктор, действовали мне на нервы, а готовка — занятие привычное и успокаивающее. Наташа принялась стряпать, а я ей помогала. Суп у нее уже был — грибная лапша, теперь же она резала мясо на тоненькие полоски, а я терла сыр и чеснок. Сложив все это в чугунок, она отправила его в духовку и стала шинковать свежую капусту и сладкий перец на салат, а я вызвалась порезать лук — очень удобный способ поплакать немножко, но в этот раз лук на меня не подействовал, странно, обычно я от него плачу. Вот дожила, даже лук от меня отступился! Потом мы с Наташей быстренько почистили картошку, и в конечном итоге у нас обед поспел раньше, чем смогли договориться между собой мужчины. Когда Наташа позвала их за стол, оба выглядели мрачными и недовольными. Посмотрев на их смурные лица, Наташа молча достала из холодильника бутылку «Кремлевской» водки. Андрей сначала покосился на бутылку недовольно и даже махнул рукой — убери, мол! Но в последнее мгновение передумал, и Наташа протянула ему стопку. Она собралась было налить и Виктору, но он не позволил: «Я за рулем!» Андрей при этих словах так на него посмотрел, что было ясно — дело вовсе не в водке или машине, а в каких-то их скрытых разногласиях. Наташа тем временем принесла из комнаты начатую нами бутылку арманьяка. Обед прошел в полном молчании, лишь когда все пили кофе, а я чай, Наташа спросила, косясь обеспокоенно на Виктора, но обращаясь к мужу:
— Хотелось бы надеяться, что вы не собираетесь действовать сами? Вы, конечно же, люди опытные, просто асы, что и говорить, но все-таки вам обоим далеко не двадцать пять, и даже не сорок, уже как-то не солидно самим бегать и прыгать. Пожалуйста, помните об этом.
Андрей хотел возразить, но передумал и только молча показал рукой на Виктора. Наташа, видимо, хорошо поняла, что хотел сказать муж, потому что неодобрительно покачала головой и вздохнула. Тот только поднял плечи, но ничего не сказал. Я во всем этом ровным счетом ничего не поняла: при чем тут какой-то бег да еще прыжки и что собирается сделать Виктор? Я не только подумала об этом, но и задала вопрос вслух. Ответом мне было гробовое молчание, и при этом все смотрели в разные стороны, ну просто очень интересно! Наконец Андрей нарушил затянувшееся молчание:
— Ты ведь собиралась ехать в Фирсановку, Женя? Сейчас Виктор отвезет тебя туда на машине, а когда тебе надо будет возвращаться, ты позвони заранее, и кто-нибудь за тобой приедет, только обещай, что позвонишь обязательно!
Я согласилась, предложение было действительно разумным. Вскоре стали прощаться, мы обнялись с Наташей, и я первой вышла из квартиры. Виктор последовал за мной, в лифте мы молчали, но он все косился на меня, неодобрительно, как мне показалось. «Жигули» Виктора были темно-синие, изрядно потрепанные, а кое-где даже битые. Почему-то мне казалось, что у него должен быть «мерседес», не иначе, и я слегка удивилась, что он ездит на машине такого непрезентабельного вида, но вслух, естественно, ничего не сказала. С места тронулись плавно, это мне понравилось, не переношу, когда резко трогают; насколько хватало моих скромных познаний, он был хорошим водителем. Мы тут же влились в общий поток машин, и внимание мое рассеялось. Я стала думать, чем займусь в Фирсановке, и совсем было увлеклась этими мыслями, но насмешливый голос Виктора быстро вернул меня к действительности:
— Интересно узнать, сколько же вы были знакомы? Если это не секрет.
Я сразу поняла, что он спрашивает о моих отношениях с Володей и просто старается поддеть меня, тем не менее ответила: полтора месяца. Он протяжно свистнул и покачал головой:
— Однако быстро же ты дело сделала!
Я поморщилась от его откровенно враждебной реплики, но ответила спокойно:
— Я знаю, Виктор, как ты ко мне относишься, но изменить прошлое ты не в силах. Наша встреча с Володей уже была, как и наша любовь. А что касается сегодняшнего дня, то, что бы ты там ни думал, я не искала помощи ни твоей, ни Андрея. Когда я шла к Наташе, то просто собиралась поговорить с человеком, который пришелся мне по сердцу, с которым можно не бояться быть откровенной. Она сама позвонила вам, без моего ведома, поскольку я бы на это никогда не согласилась. И насколько я понимаю, ты сам вызвался меня подвезти, не так ли? Я благодарна тебе за это, но буду еще более благодарна, если ты оставишь все свои комментарии при себе.
Тут он бросил руль и, повернувшись всем корпусом ко мне, отдал честь:
— Есть, товарищ командир! Какие будут еще указания?
Я испугалась, но, оказывается, мы встали на светофоре и никакой опасности врезаться не было, я вздохнула облегченно и промолчала, решив больше не препираться с ним. Но он-то как раз думал иначе и вскоре снова заговорил:
— Что, Женя, правда глаза колет?
Голос у него был обманчиво мягким, но смотрел он недобро, да и усмехался тоже. Уж не для того ли он вызвался отвезти меня, чтобы иметь возможность без свидетелей шпынять в свое удовольствие? Повезло, однако! Впрочем, я и вообще везунчик тот еще.
— Да, Витя, твоя правда колет. Ведь у каждого человека она своя. Одно дело — правда человека беспристрастного, и совсем другое — правда человека, заранее враждебно настроенного, как, например, ты. Но если ты думаешь, что меня задевает твое плохое отношение, то ошибаешься. Твое мнение — это твои проблемы, и мне нет до них никакого дела. Ты волен думать обо мне все, что угодно, но вот зачем меня посвящать в свои мысли, непонятно. Мыслей у меня и своих невпроворот.
То ли он не нашелся с ответом, то ли ему, наконец, надоело со мной разговаривать, но только до самого дома он молчал. Я-то думала, что он сразу уедет, как только высадит меня, но он закрыл машину и последовал за мной в дом. Меня это неприятно удивило, но я промолчала. Виктор, не раздеваясь, прошел в гостиную, постоял там, оглядываясь по сторонам, потом спросил:
— Я вижу, ты ничего здесь не меняла. Почему?
— Нет, конечно, зачем? Ведь это Володин дом.
— Но его больше нет, дом он оставил тебе, теперь ты здесь хозяйка и вольна все делать по собственному усмотрению.
— Вот я и делаю. Мне приятно оставить все так, как было при нем, словно он только вышел прогуляться, сейчас вернется, и мы сядем пить чай с его знаменитым вареньем из китайки.
— Чай — это хорошо, это прекрасно, а с вареньем — еще лучше! Давай в самом деле попьем чайку.
Нет! Он просто невозможный человек, ну как можно с таким разговаривать? Я пожала плечами и отправилась ставить чайник. Подумав немного, со вздохом достала баночку. Варенья осталось совсем немного, и я его берегла. Больше к чаю подать было нечего, даже хлеба не было, по дороге мы в магазин не заходили, а я перед отъездом в Москву последний хлеб раскрошила птицам, чтоб не плесневел здесь. Собирая на стол, я совершенно машинально извинилась за его скудость и тут же об этом пожалела.
— Я и не ожидал, что ты хорошая хозяйка, но ничего, я тебя прощаю.
Я уже открыла рот, чтобы отчитать этого нахала как следует, но вдруг передумала. И что он все ко мне цепляется, словно нарочно провоцирует на скандал, может быть, таким путем он хочет лишний раз убедить себя, какая я плохая и злобная? Насколько смогла, я приветливо ему улыбнулась:
— Что же делать? Какая есть. Но все равно я рада, что ты меня прощаешь, как-то сразу легче на душе стало. Пей пока чай с вареньем, Володя его сам варил, а уж поешь дома.
— Ты что, уже выгоняешь меня?
— Нет, ну что ты! Как можно! Конечно, посиди еще, мне нравится, когда ты говоришь гадости, это так приятно.
Чуть не подавившись чаем, Виктор отодвинул недопитую чашку от себя, резко встал и подошел ко мне совсем близко:
— Послушай меня внимательно, язвочка моя распрекрасная! Все эти твои бабские штучки на меня не действуют, я не Володька, светлая ему память! И заруби себе на носу, что, если бы не он, я никогда в жизни не только бы не стал помогать тебе, но даже и смотреть-то в твою сторону.
— Взаимно. Я принимаю твою помощь только потому, что ты близкий друг Володи.
Он стоял так близко, что его гневное дыхание опаляло мне щеки. Выговаривая последнюю фразу, я взглянула ему в лицо, словно принимая его презрительный вызов, и неожиданно для себя вдруг увидела, какие у него красивые темные глаза и длинные ресницы. Это нечаянное открытие почему-то сильно расстроило меня, и я резко отшатнулась от Виктора. Но он придержал меня за локоть:
— Не так быстро, наш разговор еще не окончен. Хватит пустой болтовни, теперь поговорим о деле. Сколько ты намереваешься здесь пробыть, неделю? Так вот, слушай меня внимательно — без меня отсюда ни шагу. Будет лучше, если ты никому, даже родным, не будешь звонить отсюда, они ведь не знают, что ты здесь? Или знают?
— Я никого не извещала, да и никто, кроме Любаши, моей двоюродной сестры, вообще не знает о том, что у меня появился этот дом. Любаша, конечно, может догадаться, что я здесь, но это не страшно, ведь Павел ни ей и никому вообще из родных и знакомых звонить не будет. Покойники не звонят, а он для всех, кроме меня, покойник. Но к чему такие предосторожности? Насколько я понимаю, мне надо просто переждать, пока он не перестанет меня искать и не успокоится. Так?
— Я и не рассчитывал, что ты хоть что-то понимаешь, так что можешь не ломать себе голову. Сиди здесь тихонько, как мышь, я за тобой приеду.
После этих слов он направился к выходу. Но я не могла на этом успокоиться.
— Постой. А почему это именно ты приедешь за мной? Я этого не хочу, ведь Андрей сказал, что приедет кто-нибудь.
Виктор посмотрел на меня так, словно я надоедливое насекомое, о которое просто руки не хочется марать, чтобы пришлепнуть его, вышел в прихожую, снял с вешалки куртку и ушел. После его ухода я задумалась о том, правильно ли я вела себя, может, надо все-таки быть с ним повежливее? Как-никак, пусть нехотя, с нескрываемым отвращением, но он взялся мне помочь. Но тут свои не слишком веселые размышления о Викторе пришлось прервать, потому что, взглянув на часы, я поняла, что если собираюсь сегодня поужинать, а завтра утром позавтракать, то мне надо поторопиться в магазин.
Соблюдать предписанные этим жутким Виктором правила я не собиралась, не хватало еще только, чтобы мои родные начали меня искать. Поэтому через день я позвонила с почты Любаше и Кате. Любаши дома не было, зато у нее теперь был автоответчик. Подивившись новшеству, я пообщалась с аппаратом, сообщив ему, что занята работой и, когда освобожусь, позвоню. Катя оказалась дома, у нее было хорошее настроение. Она мне самым подробнейшим образом рассказала о своих новых тряпках, в ярких красках описала очередную каверзу Мишутки, пожаловалась, что муж мало бывает дома, быстренько спросила о моем здоровье и куда-то заторопилась. Поскольку она не спрашивала, где я пропадаю, я поняла, что она мне не звонила. Напоследок я сказала, что буквально завалена работой и несколько дней буду недосягаема. Такое бывало нередко, и Катя спокойно распрощалась со мной.
Работы с заказом, хотя и очень кропотливой, было в общем-то немного, и я ее завершила в три дня, благо кроме этого ничего и не делала. Затем я принялась за собственное творение, оно меня увлекло, несмотря на то, что шло не очень легко, некоторые места приходилось переделывать по нескольку раз. На седьмой день работа была в разгаре, я вся была не здесь, а в каких-то заоблачных высях, увлекаемая своим вдохновением, поэтому меня крайне неприятно поразил быстрый стук в дверь, и тут же послышались шаги в коридорчике. Это был, конечно же, Виктор, кто еще мог так нахально ворваться. За последние дни, занятая работой, я как-то успела подзабыть о том неприятном впечатлении, которое он на меня производит. Теперь его бесцеремонное, как мне показалось, вторжение вызвало у меня сильный приступ раздражения, и все ранее намеченные планы вести себя с ним сдержанно и корректно моментально вылетели из головы. Я молча уставилась на него, стараясь держать себя в руках, чтобы не вспылить и не наговорить ничего такого, за что потом было бы стыдно.
— Здравствуй! Я что, напугал тебя? Ты смотришь на меня как на привидение. Но я вижу, ты совсем не готова, это очень плохо. Ко всему прочему, оказывается, ты еще и несобранная! Ну что же делать, я подожду, и все же поторопись, будь уж так любезна.
— Нет, это уж ты будь так любезен и объясни, что ты здесь делаешь? Входишь, как к себе домой, прерываешь мою работу. А ведь я не звонила и не просила за мной приезжать.
— Ну вот что я тебе скажу: если бы ты потрудилась закрыть дверь, то я не вошел бы так легко. А теперь попробуй забыть хоть на время, что ты мегера и что у тебя самый отвратительный характер на свете, вспомни о деле. Ведь это у тебя неприятности, а не у меня. Тем не менее я бросаю все свои дела, а у меня их немало, и достаточно серьезных, и приезжаю сюда, чтобы помочь тебе справиться с твоими трудностями. Но мне некогда учить тебя элементарной вежливости, если ты соберешься быстро, то так и быть, в виде исключения, я приму это как твои извинения.
Я не знала, что сказать в ответ. Я и в самом деле вела себя не слишком вежливо, но этот человек выводил меня из равновесия одним своим заносчивым видом. И я действительно не звонила и не просила приезжать за мной, а ведь Андрей обговаривал это непременное условие. Я еще раз напомнила об этом Виктору, стараясь выглядеть спокойной и рассудительной, а не то с него станется прилепить мне что-нибудь похуже мегеры.
— Обстоятельства изменились, и тебе лучше быть в Москве, — соизволил он объяснить.
— Чьи обстоятельства изменились? И для кого лучше, чтобы я была в Москве? — все еще не сдавалась я.
До этого момента Виктор говорил со мной достаточно спокойно, включая и сделанный мне выговор, но сейчас выдержка, казалось, изменила ему. Он как-то весь передернулся, но все-таки сдержался, только окинул меня уничтожающим взглядом и вдруг совсем неожиданно спросил:
— Сколько тебе лет на самом деле?
— Что значит — на самом деле? Мне сорок восемь лет, и я ни от кого никогда не скрывала свой возраст, — ответила я ему с вызовом.
— Ну, по тебе этого не скажешь, поскольку ведешь ты себя как совершенно невоспитанная девчонка, которую надо было побольше шлепать. Не знаю, чем были заняты твои мозги до сих пор, но, судя по твоей, мягко говоря, неумной реакции, ты так и не удосужилась понять, в какое дерьмо вляпалась!
Слова его были не только грубыми, но и несправедливыми, а потому мне стало до того обидно, что на глазах выступили непрошеные слезы.
— Я ни во что не вляпалась, как ты изящно изволишь выражаться, поскольку совершенно ни в чем не виновата. Я просто живу, как жила до сих пор. Не моя вина, что на свете бывают преступники, даже если этот преступник мой бывший муж. У нас, в конце концов, есть соответствующие органы, чья прямая обязанность ловить преступников, вот пусть они этим и занимаются, а я буду заниматься своим делом.
Выпалив все это, я уселась на стул и уставилась в окно. Там светило весеннее солнце, на ветке голой еще сирени прыгали две синички. Мир за окном был так хорош, а я сижу тут как дурочка, и меня поучает и без конца теребит совершенно невозможный, наглый тип. Наглый тип тоже уселся на стул, посмотрел в окно, но, не найдя там ничего для себя интересного, возвел глаза к потолку и, обращаясь к нему как к собеседнику, заметил:
— Интересно, почему это женщины, когда им больше нечего сказать, сразу прибегают к слезам? Наверное, хотят разжалобить, а зря!
Я не сразу поняла, при чем тут слезы, но тут же почувствовала, как по моей щеке и вправду ползет предательская, соленая капля. Я поспешно вытерла глаза, пока за одной не последовали другие. Посмотрела на своего мучителя, он все еще делал вид, что его очень интересует потолок, притворщик.
— Ты отстанешь от меня?
Все еще не отрывая взора от столь интересующего его предмета, он вздохнул притворно и медленно покачал головой:
— Конечно, нет. Мне нужно, чтобы ты собралась и поехала со мной.
— Что ж, я иду собираться, поскольку ты не оставил мне выбора. Буду готова через десять, максимум пятнадцать минут. И это время ты вполне можешь провести в машине.
Виктор, не торопясь, свел взгляд вниз. Можно было подумать, что в его больших карих глазах сосредоточилась вся мировая скорбь.
— Ну правильно. Едва успела ты осушить свои притворные слезы, как уже начинаешь хамить.
И, уже направляясь к двери, небрежно бросил через плечо:
— Не могу никак понять, что в тебе мог находить Володька?
Это был болезненный укол, поскольку я и сама иногда задавалась этим вопросом. Поэтому я вспыхнула и постаралась ответить как можно более ядовитым тоном:
— Может быть, сердце?
Он приостановился, оглянулся и зашарил взглядом по моей фигуре, словно искал место, где оно могло бы помещаться, но, якобы не найдя его, пожал плечами:
— Вряд ли! — и вышел.
В названный мною срок я уложилась и вышла из дома через двенадцать минут, поэтому не обратила ни малейшего внимания на то, что он демонстративно смотрит на часы. Дверь машины он мне, конечно, не открыл, да и стоило ли ожидать от мачо столь любезного поведения?
Дорогой мы молчали, только уже при въезде в Москву я сказала свой адрес, несколько удивленная тем, что он не спрашивает, куда меня везти. Никакой реакции. Может быть, он везет меня не домой? Да нет же, еще два поворота, и мой дом. Но, недоезжая квартала, он вдруг затормозил возле большого продовольственного магазина и стал искать место для парковки машины.
— В чем дело? Я живу не здесь.
— И это мне говорит женщина! Ты же неделю не была дома, мыши и те, поди, от голода передохли. Нужно купить продукты, или ты на долговременной диете?
Я хотела ему ответить, что без него разберусь, но потом подумала, что раз уж остановились, то почему бы и не зайти? И все равно его такая забота обо мне, вкупе с саркастическими замечаниями, показалась мне весьма подозрительной. Возя тележку по залу и выбирая, что бы мне купить, я потеряла Виктора из виду, но вдруг он подошел с целой кучей продуктов. С чего бы это он так заботится о моем питании? Он посмотрел на меня совершенно спокойно:
— Конечно, очень приятно, что ты так хорошо обо мне думаешь, но вынужден тебя разочаровать — забочусь я в данном конкретном случае исключительно о собственной персоне. Люблю, признаться, поесть.
— Постой, постой! Если ты набираешь эти продукты себе, то не проще ли взять еще одну тележку и положить их туда, чем разбираться у кассы, где чьи продукты?
В ответ Виктор молча пожал плечами и так взглянул, словно я сказала невесть какую глупость. Я тоже промолчала, спорить себе дороже, а если кассирша начнет возмущаться, я скажу ей, чтобы с ним она и разбиралась. Но этот хитрый жук очередной раз удивил меня. Возле самой кассы он проворно оттеснил меня от тележки, оплатил чек, потом сноровисто, хотя и не слишком аккуратно распихал все продукты по пакетам, лично у меня уходит на это больше времени, и понес в машину.
Ровно через две минуты мы были уже у моего подъезда, причем я обратила внимание на то, как ловко он нашел въезд в мой двор, а это было совсем не просто для человека, незнакомого с этим местом. Наверное, он отлично ориентируется. Я хотела сразу вылезти из машины, но он придержал меня за руку, тщательно оглядел двор и только после этого разрешил мне выйти и вышел сам. «Тоже мне конспиратор!» — фыркнула я про себя.
Сумки он понес сам, мне не дал ничего, весь обвешался ими, и поэтому все двери — и подъезда, и лифта, и квартиры — перед ним пришлось распахивать мне. Интересно, а если бы на нас напали в подъезде, то чем бы он оборонялся, пакетами? А что, это идея! Особенно тем, в котором два десятка яиц! Когда мы вошли в квартиру, меня что-то насторожило, что-то почти неуловимое. Принюхиваясь, я вошла на кухню — определенно чем-то пахло. Запах был чужой, незнакомый, я сказала об этом Виктору. Вот тут бы ему и забеспокоиться, но ничего подобного, этот дешевый конспиратор и ухом не повел. Он стал распаковывать пакеты и рассовывать продукты как попало в шкафы и холодильник, который даже не был включен. Это зрелище доконало меня, я вырвала у него из рук упаковку сырокопченой колбасы и почти закричала:
— Ну что ты делаешь? Отбери свои покупки и отнеси их в машину, а уж со своими я как-нибудь разберусь сама, и разложить их по местам ума у меня хватит!
Я еще договорить не успела, а колбаса опять была у него в руках, он положил ее в холодильник, захлопнул дверцу и, повернувшись ко мне, делано улыбнулся и сказал:
— Насчет твоего ума я не уверен. — Я возмутилась, но он, не дав мне и рта открыть, продолжил: — Все продукты я купил сюда, для тебя и для себя, я буду здесь жить, временно, конечно. Теперь понятно? Эй! Очнись! — Я раздраженно дернула плечом, а он спокойно добавил: — Проснулась? Ну, будь как дома, — и прямиком направился в Котькину комнату.
Вместо того чтобы разозлиться на его бесцеремонное вмешательство в мою жизнь и устроить скандал, я молча побрела в свою комнату. Я так устала от всей этой неразберихи, что просто отказывалась реагировать на происходящее вокруг меня, по крайней мере пока. Войдя, я скинула туфли и, даже не сняв плаща, легла на кровать. Я лежала и думала о том, что не только сейчас, но и весь последний год со мной происходит всякая неразбериха и что я смертельно устала от всей этой фантасмагории. Я всегда была женщиной тихой и никогда не жаждала приключений на свою голову или иные части тела. Почему же все происходит иначе? Но мысли мои были какие-то вялые, текли словно сами собой, и я незаметно для себя уснула. Проспала я всего ничего, меня разбудил стук в дверь. Тут же появилась ненавистная мне физиономия Виктора, он обвел взором комнату, меня, лежащую прямо в плаще на кровати, и, скорчив постную мину, сказал:
— И это называется хозяйка! Дорогой гость в доме, а она, вместо того чтобы принять его как подобает, заваливается, словно пьяная забулдыга, одетой в кровать. Если я и раньше был невысокого мнения о тебе, то теперь твой рейтинг вообще на нуле.
Мне было безразлично в данный момент что бы он ни сказал, но вот плащ было жалко. Я повесила его на вешалку и пошла в ванную умываться, чувствовала себя лучше, эти несколько минут сна меня освежили. Но вскоре мое настроение опять поползло вниз. Мало того что в зеркале я увидела свое изрядно помятое лицо, видно неловко лежала, так еще заметила вещи Виктора, которые он успел разложить: зубная щетка, расческа, электробритва, флакон туалетной воды, рядом висели два полотенца, большое и маленькое. Н-да! «Наш пострел везде поспел», — прокомментировала я вполголоса. Когда вошла в кухню, то увидела сервированный стол, на плите жарилась картошка, которую новоявленный повар солил и помешивал. Я безучастно села за стол. Через пять минут все было готово.
— Праздничный ужин готов! — самодовольным тоном провозгласил Виктор.
— Для праздничного ужина не хватает вина, — вяло возразила я.
— Жень, ну ты и в самом деле пьяница! Все бы тебе пить да пить. Временно объявляю мораторий на спиртное. Когда меня здесь не будет, хоть упейся, а при мне ни-ни. Терпеть не могу пьяных женщин!
При этих словах он посмотрел на меня с таким выражением, словно я только и делаю, что напиваюсь до невменяемости. Меня передернуло, и я сказала:
— Как ты мне надоел! — На большее меня не хватило.
Он продолжал балагурить и подначивать меня с улыбочкой на губах, но я твердо помнила о том, что в каждой шутке есть доля шутки, и потому не удивилась, подметив недобрый блеск в его глазах.
Поужинав, я посмотрела телевизор в гостиной, но недолго, мне было не до него. Появился Виктор и устроился на диване с журналом. Я выключила телевизор и стала раздумывать, что же мне теперь делать, спать идти вроде бы рано, да и сон я себе уже перебила. В это время раздался звонок в дверь. Виктор оказался возле двери раньше меня, двигался он бесшумно, заглянул в глазок и, пропуская меня к двери, тихо шепнул:
— Обо мне ни слова!
Пока я открывала дверь, он успел быстро, но также тихо скрыться в Котькиной комнате. Я впустила в квартиру Светку, пригласила ее на кухню, но пока шла за ней по коридору, запоздало сообразила, что на столе следы ужина на двоих. И я срочно стала придумывать, что бы мне такое сказать, однако пугалась я зря. Ни на столе, ни в мойке ничего не было, пока я смотрела телевизор, Виктор успел все убрать. Мысленно махнув рукой и поставив на себе крест как на хозяйке, я предложила Светке чаю. Она охотно согласилась. Поболтав немного о том о сем, она вдруг спросила меня:
— Жень, тебя что-то долго не было видно, уезжала куда-то?
— Ну почему долго? Всего неделю, была у друзей на даче.
Она заторопилась:
— Я знаешь почему спрашиваю-то? Тебя тут женщина какая-то искала, два раза приезжала, тачка очень приличная, сама за рулем.
Новость меня удивила, странно, кто бы мог меня искать? Единственная женщина, которую Светка не знала, была Наташа, но с чего бы вдруг та стала меня искать, прекрасно зная, где я нахожусь?
— Свет, а что за женщина? Опиши мне ее, я что-то не соображу, кто мог меня искать.
— Да я ее, можно сказать, и не видела, только мельком, я во дворе была, когда она из подъезда вышла и в машину села. Я больше на тачку смотрела. Женщина вроде молодая, волосы темные, стрижка под пажа. Да ее старая грымза, твоя соседка, видела. Небось углядела в глазок, что она возле твоей двери топчется, ну и выглянула. Ты же знаешь, этой перечнице до всего есть дело. Она-то меня потом и расспрашивала: кто, мол, к Жене приходил да кто? Ну, я ей и сказала, что же вы у той женщины не спросили, как же это вы оплошали? Так что ты думаешь? Бабенка эта, ну под пажа-то, второй раз приехала, а грымза ее специально подкараулила и спрашивает: а вы кто ей будете? Та ей ответила, что твоя подруга, все никак тебя застать не может, и не знает ли эта соседка, где можно тебя найти. Грымза и тут не оплошала, ведь все про всех знает, не хуже КГБ, ответила, что у дочери, больше, мол, ей и негде быть. Потом, уже после ее отъезда, грымза меня опять подловила, я как раз с дежурства возвращалась, пересказала мне весь разговор, а сама все удивляется, что это, мол, у Жени подруга больно молодая, не больше тридцати. А я ей и говорю: ну и что? Мне ведь тоже тридцать, что ж мне теперь, с ней и не дружить? — с тобой то есть, ну, в общем, одно слово — грымза!
Я задумалась, эта загадочная женщина, которая вдруг начала меня разыскивать, мне совсем не нравилась. Светка, видя, что мне стало не до нее, разом поскучнела и стала прощаться. Я проводила ее до двери и, закрыв за ней, услышала, как за моей спиной кашлянул Виктор, я даже вздрогнула от неожиданности.
— Как ты думаешь, Женя, может, сейчас расспросить соседку?
Я взглянула на часы: почти одиннадцать, и отрицательно покачала головой:
— Нет, слишком поздно, она рано ложится. Скорчив неопределенную мину, он отодвинул меня от двери и снял цепочку. Я возмущенно дернулась, но он приложил палец к губам, отвел меня от двери и сказал:
— Так надо, но ты не волнуйся, иди спать. Хорошенькое дело, не волнуйся, без цепочки дверь ничего не стоит открыть. Но возмущаться я не стала, черт с ним!
Утром меня разбудил неугомонный Виктор, причем не просто постучал в дверь, а тут же вошел и уселся на кровати, глядя на меня с любопытством. Первая отчетливая мысль у меня была, что он редкостный хам, а вторая: боже, я, наверное, выгляжу невероятно скверно после сна — глаза опухшие, волосы всклокочены, то-то он на меня так уставился. Он тут же ответил на мой безмолвный вопрос:
— Знаешь, сонная ты выглядишь моложе. Я бы даже сказал, как-то беззащитнее, почти не верится, какой мегерой ты бываешь.
Заметив, что я уже открыла рот, чтобы ответить, он продолжил:
— Короче! Хватит валяться в постели, через пять минут жду тебя на кухне, — и с этими словами вышел.
Я чуть не задохнулась от злости, но излить ее уже было не на кого, чтобы хоть немного разрядиться, я постучала кулаком по краю кровати, ушиблась и, разозлившись окончательно, вскочила с постели.
Стоя под душем и наслаждаясь теплыми тугими струями, я думала о том, что Виктор намеренно выводит меня из себя, можно в этом и не сомневаться. Наверное, его очень забавляет мой рассерженный вид, да и просто досадить мне хочется лишний раз, ведь он меня терпеть не может. Итак, с ним все ясно, другое дело — я сама. Я-то почему с такой легкостью поддаюсь на его подначки и откровенные провокации? Напрашивающийся вывод меня несколько удивил: я поняла, что меня это тоже развлекает. Поразмыслила еще, и мое удивление рассеялось: ведь так, то шутя, то цапаясь всерьез, было намного легче переносить соседство неприятного человека и постоянное ощущение опасности над своей головой. Вытираясь и одеваясь, я рассуждала, что если бы я была вынуждена таить в себе постоянное раздражение на Виктора, а ведь он его вызывает во мне одним своим видом, то это раздражение, скапливаясь и не находя выхода, было бы чревато большим взрывом. Один бог знает, каких дров я могла бы тогда наломать. Несколько разобравшись в себе и наведя относительный порядок в своей внешности, я появилась на кухне. Судя по аромату яичницы и кофе, завтрак был уже готов. Вот и еще один плюс, подумала я про себя. Усевшись на стул, я вдруг поразилась тому, что все знакомые мне мужчины готовят сами, да еще и меня кормят, и как это только у меня получается? Я подумала, что очень удобно устроилась, и это было так смешно, что я зафыркала, как мне казалось, про себя.
— И чему же это ты улыбаешься, да еще с таким ехидством? Опять какая-нибудь гадость на уме? О деле совсем не думаешь. Лучше бы поторопилась с завтраком и пошла навестила соседку.
Говорил он вроде бы спокойно, но какое-то затаенное недовольство в нем чувствовалось. Я увидела, что он весьма неодобрительно разглядывает мою одежду. На мне была пестрая трикотажная кофточка и в тон ей трикотажные обтягивающие брючки до колен, очень удобный вид одежды для дома, просто молодец кто его придумал! А этому брюзге, видите ли, не нравится. Я было заулыбалась, глядя на его хмурую мину, но улыбка тут же сползла с моего лица, когда я опустила взгляд на тарелку перед собой: яичница была с ветчиной. Ну что ж, не получилось позавтракать сегодня без хлопот. Я молча отодвинула тарелку от себя и полезла в холодильник за сыром и маслом, сделала себе пару бутербродов — вот теперь можно и позавтракать. Виктор даже нос сморщил:
— Значит, ты считаешь, что бутерброды с утра, натощак, полезнее для желудка, чем добротная яичница? Нет? Тогда что? А-а! Ясно, это, наверно, Володька успел заразить тебя своими сумасбродными идеями вегетарианства, угадал?
Я улыбкой подтвердила его догадку. Он в ответ скорчил какую-то уж вовсе невообразимую гримасу и принялся поедать мою порцию яичницы, свою он давно уже уплел.
— Ну, тебе же хуже! И да будет тебе это известно, от бутербродов полнеют. Скоро ты станешь такая толстая, что в дверь не пролезешь, — мстительно улыбаясь, ликовал он, видимо представляя меня толстой.
— Не хотелось бы тебя огорчать, но вряд ли мне это грозит, я ведь все время ем бутерброды по утрам, и, как видишь, совсем не толстая. И потом, знаешь, своим ехидством по поводу моей фигуры ты мне настроения не испортишь, я за ней и в молодости-то не следила, а уж теперь, когда мне сто лет в обед, тем более. Да и кому какое дело, как я выгляжу? Ты мне вот что лучше скажи, ты все слышал вчера, что говорила Света о какой-то женщине, или мне пересказать?
Виктор сверкнул на меня своими цыганскими глазами, скривил губы, словно от боли, и ответил:
— Пересказывать-то нечего: примерно тридцать лет, темные волосы, стрижка под пажа, назвалась твоей подругой, но ты ее, конечно же, не знаешь. Можно кого-нибудь отыскать по таким приметам? Это ж куры и те смеяться будут! Темные волосы. Да вы способны не то что каждый день, но и дважды в день менять их цвет. Со стрижкой малость посложней, но и тут существует хитрость: надела бабеночка парик хоть со стрижкой, хоть с длинной косой, и ищи-свищи ее! Ладно, пойдем говорить с соседкой, вряд ли она много добавит, но опросить надо. А ты сидишь, понимаешь ли, тут, кофеек попиваешь, вместо того чтобы делом заняться.
Я поперхнулась кофе, до того был неожиданным переход в его речи. Когда откашлялась, бросила взгляд на часы, было всего лишь полдевятого, ну и куда, спрашивается, он меня так торопит? Я бросила на него уничтожающий взгляд, но Виктор и бровью не повел.
— Ты вчера сама сказала, что соседка рано ложится, а значит, и встает тоже рано.
Но нас ждало жестокое разочарование, дочь соседки сказала, что мать еще вчера днем уехала к сыну и пробудет там дня три-четыре.
— Облом! — подытожил результат мой мучитель и посмотрел на меня так, словно это я была виновата в том, что соседка уехала, не посоветовавшись с нами. Но я тоже разозлилась:
— Нечего было так рано меня будить. Я так сладко спала!
— Вот-вот! Чего еще от тебя ждать. Ты будешь себе спать-почивать, а другие за тебя все сделают, — ответствовала мне эта ехидина.
Настроение было ни к черту, я совершенно не знала, чем себя занять, и слонялась по квартире как неприкаянная. Наконец взяла себя в руки, протерла везде пыль, вымыла полы и уже домывала ванную, когда раздался телефонный звонок. Я все сразу бросила и побежала к телефону, по дороге меня перехватил Виктор и сказал:
— Если это Павел, соглашайся на встречу.
Я только отрицательно покачала головой и взяла трубку. Это была моя редакторша, ее интересовало, успела ли я сделать заказ. Я договорилась с ней, что через час-полтора подъеду и завезу готовую рукопись. Виктору, судя по всему, это совсем не понравилось, но сказать он ничего не успел, потому что телефон тут же зазвонил опять. Я взяла трубку: Павел.
— Дражайшая моя, где это ты пропадаешь? Я звоню тебе, звоню, а тебя все нет. Неужели и вправду любовника завела? Смотри — голову оторву!
Я недоверчиво и весело хмыкнула:
— Что я слышу? Просто ушам своим не верю. Много лет моя личная жизнь тебя совершенно не волновала, к чему же теперь такие знойные страсти? Ты даже меня встречаешь по вечерам в темных местах. И не стыдно тебе так пугать женщину? Да, и должна тебе заметить, что усы тебе совершенно не идут. У тебя с ними дешевый вид!
Виктор, слушая мой разговор с бывшим мужем, жутко бесился и строил зверские рожи, видимо, по его мнению, я должна была говорить с ним совсем не так, но в данный момент мне была безразлична его реакция.
— Киска! О чем ты говоришь? Мой внешний вид — это совсем не твоя забота. Но вот что нам с тобой нужно, так это встретиться. Ты меня понимаешь? Совершенно необходимо, — донеслось из трубки.
Голос у Павла был бархатный, и в прежнее время я была бы уже в истоме и сердце мое билось бы быстро и горячо, но за последний год я сильно изменилась, к чему и он немало сил приложил. Но вот его вульгарное обращение «киска» меня очень возмутило, раньше за ним такого не водилось.
— Извини, Павел! Я сильно ошиблась насчет твоих усов, они вполне тебе подойдут, поскольку ты, как я вижу, и вправду стал заправским бандитом. Позволь поинтересоваться, изысканный стиль речи ты, случайно, не у своей красотки перенял? Не она ли тут меня разыскивала под видом моей подруги? Ну так передай ей, что такой подруги у меня просто быть не может.
Я повесила трубку с некоторым чувством морального удовлетворения, которое, впрочем, просуществовало совсем недолго и тут же испарилось при взгляде на Виктора. Казалось, он аж дымится от гнева, даже заговорил не сразу, а почти целую минуту испепелял меня огнем своих черных глаз.
— Нет, я, конечно, очень быстро понял, что ума у тебя отнюдь не палата, но чтобы быть до такой степени дурой?! Ты что, не понимаешь, что играешь с огнем? Зачем ты ему сказала про эту бабу? У него и раньше не было особенных причин желать тебе долгих лет жизни, а теперь и подавно.
Вот тут-то я и разошлась! Дала себе волю выплеснуть все, что имела.
— Не смей орать на меня! Ты мне никто и не имеешь никакого права так со мной разговаривать! Эта баба говорила с моей соседкой, дураку понятно, что соседка непременно мне все расскажет. А если ты уж до такой степени заботишься о моей жизни, то с какой такой стати советовал мне непременно встретиться с Павлом? Что? Да я уже и без того подозревала, что ты или из милиции, или работаешь на нее, но после твоего совета поняла это окончательно. Конечно, я понимаю, я для вас очень удобный объект, вы ведь на меня, как на живца, собираетесь поймать Павла, и при этом главное для вас — это поимка преступника, а что будет со мной, вам совершенно наплевать! То-то ты вчера снял цепочку с двери.
Говорила я довольно эмоционально, но в душе у меня царили пустота и холод. Про живца я ведь сказала так, наобум, в запале, еще минуту назад я ни о чем подобном и не думала, слова сказались сами, по какому-то наитию. Но лишь прозвучали они, мне тут же стало понятно, что этой в самом деле так, да и у Виктора в этот момент что-то такое мелькнуло в глазах. Потому и овладели мною холод и печаль. Виктор, видно, понял, что творится у меня внутри, и возразить сразу не посмел, глаза опустил, правда, тут же поднял их, собрался сказать что-то, но не успел. Зазвонил телефон, и я сняла трубку, конечно, это был Павел.
— Женя, не дури. Раз я сказал, что необходима встреча, значит, так оно и есть, отказываясь от нее, ты только себе же делаешь хуже. — На этот раз он говорил без всякой бравады.
Я перебила его:
— А что, есть куда хуже?
— Есть! То-то и оно, что есть! Поверь мне, я не желаю тебе зла, вспомни, нас ведь многое связывало и связывает в жизни. Любовники или любовницы — это все временно и ненадежно, самое главное — ненадежно… Женя, ты в опасности, сейчас не время и не место объяснять, как и почему, но ты должна уяснить, что кроме как на меня тебе больше не на кого рассчитывать. Я не хотел тебя пугать, поэтому не сказал этого сразу, при нашей прошлой встрече, но ты стала совсем неуправляема. Женя, пойми, что я и в самом деле единственный человек, кого тебе не надо бояться, единственный, у которого есть резон защитить тебя. Давай встретимся прямо сейчас, время не терпит.
— Я не могу сейчас. Давай встретимся вечером в шесть часов у нашего универсама.
Я повесила трубку, медленно повернулась и посмотрела Виктору в глаза. Губы его скривились, словно у него что болело внутри, но взгляд мой он выдержал.
— Ну что, теперь ты доволен? Все как ты и хотел. В шесть часов вечера мы встречаемся с ним возле того самого магазина, где вчера с тобой делали покупки. Можешь рапортовать начальству, или кто там у тебя.
Я хотела пойти к себе, но он остановил меня, видно, ему казалось, что еще не все сказано, что как-то можно все объяснить и понять по-другому.
— Подожди, не уходи. Я должен объяснить тебе. Ты не права насчет живца. Твой бывший муж, судя по всему, из тех людей, которые идут напролом, ни перед чем не останавливаясь. Рано или поздно он бы тебя все равно подкараулил где-нибудь, и кто бы тебя тогда защитил? А сейчас это будет заранее спланированная встреча, которую мы можем контролировать. Я кое-что слышал из того, что он тебе сейчас говорил, и вот что я тебе в свою очередь скажу — не верь ему!
— Ну-ну! — только и сказала я ему на это и, обойдя его, как досадное препятствие, направилась к себе.
— Ты куда?
— Странный вопрос. Переодеваться, куда же еще? Ты же сам слышал, что я договорилась о встрече в редакции, меня ждут, и меня очень интересует эта встреча, так что ехать я должна непременно. И не надо, пожалуйста, возражать. Я так устала от всей этой суеты и бестолковщины. Поездка совершенно безопасна, зачем, скажи на милость, Павлу нападать на меня по дороге, когда я и так с ним вечером встречаюсь?
— Ты слишком упрощенно об этом судишь и поэтому ошибаешься. Откуда тебе знать, что для него удобнее? Сейчас тебе одной нигде небезопасно, даже здесь. Он мог договориться с тобой о встрече для отвода глаз, чтобы заморочить тебе голову, а сам тут же начнет действовать. Я не только категорически против твоей поездки и вообще каких-либо выходов из дому, но буду всячески препятствовать тебе выйти отсюда до назначенных шести часов всеми способами, включая физическую силу. Будет лучше, если ты сейчас позвонишь в издательство и отменишь встречу.
Я посмотрела на него, поняла, что то, что он сказал мне, отнюдь не пустые слова, и если я буду возражать ему или сопротивляться, то он не замедлит связать меня по ногам и рукам и привязать к стулу. Редактор была крайне недовольна моим взбалмошным поведением. Она попросила позвонить ей через два дня, я, конечно, согласилась, а про себя подумала: если буду жива. С таким вот настроением я и побрела к себе в комнату. Не страх возможной смерти или, еще хуже, увечья холодил мое сердце и угнетал меня, но ощущение полной пустоты, зыбкости и невозможности кому-то верить и на кого-то опереться. Виктор убеждает меня не верить Павлу — смешно! Но и самому Виктору верить причин у меня, по сути, не было. Я не могу опереться даже на то, что он близкий друг человека, который меня так любил, ведь именно этого он мне и не желает простить. Верить в то, что меня будет защищать милиция, как говорится, не щадя живота своего, лет тридцать назад еще было возможно, по крайней мере для таких наивных, как я, но сейчас даже мне это казалось фантастикой. Есть такое емкое слово — фатализм, именно это и владело мною сейчас: будь что будет!
От обеда я отказалась, невзирая на все уговоры Виктора, а когда он стал чересчур настойчив, то попросила его удалиться из моей комнаты. В пять минут шестого я отправилась под душ. Контрастное обливание взбодрило меня, вялость исчезла, в голове прояснилось, а когда я немножко подкрасилась, то и вовсе почувствовала, что готова к бою. Виктора я попросила приготовить мне крепкий кофе, он согласился, сейчас он был покладист. Я надела брюки, которые хотя и были спортивными, но выглядели нарядно, а главное, мне в них было комфортно. Обтягивающий свитер нежной вязки кораллового цвета дополнил мой наряд, отнюдь не вечерний, но вряд ли Павел поведет меня в театр или ресторан. Свитер мне шел, я это знала, потому и не удивилась, заметив явное одобрение в глазах «охранника». Обула туфли на небольшом, устойчивом каблуке. Плащ заменила курткой, в ней удобно и тепло, дело-то к ночи. Все, я была готова. Виктор бормотал какие-то последние указания по переговорному устройству, которое вытащил без всякого стеснения. Я кинула в зеркало прощальный взгляд и отправилась в путь, конца которого не знала.
На условленном месте я была в начале седьмого, народ возле магазина сновал, но никого похожего на Павла и близко не было. Ни Виктора, ни его людей, которых, впрочем, я и не знала, тоже не наблюдалось. Ветер дул довольно противный, стоять было холодно, и я стала прохаживаться, сначала не спеша, а потом все быстрее, потому что место было открытое, и ветер пронизывал насквозь. Походив таким образом несколько минут, я разозлилась, в конце концов, кому была нужна эта встреча, мне или Павлу? Посмотрела на часы — двадцать минут седьмого, ну все, к черту! Я иду домой. Повернула за магазин в переулок и только собралась перейти проезжую часть, чтобы нырнуть в один из проходных дворов, как где-то за моей спиной раздался истошный визг тормозов. Чисто машинально я хотела обернуться, но не успела, что-то тяжелое обрушилось на мой затылок. Молот, еще успела я подумать и провалилась в темноту.
Открыв глаза, а вернее сказать, с трудом разлепив веки, я обнаружила себя в какой-то комнате лежащей на диване. Дрожащей рукой ощупала себя, вроде бы все у меня было на месте и ничего не пострадало, за исключением головы, а вот уж зато она болела так, что, как говорится, искры из глаз. Ах да! Меня же ударили молотом! Нет, не может быть, если бы молотом, то головы у меня уже не было бы, а раз болит, значит, есть. Попробовала повернуть немного голову, отчего боль запульсировала с еще большей частотой и меня затошнило, значит, сотрясение мозга обеспечено. Но по крайней мере, я увидела, что рядом со мной никого нет, большая и смутно мне знакомая комната была пуста. Но вот за дверью бубнили два голоса, я прислушалась и различила, что один из голосов принадлежит Павлу, второй — моложе и грубее. Я стала очень медленно и осторожно приподниматься. Голова сильно кружилась, во рту был противный железистый привкус, может, прикусила язык при падении? Кое-как мне удалось сесть и привалиться к спинке дивана, сидеть самостоятельно я не могла. Н-да! Как он там мне сказал: запланированная встреча, которую можно проконтролировать? Нечего сказать — контроль у них на высоте! Хотя… А может быть, им все так и надо? Главное, чтобы ожидаемая добыча заглотила наживку, а о самой наживке думать как-то не принято. И в самом деле, что я жалуюсь? Кто же думает о червяке, когда ловит рыбу? Интересно, насколько сильно мне расшибли голову? Пощупать боюсь, вдруг она совсем пробита? Черт! Как тошнит-то. Когда перед глазами перестало все сверкать и кружиться, я стала осматриваться более детально. Ну да, не случайно комната показалась мне знакомой, ведь я уже была здесь и даже на этом диване успела полежать. Ведь это же та дурацкая дача, куда меня Павел уже привозил. Как жаль, что я не смогла ничего запомнить про эту дачу в прошлый раз и поэтому не сообщила Андрею никакой ценной информации. В ином случае, глядишь, меня уже и выручили бы, а теперь один Бог ведает, что со мной будет дальше.
Голоса в коридоре смолкли, и дверь приоткрылась. Лицо, которое появилось в дверном проеме, лицом было назвать затруднительно, скорее уж морда. Увидев меня, морда мгновенно скрылась, прикрыв за собой дверь, и пробубнила что-то типа «она сидит», но, может быть, и не это. В ушах у меня стоял шум, как от морского прибоя, здорово же меня ударили! Минуты через две дверь опять открылась и вошел Павел, при виде меня он улыбнулся так, словно я была лучшим призом в его жизни. Подошел ко мне и протянул чашку с чем-то похожим на черный кофе. Я протянула руку, но чашку не взяла, а вышибла ее из рук Павла. В ответ на его возмущенный возглас я тоже улыбнулась, правда, боюсь, получилось криво, голова раскалывалась от боли, и сказала ему проникновенно:
— Мой дорогой, я просто не хочу облегчать тебе задачу. Если собираешься меня отравить, то тебе придется силой вливать в меня свое пойло, добровольно я пить его не стану.
— Ну, опять двадцать пять! Не собираюсь я тебя травить. Я ведь уже говорил, что не причиню тебе зла, говорил? Брось ты эти дурные мысли, они тебя до добра не доведут, того и гляди, крыша съедет.
— Конечно, съедет. Еще бы ей не съехать, если по ней так врезали.
— Это другое дело.
— Дело-то, может, и другое, но голова у меня одна. Так что не надо делать вид, что ты меня жалеешь и желаешь мне добра. Лучше скажи, чего ты от меня хочешь? Зачем я тебе нужна?
Павел присел на диван рядом со мной, помолчал немного, словно собираясь с мыслями. Я ждала с любопытством, было интересно, что-то он мне скажет, я была больше чем уверена, что он будет сейчас лгать и выкручиваться. Но услышала я совершенно неожиданное:
— Что это за мужик жил у тебя на квартире несколько дней назад? Неужто и вправду любовника завела, а может быть, уже и замуж выскочить успела?
Увидев удивленную мину на моем лице, он разозлился:
— Вот только не надо мне лапшу на уши вешать, что ты якобы ничего не знаешь! Я сам, своими глазами видел, как он входил в твою квартиру, и раз уж ты дала ему ключи, то, может быть, поднапряжешься немножко и вспомнишь, кто он такой, или у тебя так много любовников, что надо время, чтобы всех их вспомнить?
— Незачем мне напрягаться, любовник у меня всего один, а замуж я пока не собираюсь, зачем? Так гораздо лучше. И я не понимаю, ты что, против того, чтобы я имела любовника? Но ведь это несправедливо. Даже если оставить без внимания, что ты мне бывший муж, а не нынешний, то сам-то ты целый гарем имеешь, помнишь, сам хвастался? А я тоже еще не очень старая, тоже развлечься хочу.
— Кончай придуриваться! Я задал тебе вопрос: кто он?
— Вопрос слышала, но он мне непонятен. Что значит — кто? Для меня вполне достаточно того, что он — а) человек, б) мужчина, в) мой любовник. Как видишь, всего три качества, но необходимые в данном случае. Судя по твоему виду, тебе этого мало, но боюсь, больше мне нечего сказать.
— Что-то ты слишком много говоришь. Что, голова уже не болит? Откуда взялся этот твой хмырь? Где и кем работает?
— Не волнуйся, все банально, нас познакомила одна моя подруга, ты ее не знаешь. Он хороший друг ее мужа, а вот кем работает, я пока еще не знаю, тему его работы мы пока не затрагивали.
Мой ответ был чистой правдой, да и звучал вполне правдоподобно и невинно, тем не менее Павлу ответ почему-то не понравился, и он зло сузил глаза. Что он мне собирался сказать, я так и не узнала, потому что открылась дверь, в нее просунулась давешняя морда, стала подмигивать Павлу и строить какие-то жуткие гримасы. Павел ожег меня взглядом и быстро вышел.
Я задумалась, что никто, кроме Виктора, не мог жить в моей квартире, пока я была в Фирсановке. То-то он так лихо подъехал к дому, знал, значит, куда ехать, и на мои слова о чужом запахе не прореагировал. А чего реагировать, когда для него этот запах вовсе и не чужой, а родной, свой собственный. И как он, интересно, попал в квартиру? Ведь ключей я ему не давала, здесь Павел как раз ошибается, наверное, с помощью отмычек. Ишь ты, ловкач! Да, но зачем это ему было нужно? Хотя что тут гадать, небось подстерегал Павла, хотел подловить его, когда тот полезет в квартиру, но Павел каким-то образом перехитрил его. Виктору ждать надоело, и он заставил меня вернуться, чтобы я сыграла роль подсадной утки, что и говорить, роль мне удалась. Да, интересные, однако, напрашиваются выводы, и весьма неутешительные, ведь и тот и другой, что называется, разыгрывают меня втемную, используют как пешку в какой-то неизвестной мне игре. Интересно, что же служит ставкой? Должно быть, что-то очень немаленькое, очень. Но тут я одернула себя, что интересуюсь совсем не тем. Какая мне разница, что нужно этим мужикам, которым совершенно на меня наплевать, мой-то интерес — моя жизнь, а за нее сейчас гроша ломаного никто не даст.
Мои горестные размышления были прерваны, причем самым ужасным образом. За дверью вдруг раздался странный шум, какие-то дикие крики, что-то тяжелое упало, потом громкий треск, еще и еще. Я прислушивалась в полном изумлении: я просто брежу, не может быть, чтобы за дверью стреляли из автоматов, что они, с ума, что ли, сошли, ведь это же не кино! Топот и треск стихли, дверь с шумом распахнулась, ударившись о стену, и в комнату ввалилась группа низкорослых людей с оружием в руках.
Они втащили в комнату скованного наручниками Павла, куртки на нем не было, разодранная рубашка в крови, лицо тоже окровавлено. Я содрогнулась. Подтащив его поближе к дивану, толкнули, он упал на бок рядом со мной и тихо застонал сквозь зубы, но совладал с собой и сел. От ужаса происходящего на меня словно ступор нашел, я как окаменела вся, может быть, поэтому на меня и не обращали никакого внимания. Но нет, я, к сожалению, ошиблась, черные фигуры, как по команде, раздвинулись, и из-за их спин вышел маленький человек в какой-то странной шапке. Орлиный нос занимал две трети худого, желтого лица, прищуренные глаза смотрели умно и зло. Человек подошел ко мне и, наставив прямо в лицо кривой и грязный палец, спросил:
— Где?
Наверное, это сумасшедший, как-то медленно подумала я. Ни говорить, ни шевелиться я не могла. Оттого, что я молчала, но не отводила глаз, а наоборот, смотрела пристально и напряженно, лицо человечка начало наливаться кровью, он даже задрожал от злобы. Но мне нечего было ему сказать, даже если бы я и могла сейчас говорить, я ведь не поняла, о чем он меня спрашивает. Не знаю, что было бы дальше, наверное, что-нибудь ужасное, так как главарь этот уже махнул рукой одному из своих подручных, но тут неожиданно вмешался молчавший до этого Павел. Он прохрипел:
— Бек, она ничего не знает, она тут совсем ни при чем!
— А пачему она тогда здесь? — У него так и звучало — пачему.
— Это моя жена, Бек, моя бывшая жена. Она завела себе любовника, и я хотел с ней разобраться!
Главарь этот, которого Павел называл Беком, вдруг стал кашлять и при этом как-то странно дергаться, только через несколько мгновений я поняла, что он просто смеется. Смеясь, он приставлял указательные пальцы к своей голове, так делают дети, когда хотят показать рожки. Отсмеявшись, Бек сел в кресло, которое ему почтительно пододвинули соратники по оружию, и принялся пристально рассматривать меня, видно, я ему совсем не понравилась, так как он опять ткнул в мою сторону пальцем и спросил Павла:
— Слушай, зачем она тебе, она старая. Тебе молодую нада.
У меня создалось впечатление, что некоторые слова он специально произносит неправильно, ведь остальные же выговаривает нормально. Наверное, я слишком пристально рассматривала его, потому что он опять нахмурился и махнул в мою сторону рукой. Я понимала, что надо отвернуться, что так смотреть на психически неустойчивого человека нельзя, просто опасно, но почему-то не могла отвести от него глаз. Он вдруг начал казаться мне злым персонажем какой-то восточной сказки, того и гляди, пробормочет какое-нибудь магическое заклинание и исчезнет, окутавшись облаком черного дыма. Но, к сожалению, он не исчезал, только заерзал и что-то спросил у Павла, я не расслышала, что именно.
— Да, немного. Это с ней после родов, — преспокойно заявил тот.
Я догадалась, что этот новоявленный джинн, вылезший из какого-то замшелого кувшина, считает меня свихнувшейся только потому, что я смотрю на него. Этот человек, находящийся, скорее всего, вне закона, явный убийца и разбойник, расхаживающий средь бела дня с оружием, считает меня, всю жизнь зарабатывающую своим трудом свой кусок хлеба, вырастившую двоих детей, сумасшедшей! И впрямь было от чего свихнуться. Видно, у меня вырвался какой-то непроизвольный звук, потому что все, находящиеся в комнате, включая Павла, уставились на меня с удивлением, но продолжалось это лишь какое-то мгновение, и Бек опять переключился на Павла:
— Говори!
— Хорошо, я скажу тебе, но помни — часть моя!
Бек хлопнул себя по тощим ляжкам и опять затрясся в приступе хохота. Но на этот раз он смеялся куда меньше, вскочил с кресла и вдруг забегал по комнате. Не только я, но и все, кто был в комнате, следили глазами за ним, за каждым его шагом, и каждым жестом. Этот маленький страшный человечек неотвратимо приковывал к себе взоры, словно кобра. Всласть набегавшись, он внезапно подскочил к Павлу и без всякого предупреждения, молча и вроде бы несильно ударил его по лицу. Но губу он ему рассек, и довольно сильно, из раны тотчас же потекла кровь, заливая остатки рубашки. Зрелище явно нравилось Беку, он смотрел как зачарованный. Вдруг этот джинн как-то странно вскинулся, сложился пополам и рухнул на пол, тотчас раздалось несколько негромких хлопков, и все соратники Бека попадали. Я обернулась к двери: в нее входили какие-то люди в черных масках с каким-то нелепым оружием в руках, но, видимо, оно все же было действенно, раз из него убили столько людей.
«Кажется, смена актерского состава!» — пришла мне в голову дурная мысль, ведь было явно не до шуток. На моих глазах гибли люди и текла кровь, но осознать до конца, что все это происходит на самом деле, а не в пьесе и не во сне, было просто невозможно! Воцарилась тишина, только у одного из лежащих на полу что-то сипело в горле, он был еще жив и шевелился, к нему подошел один из типов в маске и выстрелил в упор. Глаза мои расширились, и я отключилась.
Сколько я пробыла без сознания, не знаю, но когда очнулась, то оказалась лежащей все на том же диване, словно была прикована к нему навечно. К счастью, на полу никого не было, а Павел без наручников, в свежей рубашке, с отмытым от крови лицом вольготно расположился в кресле и пил водку. Значит, люди в масках, так спокойно и хладнокровно расстрелявшие Бека и его людей, были из команды Павла. Ах, Володя, Володя! Ну почему ты ушел один, почему не взял меня с собой? Я не хочу быть без тебя, какой смысл участвовать в этой жизни, где так легко мучают и убивают?! Вернись! Вернись хотя бы для того, чтобы взять меня с собой! Я так хотела услышать хоть какой-нибудь знак, какой-нибудь отзвук того, другого, нездешнего мира, что мне показалось, будто я и вправду слышу хрустальные колокольчики. Вдруг мои пальцы что-то больно сжало, и колокольчики смолкли. Это Павел стиснул мои пальцы, настоятельно требуя к себе внимания. Но мне было безразлично, что он говорил и о чем спрашивал. Я перевела взгляд на него, машинально отметив запекшуюся рану на губе, и спросила о наболевшем:
— Скажи, ты действительно считаешь меня сумасшедшей?
Он мне стал эмоционально объяснять, какую смертельную угрозу представлял Бек для меня, но это было все не то, и я опять прервала его:
— При чем тут Бек? Он меня совсем не волнует. Ответь — ты, именно ты на самом деле считаешь, что я сошла с ума?
Он пристально посмотрел мне в глаза, чуть помолчал и ответил:
— Не больше, чем кто-нибудь другой. Сейчас все сумасшедшие, весь мир словно обезумел.
Не могу сказать, что я была согласна с ним, но такой ответ меня более-менее устраивал, и я закрыла глаза. Павел понял, что разговаривать сейчас со мной нет никакого толку, и отцепился, опять принялся за водку, изредка перебрасываясь словом с невидимым мне собутыльником. Кажется, они кого-то ждали. Я их не слушала: вернулась мыслями к Володе, но уже не звала его, а просто вспоминала.
Но передышка уже закончилась, по коридору опять затопали, в дверь нетерпеливо и громко постучали, Павел лениво отозвался, и кто-то вошел. Вся лень с Павла разом слетела, он оглядел вошедших, усмехнулся и перевел взгляд на меня, я поняла, что происходящее меня как-то касается, и обернулась посмотреть. В этом дурном фильме было много похожих эпизодов, опять двое держали человека в наручниках, но на этот раз им был Виктор. Сознание упорно отказывало признавать реальность происходящего, и я тупо подумала, глядя на него: кто же будет в третий раз? Павел что-то негромко и раздраженно буркнул, и наручники с Виктора сняли. Несколько мгновений Павел с нехорошей улыбкой изучал гостя, потом вдруг сделал приглашающий жест. Виктор шагнул, но как-то неловко, зацепился за что-то ногой и неудобно сел, почти упал на диван, причем на то самое место, где еще так недавно сидел сам Павел и где еще была видна его кровь, впитавшаяся в кожу дивана.
Виктор зашевелился, поудобнее устраиваясь. Сидел он очень близко, но не обращал на меня ни малейшего внимания. Павел отчего-то развеселился и, продолжая разыгрывать радушного хозяина, предложил гостю водки. К моему величайшему удивлению, тот согласился. А меня еще ругал, когда только заикнулась о вине! Достали стопку, разлили, и Виктор мгновенно выпил, провозгласив тост: за присутствующих. Все это мне не нравилось, и я поморщилась от его фальшивой патетики.
Оказывается, Павел зорко следил за мной, потому что тут же спросил:
— Почему это ты, интересно, морщишься, что тебе вдруг не понравилось? Ведь это как-никак твой любовник, не правда ли?
При этих словах Павла Виктор медленно повернулся, как-то искоса и, мне показалось, недружелюбно посмотрел на меня, словно даже и предположить не мог, что я могу здесь оказаться, и только теперь заметил. Отметив про себя весьма неважные актерские данные у обоих, вслух я сказала совсем другое:
— Можно подумать, что ты в этом сомневаешься. Но меня интересует совсем не это. Я никак не могу понять: почему ты сегодня весь день разыгрываешь ревность?
— Жень, ты неисправимая выдумщица. С чего ты, скажи на милость, взяла, что это розыгрыш? Сама должна видеть — мне сейчас совсем не до игр, того и гляди, кто-нибудь возьмет за жабры! Так и любовничек еще твой свалился на мою голову, ходил здесь, вынюхивал. Короче, одни неприятности кругом, а у тебя на уме только игры.
— Ну, то, что у тебя неприятности, я очень даже чувствую, особенно на своей голове, поскольку ты своими неприятностями щедро делишься с окружающими. Что же касается моих якобы фантазий и склонности к игре, то не притворяйся хотя бы сейчас. Никогда в жизни ты меня не ревновал, и никогда тебя не интересовало, с кем я сплю. Я даже думаю, ты настолько всегда был ко мне безразличен, что если бы вдруг в самый разгар нашего медового месяца ненароком обнаружил, что я тебе изменяю, то только бы посмеялся от души. Естественно, я ничего такого не делала, я говорю это просто для того, чтобы ты прекратил разыгрывать из себя Отелло.
Павел решил все перевести в шутку и рассмеялся, не слишком весело, впрочем. Виктор, наоборот, нахмурился еще больше.
— Ну, повеселились, и хватит, — подвел только ему понятные итоги Павел и резко повернулся к своему непрошеному гостю. — А вот теперь я готов услышать причину твоего о-очень даже странного появления здесь.
Интонация Павла, который вроде бы начал весело, теперь была откровенно угрожающей, но Виктор и бровью не повел. Вообще сделав вид, что он очень занят и ему не до таких пустяков, как чьи-то вопросы, он подцепил вилкой закуску и потащил в рот. Прожевал не спеша, а потом той же вилкой ткнул в мою сторону и коротко пояснил:
— Она! — и как ни в чем не бывало продолжил свою трапезу, можно было подумать, что он год не ел.
Такой ответ Павла очень развеселил.
— Она, говоришь? Что-нибудь подобное я и ожидал от тебя услышать. Но должен тебе заметить, что это не очень умно придумано. Может, назовешь какую-нибудь другую причину? Нет? Ну хорошо, тогда объясни мне, зачем она тебе нужна? Только очень тебя прошу, ну просто о-очень, не надо говорить о любви, я уже давно вышел из подросткового возраста, чтобы слушать об этом.
— Слушай, а между нами, оказывается, много общего. Я тоже хочу задать тебе тот же самый вопрос: зачем она тебе? И при ответе прошу учесть, что я также давно вышел из подросткового возраста.
Этот, казалось бы, вполне невинный обмен репликами настолько взвинтил меня, что я встряла в их разговор:
— Господа! Ну что вы спорите? Можно просто разыграть меня в карты или же принять соломоново решение, и тогда каждому достанется по половинке.
Сама не знаю, почему я так сказала, мне было сейчас совсем не до шуток, но их разговор пугал меня. Мне казалось, что в любую минуту может произойти взрыв эмоций, чреватый самыми нехорошими последствиями, и я, как могла, старалась предотвратить его, разрядить обстановку. Но моя жалкая попытка не удалась, оба посмотрели на меня так, словно жалели, что я не родилась немой. А я вдруг только сейчас обратила внимание, что собутыльник Павла, сидевший в другом кресле, куда-то исчез. Может быть, его и не было вовсе, а Павел пил один и разговаривал сам с собой? Но нет, кто-то же ему отвечал, видимо, этот кто-то так тихо ушел, что я и не заметила. Задумавшись, я пропустила какую-то важную часть разговора, потому что когда вновь обратила на них внимание, то оба сидели крайне напряженные и сверлили друг друга недобрыми взглядами. Тут вдруг Павел достал откуда-то пистолет или револьвер, не знаю точно, как эта штука называется, но выглядела она достаточно зловеще, я вздрогнула. Павел направил оружие на Виктора и спросил почти ласково:
— Может быть, этот аргумент на тебя повлияет?
Я поняла, что дела наши, как я и боялась, зашли в тупик, хотела вмешаться и сказать хоть что-нибудь, но не смогла вымолвить ни звука, речь опять покинула меня без всякого предупреждения, оставив меня безгласым манекеном.
При виде оружия Виктор, до этого очень напряженный, теперь отчего-то расслабился:
— Нет, не повлияет, я пришел за ней и уйду только с ней. А моя смерть тебе ничего не даст и ни в коей мере не разрешит твоих проблем, только создаст новые. Зачем тебе осложнять свою жизнь?
Павел саркастически усмехнулся:
— Какая забота! Я очень тронут. А что ты знаешь о моей жизни, почему она так тебя заботит?
— Немного. Только то, что рассказала Женя, а она и сама ничего толком не знает. Судя по всему, ты ее всю жизнь ловко водил за нос. — Проговорив эти слова очень спокойным тоном, Виктор посмотрел на взбешенного Павла, пожал плечами и потянулся налить себе еще водки.
Павел моментально перехватил его руку:
— Слушай, ты! Кто ты такой? Сидишь здесь как у себя дома, пьешь мою водку и претендуешь на мою жену! Не слишком ли много ты хочешь?
— На твою вдову. Ты ведь покойник, не забывай об этом.
Павел длинно и грязно выругался и снял предохранитель, кажется, так называется то, что он сделал. Я прекрасно понимала, что и речи не может быть о том, будто Виктор на самом деле хоть немного интересуется мной, просто по какой-то неизвестной мне причине ему удобно обставлять все дело именно так, а я по-прежнему только пешка в его игре, не более. И еще я поняла, что он зачем-то намеренно провоцирует Павла. Это была очень опасная игра, Павел, обычно хладнокровный, сейчас раздражен до крайности и вполне может выстрелить.
Но тут на нашей уже многое видавшей сцене появилось новое действующее лицо. Наверное, подсознательно я ждала ее появления. На этот раз я старалась разглядеть ее как можно лучше и, скосив глаза на Виктора, заметила, что он тоже смотрит на нее во все глаза. Что ж, кажется, не зря он ею так интересовался, наверняка она придется ему по вкусу. Ей и в самом деле на вид не больше тридцати лет, одета в белый кожаный костюм, состоящий из брюк и жакета длиной до середины бедер, и черные короткие сапожки. Под расстегнутым жакетом видна черная тонкая, но пушистая кофточка. Волосы у незнакомки были светлые, остриженные совсем коротко, значит, и вправду надевала парик. Лицо красивое, несколько надменное, словно она привыкла повелевать. Глаза большие, голубые, кажется, но вот они-то весь вид и портили, слишком уж расширены были у нее зрачки, словно ей в глаза накапали атропина. В общем, вид у нее, — как у бешеной кошки, подытожила я свой осмотр. Вновь прибывшая красотка довольно продолжительное время молча изучала обстановку, глаза ее при этом беспокойно двигались, а лицо слегка подергивалось. Нервная какая, отметила я про себя. В это время взгляд ее остановился на мне, и от этого мне почему-то стало совсем нехорошо, даже затошнило слегка, словно на меня смотрела какая-нибудь пришелица из неведомых, жутких миров. Женщина перевела взгляд на Павла, открыла свой на самом деле красивый ротик, и из него хлынул такой поток площадной брани, что я даже растерялась. Вот это да, ничего себе красотка! Не сразу, но все-таки мне удалось уловить смысл произнесенного. Оказывается, разгневанная фурия выражала Павлу резкий протест по поводу убийства Бека. Интересное сочетание: джинн и фурия, что их могло связывать? Ведь не сказочные, в самом деле, мотивы! Ну и любовницу подыскал себе Павел!
— Он слишком зарвался, стал себе много позволять, — рявкнул Павел. — Приволок сюда кучу своих людей, пришлось мальчикам с ним разобраться. Ну, погорячились немножко, в таких делах это бывает.
— Это он зарвался?! А ты, ты сам?! Ты же чуть ли не все себе захапал! — вызверилась красотка, не желая идти на мировую, и опять пошли сплошь идиоматические выражения, в конце которых я вдруг стала улавливать какую-то неприятную связь со мной.
Меня это до крайности удивило, поскольку я решительно отказывалась понимать, почему я причастна к чьей бы то ни было смерти. Видимо, Павлу все это надоело, потому как он подошел к женщине вплотную, слегка приобнял ее и стал подталкивать к креслу, предлагая сесть и обсудить все проблемы мирно и спокойно. При этом он ласково назвал ее Мариночкой. Но Мариночка успокаиваться не желала, вывернулась из-под его руки, посоветовала ему засунуть кресло в одно довольно узкое место и продолжала ругаться на чем свет стоит, причем уже исключительно в мой адрес. Странным было то, что на Виктора она не обращала никакого внимания, словно его здесь и не было, а вот мое присутствие почему-то очень сильно ее нервировало. За следующие несколько минут я узнала о себе любопытные вещи, но все сплошь обозначенные нецензурной бранью, а также то, что я являюсь любовницей Павла, что из-за меня он окончательно потерял голову, отбился от рук и из-за меня же убил Бека. Так, ну, это понятно, банальнейшая ревность, но мне непонятно, почему она именно сейчас начала вдруг ревновать, ведь она меня уже видела на этой даче вместе с Павлом. Причем мы были с ним наедине, и отнеслась она тогда ко мне очень ровно, отчего же сейчас подняла такую бурю? Обдумывая все эти несообразности, я тем не менее, как мне казалось, внимательно следила за их перепалкой, но вот в какой момент в руке Марины оказалось оружие, заметить не успела, равно как и то, откуда она его достала. Может быть, это Павла, я ведь не видела, чтобы он его куда-то прятал, но вроде бы та штука выглядела иначе и была побольше. И уж полной неожиданностью для меня оказалось то, что свое оружие Марина направила прямо мне в голову! Страха почему-то не было, только удивление. Грохнул выстрел, но прежде него оба мужика бросились: Павел к Марине, а Виктор ко мне. Пуля, выпущенная в меня, попала в Виктора, я это поняла по тому, как он вздрогнул и со свистом втянул воздух, но на ногах устоял, не упал. Если я и раньше была как манекен, то сейчас во мне жили одни глаза.
Сначала мне показалось, что Павел, крепко обняв Марину, успокаивает ее, а она вырывается изо всех сил. Но потом я увидела, что обнимает он ее только одной рукой, а другой пытается отобрать оружие.
И в этот момент в комнату со всех сторон, и в дверь и в окна, полезли какие-то люди в камуфляжной одежде. Лишь на секунду Павел отвлекся, чтобы оглядеться, и тут Марина изловчилась перехватить оружие в другую руку и выстрелила Павлу в грудь. Павел удивленно на нее посмотрел и стал оседать на пол.
Марина даже не закричала, а дико завыла. Уже у нее отобрали оружие и защелкнули металлические браслеты наручников, а она все голосила. Двое крепких мужчин потащили ее, упирающуюся, в коридор, но и оттуда все доносился ее вой, вдруг резко смолкший, должно быть, ее ударили или сильно встряхнули. Я силилась сползти с дивана, чтобы посмотреть, что с Павлом, но не могла даже пошевелиться. Среди множества людей, заполнивших комнату, неожиданно я увидела Андрея. Он отдал какое-то приказание, и Павла, все еще лежавшего на полу, подняли и стали укладывать на мой диван. Это привело меня в чувство, и я смогла подняться — впервые с того момента, как очнулась в этой комнате. Павел был бледен до синевы, на губах его пузырилась кровь, но он еще дышал, хотя и с трудом.
Я опустилась возле дивана на колени и взяла его руку в свои. Рука была чуть теплая, ногти уже начали синеть. Я погладила безвольную ладонь и легонько, совсем чуть-чуть сжала ее, прощаясь с ним и давая ему понять, что я все простила. Но Павел вдруг открыл глаза, увидев меня так близко от себя, он искривил губы в подобии улыбки и попытался что-то сказать. Он выговорил целую фразу: «Видишь, я не причинил тебе зла». Потом попробовал еще раз улыбнуться, тихо вздрогнул и умер, все еще не сводя с меня взгляда. Я закрыла ему глаза.
Не знаю, кто закрыл глаза Володе, наверное, Андрей. Павлу их закрыла я, все-таки не чужая рука. Тут Андрей стал поднимать меня, что-то втолковывая. Я не сразу, но все же послушалась, однако из комнаты вышла не сразу, как он хотел, а осмотрелась в поисках Виктора, несмотря на свою заторможенность, я помнила, что он ранен. Он оказался совсем недалеко от меня, был раздет до пояса, и кто-то перевязывал ему раненое плечо, смотрел он прямо на меня, и я невольно сделала к нему шаг. Но Андрей упорно тянул меня из комнаты и на ходу говорил, что ранение у Виктора пустяковое, не о чем беспокоиться, пришлось мне подчиниться. На пороге я еще раз оглянулась и встретила взгляд Виктора. Меня сразу же усадили в какую-то машину, но ехать в больницу или тем более домой к Андрею и Наташе я категорически отказалась. Андрею моя строптивость не понравилась, он сморщился, как от зубной боли, но все-таки согласился отвезти домой и подал знак водителю. Машина тронулась, я закрыла глаза и открыла их только возле своего дома — по небу разливалась еще бледная, но явственная заря. Оказывается, уже рассвело.
…Во мне не было ни одной жилочки, которая бы не дрожала и не ныла, и я подумала, что просплю сутки, но не тут-то было. Стоило мне закрыть глаза, и я видела то раненого Виктора, то мертвого Павла, а то и вовсе отвратительного, кашляющего от смеха Бека. Все-таки кое-как я уснула, однако уже к обеду была на ногах. Чувствовала себя отвратительно, словно меня пропустили через мельничный жернов, но лежать в постели больше не могла. Но оказалось, что мне не только не лежится, но и не сидится, ничем решительно заняться я не могла, какой-то озноб, сродни нервной лихорадке, поселился во мне, и я бродила по квартире из комнаты в комнату как тень. Около пяти зазвонил телефон, и я бросилась к нему, как к долгожданному другу. Звонила Любаша, голос ее звучал не очень весело, даже, можно сказать, грустно звучал. Передав приветы от родных, она поинтересовалась, как я отнесусь к ее визиту. Подумав немного, я ответила, что отнесусь хорошо, но при двух условиях: она покупает бутылку коньяку и пить мы будем молча, поскольку я не в состоянии ни говорить, ни слушать. Любаша слегка оживилась, почуяв возможность переключиться на мои неприятности, а ведь это куда интереснее, чем свои.
— Ну хорошо, говорить ты не хочешь, а зачем тогда я тебе нужна?
— Ну, не могу же я пить одна, это уж слишком. Да и спиртного у меня в доме нет, а выйти и купить, сама не могу, совершенно не в состоянии.
— Что, настолько плохо себя чувствуешь?
— А я себя вообще не чувствую, меня нет.
— Да-а, подруга! Выпить тебе действительно необходимо. Я на работе сейчас, еще с полчасика тут поболтаюсь, и тотчас же к тебе. Для срочности могу взять такси, но это будет за твой счет, как и бутылка. У меня с деньгами не очень. А закусить у тебя тоже ничего не найдется? А то я, как на грех, зверски проголодалась, не обедала сегодня.
— Еда есть, голодной не останешься, такси и бутылку оплачу.
— Вот это другой разговор, это мне нравится. В шесть я у тебя буду. Жди, прилечу.
Любаша прибыла без одной минуты шесть, прямо военная точность. Привезла мне коньяк и лимоны, коньяк, правда, оказался так себе, посредственный, но сейчас я и такому была рада. К ее приходу я сделала лобио из консервированной фасоли, приготовить что-нибудь более серьезное я сейчас вряд ли бы смогла. Порезала хлеб, сыр, открыла банки с маслинами и маринованными шампиньонами. В холодильнике было полно продуктов, но все это добро принадлежало не мне, а Виктору, и в отсутствие хозяина я трогать ничего не стала. Любаша осмотрела стол, накрытый к ужину, чуть слышно вздохнула, но промолчала. Только я разлила коньяк по рюмкам, раздался звонок в дверь. Вставать мне совершенно не хотелось, и к двери, по моей просьбе, поплелась Любаша, ворча на ходу:
— Терпеть не могу подобные штучки, только соберешься выпить, так тут же кто-нибудь прется! Небось опять твой сосед-алкоголик! Учти, если это он, то я сразу пошлю его куда подальше.
Последние слова она договаривала уже в коридоре, возле двери и старалась это делать погромче, чтобы сосед услышал. Но, не открыв двери, бегом вернулась, явно взволнованная:
— Ой, Жень, иди скорей, сама посмотри, там мужик какой-то незнакомый, с виду вполне приличный.
Мне было совершенно без разницы, кто там явился, я посоветовала ей не суетиться, а открыть дверь и впустить того, кто пришел. Любаша скроила зверскую мину, но послушалась, любопытство уже начало ее грызть. Вскоре в кухню вошел Виктор, за его спиной виднелось любопытное лицо заинтригованной сестры. Виктор оглядел меня, бледную, помятую, в купальном халате, вздохнул почему-то, должно быть, от моего весьма непривлекательного вида, и спросил:
— Как ты?
— Я-то ничего вроде, даже поспала немного. Ты сам-то как? Как рука, сильно болит?
Люба, переводя круглые глаза с одного на другого, в изумлении слушала наш разговор, который, с одной стороны, намекал на бессонную ночь, проведенную нами вместе, а с другой — вообще не пойми на что. Чувствовалось, что про свои неприятности она давно забыла и наслаждалась происходящим. Виктор небрежно оглядел стол:
— Ужинаете? Коньячок — это хорошо, но вот закуска у тебя какая-то скудненькая, неужели жалеешь для подруги?
Любаша порозовела.
— Знакомься, Люба, это Виктор. Виктор, это моя двоюродная сестра и подруга Люба. Что касается продуктов, то это все, что у меня есть, остальное твое.
Любаша принялась суетиться, поставила еще одну рюмку, тарелку, приборы достала, сразу чувствовалось, что Виктор произвел на нее сильное впечатление. А тот полез в холодильник за продуктами, действуя одной рукой, но довольно шустро. Я вспомнила, что он ранен, мне стало очень неудобно, и, оттеснив его от холодильника, я попросила сесть. Но он пошел в прихожую и принес кейс, из которого вытащил бутылку хорошей водки и несколько банок. А я тем временем выложила икру, крабов, нежнейшие ломтики балыка, достала из холодильника упаковки нарезанного копченого мяса и ветчины. Наконец, мы втроем сели, я решительно перехватила бутылку водки у Виктора, налила ему и Любаше. Та смотрела на меня во все глаза, не понимая моих действий. Но присутствие интересного мужчины, богатый стол, а особенно ее любимое сочетание водки с икрой радовали взор, и она мудро переключила все свое внимание на них. Наполнив свою тарелку всякой всячиной, она подняла свою рюмку и бодренько спросила:
— Я полагаю, что пьем мы за знакомство?
Я только и смогла, что отрицательно покачать головой, а Виктор, бросив на меня настороженный взгляд, сказал вполголоса:
— Пусть земля будет ему пухом. И пусть он успокоится наконец.
Это вполне естественное пожелание вывело меня из безразличного, полубесчувственного состояния, в котором я сегодня пребывала, и вдобавок ко всему еще и разозлило, сама не знаю на кого.
— Какая земля, какой пух? Разве его уже зарыли? И кроме того, как быть с остальными трупами? Сколько их: пять, десять, двенадцать? Кто выпьет за них, кто их помянет? Ведь и они люди, по крайней мере, были ими когда-то, их тоже рожали женщины, любили, воспитывали. Нет уж! Пить, так за всех.
Когда выпалила все это, мне стало легче, словно немного разжалась пружина в груди и позволила мне вздохнуть поглубже. Я выпила коньяк не смакуя, а словно водку, махом, причем не только свою рюмку, но и ту, что до этого налила Любаше, стала закусывать и только тут почувствовала, что очень замерзла и проголодалась. Несколько минут я не отрывала глаз от своей тарелки, а когда обвела взглядом стол, то увидела, что никто ничего не ест, у Виктора лицо отчужденное, а у Любаши — испуганно-недоумевающее. Я поняла, что переборщила, перевалила дурное настроение со своей больной головы на здоровые головы своих гостей. Мысленно обругав себя, что никогда не могу вовремя остановиться и потому вечно попадаю впросак, я постаралась выправить ситуацию:
— Не обращай внимания, Любаша, на мои глупые слова. Мы с Виктором вчера вечером смотрели кино, фильм был просто отвратительный. Знаешь, из тех современных, где много стреляют и гора трупов, кажется, они еще триллерами называются. Я до сих пор под ужасным впечатлением, прямо сама не своя. А ты ешь, и ты же любишь икру.
Не знаю, насколько я сумела успокоить сестру, но она начала есть. Теперь еще одно дело, и более трудное. Я повернулась к Виктору и, прикоснувшись кончиками пальцев к его щеке, тихо и покаянно сказала:
— Я веду себя как свинья. Извини меня, пожалуйста, за совершенно неуместную резкость тона, ты ни в чем не виноват. Наоборот, я очень благодарна тебе! Но я не могу так быстро успокоиться, я еще очень долго буду отходить от всего этого. Ты, наверно, привык, а у меня такое ощущение, словно я и сама наполовину умерла.
Виктор испытующе посмотрел мне в глаза, но почти тотчас же отвел взгляд. Спустя какое-то время мы выпили еще по одной, и Виктор встал из-за стола. Расслабившаяся Любаша стала уговаривать его посидеть еще немножко и все норовила погладить по больному плечу, умильно заглядывая в глаза и называя при этом Витюшей. Пришлось мне вклиниться и освободить его от несвоевременных Любашиных нежностей. Почти тут же он попрощался, я пошла проводить его до двери и, воспользовавшись моментом, спросила, когда я смогу получить хоть какие-то объяснения происшедшего и от кого. Он вышел, не глядя на меня, наверное, не простил, что я так по-глупому резко одернула его за столом, и уже на лестничной площадке сказал, что Андрей мне позвонит на днях. Когда я вернулась в кухню, Любаша сидела надувшаяся, как индюшка. Увидев меня, она вся вспыхнула:
— Ох и жадина же ты, Женька, ох и жадина! Подумаешь, я чуток поприжималась к мужику, а ты уж ноздри раздуваешь! Сама-то волком на него смотришь. Совсем стала как собака на сене. А он на самом деле и не нужен мне вовсе, так, пококетничать немножко, вспомнить, что я женщина, дурное настроение развеять, но разве ты позволишь? Вот как есть собака на сене!
Она бубнила и жаловалась еще какое-то время, я не мешала ей, думала, что она выговорится и сменит гнев на милость. Да не тут-то было! Сказав все, что она в данный момент обо мне думает, Люба собралась уходить. Я попросила ее остаться, налила ей еще водки и наполнила ее тарелку тем, что она так любит. Глянув на тарелку, она прищурила глаза и сказала:
— Ладно, я останусь, так и быть, потому как ты мне не чужая, сестра все ж таки. Но водку больше мне не наливай, видишь, я и так хороша уже. Давай лучше кофе пить. Икру я, конечно, доем, дура я, что ли, от икры отказываться? Хотя ты-то уж точно меня дурой считаешь, это ж надо! В кино она, видите ли, была! Но с другой стороны… — Тут она задумалась и посмотрела на меня с тревогой. — Это что же такое получается? Если не кино, то, значит, правда, но ты же не могла оказаться там, где стреляют? Или могла? И за помин чьей души мы пили? Значит, кто-то все-таки умер? Да не молчи ты, скажи хоть что-нибудь!
— Ну ладно, ладно, будет тебе, не злись. Кое-что я все-таки тебе скажу, но только чем меньше о таких вещах знаешь, тем спокойнее спишь. Не смотри на меня так испуганно, как видишь, я цела. Но я и в самом деле попала сегодня ночью в жуткую переделку. Любашенька, не дергайся, лапочка, как и почему я туда попала, я тебе не скажу. Там стреляли, убитых много, точное число я не знаю. Могла и я пострадать, даже должна была бы, меня хотели убить, но Виктор спас, собой заслонил, пуля попала ему в плечо, а ты норовила его за это плечо все время цапнуть, вот я тебя и отпихнула. И вовсе я на него волком не смотрю, а впрочем, может, и смотрю, все это не важно. У нас с ним очень сложные взаимоотношения, он меня просто ненавидит, я ему, естественно, плачу той же монетой. Но ты не ломай над этим голову, мы встречались с ним по делам, а дела эти почти закончились, так что еще пару-тройку раз мы с ним встретимся, и все.
— Жень, ну подожди. Ну как же так? Зачем же ты полезла в это треклятое место, где стреляют, да еще ночью? И потом, откуда ты знаешь этого Виктора? Ты мне раньше про него ничего не рассказывала. И вообще, давай выпьем с тобой все-таки кофе, и расскажи мне поподробнее.
— Кофе, Любашенька, я тебе сейчас сделаю, подожди всего лишь две минуты. Что же касается подробностей, то их, увы, не будет. И не надо смотреть на меня умоляющим взором, все, что я могла тебе рассказать, ты уже слышала, очень надеюсь, что дальше тебя это не пойдет!
Люба с немалым удовольствием выпила две чашки кофе, на мое замечание, что, может быть, не стоит на ночь две-то, она, махнув рукой, сказала, что ее не берет, от него она спит еще лучше. Посидела еще немного и стала все же собираться домой. Уже в прихожей она спросила меня:
— Женюр, я вот чего никак не уразумею: как это ты, такая тихая, такая вроде как воды не замутишь и мухи не обидишь, а вот влипаешь вечно во всякие авантюры, а?
— А этого, Любаш, я и сама не понимаю, — ответила я ей, целуя в щеку.
На следующий день никаких звонков с утра не было. Побродив без толку по квартире, я позвонила редактору, договорилась с ней и после обеда отвезла наконец многострадальную рукопись. На обратном пути зашла за продуктами и быстренько домой. Весь вечер никаких звонков не было. Два дня прошли в напрасном ожидании, и еще два дня. Ожидание изматывало, я совсем ничего не могла делать, вещь свою не писала. Я могла только ждать. Наконец, когда я уже совсем замучилась от долгого ожидания и готова была на стенку лезть, позвонил Андрей и попросил меня приехать к нему в половине шестого. Двадцать пять минут шестого я уже звонила в дверь. Открыл сын и, поприветствовав меня как старую знакомую, помог раздеться. С замиранием сердца вошла я в знакомую комнату. Наташи почему-то не оказалось, были только Андрей и Виктор. Поздоровавшись, я осведомилась у Виктора, как его плечо, в ответ получила короткое заверение, что все в порядке. Без Наташи я чувствовала себя здесь скованно. После неловкой паузы Андрей заговорил о том, что всех подробностей он рассказать не может, только лишь некоторые детали, поскольку дело, в которое весьма активно был замешан Павел, находится в стадии расследования, до завершения далеко и многое еще неясно. Проговорив эти вводные фразы, он погрузился вдруг в молчание, которое все длилось и длилось. Виктор тоже молчал, вид у него был какой-то недовольный. Видя, что мне и обещанных деталей не дождаться, я решила сама задать несколько вопросов. Я спросила, как это могло получиться, что Павел, похороненный почти год назад, в действительности был жив и умер совсем недавно.
— Да, это на самом деле большой просчет. Но видишь ли, год назад точных данных об участии твоего бывшего мужа в преступлениях не было, только знакомство с подозрительными лицами. За ним наблюдали, но, видимо, грубо, и он почувствовал слежку. А тут еще, как мы позже узнали, внутри их преступной группы, или, проще, банды, произошли столкновения, в результате которых погибли двое. Нет, сведений о том, что их убил Павел, никаких нет, скорее всего, это сделал кто-то другой. Один из убитых по внешним параметрам был на него очень похож. Не двойник, конечно, но рост, телосложение, цвет волос примерно такие же. Видимо, Павел решил воспользоваться удобным случаем. И вот представь себе: милиция ищет человека, находит похожий на него труп, в его одежде, с его часами. Стреляли в голову, лицо сильно изуродовано, но родная сестра опознает его без всяких колебаний. Так и похоронили другого человека под именем твоего бывшего мужа. Конечно, если бы следствие вели более тщательно, не допускали грубых ошибок, такого бы не произошло. Я ответил на твой вопрос?
Меня насторожила интонация в голосе Андрея, когда он говорил о милиции, и я тут же задала вопрос, в принципе уже догадываясь, в чем дело:
— Так вы оба не из милиции, не так ли?
Они переглянулись, Андрей замялся, но лишь на одну секунду:
— Нет, не оттуда.
— Значит, в этом деле есть что-то такое, что интересует ваше ведомство? — Видя, что они молчат, я продолжила, решив зайти с другого бока и все-таки постараться выудить хоть какую-то информацию: — Тогда, может быть, вас интересует то, что волновало Бека и о чем он у меня безуспешно спрашивал?
Опять быстрый и на этот раз тревожный перегляд, я их все же расшевелила. В разговор вступил Виктор:
— Не знал, что Бек говорил с тобой. И чем же он интересовался, о чем тебя спрашивал?
— Вообще-то он был похож на ненормального, наставил ни с того ни с сего на меня свой палец и спросил: где? А когда я не ответила, а что я могла ответить, когда даже не понимала, о чем идет речь, он начал злиться.
— Вот как! И как же ты выкрутилась?
— Павел сказал ему, что я ничего не знаю. И что он привез меня туда, так как узнал, что я завела любовника. — И, посмотрев на Виктора, я добавила: — Он видел, как ты входил в мою квартиру, когда я была в Фирсановке.
Виктор негромко крякнул, Андрей недовольно покосился на него. Оба задумались о чем-то. Потом Виктор продолжил:
— Это не в тот ли момент Павлу рассекли губу? Или его ударили раньше и не Бек?
Чувствовалось, что он спрашивает просто так, на всякий случай, чтобы восстановить все детали, даже маловажные на первый взгляд. Но после моего ответа оба встрепенулись.
— Нет, не тогда, а немного позже. В тот момент Бек только смеялся и показывал рожки, а потом потребовал, чтобы уже Павел ответил на этот непонятный вопрос. — Голос у меня в этом месте почему-то немного пресекся, я остановилась, чтобы передохнуть и продолжить свой рассказ, но меня перебил Андрей:
— Как я вижу, тебе довольно трудно вспоминать и рассказывать, поэтому я и не очень хотел этой нашей беседы, ты перенесла большое потрясение, и, как бы ни храбрилась, ты всего лишь женщина, обычная женщина, не какой-нибудь суперагент. Дальше можешь не рассказывать, я в принципе имею представление о том, чем интересовался Бек, знать об этом Павел никак не мог, на вопрос не ответил, за что Бек его и ударил, распускать руки он очень любил. Ведь так все было?
Я понимала, что Андрей вполне искренне сочувствует мне и моим переживаниям, и все-таки его снисходительность меня раздражала. Конечно, я самая обычная женщина, кто бы спорил, но и он не Бог всеведущий. Поэтому возразила я ему, можно сказать, с удовольствием:
— Нет! Извини, но все было не так. Не знаю, чего там мог или не мог знать Павел, но Беку он, однако, заявил, что скажет, где это находится, при условии, что часть этого не пойми чего принадлежит ему.
— Что?! — прозвучали сразу два голоса.
И не успела я повторить, как Андрей, уже оправившийся после секундного замешательства, быстро вышел в другую комнату и вернулся через несколько минут уже спокойный и даже довольный. Виктору он коротко сказал, что дозвонился. Я спросила, о чем шла речь и в чем суть, но никакого ответа не получила. Естественно, я разозлилась:
— Господа! Пусть и невольно, но я вам сейчас помогла, а вы не снисходите даже до ответа. Я отдаю себе отчет, что ждать справедливого отношения от мужчин глупо, но все-таки даже обычная женщина, а не суперагент имеет право на вежливость. Я ведь не прошу вас посвящать меня во все подробности, только хочу знать, из-за чего весь этот сыр-бор?!
После моих слов брови Андрея поползли вверх, и он посмотрел со значением на Виктора, как бы говоря: ну она и штучка! Нахмурившийся Виктор кинул на него ответный взгляд, который я расшифровала как: я ведь предупреждал тебя, что она мегера! Но меня такими штучками не проймешь, особенно теперь, когда все кому не лень используют меня как им угодно. Первым сдался Виктор. Он откашлялся и хмуро пояснил:
— Ты слишком любопытна, но я объясню тебе, чтобы ты только успокоилась. Речь идет об алмазах.
Не знаю, что именно я ожидала услышать, но, видимо, что-то другое, потому что удивилась. Но у меня в запасе был еще один вопрос, пусть не думают, что уже отделались от меня:
— Ну а Марина? Она тоже замешана? И почему она на меня так злилась, что хотела даже убить?
При этом вопросе Андрей остался совершенно спокоен, а вот Виктор немного смешался и после паузы ответил:
— Да, Марина была замешана, еще как! Именно она втянула Павла во всю эту грязь, поскольку давно и прочно была связана со всяким криминальным элементом. Я за ней давно охочусь, но дамочка хитрая и очень скользкая, информации о ней много, но ни на чем конкретно поймать ее никак не удавалось. Не наломай она сейчас таких дров, может быть, и на этот раз пришлось бы ее отпустить. Пристрелив Павла, она, можно сказать, сама нам в руки пошла.
В этом месте Виктор опомнился, несколько смутился и посмотрел на меня виновато, но, увидев, что я не заламываю руки и не собираюсь упасть в обморок, продолжил, но уже совсем неохотно:
— Не знаю, как с тобой собирался поступить твой бывший муж, но могу предположить, что ничего хорошего тебя ждать не могло. Марина же совершенно точно собиралась тебя убрать, поскольку ты несомненно представляла для них реальную угрозу. А судя по ее поведению, она еще и ревновала тебя, бабенка она очень эмоциональная, нервная, выходит из себя быстро.
После этого ответа мужчины, как по команде, насупились, давая понять, что я задаю слишком много вопросов. Но я уже узнала в общем-то все, что хотела, и решила оставить их в покое, пусть себе тешатся своими секретами. Когда я стала прощаться с ними, лицо Андрея откровенно просветлело, а Виктор совершенно неожиданно вызвался подвезти меня до дому.
— Разве ты за рулем? А как же твое раненое плечо, ведь рука, наверно, еще не работает?
Он кинул на меня быстрый взгляд и успокоил:
— Пуля попала в мякоть, пустяк, все уже зажило. Заодно и вещи свои у тебя заберу.
Я подумала, что реплика о вещах, скорее всего, предназначалась Андрею, я-то прекрасно знала, что никаких его вещей в моем доме, кроме остатка продуктов, не осталось. Но разоблачать его я не стала, хочет подвезти — пусть везет, я от этого только выиграю. Я попросила Андрея передать Наташе привет, и мы с Виктором ушли.
Дорогой мы молчали, возле подъезда я только собралась с ним попрощаться, но, к своему удивлению, увидела, что он запирает машину и, значит, собирается подняться со мной в квартиру. Я пожала плечами: даже интересно, что ему нужно у меня.
В кухне он также молча уселся за стол. Выглядел он уже не таким хмурым, как в квартире Андрея, скорее каким-то задумчивым.
— Чай, кофе?
Мой вопрос вывел его из состояния отрешенности.
— А что, ужина у тебя нет? — недовольно скривил он рот.
«Господи! — подумала я про себя. — Да ведь он ведет себя со мной как законный муж, может быть, он просто перепутал квартиру и женщину?» Но делать замечание по столь пустячному вопросу человеку, который совсем недавно спас тебе жизнь, мягко говоря, неудобно, и я молча занялась ужином. Все эти тридцать-сорок минут, что я хлопотала, он просидел молча, но как только я собрала на стол и села сама, он спросил, не глядя на меня:
— Ну как ты, отошла хоть немного?
— Да, у меня все в порядке, — кратко ответила я.
— Маловероятно, что так уж все у тебя в порядке, слишком мало еще прошло времени. Насколько я понял, ты его очень любила, да?
Мой изумленный взгляд был ему ответом, да и как иначе, если я вообще уже не понимала, о чем идет речь или, вернее, о ком. Но он продолжил, и мое недоумение рассеялось.
— Понимаешь, я ведь даже и предположить не мог, что Марина в него выстрелит. В тебя или в меня, да, к этому я был готов, но не в него. Видно, она совсем обезумела. Все дело в том, что, судя по некоторым признакам, она проворачивала какие-то дела с Беком, причем за спиной Павла. Об этих ее делах он ничего не знал, поэтому и дал команду своим молодцам шлепнуть Бека, а Марине его смерть была крайне невыгодна. Вот она и взбесилась совсем, нервы у нее и без того были не слишком крепкими, впрочем, все наркоманы такие.
— Так она наркоманка? Вот оно что! И как только Павел мог связаться с ней, как?! Ведь должен был понимать, насколько это опасно. Так они что, наркотиками тоже занимались, не только алмазами? Если так, то насколько же низко он пал!
— Занимались они всем, что под руку подвернется. Но ты сейчас не думай об этом, постарайся не думать. Пройдет какое-то время, и ты забудешь и о Марине, и о том, что он был замешан в преступлениях. В памяти останется только хорошее, что было в вашей жизни.
Такая утонченная деликатность и сочувствие ко мне в устах Виктора звучали по меньшей мере странно, что с ним такое случилось? Или ранение так на него подействовало? Я посмотрела на него внимательно: он опять начал хмурить брови, но выглядел вполне искренним. Я уже не знала, что и думать, и стала убирать тарелки со стола, принесла чашки. При этом я почему-то вспомнила, как сравнительно недавно все это покупала, после того как Саша оставил меня совсем без посуды. Я попробовала представить себе, какое лицо было бы у Виктора, если бы я предложила ему кофе в эмалированной кружке, и невольно улыбнулась. Виктор заметил мою нечаянную улыбку и, поморщившись, спросил:
— Женя, я, наверно, мешаю тебе, ты вспоминаешь свою прошлую жизнь с Павлом, а я для тебя сейчас как кость в горле.
Такое поведение было настолько нетипичным для него, что я начала уже думать: может быть, я плохо разглядела и его ранили вовсе не в плечо, а в голову?
— Да нет. С чего ты взял? — ошеломленно пробормотала я.
— Неужели ты думаешь, что я не чувствую — ты в душе винишь меня в смерти Павла и не говоришь этого вслух только из деликатности. Но повторяю тебе: я не мог и представить, что она решится в него выстрелить.
— По-моему, ты судишь обо всем превратно, не могу понять, как и из чего ты делаешь такие неправильные выводы, и уж совсем не могу себе представить, как бы ты мог предотвратить этот роковой для Павла выстрел?
Я смотрела ему прямо в глаза, когда говорила эти слова, и для убедительности взяла его за руку. Непонятно, почему Виктор вдруг смутился, рука его чуть дрогнула, и он поспешно отдернул ее. Странно, странно, только что он так обо мне заботился, если верить его словам, даже признал за мной такое качество, как деликатность, и в то же самое время мое прикосновение для него настолько неприятно, словно я жаба какая бородавчатая! Что за игру он ведет со мной и почему? Я заварила себе чай, а ему хотела сделать кофе, я помнила, что он его больше любит, но он тоже соблазнился на чай. Отпив из чашки, он спросил:
— Ты будешь сейчас в городе или уедешь в Фирсановку?
— Нет, в Фирсановку я пока не поеду, надо сначала успокоиться. Но в Москве мне это тоже вряд ли удастся, во всяком случае, не так быстро, как мне бы хотелось. Вот мне и пришла в голову отличная, как мне представляется, мысль махнуть на две недели в Туапсе, в апреле там почти никого нет, и я смогу прийти в себя.
— Ты уже взяла билет?
— Нет, но ведь сейчас это не проблема. Завтра утром возьму, и дня через два, если не случится ничего непредвиденного, скорее всего, уеду.
— Я позвоню тебе потом, когда ты вернешься, не возражаешь?
— Конечно, звони, если надо. Номер моего телефона ты ведь знаешь?
Он кивнул и пошел к выходу, но приостановился:
— Странно, а почему именно Туапсе, почему, например, не Сочи? Ты отдыхала там раньше или у тебя там родственники?
— Да нет, никого у меня в этом городе нет, да и вряд ли я смогла бы в таком состоянии жить у родственников, просто когда-то я была там с Павлом. Но это было давно, а сейчас припомнилось, и решила поехать туда, других мест на Кавказе я не знаю совсем, а Крым уже не наш.
— Я так и подумал, — проговорил он как-то глухо и ушел.
А я так и не поняла, чем ему не угодил славный город Туапсе, милый, тихий, что еще надо? Может быть, у него какие-нибудь дурные воспоминания с ним связаны? Ишь ты, Сочи ему непременно подавай! А я не хочу в Сочи, хочу в Туапсе, и Виктор мне в этом не указ. Чудной он все-таки.
Утром я купила билет, поезд отходил завтра поздно вечером, так что собраться я вполне успею. Подумав, я решила поставить Катюшку в известность, куда и насколько уезжаю, все-таки две недели порядочный срок, хватится еще меня, будет искать, нервничать, не люблю, когда люди из-за меня переживают. Дозвонилась сразу, она была дома и весела, как птичка. Правда, мое сообщение ей поначалу очень не понравилось, и она зафыркала. Недовольство объяснялось тем, что она сама в эти дни хотела съездить в Петербург. Услышав это, я затосковала, предвидя скандал, но Катюху вдруг озарило, что в мае ей будет даже удобнее, и у меня отлегло от сердца. Любашу я нигде не смогла отыскать, ни дома, ни на работе, но не опечалилась этим, оставила ей сообщение на автоответчике. Только отошла от телефона, собираясь пообедать, как он зазвонил сам. Звонила Наташа, она отсутствовала, была несколько дней в деловой поездке, только сегодня прилетела, ничего не знала толком. Я сказала ей, что чувствую себя нормально, а вот настроение, конечно же, дрянь! Но надеюсь вскорости поправить его свежим морским ветром, так как завтра уезжаю к морю, в Туапсе, примерно на две недели, хочу отдохнуть и успокоиться. Не менее десяти минут я расписывала Наташе все, что я собираюсь получить от своего отпуска, после чего она слегка упавшим голосом сказала, что тоже давно хотела отдохнуть вот так от всех дел, включая домашние, но все никак не может решиться, да и мешает все время что-нибудь. Тогда я самым решительным тоном предложила ей поехать со мной, она явно заколебалась, чувствовалось, что мой пример соблазняет ее до ужаса и на море ей бы очень хотелось. И я решила брать быка за рога:
— Наташа, если ты не можешь ехать сейчас, то я сдам билет и подожду тебя сколько надо, никаких проблем, уверяю тебя. Одна ты не соберешься не только в ближайшее время, но и вообще когда-либо, я уж чувствую.
— О, в этом ты права, Женя! Сколько раз я мечтала рвануть куда-нибудь одна, хоть на недельку, и никогда не могла решиться. Твое предложение звучит очень заманчиво, не скрою. Но ты уверена, что на самом деле этого хочешь, ты не из вежливости зовешь? Отлично! Тогда давай сделаем так: билет ты сдавать не будешь, поедешь завтра, как и намеревалась, подожди ты, слушай дальше. Устроишься в Туапсе и сразу позвони мне оттуда, сообщишь свой адрес, и я вскоре приеду, мне ведь все равно больше недели выкроить не удастся. Хорошо?
Даже в купе мне все еще не верилось, что я еду к морю, что уже завтра я увижу его, услышу прибой и крики чаек. И Туапсе меня не обманул, он был именно таким, как я хотела: солнечный город, продуваемый свежим соленым ветром, полупустой, поскольку отдыхающих еще почти не было. Я сняла две комнаты с верандой, она же кухня, она же ванная, вход в этот рай был отдельный, и я была счастлива, зачастую для счастья надо не так уж и много. В тот же день позвонила Наташе, а через три дня она приехала. Я встретила ее и с гордостью продемонстрировала хоромы, которые сняла для нас. Жилье ей очень понравилось.
— Знаешь, Женечка, я чувствую себя так, словно только что сняла с плеч многопудовый груз забот. Здесь вполне можно отрешиться от всех надоевших мыслей и дел и славно отдохнуть.
Время мы проводили просто прекрасно. Вставали около девяти, неспешно завтракали на веранде, потом целый день бродили по городу и его окрестностям, даже в Мамедово ущелье съездили. В ущелье попали совсем случайно, ведь мы не искали достопримечательностей, которыми пичкают туристов, слава богу, Наташа их не жаловала, так же как и я. Просто шли с ней, куда нас вели ноги, и смотрели на то, на чем задерживался взгляд. Странное дело, мы были знакомы с Наташей недолгое время, виделись всего ничего, а совместный отдых совсем не тяготил нас. По опыту я знала, что тесное совместное проживание, пусть даже на отдыхе, всегда является изрядным испытанием для психики и нервов. Но мы с ней не только ни разу не поссорились, но даже и во мнениях не разошлись. Не сговариваясь, мы одновременно обращали с ней внимание на один и тот же вид, здание, человека, цветок, да что угодно! Нередко нас смешило такое совпадение взглядов и вкусов, и тогда мы смеялись от души, словно две школьницы, отпущенные на каникулы. Даже в выборе одежды для отдыха мы оказались похожи, Наташа с собой привезла тот же набор тряпок, что и я: джинсы, футболки, свитера. Никаких юбок, никаких платьев, никаких каблуков и ни грамма косметики. Только и разницы, что у меня стрижка, а у нее длинные волосы, убранные в хвост. Мы присмотрели неплохой бар и разрешали себе по вечерам выпить по небольшой рюмочке, пили, правда, разное — Наташа ликер, а я коньяк, зато удовольствие было одинаковым. Вечером любовались закатом, гуляли по набережной, допоздна не задерживались, чтобы не нарваться на какую-либо неприятность, да и спать хотелось после целого дня, проведенного на воздухе. Однажды к нам пристали два подвыпивших моряка, усиленно уговаривали пойти с ними в ресторан, потом стали за руки хватать, но все же удалось от них отговориться и отшутиться, и все обошлось мирно.
— Надо же! Нашли себе девочек! — смеялась потом Наташа, и я вместе с ней.
Неделя, которую предписала себе Наташа, пролетела очень быстро. Настолько быстро, что Наташа, посидев и подумав в одиночестве, — я благоразумно удалилась, чтобы не навязывать ей своего решения, — пошла звонить в Москву. Дозвонилась она до сына, а сын у нее очень воспитанный молодой человек, и он сказал ей: конечно, мама, отдохни еще немного, ты вполне это заслужила и можешь себе позволить. Во всяком случае, я думаю, что он сказал что-то похожее. И мы провели с ней еще четыре прекрасных дня, в этом так нам понравившемся городе, а на пятый улетели самолетом из Адлера. Наташа уже слегка нервничала, как там ее Андрей, и поэтому от поезда пришлось отказаться, лететь быстрее. Сидя в самолете, я подшучивала над Наташей, что о муже она волнуется куда больше, чем о сыне. Та сконфуженно оправдывалась:
— Димка у меня молодец, он совсем неприхотлив в еде и одежде, к тому же с детства приучен к самостоятельности. Я и дочь и сына воспитывала в строгости, никакого баловства не позволяла, а Андрей совсем другой, но перевоспитывать его уже поздно, приходится принимать таким, какой есть, к тому же он очень редко остается дома один. На работе устает и любит, чтобы дома я его обслуживала.
Дома было тихо, пусто и пыльно. Первым делом я тщательно везде убралась, потом позвонила Любаше, но, к великому своему удивлению, опять ее не нашла. В издательстве работы для меня пока не было. Хотела поехать в Фирсановку и уйти с головой в свои незаконченные произведения, но сначала решила отзвониться Катюшке. Хотя она и наметила свою поездку в Питер не на самые первые дни мая, но ведь у нее всегда семь пятниц на неделе. И точно, как в воду глядела. На этот раз она собралась упорхнуть надолго, на восемнадцать дней, и не в Питер, как думала раньше, а по Золотому кольцу, что несколько удивило меня. Раньше она все больше заграничными турне интересовалась, может быть, мода сменилась? Поскольку Катиной свекрови просидеть с Мишуткой такой срок было бы затруднительно, у нее ведь и свои дела есть, я вызвалась первые двенадцать дней взять на себя, чем привела всех в прекрасное состояние духа. Эти дни я не скучала, не до того было, хотя Мишутка в отсутствие матери довольно покладист, не так озорничает и лучше слушается, но ребенок есть ребенок, с ним всегда множество хлопот. А тут еще зять совершенно неожиданно собрался в командировку, пришлось спешно собирать ему чемодан, освежить белье и рубашки, сам-то он не привык что-либо для себя делать. Но вот сватья сменила меня в качестве Мишуткиной няньки и отпустила мою душу на покаяние. Я спешно упаковала кое-какие вещи, собираясь тотчас же ехать в Фирсановку, так как ощущала настоятельную потребность оказаться там, где нет ни шума, ни суеты, но, прежде чем уехать, мне надо было купить два словаря: фразеологический и словарь ударений. Первого у меня никогда не было, а второй был, но вот уже лет пять, как исчез самым таинственным образом. Никто его не брал, оба моих драгоценных чада категорически отрицали свою причастность к этой пропаже, а словаря-то нет! Я все время собиралась купить, но словари — вещи недешевые, то никак не могла выкроить денег на покупку или же были деньги, но не было словаря. А теперь я решила твердо: все, пойду и куплю. Забежала в один книжный — нет. Поехала в другой и там купила. Только вышла из магазина, как меня кто-то цепко ухватил за локоть. Ба! Да это же Модест Сергеевич, тот рыжий толстяк, с которым меня еще зимой познакомил на презентации в издательстве наш главный редактор. Казалось бы, и прошло-то всего полгода, а как в моей жизни все изменилось, словно века прошли! Ведь тогда я еще не знала Володю. Даже странно, невозможно представить себе, что я когда-то могла жить без него, без мыслей о нем. Короткий смешок мгновенно привел меня в чувство.
— Евгения Михайловна, да вы словно грезите наяву. Позвольте мне сразиться с тем злым волшебником, который вас заколдовал. Я непременно его убью, и тем самым расколдую вас.
Я нерешительно улыбнулась, не зная, как ответить на столь причудливую шутку.
— Ну, не хотите, как хотите, пусть живет. Мне вы нравитесь и в зачарованном виде. Но, дорогая моя, должен вам все же попенять: ждал, ждал, да так и не дождался, — продолжал сладко журчать говорливый Модест Сергеевич, увлекая меня вдоль по улице. Резким движением я выдернула руку и остановилась:
— За что вы хотите мне попенять? И чего вы от меня ждали? Я вас совершенно не понимаю.
— Забыли, забыли! Я так и предполагал, что вы забыли. Я говорил себе, что не могла такая милая женщина отнестись ко мне столь необязательно, что житейская круговерть закрутила ее и заставила забыть обо мне. Ну вот, все как я и думал, — всплескивал пухлыми руками и по-детски радовался толстяк, пытаясь между тем понудить меня идти дальше, к одному ему известной цели. Но я продолжала стоять на месте, поскольку мне все это не нравилось. — Но, драгоценная моя, что же вы остановились в этакой толчее? Еще каких-нибудь пара шагов, мы сядем, и я смогу объяснить все вам в спокойной, приличной обстановке. Не на ходу же нам разговаривать.
Я посмотрела в том направлении, в котором он все порывался меня повести, и увидела полосатые тенты летнего уличного кафе. Что ж, действительно, разумней было поговорить там, и я позволила увлечь себя дальше. Заказывая кофе глясе и грейпфрутовый сок, он все так же продолжал улыбаться. Пока не принесли заказ, серьезного разговора не начинал, зато трещал без умолку о небывалой жаре, о том, кто и как ее переносит и как бы он хотел сейчас окунуться в море, короче, обо всяких пустяках. Вследствие такой манеры поведения он казался веселым, добродушным и недалеким болтуном, которому совершенно нечего делать. Но это только на первый взгляд. Вглядевшись повнимательнее, я обнаружила, что его маленькие, желтые, с коричневыми крапинками глазки смотрят из-под набрякших век очень умно, оценивающе и не менее цепко, чем действовали его руки, когда ухватили меня за локоть, выловив в людской толчее. Это был взгляд человека, знающего себе цену и способного быстро отделить зерно от плевел. Одет он был в очень дорогой светло-бежевый костюм от Армани и белую сорочку, то и другое изрядно мятое и не имеющее вида, впрочем, при его фигуре, наверное, все моментально мнется. Я была в желтом льняном костюмчике, который еще утром казался мне изящным, а теперь у меня мелькнула мысль: не похожа ли я в нем на канарейку?
Как только принесли заказанное, Модест Сергеевич совсем замолчал, мне сказать было нечего, и, пережидая паузу, я гоняла тающее мороженое ложечкой по кофейной поверхности. Наконец мой спутник перешел к делу. В ходе разговора выяснилось, что, во-первых, я забыла о том, что на презентации он дал мне свою визитку и предложил позвонить ему. Каюсь, действительно забыла. Во-вторых, пеняет он мне потому, что очень ждал моего звонка, поскольку у него для меня есть работа, заказ. И наш главный редактор, хороший его знакомый, почти поручился ему, что я этот заказ возьмусь выполнить. Тут уж я возмутилась, потому что сама никаких обещаний никому не давала и не имела ни малейшего понятия, что их дали от моего имени. Модест Сергеевич извинился, он полагал, что я вполне осведомлена, и в знак примирения поцеловал мне руку, на миг став опять добродушным весельчаком. Я уже решила, что раз инцидент исчерпан, то я могу уйти, но он прервал на полуслове мои прощальные приветствия:
— Подождите, экая вы резкая. А заказ? Он ведь остается в силе. Вы разве не хотите узнать подробности?
Я удивилась, ведь как-никак прошло полгода, за это немалое время он мог найти десятки исполнителей, так в чем же дело? Я уселась поудобнее, расправила юбку и приготовилась слушать. Модест Сергеевич довольно ухмыльнулся, видя, что наконец заинтересовал меня:
— Да, в самом деле, заказ остается в силе. Он, как бы получше выразиться… немного щекотливый, но хорошо оплачивается.
Я насторожилась, такое начало мне не слишком понравилось. Оказалось, что один бывший «крутой дядя», ни больше ни меньше, весьма желает опубликовать мемуары, и Модест Сергеевич, который является то ли хозяином, то ли совладельцем небольшого издательства, за это взялся. Дело за малым: сначала под диктовку криминального «дяди» записать его воспоминания, а потом привести в цивилизованный вид. Если работа ему понравится, оплата труда будет фантастическая. На этом месте рассказа я поморщилась. Нет, я не ханжа и никогда не делала вид, что презираю деньги. Но и деньги во что бы то ни стало, невзирая ни на что, это совсем не мой принцип. Чтобы заработать «фантастические» деньги, мне придется остаться в душной, пыльной и надоевшей Москве, отложить на неопределенное время работу над своей книгой о Володе, за которую я так мечтаю, не медля ни минуты, приняться. И все это ради того, чтобы иметь счастье лицезреть какого-то бандита, пусть и бывшего, что для меня крайне неприятно, особенно учитывая недавние трагические события. Кроме того, слушать его наверняка омерзительные излияния, высказанные безграмотным языком, да еще и с руганью! Веселенькая перспективка, нечего сказать! Если бы я сидела совершенно без денег и меня ожидала голодная смерть, еще можно было бы подумать, а сейчас нет. Пока я таким образом размышляла и взвешивала, Модест Сергеевич пристально смотрел мне в лицо, видимо читая в нем, как в раскрытой книге. Ибо прежде, чем решительный отказ успел слететь с моих губ, он остановил меня движением своей пухлой руки:
— Подождите отказываться, Евгения Михайловна, это всегда можно успеть. Я был не прав, подчеркивая только денежный аспект, не казните за ошибку. Дело еще вот в чем: этот человек уже в годах, смертельно болен, но прожил довольно яркую, насыщенную жизнь. Ведь как ни лукавь, как ни закрывай на это глаза, но бандиты, воры, тюрьмы, зона — это тоже жизнь, поскольку они существуют, это реальность, и никуда от этого не денешься. Да, больная, исковерканная, извращенная донельзя, но жизнь. И мне представилось интересным и даже полезным описать эту жизнь изнутри со слов не только видевшего, опытного, но и умного, ручаюсь вам за это, человека. А самое главное — подлинного участника этой самой жизни, что особенно важно на фоне разливанного моря подобной литературы, публикующейся в последнее время. Ведь сейчас на эти темы не пишет только, как говорится, дурак да ленивый. Я более чем уверен, что работа окажется для вас и интересной, и познавательной. Конечно, работать будет сложно, что уж тут скрывать, ну а что легко в этом мире? Ну, решайтесь же!
Его настойчивость смущала меня, будоражила. Мне понравилось, как просто, без всяких экивоков и околичностей, он объяснил мне действительно достаточно щекотливые подробности. Да, он прав, это сумасшедшее предложение вполне может быть интересным, хотя сложностей будет ох как много! Но занозой в душе засело вот что — опять больной, умирающий человек, с которым в процессе работы неизбежно возникнет пусть только словесное, но тесное общение. Смогу ли я, выдержу ли? Нет, пожалуй, для меня это чересчур.
— Вы сами не знаете, о чем просите, Модест Сергеевич. Вы, видимо, неплохо разобрались во мне и подбрасываете мне лакомые приманки, интересную работу я люблю. Но в данном конкретном случае я вынуждена отказаться. Обстоятельства моей жизни в последнее время таковы, что я просто не смогу психологически, не выдержу. Говорю вам это прямо и без всякого кокетства.
В ответ на мой отказ он крякнул и взъерошил свои и без того уже все разлохмаченные волосы.
— Вот черт! Простите за выражение, но без черта тут явно не обошлось, опять препятствие. Что же делать, как быть? А знаете что? Все-таки, все-таки давайте подъедем завтра к этому старику. Стоп! Подождите возражать. Я ведь не прошу соглашаться, подписываться на это дело, прошу только подъехать, посмотреть на старика, пусть и он на вас посмотрит. Он ведь капризный, с норовом, может статься, вы ему и не понравитесь, и тогда мне незачем будет ломать голову над тем, как уговорить вас. Идет?
— Модест Сергеевич, у меня создается впечатление, что вы не воспринимаете слово «нет».
— А как же иначе, голубушка моя? В деле только так, по-другому оно просто не будет двигаться. Но вы не ответили мне, я жду вашего согласия на завтрашнюю поездку.
— Я уже сегодня хотела уехать за город, и остаться еще на сутки в этом раскаленном, задыхающемся городе только для того, чтобы на меня бросил свой скептический взгляд какой-то старик, — это чересчур. Сейчас или же никогда. Вот мой ответ.
Я продемонстрировала ему, что тоже могу быть решительной, и спокойно ждала ответной реакции на свой демарш. Мой собеседник прикрыл глаза, что являлось у него, как я позже поняла, признаком удивления. Открывать их он не спешил, когда же открыл, то в них светилось уважение, но и легкая насмешка тоже, вот только не поняла над кем: надо мной, над собой? Он вдруг невнятно забормотал:
— Так-так, а как же назначенная встреча, ведь отменить ее нельзя. Или все-таки можно? Ах, ах, ах, это такая важная встреча! Так льзя или нельзя? Льзя! Но неприятности будут, будут, а может, как-нибудь улизну от них? А пожалуй, что смогу и улизнуть. Да, лазеечка есть, ма-аленькая такая, но есть. Так-так.
Я слушала, как он бормочет, совершенно погрузившись в себя, с отсутствующим видом, и думала о том, что этот толстяк напоминает мне трехслойный пирог: первый слой — это добродушный весельчак, второй — решительный деловой человек, и третий слой — нерешительный бормотун. Интересно, как эти слои, совершенно разные, в нем уживаются и не перемешиваются? Бормотание прекратилось так же неожиданно, как и началось. Модест Сергеевич искоса посмотрел на меня, и это было забавно, потому что непонятно, действительно ли он смотрит на меня, или же просто рассматривает кончик своего носа? Тряхнул головой и решительным жестом запустил руку в сумку, которую он повесил на спинку стула и которую я не удосужилась заметить. Пошарив, он выудил из сумки красный сотовый телефон и набрал номер, уверенно тыкая толстым веснушчатым пальцем в малюсенькие кнопочки и ни разу не промахнувшись. Связи довольно долго не было, наконец, кто-то отозвался. Разговор был очень кратким:
— Это я. На этот раз не пустой. Она со мной, можем подъехать сейчас. Едем.
Я уже успела пожалеть, что так легкомысленно дала согласие на эту поездку, но отказываться после моей бравады было неудобно, да и поздно уже. Модест Сергеевич в две секунды успел положить деньги на стол, встать, закинуть сумку на плечо и крепко ухватить меня за руку. Он почти выволок меня на тротуар, и не успела я вздохнуть, как возле нас уже тормозило такси, и нужно было не мешкая садиться в машину. Мне было интересно, в какой части света живет наш лихой «дядя», поэтому ждала и слушала, что Модест Сергеевич скажет шоферу. Он назвал подмосковный поселок Купавну. Пока ехали в машине, я вспомнила, как Любаша совсем недавно поинтересовалась:
— Жень, ты такая тихая, и как ты только умудряешься влезать во всякие авантюры?
А вот так я и влезаю, сама не ведаю, что творю! Тянет меня, видно, на всякие сомнительные дела и связи, как муху на кое-что нехорошее. Я очень долго занималась самоедством и бичевала свои внутренние пороки. Пока я была занята столь увлекательным делом, такси подъехало к домику, стоящему не в ряду других, а как-то особняком, немного на отшибе. Пока мой спутник расплачивался с таксистом, я осматривалась. Дом был небольшой, деревянный, но добротно и со вкусом сделанный, участок при доме был некогда хорошо ухожен, но, видно, в последнее время хозяин уже им не занимался, и он стал зарастать. Мы поднялись на крыльцо с резными балясинами. Модест Сергеевич позвонил в дверь, которую через минуту открыла какая-то женщина и впустила нас в дом. Незнакомка была лет сорока, очень сумрачного вида, в белой косынке и белом же, отороченном кружевом фартуке. На наше приветствие она даже не ответила, только показала рукой, куда нам следует пройти. Глухонемая? Но звонок-то в дверь она услышала. На жену хозяина она похожа не была. Может, медсестра? Хотя если судить по одежде, то скорее горничная из XIX века, не ожидала в таком месте встретить стиль ретро.
В комнате, если судить по обстановке, гостиной, в кресле-качалке сидел пожилой человек, на ноги которого был наброшен толстый, пушистый плед, и это несмотря на жару. Возраст его выдавали морщины и седина, но глаза смотрели молодо, взгляд был зорким и колючим. Здороваться с нами он тоже не стал. Может быть, зная о неотвратимости приближающейся смерти, здоровья в этом доме желать было не принято? Мужчины почему-то хранили молчание, я тоже не спешила нарушать его. Сесть мне никто не предложил, я поискала глазами стул, поставила его поудобнее и села, рассудив, что ожидать, как дальше развернутся события, лучше сидя. Мое самоуправство со стулом хозяину совсем не понравилось, он сердито сморщился и прошипел:
— Эта, что ль? Не знаю, не знаю — она такая маленькая и худенькая.
Этого я совсем уже не могла выдержать:
— А вы что, нанимаете меня мешки таскать? Дядя! Но тут же я смешалась, нелепое «дядя» испортило весь сарказм моей фразы. Обращение это вырвалось у меня, конечно же, случайно, просто так я называла его про себя, вот и ляпнула неожиданно для себя.
— Ха! А я-то думал, что круглый сирота, никого-то нет у меня, а оказывается, племянница имеется!
Что ж, будем родней считаться. Ты иди, Модестик, иди. Приехал-то на машине? Ну так не отпускай ее, пусть водила племянницу подождет, да не забудь оплатить ему простой и обратную дорогу, а то уедет еще. А себе ты другую тачку словишь, а то и на электричке доедешь, невелика птица.
Я подумала сначала, что он выгоняет нас обоих, порадовалась такому повороту событий и поднялась со стула. А когда поняла, что вот-вот останусь наедине с этим недобрым стариком, то выразила решительный протест. Но меня никто не слушал. Модест Сергеевич молча поклонился и ушел, даже не взглянув на меня. А старик прикрикнул:
— Сиди, сиди, коли уж села. Ты вот что, голуба моя, не ершись! Времени у меня немного, даже совсем мало, а успеть надо сделать все, как я задумал. Не уйду на тот свет, пока все, как собирался, не сделаю, пусть уж пекло обождет меня немного. Так вот, я уж все давно обдумал, как и что надо будет делать, тебе кумекать ни о чем не придется, только и дел-то всех что слушать и слушаться меня. Будешь приходить сюда к десяти утра, я буду говорить в диктофон, есть у меня такая игрушка, потратился, купил. Говорить буду не сплошняком, а кусками, ты в перерывах спрашивай, если что непонятно, но не перебивай, я этого не терплю. Записывать будем часов до семи. Чаю я тебе дам, бутерброды свои принесешь. Каждый день будешь ходить, сколько понадобится, все поняла?
— Поняла, чего ж тут не понять, ничего мудреного нет, только я ведь не давала еще согласия на эту работу.
— А вот и врешь, племянница! Это ты рыжему голову дури, не согласна была бы, так и не приехала бы. Чай, он тебя на аркане не волок. Так что оставь свои бабские штучки. Иди, да не опаздывай завтра, а то вычту у тебя из этого, как там бишь его?.. Гонорара.
Я выпорхнула из этого дома как птичка, едва успев что-то чирикнуть на прощание, довольная до предела уже тем, что он отпустил меня. Что и говорить, воля у этого умирающего «дяди» была железная! Женщина, открывавшая дверь и впускавшая в дом, гремела чем-то на кухне и не появилась, но замок был легкий, я быстро открыла его, вышла и захлопнула за собой дверь с большим облегчением. Ох, словно бы в тюрьме побывала. Слава богу, что такси ожидало меня, а то я даже не знаю, в какой стороне здесь станция.
Домой я ехала в каком-то оцепенении, ни одной мысли в голове. Дома напилась чаю с лимоном, поела немножко и стала потихоньку отходить от разнообразных впечатлений дня. Первым делом я решила попробовать отыскать визитку Модеста, может быть, сохранилась где. Все перерыла, но так и не нашла. Наверное, ее уничтожил Саша, он ведь тогда у меня жил и как раз буйствовал несколько дней из-за того, что я пошла на злополучную презентацию. Нет, ну надо же! Всего один светский выход, а сколько последствий! Мне вдруг показалось, что я в тупике: визитка потеряна, а с нею и номер телефона Модеста Сергеевича. Так что же делать-то? Тьфу ты! Да что я с ума схожу, в самом деле? Зачем мне его телефон? Мне нужно только решить, еду я завтра к «дяде» или нет, вот и все. Самой решить, без всякого давления с чьей-нибудь стороны. А почему бы и не поехать? В сущности, он прав, «дядя» этот, если бы я совсем не хотела к нему ехать, то и не поехала бы, да еще и настаивала, что непременно сегодня. Сказав А, логично сказать и Б. Что ж, мне и самой интересно, как я смогу справиться с такой не совсем обычной работой. Но она не должна быть такой уж тяжелой, как мне представлялось сначала. Более того, выражался он вполне литературным языком, за исключением немногих просторечных и жаргонных слов, что было в пределах нормы. Это очень удивило меня, но было, конечно же, куда предпочтительнее, чем какой-нибудь другой вариант. Забавно, какой скупердяй этот мой новоявленный родственник, бутерброды, говорит, свои захвати, ну надо же! И ведь об оплате ни слова не сказал, то есть что-то он говорил, но не конкретно, и сумм никаких не называл. Не обижу, говорит, это смотря что в его понятиях является обидой, все же работу проделать мне предстоит немалую. Спросить, что ли, его о деньгах самой? Нет, не буду, просто не отдам ему рукопись, пока не заплатит.
Семь изнурительных, бесконечных дней провела я на даче у Дяди. Я так его и называла, а он меня — Племянницей. Свое имя он мне так и не назвал, а мое не спрашивал. Самого Модеста я эти дни не видела, не удивлюсь, если и не увижу больше. Рукопись отдам Дяде, платить за работу будет тоже он. Модест в этом деле посредник, его время наступит позже, когда вещь будет готова к публикации, но тогда меня уже не будет здесь, моя работа окончится. Работали мы с Дядей честно, по семь-восемь часов каждый день. Я сильно уставала, нужно было быть предельно собранной и внимательной. Поначалу я многого не понимала из того, что Дядя рассказывал, а нужно было ждать перерыва в рассказе, перебивать нельзя, чтобы не сбить его. Хорошо, что еще в студенческие годы я овладела стенографией, как мне это сейчас пригодилось! Я записывала в блокнот все свои вопросы, в перерывах задавала их, а уже его ответы на них записывались на диктофон, и дома я могла при желании еще раз прослушать и свои вопросы, и его ответы. Любопытно то, что Дядя, человек жесткий и строгий, совсем не сердился, даже если я несколько раз спрашивала, по сути, одно и то же. Я очень долго не могла уяснить себе психологические мотивировки поступков многих персонажей — до того они были нелогичны, а зачастую и вовсе отсутствовали. И разъяснения Дяди не всегда все ставили по своим местам, во всяком случае не сразу. Дядя был терпелив со мной, понимал, что от этого зависит судьба книги. Но стоило мне как-то в обеденный перерыв, а надо сказать, что определил он мне этот перерыв всего в пятнадцать минут, спросить, кем приходится ему та женщина, которая открывает дверь, он так зыркнул на меня, что я тут же зареклась говорить с ним о чем-либо, помимо работы. Первые два дня, поглощенная новизной и трудностью материала, я не замечала того, что еще больше, чем я, устает сам рассказчик. Но когда мы на третий день прервались на обед, я увидела, что, пока его домоправительница, так я про себя ее величала, ставила передо мной неизменный стакан чаю в подстаканнике, Дядя исподтишка вытирал платком мокрый лоб и шею, и руки его при этом мелко тряслись. Он перехватил мой взгляд и посмотрел на меня в свой черед искоса и хмуро. И я задушила в зародыше предложение продлить обеденный перерыв, чтобы он смог немного отдохнуть. Мое участие он, скорее всего, расценил бы как жалость, как подачку, что вряд ли понравилось бы ему. В последующие дни признаки его физической немощи стали еще более явственными, но он молчал о них, продолжал диктовать и даже продлил на час наш рабочий день. Я была вынуждена согласиться, куда же деваться, да и время его жизни утекало стремительно, как песок в песочных часах. На седьмой день до обеда он закончил диктовку, а оставшееся время мы обсуждали с ним композицию книги и кое-какие предложения, которые успели у меня возникнуть. Все эти дни я возвращалась от него на электричке, голова моя напрочь была забита услышанным за целый день, ни о чем другом совершенно не думалось, и я, почти машинально, пробовала прилаживать куски текста друг к другу, перебрасывала мостики, искала вводы в ситуации. Короче, делала свою обычную работу, вот и накопила кое-какой материал для «утряски». Дяде это чрезвычайно понравилось, первый раз он посмотрел на меня по-доброму:
— А ты, оказывается, хват, Племянница! Я-то думал, что ты еще не въехала в книгу-то, первые дни тыкалась, словно слепой щен, ничегошеньки не понимала. Это хорошо, теперь уж я вижу, что успею подержать уже готовую, напечатанную книгу в руках, а этого я хочу даже больше, чем здоровья. Теперь так, бери эту игрушку со всеми записями домой, или где ты там с ними будешь работать. Да смотри, никому не говори о них и не показывай. Если что не так, то у меня хватит еще сил тебе шею свернуть, поняла? Ну вот и умница. Иди и возвращайся с готовой вещью через три недели, и не спорь со мной. Больше времени на это все равно не могу тебе дать, нет у меня больше, понимаешь? Еще ведь напечатать надо, Модест обещал сделать быстро, у него все там отлажено, но сколько-то времени все равно это возьмет. Принесешь готовую книгу — получишь деньги, и не бойсь, не обижу. Ступай. Нет, стой. Забыл сказать, что фамилии твоей на книге не будет. Вот теперь иди, возьми на столе бумажку, там телефон мой, будешь звонить иногда, говорить, как дело идет, но не часто. Иди, устал я от тебя.
Я вышла из дома, тихонько ворча себе под нос. Устал он от меня, как же! А то я не вижу, что ему плохо совсем, из сил выбился, ну да теперь отдохнет, пока я буду сшивать эти его разрозненные и разноцветные лоскутки. На следующий день, собрав все, что мне нужно для предстоящей работы, я уехала в Фирсановку.
Сначала я никак не могла войти в рабочий ритм. Все мне вспоминался Дядя, как я его до сих пор продолжала называть. И я гадала, как он себя чувствует. Да еще продолжавшаяся жара доводила до одурения, но через пару дней я нашла оптимальный режим работы. Я вставала около семи часов, выпивала стакан ряженки или кефира и шла в сад. Часа полтора возилась с клумбами и разными посадками, те, на которых уже росли цветы, я прополола и взрыхлила землю, а пустые вскопала и посадила семена, которые купила в магазинчике возле станции. А еще вскопала грядки и посадила на них огурцы и всякую зелень, кажется, еще было не поздно. Возвращаясь из сада, принимала душ комнатной температуры, завтракала уже основательно и часов в девять садилась за работу. Работала практически без перерыва часов до пяти, потом шла в магазин, если было нужно, или же просто гуляла в тенечке, после такого долгого сидения за столом нужно было обязательно походить, размять косточки. Возвращалась, ела, только не знаю, что это было — обед или ужин. И работала еще часа два. Ничего не читала, телевизор не смотрела, некогда было, да и желания не возникало. Но перед тем как лечь спать, я не менее часа дышала воздухом в садике, набросив на себя что-нибудь не столько для тепла, сколько от комаров. В целом я вела вполне здоровый образ жизни, а если и работала несколько больше, чем хотела бы, то ничего не поделаешь — взялся за гуж, не говори, что не дюж. Книга мне нравилась и шла неплохо, быстро продвигалась, о чем я и рапортовала Дяде регулярными звонками с почты. Его голос по телефону был тихий, но уверенный. На девятый день мое внимание привлек шум остановившейся возле дома машины. Было восемь часов утра, и я как раз поливала свою клумбу, на которой все никак не хотели прорастать цветы. Я подошла к калитке и увидела, что из белых «Жигулей» вышла Наташа, а я и не знала, что она водит машину. После возвращения из Туапсе я звонила ей только раз, и она не говорила, что собирается в ближайшее время повидаться со мной и приехать в Фирсановку. В принципе ничего особенного в ее неожиданном приезде не было, она ведь говорила, что хочет иногда наведываться сюда, а что так рано приехала, так ведь не хочется же ехать по жаре. Но сердце у меня екнуло. Я догадалась, что она ко мне приехала не с дружеским визитом, а с недобрыми вестями, и касаться это может только одного человека. Я почувствовала, как во мне поднимает свою косматую голову ужас, но тут же взяла себя в руки. Нечего панику поднимать. Тем временем Наташа открыла калитку и вошла в садик. Я поставила на землю опустевшую почти лейку, и мы обнялись с ней. Вроде бы все как и в Туапсе, но ни следа отпускной беззаботности. Напротив, в глазах Наташи я увидела подавляемую, но все же явную тревогу. Вошли в дом, и я приготовила кофе. Выпили мы его молча, и я уже начала проявлять признаки нервозности, но торопить Наташу мне все же не хотелось. Наконец она, видимо решившись, подняла голову:
— Женя, ты можешь прямо сейчас поехать со мной?
— Конечно, Наташа, куда скажешь. Но что случилось?
Она опять замялась, покусала нижнюю губу, потом ответила:
— Виктор ранен.
— Ты посиди, Наташа, я только приму душ и переоденусь, я быстро. А дорогой все мне расскажешь.
Из того, что она мне рассказала, я поняла, что его ранили при поимке кого-то из членов той банды, куда раньше входил и Павел.
— Понимаешь, Женя, он такой упрямый, ни в чем не хочет уступить молодежи, а возраст ведь уже сказывается.
Рана Виктора прямой угрозы для его жизни не представляет, все же достаточно тяжелая, так как задета верхушка легкого. Не везет ему в последнее время. Лежит он в госпитале имени Бурденко, и я забеспокоилась насчет пропуска, туда ведь не так просто попасть, но Наташа меня успокоила, что с пропуском никаких проблем не будет. Все произошло почти неделю назад, но Наташа, звонившая мне на московскую квартиру, все время натыкалась на длинные гудки и почему-то не сообразила, что я в Фирсановке. Меня сразу же начал беспокоить вопрос, почему она так непременно хотела известить меня о несчастье, приключившемся с Виктором, я почувствовала, что в этом что-то есть, какая-то собака зарыта, но спросить все же не осмелилась. Я, конечно, вполне нормальный человек, так что поехала его навестить, как-никак знакомый, да еще вдобавок спасший мне жизнь, в общем, со мной все ясно. Но вот почему Наташа так хочет, чтобы я его навестила? А может, ее попросил об этом Виктор? Совсем уж невероятное предположение. Ах, как бы мне хотелось узнать, в чем же тут дело!
В палату со мной Наташа не пошла, объяснив это тем, что пускать стараются по одному человеку, но я ее достаточно уже изучила, и мне показалось, что в ее нежелании идти со мной скрывается еще что-то, мне неизвестное. И только тут я задумалась о том, что ничего не несу Виктору, ну вечно со мной приключаются всякие казусы! Ничего не могу сообразить вовремя, могла ведь по дороге хотя бы соку купить, вместо того чтобы голову ломать над, может быть, и несуществующими проблемами. Когда я поделилась своей досадой с Наташей, она укоризненно посмотрела на меня:
— Неужели ты полагаешь, что он хоть в чем-нибудь нуждается? Можешь не волноваться, я уже обо всем позаботилась, да и не только я, так что у него вся палата завалена.
Наташины слова вовремя напомнили мне о том, что в жизни Виктора должно существовать немало женщин, и я разозлилась сама на себя за то, что суечусь и волнуюсь, когда в этом нет никакой надобности.
Виктор лежал в отдельной палате, роскошь, еще не виденная мною, и я с любопытством завертела головой, как только переступила порог: комната маленькая, очень чистая, неуютная, как и все больничные палаты, цветной телевизор на тумбочке, холодильник в углу, у кровати бра. Я перевела беспокойный взгляд на пациента. Виктор полулежал на высоких подушках и спокойно смотрел на меня, тем не менее почему-то вдруг показалось, что его взгляд полоснул по моему сердцу. Уж не потому ли я стала сначала рассматривать стены, что очень боялась встретить его самый первый взгляд в момент моего появления? Странная я, однако, стала! Тем временем я подошла к нему, поздоровалась и опустилась в кресло, которое стояло возле изножья кровати. Меня уже предупредили, чтобы я не давала особенно много ему говорить. И сейчас, видя, что он раскрыл рот, я замахала рукой и торопливо стала рассказывать ему, как ко мне сегодня утром приехала Наташа и сообщила о происшедшем несчастье. Виктор вроде бы отказался от попыток заговорить, я обрадовалась и защебетала обо всем, что только была в состоянии припомнить, и, в частности, похвасталась тем, что научилась копать. Я и правда с ранней молодости лопату в руках не держала, и поначалу этот труд был мне непривычен, я набила мозоли на ладонях в первый же раз, о чем и расписывала ему подробно и с юмором. Вдруг, когда я меньше всего этого ждала, он перебил меня и сказал, что загар мне очень идет. Голос у него был чуть хрипловатый, но вполне обычный. Сначала я смутилась от неожиданного комплимента, но потом опять вспомнила, что ему нельзя разговаривать, подхватила тему загородной жизни и рассказала, как один раз вечером ходила купаться на озеро и как там хорошо. Но и эта тема вскоре иссякла; пока я судорожно придумывала, о чем бы еще можно было поговорить, Виктор опять подал голос:
— Смешная ты, Женя. Мне нельзя говорить два часа кряду, но несколько фраз вполне по силам, лучше расскажи, как ты отдохнула в Туапсе. Наташа ведь тоже к тебе приезжала?
Я тут же ухватилась за любезно предложенную мне тему и начала с энтузиазмом ее развивать. В числе прочего я рассказала, как к нам с Наташей прицепились подвыпившие моряки и звали нас в ресторан и как мы с трудом отделались от них. Рассказывала я эту незатейливую историю вроде бы шутливо, намереваясь немного развеселить его, но, слушая меня, Виктор почему-то не улыбался. Но тут пришла медсестра, наступил черед каких-то процедур, и мне пришлось уйти, однако я пообещала ему заглянуть в понедельник.
Пока возвращалась из больницы домой, а поехала я, конечно, на городскую квартиру, я мучительно думала: почему он промолчал в ответ на мое предложение прийти к нему еще раз? Потому ли, что должен меньше говорить, или же потому, что не хочет меня видеть, но сказать об этом прямо ему неловко? Из дому я позвонила Наташе и рассказала ей о своем посещении, о том, что, на мой взгляд, он неплохо выглядит, при этом не скрыла, что чувствовала себя не слишком свободно. Она выслушала меня молча, не сделав никаких комментариев к моему рассказу, а я так надеялась, что она хотя бы что-то скажет. Вздохнув, я добавила, что собиралась к нему в понедельник, а теперь сомневаюсь: стоит ли? Тут она оживилась и посоветовала мне пойти непременно. Поговорив с Наташей, я пришла к выводу, что до понедельника еще долго, не стоит без всякого толку болтаться в городе, в то время как моя работа не терпит отлагательств, и тем же вечером уехала в Фирсановку. До отъезда я успела пообщаться по телефону с Любашей, которую мне наконец-то удалось поймать. Выяснила, что у нее хворала мать и она долгое время ухаживала за ней. Еще у нее было какое-то сложное и запутанное недоразумение с новым любовником, они были в ссоре, но теперь помирились, оба счастливы и раздумывают, куда бы им поехать отдохнуть. Любаша щебетала, словно жаворонок в небе, и я порадовалась за нее.
В понедельник наша встреча с Виктором прошла еще более натянуто. В этот раз я пришла хотя бы не с пустыми руками, притащила бананы и гранатовый сок. Он поблагодарил меня несколько суховатым тоном и попросил больше ничего ему не носить, у него и так всего слишком много. Говорил он уже совсем хорошо, мне показалось, что голос его звучит уже так же, как и до ранения. Но на меня Виктор даже не смотрел. Я поняла, что мой визит ему не нужен, но повернуться и уйти сразу было тоже как-то глупо, и я решила довести эту дурацкую встречу до конца. Попробовала дорассказать ему те подробности моей поездки к морю, что не успела в прошлый раз. Но после нескольких сказанных фраз вдруг почувствовала, что он совсем не слушает меня. Я споткнулась на середине предложения и замолчала, чего он, кажется, и не заметил. Когда молчание стало совсем невыносимым, Виктор, наконец, поднял на меня глаза:
— Женя…
Было видно, что ему очень сложно выговорить вслух то, о чем он думал, и я решила ему помочь, поскольку мне стало все окончательно ясно.
— Виктор, мне все понятно и не стоит ни о чем говорить. Мне все равно уже надо идти, так что не переживай. Поправляйся. Желаю тебе всего самого хорошего.
Весь немалый путь до Фирсановки я ругательски ругала себя! Надо было мне сразу догадаться, что я совершенно напрасно приехала к нему. И в самом деле, мой первый приезд к нему, этот визит элементарной вежливости и человеколюбия, он был необходим, но этим единственным визитом и стоило ограничиться. Зачем я поехала к нему второй раз? Кто я ему? Да никто! Мне было настолько не по себе, что даже затошнило. Дома я тоже не могла найти себе места, стыд и неловкость жгли меня огнем. Не помогли ни чай, ни прогулка в лес. Почему я так переживаю и волнуюсь? С этим тоже стоило разобраться. Я не дала ему произнести вслух то, что могло расстроить и унизить меня. Он не выгнал меня, я сама ушла, твердила я себе, но это мало помогало. Да что это, в самом деле, со мной?! Да даже если бы он сказал, попросил или приказал мне уйти и не приходить больше, то при наших с ним неприязненных отношениях разве это повод для терзаний? Одной гадостью больше или меньше, какое это имеет значение? Он говорил мне куда худшие вещи, мегерой называл неоднократно, и ничего, я вполне спокойно это пережила, что же сейчас мне так плохо? Я так и не смогла ни успокоиться полностью, ни объяснить себе толком свое состояние. Единственное, до чего я смогла додуматься, — это то, что в результате всех достаточно непростых событий зимы и весны моя психика стала до того неустойчивой и разболтанной, что реагирует на малейшее потрясение долгим резонансом, как пустой кувшин.
Я завершила наконец работу над книгой. Позвонила Дяде и повезла ему рукопись и диктофон, надо же было вернуть ему его игрушку, как он его называл. Когда я приехала, то обнаружила, что Дядя меня ждет не один, с ним Модест Сергеевич. Дядя, по своему обыкновению, не тратя время на приветствия, сразу же нетерпеливо протянул руку за рукописью, я не колеблясь отдала ее. Он стал жадно проглядывать ее. Конечно, все подряд он читать сейчас не мог, но старался сделать это хотя бы выборочно. Пока Дядя был занят, я от нечего делать разглядывала Модеста Сергеевича. Его поведение меня заинтересовало, то ли он в присутствии Дяди сильно тушевался, то ли обнаружился четвертый его слой — Модест Сергеевич хмурый и молчащий. Когда я вошла, он поздоровался со мной и с тех пор не произнес ни слова. Наконец Дядя оторвался от книги и ударил в маленький гонг, который стоял рядом с ним на круглом столике. Раздался мелодичный звук, и через пару минут в комнату вошла домоправительница, одетая во все белое, как и раньше, и, как и раньше, нелюдимая. Она принесла на подносе бутылку шампанского и три бокала. Дядя сделал знак рукой, и Модест Сергеевич открыл бутылку. Все так же молча он подал бокал мне, потом Дяде и, наконец, взял сам. Молчание прервал Дядя.
— За меня и за мою книгу! — провозгласил он без ложной скромности.
Мы с Модестом Сергеевичем выпили до дна, Дядя лишь пригубил самую малость. Потом с хитрой усмешкой воззрился на меня, я молчала. Дядя потянулся за каким-то журналом, вынул из него конверт и подал мне:
— Держи, Племянница, за труды твои.
Я взяла, но открывать не стала: сколько есть, столько есть, дома посмотрю, и я убрала конверт в сумочку. Дядя с интересом проследил за моими действиями и повернулся к другому гостю:
— Модест, запиши координаты ее, может, зачем нужно будет. И вообще, не обижай ее.
Модест Сергеевич как-то саркастически хмыкнул, но промолчал, достал записную книжку, и я продиктовала ему свой телефон, не уточняя при этом, что вряд ли я буду все лето в зоне досягаемости. Почти тут же я ушла. На мое «до свидания» ответил не только Модест Сергеевич, но и, к удивлению моему, Дядя. Когда я уже повернулась, он вдруг сказал мне в спину:
— Прощай!
На меня это произвело впечатление, я вздрогнула, но оборачиваться не стала.
Дома я открыла конверт и посмотрела: в нем были доллары. Дядя, как и обещал, не обидел меня — так много мне не заплатили бы и за издание собственной книги. Ну и характер у человека, бутерброд ему для меня было жалко, а заплатил гораздо больше, чем я надеялась. Я решила убрать деньги подальше, это будет мой неприкосновенный запас.
На следующее утро я решила на день-два задержаться в городе, позвонить в редакцию, походить по магазинам. Редакторша моя оказалась в отпуске, и я с легким сердцем отправилась за покупками. Вообще-то я не большая любительница шопинга, но погода все еще стояла жаркая, а у меня было маловато легкой одежды. Потратила уйму времени и сил, но ничего не купила: либо мне не нравилось, либо нравилось, но стоило столько, будто было сшито из натурального меха! Мне это все ужасно надоело, и тогда я отправилась на ближайший рынок и купила все, что хотела, и денег потратила в общем-то немного. Конечно, производство было китайское или турецкое, но в данном конкретном случае мне это было безразлично, летняя одежда и рассчитана на один-два сезона. Домой возвращалась с ворохом покупок, но просто вконец измочаленная. Посещение магазинов утомляет хуже любой работы! Но я утешала себя, что уже завтра утром уеду на природу, и прости-прощай пыльный город на долгий срок. Но человек полагает, а Бог располагает, справедливость этой пословицы я оценила этим же вечером. К ночи у меня разболелся зуб, что ни делала, болит и болит. Утром, вместо поездки за город, пришлось идти к зубному. Чтобы залечить зуб, понадобилось два дня. Вечером второго дня раздался телефонный звонок, я подошла, будучи в полной уверенности, что это моя Катюшка, но ошиблась, объявился Модест Сергеевич. Не тратя лишних слов, он сообщил мне грустную новость. Тот, для кого я собирала книгу из разрозненных кусочков воспоминаний, кого я называла Дядей, не зная его имени, и к кому успела немного привыкнуть, умер! Модест Сергеевич сказал, что похороны будут завтра, и спросил, пойду ли я. При этом добавил, что сам не пойдет, их отношения были чисто деловыми. Подумав, я отказалась.
На следующее утро я ехала в электричке, чуть ли не подпрыгивая от нетерпения. Я боялась, что за те четыре дня в саду все завяло, шутка ли, такая жара стоит!
Сегодня наконец-то мои петунии открыли свои глазки. Пока всего два цветка: один белый и один розовый, но бутонов полно, и скоро вся моя клумба будет покрыта цветами. Больше месяца ждала я этого знаменательного события, для кого-нибудь другого это пустяк, но не для меня, ведь как-никак это первые мною посаженные цветы! По такому поводу я затеяла пирожки, и, судя по запаху, первая партия скоро будет готова. Утром ко мне забегала Ксюша и обрадовалась цветам не меньше моего, а уж у них на участке ее бабушка какие только растения не выращивает. Но Ксюша на удивление чуткая девочка и умеет сопереживать лучше многих взрослых. Я вновь встретила ее на прогулке в конце мая, после продолжительного перерыва. Девочка опять гуляла с Рексом. Оба показались мне подросшими и повзрослевшими. Овчарка больше не прыгала возле меня как сумасшедшая, только обошла кругом и вдумчиво обнюхала, потом замахала дружелюбно хвостом, вспомнила, должно быть. Ксюша даже сказала, что Рекс мне улыбается, но этого, признаться, я не заметила. После возобновления отношений девочка стала частенько заходить ко мне в гости. Она знала, что Володя умер, и не задала о нем ни единого вопроса, не спросила у меня даже, почему я живу в его доме. Не ребенок, а просто чудо тактичности! А ведь она не забыла о Володе, это было видно по тому, как она осматривалась в доме, притрагивалась к некоторым вещам, а кое-что даже погладила и улыбнулась не по-детски, задумчиво и печально. Я привезла ей из Москвы цветную глину и фломастеры. Мне очень нравилось смотреть, как, примостившись на краю стола, она создает маленькие шедевры, в то время как я мучаю компьютер, пытаясь собрать разбегающиеся мысли. Отношения обоюдно радовали нас. Вот и теперь я затеяла печь пирожки в расчете на свою маленькую подружку. Мне хотелось ее немножко побаловать потому, что бабушка девочки в последнее время прихварывала, а Лариса возиться у плиты не любила. Достав первую партию пирожков и отправив в духовку вторую, я выглянула в окно. В этот момент калитка открылась, и показалась Ксюша в новом нарядном сарафанчике желто-оранжевого цвета, в руках у нее была маленькая корзинка с первой клубникой. Я стала накрывать стол к чаю, Ксюша помогала мне, стараясь все делать важно и неторопливо, в последнее время у нее наблюдалось стремление выглядеть взрослой. Но когда она увидела, как я высыпаю в конфетницу ее любимые «Коровки», то весело запрыгала на одной ножке и захлопала в ладоши, вся ее напускная взрослость сразу улетучилась. Я сделала вид, что не заметила маленькой оплошности, чтобы не огорчать ее. Ребенок имеет полное право побегать и попрыгать, на то он и ребенок. Только мы приступили к священному ритуалу чаепития, хлопнула входная дверь, которую я днем не запираю. Я подумала, что это Лариса пришла за дочкой, так уже было несколько раз. Ксюша успевала пробыть у меня совсем недолго — мать уводила девочку, не слушая ее протестов. Ксюша, видимо, подумала то же самое, поскольку нахмурилась и недовольно засопела. Но в комнату уверенным шагом вошел Виктор. Внимательно оглядел нас: Ксюшу, с конфетой в одной руке и с пирожком в другой, и меня, с чашкой чаю.
— Здравствуйте, сударыни! Кажется, я в самый раз успел: и чай еще горячий, и пирожки еще не съедены.
Я быстро пришла в себя и представила ему Ксюшу, словно какую-нибудь взрослую даму. Она зарделась от смущения, а когда Виктор нагнулся и поцеловал ее маленькую, испачканную конфетами руку, она оцепенела. Я поспешила отвлечь внимание, чтобы дать ей время прийти в себя, и принялась усаживать гостя, доставать ему чашку, наливать чай. В какой именно момент на столе появились бутылка шампанского и большая коробка шоколадных конфет, я за своими хлопотами и не заметила. Ксюша посмотрела на бутылку сурово и вдруг, повернувшись к новому гостю, выпалила:
— Чай ведь лучше, не надо вино.
Виктор отнесся к заявлению ребенка серьезно:
— Ксюша, ты ведь дружила с Володей, да? Он мне говорил о тебе как-то. Я тоже его друг, давний друг, так вот, на правах этой дружбы, может быть, ты разрешишь нам с Женей сначала выпить немного вина, а потом уже чай?
Но Ксюша не сдавалась, по всей видимости, вино вызывало у нее тревогу.
— Дядя Володя умер ведь! А чай остынет, пока вы будете свое вино пить.
— Да, Володя, к сожалению, умер, но мы, его друзья, остались. Я вот что думаю, если ты дружила с Володей, то, может быть, и со мной будешь дружить? Я ведь хороший, правда, правда! А чайник можно будет подогреть потом. Как тебе такое предложение?
Девочка задумалась, а я тем временем потихоньку достала фужеры, открыла коробку конфет. Наконец Ксюша что-то придумала:
— Дядя Витя, а ты любишь собак?
— Собак? Очень даже люблю, а что, у тебя есть собака?
— У меня овчарка есть большая, больше всех! Его зовут Рекс. Он давно, еще зимой, как прыгнул на тетю Женю! И она упала прямо в снег, а мы с дядей Володей ее отряхивали. Это давно было, тетя Женя тогда еще в другом доме жила. Дядя Витя, а что у тебя есть?
Виктор сначала растерялся от такого вопроса, но нашелся довольно быстро:
— У меня есть машина, и я тебя на ней покатаю, если хочешь.
Предложение Ксюше очень даже понравилось, и она уже погрузилась в мечты о новых возможностях, открывающихся перед ней, но тут под окном раздался голос Ларисы. Ксюша со вздохом слезла со стула и хотела уже уходить, но вспомнила про машину:
— А когда же кататься?
— Не волнуйся, мы еще увидимся, это я тебе обещаю. И тогда обязательно покатаемся.
Я сложила в Ксюшину корзинку несколько пирожков и конфет, это чуточку утешило девочку, и она закосолапила к выходу. После ухода ребенка в комнате повисло гнетущее молчание. Я не собиралась прерывать его и смотрела в окно.
— Что же ты молчишь, Женя? Не находишь слов? Ну хорошо, я помогу тебе, например, ты могла бы поинтересоваться моим здоровьем.
Я смутилась, в самом деле, как невежливо себя веду, что это на меня нашло опять?
Он, кажется, понял мое замешательство, заулыбался, но тотчас посерьезнел. Поднял свой фужер и, глядя мне в глаза, сказал:
— За меня, хорошего!
Почти такой же тост произнес Дядя в последний день своей жизни, невеселое напоминание. Поэтому я подняла брови, но возражать не стала, быстро чокнулась с ним и выпила. Шампанское оказалось очень хорошим, я посмотрела на бутылку, и мои брови вторично поползли вверх.
— Ну, не стану же я за себя пить какую-нибудь ерунду! — небрежно заметил Виктор. Чувствовалось, что он немного рисуется, но это ему, пожалуй, шло.
— А почему, собственно, за тебя? Потому что ты принес эту бутылку или есть причина посущественней?
— Есть такая причина, и даже не одна, а две, и обе существенные. Сегодня — день моего рождения, это первая причина. А вторая еще более существенная — я решил сменить легкомысленный, холостой образ жизни на более серьезный, хотел бы жениться. Если тебе этих причин недостаточно, то я придумаю что-нибудь еще.
Кажется, он еще что-то говорил, напористо, весело. Но я его уже не слышала. В голове образовалась такая круговерть мыслей, что мне стало даже нехорошо. Надо же, жениться! Вот это да! Вот тебе и бабник! Как же так? Впрочем, сколько веревочке ни виться… Интересно, это он первый раз женится или уже был когда-то? Даже сердце закололо, наверное, от неожиданности. А почему он ко мне пришел с этим известием? Ему к друзьям надо, к Андрею, уж они-то за него точно порадуются. Я подняла на Виктора глаза и поразилась его изменившемуся виду. Еще несколько минут назад он выглядел довольным жизнью, а сейчас лицо у него было темное, хмурое. Я встревожилась:
— Что с тобой, Витя? Может быть, рана заболела?
— Какая к черту рана? Хотя, может, и рана, можно и так назвать. Только вот не надо делать участливое личико. После того, что ты со мной сотворила, не хватало только, чтобы ты же меня и пожалела!
Я оторопела: у кого-то из нас двоих с головой явно не все было в порядке.
— А при чем здесь я? Я не виновата в твоем ранении. Конечно, я очень благодарна тебе, что ты меня заслонил и тем самым спас. Очень благодарна и никогда этого не забуду. Но ведь я не виновата, что моя пуля досталась тебе, это Марина стреляла, а не я. И уж тем более я была ни при чем, когда тебя ранили вторично. Я могу тебе только посочувствовать.
— Оставь себе свое сочувствие. Сочувствие — это не любовь!
Я нервно рассмеялась:
— Какой же ты, оказывается, жадный, Витя! Ты женишься, зачем тебе моя любовь? С тебя вполне хватит и моего сочувствия. Надеюсь, что ты будешь счастлив, во всяком случае, я тебе этого от души желаю! И давай за это выпьем.
Я схватила бутылку, но руки у меня почему-то задрожали, и я плеснула мимо. Виктор тут же отобрал у меня бутылку и быстро разлил шампанское по фужерам, но делал он это явно машинально, поскольку думал о чем-то другом. Я повторила свой тост, мы чокнулись и выпили. Я встала и отошла к окну. Он тотчас же подошел и приобнял меня за плечи, что мне совсем уже не понравилось, и я вырвалась резким движением:
— Виктор, я думаю, тебе лучше уйти. Ты приехал, чтобы сообщить мне о своих брачных планах, уж не знаю зачем, но это дело твое. Что касается меня, то я тебя поздравила, моя совесть чиста. Теперь тебе пора возвращаться, я не очень хорошо себя чувствую и хочу остаться одна.
Он упорно пробовал повернуть меня к себе лицом, но я опять вырвалась, больше не хотела ни о чем с ним говорить.
— Жень! Женя, ты хоть что-нибудь слышала из того, что я тебе сказал? Хорошо, можешь не поворачиваться, но ответь мне только на один вопрос: ты слышала, на ком я собираюсь жениться?
Я хотела и тут промолчать, но поскольку он несильно, но все же тормошил меня, то я не выдержала и выплеснула на него все, что чувствовала:
— Нет, признаюсь, что я не слышала, на ком ты женишься, да и какая мне разница, я все равно никого из твоих многочисленных подружек не знаю! Наверное, это хорошо, что ты решил остепениться. Поздновато, правда, но лучше поздно, чем никогда. И я рада за тебя! Правда рада. Во всяком случае, порадуюсь потом, а сейчас, повторяю, я плохо себя чувствую и хочу остаться одна. Ты понял? Одна!
Я и в самом деле почему-то плохо себя совсем чувствовала: и сердце щемило, и голова гудела, и вообще было здорово не по себе, не надо было мне пить это дурацкое шампанское! И никогда-то я его не любила. Вдруг что-то произошло: окно да и вся комната начали заваливаться набок и перемещаться. Я так испугалась, что не сразу поняла, что это Виктор взял меня на руки и несет на диван. А когда поняла, то нахлынул уже другой испуг — он же дважды ранен! Пока я со всем этим справлялась, то уже оказалась на диване. Да нет, хуже! На диване сидел Виктор, а меня он посадил к себе на колени, и мы целовались! Было от чего сойти с ума. Одно то, что он меня целует, уже безобразие, но то, что я или, вернее, мои губы ему отвечают, это просто не лезло ни в какие ворота! Я стала вырываться так отчаянно, что это возымело наконец результат. Он отпустил меня, я тут же забилась в угол дивана и забаррикадировалась подушкой, сделанной в виде головы собаки. Это была любимая Володина подушка, и воспоминание об этом придало мне сил.
— Я знаю, зачем ты это делаешь! Ты хочешь показать, насколько ты меня не уважаешь. Ты всегда считал, что я недостойна Володи, и это правда! Я любила его, очень любила, но Володя был такой высокий человек, что я по сравнению с ним полное ничтожество. Но ты еще и ненавидишь меня. А кто ты такой, чтобы ненавидеть меня, чтобы меня судить? Может быть, ты и лучше меня, но не тебе меня судить. И я очень прошу тебя, нет, требую — оставь меня в покое! Я буду жить так, как умею и считаю нужным.
Я прижимала к себе подушку и, как мне казалось, говорила спокойно, но на последних словах голос сорвался и нечаянно зазвенел от скопившихся, но непролитых слез. Я судорожно сглотнула несколько раз, не хватало еще разреветься на его глазах! Он пристально смотрел на меня и все порывался что-то сказать, но я отвела взгляд и опять сглотнула. Проклятый комок в горле никак не желал рассасываться. Виктор принес фужер, я было отвела его руку, что-что, а спиртное мне было сейчас ни к чему, но спазм опять сжал горло, я быстро схватила фужер и выпила шампанское залпом. Эффект был немедленный, но совсем не тот, что был нужен, я отчаянно закашлялась. Похлопывание по спине не помогало, видно, вино пошло не в то горло. Когда приступ прошел, я совсем была без сил, то есть настолько, что сначала даже не реагировала на ту чушь, что стал нести Виктор.
— С чего ты взяла, что я тебя ненавижу?! Как это только могло прийти тебе в голову? Как я могу тебя ненавидеть, когда я тебя, наоборот, люблю? Я от тебя совсем свихнулся, на себя стал не похож. И к чему ты все время вспоминаешь мои ранения, я о них и думать забыл, что и тебе советую сделать. Это все не важно, важно только, как ты ко мне относишься, скажи — как?
Как ни старалась я успокоиться и держать себя в руках, но такое лицемерие и наглое притворство кого хочешь из себя выведут.
— Ты что, меня совсем дурочкой считаешь? Ты забыл, сколько раз меня оскорблял? Какие гадости ты мне говорил? Забыл? Как только ты меня видел, так сразу строил разные гримасы, а если я нечаянно тебя касалась, то сразу вздрагивал от отвращения, будто я жаба какая. Не надо делать удивленное лицо, я все видела. И ты думаешь, я не поняла, что ты тогда в больнице хотел меня выгнать, но я тебя опередила и сама ушла. И мне противно, что ты сейчас непонятно зачем устраиваешь пошлый спектакль! Как ты мог меня целовать? Как ты смеешь издеваться надо мной и говорить, что любишь меня? Никого никогда не ненавидела, а вот тебя готова возненавидеть! Убирайся отсюда, или я за себя не отвечаю!
— Женя! Все, что ты сейчас говорила, не имеет никакого отношения к действительности. Это твои какие-то непонятные, ни на чем не основанные фантазии. Я люблю тебя, понимаешь, люблю! Не вырывайся, я не хочу сделать тебе больно, но необходимо, чтобы ты выслушала меня спокойно и поняла, наконец. Я никогда не вздрагивал от отвращения, твои прикосновения всегда были мне приятны, очень приятны. Я люблю тебя, а все другое — это бред, такой же, как и твое заявление о том, что я хотел выгнать тебя из больничной палаты. Я хотел признаться тебе в любви, ты меня слышишь, в любви!
Я зло сузила глаза, сейчас я и в самом деле его ненавидела.
— Когда мужчинам не нравится то, что говорит женщина, они всегда называют это фантазией. «Дорогая, это просто твои фантазии!» Ненавижу! Ненавижу твою ложь, твое лицемерие, твое пустое и холодное сердце! Ненавижу тебя за то, что ты заставил меня ненавидеть! А это очень злое, иссушающее чувство, от него у меня боль. Но это пройдет, ты уйдешь, я успокоюсь, я снова стану прежней и смогу вспоминать о тебе без ненависти, но это потом, потом. А сейчас, когда ты смотришь на меня, у меня такая боль в сердце, что еще немного, и я умру!
Я закрыла глаза, чтобы больше не видеть его, чувствуя такой холод в сердце, словно оно и вправду должно было бы остановиться. Тиски его рук разжались, он отпустил меня и встал. Я по-прежнему не открывала глаз, хотела, чтобы он ушел, ничего в жизни мне было не нужно, только чтобы он ушел. Я настолько сильно хотела этого, что мое желание передалось ему, не могло не передаться. Спустя минуту хлопнула входная дверь. Остатка сил мне хватило только на то, чтобы вытянуться на диване и положить подушку под голову. Чувствуя, как меня засасывает, поглощает какой-то морок, я еще успела подумать: я одна, одна, и мне никто не нужен!
Я проснулась на диване, накрытая пледом, и от этого мне было тепло и хорошо. Я помнила, что ничем не накрывалась, кто же накрыл меня? Ах да, Володя! Он ведь такой заботливый! И от этой мысли мое израненное сердце стало биться ровнее, я словно ощутила прилив сил и чуть слышно про себя шепнула его имя, и тотчас же где-то в бездне пространства отозвались хрустальные колокольчики. Не открывая глаз, с улыбкой слушала я этот звон, и, когда он смолк, я уверилась, что Володя вернулся ко мне. Откуда? Этого я не помнила, но вернулся! И я позвала громче: «Володя!» Его рука протянулась ко мне, погладила по лицу, убрала прядь волос за ухо, опять погладила. Я наслаждалась этими нежными, любящими прикосновениями, засмеялась от счастья и, когда рука коснулась моих губ, стала покрывать ее поцелуями. Тотчас что-то кольнуло меня в сердце, какая-то совсем маленькая иголочка. Мои губы еще целовали, а сердце уже поняло: это не Володя. В ту же секунду я вспомнила, что Володя мертв, он умер, ушел от меня, его больше нет! Я быстро открыла глаза — это был Виктор, он сидел на корточках возле дивана и гладил меня по лицу. Господи!
Неужели сейчас все начнется снова? Видно, эта мысль отобразилась на моем лице, потому что руку он убрал и сказал поспешно:
— Нет, нет, мы сейчас ни о чем говорить с тобой не будем. Мы будем просто пить чай. Ведь нет ничего странного и страшного в том, что мы с тобой попьем чаю, я ведь еще не пробовал твоих пирожков. Ксюше они очень понравились, это было видно по тому, с какой скоростью она их уплетала, может быть, и мне понравятся? Чайник я сейчас поставлю, а ты лежи, если хочешь.
Но я села и спросила: сколько я спала? Оказалось, всего час. Интересно, он слышал, как я звала Володю? Не мог не слышать, ведь рядом совсем был.
— Ты ведь слышал?
— Да, — глухо ответил Виктор.
Но когда он повернулся, лицо у него было вполне обычное, он даже улыбался мне. Улыбается вот, а сам меня ненавидит, было подумала я, но тут же отругала себя за эту мысль, не хотела начинать снова. Чай мы пили довольно спокойно, Виктор шутил, улыбался и съел все мои пирожки. Только тут я вспомнила, что ничем существенным его не накормила, а ведь аппетит у него хороший, это я помнила. Предложила что-нибудь для него приготовить, сама я есть не хотела. Но он отказался, сказал, что ему уже пора и что он приедет через день или два опять. Я ничего ему не ответила, струсила, что опять начнем выяснять отношения, на это у меня не было никаких сил и желания тоже.
Уснула я быстро и спала очень спокойно и долго, когда открыла глаза, было уже девять часов. Спешить было, в сущности, некуда, но я все равно заторопилась, видно уже по привычке. Привела себя в порядок и выпила чашку чаю с последним оставшимся пирожком. На кофе не отважилась, хотя и хотелось, сердце еще не совсем пришло в норму после вчерашнего. Хотела поработать, но на месте не сиделось, какое-то внутреннее беспокойство гнало меня из дому. Сегодня было нежарко из-за тонкой дымки, покрывавшей небо, и я отправилась на прогулку. Гуляла почти два часа, даже не заметила, как время пролетело.
Машину возле дома я увидела издали, но это была машина не Виктора и не Наташи. Я уж было занервничала, но разглядела именно Наташу, она с кем-то разговаривала, этот кто-то был маленький, и его не было видно. Ага, да это Ксюша! Я ускорила шаг. Когда я подошла и с радостной улыбкой обняла Наташу, из машины совершенно неожиданно вылез мужчина лет тридцати пяти, в очках и с ранней лысинкой. Я настолько смутилась от того, что Наташа оказалась не одна, что, к стыду своему, прослушала имя-отчество гостя. Вообще, она торопилась и буквально потащила меня в дом, хотя я хотела показать ей свою маленькую гордость — петунии, ведь сегодня их было уже пять: две белые и три розовые. Мужчина пошел за нами в дом, разочарованная Ксюша, видя, что ее не зовут, повернула к своему дому.
— Наташа, вы давно меня ждете?
— Да нет, минут десять, но времени у меня в обрез, поэтому все разговоры оставим на потом, сначала дело. Витя изрядно напугал меня вчера, так что давай раздевайся!
Увидев крайнюю степень изумления на моем лице, Наташа хмыкнула:
— Раздевайся, тебя осмотрит врач и прослушает твое сердце. Витя что, ничего не сказал тебе? Узнаю его милое обыкновение — делает то, что считает нужным, и при этом забывает поставить в известность тех, кого это непосредственно касается.
Врач мрачно меня прослушал. Он расспросил меня о январском приступе, о пребывании в больнице, о диагнозе, о лечении. Я рассказала ему все, что смогла, включая номер больницы, так как он собирался навести там справки. Сказал, что ничего пока предписывать мне не будет, кроме покоя и размеренной жизни. Тут же они с Наташей собрались уезжать, я, удивленная пожарной спешкой, пошла проводить их до машины. За эти несколько шагов Наташа шепнула мне, что ее дочь вот-вот родит, поэтому она торопится.
После их отъезда я стала думать о Викторе и, конечно же, обо всем, что было вчера, но тут же разволновалась. Нет. Мысли о Викторе и предписанный мне покой никак не могли сочетаться. Чтобы отвлечься от опасной темы, я принялась готовить себе обед. После обеда часов до шести мне очень хорошо работалось, а потом пришла Ксюша с новой куклой. Я поняла, что работать сегодня мне уже не придется, вздохнула, полезла в шкаф и, основательно порывшись в нем, достала розовую шелковую блузку, которую недавно нечаянно прижгла утюгом. Из этой блузки мы с Ксюшей смастерили кукле такое роскошное бальное платье, что все остальные куклы позавидовали бы, если бы только смогли ее увидеть. Даже Лариса нашу работу похвалила. Она пришла за Ксюшей, которая, по ее словам, уже час как должна была быть дома. Девочка тут же сунула матери под нос свою куклу в розовом бальном платье как смягчающее вину обстоятельство. Лариса с кислой миной наряд одобрила. После наших с ней столкновений зимой из-за Володи и особенно после нашего разговора в магазине она при встречах со мной больше не хамила, но и жаловать меня особенно не жаловала. Она и дочь свою ревновала ко мне, ей не нравилось, что девочка проводит у меня так много времени. Но из Ксюшиных же слов явствовало, что бабушка заступается за ребенка и охотно отпускает ко мне, а поскольку из-за частых отлучек Ларисы бабушка была главным воспитателем девочки, то Ксюша и слушалась ее больше. Я в этот конфликт старалась не вмешиваться, и если Ксюша пыталась мне что-нибудь рассказать о домашних ссорах, то я быстро переводила разговор на что-то другое, более интересное. Мне не хватало еще только настраивать ребенка против собственной матери.
Уснула я поздно. Ночью мне приснился Володя, он уходил от меня по дороге, его уводила маленькая девочка, очень торопила и дергала за руку. Он слушался ее, но все же пару раз оглянулся на ходу, и помахал мне рукой на прощание. Лицо его я видела издали и потому смутно, но он улыбался. Я проснулась с неясным ощущением, что что-то было в этом сне не так. Я уже видела во сне, как Володю уводит маленькая девочка, скорее всего, его рано умершая дочь. Как и в первом сне, я стояла у двери… стоп! Что-то здесь есть! Я стала еще раз прокручивать мельчайшие воспоминания и ощущения только что виденного сна. Точно, кто-то держал меня за талию, я не поворачивала голову и не видела, кто это был, но стояла спокойно, не вырывалась, словно так и надо было, что кто-то обнимает меня. Да, еще я чувствовала чье-то дыхание над собой, значит, человек был значительно выше меня, скорее всего, мужчина. Неужели Виктор? О нет! Только не это! Меня аж бросило в жар, поскольку напрашивалось следующее объяснение сна: Володя был здесь в гостях и уже уходил, его уводила девочка. А мы, я и, предположительно, Виктор, вышли его проводить, и это нам, нам, а не мне одной, он махал рукой с такой сияющей улыбкой. Такое объяснение повергло меня в полное смятение, но я быстренько провела сама с собой надлежащую работу. Сон — это сон, а явь — это явь, и нечего их смешивать. Даже если это проделки подсознания, то и тогда нужно просто дать ему по мозгам, или что у него там есть, и успокоиться. В жизни и без того хватает неприятностей, чтобы еще вдобавок придумывать. Все, и хватит об этом! Я посмотрела на часы: без четверти семь, вполне можно вставать. Тем более, что сегодня суббота, на пляже вскоре соберется уйма народу, и если я собираюсь искупаться в тихой спокойной обстановке, то мне следует поторопиться.
Вода была как парное молоко, и я вдоволь наплавалась. Мне никто не мешал, люди стали появляться, когда я уже вышла из воды. Из дому я выскочила без завтрака, и сейчас мне так захотелось выпить чашку кофе с чем-нибудь вроде большого бутерброда с сыром, что у меня даже в желудке заурчало от голода. Я заторопилась домой. Ключ в замке почему-то не поворачивался, наконец, я сообразила, что замок открыт. Ну и разиня! Даже дверь забыла запереть. Запахи из кухни я почувствовала уже в прихожей, ну, значит, не воры. Бросила сумку с полотенцем и бегом на кухню: Виктор, в джинсах и полосатой майке, в моем фартуке с подсолнухами, священнодействовал у плиты. На звук моих шагов он обернулся, смерил меня взглядом и удивился, хотел что-то сказать, но я его опередила:
— Привет! Ты что, завтрак готовишь? Пахнет очень вкусно. Надеюсь, что кофе в нем предусмотрен? Я после купания очень хочу есть, а еще больше хочу горячего кофе.
— Привет тебе, ранняя пташка! Я-то думал, что ты еще спишь, старался не шуметь, все делал тихохонько, а ты, оказывается, уже сбегала искупалась.
— А замок ты тоже взламывал тихохонько?
— Ты очень невнимательна, радость моя, разве замок взломан? Он открыт, только и всего. Мой руки и садись, я разогрел блинчики с творогом, пальчики оближешь, до чего вкусно.
— Только не говори мне, что пек их сам, небось купил в ближайшей кулинарии?
— Обижаешь, однако, и вовсе не в ближайшей, а в самой лучшей.
Я невольно рассмеялась, но тут же согнала улыбку с лица, нечего мне ему улыбаться. Не торопясь сполоснула и повесила сушиться полотенце, которое брала с собой на пляж, приняла душ, переоделась и только после этого пришла на кухню. Виктор ждал меня за столом, полностью накрытым к завтраку, фартук он уже снял, а жаль! Ой! Что-то я сегодня слишком много улыбаюсь, не к добру это. Стараясь выглядеть серьезно, я села за стол и, к большому своему удивлению, обнаружила, что никаким кофе и не пахнет. Заметив мое недовольство, добровольный повар пояснил:
— Кофе, Женечка, для сердца вреден. Лучше выпей чаю.
— Вреднее тебя он быть никак не может, а я вот лицезрею тебя и пока еще жива. Не хочешь делать, ну и не надо, я и сама себе приготовлю, вкуснее будет.
Он перехватил меня у плиты, погладил по плечу с нарочито жалостливой и просительной миной, но я дернула плечом и сбросила его руку. Он вздохнул:
— Ну хорошо. Я приготовлю тебе кофе, садись. Но только, чур, будешь пить его с молоком.
— Вить, ты что, с ума сошел? Я терпеть не могу кофе с молоком, только черный! И нечего мной командовать, это моя жизнь, а не твоя, хочу живу, хочу нет.
Я сама почувствовала, насколько глупо звучит моя фраза. Предательская улыбка не замедлила тут же появиться, прямо так и стукнула бы себя по лбу, а еще лучше — его!
— Женечка, киска, ну поживи еще немного! Пожалуйста, ну что тебе стоит! — ухмыльнулся Виктор, сводя на нет всю мою серьезность.
Дело кончилось тем, что я все-таки получила свой кофе, и даже черный, но не очень обрадовалась, учитывая, какой это стоило борьбы. К тому же этот змей горыныч дал мне всего полчашки. Блинчики, как ни странно, и вправду были вкуснющие, я незаметно для себя уплела три штуки, за что удостоилась похвалы надзирателя. Запивать их мне пришлось ряженкой. В отместку я оставила грязную посуду и гордо удалилась. Я полагала, что он возмутится, ведь мужчины терпеть не могут мыть посуду. Однако вскоре на кухне послышался звук льющейся воды. Я подкралась на цыпочках: Виктор в моем фартуке увлеченно мыл посуду — дивное зрелище! Но вот таилась я, оказывается, зря — несмотря на шум воды, он каким-то образом услышал мои шаги и оглянулся, вид у него был при этом не просто насмешливый, а ехидный. Я опять почувствовала себя дурочкой и сбежала в сад. Там меня Виктор и нашел — мирно поливающую цветочки. Оглядев клумбу, он похвалил мои труды. Ага, подлизывается! И что же ему надо?
— Вот видишь, мы вполне можем мирно сосуществовать. Надеюсь, ты выбросила из головы, что я тебя ненавижу?
Я упрямо молчала: его поведение действительно не имело с ненавистью ничего общего. Но почему-то мне страшно не хотелось признавать его правоту. Видя, что я не буйствую, как в прошлый раз, Виктор продолжил:
— Женя, не будем повторять прошлых ошибок. Давай начнем с чистого листа. Подожди! Попробуй спокойно выслушать меня. Я прошу даже не поверить мне, а просто выслушать. Хорошо?
— Хорошо. — Голос мой дрогнул. — Я попробую, но сначала скажу одну вещь. Да, сейчас я отдаю себе отчет в том, что была не права, теперь мне и самой понятно, почему я так упорно считала тебя врагом. Но умоляю: не говори мне о своих чувствах, тем более о любви. Этого я не выдержу.
С минуту он очень серьезно смотрел на меня, потом кивнул, как бы в подтверждение своих догадок, и вздохнул.
— Я хорошо понимаю, что с тобой происходит. Жаль, что ты сама еще в себе не разобралась. Все гораздо глубже и серьезнее, чем я предполагал. Но это ничего, ничего. Мы ведь можем дружить, Женя? Просто дружить, часто встречаться, гулять, пить чай, обмениваться впечатлениями. Как ты на это смотришь?
Я молча кивнула. И тут скрипнула калитка, появилась Ксюша — очень кстати появилась! Поздоровавшись с независимым видом, она тут же спросила о машине. Да, и в самом деле, где же его машина? Оказалось, что Виктор просто поставил ее сбоку от дома, в тени. Обрадованная, что машина не исчезла, Ксюша сразу же предложила покататься, глядя на Виктора умоляющими глазами. Устоять он не смог, вот только мы не знали, куда ехать. Ребенок, как всегда, оказался умнее.
— За мороженым!
Хитрюга решила совместить два удовольствия. Мы поехали на станцию, там был самый большой выбор. Виктор рвался скупить чуть ли не весь ассортимент, я его едва остановила:
— Что ты делаешь? У нее же горло заболит.
Он смутился. Смущенный Виктор — это что-то! Просто экзотическое зрелище! Несмотря на Ксюшины уверения, что у нее никогда-никогда не болит горло, она получила только две порции, я одну, а наш спонсор от мороженого отказался. Потом мы еще немного покатались по окрестностям и завезли Ксюшу домой.
С этого дня началась новая жизнь. Виктор приезжал часто. В будние дни ненадолго, на пару часов, а в выходные иногда и ночевать оставался. Стелила я ему в гостиной на диване.
Как-то в субботу заехала Катюшка с мужем и ребенком, решила наконец посмотреть, что за убежище я себе нашла. Правду ей знать было ни к чему — я соврала, будто сняла дом в долгосрочную аренду.
Они застали Виктора. Катюшка очень удивилась, бросила на меня вопросительный взгляд. Выпив кофе и съев салат, она немного подобрела, долго присматривалась к Виктору. А тот как раз весело учил Мишутку только что придуманной игре. Глядя, как охотно ребенок играет с незнакомым дядей, она оттаяла. А вот дом забраковала:
— Маленький очень, а про участок вообще смешно говорить. Вот видели бы вы дачу моего свекра, просто роскошная! Мы летом проводим там все свободное время. — Адресовала она свой рассказ Виктору.
Тот вежливо слушал, но в глубине его глаз пряталась насмешка. Олег все это время изучал какие-то толстые не то газеты, не то журналы, в разговоре не участвовал и прервал чтение только для еды. Сомневаюсь, что он вообще заметил, где находится. Я-то привыкла к его манерам, Виктор же недоуменно пожал плечами и отвернулся почти с презрением. Вскоре они собрались уезжать. Я проводила ребят до машины. Обнимая меня, Катя обронила снисходительную похвалу в адрес Виктора, кажется, это максимум одобрения, на который она способна.
Я оказалась в странной изоляции. Любаша уже несколько раз обещала приехать показать нового жениха, да все что-то никак не могла выбраться. Котьку с женой я тоже зазывала, хотя и знала, что они все равно не появятся. В конце мая Лиза родила мертвого ребенка и теперь почти не выходила из дому, ни с кем не хотела общаться. В начале сентября они должны были возвратиться в Мюнхен, и Котька очень надеялся, что там бедолага придет в себя.
Мне было трудно, очень трудно видеть Виктора, слышать его, оставаться с ним наедине. И это несмотря на то, что он вел себя настолько корректно, что совершенно не к чему было придраться. В сущности, почти как муж: привозил продукты, иногда готовил, ходил со мной на прогулки, развлекал моих гостей, только спал по-прежнему в гостиной. Когда я вспоминала Наташины слова о нем, то начинала думать, что его наверняка в Москве ждет женщина, может быть, даже не одна. Такие мысли причиняли боль, и в то же время я злилась на свою чувствительность. Но еще больнее было представить нашу близость. После Володи — нет, ни за что! Любые мысли о Викторе приводили к тому, что я упиралась в стену, и сознание того, что я ее возвела, не приносило облегчения. Долго так продолжаться не могло. Я пыталась сказать Виктору, что наши отношения обречены, что у нас нет будущего, но он всякий раз переводил разговор на другую тему.
В конце июля мне стали сниться эротические сны, непременным участником которых был Виктор. В этих снах я не только не противилась, а буквально купалась в блаженстве. Просыпаясь с учащенным пульсом и пересохшим горлом, ругала себя последними словами.
Однажды в субботу после купания я разогревала обед, Виктор после какой-то незначительной фразы так посмотрел, что меня бросило в жар и закружилась голова. Ноги стали ватные, и, чтобы не упасть, я ухватилась за стол. Он сразу же подскочил ко мне, но я только покачала головой и закрыла глаза. Этот взгляд так напомнил мне сегодняшний сон, где я самозабвенно любила его, что я застонала. Виктор, не задавая никаких вопросов, подхватил меня на руки и отнес в спальню. Положил на кровать, нашел лекарство и пришел в ужас: в пузырьке жидкости осталось на донышке, а таблетки и вовсе кончились. Я выпила капли, прислушалась к тому, как постепенно успокаивается сердце, и открыла глаза.
— Наверно, я единственная женщина, которую ты принес на руках в спальню только для того, чтобы дать лекарство?!
Виктор от комментария воздержался, чуть-чуть потоптался возле и вышел.
В понедельник неожиданно приехала Наташа. Я обрадовалась, ведь мы не виделись уже больше месяца, да и в последнюю нашу встречу не смогли толком поговорить. Сначала она рассказала, какая чудесная у нее внучка Дашенька: толстенькая, розовая, с пока еще мутно-голубыми глазками и длинными черными ресницами. Я радовалась вместе с ней, но чувствовала, что у нее за душой что-то есть, не так просто она приехала. И как только повисла первая пауза, я вопросительно посмотрела на гостью, не в силах дольше выносить неизвестность. Наташа торопливо вытащила из сумочки новые лекарства, но я продолжала молчать.
— Женя, я хочу тебя спросить… — Она покраснела и замялась. — Конечно, это не мое дело, но у вас с Витей… Понимаешь, Андрюша сказал, что Витька сам на себя не похож. Больше не смеется, не шутит и рассеянный очень. Он очень дорог мне, я хотела бы помочь и ему и тебе, только не знаю как.
Она замолчала, беспомощно глядя на меня.
— Ты права, Наташа. Я мучаю его, сама страдаю не меньше, а сделать ничего не могу. Это тупиковая ситуация. Нам нужно порвать, раз это единственный выход из сложившейся ситуации.
— Как жаль! Боже мой, как жаль! Помнишь, я говорила, что Витя не умеет любить? Оказалось, умеет, научился, смог. И такой печальный финал. Ты и сама стала как тень, но советчик из меня в этих вопросах никакой. Мне безумно жаль!
Мы прошлись немного в лесу, но у обеих на душе было неспокойно, и прогулка не удалась. На прощание я сказала:
— Наташа, я знаю, что в душе ты сердишься на меня. Нет, сердишься — глупое здесь слово, даже не знаю, какое подобрать. Негодуешь, скорее. Я приношу одни несчастья близким тебе людям, а значит, и тебе. Одни беды и хлопоты. Я так хотела бы, чтобы все было по-другому, но у меня не получается.
— Перестань, Женя! Значит, так уж суждено, а я люблю тебя такую, какая ты есть.
Мы обнялись, и она уехала. И все-таки у меня осталось ощущение, что где-то в глубине души она недовольна. Я на ее месте наверняка бы злилась.
Во вторник жара немного спала, и мне хорошо работалось, я вообще неожиданно почувствовала себя увереннее. Может быть, со мной все в порядке, просто организм реагировал на ужасную жару? В этот вечер Виктор тоже не приехал.
В среду меня разбудил гром. Я прислушивалась к тому, как надвигается гроза, но вот налетевший порыв ветра так сильно хлопнул рамой, что чуть не вылетели стекла. Пришлось встать и закрыть окно. Я все лежала и ждала, когда же пойдет дождь, и незаметно уснула. Мне приснился странный сон, вроде бы я с какой-то шумной компанией что-то праздную на природе, но потом устала от шума и отошла в сторону, подальше от всех. Расстелила полосатый коврик и легла позагорать, но почувствовала на себе чей-то взгляд, открыла глаза и увидела, что рядом со мной стоят Володя и Виктор. Обнявшись, они с улыбкой смотрели на меня, а меня так разморило на солнышке, что было лень встать, даже пошевелиться лень, я снова закрыла глаза и уснула.
С этим я и проснулась: уснув во сне, очнулась наяву. Было ужасно жарко, я вся взмокла от пота. Встала, распахнула окно и с огорчением увидела, что дождя так и не было. Гулять я не пошла, было слишком душно и пыльно. Ветер гонял по дорогам клубы пыли, а с неба так и не упало ни капли. Ближе к вечеру я вышла посидеть в садик. Забежала Ксюша с Рексом, пока девочка пересказывала все свои новости, пес чинно сидел рядом, но через несколько минут и они ушли, я опять осталась одна. Поймала себя на том, что ловлю звуки с улицы, не зафырчит ли знакомая машина, но было тихо. Я сказала себе, что все больше Виктор не приедет, больше я не увижу его. И чутко прислушалась к себе — внутри все было спокойно. Я приготовилась ко сну, легла, вспомнила, как Витя играл с Мишуткой, и улыбнулась. Сон подошел, как всегда, незаметно, на маленьких и теплых лапках, и я уже почти совсем в него погрузилась, как вдруг словно что толкнуло меня, и я села на постели. Почему во сне они стояли рядом, обнявшись, — Володя и Витя? Я ведь никогда не видела их вместе, более того, при жизни Володи я даже и не подозревала о существовании Виктора. Почему они приснились мне вместе? Холодный, липкий страх заполз внутрь, свернулся на сердце как змея и мешал уснуть. Полночи я проворочалась без сна, утром встала измученная, с синевой под глазами. Весь день четверга я разрывалась между желанием позвонить и спросить у Наташи, не случилось ли чего с Виктором, и опасением, что она не так меня поймет. К вечеру нервы стали как натянутая струна, любой случайный звук выводил из себя. Около девяти часов вечера послышался шум машины, я подбежала к калитке, это разворачивалось такси, видимо заехавшее не туда, я даже плюнула с досады. Уснула я, как ни странно, быстро, все-таки сказывалась предыдущая бессонная ночь. Сны снились неотчетливые, сумбурные, я все бежала куда-то, искала какой-то дом и не могла найти. Проснулась с таким пасмурным настроением, что сразу же после вялого завтрака отправилась на почту звонить Наташе, не могла больше выносить неизвестности. Дома у нее никто не отвечал, а на работе сказали, что ее не будет до вторника. Наверное, ничего не случилось, ведь тогда мне сразу сказали, что у нее умер друг. Так я уговаривала саму себя. Весь этот долгий и унылый день я пыталась работать, но ничего путного не получалось, домашние дела тоже не делались. Даже обед не стала себе готовить, съела несколько помидоров с хлебом, больше ничего не хотелось.
В субботу утром я долго купалась, а возвращаясь, увидела возле дома длинную белую машину. На ступеньках крыльца сидела яркая нарядная Любаша, а ступенькой ниже притулился незнакомый мужчина. Любаша не была бы Любашей, если бы не начала свою приветственную речь с упреков:
— Знаешь что, дорогая, приглашала меня, приглашала, а когда я приехала, то дверь закрыта, а ты бродишь неизвестно где. А кто будет встречать ненаглядную сестру?
Я обняла ее от души. Она тут же торжественно представила очередного жениха, Николая. Я удостоилась поцелуя руки, и мы прошли в дом, Люба принялась разбирать привезенные пакеты, тараторя без умолку. Поскольку рассказывала она обо всяких пустяках, то я слушала ее вполуха, накрывала на стол и украдкой рассматривала нового жениха сестры. Выглядел он немного странно, но, может быть, это только казалось по контрасту с шумливой и подвижной Любашей. Николай скромно сидел на стуле, сложив пухленькие ручки на коленях. Помаргивая, преданно смотрел на Любу. В детски чистом его взгляде читались неприкрытая любовь и восхищение. Видеть такие вещи мне было внове. Мужчин Любаша любила всегда, но раньше у нее водились в основном молодые, красивые, без признаков скромности и интеллекта самцы. А этот был из другой породы.
Поскольку было еще рано, мы решили считать застолье завтраком. Стало быть, пить пока не будем, решила я. Но Любаша тут же возразила:
— Знаю, знаю. По утрам пьют только аристократы и дегенераты. Поскольку я не дегенератка, значит, аристократка. Выходит, пить мне не только можно, но даже и положено, а вы как хотите.
Коля застенчиво попросил кофе, оказывается, они привезли с собой мой любимый мокко, ну как тут было не присоединиться? Аппетит у Любиного жениха прекрасный, любо-дорого было смотреть, как он опустошает тарелки. Наевшись, он необычайно оживился. Говорил главным образом о Любаше, видно было, что он очень ею гордится, но и свою персону не забывал. Оказалось, что он портной.
— Но зато какой! — И Коля воздел к небу ручки. От скромности и застенчивости остались одни воспоминания.
Любаша тут же вклинилась в разговор и подтвердила, что он первоклассный мастер по пальто и пиджакам. На этой почве они, оказывается, и познакомились, он сшил ей какой-то умопомрачительный пиджак лимонного цвета. Должно быть, вещица в сестрицыном вкусе. Увлеченная разговором, я и не заметила, как возле нашего стола материализовался Виктор. Выглядел он как всегда, поздоровался тоже как ни в чем не бывало. Люба очень обрадовалась, защебетала пуще прежнего. Я уж испугалась было: не забыла ли она про жениха? Но Любаша опомнилась и стала знакомить мужчин, те обменялись традиционным рукопожатием, а неизвестно от чего расчувствовавшийся Коля даже шаркнул ножкой. В другое время такой старомодный жест вызвал бы у меня приступ тайного смеха или хотя бы улыбку, но не сейчас. В данный момент я почувствовала злость и горечь, что страдала и мучилась из-за Виктора напрасно, а он и в ус себе не дует. Ишь, явился преспокойненько и даже никак не объясняет, почему его не было всю неделю. Пока я пережевывала обиду, Люба, взяв инициативу в свои руки, предложила всем пойти на пляж. Я попробовала возразить, но Любаша сдвинула брови:
— Женя, не будь занудой! Мы твои гости, так что иди навстречу нашим пожеланиям.
Коля согласно закивал, Виктор тоже ничего не имел против пляжа.
— Шляпу возьми от солнца, — сказал он уже на ходу.
Как будто мне пять лет!
Набрали целую кучу продуктов и отправились в путь. Солнце уже жарило вовсю, и настроение мое испортилось вконец. Полотенце свое я постелила чуть в сторонке и только собралась на него сесть, как замерла в недоумении: оно же полосатое, как во сне! Но при чем тут Володя? Пока я ломала над этим голову, Люба достала из сумки продукты. На замечание, что мы только что из-за стола, она с ехидцей ответила:
— А Витя? Надо же человека покормить.
Я закрыла глаза, чтобы не видеть их. Мужчины больше помалкивали, лишь Коля иногда закатывался мелким смешком. Зато Люба шутила и смеялась за троих, сегодня она явно была в ударе. Обычно сестра нравится мне в такие моменты, нравятся ее напор и жизнерадостность, но сейчас все раздражало, и я старалась поменьше открывать рот, чтобы не обижать людей. Стало совсем жарко, и Люба потащила мужиков в воду. Про меня она словно забыла. Странно, обычно Люба не ведет себя так, а тут словно с цепи сорвалась…
Надо мной раздался громкий смех, сверху полетели брызги воды. Я открыла глаза: наяву их было трое, но стояли они как в том сне. Люба обнимала кавалеров за талии, и все трое улыбались. Кавалеры были очень уж разномастные. Коля — невысокий, кругленький, с брюшком, русые волосы торчат на макушке и над ушами. Мне вдруг пришло в голову, что он похож на игрушечного медведя, снявшего шубку. Потом я перевела взгляд на Виктора. Интересно, это по контрасту его фигура смотрится так атлетически и пропорционально? Или потому, что он стоит, а я лежу?
Обед был почти готов, когда послышались голоса: нагрянули Лариса с Ксюшей. Видя мое удивление, Лариса объяснила, что она скучает в отпуске, хочет попросить у меня книжку, но развить эту тему мы не успели, так как заявилась пляжная компания. Моментально все перезнакомились. Лариса повторила цель визита, но тут Любаша, только что без сил томно возлежавшая в кресле, вдруг села и выпалила:
— Слушайте! А давайте разожжем вечером костер, нажарим шашлыков, прикупим еще вина и повеселимся на полную катушку!
От этой идеи я совсем скисла, зато остальные воодушевились. Лариса побежала за шампурами, Виктор улыбался, Коля радостно потирал ручки, Ксюша прыгала на одной ножке. Меня же ни о чем вообще не спрашивали, исчезни я ненароком, ручаюсь, никто бы и не заметил! Отобедав на скорую руку, все принялись за дело. Съездили в магазин за мясом, замариновали его в белом вине со специями. Этим занимался Виктор, от меня только потребовали кастрюлю. Чуть позже Коля с Любой заготовят хворост, а пока все разбрелись на отдых, кто в гостиной, а кто в саду, в тенечке. Я ушла в спальню.
Костер назначили на семь, и Лариса с Ксюшей пришли к этому времени с шампурами, но Любаша с Колей проспали и дров заготовили мало. Посмеявшись над этой незадачей, все разошлись на поиски деревяшек. Со мной осталась только Ксюша. Она старательно помогала, мыла овощи, а я резала салат: куда деваться, гости же! Еще весной я обнаружила в кладовке складной столик и три стульчика. Вытащила это добро в сад, добавила табуретки с кухни, расставила одноразовую посуду.
Первыми вернулись Люба с Колей, принесли по охапке хвороста и стали разжигать огонь. Ксюша тут же кинулась им помогать: дети просто обожают костры. Мои однажды разложили костерчик прямо в гостиной, насобирали щепок на улице, добавили бумаги, которые стянули с письменного стола, разумеется, это были самые важные документы. К счастью, я вовремя вернулась из магазина. Но сейчас костер гореть не желал, загорался и тут же гас, и я помочь ничем не могла. Ларисы с Витей все не было, и раздраженная Любаша прямым текстом заявила, чем они сейчас, по ее мнению, занимаются. Я ткнула ее в бок, показав глазами на Ксюшу, и Люба прикусила язык. Еще одна неудачная попытка, и тут наконец появляются Лариса с Витей. Оказывается, Лариса у кого-то одолжила тележку, и они привезли сразу много дров. Увидев, что костра все еще нет, Виктор хмыкнул:
— Я так и знал, что без меня не справитесь. Смотрите и учитесь!
Через минуту сучья весело трещали, Виктор начал нанизывать мясо, переслаивая его колечками лука. Коля умильно сложил руки, Ксюша от избытка чувств бегала вокруг костра, что-то весело напевая. Лариса пошла возвращать тележку. Прикинув, что одним мясом эта прорва народу не насытится, я отправилась на кухню. Нарезала ветчины, грудинки, сыра, открыла банки с лососем и маслинами, сделала салат из морской капусты с отварными яйцами, порезала хлеб. Стала перетаскивать все в сад, хотела кликнуть кого-нибудь себе в помощь, но все так хохотали, что я решила их не отвлекать. Когда принесла последние тарелки, шашлыки были уже готовы. Все дружно набросились на них, включая Ксюшу. Я от мяса отказалась, взяла себе сыра и овощей. Кто-то сунул мне в руку стакан, кажется Люба, в суете я и не заметила. Только я поднесла стакан ко рту, как невесть откуда взявшийся Витя выхватил его, сунул другой, шепнув на ухо:
— Не вздумай пить водку, голову откручу!
Я отпила красного вина, как раз такого, как люблю. Хотела поблагодарить Витю за заботу, но он уже был по другую сторону костра: что-то говорил Ларисе, а та смеялась. Вечер, так дурно начинавшийся, разгорелся не хуже костра, все веселились от души. Я сидела чуть в стороне, так мне было удобнее наблюдать за происходящим. Время от времени приходилось бегать на кухню, чтобы еще что-то подрезать: то колбаски, то сыра, то хлеба, то лимона. Ксюша охотно помогала мне, ей очень нравилась вся эта суета, но смущало мое неучастие в общем веселье, и она старалась выказать мне внимание. Пока мы с Ксюшей хозяйничали, гости пили вовсю, и результаты стали вскоре сказываться. Меня не очень удивляло, что Виктор, опрокидывая стакан за стаканом, успевал следить за костром, приглядывать за жарящимся мясом, участвовать в общем веселье и быть любезным кавалером для Ларисы и Любы. Но вот Коля! Плюшевый медвежонок Коля, которого Любаша то и дело называла пупсиком, а за ней и Лариса подхватила это смешное имечко, он пил больше всех, оставаясь все таким же, только пот выступил у него на лбу. Женщины уже были навеселе. Любаша резвилась под любящим взглядом своего пупсика, выдавала нескромные анекдоты, не заботясь о детских ушах, и азартно флиртовала с обоими кавалерами, но все-таки держалась в некоторых рамках. А вот Лариса раскисла, ноги плохо держали ее, но она висла на Викторе, отвешивая ему сомнительные комплименты, даже Люба пару раз поморщилась. Я ни во что не вмешивалась: без меня это веселье заварилось, без меня пусть и расхлебывается. Я только держала Ксюшу при себе и отвлекала ее внимание в особенно рискованные моменты, которых становилось все больше, и я поняла, насколько не продумано было присутствие ребенка возле пьющих взрослых. Девочка погрустнела, а может, просто устала, я взглянула на часы — пять минут первого! Попробовала увести ее, чтобы уложить на своей постели, но Ксюша заупрямилась, вырвалась из моих рук и подбежала к Ларисе, повисшей в этот момент на шее Виктора:
— Мама! Ну, мама! Пойдем домой, уже поздно, я спать хочу.
Здесь я была бессильна: как бы Лариса себя ни вела, она мать. Но сама Лариса в этот момент вряд ли об этом помнила. Грубо отпихнув девочку, она матерно выругалась. На Ксюшу это не произвело никакого впечатления, видимо, она привыкла.
— Пойдем, мамочка, ну, пойдем!
Я хотела вмешаться, чтобы предотвратить новый залп ругательств, но этого не понадобилось. Виктор взял девочку за руку, обнял Ларису и повел, шепча ей что-то на ухо, от чего та смеялась не переставая. Когда они ушли, веселье разом кончилось. Любаша, впрочем, еще пофанфаронила несколько минут, но наконец и она широко зевнула. Я разложила диван в гостиной и постелила им постель, надеясь, что они пока уберут со стола в саду. Напрасные надежды. Когда я вернулась в сад, то застала там все тот же беспорядок, а Любаша и Коля, раскисшие, сидели на стульях, как выброшенные на берег медузы. Коля отклеился от стула, вяло поблагодарил меня и побрел в дом, Любаша тоже поднялась, правда со второй попытки и с моей помощью. Она растроганно облобызала меня и убрела вслед за своим пупсиком. Виктор все не возвращался. Вышла посидеть в сад, даже по ночным запахам сада чувствовалось, что уже август, звезд на небе высыпало полным-полно, и все такие крупные! Ночь была довольно теплая, но я все равно озябла и вернулась в дом. Дверь в гостиную была закрыта и свет погашен, но слышался мурлыкающий Колин голос, значит, еще не спят. Я пошла в ванную и уже собралась набрать в нее воды, но вдруг спохватилась — я такая усталая и сонная, что могу расслабиться и уснуть. Решила ограничиться душем и долго стояла под ним, наслаждаясь тем, как нежно сбегают по телу струйки воды и уносят с собой накопившуюся за долгий, утомительный день усталость из моего тела, и даже горечь из моего сердца им удалось в какой-то мере смыть. Когда, освеженная, я вышла из ванной, в доме царила уже полная тишина. Я поняла, что Виктор остался ночевать у Ларисы, расстроилась сначала, но потом подумала, на манер Скарлетт, что сегодня сил у меня нет ни на что, я подумаю об этом завтра. И, закрыв входную дверь, отправилась спать. Несмотря на все мои благие намерения, поднимаясь по лестнице, я так ясно представила себе Виктора с Ларисой, ласкаюших друг друга, что мне даже стало нехорошо, и я была вынуждена прислониться к стене.
Отдышавшись немного и отругав себя как следует за неуместные мысли, я открыла дверь и вошла в спальню. Зажгла бра, развязала пояс халата и вдруг увидела, что в моей постели кто-то лежит! От испуга я чуть не закричала, но вовремя зажала рот. Лежа на боку и слегка посапывая, безмятежным сном спал Виктор. Когда же это он пришел? И что мне теперь с ним делать? Я собиралась поставить ему раскладушку на кухне, а он, извольте видеть, забрался в мою постель и спит себе сладким сном! Теперь получается, отправляться в кухню должна я? Но у меня сегодня был такой длинный и трудный день, я сильно устала, и что, в награду за все мои хлопоты меня ждет раскладушка на кухне? Есть от чего расстроиться и прийти в отчаяние. Ну уж нет! И я сильно потрясла Виктора за плечо — никакой реакции. Тряхнула его изо всех сил, он пробормотал что-то неразборчивое и уснул еще крепче. Да что же это такое, его и пушкой не разбудишь! Может быть, взять и облить его водой? Правда, постель намокнет, но только с одного края, а с другого вполне можно будет приютиться. Я уже собралась спуститься в кухню за водой, но мне в голову пришла другая мысль. Он много пил и крепко уснул, если я тихонько лягу с другого края, то мы сможем проспать до утра в одной постели, так сказать, автономно, независимо друг от друга. А если я встану раньше его, то он и вообще об этом не узнает. Мысль соблазнительная, но опасная. Вдруг я крепко усну, а он проснется и увидит меня? Не решит ли он, что дорога для него открыта и все теперь можно? Да, но с другой стороны, если я все-таки оболью его водой, он может расшуметься настолько, что разбудит гостей внизу, объясняй потом, что тут происходит, то-то Любаша вдоволь нахихикается. В общем, все дело заключается в том, чтобы определить, насколько крепко он спит, выпил он сегодня столько, что проснуться ну никак не должен. Для верности я опять его сильно тряхнула за плечо и, наклонившись к самому уху, позвала по имени, он даже не шелохнулся, знай себе тихонько посапывает. Я погасила свет, скинула халат и, натянув в темноте ночнушку, юркнула под простыню. Сначала я даже дышать боялась, но все было тихо, Виктор дышал ровно и глубоко.
Постепенно я успокоилась, расслабилась и уснула. Мне снилась очень большая и широкая река, я плыла в теплой воде, наверное, я опять рыбка, радуясь, подумала я. Но нет, руки у меня вполне человеческие, я их ясно вижу, хотя плыть так необыкновенно легко, тогда, может быть, я русалка? Солнце зашло за тучку, стало прохладно, и я вышла на берег, вышла вполне нормально, ногами, так, значит, я все-таки человек? Отчего же тогда мне так легко и радостно? Ощущение такое, что весь мир полон радости и света и я — его неотъемлемая частица, а не что-то досадное и случайное. Тихонько смеясь, я поворачиваюсь лицом к реке и вижу, что оттуда выходит человек, высокий, темноволосый, седина на висках, маленький белый шрам на скуле, темно-карие глаза смотрят ласково, губы улыбаются. Наверное, мы знакомы, но я не помню его имени, легкая тень досады омрачает мое радужное настроение, но тут же рассеивается, какая я все-таки глупая! Здесь в мире радости и света это не важно, это все пустяки, просто он — такая же частица этого мира, как и я. И я тоже начинаю улыбаться ему. Человек подходит совсем близко, я вижу загорелую кожу с капельками влаги, курчавые, то черные, то седые волосы на груди. Мне интересно, какая у него кожа на ощупь, и я кладу руки ему на плечи: кожа упругая, чуть прохладная, ну да, он же только что из воды. И вдруг я начинаю собирать губами капли воды у него с груди, это лучшее, что я пила когда-либо в жизни! Он тихо смеется, я слышу, как смех рокочет у него внутри, и от его смеха легкие веселые мурашки бегут у меня по шее и плечам. Наконец все капли кончились, те, что не успела выпить я, выпило солнце. Я поднимаю голову, он находит мои губы, но не целует, а слегка касается своими, неожиданно сухими и горячими, и при этом шепчет: «Женя, Женечка!» Это касание и этот шепот так сладостны, я, не раздумывая, привстаю на цыпочки, прижимаюсь к нему всем телом, закидываю руки ему на шею и, закрыв глаза, покрываю мелкими поцелуями его лицо. Человек прижимает меня к себе так, что становится тесно в его объятиях. Эта теснота не гасит моей радости, наоборот, добавляет ее, потому что я не забыла, я точно знаю, что мы всегда можем слиться, войти друг в друга, стать друг другом, и сияющим солнцем, и ласковой водой, и радостью, и всем этим миром. Но человек, так тесно прижимающий и что-то тихо шепчущий мне, видимо, еще не знает этой истины, не понимает ее, потому что еще крепче прижимает, сдавливает так, что становится трудно дышать, и негромко стонет. Я открываю глаза, чтобы сказать ему, что нет никаких причин для страдания, но почему-то темно, нет ни солнца, ни реки, только объятия по-прежнему тесны. Проходит секунда, длинная, как год, прежде чем сон окончательно отступает, и я начинаю сознавать, что сейчас ночь, вернее, почти утро, я в своей постели, и обнимает меня каким-то чудом проснувшийся Виктор. Я вскрикиваю и начинаю отбиваться как безумная, но это непросто, это вообще невозможно, находясь в плену его рук, будучи оплетенной его ногами. Он еще крепче обнимает меня и шепчет мне прямо в ухо:
— Поздно, Женя, поздно, я уже поймал тебя! — И прежде чем я успеваю хоть что-нибудь возразить, он закрывает мне рот жгучим поцелуем. И я понимаю — в самом деле поздно, и я сдаюсь, сдаюсь на милость победителя. Еще успеваю подумать, что имя Виктор и означает победитель. Эрос вступает в свои священные права. Я ощущаю его права в горячем токе собственной крови, в участившемся дыхании, ощущаю всей своей кожей. И эти ощущения достаточно сладки и сильны, чтобы приглушить и подавить все остальное: даже разум и совесть.
Утром я проснулась первой, все еще, по-видимому, спят. С трудом преодолеваю искушение полюбоваться на него спящего. Нет! Иначе другое лицо встанет перед моими глазами, я этого уж точно не вынесу! Я накидываю халат, подбираю ночнушку с пола, кладу ее на подушку и, не оглядываясь, выхожу из спальни. Стоя под душем, думаю о том, что нет никакого смысла сожалеть о случившемся, вне зависимости от того, как это могло произойти: застали ли меня обстоятельства врасплох, или я сама зашла в ловушку, но это было, было! И ничем, никакими сожалениями этого не замазать, не отменить. С печалью в душе я вышла из ванной. В доме все еще было тихо. Я смолола кофе, разболтала в миске яйца с солью и молоком, порезала сыр, хлеб и лимоны. Достала из холодильника сливочное масло, прислушалась: вроде бы в гостиной тихо разговаривают, да, точно, и в душе льется вода. Но пока еще все умоются и соберутся за столом, пройдет минут пятнадцать-двадцать. Я решила немного пройтись по улице. Когда я вернулась в садик, заспанные Любаша и Коля сидели за столом. Витя радостно мне улыбнулся, но взгляд его скользнул ниже, и улыбка погасла: он разглядел мой топик с тонкими бретельками и очень короткие, обтягивающие шорты.
— Ты что, в таком виде по поселку гуляла?! — изумился Витя.
— Доброе утро всем. Как спали-почивали, что такие хмурые? Голова не болит? Сейчас принесу коньяк, плесните немного в кофе, все как рукой снимет.
Но уйти он мне не дал, схватил за руку. Мне это так не понравилось, что я применила запрещенный прием:
— Только один мужчина никогда не предъявлял претензий к моему внешнему виду и моей одежде — Володя.
Рука мгновенно разжалась, и я пошла за коньяком. Когда я вернулась, Витя был невесел, но спокоен. От спиртного отказался, но ел с аппетитом. Любаша с Колей, наоборот, уныло ковырялись в своих тарелках и дружно вздыхали. Поглядев на их постные лица, Витя встал и принес им рюмки.
— И правда, чего зря напиток портить! — вяло улыбнулась Любаша и махнула рюмочку, а за ней и Коля.
После завтрака Люба вдруг затеяла танцы, но желающих не нашлось. Помаявшись в саду, все перешли в гостиную. Люба уткнулась в телевизор, мужчины сели играть в шахматы, я отправилась мыть посуду. Уже домыла и закрывала кран, когда почувствовала чье-то присутствие за спиной, но не успела обернуться, Виктор обнял меня. Уклонившись от поцелуя, я спросила:
— Кто проиграл?
Недовольный моим поведением, он буркнул:
— Он, конечно. Как играть с человеком, который совсем этого не умеет?
В это время на кухню заглянула Любаша, сообщила, что они собираются уезжать. Я огорчилась, поняв, что объяснений с Виктором не миновать, и хотела хоть немного отодвинуть этот момент. Однако Люба на уговоры не поддалась. Делать было нечего, я пошла их проводить, но сначала решила проверить — не забыли ли мои гости свои вещи в гостиной. И правильно сделала: из-под кресла торчал уголок чего-то черного. Потянув за него, я выудила Колин бумажник и тут же отдала его Любаше. Любаша сунула в него любопытный нос и хихикнула. В бумажнике оказались не только деньги, но и документы, включая водительские права!
Проводив сестру, я пошла в дом, гадая, уедет Витя сегодня вечером или завтра утром? Хорошо бы сегодня, хочется избежать объяснений. Глянула на Виктора, лицо непроницаемое. Я тут же засела за компьютер, а ему предложила чем-нибудь заняться, по его выбору. Я не предполагала, что смогу сейчас написать что-то новое, но у меня был готовый кусок, который требовал правки. Сколько времени прошло, не знаю, наверное, около часа: была увлечена своим делом, ничего вокруг не видела и не слышала. Внезапно я почувствовала, что взлетаю в воздух, это подкравшийся Виктор схватил меня на руки. Волосы его были влажными, на шее сверкали капельки воды. Конечно, я сразу вспомнила свой сон, на мгновение закрыла глаза, но опомнилась и стала вырываться. Не тут-то было: не ослабляя хватки и не замедляя шага, он принес меня в спальню и положил на кровать. Я рванулась, но Витя склонился надо мной, улыбаясь:
— На этот раз я не собираюсь давать тебе лекарство.
И опять он не позволил мне встать.
— Женя, что с тобой? Ты же сама предложила мне заняться тем, чем я хочу. А что я могу хотеть больше тебя?
— Нет, — прошептала я и повторила: — Нет!!!
— Почему? Потому что сейчас белый день?
— Нет, не поэтому. То, что было ночью… Понимаешь, мне следовало лечь в кухне на раскладушке, но я так устала…
— Ты совсем не удивилась, увидев меня в своей постели?
Тотчас перед моим мысленным взором всплыло лицо пьяной Ларисы, как он уводил ее, обнимая, а она смеялась. Сделав усилие, я отмахнулась от неприятных мыслей.
— Удивилась. Даже хотела облить тебя водой, но побоялась, что ты поднимешь шум и всех разбудишь. Понадеялась, что проспишь до утра и даже не узнаешь о моем соседстве. Ты так много выпил, что не должен был проснуться!
— Я и не спал. Отвел эту дурочку домой, на прощание сказал ей пару «теплых» слов, чтобы больше не путалась под ногами. Вернулся, когда ты убирала со стола в саду, а эти двое что-то выясняли между собой в гостиной. Быстро принял душ и поднялся в спальню, но вот тебя пришлось ждать долго. Еще не имея никакого плана, я притворился спящим, но сквозь ресницы наблюдал за тобой. Забавно было видеть, как ты сначала не замечала меня, потом не знала, что со мной делать, потом стала проверять, насколько крепко я сплю. Я сразу догадался, что это проверка, и с трудом удержался от смеха. А потом ты легла и затихла как мышка, но вскоре расслабилась и уснула. Я повернулся к тебе, лунный свет падал в окно и освещал твое лицо, наверное, тебе снилось что-то хорошее, ты улыбалась. Я не собирался будить тебя, просто легонько гладил по волосам и лицу, почти не касаясь, ты вдруг прижалась и стала как-то смешно тыкаться мне в грудь, как котенок в живот кошки, может быть, тебе снилось, что ты котенок? Это было очень трогательно, и я обнял тебя, а ты, не просыпаясь, впрочем, это я потом понял, что не просыпаясь, стала целовать меня. Тут уж я контроль над собой потерял!
Я поняла, что сама спровоцировала Виктора, от этой мысли стало нехорошо. Ну надо же, сама подтолкнула его к тому, чего так боялась! Увидев на его лице выражение острого любопытства, поняла, что дальнейших объяснений не миновать.
— Нет, я не была котенком, и никакая кошка мне не снилась. Снился мне ты, но только без имени.
— Не понял?!
Делать было нечего, и я рассказала свой сон. Он слушал не просто с интересом, а с неподдельным восхищением. Когда я говорила о том, как пила капли влаги с его груди и как хотела избавить от страданий, услышав его стон, он вздохнул и его кадык дернулся. Мы лежали на кровати, лицом друг к другу, подложив руки под голову, я в шортах и майке, а он в голубом шелковом халате. Виктор задумчиво спросил:
— Ты мне никогда не говорила о своей болезни. А почему это все с тобой произошло?
Я растерялась. Зачем ему разматывать спутанный клубок моих злоключений? Что же делать, совсем не говорить о Саше нельзя, но и рассказать невозможно.
— Я встретилась в кафе с одним человеком. У нас были очень сложные отношения, встречаться мне не хотелось, но он настаивал, а я очень нервничала…
Тут Витя перебил меня:
— А почему вы встречались в кафе, почему не у тебя дома, скажем? Кто это решал, он или ты?
Ну надо же, самую суть сечет, мелькнуло в моей голове.
— Ну какое это имеет значение? Я решала, в кафе мне было удобнее, чем дома. Ну что, рассказывать или ты будешь придираться по пустякам?
— Жень, у меня складывается впечатление, что в том, о чем ты рассказываешь, пустяков нет, так что давай дальше и со всеми подробностями.
— Мы встретились с ним в кафе, стали разговаривать, я сильно нервничала. А тут он сказал одну фразу, которую я в свое время напрасно мечтала услышать от Павла. Меня это так сильно поразило, что я потеряла сознание.
Я с облегчением перевела дух, радуясь, что сумела так кратко все изложить и обойти молчанием наиболее острые углы. Но радовалась я рано.
— И что, ты больше не видела никогда того человека, он даже не в курсе, что с тобой стало?
— Я видела его еще раз, и он знает, что со мной все в порядке.
— Жень! Из тебя бы вышла неплохая интриганка, вечно ты что-то скрываешь. Судя по всему, тип из кафе впился в тебя как клещ, и после еще одного разговора он так запросто отцепился?
— Ох и приставучий же ты! Ничего особенного я не сказала. Впрочем, на него слова все равно не действуют, он только себя слышит. А подействовала на него очень простая вещь — вилка. Ты не ослышался, именно вилка. Обыкновенный столовый прибор, который я воткнула ему в спину. Я серьезно, не смотри на меня круглыми глазами.
Виктор ошалело покрутил головой и засмеялся, отрывисто и зло. Я даже поежилась от его смеха.
— А скажи-ка мне, дорогая воительница, следующее: что он сказал или сделал? Чем досадил до такой степени, что ты накинулась на него с вилкой, а?
В его нарочито мягком тоне мне почудилась ирония, и я поджала губы.
— Тебе бы только надо мной посмеяться! А мне тогда совсем не было смешно. Мне было очень страшно, если хочешь знать. Но я просто не могла позволить вот так себя убить, ведь меня ждал Володя.
— Так! — процедил Виктор сквозь зубы. — Так!
Я готова была откусить себе язык! Вот куда завела меня злость. И ведь наверняка он специально меня провоцировал, чтобы я проговорилась. Ох, надо быть повнимательнее, сейчас он начнет меня потрошить. Но все благие намерения вылетели из головы после его неожиданного вопроса:
— Так ты что, обманывала Володьку, встречаясь с этим типом?
— Что-о?! Я обманывала? Володя сам посоветовал мне поговорить с ним, расставив все надлежащие точки, чтобы больше не думать об этом.
Посмотрев на непроницаемое лицо Виктора, я смутно почувствовала, что опять попалась в ловушку. Да он просто выуживает из меня нужные ему сведения, ну и жук!
— Ты чего-то, как всегда, недоговариваешь. Если Володька сам послал тебя на эту встречу, то как он мог не предвидеть опасность? Здесь что-то не то. Видно, ты не рассказала ему всего начистоту, схитрила, как хитришь сейчас. Или, может быть, этот тип раньше был кротким как овечка?
— Ну уж нет! Кем-кем, а овечкой он никогда не был. И от Володи я ничего не скрывала, он для моей безопасности посоветовал мне встретиться с ним в общественном месте. Ну кто, скажи мне, мог предвидеть, что он снимет на час кафе, уже закрытое на ремонт?
— Что значит — кто? Володька! Посылая тебя на эту встречу, он обязан был предвидеть все. Настоящий мужик всегда отвечает не только за свои поступки, но и за слова и советы. Запомни это. А Володька был самым настоящим мужиком из всех, кого я видел за свою жизнь, а я немало всяких повидал. Ну ладно, ладно, что уж. Он был уже совсем больной, что называется, чутье потерял, одно это и извиняет его. А теперь скажи мне — этот жук навозный, что он тебе сделал? Отчего ты схватилась за вилку?
— Ну и дотошный же ты, Витя! Все тебе надо знать. Душил он меня. Правда, одной рукой не убьешь, но в глазах стало темнеть, и я очень испугалась.
— Смотря чья рука… Володька знал?
— Я не хотела его огорчать, но рассказать пришлось, он все равно бы все понял: горло сильно распухло, да и глотать было больно.
— Все было так серьезно?
— Да. Но хватит об этом. И вообще, помоги мне встать, надоело валяться.
— Подожди. Скажи лучше, как бы мне встретиться с этим типом? Да не пугайся, я просто хочу с ним поговорить.
Я рассмеялась:
— Поговорить, значит? Вот хорошо, что я не знаю ни его адреса, ни телефона, ни места работы.
— Ну а имя и фамилию?
— Ничего я тебе не скажу, и не смотри так свирепо. В Москве он не прописан, снимал временно жилплощадь, наверняка уже уехал. Забудь о нем!
Виктор погладил меня по плечу, шее, что я перенесла довольно спокойно. Но когда его рука коснулась груди, я отстранилась. Интересно, кто кому зубы заговаривал? Вот что значит потерять бдительность.
— Вить, а сколько тебе лет?
— Пятьдесят один недавно исполнился, а что?
— Да, я даже помню когда. Я испортила тебе тот день. Ты уж меня извини, жаль, что так вышло.
— На тебя, как говорится, нашло. И я даже знаю что. То же, что и прошедшей ночью.
— Прекрати!
— Стыдишься?
— Да, я боюсь следующей ночи. И вообще, тебя боюсь. Но того, что было, я не стыжусь. Это было, было… прекрасно. Но мы не должны больше этого делать! Я не должна, и ты не должен.
— Хорошо, что у тебя хватило мужества признать, что прошедшая ночь была прекрасной. Но остальные слова — это просто мрак. Кто, кому и что должен? Ты ведешь себя как маленькая девочка. Нет, как страус. Не сверкай глазами, я не боюсь. Сколько еще ты будешь себя обманывать? Молчишь? Тогда я скажу, чего ты боишься. Ты боишься жизни, боишься любви, боишься себя. Да-да, не тряси головой. Боишься, что если отдашься течению жизни и зову новой любви, то это вытеснит из твоего сердца твою любовь — Володю! Нет, ты слушай, не закрывай мне рот и уши тоже не закрывай. Ты пытаешься законсервировать в себе прежнее чувство, сделать из себя его музей, саркофаг. Это не просто глупо, это бесполезно. Живое сердце должно жить, биться, любить. Сердце не виновато, что люди подходят ко всему с арифмометром и на все высчитывают размеры и сроки. Скажи мне, скажи, какой срок должен пройти от одной любви до другой, чтобы соблюсти приличия и успокоить совесть, — год, два? Кто устанавливает эти сроки и, главное, зачем? Кому это нужно, тебе? Но если бы это было так и ты на самом деле верила в эти мифические приличия, то не любила и не страдала бы как живой человек, а была бы такой же мертвой и скучной, как и те, кто придумывает всю эту галиматью! Но ты любишь и страдаешь, я же вижу. Во сне ты хотела избавить меня от страдания, объяснить мне смысл жизни в радости, теперь я пытаюсь сделать это для тебя. Ты слышишь, ты понимаешь меня? Ты живая? Так живи!
Он крепко взял меня за плечи. Несколько мгновений, бесконечных мгновений всматривался в мое помертвевшее лицо и вдруг прижал меня к себе сильно и нежно. Не грубо встряхнул, а обнял! И внутри отпустило что-то, сердце, словно разучившееся биться, снова застучало горячо и быстро, но тут же стало выравнивать свой ход, успокаиваться. Я обняла Витю за шею и заплакала, в этот момент мне стало все равно, что он подумает обо мне.
— Я думала, все кончено, Витя. Думала, что круг сейчас замкнется, а жизнь идет не по кругу. Это спираль, понимаешь, спираль!
— Наверное, ты права. Спираль… Я как-то не думал о жизни в таком ракурсе. Но уж точно не круг, круг — это безысходность! Ну, не плачь, не плачь. Я должен был все это тебе сказать. Я не мог смотреть, как ты мучишься, ну и сам не хотел мучиться, конечно. Я ведь эгоист.
Тут я засмеялась сквозь слезы:
— Он тоже называл себя эгоистом…
— Володька? А ты думаешь, он им не был? Тот еще жук!
Я возмутилась:
— Как ты можешь?.. — Но тут же фыркнула: — Что это у тебя все жуки?
Но Виктор не слушал меня, на уме у него уже явно было другое. И как это он может так быстро переключаться? Он положил руку мне на колено и погладил. Затем рука медленно поползла выше.
— Вить, а ты и в самом деле бабник! Признавайся, у тебя в Москве куча женщин?
Его рука обиженно взмыла в воздух.
— Жень! Ты за кого меня держишь? Я тебе что, плейбой? Или султан? У меня гарем из трехсот женщин, где ты преспокойно можешь затеряться? Даже и не надейся. Все мои желания, прихоти и капризы будешь исполнять ты одна. Можешь начинать прямо сейчас. Для начала разденься. Если сделаешь это быстро и красиво, то так и быть, буду благосклонен.
Вот тебе и на! Такая, казалось бы, беспроигрышная ситуация… Я думала, что он увязнет в оправданиях и напрочь забудет, чего хотел, а он ловко перешел в наступление. Да, серьезный противник мне достался! Но я еще оружия не сложила.
— Ко всем прочим недостаткам ты еще и неблагодарная. Я дал тебе время подготовиться ко встрече со мной, накопить побольше сил для моего ублажения. Кстати, а ты почему не разделась? Так вот, чтобы отучить тебя от дурных замашек, я сообщу сейчас новость, которая тебя сильно огорчит. Эти несколько дней, а не неделю, заметь, я потратил на то, чтобы подчистить все хвосты на работе. Почему? А потому, строптивая женщина, что с завтрашнего дня я в заслуженном отпуске, который с учетом прежних недогулянных будет длиться два месяца. Что, страшно? Сейчас будет хуже! Поскольку ты только и делала, что подставляла меня под пули — не спорь, именно ты, — я превратился в дуршлаг, и мне предложили, слегка намекнули, уйти на пенсию. Видно, надеются, что я наконец умру от горя без любимой работы. Но я человек гордый, как этот… с крыльями-то? Буревестник. Взял и согласился. Естественно, у меня в кармане есть предложение о другой работе. Что интересно — пахать надо меньше, а получать больше. Сплошной разврат от лишних денег и безделья. Но нет худа без добра. В свободное время я теперь смогу присматривать за тобой, потихоньку выслеживать, вынюхивать, шпионить, одним словом. А то ведь, дай тебе волю, скоро ни одной мужской спины не останется без вилки. О, кстати, хорошо, что вспомнил. Надо заменить тут все вилки на пластиковые.
Не знаю, сколько бы он еще продолжал в таком духе, но тут раздался звонок в дверь. Виктор резво соскочил с кровати. Для пенсионера он был чересчур уж проворен.
— Это, наверное, Лариса. Сиди, сам справлюсь. Быстренько сверну ей шею и вернусь, а ты давай, давай, раздевайся.
Вернулся он через две минуты, посмотрел на меня и нахмурился:
— Сплошная невезуха! Это не Лариса, а у меня так чесались руки! И ты еще не раздета. В чем дело? Порки ждешь?
— Почему ты отослал Ксюшу? Не отнекивайся, я видела ее в окно. Да, насчет Ларисы. Если ты свернешь ей шею, то что будет с бедной девочкой?
— Как что будет? Хорошо будет! Ларису похороним, можно даже с музыкой, а Ксюшу возьмем себе. Мне она очень нравится. К тому же я должен открыть тебе один секрет. Спору нет, я прекрасен и, даже можно сказать, великолепен, но маленький недостаток есть даже у меня — я не могу сделать тебе детей.
За это мужественное признание я наградила Виктора поцелуем в нос. Ему, конечно же, показалось мало. Он требовал более существенных и более продолжительных признаний его заслуг, его мужественности, его великолепия. Когда через некоторое время он, наконец, угомонился, то вдруг заявил, задумчиво разглядывая потолок.
— Насколько я понимаю, ты преднамеренно меня соблазнила, поскольку обеда нет. А обед ты не приготовила, потому что хочешь уморить меня голодом.
На следующий день он вдруг уселся за мой компьютер с целым ворохом каких-то бумаг. Значит, хвосты были еще не подчищены. Я оставила его за работой, немного полюбовавшись, как виртуозно он управляется со своими бумажонками и при этом еще что-то мурлычет себе под нос.
С таким обжорой в доме надо было пополнить запас продуктов. Я пошла в магазин и первым делом наткнулась на Ларису, которая задумчиво рассматривала колбасу. Вот кого-кого, а ее мне видеть совершенно не хотелось. Но она только скользнула по мне взглядом и отвернулась. Все же магазин небольшой, при выходе мы с ней столкнулись, и тут она с неожиданной грустью спросила, потупившись:
— Слушай, ты бы поделилась опытом. Как мужиков притягивать? Я красивая, молодая — у меня не получается. А ты так себе, да и старая к тому же, а они к тебе липнут. Почему? Что-то в тебе, значит, есть такое?
— Этого, Лариса, я и сама не знаю. Может, липнут потому, что я живая?
Тридцать первого декабря мы ждали в гости Наташу с Андреем. Хлопот и суеты намечалось много, очень не хотелось ударить в грязь лицом, все-таки первый прием в качестве жены Виктора! Но ближе к вечеру мы выбрались на прогулку. Виктор сначала смеялся и дурачился, извалял меня в снегу, потом успокоился и очень серьезно сказал, что у него новогодний сюрприз. Он специально молчал, чтобы сказать именно сегодня: на новую работу его все-таки взяли, он выходит сразу после праздников. Я за него обрадовалась, без работы мой муж явно скучал, хотя и старался не показывать виду. Пришло время моей новости: я завершила работу над книгой о Володе. Называться она будет «Голубая душа». Конечно же, мой невозможный муж не мог не схохмить.
— О! А я и не знал, что Володька был геем, — заявил он мне.
— Сам ты гей!
— Тогда почему голубая?
— А потому что