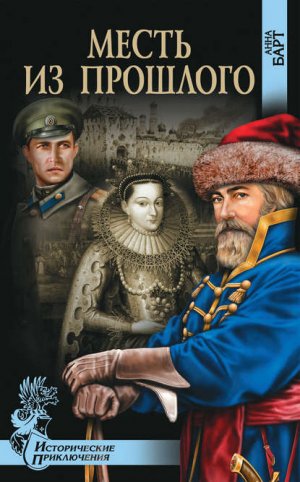
Пролог
Маленький худенький мальчик, шлепая грязными босыми ножками по февральской измороси, просил его:
– Хочу к маме. Отведи меня к маме. Где моя мама? Мама… Мама!
Он чувствовал тепло детской ладошки, так доверчиво лежащей в его руке, живой, горячей, маленькой… но тащил рыдающего мальчишку все быстрее и быстрее, уже задыхаясь под шубой… Сердце колотилось где-то в горле.
Вот и виселица показалась… Темная, страшная… Народ расступился в молчании перед ними и только слышен был тихий плач ребенка, которого он сейчас ненавидел всей душой за то, что собирался с ним сделать.
– Где моя мама? Мама… Мама!
Вот уж он ставит ребенка на приступочку, вот надевает на тоненькую шейку колючую веревку, вот выбивает опору из-под детских ножек… – и забился ребенок в конвульсиях, извиваясь всем тельцем в борьбе за глоток воздуха, раз, другой, третий… Лицо посинело, глаза остекленели, язык вывалился наружу…
– А-а-а-а-а-а!..
Боярин Суворцев просыпается от собственного звериного крика, садится, хватая перекошенным ртом воздух, пот льется в глаза и пощипывает в них от соленых капель.
– Свят, свят, свят, спаси Царица Небесная, – бормочет он, осеняя себя размашистым крестом и вглядываясь в темное оконце – черный квадрат.
До рассвета далеко. Только не завьюженное подслеповатое окошко видит боярин. Мерещится ему инокиня Марфа в монашеском платье и молоденькая пани Марина перед ней – с заплаканными глазами, похудевшая от невзгод, но все равно невыразимо прекрасная своей наивной юностью.
Экзотический цветок, по чьей черной воле занесло тебя в чужую Московию? Зачем приехала ты сюда? На что надеялась? Что нашла? Как сердце твое не разорвалось в тот же момент, когда любовно выпестованного единственного сына твоего и наследника, четырехлетнего царевича Ивана, повесили около Серпуховских ворот Кремля?
О! Эта проклятая скрипучая виселица и худенькое тельце, болтавшееся на ней под снежными хлопьями! Цыплячьи ручки в синяках, детские пальчики в заусенцах…
За окном метет и метет поземка, нет конца зимней ночи. Спит дом. Но не уснуть боярину. С ужасом вспоминает свой сон-быль, кряхтя слезает с кровати и садится подальше от нее, на сундук, в темный угол. Открывает маленькую книжечку с нарисованными диковинными травами и зверьем и находит страничку с гравюрой. Смотрит с нее на него лукаво польская прелестница пани Мнишек, улыбается смело, не ведая, что ждет ее.
Мене, текел, фарес. Отмерено, взвешено, разделено.
Тяжело падает боярин на колени перед киотом с одной-единственной зажженной свечой и молится горячо, шепчет чуть слышно:
– Прости меня, грешного, Господи! Вечное царство, вечный покой, тебе, царица Марина, и тебе, мученик царевич Иван… Вечное царство, вечный покой… Вечное царство, вечный покой…
Младшему брату в память о московском детстве
Часть первая
1. Нежданная гостья или выходной день
Душный день медленно тащился к концу.
Я вылезла из бассейна и предвкушала мирное чаепитие под разросшимися виноградными лозами на открытом патио.
Мои мужчины отсутствовали, и я наслаждалась полным покоем. Никто не орал над ухом, не приставал с вопросами, не чертыхался, не просил «чего-нибудь» поесть, не разбрасывал ежеминутно вещи и не требовал невозможного. Мне выпала невероятная карта – целых три дня ничегонеделания в обнимку с толстым романом Вольфрама Флейшгауэра. Буду сидеть в плетеном кресле в тени веранды, пить чай с булочками и читать до полного одурения. Это ли не счастье?!
Чай упоительно пах мятой, клубникой и лимоном, совсем как в милом летнем детстве, когда в воскресный вечер родители наконец-то сваливали в город, а мы оставались с дедушкой одни на притихшей подмосковной даче отдыхать от них и от сумасшедших выходных. Как только родительская машина скрывалась за кустами душистой малины, мы, счастливо отдуваясь, вновь рассаживались вокруг обеденного стола, заставленного стаканами, вазочками и тарелками. Дедушка надевал очки, шуршал газетой, а я, с ногами забравшись на стул, грызла сушки с маком и лениво листала страшно популярный тогда журнал «Юность»…
После бассейна ужасно хотелось есть; торопясь, я стащила мокрый и холодный купальник, влезла в шорты и старенький безразмерный свитер, нетерпеливо принюхиваясь к сладко пахнущим круассанам и облизываясь на них и обожаемого Вольфрама Флейшгауэра, который зазывно улыбался мне с обложки только сегодня купленной книжки.
Когда ребята уезжают, мне всегда как-то не по себе от тишины в огромном сумрачном доме и, решив оставить бассейн освещенным, я опустилась в кресло и даже застонала от радости. Взяла в руки толстенький томик, откусила кусочек восхитительной сдобы, повозилась, поудобнее устраиваясь в широком кресле, и углубилась в чтение.
Незаметно бежали минуты. Вспыхивали голубоватым светом подводные огоньки бассейна, посапывали фильтры, но в доме было непривычно тихо без мальчишек и Фриды – нашего бестолкового алабая. Вацлав ранним утром всех увез на рыбалку.
Я не хотела оставаться совершенно одна в доме, потому что Сергей тоже был в отъезде, и попросила Вацека не тащить с собой собаку. Конечно, район у нас тихий и даже фешенебельный, но береженого Бог бережет… Как нарочно, утром мы с Вацлавом немного поцапались. Он дулся на меня и поэтому, сделав вид, что не слышит мою робкую просьбу, процедил сквозь зубы недовольное:
– Поставишь дом на охрану.
И быстро затолкал детей с Фридой в свой навороченный рыдван.
Собака высунула лохматую башку из окна, дети что-то радостно кричали из машины, мелькнули красные огоньки, и через мгновение я обнаружила, что стою перед настежь открытыми воротами на пустой улице…
Теплый вечер перешел в прохладную ночь. Как там у наших классиков? «Стало на небе темнеть, воздух начал холодеть»? Поднялся легкий ветерок, запиликали цикады, чай давно был выпит, а я все сидела в тишине на веранде, не в силах прервать чтение.
Книга захватила меня. Я боролась с дремотой до той поры, пока мои глаза были еще в состоянии различать буквы. Потом они закрылись как-то сами по себе, решительно и бесповоротно – незаметно я заснула.
Вернее, не поняла, что заснула. Осознание этого настигло, когда мелодичный звон цикад перешел в гадкую резкую трель. Пытаясь разлепить сонные глаза, я сфокусировала взгляд на часах и не сразу сообразила: кто-то звонит в дверь. Причем громко и бесцеремонно.
Неужели вернулся брат? Или Вацлав? Или они оба? Ведь обещали только в воскресенье! Ну, конечно, они! Кто же еще в такую поздноту? Часы показывали сколько-то там минут около двух. Или трех? Не разобрать в темноте.
Звонок затрещал с новой силой. Спотыкаясь и наталкиваясь по дороге на мебель, я неуклюже побежала к двери:
– Кто? – сонно пробормотала в динамик.
– Дед Пихто, – прохрюкало в ответ. – Открывай, Лизка! Сколько мне еще на твои стальные ворота любоваться?
Моя подружка Галка, собственною персоною, без предупреждения и сильно навеселе. Наверное, опять поругалась с мужем. Пропала ночь!
Галка не даст мне спать до утра, а потом придется кормить ее завтраком и выслушивать вариации ночных рассказов. Причем отделаться вежливыми «а-а-а» и «о-о-о» с ней не удастся. Она потребует полного внимания и мгновенно просечет имитацию интереса.
Подруга сама виртуозно пользуется всевозможными уловками в не интересующих ее разговорах, да так ловко! Собеседник никогда в жизни не догадается, что внимательно глядящая ему в глаза и поддакивающая разными «м-м-м» Галина сладострастно думает о покупке новой помады от Диор.
Мне предстоит УЖАСНАЯ ночь, но не выгонять же подругу…
– Лизетта, Анетта, Иветта, Жорже-е-е-тт-а, – весело пропела та, вваливаясь в холл. – Вся жизнь моя вами, как солнцем весенним, согре-е-е-тта…
Я оглядела ее, едва стоящую на шпильках.
– Хороша… Где гуляла?
– Фу, гуляла… Просто отметили день рожденья друга из Питера.
Тут часы нежно пробили два ночи.
– О! «Уж полночь близится, а Германа все нет», – пропыхтела Галка, сбрасывая угрожающе длинноносые туфли. – Полжизни за чашку чая!
Мы направились на кухню.
– Не разбудим твоих мужчин, Лизавета?
– Не разбудим, – усмехнулась я, ставя чайник. – Никого нет дома. Кроме Вольфрама Флейшгауэра, но уверяю тебя, он не будет в претензии.
Напившись чаю и забравшись в постель, мы проболтали всю ночь. Мне удалось отбиться от Галины и зарыться в подушки только с первыми лучами солнца. Проваливаясь в сон, в душе я лелеяла робкую надежду поспать хотя бы до полудня, но куда там!
Галка проснулась ни свет ни заря и разбудила меня:
– Ты пойдешь со мной сегодня на party в Беверли-Хиллз, «Хилтон», – безапелляционно заявила моя подружка, свежая как ландыш на заре, и присела на кровать, где распростерлось мое безжизненное после бессонной ночи тело.
Я молча таращила на нее слипающиеся глаза и честно пыталась проснуться.
– Поняла? Никаких отговорок не принимаю. В девять вечера.
– Ни за что, – попробовала я вяло сопротивляться.
Терпеть не могу сборища малознакомых людей, делающих вид, что они несказанно рады наесться и напиться в обществе друг друга и заодно как бы пообщаться на весьма отвлеченные темы.
– Сама знаешь, я нелюдима и неразговорчива с чужими.
– Ничего не знаю, – отрезала Галина, любовно подправляя макияж. – Начало в девять. Будь любезна не опаздывать.
Галина вертелась перед зеркалом, одетая и намакияженная, благоухающая нежными духами, веселая и неправдоподобно красивая.
Я громко вздохнула и села в подушках, глядя на свое отражение в зеркале. Вместо себя увидела лохматое существо, больше напоминающее внезапно разбуженную и крайне замученную сову.
Чем громче трещала Галка, тем страшнее становилось мне. Мало того, что пропала ночь, так еще и день пойдет коту под хвост. Сейчас надо будет звонить куче народа – прическа, педикюр, маникюр, массаж, макияж, узкое платье – ни вздохнуть ни выдохнуть – тесные туфли на десятикилометровой шпильке, только от одного вида которых начинался варикоз… И все ради чего?
Галка поймала мое хмурое отражение в зеркале.
Я вылезла из постели и проигнорировала насупленный взгляд подружки. Ну уж нет, я не намерена так просто уступать! Дурацкая вечеринка в «Хилтоне»! Хуже только бревна таскать на лесоповале. На острове Валаам.
– Галя, никуда не пойду, у меня другие планы на вечер.
– Лизонька, солнышко, рыбка, зайка, котик, – просяще заскулила Галка, с мольбой взирая на меня, в мастерски накрашенных огромных глазах засверкали слезы. – Ну что тебе стоит? Не могу же я одна туда пойти? Мне больше некого пригласить, сама знаешь. Ну, пли-и-з, Лизочка, а вдруг мне на этот раз подфартит, а?
Галка – великий манипулятор и прекрасно знает, как заставить человека, меня то есть, плясать под свою дудку. Я безнадежно вздохнула, прекрасно осознавая, что битва проиграна, но все же судорожно попыталась найти альтернативу.
– А давай, мой брат составит тебе компанию?
– Я тебя умоляю! Сережка никогда не выводит меня в свет.
– Ну, попрошу еще раз Вацлава. Хочешь?
– Пошла вон! Я с ним тоже в ссоре! Забыла? Все, пока. До вечера. В девять жду тебя в фойе.
Слез в глазах как не бывало:
– Да, лимузин тебе закажу сама.
Господи ты боже мой, еще и лимузин. Чтобы проехать сотню-другую метров?
– Может, не надо? Я живу в трех кварталах, пешком дойду.
Повисло нехорошее молчание.
– Ты сдурела? – нежно поинтересовалась моя подружка. – Пешком? В Беверли-Хиллз! Совсем того, да? Поедешь, как все нормальные люди – в лимузине!
У меня прямо-таки зачесался язык и захотелось поинтересоваться, с каких это пор ВСЕ нормальные люди стали ездить на лимузинах? Но проще было промолчать. Мое понурое помалкивание заметили и по достоинству оценили.
– Ты – прелесть! – Галка сочно чмокнула воздух, помахала наманикюренной ручкой и исчезла.
Я уныло спустилась на кухню, подумала минуту и решительно набрала номер брата.
– Ну, – рявкнула трубка. – Чего нужно?
Очень вежливо. Мой брат – воплощение галантности и хороших манер.
– Сереженька, ты сегодня вечером занят?
– Очень!!!
Ну, зачем же так орать?
– А…
– Это все? Говори быстрее, дел невпроворот, занят я! – злился Сергей.
Кто бы сомневался. Мой брат всегда занят. Бизнесом. А когда не занят оным, то спит. Или ест. Или, что еще хуже, качается в спортивном зале, или расслабляется в сауне. Побеспокоить его в такое время, оторвав от тяжеленных гирь или потения в узком деревянном ящике, себе дороже и опасно для жизни – могут запросто убить. Голосом.
– Галку пригласили на «Оскара» в Беверли-Хиллз сегодня вечером. Там будет полно людей, с которыми тебе будет небезынтересно познакомиться, – быстро начала я.
– Ты умница, – вдруг нежно пропел Сергей, и я насторожилась. – Обязательно сходи туда. Скину на мобильник тех, кто мне особенно нужен. Молодец, сеструха! Люблю!
И мобильник дал отбой.
Я озадаченно уставилась на противно пикающий сотовый. Да, понимаю теперь, почему брат так преуспел в бизнесе. Как ловко он перевернул мою просьбу! Но его язык?! «Скину на мобильник тех, кто мне нужен». Как будто в школе не учился. Имена! «Имена тех, кто мне нужен, скину на мобильник».
Я с тоской посмотрела на недочитанного и ехидно улыбающегося мне Вольфрама Флейшгауэра… Все, теперь точно придется тащиться неизвестно куда и неизвестно зачем. Сережка занят, а Вацлаву даже не стоит и звонить – с Галкой он никуда не пойдет… Приспичило же им поссориться так некстати!
2. Вечеринка в «Хилтоне»
Что рассказать о приеме «Оскара» в Беверли-Хиллз, куда так рвалась Галка? А ничего. Он ничем не отличался от любой другой помпезной гулянки. Только платья побогаче, бриллианты покрупнее да больше официантов суетится вокруг – вот и все отличие.
В день вручения «Оскара» во всемирно известном Голливуде все маститые актеры и особы, приближенные к ним, разъезжаются по закрытым частным вечеринкам, куда нет доступа простым смертным. В «Хилтоне» же собирается «третий» и прочий «низший» состав, так или иначе связанный с киношниками. Это могут быть спонсоры средней и малой руки, бывшие любовницы третьего помощника десятого администратора, мама любимого диетолога и так далее… Вам понятна сама идея? Вот на такую тусовку и потащила меня Галка.
Расфуфыренные гости потребляли аперитивы в роскошно убранном фойе гостиницы, исподтишка разглядывая друг друга и с надеждой взирая на каждый вновь подъезжающий лимузин. А вдруг произойдет чудо и актер мировой величины все же почтит своим присутствием заурядную вечеринку? Или так неожиданно подфартит, что звездуленция даже милостиво согласиться сфотографироваться? Можно будет потом надуваться спесью и небрежно бросать знакомым:
– А это я на приеме в Беверли-Хиллз. С NN… Там была т-а-а-кая скука! Если бы не мой хороший знакомый, NN (небрежный кивок подбородком на фотку со «звездой»), то вообще бы пришлось уходить!
Галка знала многих прибывших и веселилась вовсю, не обращая на меня никакого внимания.
Я очень быстро нашла нужного Сереже толстоватого человечка с поэтическим именем Кнют и передала ему устное послание брата.
К моему ужасу, после официальной части беседы, когда я уже отрыла рот, чтобы вежливо попрощаться, он вызвался сопровождать меня на ужин, от которого я намеревалась отвертеться. Однако Кнют резво подхватил меня за локоток и, усадив за стол рядом с собой, завел нескончаемый разговор о себе, любимом.
Опустошая бокал за бокалом, в скучнейшем манере он повествовал о недавнем повышении, о двух домах и еще о чем-то, как будто мне это интересно. Я кивала головой словно китайский болванчик и умирала от желания поскорее отделаться от него. Но Кнют все трещал и трещал обезумевшей сорокой.
И подумать только! Просто проявила вежливость, поинтересовавшись, родился ли он в Калифорнии. Невинный вопрос, а поди ж ты, этого толстяка просто прорвало. По моим наблюдениям, в благополучной, сытой и ленивой Америке существует огромный дефицит общения, и к психологам народ ходит не столько за советом, сколько из-за желания элементарно высказаться.
Радостно улыбаясь сидящим за столом незнакомым людям и одновременно поддакивая Кнюту, я в тоске оглянулась. Ау! Длинноногие блондинки, где вы? Спасите меня от нудятины Кнюта!
Дурацкий ужин тянулся и тянулся, как осенний день на нелюбимой работе. Я съела и выпила все, предложенное любезно-вышколенными официантами и закручинилась.
Галка кокетничала и очаровывала какого-то лысого джентльмена, я же, скрывая то и дело подкрадывающуюся зевоту и прислушиваясь одним ухом к разговорам за столом, разглядывала туалеты гостей.
Мужчины все как один были упакованы в черные фраки и напоминали говорливую и прожорливую колонию пингвинов, что, в общем-то, радовало глаз, так как я обожаю любых животных, но вот туалеты их дам! Об этом отдельный разговор.
Меня всегда поражало, какие ужасные, уродующие их вечерние платья носят богатые американки. Можно вбухать огромные деньги в прикид, заплатив в основном за раскрученный бренд, но это же не означает, что тот вас сказочно украсит! Ведь главное – «чтобы костюмчик сидел»! Хотя об этой гениальной в своей простоте истине не все помнят.
Иногда, глядя на ужасающие в своем уродстве платья, надетые примадоннами и светскими львицами, я просто диву давалась. Если наряд от модного Кутюрье куплен за немыслимые деньги, он что же, скроет все недостатки фигуры, что ли? Ну, допустим, у вас ножки не ахти, зато аппетитная шея и грудь. При объективной оценке отпущенных природой богатств вы скроете ноги под макси, но наденете глубокое декольте, не так ли? Богачка думает по-другому. Она спрячет шею и грудь что католическая монашка и выставит напоказ толстые ляжки. Зачем же так увечить себя? Или многометровый счет в банке волшебной метаморфозой превращает окорочка в ножки божественной феи?
Разговор за столом становился все громче. Официанты сновали быстрее, вино текло рекой, а Кнют сидел, железно прижавшись ко мне пухлым плечом.
– Самое главное – непредвиденность финансового рынка, – интимно вещал мне в ухо Кнют, пытаясь отвлечь внимание от беседы за столом. – Вы покупаете недвижимость, когда экономика в упадке и продаете в момент пика, улавливаете?
Я покивала головой, а Кнют радостно захихикал.
– А я книг не читаю вообще! – вдруг томно и громко заявила роскошная и почти нагая девица, сидящая по мою правую руку, отвечая своему vis-a-vis. – Кому нужны книги, когда существует Интернет и Голливуд? Вот в книге так надоедливо описано про картину и как ее нашли, а в movie с Томом Хенком – класс и все понятно!
– Голливуду принадлежит будущее, – энергично подтвердил неандертальское хрюканье соседки подошедший к нашему столику подвыпивший импозантный мужчина и положил ладони на ее голые плечи.
Жующие за столом невероятно оживились, заговорили все разом, заулыбались. Симпатяга явно принадлежал к могущественным верхам.
– Но и это еще не все, – ревниво потянул меня за руку Кнют, требуя внимания к себе. – Нельзя складывать все сбережения в один карман, понимаешь?
Я обалдело уставилась на него.
– Представь себе корзинку и много яиц. Лучше потратиться и купить несколько лишних корзинок и положить часть туда, чем пожадничать и положить все в одну-единственную. Вот принцип успеха в финансах. Дарю совет – бесплатно!
Все-таки, я слабый человек. Ну зачем согласилась прийти? Ведь знала же, чем все закончиться – разговорами ни о чем.
Мое терпение иссякло и, быстро шепнув Галине, что мне нужно на минутку отлучиться «припудрить нос», я сбежала из-за стола. Естественно, возвращаться я не собиралась.
Прячась за спиной худенького официанта, незаметно для Кнюта мне удалось выскочить из залы. Со стоном облегчения закрыла за собой тяжеленную дверь с надписью «Ball Room» и прошлась по тихому фойе к выходу. Пожалуй, лучше было бы взять машину: в узких шпильках добраться до дома предстояло только к вечеру следующего дня.
Вежливый привратник сначала извинился, а потом клятвенно пообещал машину через десять минут. Все свободные автомобили загнали в гараж, объяснил он, чтобы освободить место бесчисленным лимузинам. Успокоив его, что десять минут вполне могу подождать, я вновь вошла в гостиницу.
В холле пахло южным вечером, свежими цветами, сигаретным дымом и духами. Невдалеке журчал фонтан. За барной стойкой скучал бармен. В нише между параллельно расположенными дверями лифта разместился огромный аквариум.
Я постояла немного, наблюдая за экзотическими рыбками. Одна из них, вяло шевеля плавниками, прилипла к стенке аквариума. Она имела устрашающий вид – небольшая, с шипами на спине, ярко окрашенная в сине-красные цвета. Я постучала по стеклу, прямо по ее острому носу – никакой реакции. Рыбка молча и злобно таращилась на меня.
Два джентльмена – один высокий, сероглазый, другой пожилой, палкообразный, оба во фраках, вышли из распахнувшихся дверей лифта. Мы бегло и безразлично обменялись улыбками. Мужчины направились к бару, а я медленно побрела по широкому коридору, не зная куда, лениво разглядывая на стенах черно-белые фотографии знаменитостей 1960 х годов.
Неспешным прогулочным шагом дошла до огромной залы, над дверью которой было написано «Добро пожаловать, участники такой-то конференции!» Какой – не разобрала. Кажется, что-то связанное с финансами, а может быть, и нет.
Я бездумно заглянула в залу. Ясно, ее украшали к приближающемуся банкету: столы застелены белейшими скатертями, всюду море букетов.
В центре стояла на специальном возвышении чудовищных размеров ваза. Удивительно, что в нее не посадили пальму или баобаб, а банально использовали для простых цветов. Хотя, наверное, цветы в вазе искусственные. Это каких же размеров должны быть стебли у роз, а?
Я подошла поближе к гигантской икебане и поразилась – ее составили из роскошных живых цветов. Нежные лилии, темные розы, пионы, глицинии, пушистые елочные лапы, ромашки, львиный зев – я зачарованно обошла цветущее чудо вокруг, вдыхая его нежный аромат. Вот это да! Похоже, великая Америка следует законам нашей сталинской эпохи: цветы для ударников финансового фронта – размером с кремлевскую елку, никак не меньше.
А что это за черная куча валяется около стола? Скатерти? Такие грязные? Их что, будут использовать во время Хэллуина или, может, семья Адамс остановилась в отеле отпраздновать торжество? Черные скатерти? Кошмар – чего только не придумает голливудское руководство, чтобы привлечь клиентов.
И вдруг я поняла: лежащая у стола куча – отнюдь не скомканные скатерти! Это темноволосый человек, одетый в черный костюм. Он лежал на полу лицом вниз, странно поджав ноги.
Замирая от страха, я присела рядом:
– Эй, вам плохо?
Ответа не последовало. Тело даже не пошевелилось. Я сидела на корточках рядом с неподвижно лежащим человеком и не знала, что делать. Может, официанту стало дурно от духоты, и он потерял сознание?
Я выскочила из залы и бросилась бежать по направлению к выходу. Не помня себя, подскочила к барной стойке и дернула за рукав того светловолосого, с кем обменялась светскими улыбками около лифта всего несколько минут назад.
– Пожалуйста, помогите!
Высокий, подтянутый и постриженный на манер немецкой армии 1938 года – затылок сбрит, на лоб падает аккуратная волна светлых волос – мужчина внимательно посмотрел на меня холодными серыми глазами. Под его взглядом я невольно поежилась.
– Там официанту плохо. Помогите ему, – неопределенно тыча куда-то в воздух, пролепетала я.
Надо отдать должное сотрудникам гостиницы и немцеподобному господину. Они не стали переспрашивать, что случилось и где, а быстро и бесшумно, словно барсы на охоте, не суетясь и не высказывая признаков беспокойства, последовали за мной.
Темная фигура лежала там же – около стола. Светловолосый немец первым подошел к столу и нагнулся над неподвижным телом.
– Закройте двери и вызовите неотложку, – сказал он прибежавшему через пару минут менеджеру и что-то шепнул интимно на ухо.
Менеджер побледнел и дрожащим голосом приказал всем немедленно очистить помещение. Вымуштрованный, как солдаты израильской армии, персонал мгновенно испарился.
Я тоже поспешила ретироваться, но не успела.
– Мадам, – остановил меня немец строгим голосом. – Задержитесь на пару минут.
Пришлось притормозить у дверей.
– У вас есть удостоверение личности?
Покопавшись в сумочке, я протянула ему водительские права. Он внимательно изучил их и передал палкообразному господину. Тот удивленно приподнял брови и тихонько присвистнул, заставив меня внутренне ощетиниться.
Ну, конечно, только чистокровные американцы могут проживать в фешенебельном районе Беверли-Хиллз, а не нищие иностранки из России, где, по последним сведениям, до сегодняшнего дня по улицам городов зимой бродят голодные медведи!
– Когда вы обнаружили официанта? – спросил меня светловолосый.
– Только что. Как увидела его на полу, так сразу побежала за помощью.
– Вы подходили к нему? – обратился ко мне тощий пожилой господин.
– Да.
– Трогали? Переворачивали тело?
– Нет, – озадаченно ответила я. – А надо было?
Сероглазый хмыкнул.
– Вам имя Давида Моргулеза о чем-либо говорит?
Я отрицательно покачала головой.
– Ни о чем.
– Постарайтесь подумать.
– Да нечего мне думать! Никогда не встречала его. И вообще почему вы держите меня здесь и задаете идиотские вопросы? Отдайте права!
Сероглазый, с внешностью киноартиста, играющего благородного офицера, вздохнул, вернул мне ID и вытащил из недр смокинга удостоверение устрашающего вида.
– Джон Мур, полиция.
Светловолосый немец-перец с холодными арийскими глазами оказался вовсе и не немцем, а банальным американским беверли-хиллзским полицейским!
Вот так всегда! Как симпатичный мужчина – так либо обременен десятком детей, жен и любовниц, либо придерживается нетрадиционных взглядов на секс, либо оказывается детективом. И остаются бедной Лизе одни Кнюты, противные, надутые, богатые, лысые, пузатые, окутанные в свое гигантское самолюбие, как бабочка в кокон. Тьфу!
Джон Мур и палкообразный господин без имени, тоже, наверное, полицейский, сверлили меня отнюдь не дружелюбными взглядами, но ответили вежливым согласием на мою просьбу позвонить брату.
Трубку тот долго не брал. Я молила небеса, чтобы Сергей оказался дома. Наконец на том конце послышалось недовольное мычание.
– Ну что еще? Ни днем ни ночью покоя от тебя.
– Сереж, я с полицией объясняюсь.
– Зачем?
– Для удовольствия! Не задавай глупых вопросов! Мне разрешили позвонить, и я…
– Скорость? Опять нарушила? Или пьяная Галька рулила? Вот бабы! Никуда отпустить нельзя одних!
– Я нашла мертвое тело…
– Что?
– Нашла мертвое тело!
– Где?
– В гостинице, в «Хилтоне»…
– Офигеть… Когда??
– Ну какая разница! Не помню… Час тому назад. Приезжай скорей, мне страшно. Забери меня отсюда!
– Да ты где сейчас-то?
Вот ведь бестолковый!
– В Хилтоне! Беверли-Хиллз!
– Через 10 минут буду, – проревел нежный брат и отсоединился.
Десять минут растянулись на сорок. Правда, я не томилась в одиночестве. Персонал отеля в количестве трех человек, нежно усадил меня на диванчик. Бармен, молоденький парнишка с испуганными глазами, молниеносно принес выпивку по приказу одного из суровых менеджеров.
– Нет, нет, мадам, – дрожащим, но твердым голосом заявил он мне. – Любая выпивка за наш счет. Спасибо вам за помощь.
Наверное, он благодарил меня за то, что я не визжала и не требовала морального (читай: денежного) удовлетворения за потрясение, испытанное «в этой вашей гостинице». Правильно, нужно даму, прежде всего, напоить.
Я скучала на диване, ждала брата, а рядом на столике теснились опустошенные мною рюмочки коньяка.
«Немец» сидел невдалеке и что-то бубнил в свой сотовый, не спуская с меня холодных пронизывающих глаз. Он сообщил мне, что остались вопросы, и попросил никуда не уходить без разрешения. Я чувствовала себя провалившей задание радисткой Кэт, которую сейчас потащат в гестапо на расправу.
Как он сказал, его зовут? Джон Мур. Такая хорошая кошачья фамилия, а на деле гад, наверное. Вон как в меня вцепился. А что я сделала-то? Обнаружила лежащего мужика на полу. Откуда же знала, что того убили? Могу представить, как бы со мной разговаривал этот самый Мур и КАКИМИ глазами смотрел, если бы я оказалась подозреваемой, а не свидетельницей. Б-р-р-р-р. Страшно подумать.
После выпитого ранее, сытного обеда, всех треволнений, бестолково проведенного вечера и неумеренно поглощенного коньяка, меня неудержимо клонило в сон. Я ужасно устала, рот сам по себе ежеминутно растягивался в зевке «шире Мексиканского залива», а потом захлопывался так, что клацали зубы, да еще с каким-то гадким подвыванием. Мне было страшно неловко, но остановиться не получалось.
Тут меня и нашла Галка.
– Мы тебя ждали, ждали! Сколько можно «пудрить нос» или что ты там делала? – злилась Галина, не слушая моих объяснений. – Почему так долго?
– Я нашла труп. В зале, около гигантского букета. Там будет банкет для ударников и стахановцев… Среди банков и других финансовых учреждений…
Подруга недоверчиво посмотрела на меня.
– Как это труп? – недоуменно переспросила она. – Здесь? В «Хилтоне»?
Я застонала. Можно подумать, «Хилтон» – священная гора Сион и ничего, кроме волшебных чудес, происходить здесь не может. Пришлось по возможности внятно объяснить Галке, что произошло.
– Сергей тебя убьет, – прошептала моя подружка.
– Это за что же? – возмутилась я. – Разреши напомнить – я никого жизни не лишала, только обнаружила тело и разыскала полицию!
– Ну, все равно будет недоволен, – Галка выглядела страшно расстроенной.
И что на это ответить?
В полном молчании мы просидели еще полчаса. Наконец появился донельзя разозленный Сергей в сопровождении нашего адвоката.
– Почему так долго? – спросила я его.
– Ни почему! – зашипел Сергей, а Галка сделала мне страшные глаза и сильно дернула за руку.
Нет, ну почему все ведут себя так, как будто я совершило что-то криминальное? Что, я должна была оставить того парня лежать на полу и спокойно уехать домой? А если бы он был еще жив?
– Моей клиентке предъявлены обвинения? – очень вежливо вопросил юрист ребят-полицейских, помогая мне выкарабкаться из диванных недр.
Те только переглянулись. Палкообразный господин насупился, но сероглазый симпатяга Джон быстро взял себя в руки и тоже улыбнулся адвокату, как мог бы улыбаться нильский крокодил или голодная гиена.
– Ни в коем случае. Мадам, вы вольны идти.
Подпихивая меня и Галину в спины и недовольно бурча под нос, Сергей погнал нас, как нерадивых коз, к выходу. Потом нелюбезно впихнул в машину и рванул с места так резко, что мы чуть не повылетали в заднее окно автомобиля.
– Бетси, – тут же занудил юрист. – Сколько я объяснял, в подобных случаях, вы должны сразу же звонить мне и только мне! Надеюсь, ничего не сказали, что впоследствии полиция сможет использовать против вас?
Бу-бу-бу, тра-та-та, бу-бу-бу…
– Вы ничего не подписывали?
– Ничего.
– Никому нельзя давать сведения! Никому! Ни полиции, ни президенту американскому, ни черту лысому, ни папе римскому – ни-ко-му! – без моего разрешения. Это понятно?
– Понятно.
Бу-бу-бу… Бу-бу-бу-бу… Та-та-та…
Сергей молчал, но шумно и раздраженно сопел. Галка тоже притихла, бубнил только адвокат.
Полуживая, я вывалилась из машины и вошла в дом. На кухне увидела очередную блондинку брата в неглиже. Теперь ясно, почему Сережка так разозлился: запланированное рандеву сорвалось.
– Где дети? – устало спросила я.
– Спят давно! – гаркнул любящий брат прямо мне в ухо.
Сил на дальнейшие объяснения не было. Вяло пожелав всем спокойной ночи, я побрела наверх в спальню.
Там меня нежно встретила ласковая многопудовая Фрида. Когда Сергей приходит домой не один, он всегда запирает Фриду в моей спальне. Уж не знаю почему, но только в МОЕЙ спальне собака не воет от несправедливого заточения, а, вольготно расположившись на пуховых маминых подушках, мирно дрыхнет.
Мы не виделись с Фридой со вчерашнего дня, и она бурно выказала свою радость. Сначала обнюхала мои руки и сочно лизнула в лицо, а затем уселась мне на ноги и подставила чесать лохматую башку. Я честно выполнила весь ритуал встречи и без сил рухнула на кровать. Фрида прыгнула вслед за мной и привалилась горячим боком.
С улицы доносились приглушенные голоса. Но вот взревел мотор, хлопнула дверь, и наконец-то воцарилась тишина, нарушаемая только уютным похрапыванием Фриды.
Ясно, юрист вызвался отвезти Галку домой. Разумеется, все услуги он включит в счет. Могу представить какой длины и с каким количеством нулей этот счет нам придется выплатить господину Дейвису за сегодняшний веселенький вечерок.
3. Новости от Мура
Ночь я провела отвратительно, но утро оказалось еще гаже. За завтраком брат устроил мне головомойку. Не обращая внимания на встревоженных детей, он раздраженно заявил, что Галину больше не пустит на порог дома.
– Куда не пойдешь с ней, вечно проблемы, – кипел Сергей. – То машину разобьет, то в полицию попадет. Ты ей кто – нянька, эскорт бесплатный, что она тебя за собой везде таскает? То пьянка у нее, то гулянка, а теперь еще и труп?! Вообще ни в какие ворота!
Злость разбирала Сергея с нарастающей силой, и я почти оглохла от его несправедливых воплей. Бесполезно было объяснять, что в полицию попала я, так как это я, а не Галка, нашла труп.
Наконец, прооравшись по полной, Сергей уехал.
Я быстро закинула наших мальчишек – сына и племянника – в школу, пообещала им все честно рассказать вечером и, вернувшись домой, первым делом поставила кипятить воду в чайнике.
Голова раскалывалась, пятки ныли от вчерашних каблуков, под лопаткой кололо, в шее похрустывало, язык еле шевелился в пересохшем рту, мучила жажда, предстояло объяснение с адвокатом, с братом – и я дала себе торжественное честное слово: больше ни на какие вечеринки. Никогда! Ни за какие коврижки. Ни ногой!
Немного успокоившись, налила чашечку крепчайшего чая, сходила за книгой. Но не успела открыть недочитанного накануне Вольфрама Флейшгауэра, как утробно залаяла Фрида.
Я застонала в голос. Не-е-е-т, это просто невыносимо! Не дом – а проходной двор!
Употребляя отнюдь не парламентские выражения, понеслась к двери и, рывком открыв ее, увидела на пороге вчерашнего полицейского – блондина из вермахта.
Нежданный посетитель вежливо поклонился:
– Мне нужно поговорить с вами, Бетси, – не поздоровавшись, серьезным голосом объявил он.
Помня предупреждения сурового юриста, я отрицательно покачала головой и попыталась прикрыть дверь, но сероглазый Джон резво засунул ногу в дверь, полностью проигнорировав зловеще рычащую за моей спиной Фриду.
– Разрешите пройти. Обещаю вам, что разговор будет недолгий и приватный, не для записей.
Я опять отрицательно покачала головой, с ужасом вспоминая утреннюю головомойку.
– Много лет Дэвид Моргулез, которого вы «не знаете», помогал даме, проживающей в этом доме, – быстро заговорил господин Мур. – Затем появились вы. Дама перестала нуждаться в услугах Дэвида – его место заняли вы. Через некоторое время старая дама умирает, но перед смертью переписывает завещание, по которому оставляет вам набитый антиквариатом дом. Знаете, что семья подозревала вас в убийстве этой дамы и подала заявление о своих подозрениях в полицию? Вас обвиняли в предполагаемом покушении захапать наследство…
Я поперхнулась от негодования и распахнула дверь. Джон воспользовался моей оплошностью и проворно просочился в холл. Теперь наглого немца не выпрешь вон: совсем не справлюсь я с ним, таким здоровущим конем. Если только спустить на него Фриду?..
Будто читая мои мысли, огромная лохматая Фрида гневно гавкнула за моей спиной. К моему удивлению, господин Мур совершенно не среагировал на суровый выпад Фриды.
– Она у вас спокойная, – заметил он. – Алабай?
Я уставилась на Джона во все глаза.
– Мои родители занимались разведением элитных овчарок из Германии для полиции и таможни. Одно время разводили алабаев, – спокойно пояснил он, видя мое недоумение, ведь среднестатистический американец ничего не знает об алабаях.
Я почувствовала к сероглазому Джону невольную симпатию. Человеку, который может отличить овчарку от алабая, всегда найдется место в нашем доме. Даже если он – американский полицейский.
– Свои, Фрида.
Собака быстро обнюхала широкую, спокойную ладонь Мура и шумно задышала, заулыбалась, вывалив из пасти розовый язык.
– Надо же, признала. Необъяснимо. Вообще-то Фрида чужих не жалует, – пробормотала я неловко.
Джон только надменно приподнял брови. Нет, все-таки, он противный.
Итак, Джон Мур из бервели-хиллзской полиции с вежливым выражением на лице как вкопанный стоял у дверей. Мне ничего не оставалось, как вежливо пригласить его пройти в гостиную.
Наша гостиная находится на первом этаже и выходит на патио – внутренний дворик, большую часть которого занимает разросшийся виноград, поэтому даже самым солнечным днем в комнате царит полумрак. Мы редко пользуемся ею. Это самая прохладная и темная комната в доме, да мне еще пришлось повесить на огромные окна тяжелые гардины.
– Я буду, что ли, как дурак, сидеть на диване у всех на виду? – некогда возмущался Сергей, не слушая моих возражений. – Что за бред – свет горит, и все соседи видят, что ты ешь-пьешь. А может, у меня привычка в носу ковырять? А может, хочу без трусов ходить? Имею право? В собственном доме?
Легче было согласиться и повесить шторы. К слову сказать, в гостиной брат бывал два раза в год – на Рождество и в свой день рождения, забирая подарки.
Войдя в полутемную прохладу комнаты, я прежде всего раздвинула портьеры. Яркий полуденный свет хлынул в высокие готические окна. Солнечная полоска легла на ковер, заискрилась хрустальная люстра. Проснулись цветы в напольных вазах. Комната приобрела надменный и богатый вид.
Джон с любопытством оглянулся.
Да, да. Наш особняк строился в дни расцвета Голливуда, и для многих американцев имеет историческую привлекательность, а теперь в нем живет иностранка, которая вчера нашла труп в гостинице для избранных.
Мы уселись на жесткий длинный диван друг против друга и обменялись хмурыми улыбками. Фрида постояла в проеме дверей с минуту, покрутила носом и с шумным вздохом величественно улеглась недалеко от нас.
Джон негромко кашлянул.
– Итак, по завещанию вы получили роскошный и дорогущий дом в фешенебельном районе Голливуда…
– Никогда не рассчитывала на наследство! – возмутилась я. – Для меня этот шаг дамы был полной неожиданностью. И уж, конечно, я не стала бы убивать старушку за какой-то паршивый дом…
– Который стоит несколько миллионов, – с медовой улыбкой напомнил Джон. – Из бедной иностранки вы превратились в богатую неработающую даму.
– У вас устаревшие сведения, господин Мур. У меня есть работа. И брат работает. Вы серьезно подозреваете меня в такой гадости? – Я начинала закипать.
– Если бы я подозревал, мы бы говорили в другом месте, Бетси, – спокойно ответил Джон. – Не нужно злиться. Мне очень важно во всем разобраться. Помогите мне. Я уже сказал, что не буду записывать беседу, даю честное слово.
Не знаю почему, но я поверила ему. Тяжело вздохнув, начала рассказ.
В солнечной Калифорнии проживаю более десяти лет и, по общепринятым стандартам, неплохо устроилась. Моя благоустроенность вызывает неприкрытую зависть как у бывших соплеменников, так и у американцев. Как всегда люди видят только конечный результат усилий и страданий, а именно: малоработающую дамочку, обитающую в огромном доме на Беверли-Хиллз. Если бы кто мог увидеть «невидимые миру слезы»!
Все началось с того момента, когда моя институтская подружка Галка ухитрилась смотаться в Штаты в самом начале 1990 х. Причем уехала она совершенно официально – вышла замуж за калифорнийца и укатила в солнечное зарубежье от унылой безнадежности перестроечных времен.
Оглядевшись и угнездившись, Галина перетащила в Лос-Анджелес и меня с мужем. Но бывший супруг, музыкант и творческая натура, быстро устал от борьбы с акульим капитализмом и вернулся домой в Москву, под крылышко заботливой мамочки.
А я осталась в Америке, выжила и «преуспела». Перевезла сына, потом приехал брат со своим сыном и как-то очень быстро встал на ноги. Но к тому времени это не имело никакого принципиального значения, так как я уже укрепилась в Лос-Анджелесе и жила в этом самом доме в Беверли-Хиллз и ни от кого не зависела материально.
Я старалась не влезать в подробности личной жизни, и рассказ не занял много времени. Джон слушал очень внимательно.
– Верю, Бетси, – задумчиво сказал он. – Но…
– Что «но»?
– Вот еще что хотел сказать вам. Вернее, спросить. Вы занимаетесь конным спортом?
Вопрос был таким неожиданным, что я с недоумением взглянула на Джона.
– Нет.
– Но у вас же есть лошади.
– Это совсем не те лошади!
– В каком смысле?
– Не те лошади, на которых стравят рекорды. Не те лошади, которые стоят немереные деньги.
– Так я и думал, – пробормотал Джон. – И все же, зачем вам лошади, если не занимаетесь конным спортом? Это же дорогое удовольствие.
– Долгая история.
– Расскажите, я не тороплюсь.
– Да зачем?
Джон помолчал. Встал. Прошелся по комнате.
– А затем, Бетси, что два дня назад скончалась ближайшая подруга вашей дамы. Перед самой смертью она переписала завещание. И завещала одного скакового коня… Знаете, кому?
– Нет.
– Вам.
– Мне?
– Да.
– Коня?!
– Н-да. Лошадку. Иго-го. Которая, точнее, «который», тянет на полмиллиона. Европейских «баксиков», прошу заметить. Вот такой расклад получается.
От такой неожиданной информации я потеряла дар речи и беспомощно пролепетала:
– Издеваетесь? Какой конь?
– Очень дорогой. Ассуар Арахист. Слышали о таком?
– Ассуар Арахист, – обалдело повторила я. – Нет, никогда.
– Дама завещала вам также скаковые конюшни, – продолжал Джон суровым голосом прокурора-обвинителя. – Что даст еще полмиллиона в год. Вы теперь не просто богаты, а неприлично богаты, Бетси.
Я только открывала и закрывала рот, как вытащенная из воды щука, и смотрела на Джона, не в силах вымолвить ни слова.
– А вчера вы нашли труп Дэвида, который, к сведению, так же работал и у второй дамы. Садовником…
Джон Мур сидел напротив меня, весь из себя галантный, пахнущий дорогущим парфюмом и хмуро посматривал на меня.
– Клянусь, не имею никакого отношения ни к смерти дамы, ни к ее скаковым конюшням, – дрожащим голосом еле пролепетала я, с трудом выталкивая слова из пересохшего горла, но суровый полицейский продолжал молчать и сверлить меня серыми холодными глазищами.
– Господин Мур, мне нужно звонить своему адвокату?
В ответ – тишина.
– Ну, допустим так, – сказал наконец он. – Я вам поверю, и вы не имеете отношения к скаковым лошадям.
– Никакого! Ни малейшего! – горячо воскликнула я.
– Но вы ведь имеете две лошади. Зачем вы их купили?
– Я их выкупила, а не купила.
– Не вижу разницы.
– Разница большая, – разозлилась я.
– Объясните.
– Вряд ли поймете мои мотивы.
– А вы рискните, неужели я так безнадежен?
Я вздохнула и сердито начала:
– Год назад или около того, мы выкупили для ребят двух неплеменных, но симпатичных лошадок: квотера Люси для моего девятилетнего сына Алешки и паломино Ковбоя для десятилетнего племянника Яна…
– Жена вашего брата – полька? – быстро перебил Мур.
– Нет, – буркнула я.
Необычное для московского уха польское имя племянник получил по настоянию своей экзальтированной недалекой мамаши – несостоявшейся актрисульки из Житомира – и, слава Богу, бывшей жены Сергея. Рассказывать же о ней не хотелось.
Родители ожидали рождения первого внука Алексея Сергеевича, так как в нашей семье старший внук традиционно получал имя деда, но объяснить что-либо о родовых традициях девочке, воспитанной в семье без роду-племени, да еще и мнящей себя великой актрисой, оказалось сизифовым трудом, поэтому нам пришлось молча покориться.
– Я дала обещание любимой подружке Яночке, что когда у меня родится дочка, я тоже назову ее Яночка, – томно ныла Вика и гримасничала.
– Но у тебя родился сын, – сухо напомнила ей моя мама.
– Ну и что! – взвизгнула Вика. – Очень хорошо, будет Яном!
– То есть в нашей семье появился первый Ян Сергеевич, – констатировал папа.
– Да, – злорадно кивала жена брата хорошенькой белокурой головкой, разглядывая чудовищный ярко-алый маникюр, – нужно быть современными!
Последнее заявление было глупым, как, впрочем, и сама Вика, но папа сильно обиделся…
– Бетси, – деликатно прервал мои воспоминания Мур. – Я жду.
Вздохнув от мысли, что чем быстрее пиявка Мур вытрясет из меня интересующую его информацию, тем быстрее покинет дом, я быстро и скупо поведала историю приобретения лошадей.
Когда Алешка и Ян выказали желание заниматься конным спортом, меня познакомили в русской церкви с девочкой из Москвы, которая работала по контракту у богатых людей и тренировала их лошадей. Те прикупили недорогих лошадок для ребенка – живую игрушку, пусть дитятко побалуется – а дитятко наигралось уже через год. Вот родители и решили от лошадок избавиться. Однако те не имели элитных корней, и продать их оказалось очень трудно.
Когда Лера увидела, в какую конюшню решили сбагрить лошадей ее наниматели, то пришла в ужас. Сказала, что у лошадок там выжить шансов практически не остается, и попросила меня помочь. Мы с Сергеем подумали и выкупили их – не такие уж это огромные деньги, в конце концов.
– Содержание лошадей, даже не элитных, стоит денег, – задумчиво протянул Мур.
– Девочка тренирует их почти бесплатно. Говорю же, это средние лошадки для среднего уровня.
– Но и у них бывают травмы.
– Но не часто же.
– И вы за все платите.
– Плачу.
Джон невесело улыбнулся. Даже такая мимолетная улыбка сильно преобразила его лицо. Глаза утратили настороженность, потеплели, и в них промелькнула мягкость или что-то очень близкое к ней.
Я исподтишка рассматривала его. Вчера, одетый в черный фрак, он выглядел старше и суровее, а сегодня в джинсах и простой рубашке как-то странно помолодел.
– Неубедительно, Бетси.
– А?
– Не убедили вы меня, Бетси, – неожиданно сварливо повторил он. – Уж слишком много странных совпадений…
– То, что сделала для меня Елизавета Ксаверьевна, Джон, – тихо сказала я, глядя прямо ему в глаза, и он не отвел взгляд, – не каждый друг и родственник предложит. Но ВАМ этого не понять.
– Это почему же? – вдруг разобиделся Мур.
– Потому что сейчас у меня есть дом, деньги, работа и официальный статус. Но так было не всегда. Когда от меня отказался муж и отвернулись друзья, Елизавета Ксаверьевна выручила, помогла. Просто так помогла, понимаешь? Да что там, от смерти спасла. Дала приют, кормила, поила, с работой помогла. И денег дала, не взаймы, так, без отдачи. Пришел мой черед отплачивать добром. Пусть не ей, но другим людям. Понимаешь?
– Допустим.
– Допустим или понимаешь?
Что за человек такой! Все мои ответы отскакивали от него, как горох от стены. Тот, кто сможет объяснить американцу, что миром правят не только деньги, мрачно подумала я, получит Нобелевскую премию, но, увы, это буду не я.
– Джон, я не собираю антиквариат, не украшаю обивку собственного самолета золотом и бриллиантами и не разъезжаю по дорогущим курортам. Брат зарабатывает хорошие деньги. Содержание лошадей, конечно, выливается в копейку, но если отдать детей в теннисную секцию при беверли-хиллзской школе или в дурацкий футбол, деньги сдерут те же самые, а может, и больше. И вообще какая связь между моими лошадками и оставленной по завещанию конюшней?
И опять Мур ответил не сразу.
– А такая, моя дорогая Бетси. Вскрытие тела второй дамы показало, что умерла она не своей смертью. Ее отравили.
Я зн-а-ю, что такое страсть к животным. Мои родители тратили огромные деньги на разведение собак. Но и получали немалые дивиденды тоже – это бизнес. Но я заметил, что в таком роде бизнеса еще присутствует и страсть. А может, ты притворяешься? Ты не могла позволить себе дорогих элитных коней – и…
Расширившимися от ужаса глазами я смотрела на мрачного Мура.
– Да ты в своем уме?? Я не могла позволить себе дом в Беверли-Хиллз и убила одну старушку? А потом не могла купить элитных скакунов и – что? Отравила вторую старушку?! Ты… Вы сами-то верите в этот бред?
– Нет, – медленно проговорил Мур. – Не верю.
Я перевела дух.
– Но кто-то же убил, – он поднял на меня глаза.
– Но я-то здесь причем?
Мур опять прошелся по огромной сумрачной комнате, выглянул в сад, с шумом выдохнул воздух и сказал:
– Не знаю.
Прекрасный ответ и, главное, для меня утешительный.
– Я тебе верю, Бетси, но тебе нужно будет обязательно переговорить с адвокатом. Это раз. И еще прими совет. Не беседуй ни с кем приватно, только в присутствии своего юриста. Никому не следует доверять.
– А тебе? – ехидно спросила я. – Тебе можно?
– Мне – да, – глядя мне прямо в глаза, так же как я всего несколько минут назад смотрела в его, серьезно ответил Мур.
Я громко и неверующе фыркнула и отвернулась к окну.
– Мне можно, потому что я должен докопаться до истины чего бы мне это ни стоило. Знаешь – почему?
Я равнодушно пожала плечами и поднялась с диванных подушек, давая ему понять, что аудиенция закончена.
– Для меня это не просто очередное дело об убийстве, Бетти. Отравленная дама была моей бабушкой.
Я без сил опять опустилась на диван. Мама дорогая, куда же я вляпалась?
Джон Мур, суровый беверли-хиллзский полицейский и внук отравленной бабушки, не обращая никакого внимания на мое шоковое состояние, вызванное его последней фразой, не спеша прошелся по холодной гостиной, равнодушно разглядывая картины на стенах.
– Это ваш портрет? – опять перейдя на вежливо-официальный тон, спросил он и небрежно кивнул на тот, который висел напротив дивана прямо над камином: молоденькая девушка на фоне пасмурного средневекового московского Кремля.
– Это портрет Марины Мнишек, – оторопело ответила я.
– А… – безразлично протянул Мур, и я мысленно закатила глаза.
Сейчас он спросит, не моя ли бабушка эта самая Мнишек и вежливо отметит, как мы похожи.
К чести для себя, Джон ничего не сказал. Дойдя до высоких стеклянных дверей залы, он притормозил, присел на корточки и начал возиться с Фридой. Я не могла прийти в себя от изумления – наше подозрительное и своевольное животное вело себя как любвеобильная коза. Только что не блеяло от ласк Мура-Шмура.
Я почувствовала укол ревности. Любовь с первого взгляда. Скажите пожалуйста!
Бездумно наблюдая за возней Фриды и Мура, попыталась привести в порядок разлетающиеся в разные стороны мысли.
Отравленная бабушка, с которой я никогда не была знакома, неподвижно лежащий на полу ресторана черный мужчина, упавшее на меня наследство в виде полумиллионного коня, подозрение в убийстве Елизаветы Ксаверьевны и желание ее родни оттяпать у меня дом, набитый антиквариатом…
Елизавета Ксаверьевна…
А что, если…
– Послушай, Джон, – обратилась я к сидящему на полу и целующемуся с Фридой полицейскому. – А что, если этот самый Моргулез убил твою бабушку и мою Елизавету Ксаверьевну?
– Мотив? – миролюбиво вопросил Мур, поглаживая лохматое пузо млеющего от восторга пса.
– Елизавета Ксаверьевна была очень состоятельна, – заторопилась я объяснить свою мысль. – В этом доме полно ценных вещей, все в беспорядке распихано по комнатам. Адвокат читал список минут сорок и посоветовал часть особо дорогих безделушек и картин вывезти под охрану, но у меня все руки не доходят разобрать их. Твой Моргулез мог просто устать ждать и попытался избавиться от дамы. Он мог знать о завещании в его пользу. А… вдруг, у него есть подельники? И это они устали ждать и… убили богатую старушку?
– Это каким же должен быть антиквариат, чтобы за него убили двоих человек? Да еще так непродуманно открыто? Мы не в средневековой Венеции живем. И потом, – Мур наконец-то оторвался от Фриды, поднялся с коленок и смахнул невидимые пылинки с джинсов – немецкий педант. – Моргулеза тоже убили. Кто? Эти твои подельники? Потому что он не отдал им этот самый антиквариат, что ли?
В голосе господина полицейского сквозило завуалированное пренебрежение к моим попыткам найти хоть самую плохонькую версию, но я не хотела сдаваться и попробовала еще раз. Мне нужно доказать здесь и сейчас, что я абсолютно не причастна ни к каким убийствам.
– Подожди… Елизавета Ксаверьевна уехала из России совсем девочкой после революции, так? Знаешь, какие вещи привозили с собой эмигранты? Они и ценности-то не представляли. Для них схваченные в спешке вещи являлись просто воспоминаниями о прошлой жизни, потерянной семье, Родине.
– Елизавета Ксаверьевна привезла с собой одну вещь – дневник Марины Мнишек, – книгу из будто бы исчезнувшей или сожженной библиотеки Ивана Грозного. Она рассказала мне вечером, накануне своей смерти, – тут я примолкла на мгновение, удивленная своими же воспоминаниями и подняла глаза на внимательно слушавшего меня Мура, – как влюбленный в нее молодой офицер при прощании всунул в муфточку книгу. На вокзале. А что, если книга и правда принадлежала Марине Мнишек?
Джон потер чисто выбритый подбородок и в первый раз взглянул на меня с неприкрытым интересом.
– А в этом что-то есть. Марина Мнишек, говоришь…
– Может, Моргулеза убили за то, что он украл не ТОТ антиквариат? А подельники не поверили, – неслась я дальше, и Мур меня не прерывал. – А книгу Марины Мнишек я тебе покажу… Если у тебя есть время.
– Сейчас?
– Ну да. Принесу из спальни.
– Ты держишь ее дома?! – вытаращился на меня Джон.
– А где же мне ее держать? Это память от Елизаветы Ксаверьевны. И потом, я же только предположила, что книга имеет ценность. Может, ошибочно, – тут же пошла на попятную я под суровым взглядом Джона Мура. – Кстати, отец Елизаветы Ксаверьевны увлекался собирательством старинных книг, как и многие интеллигенты того времени. Следишь за мыслью? Можно выйти на любителей XVI века или частных коллекционеров, попробовать встретиться с ними, показать книгу…
– Представляешь, сколько это работы? – возмутился было Мур, но тут противно и громко запикал его пейджер.
– Бетси, – быстро сказал Джон, глядя на экран. – Мне надо ответить на звонок и бежать. Ты завтра вечером свободна? Нет, нет, я не приглашаю тебя на романтический ужин, – при этих отнюдь не галантных словах я насупилась – почему же, интересно? – Давай обсудим твою идею позднее. Часов в восемь тебя устроит?
– Устроит, – буркнула я.
Когда же этот невоспитанный тип уберется из моего дома и оставит меня в покое? «Я не приглашаю тебя на романтический ужин» – очень милое заявление! Как раз такое, которое приведет в отличное настроение любую женщину от восемнадцати до восьмидесяти лет!
Перед тем как исчезнуть, Мур дал мне свои координаты: домашний, рабочий, сотовый и даже телефон мамы.
– Если что – звони в любое время суток, – произнес он уже в дверях, протягивая выпендрежную визитку. – Будь осторожна. И ни с кем не болтай.
Заперев дверь за наконец-то отбывшим восвояси Муром, я опять пошла в гостиную, уселась на диван перед портретом молоденькой Марины Мнишек и погрузилась в невеселые думы.
4. Марина Мнишек
Я, конечно, рассказала Муру историю своего пребывания в Лос-Анджелесе вкратце. О многом умолчав…
Прожив с Елизаветой Ксаверьевной под одной крышей почти три года в роли помощницы-сиделки, я помогала ей, чем могла.
По просьбе родственников эксгумацию тела старушки не проводили, и это понятно. Ни у кого не вызвала удивление смерть дамы на девяносто седьмом году жизни. Вызванный утром врач неотложки безапелляционно заявил, что дама умерла во сне от остановки сердца.
В вопросах медицины я полный профан, но даже мне показалось очень странным, что смерть настигла Елизавету Ксаверьевну так неожиданно. Конечно, она находилась в весьма почтенном возрасте, однако лечащий доктор никаких тревожных предупреждений в последний вечерний визит не сделал. Наоборот, он заметил, что пожилая дама чувствует себя совсем неплохо и также удивился ее кончине.
Я прекрасно помнила наш последний вечер с Елизаветой Ксаверьевной. После ухода эскулапа я дала ей все необходимые лекарства, и мы душевно проболтали до поздней ночи.
Старую даму часто посещала бессоница, но в ту свою последнюю ночь она отказалась от снотворного и рассказала удивительную историю, после которой я впервые задумалась о многих исторических событиях и взглянула на портрет Марины Мнишек, столь любимый Елизаветой Ксаверьевной, совсем другими глазами…
За окном ярко светило солнце, а в комнате было прохладно и тихо. Я залезла на диван с ногами, накрылась пледом и задумчиво уставилась на портрет. Девушка на нем так же задумчиво взирала на меня из глубины прошедших четырех столетий.
Польская пани Марианна Юрьевна Мнишек. Русская царица Марина. Жена известного авантюриста Гришки Отрепьева или Лжедмитрия I. После его гибели – то ли сожительница, то ли жена Лжедмитрия II, Тушинского вора, как прозвали того в народе. Потеряв обоих Лжедмитриев, взяла в любовники и защитники атамана Заруцкого, который тоже сложил буйну голову за призрачное право называться московским царем. А может, только за то, что влюбился без памяти в прелестную полячку?
Елизавета Ксаверьевна держала портрет Марины у себя в спальне и не разрешала никому перевешивать его в другую комнату. Она часто и подолгу внимательно, печально разглядывала портрет, словно пытаясь отгадать какую-то загадку, тяжело вздыхала и даже плакала.
Я вылезла из-под теплого пледа и подошла поближе к Марине. Высокомерный взгляд, длинные стрельчатые брови, миндалевидные глаза, надменно изогнутые неулыбчивые губы… В целом, девушка выглядела очень симпатичной, даже длинноватый нос не портил ее, но уж очень заносчивой.
Марина была изображена на фоне сумрачного Успенского собора Кремля, в западном платье и венце. Ее наряд странно напоминал одеяние французской королевы Екатерины Медичи. Высокий гофрированный воротник скрывал шею до самого подбородка, а на гладко причесанной темной гордой головке – расходящийся звездными лучами вверх – алмазный венец.
Хотя ничего удивительного. В те времена Польша являлась одной из провинций Франции и, кажется, средний сын Екатерины Медичи был выбран королем польским, но не процарствовал там и месяц.
Он сбежал в благословенную любимую Францию из варварской Польши, один, без свиты, верхом на коне, темной ночью, перелезши незаметно через дворцовые стены. «Лучше – последний крестьянин в королевстве Французском, чем король в Речи Посполитой», – объявил наследник своей изумленной мамаше по приезду.
– О чем так глубоко задумалась, детка? – услышала я голос Елизаветы Ксаверьевны.
Воспоминания перенесли меня в прошлое.
– В школе на уроках истории нам говорили, – задумчиво сказала я тогда, – что честолюбивая Марина Мнишек была готова на все ради царского венца и поэтому согласилась на венчание с беглым монахом Гришкой Отрепьевым, который уверял всех, что он-де младший сын Ивана Грозного – царевич Дмитрий. Дескать, когда Дмитрию было семь, или около того, лет, царь Борис Годунов приказал его убить. Но подосланные царем убийцы зарезали совсем другого ребенка, а царевича спасли слуги.
Долгие годы Дмитрий прятался под чужой фамилией – Отрепьев, – а потом объявился в Польше и сделал предложение богатому поляку – пану Мнишеку. «Мне нужна военная и денежная поддержка, чтобы отвоевать московский трон, – будто бы потребовал он, – а за помощь возьму в жены твою дочь Марину и сделаю ее московской царицей».
Пан Мнишек поверил бродяге и дал согласие на брак. Марина тоже радостно согласилась в надежде стать царицей Московии.
– В шестнадцатом веке – так же задумчиво продолжала я. – девочек благородных кровей готовили для аристократов из той же «стаи». Ее семья в Польше занимала не последнее место в списке особо приближенных к польскому королю фамилий! Аристократы соблюдали чистоту крови потомков.
А здесь что же получается? Замуж за беглого монаха без имени-племени? С благословения родовитого отца? Глядя на ее портрет в учебнике истории, мне не верилось, что девушка с таким выражением лица будет скакать из постели в постель каких-то авантюристов – бедных, неродовитых – ради призрачной надежды стать когда-нибудь московской царицей.
– Да не было никаких авантюристов, Лизочка, – печально отозвалась старая дама. – Был один законный наследник русского престола, царевич Дмитрий I, за которого пани Марианна Мнишек и вышла замуж и стала после коронации царицей Мариной. От мужа она родила единственного сына – царевича Ивана Дмитриевича. Не было никакого Лжедмитрия II… Как и не было никакого убийства царевича Дмитрия, когда тот был ребенком.
Я в изумлении уставилась на пожилую даму.
– Но зачем же тогда историки говорят нам о другом?
– Историки, – злобно фыркнула Елизавета Ксаверьевна несколько раз подряд из темноты комнаты. – Один написал, другой подхватил, третий опять все наврал. А что писали историки-большевики о кровавом перевороте 1917 года? Революция трудящихся! Свобода! Низложение узурпаторов! А был-то просто-напросто насильственный бандитский переворот шайкой пьяниц, шизофреников и наркоманов…
Знаешь, детка, что такое революция? Я расскажу тебе, я видела ее собственными глазами. Это хаос и забвение своих корней. Пустота. Что свирепая орда хана Батыя по сравнению с теми, кто пришел к власти 1917 году?! Так называемые освободители рабочих от имперского гнета, не зная русского языка и культуры, громили православные святые церкви да убивали русских людей. Вот и вся история!
– История, – гневно продолжала старая дама и пренебрежительно взмахнула маленькой сухой ручкой, – может быть продажной девкой. Кто в силе и при деньгах да власти, под того она и прогнется!
Щеки Елизаветы Ксаверьевны разгорелись жарким румянцем, в голосе слышалась нескрываемая ненависть. Я даже немного испугалась такой неистовой реакции на мои слова.
– Марина была законной женой русского царя Дмитрия Ивановича, – продолжала так же страстно старушка, – и венчанной царицей. Это уж потом, начиная с правления государя Михаила Романова в 1613 году, ее историю стали переписывать…
– Да зачем?
– Была причина, деточка моя, была. И веская причина…
Елизавета Ксаверьевна надолго замолчала.
– Какая причина? – робко решилась я прервать затянувшееся молчание спустя некоторое время.
– Подлое, грязное убийство последнего русского императора Николая II бандой нищих проходимцев тоже связано с историей «Лжедмитрия» и Марины, – печально прошептала она.
Я раскрыла рот.
– Каким же образом?
Опять воцарилась тишина. Елизавета Ксаверьевна долго вздыхала и ворочалась на подушках. Я терпеливо ждала ответа на свой вопрос.
– Император Николай II знал из подлинных источников, что его предки, бояре Романовы, банально узурпировали власть в 1613 году.
Да, триста лет назад окрепшая фамилия Романовых рвалась к престолу. А чем начинается любой дворцовый переворот? Убийством наследника. Вот и царя Дмитрия Ивановича постигла та же участь. Лжедмитрия, как объявили десятилетия спустя переписанные и исправленные ими рукописи… И малолетнего сына его – царевича Ивана Дмитриевича – тоже убили. Повесили в Москве у Серпуховских ворот. Мальчику было четыре годика…
– Какой ужас, – прошептала я. – Зачем же ребенка убивать?
Старая дама невесело усмехнулась.
– Оставлять наследника живым? Дети имеют тенденцию вырастать, Лизочка, и вырастать очень быстро. И что бы началось? Вторая смута?
Марина тяжело пережила убийство мужа, она безумно любила его, а вот узнав о смерти сына… повредилась в уме… И будто бы открылось ей в безумии видение… о другом преступлении – убийстве больного ребенка через триста лет…
Знаешь, Лиза, что в письмах Николая II нашли записи о вине семьи Романовых? Последний государь из династии Романовых знал и жена его, мученица-царица Александра, знала, что всю семью их… убьют. Наказание за давнее преступление… Кара…
Я во все глаза смотрела на Елизавету Ксаверьевну. Нет, ничего такого никогда и ни от кого я не слышала.
– Все возвращается на круги своя, – бормотала старая дама, прикладывая платочек к заплаканным глазам, – один невинный ребенок страдает и умирает за амбиции семьи, а спустя три столетия другого больного мальчика расстреливают в грязном подвале пьяные представители новой династии. И какая разница, как эта династия себя называет, так же, как и неважно, кто сел на трон – русский царь или советский вождь. По сути, слова здесь неважны…
– Так значит, не было никакого Лжедмитрия?
– Не было, Лизонька…
Я подала старушке воды и погладила успокаивающе по руке.
– Вам надо заснуть, успокоиться. Вы слишком взволнованы разговором, Елизавета Ксаверьевна, доктору это не понравится, – начала я, но старая дама только крепче сжала мою руку горячими пальцами.
– Ты знаешь, Лизочка, мой отец увлекался собирательством старинных книг? – спросила старушка, не слушая меня. – Однажды он пришел в сильном волнении и рассказал Алексею, сыну наших знакомых, что нашел удивительный документ.
Я была влюблена в Алексея с детских лет, и когда он приезжал к нам, следовала за ним тенью. Ах, Лизочка, тот день навсегда остался в памяти, хотя прошли десятилетия…
…Елизавета Ксаверьевна выпила воды, я помогла ей устроиться поудобнее на подушках и превратилась в слух.
Как запомнила Елизавета Ксаверьевна, в последний мирный 1916 год выдалась очень ранняя Пасха.
Ночи были по-зимнему холодны, но днем радостная капель стучала по крыше, и снег на тротуарах съеживался и становился ноздревато-черным. Папа Лизы еще упорно не вылезал из шубы, но, приходя домой, уже вносил с собой запах не снега и мороза, а весеннего свежего ветра.
В тот день обед остывал, папа запаздывал, мама сердилась. Наконец в прихожей прозвенел нетерпеливый звонок.
– Машенька! – закричал отец с порога маме, вваливаясь в прихожую как большой лохматый медведь. – Девочки! Маша, Лиза, бегите сюда скорее! Посмотрите, кого я привел!
Лиза выбежала из столовой вместе с мамой: прислуга помогала снимать башлык и шинель высокому военному.
Не веря от счастья своим глазам, Лиза увидела улыбающееся лицо Алексея. Мама уже обнимала его, крестила и смеялась сквозь слезы, папа кричал, что Алексей получил неожиданное разрешение на отпуск, а Лиза поняла только одно: Алексей был – слава Богу! – легко ранен, отозван с фронта на несколько недель, а это означало, что Пасхальные праздники проведет с ними.
В столовую вошли все вместе. Алексей немного прихрамывал после ранения.
– А ты не форси, не форси, зачем палку отставил? – сердился на него папа.
– Не хочу выглядеть хромым старцем Тимуром перед дамами, Николай Николаевич, – смущенно улыбался Алексей. – Ба, Лиза, да вы стали совсем взрослой, – галантный полупоклон всем присутствующим и легкий поцелуй руки. – Мадемуазель, вы сегодня прелестны, очаровательны!
– Алексей имеет в виду, что в последний раз ты не была ни прелестна, ни очаровательна, – колючая кузина открыто строила глазки Алексею, а Лизе хотелось укусить противную Юльку.
Он ей так нравился, просто ужасно! И форма была ему к лицу, и ежик коротко подстриженных волос, и чуть заметные морщинки около глаз. Георгиевский крест вспыхивал каждый раз, когда его владелец наклонялся вперед. Алексей улыбался неуловимым движением губ, внимательно слушая дам, которые засыпали его нетерпеливыми вопросами, но иногда посматривал на Лизу. И когда его быстрый взгляд встречался с Лизиным, девушка начинала тоже непроизвольно улыбаться, заливаясь волной жаркого румянца.
– Я казалась себе неотесанной дурочкой. Маленькой, глупой, неизящной, – шептала мне Елизавета Ксаверьевна в сумерках комнаты, слезы катились по ее щекам, и она быстро и нетерпеливо смахивала их. – За его улыбку я могла бы, не раздумывая, отдать жизнь.
После затянувшегося обеда, когда радостно-взволнованные дамы наконец-то расположились за низеньким столиком с чашечками кофе и отпустили Алексея, папа потащил его в кабинет. Лиза решительно отобрала поднос со стаканами чая у горничной и направилась вслед за ними.
К ночи похолодало, поднялся ветер. Папа закрыл окно, достал толстый кожаный портфель и вынул из него какие-то бумаги, книгу. Алексей присел к массивному столу и углубился в чтение. Слышался только шорох переворачиваемых листов да легкое постукивание молоточков отопления.
– Вы, что же, Ксаверий Николаевич, всерьез считаете, что это подлинный документ? – услышала Лиза негромкий и слегка удивленный голос Алексея немного спустя.
– Несомненно, друг мой, – отозвался папа.
Лизе очень хотелось взглянуть на документ, который читал Алексей, но, боясь, что папа попросит ее уйти, почти не дыша сидела в огромном кресле у окна.
– Что вы собираетесь делать? – тихо спросил Алексей.
– Меня всегда, как человека влюбленного в русскую историю и хорошо разбирающегося в ней, интересовало несколько моментов, объяснения которых я не совсем понимаю, – не отвечая на вопрос, папа погладил бархат тяжелых портьер, а потом легко прошелся по комнате, размахивая руками. – Первое. Почему предполагаемому отцу Дмитрия, царю Ивану IV Грозному, церковь дала разрешение на семь браков? Случай единственный и уникальный в истории русского православия, не так ли?
– Православия, но не мировой истории, – осторожно заметил Алексей. – Если вспомнить Генриха VIII Английского, то у него тоже было семь жен.
– Тот факт можно легко объяснить, друг мой. Генрих несколько раз переходил из католичества в лютеранство и обратно. Брак, заключенный по католическим канонам, не признавался протестантами, а лютеранский союз считался недействительным католиками. Но Иван-то IV веру не менял!
– Не менял, – задумчиво повторил Алексей.
– А разрешение венчаться семь раз тем не менее получил. Имена царских жен можно найти в любом учебнике. С Анастасией Романовной царь бракосочетался в 1546 году, в 1562-м – с Марией Темрюковной, через год с Марфой Сабуровой, в 1571 м с Анной Колтовской, в 1573 м с Марией Долгорукой. Затем историки упоминают Анну Васильчикову, Василису Мелентьеву, Наталью Коростову и, наконец, Марию Нагую. – Тут папа приостановился, недовольно прищурился и, особенным голосом выделяя имена, медленно закончил:
– Получается, что Мария Нагая, по официальной версии, мать Дмитрия, вообще приходилась царю девятой женой. То есть по законам православия – сожительницей. А что сие означает?
– Что ее сын претендовать на русский престол никак не мог, – закончил за папу Алексей.
– Правильно. Русская православная церковь во все времена и всем желавшим вступить в брак разрешала и разрешает – заметь, до сегодняшнего дня! – только ТРИ венчания по жизни. Не бывает исключений – ни для крестьянина, ни для царя. Седьмая-девятая-или-какая-там-жена считается обыкновенной сожительницей, и ее дети не могут претендовать на трон. Ни при каких условиях и положении! Да что там недействительный брак, Алеша! – продолжал воодушевленно папа. – Кто из священников стал бы венчать в девятый раз? И не просто кого-то, а державного русского царя?..
Алексей задумчиво закурил и помахал рукой, разгоняя дым. Папа перестал шагать по комнате и выжидательно уставился на него.
– Вы хотите сказать, Николай Николаевич, что пан Мнишек не дал бы своей дочери Марианне разрешение выходить замуж за сына девятой сожительницы царя, – начал медленно Алексей…
И папа быстрой скороговоркой закончил вместо него:
– Потому что никто и никогда бы не воспринял его всерьез как претендента на русский престол ни в России, ни в Европе. Ребенок, рожденный вне церковного брака, претендующий на трон? Бред!
– А пан Мнишек все же дал разрешение…
– Дал. Почему? Ни в одной из исторических работ я так и не нашел внятного ответа. Из-за амбиций получить Псковскую область? Желания угодить папе римскому и протолкнуть католицизм в Московию? Что за чушь! Пожертвовал дочерью человеку, у которого не было ни малейшего шанса удержаться на престоле?
– Вот поэтому-то Дмитрия и объявили самозванцем, Николай Николаевич.
– А-а-а, самозванцем… А как ты, Алешенька, объяснишь тот факт, что все – ближние бояре, мать, войско – все, кто бы ни встречался с Лжедмитрием I, а затем с Лжедмитрием II, признавали в обоих мужчинах законного наследника? А потом и в атамане Заруцком, то есть в Лжедмитрии под номером три?
Алексей неуверенно пожал плечами:
– Преследовали собственную выгоду или боялись за жизнь?
– Возможно, – легко согласился папа. – А армия? Которая тоже признала в трех самозванцах царя? Во время военных действий в руках так называемого Лжедмитрия I находились восемнадцать русских городов! Население восемнадцати городов признало в проходимце царя? Тоже из-за выгоды? Какой же?
Алексей промолчал.
Лиза знала, что как только папа сядет на своего любимого конька – древнюю русскую историю – его не остановить. Воспитанность Алексея не позволяла ему прервать разошедшегося Николая Николаевича. Подобный разговор мог затянуться до полуночи, что случалось не раз, но Лизе было все равно. Лишь бы сидеть в уютном кресле, видеть в полумраке кабинета склоненную к столу худощавую фигуру Алеши и мечтать, мечтать…
– Давай призовем на помощь элементарную логику, – понемногу раздражаясь, продолжал папа. – Согласен, можно подговорить, убедить, уговорить, подкупить, наконец, нескольких человек, особо приближенных к Кремлю. Но не целую же армию! Да, можно было договориться с высшей боярской верхушкой, но с населением 18 городов и десятком тысяч воинов?
Прямо-таки удивительно. Буквально все, кто видели царевича, признавали в нем наследника Ивана Грозного. Даже собственная мать, царица Мария Нагая. Потом уж начали поговаривать, что, дескать, нет, не признала, что ее заставили… Но позволь… Почему свидетельства тех очевидцев, которые говорят, что она признала в царевиче сына – ложны, а тех, кто говорит, что не признала – правильны?
– Судя по всему, «беглый монах» или «Лжедмитрий» обладал немереными гипнотическими способностями. Ему бы только в политиках ходить! – «Лжедмитрий» папа произнес непередаваемо ядовитым тоном и начал загибать пальцы. – Лихо уговорил польского короля Сигизмунда дать ему денег на вторжение в Россию – раз. Пана Мнишека – отдать замуж дочь – два. Очаровал девушку «княжеских кровей» да так, что она, забыв обо всем на свете, стала женой до венчания того на царство – три. Убедил многотысячную русскую армию сражаться на его стороне – четыре. И, заодно уж, заставил поверить опальную вдову-царицу в то, что он-де и есть ее сын! Прямо граф Калиостро, а не средневековый русский царевич!
Алеша негромко засмеялся и потянулся за стаканом чая.
– И вправду смешно, – папа тоже весело рассмеялся и уселся напротив Алексея. – Знаешь, что мне больше всего нравится в объяснениях историков? То, что когда какой-то персонаж ведет себя не так как следует, по мнению этих самых историков, когда поступки персонажа не укладываются в придуманную ими же теорию, его тут же объявляют ненормальным!
– Ну, Николай Николаевич, будьте же справедливы… Кого это историки объявили ненормальными?
– Мальчик мой, – всплеснул руками папа и опять выскочил из кресла. – Да во времена смуты действовала целая армия безумных людей! Да что там «смутные времена»! Начиналось все с Ивана Грозного. Оказывается, Иван Грозный был шизофреником. Отсюда тяга к бесконечным женитьбам. Больному на голову царю церковь дала разрешение венчаться семь или десять раз – восхитительно! Кстати, тут у меня возникает вопрос. На каких основаниях можно ставить диагноз четыре столетия спустя? А Марина? Ладно, вышла замуж не известно за кого. Но зачем ей понадобилось иметь от безродного проходимца сына? Которого никогда и ни при каких условиях не повенчают на царство? Все ради тоже же призрачного трона? Очень похоже, что Марине можно поставить тот же диагноз, что и ее свекру – вялотекущая шизофрения. Итак, Иван Грозный – шизофреник, Лжедмитрий – явно психически ненормальный человек, самозванец, а вместе с ними полубезумные Заруцкий, Марина, инокиня Марфа, пан Мнишек с семьей, польский король с армией, ибо все они совершали, немыслимые с точки зрения нормальной логики, поступки. Не многовато ли сумасшедших?
Лизу стала потихоньку одолевать дрема. В полусне видела она сердито шагающего по кабинету отца и сидящего в пол-оборота Алексея. Длинная тень шевелилась на полу, доходила до книжного, упирающего в потолок, книжного шкафа, в котором Лиза любила рыться в холодные морозные вечера. Сладко пахло папиными сигаретами и кожей старого кресла.
– И все-таки, Николай Николаевич, мне трудно принять вашу версию, – услышала она сквозь вату полудремы голос Алексея.
– Это не моя историческая версия, – опять громко перебил его папа. – Вот лежит подлинный документ, где черным по белому записана правда. То, что тебе трудно принять новое прочтение истории, меня не удивляет. Когда в течение всей жизни твердят, что Дмитрий был самозванцем, поверить в другую версию практически невозможно. Так уж устроен человек.
Алексей оглянулся на кресло, где сидела Лиза, прижал палец к губам и накинул на лампу полосатый платок. Комната стала похожа на большой зеленый аквариум. Лиза зевала, прислушивалась к любимым голосам папы и Алеши и рассматривала сквозь уютный полусон разноцветные полоски на потолке.
– Николай Николаевич, что вы собираетесь делать? – понизив голос, спросил Алексей. – В такие неспокойные времена?
– Не знаю, друг мой, – тихо и очень грустно ответил папа. – Не решил пока. Но у меня к тебе есть одна просьба, Алешенька. Пожалуйста, сохрани этот документ, любым способом сохрани. И не оставь Лизочку в трудные времена.
Елизавета Ксаверьевна устала и замолчала. Часы показывали четверть пятого.
Я выключила ночник, поставила на прикроватный столик лекарство и вытерла рукой ее мокрые от слез щеки.
– А мне можно будет взглянуть на письмо? – осторожно спросила я.
– Конечно, девочка, – прошептала старушка и вложила мне в руки маленькую потертую книжицу. – Алексей исполнил просьбу папы. Он сохранил документ и спас меня.
Я посидела еще немного, подождав, пока дыхание старушки не успокоилось. Наконец она задремала.
Когда я выходила из спальни, старая дама выглядела счастливой, спокойной и больше не плакала. Ничто не предвещало смерти, а утром Елизавета Ксаверьевна не проснулась.
И вот Мур рассказал мне о своих подозрениях, что, возможно, дама умерла не своей смертью. Ее ближайшую подругу отравили, а работающего на Елизавету Ксаверьевну садовника убили вчера в отеле фешенебельного района Беверли-Хиллз.
Кстати, почему в гостинице? И каким образом, вернее, методом? Тоже отравили? Я не догадалась спросить Мура об этом, а сам он ничего не сказал. Специально или забыл?
Мне совсем не нравилось в сложившейся ситуации то, что буквально за неделю до смерти старушки завещание было переписано на мое имя – и это при наличии огромного числа родственников, алчно желавших получить наследство.
Так зачем дама изменила завещание? Из-за старинного письма, которое спас Алексей и которое Елизавета Ксаверьевна собиралась показать мне? Или чтобы элементарно насолить ждущим ее смерти родственникам?
К несчастью, я имела удовольствие несколько раз видеть наследников моей подопечной. Честно скажу, впечатление они оставили отвратное. Так что можно понять, почему Елизавета Ксаверьевна включила меня в свое завещание. Мы крепко подружились, несмотря на огромную разницу в возрасте. Мне очень нравилась пожилая дама, которая в свои почтенные годы не утратила острой памяти и язвительного нрава, хотя могла с трудом передвигаться только в инвалидном кресле.
Но вот что заставило бабушку Мура оставить в наследство мне дорогущего коня? С ней я близко знакома не была…
Все это выходило за рамки обычного – тут нельзя не согласиться с Муром, и я тревожилась все сильнее.
Опять присев на диван, я закуталась в плед и аккуратно листала желтоватые от старости страницы тонкой книжицы, которую вложила мне в руку Елизавета Ксаверьевна в ту последнюю в ее жизни ночь.
Текст на неизвестном языке украшал витиеватый орнамент из диковинных цветов и растений. На одной из страниц я увидела портрет Марины идентичный тому, который когда-то украшал стену спальни Елизаветы Ксаверьевны и перед которым сейчас задумчиво сидела я.
5. Царь-царевич, настоящий королевич
Прошло несколько дней.
Из унаследованных конюшен, точнее, от совета их директоров, пришло вежливое приглашение приехать и лично познакомиться с Ассуаром Арахистом, а также письменное напоминание их юриста о незамедлительной встрече. Одним словом, тоска смертная: опять придется тратить время на подписание тонны легально-официальных бумаг.
Я засунула письма подальше – еще неизвестно как отнесется к подобной новости Сергей. Лошади не входили в круг его интересов. Честно, вообще в голову не приходило, что делать с полумилионным конем?
Со всеми событиями, новостями и волнениями у меня напрочь вылетело из головы обещание, торжественно данное детям много недель тому назад, посмотреть какие-то там лошадиные соревнования. Очень важные, как объявили мне ребята и о которых я благополучно забыла.
Рано утром мальчишки ворвались ко мне в спальню ни свет ни заря.
– Ты встаешь? – завопили они и с разбега прыгнули на кровать. – Нам через сорок минут выезжать!
– Куда? – сонно пробормотала я из-под одеяла.
– Забыла, – обиженно ахнул мой сын, а племянник грозно и по слогам произнес: – Со-рев-но-ва-ни-я, мадам Забудь-ка.
Признаваться и огорчать детей своей беспамятностью мне не хотелось, и поэтому я мгновенно вылезла из теплой постели и бодро соврала, что все помню и буду готова через полчаса.
Времени на завтрак не оставалось, и я быстренько откусила пару раз от гигантского бутерброда, который в меланхолической задумчивости поедал Сергей, сидя в окружении нетерпеливых мальчишек. Отхлебнув из его чашки переслащенной крепчайшей бурды, именуемой чаем, я поставила брата в известность, куда мы едем и упомянула о полученной в наследство конюшне.
Сергей поперхнулся и отставил тарелку с едой.
– Я давал тебе обещание содержать двух лошадей, а не табун, – вкрадчиво напомнил он.
Дети же встретили новость с криками громкой радости. Как и Лера, с которой они моментально поделились информацией, как только добрались до конюшен.
– Вы получили в наследство Ассуара Арахиста? – с придыханием спросила она меня, забыв поздороваться.
Я подтвердила.
– Самого Ассуара Арахиста? – не успокаивалась Лера.
Кажется, так, если только правильно в памяти отложилось лошадиное имя.
– Когда мы сможем туда поехать и посмотреть его? – три пары умоляющих, готовых к великой радости или ужасному горю, глаз уставились на меня.
Наступило время почувствовать себя восточным падишахом.
– Сегодня после соревнований, если останется время, – пришлось обещать мне.
– О-о-о-о-о-о! – в экстазе выдохнула троица и потащила меня к зеленеющему невдалеке полю, где уже клубилась пестрая толпа, и слышалось веселое ржание лошадей.
Мы с максимальным комфортом устроились на трибунах под полотняными навесами.
Соревнования шли своим чередом. Лошади резво прыгали через барьеры, нарядных строгих наездников сдержанно приветствовали не менее нарядные и строгие гости.
Лера и мальчишки обсуждали выступающих на непонятном мне профессиональном сленге, а я все думала о своем. И чем дольше прокручивала бурные события минувших дней, тем меньше мне нравился статус богатой наследницы.
Чтобы отвлечься от невеселых мыслей, я просмотрела оставленные на сотовом сообщения. Одно, быстрое и напористое, было от Мура. «Бетси, буду ждать тебя сегодня вечером на колоннаде у обсерватории ровно в десять. До встречи».
Вот так. Ни «здрасте», ни «до свидания». В десять на колоннаде и точка! А где же всемирно известная супер-пупер американская вежливость? Бесцеремонность беверли-хиллзского полицейского раздражила меня до гусиных мурашек и, клокоча как вскипевший чайник, я тут же набрала его номер.
– Джон Мур, слушаю, – вежливо пропела трубка.
– Джон, добрый день, – сердито начала я. – Это Бетси, по поводу нашей встречи…
– Да. Все как договорились. В десять. У меня будет полчаса, не опаздывай, – быстро оттарабанила трубка. – И захвати с собой дневник Марины. ОК?
– ОК, – ошалело ответила я, и мой невидимый собеседник мгновенно отключился.
Мысленно продумывая язвительные замечания наглецу Муру, я плохо следила за происходящим на плаце.
К моей великой радости, соревнования прошли очень быстро, а вот торжественная церемония награждения победителей-наездников и их откормленных лошадей сильно затянулась. Поглядывая на часы, я торопила Леру и возбужденных мальчишек, но к тому времени, когда все наконец-то загрузились в машину, поняла, что на обратном пути в дурацком трафике куковать нам до утра.
Хитрые дети тут же начали канючить и упрашивать проведать Ассуара Арахиста. Скрепя сердце, пришлось согласиться по одной-единственной разумной причине: лучше уж заехать в конюшни, чем на хайвэе стоять бампер к бамперу каменно, на протяжении часов трех.
В скаковых конюшнях нас встретили как особ августейшей фамилии. Выхоленный, подтянутый управляющий лет под пятьдесят неустанно приседал, улыбался, расточал медовые улыбки, сыпал комплементами.
– Пойдемте, мадам, покажу вам Ассуара Арахиста.
Из недр вкусно пахнущей опилками и овсом конюшни тщедушный конюх неторопливо вывел надменного гривастого коня.
Я страшно далека от мира лошадей, поэтому ничего особенного в явленном мне рысаке не увидела. Конь был темно-гнедой, здоровенный, упитанный, стальные мышцы переливались под тонкой шкурой. Но ведь так и должен выглядеть здоровый рысак?
Лера и мальчишки замерли в немом восхищении.
– Какой красавец, – прошептала троица едва слышно.
Огромное животное затанцевало, подняло острые треугольники ушей и издало предупреждающее фырканье.
Я поспешила отойти на безопасное расстояние страшась, что конюх, едва доходивший Ассуару Арахисту до грудной клетки и напоминающий ожившую стрекозу, не удержит коня. Наверное, он – бывший жокей. А из одной ноги коня можно было запросто вылепить парочку-троечку таких человечков.
– Йозеф Скшеч. Мадам Бетси, – представил нас друг другу радостный управляющий, и конюх с отвращением посмотрел на меня.
Ассуар сердито скосил в мою сторону круглый глаз и грозно раздул ноздри. Помните сказку Ершова? «Кони ржали и храпели, очи яхонтом горели» – вот точный портрет доставшегося мне наследства.
– Почему он так зловеще фыркает? – с беспокойством спросила я Леру.
Та пожала плечами:
– Почему зловеще? Просто принюхивается к новым запахам.
– Ты хочешь седлать его?
Лера ответила мне полубезумным взглядом счастья и похлопала коня по крутой шее.
– Умница, красавец, – повторяла она.
– Да, очень красивый, – пели за ней в один голос Ян с Алешкой.
Я не разделяла их восторгов – свирепый конь не внушал мне доверия – и попробовала завязать разговор с конюхом. Но он лишь сердито отмалчивался, помогая Лере седлать коня.
Пока конюх возился с Ассуаром, медовый управляющий довел меня под белы ручки до кабинета и начал церемонию знакомства с вверенным ему комплексом и работающим персоналом.
Через пару часов я поняла, что сейчас сдохну. Лера же и мальчишки без устали носились по конюшням, как обезумевшие заводные зайцы, громко восхищаясь денниками, покрытием арены, видом лошадей и даже овсом, который жевали лошади. От их искреннего восторга управляющий расцветал как майская сирень.
– Здесь даже есть бассейн! – счастливо выкрикнул мой сын.
– Зачем?
– Ну как ты не понимаешь, для тренировок.
Потом Лера вскочила в седло, и мне пришлось терпеть до конца тренировки.
К моему удивлению, тощий конюх благожелательно наблюдал за работой Леры и Ассуара на арене. Лицо его менялось на недовольно-презрительное только тогда, когда он был вынужден обращаться ко мне. Может, конюх-поляк Йозеф Скшеч по определению не любил всех русских дам старше, ну скажем, тридцати лет?
А потом произошло вот что. Как авторитетно объяснили дети, отработавшего на арене коня нужно «выводить», чтобы он «остыл» и «успокоился». Не слушая испуганных возражений, они вложили мне в руку корду-веревку, закрыли дверь круглой арены, приказали ходить по кругу с конем как минимум полчаса и испарились.
Оставшись один на один с сердитым Ассуаром, я тихонько потянула за корду, но конь даже не пошевелился. Беспомощно оглянулась. Никого. Только Йозеф Скшеч спокойно и насмешливо наблюдал за мной, стоя невдалеке.
Я потянула за корду сильнее – никакого эффекта. С таким же успехом могла попробовать сдвинуть ростральную колонну.
Йозеф Скшеч продолжал смотреть на мои немощные попытки. Тогда, разозлившись, я сильно дернула корду вниз, грозно взмахнула рукой и громко причмокнула губами. Конь отпрыгнул, рванулся, выдернул веревку из рук и бешено понесся по арене, нарезая круги вокруг меня, брыкаясь копытами в воздух и издавая грозное фырканье.
В мгновение ока, как крутой ковбой из американского вестерна, напуганная неожиданно злобной вспышкой коня до предела, я рванула к краю арены, перемахнула через высокое ограждение и спрыгнула на землю, оставив Ассуара беситься, сколько пожелает, в гордом одиночестве.
Ноги дрожали и отказывались держать меня, а Йозеф Скшеч хохотал, стоя совсем недалеко и скорчившись в три погибели… Отхохотавшись, он исчез в полумраке конюшни так и не подойдя ко мне и не предложив никакой помощи.
Когда минут через тридцать наконец-то появились Лера и мальчишки, я немного успокоилась и пришла в себя. Наглого конюха нигде не было видно, зловредный же Ассуар, потупив глазки, как ни в чем не бывало, смирно стоял у входа на арену, и я, исподтишка потирая ушибленное колено и пряча расцарапанные ладони, решила ничего не рассказывать детям.
Из конюшен мы выкатились, когда начало смеркаться, а до дома добрались в полной темноте, застряв-таки на сорок минут в жуткой пробке.
Я надеялась, что после бесконечного дня дети быстро разбредутся по койкам, но не тут-то было. Сначала мне пришлось их кормить и выслушивать в сотый раз замечания о прошедшем соревновании и красавце Ассуаре Арахисте, потом запихивать мальчишек в душ, мыть посуду, разбирать гору счетов, делать домашнее задание для Яна, выгуливать собаку.
Потом заехал Вацлав, за ним пришла Галина, и все началось по новой. Дети радостно уселись пить чай, Фрида тоже запросила есть, а я ушла в гостиную и без сил повалилась на диван.
Время стремительно приближалось к девяти. За окнами стояла густая чернильная темнота – в августе на юге отвратительно быстро темнеет.
Мне ужасно не хотелось опять садиться за руль и ехать в обсерваторию на встречу с Муром. Я лежала, зарывшись в подушки, и в полудреме мысленно уговаривала себя пересилить лень и встать с дивана.
В начале десятого с трудом вылезла из-под теплого пледа и медленно поплелась в холл. Там меня остановил Вацлав.
– Куда это собралась? – недобро прищурившись, поинтересовался Вацек.
– Скоро вернусь, – пробормотала я, не глядя на него.
– Я не спрашивал тебя, когда ты вернешься, я спросил тебя, куда ты уходишь.
Я промямлила сама не знаю что. Ну не говорить же, что иду на встречу с полицейским! Тут же начнется ор.
Из дверей гостиной высунулась Галка.
– Эй, ты куда?
– Я ненадолго, мне надо съездить по делам.
– По каким-таким делам? – насупился Вацлав. – Ночь на дворе.
– Отстань от нее, – вступилась за меня подружка. – Может, у Лизаветы, романтическое рандеву под луной?
Вацек выжидающе уставился на меня. Я покраснела и быстренько, боком-боком, просочилась за дверь.
– Не отключай мобильник и чтобы дома была не поздней одиннадцати, – прокричал мне вслед Вацлав из окна.
Уже заводя машину, я увидела, как Галка оттаскивала мрачного Вацлава за рукав от окна и что-то сердито выговаривала ему.
До обсерватории я долетела мухой. На безлюдной парковке было тихо и прохладно, только мирно трещали цикады.
Не успела подкрасить губы и вылезти из машины, как увидела торопливо идущего ко мне Мура. При неверном свете плохо освещенной парковки высокий силуэт полицейского принял темный и зловещий вид. Я невольно поежилась и пожалела, что не послушалась Вацлава и не осталась дома.
Что мне известно о Муре? Только то, что он работает в полиции. Но разве этого достаточно, чтобы безоговорочно доверять ему и встречаться на пустынной парковке около давно закрытой обсерватории?
– Привет, Бетси, – вежливо поздоровался Мур и взял меня галантно под локоток. – Планы изменились на вечер. Я нашел одного коллекционера. Он согласился встретиться, мы едем в Анахайм.
– Сейчас? – возмутилась я. – Ты на часы глядел? Какая встреча в одиннадцатом часу?
– Встреча могла бы состояться и раньше, – подталкивая меня к черному, мрачному джипу, неожиданно миролюбиво ответствовал Мур, – если бы ты не опоздала.
Я поперхнулась от негодования.
– На двадцать минут?!
– Но ведь опоздала же.
В полном молчании быстрее сверхзвукового самолета мы полетели по пустынному шоссе на встречу с нарытым Муром коллекционером. Джон гнал машину по хайвэю с неслыханной скоростью. Стрелка спидометра застыла на цифре «85». Сто километров в час! Никогда не была сильна в математике, но все равно – ужас.
– Звонку коллекционер не удивился, – наконец снизошел до разговора со мной Мур в бешено мчавшейся машине. – Сказал, что будет рад поговорить.
– Странно, обычно коллекционеры не идут на связь так легко, – все еще обиженная на Мура, пробормотала я. – Где ты нашел его?
– Его координаты дал мне господин Дейвис.
Я в удивлении кинула взгляд на Мура. Мне показалось, что наш Плевако был не в восторге от полицейского вмешательства в тот ужасный вечер, когда нашли тело несчастного Моргулеза. Но кто может наверняка знать, что посоветует юрист?
Анахайм встретил нас ночной тишиной, чистотой ухоженных палисадников и свежестью политых клумб.
Коллекционер проживал в огромном доме, утопающем в цветах и умело подсвеченном невидимыми огоньками. Мы остановились перед вычурной стеклянной дверью и нацепили парадные улыбки.
Любитель русского шестнадцатого века, Эд Спенсер, оказался полноватым мужчиной с типичной загорелой внешностью и выговором. Коренные жители солнечной Калифорнии трещат пулеметной скороговоркой, проглатывая окончания слов и не уважая знаки препинания:
– Я рад встрече как быстро вы добрались не было трафика это редкость проходите в комнату.
Быстренько обменявшись вежливыми приветствиями трех китайских мандаринов, мы в мгновение ока перенеслись в залитую бешеным электрическим огнем огромную комнату и оказались на мягком диване с литровыми стаканами кока-колы в руках, доверху набитыми кусочками льда.
Я с тоской посмотрела на свой. Сколько лет живу в Калифорнии, но глотать в кошмарном количестве разбавленный льдом сладкий сироп утром, днем, вечером и ночью так и не научилась.
Устроившись напротив, Эд Спенсер, тоже с кокой в руке, дружелюбно улыбаясь, рассматривал меня несколько мгновений и вдруг застыл, словно увидел приведение за моей спиной. Я невольно оглянулась. Никого. Вернее, ничего, кроме бежевой стены и какой-то пестрой картины на ней.
Повисла неловкая пауза. Несколько минут я таращилась на любителя русской старины, а он молча пялился на меня, пока не заметил удивленного взгляда Джона.
– Итак, я весь-весь внимание, – оторвавшись от созерцания моего лица, поощрил толстяк, но Мур быстро перехватил инициативу.
– Не вдаваясь в подробности дела, которое веду, – обтекаемо начал он, – хотелось бы выяснить у вас, как у специалиста, какова возможная ценность книг шестнадцатого века, принадлежавших библиотеке русских царей или цариц, на рынке Америки.
– Шестнадцатый век длинен…
– Ну, скажем, почти самый конец…
– Сожженная библиотека Ивана Грозного? Времена самозванцев? Ведь они вас интересуют, не так ли?
Мы в унисон утвердительно покачали головами: так, так.
Эд повозился на кресле и закинул нога на ногу – приготовился к долгому разговору.
– У вас с собой предмет, который вы хотите показать мне?
Мур кивнул, и, подчиняясь немой команде, я нехотя вытащила книжку из сумочки. Толстяк почтительно взял ее в руки.
– Угу-м, так и думал, – пробормотал он. – Вас интересует Марина Мнишек, а не шестнадцатый век вообще и не сожженная библиотека Ивана Грозного, в частности.
– Как вы догадались? – резко спросил его Джон.
Не отвечая, Эд пролистал книгу до середины, открыл и протянул ее Джону. Мур бросил беглый взгляд на открытую страницу, потом еще раз, уже более заинтересованный.
– С ума сойти, – только и сказал он.
– Я ответил на ваш вопрос, – скорее утвердительно, чем вопросительно ответил Мур.
Интересно, что такое они там увидели?.. Я вытянула шею. Книга была открыта на страничке с гравюрой Марины Мнишек. Ну и что?
Оказалось, свой вопрос я задала вслух.
– Неужели вы ничего не видите, Бетси? – улыбаясь, спросил толстяк.
Я пожала плечами:
– Ничего.
Мур только глубоко вздохнул. Эд взял со стола бумажную салфетку, разорвал ее и прикрыл одной половинкой венец на голове Марины, а другой – ее гофрированный воротник.
– А теперь?
Ничего «такого» я упорно не видела.
– Да ведь это же ваш портрет, – поднося книгу прямо к моему лицу, ласково сказал Эд. – Узнаете?
Сказать, что я удивилась, значит, ничего не сказать. Мой портрет? Он сказал, МОЙ портрет? Да я совершенно не похожа на Марину Мнишек! Неужели у меня такой длинный нос? И такие высокие скулы? И такие рысьи глаза? И… и такой надменный взгляд?
– Ничего подобного, – воинственно ответила я двум спятившим американским мужчинам. – Ничего общего.
– Ну, не будем спорить, – миролюбиво пропел любитель-коллекционер и нацепил на свой мясистый крупный нос, которому позавидовал бы сам Сирано де Бержерак, модные очки в тонюсенькой оправе.
– На книге нет особой царской печати, текст написан от руки на старой латыни, – объявил он минуту спустя, аккуратно пролистывая книгу и обращаясь к Джону. – Многомиллионной ценности книга не представляет, но раритет несомненный.
– То есть за такую вещь никогда не разгорятся драки и не совершатся убийства? – как бы в шутку спросил Мур.
– Не думаю, – задумчиво протянул Эд. – Хотя…
– Да?
– Для определенной группы людей сия вещь может представлять интерес и несомненно стоить денег.
– Какой группы людей?
Я тихонько сжала колено Джона. Разговор стал напоминать допрос в полицейском участке. Спокойнее, Мур, спокойнее. Этот коллекционер все расскажет сам, без нажима с твоей стороны.
Джон понял меня. Потушил в глазах хищнический блеск и выдавил скупую улыбку.
– Сама по себе книга не представляет собой нечто супержелаемое, как я уже сказал, но есть одно «но», – продолжал неторопливо вещать Эд. – Вы знакомы с предположением о существующем тайном польском обществе, которое собирает все материалы, связанные с Мариной Мнишек?
Мы отрицательно покачали головами.
– Никогда не слышал о таком, – пробормотал Мур.
– Марина, как вы знаете, приехала в Москву из Польши и венчалась с Дмитрием I Самозванцем, который выдавал себя за сына Ивана Грозного. Она родила Дмитрию или «Лжедмитрию», как его стали называть, сына Ивана…
– Которого современники, а за ними историки прозвали «воренком», – нетерпеливо влезла я. – С приездом Марины и Лжедмитрия в Москву в России начались так называемые «смутные времена». Закончились же они только после казни Лжедмитрия II и воцарения новой династии Романовых. Сына Марины повесили, Марину уморили голодом в заточении, смута закончилась, войну погасили, престол занял набожный отрок Михаил Романов. Все счастливы и возносят молитвы за новоизбранного государя. Но какое отношение вся эта история имеет к тайному польскому обществу?
– А такое, – невозмутимо ответил Эд. – В этот исторический момент – ни раньше, ни позднее – в одном из Московских пожаров погибает богатейшая библиотека Ивана Грозного. Огонь уничтожает ценнейшие документы того времени, иконы и летописи прежних времен.
Что касается Марины, то письменных доказательств ее венчания и подлинности царствования практически не существует. Члены же тайного польского общества утверждают, что библиотеку подожгли сторонники нового царя Михаила Романова по приказанию его отца – митрополита Филарета. В огне погибли документы, несомненно подтверждающие право Дмитрия на престол и, соответственно, его жены – царицы Марины. Но, – и тут Эд весело подмигнул мне, – как говорил много лет назад Мастер: «рукописи не горят»… Существует поверье, что личный дневник Марины Мнишек избежал участи многих документов, погибших в огне. Дневник этот она будто бы вела со дня знакомства со своим будущим мужем – царем Дмитрием Ивановичем. За эту рукопись тайное общество может начать войну.
Я посмотрела на тоненькую, пожелтевшую от времени книгу, которую аккуратно держал в руках Эд.
– Вы считаете, это подлинный дневник Марины Мнишек? – потрясенно пробормотала я.
– Очень может быть, – спокойно подтвердил Эд.
– Из сгоревшей библиотеки?
Толстяк утвердительно кивнул несколько раз.
– За который тайные поклонники Марины могут убить человека, – подвел черту Мур.
– Несомненно, – опять мирно согласился Эд. – Я считаю, что убийство за дневник Марины Мнишек слишком большая цена, ведь дневник-то остался у вас. Но, может, для кого-то любая, даже самая незначительная цена окажется неприемлемой. Тогда – да, такой человек пойдет на убийство ради этой книги. Если, повторюсь, у него не возникнет желание приобрести раритет.
– Ага, – растерянно сказала я. – Никто не предлагал мне выкупить дневник, а уже уб…
– Очень интересно, – быстро прервал меня Мур. – Но мне непонятно, почему такой ажиотаж вокруг этой самой Марины? Мало ли кого убивали во время дворцовых переворотов?
Эд весело рассмеялся:
– Мой дорогой, вы задали вопрос, на который не могут ответить историки уже почти четыреста лет!
Мур залпом допил свою коку и взял мой бокал.
– Когда возникло тайное польское общество?
Эд развел руками:
– Предположительно в начале семнадцатого века сразу после насильственной смерти Марины. Скажем, ее, как сейчас бы сказали, фанаты, стали собирать информацию о ней… – Эд отложил дневник Марины в сторону и в волнении прошелся по комнате. – Марина была молода, красива, образованна, окружена вниманием и поклонением с детства. Надменна… Необычайно надменна, как и подобало девице из родовитой польской семьи. Зачем же ей брак с беглым монахом-расстригой Гришкой-Лжедмитрием? Почему ее именитый отец дает разрешение на этот неравный брак? А? Зачем? – грозно спросил коллекционер меня и Мура. – Не логичнее было бы сначала увидеть расстригу на троне, а потом повенчать с ним дочь?
Мур пожал плечами.
– Ну… Может, боялся, что расстрига откажется от нее, когда станет царем Московии?
– Прекрасно, – пренебрежительно кривя губы, одобрил Эд. – Точка зрения современного человека. Хватай, все равно что, пока само в руки плывет – хоть цветок, хоть… Но мы-то говорим о царском доме шестнадцатого века, господа! Никогда бы отец Марианны не согласился отдать свою дочь за беглого монаха, раба, человека без роду и племени.
– Так выдал же?
– За наследного царя Дмитрия, а не за расстригу Гришку Отрепьева выдал, – рявкнул Эд так громко, что звякнули в горке стеклянные фужеры на тонких ножках.
– У меня разболелась голова от этого вашего Дмитрия, – недовольно пожаловался Мур темноте за окном. – То он царь, то не царь, то самозванец, то нет.
Я сидела, задумчиво разглядывая узоры переплетенных трав и цветов на пожелтевших страницах книжки.
– «Я люблю тебя, панна моя. Беззаботная юность моя. И прозрачная нежность Кремля в это утро, как прелесть твоя», – задумчиво процитировала я и объяснила уставившимся на меня в немом изумлении мужчинам. – Давным-давно, в десятом классе, учительница литературы, влюбленная в творчество Блока, утверждала, что стихи поэт посвятил Марине. Он тоже имел польские корни. Считался русским декадентом, но продался большевикам…
– Итак, – решительно возвысил голос Мур, перебив меня (продавшиеся коммунистам русские поэты его явно не интересовали), – ваше мнение специалиста, Эд: за дневник Марины Мнишек члены секретной польской группы могут совершить убийство?
– Так, – решительно кивнул головой Эд.
В комнате повисло молчание.
– Ну, хорошо, – поднимаясь с дивана и помогая мне встать, заключил Мур. – Благодарю за помощь и информацию. Извините за поздний визит…
– А что вы вообще знаете о самозванцах, Джон? – остановил Мура Эд.
Нам опять пришлось присесть. Эд молча ждал ответа, а мне подумалось – на глупый вопрос.
– Самозванец – это такой человек, который притворяется реальной исторической фигурой, предварительно убиенной, чтобы получить власть или вступить на трон, например, – по– школьному объяснила я.
– Хм. Это-то понятно. Но что роднит самозванцев всех времен и народов? – задумчиво протянул Эд Спенсер. – Знаете? Нет? Я вам скажу. Чувство альтруистического иррационализма!
– А? – растерянно переспросили мы в один голос.
– Альтруистический иррационализм, – нетерпеливо повторил Эд Спенсер. – Самозванцы, как правило, осознают, что ставят на карту свою жизнь, и никакой личной выгоды не ищут. По мнению историков, самозванцу Дмитрию что главное? Только доказать всем, что он – убиенный законный сын государя, рожденный в освященном церковью браке, а не подкидыш неизвестных родителей. Вот они и твердят нам четыреста лет, что в Лжедмитрии-де играет чувство уязвленного самолюбия. Но он не ищет выгоды. Он не может искать выгоды, потому что прекрасно знает (по мнению историков), что он – никто.
– Как это никаких выгод? – громко возмутился Джон. – Он становится наследником престола!
– Если добудет его. Каковы были его шансы? Невелики, опять-таки как долбят нам историки…
– Да-да, – опять нетерпеливо перебила я Эда. – Дмитрий был сыном то ли седьмой, то ли девятой жены сластолюбивого Ивана Грозного и не имел права на престол.
– Во-о-о-т! – так громко взревел Эд, что я от неожиданности чуть не уронила бокал. – А Дмитрий претендовал! Потому что с точки зрения самого Дмитрия – и что особенно важно, с точки зрения его врагов! – шанс у него был. Отнюдь не случайно, что польский король Сигизмунд поддерживает Дмитрия огромной армией, а пан Мнишек отдает замуж дочь. Шанс у него был! Не мудрено, что и Шуйские, и Романовы, и Милославские, и Годуновы – все сильные в те времена боярские кланы боялись его, царевича Дмитрия!
– Почему? – спросил Мур. – Почему его боялись? Почему у него был шанс?
– Потому что был, – отрезал Эд.
Очень милый ответ.
– Не понимаете? – Эд досадливо поморщился на наше тупоумие. – Все так просто! У царя Ивана Васильевича Грозного было три жены, а не семь. Мария Нагая венчалась с сыном Грозного, великим князем Иваном Ивановичем. Таким образом, Дмитрий был не сын, а внук Ивана Грозного. И отсюда вытекает только одно заключение: царевич Дмитрий Первый являлся законным наследником русского престола.
Я и Мур молча переваривали информацию.
– Ну, допустим, – неуверенно согласилась я. – Возможно. В конце концов согласна: семь жен явный перебор даже для царя.
– Да какая разница, сколько у кого было жен? – громко взвыл Мур, от его немецкой суховатой сдержанности не осталось и следа. – Семь, пятнадцать, сто двадцать девять! Какая разница-то? Мне нужно выяснить один вопрос – имеет ли эта вещь денежный интерес, из-за которого можно убить человека?
– Я это и пытаюсь объяснить вам, – опять нетерпеливо рявкнул Эд. – Дмитрия и Марину убили. Согласно всеми принятой исторической версии? Так?
– Так, – согласно кивнули мы.
– Кто убил? – несся Эд дальше.
– Кто? – дружно переспросили мы в один голос.
– Господи, как вы глупы! – застонал Эд, снимая очки с мясистого носа и с силой швыряя их на кофейный столик. – Новый клан бояр, рвущихся к власти – клан Захарьиных-Кошкиных-Романовых. Царский переворот, вот что интересно! Мать Михаила Романова расчищала для сына дорогу к престолу, а Марина мешала ей, потому что она своего сына Ивана Дмитриевича пропихивала на тот же московский престол! Трон один, а желающих усесться на него – два! Два! И она убила ее!
– Кого? – обалдело поинтересовалась я.
– Марину!
– Кто?
– Марфа!!
Я застыла с раскрытым ртом.
– Кто такая Марфа?
– Мать Михаила Романова!
– И она убила Марину? – утвердительно вопросил Мур.
– Именно! Она. Инокиня Марфа. После того как расправилась с Дмитрием и его семьей, по ее приказу стали уничтожать все документы, подожгли библиотеку, превратили несчастного царя Дмитрия в самозванца и беглого раба Гришку Отрепьева, а маленького царевича Ивана – в незаконнорожденного сына никогда не существовавшего Лжедмитрия II. Понимаете?
Честно – я ничего не понимала. Мы опять молча переглянулись с Муром – который раз за этот вечер! – и Джон недоумевающе пожал плечами.
– Нечего переглядываться! – прикрикнул Эд. – Хотите, расскажу, как все было?
Мы не решились перечить разгоряченному поклоннику Марины и согласно закивали головами.
Любитель старины вскочил и забегал по огромной гостиной, то и дело задевая ногой лежащий перед камином ковер. Я испуганно наблюдала за ним. Мур крепко держал меня за руку, но я ничего не замечала: во все глаза глядя на Эда, который все кружил и кружил как толстый разозленный мотылек по огромной, ярко освещенной комнате.
– Я расскажу все, что знаю о Марине, – несвязно бормотал он, от его прежнего спокойствия не осталось и следа, лицо разгорелось, слова обгоняли друг друга, и я с трудом понимала его скороговорку. – Может, мой рассказ покажется вам предвзятым… Возможно, я не совсем объективен… Исторически необъективен… Да, я не историк, но… Как вам объяснить? Я читал о Марине Мнишек много трудов, а потом наткнулся на тайное польское общество, которое собирает факты уже в течение четырех веков, подтверждающие законность престола Марины. О, снимаю шляпу перед инокиней Марфой! Я бы хотел поверить в машину времени и вернуться назад… на четыреста лет назад, только чтобы поговорить с ней, с неистовой инокиней Марфой! Она была умна. Все правильно рассчитала, замела следы, запутала историю! Я расскажу вам все, что знаю о ней… И о несчастной царице Марине… О польской красавице Марианне…
6. Бабья битва за престол
За дверями послышался шум шагов. Боярин Борис Борисович Суворцев с опаской покосился на царицу, но та лишь надменно прищурилась и уставилась на него заплаканными рысьими глазищами.
Боярин в который раз невольно умилился ее молодости. Эх, если бы послушался он родителей и не сох всю жизнь по Ксении свет Ивановне, вот и у него бы дочка такая же подрастала, утеха в приближающейся старости.
Всем раздражала Марина боярынь и даже сенных девок: и тем, что хороша была не по-московски – яркой, дивной красотой. И тем, что царь Дмитрий Иванович налюбоваться на нее не мог и не скрывал этого. Да, может, вела себя не всегда по строгим теремным законам, так не по злобе же. Девочка совсем, куда ей в царицы? Впрочем, никто при дворе эту молоденькую польку царицей не считал и не называл, кроме, наверное, его одного, боярина Суворцева. Не пришлась красавица-полька ко двору суровому Кремлю.
Марина бегала по дворцовым хоромам вприпрыжку, а не ходила степенно, как полагалось замужней женщине. Одежды носила только те, которые из Польши привезла. Разговаривая с седыми толстыми боярами, глаза дивные свои долу не опускала, смело глядела на стариков – так и плескал из них лазоревый свет и тронутые алым губки сами в улыбку складывались, взоры притягивая.
Тьфу ты! Грех, грех, соблазн-то так и прыскал во все стороны! Другой муж проучил бы жену за такое неприличное поведение, а царь Дмитрий только хохотал да баловал строптивицу безмерно.
А больше всех родовитые боярыни негодовали. Бабы все как взбесились. Ведьма, развратница, безбожница – только и слышалось шипение из всех углов. Сколько раз приходилось выслушивать от них жалобы да наговоры, сколько раз приходилось успокаивать разошедшихся – не сосчитать! И одевается-де царица срамно, и церковь-то нашу не почитает, басурманка польская, и поляков своих привечает, католичка порченная… Чтоб ей ни дня ни жизни! Небось и дед, и отец царя Дмитрия в гробах переворачиваются!
А может, и нет, думалось боярину в те минуты, слушая шепот женщин, разгоряченный злобой. Может, государь Дмитрий-то в прадеда пошел, пресветлого Великого князя Василия Ивановича.
Вторая его супруга царица Елена Глинская тоже из польской Литвы приехала да свела с ума стареющего царя. Так его приворожила, что Василий Иванович с первой женой развелся – это где же видано? – с кроткой бездетной Соломонией Сабуровой, в монастырь несчастную заточил, а сам бороду сбрил, каблуки нацепил и только сидел рядом с ослепительной Еленой, да в рот той глядел.
Вот такая же история повторилась и с правнуком Елены, Дмитрием Ивановичем, наверное, польская кровь заговорила в молодом царе… Борис Борисыч царя Дмитрия жалел: и в память покойного деда – царя Ивана Васильевича Грозного, и просто так, от сердца.
Все при московском дворе отличали боярина Суворцева за редкостную незлобивость и жалостливость. Может, благодаря этим качествам он и ухитрился пережить многочисленные кремлевские перевороты и остаться если не другом, так и не на ножах со всеми враждующими между собой кланами.
Сколько смут пережил боярин за последние шесть лет – самому страшно становилось, вспоминая. Не дай бог никому жить во времена перемен и междоусобных распрей, всегда думалось боярину, когда провожал он взглядом худенькую фигурку царицы Марины.
На престоле только сильный удержится – физически здоровый государь, за которым крепкая семья стоит. А лучше – две крепкие семьи: его и жены. А несчастный царь Дмитрий в Кремле один как перст был. Не имелось рядом ни отца с матерью, ни братьев крепких единородных, ни дядьев да шуринов до власти охочих и потому смотрящих за недругами зорче степных орлов.
Откуда же крепким родным братьям у Дмитрия появиться? Совсем мальчиком отправили Дмитрия в Литву от греха подальше бояре Романовы, в доме которых царевич воспитывался после смерти отца – царя Ивана Ивановича.
Ох, намутили много тогда Шуйские, трон пытаясь оттяпать у законного наследника. Бояр Романовых преследовали, с ближайшей родней царевича по матери, боярами Глинскими, воевали – все власть поделить не могли. А ранее Годуновы на трон претендовали и тоже Дмитрия извести пробовали. Шутка ли – убить малолетнего ребенка пытались! Успел мальчонка от ножа увернуться, хоть и порез сильный остался.
Повезло Марии Нагой, что брат ее старший Афанасий гостил в Угличе. Тот быстро сообразил – Годуновы в наступление пошли, силу почувствовали, раз на убийство решились. Афанасий царице приказал говорить всем, что Дмитрия зарезали, а сам бегом племянника в кибитку на руках отнес и погнал в Ярославль, коней не жалея.
Там англичанин Горсей проживал, в медицине хорошо смысливший. Не выходя из кибитки, крикнул Афанасий выскочившему на порог Горсею, что «дьяки» царевичу горло перерезали, царицу Марию отравили, а его самого мечом зацепили. Попросил для себя дать целебного бальзама от кровоточившей раны, да и был таков.
Горсей и двух слов молвить не успел, как пропала кибитка из глаз, только взметнувшейся из-под копыт коней густой пылью подавился. Понял англичанин, что Афанасий шкуру свою спасает, не до разговоров боярину было.
Только спустя несколько дней, когда разбирательство в Угличе устроили, и прошелестело в Ярославле, что никакого убийства не случилось – спасся царевич, пришло Горсею на ум, что, может, не для себя Афанасий Нагой настойку целебную просил, а для раненого племянника, коего в кибитке прятал?
Правильно догадался Горсей. Спрятали спасшегося царевича в Польше. Все сиротское детство и раннюю молодость провел Дмитрий в Литве да Польше, без отца-матери да без бояр ближних. Где ж ему было ума-разума набраться? На русском языке разговаривал он правильно, но уходя в покои любимой без памяти Марины, переходил на польский – легче ему так было.
Тут боярин Суворцев ухмыльнулся в седую бороду. Оно понятно, что приближенные постельники да дядьки злились. Сами-то по-басурмански не разумели, а подслушать разговоры царские ах как любили из-за дверей расписных да щелочек секретных. Вот и получалось, что ухо жадное до сплетен беседу государеву слышит, а понять не может. Ну как тут не осерчать!
Может, не надо вовсе было Дмитрию в Московию возвращаться?
Когда короновали его царем, Суворцев в великой радости пребывал – восторжествовала справедливость! А немного погодя, радость боярина стала меркнуть. В Кремле шепотки разные поползли, что, дескать, зачем нам такой слабый государь достался? Московии не знает, за веру православную не стоит – на польских штыках в Москву въехал, разрешил полякам Смоленск и Новгород захватить, в саму Москву нечестивцев-католиков пустил, да еще и жену-басурманку привез.
Выгнали бояре царя Дмитрия из Москвы. Потом опять вернули. И опять выгнали.
Три года царь Дмитрий миром пытался с московскими боярами договориться, но не получалось. Здоровье надорвал, бунты утихомиривая. Как-то простыл он сильно, не справился с огневицей, да и сгорел в несколько дней.
Царицу Марину после смерти Дмитрия Ивановича сначала почти с полгода держали под стражей в селе Коломенском, чуть голодом не уморили в сторожевой башне. Зимой темницу продували насквозь ветры, а летом от жары да духоты Марина сознание теряла. Никого к ней не пускали, письма от родни не передавали, никаких царских почестей не оказывали – и вдруг такие изменения! Опять в Кремлевские палаты перевезли! И хотя Марину не выпускали из дворца и к сыну малолетнему не допускали, хоть и просила она об этом постоянно, но не обижали и голодом не морили.
В Москве боярин Суворцев часто навещал царицу-вдову. По сердечному желанию с одной стороны. А с другой – не совсем по своей воле, а по тяжкой необходимости.
Многие бояре с расспросами к Борис Борисычу приставали об опальной царице. Другие только молча головами покачивали да в бородах длинных почесывали, гадали, может, и уладятся по-мирному скандалы? Ведь у Марины сын подрастал, наследный царевич Иван Дмитриевич, четыре годика мальцу исполнилось, шутка ли. И слава те, Господи! Война да смуты всем надоели, хотелось спокойствия, мира.
А что до грызни родовитых бояр за место престольное, так это издавна ведется, не нами придумано, не нам и отменять! Глинские, Шуйские, Годуновы, Романовы – все братья, кто от Дмитрия Донского, кто от Владимира Мономаха, кто от Александра Невского корни ведут, все родственными связями опутаны, да через браки детей повязаны.
Думал так и боярин Суворцев, думал да просчитался! И пришлось-таки, скрепя сердце, в один гадкий день ехать ему к царице Марине с поручением от суровой инокини Марфы, перед пострижением ее – своей свет-любимой Ксении Ивановны. И так муторно было на душе у боярина, что никак не мог он придумать, как же поручение Марфы выполнить, хоть и голову всю сломал.
Сидел он тогда в покоях царицы Марины, мямлил, а слова с языка не шли. Попал он по своей глупости как кур в ощип. Обрадовался, старый осел, приглашение получив от инокини, понесся к ней, думая, что пригласила она его к себе повидаться, а, может, и отблагодарить за радение и службу. Ведь когда бояре Романовы в опале были, Суворцев единственного сына инокини, Михаила, не оставил, был ему защитником.
Старый дурак ты, боярин Суворцев! Поделом тебе за твою дурость! Кому еще могла дать такое поручение неистовая Марфа? Конечно, кроме как тебе, некому, так как все знали: был боярин Суворцев мягок сердцем и дипломат искусный. Во время бунтов боярских только он один с враждующими сторонами договориться мог. И крепко любил Ксению-Марфу, всю жизнь, почитай, любил.
Много лет назад отдали его любимую за другого – богатого и родовитого Федора Романова. Брак несчастливым оказался и разводом закончился. Ксения постриглась в монастырь под именем Марфы, а Федор тоже принял монашеский сан и стал зваться Филаретом.
Позвала боярина Суворцева Марфа к себе в Новодевичий монастырь ласковым августовским днем. Солнышко пригревало шумевших воробьев на оконнице, и пахло свежим ветром и сырой землей.
Трапезничали они вдвоем в чистой монастырской келье. Марфа так нежно улыбалась боярину и все просила не обижать ее и отведать того и этого, подливала вина сладкого. А боярин всматривался в темные глаза инокини и не замечал ни морщинок на лице, ни отечной полноты ее. Осталась Марфа навсегда любимой и желанной, хотя вот уж почти четверть века прошло с того неудавшегося сватовства.
После трапезы, когда от обилия еды да сладких воспоминаний, боярина развезло, пригласила его инокиня «поговорить» с глазу на глаз. Усадила в мягкие подушки, крепко затворила дверь, присела рядом и дотронулась до руки холодными пальцами.
– Приезжала ко мне намедни княгиня Черкасская, – начала Марфа, не сводя пристального взгляда черных глаз с Суворцева, – жаловалась на… царицу. Дерзка, нахальна, не почитает старших. Да что от девки гулящей ожидать-то можно?
Суворцев только мигнул от неожиданных слов.
– Не дело Маринке в Кремле оставаться, – тихо журчала она в ухо боярево, почти касаясь его губами. – Какая из нее царица? Смех один! Второй Елены Глинской нам не надо, правда? Ты – дипломат знатный и человек добрый, не завистливый. Тебя она послушает. Убеди-ка ты ее, друг мой, уехать подобру-поздорову в Польшу свою басурманскую… со своим приблудышем.
У боярина вино пролилось на воротник из отвалившегося рта. Марфа подала ему белоснежное льняное полотенце и усмехнулась змеиными недобрыми губами.
– Бояре хотят нового царя, а не еретичку-жену расстиги-монаха на троне Московском видеть, – заявила она враз протрезвевшему боярину. – Понял ли?
Боярин обалдело помотал головой слева направо. Ничегошеньки не понял!
Марфа взяла из его рук полотенце и внимательно разглядывала винные красные капли на нем. Суворцеву показалось, что не вино на ткани расплылось, а кровь.
– Ох, и как тебе только удается с головой не расстаться. – протянула негромко Марфа. – Устали все от смут – сколько можно в самом деле пред расстригой да девкой его шеи выгибать, нам, наследникам Рюрика? Сына моего на царствие хотят – Михаила Романова.
Суворцев был так удивлен, что не обратил внимания на последнюю фразу инокини.
– Но при чем здесь расстрига-монах, матушка? – недоуменно пробормотал он.
– Как при чем? – удивилась ненадуманно Марфа и брови соболиные, пышные наверх взлетели. – Никак, царевич-то Дмитрий был убит еще ребенком – не помнишь разве, друг мой? – по приказу коварного боярина Годунова. Откуда же новому Дмитрию появиться? Муж Маринки – никому не известный монах Гришка Отрепьев, который в услужении был у нас. И вот как за все добро наше отплатил. Царевичем назвался. Какой он царевич? Расстрига Лжедмитрий, вот кто он такой.
У боярина и вовсе голова кругом пошла. Он даже икнул от растерянности.
– О каком Лжедмитрии толкуешь ты, матушка? Прости, стар стал. Не пойму тебя. Умер царь Дмитрий от огневицы, простудился да и сгорел в семь дней. Владыко Филарет сам причащение святых таинств давал больному государю, да заупокойную службу справил в Успенском соборе…
Инокиня опять усмехнулась – уголками тонких губ.
– А ты подумай еще разок.
Боярин выкатил глаза на инокиню. Тихонько ущипнул себя за руку под кафтаном. Может, спит он?
Ох, неожиданно пронеслось вихрем в голове Суворцева, завидует Марфа, люто, по-бабьи, молодости и красоте Марины. Из провинциального забытого Богом Кракова девочка волею судьбы в саму Москву златоглавую попала, в Третий Рим, да замуж по любви вышла – за царя! Муж-то Ксении Ивановны по молодости был гуляка и особого внимания ей не уделял, а царь Дмитрий в последний свой вздох имя жены вложил.
А может… не это главное? Может, инокине просто нужна неограниченная власть? Сладкая власть над людьми, страной? Сила, которая заменила ей все другие чувства?
Боярин пытался проникнуть в мысли женщины, спокойно сидящей напротив Суворцева и смиренно сложившей руки на коленках.
Текли минуты. Марфа заговорила снова, медленно выговаривая слова и не сводя черных глаз с застывшего на стуле боярина:
– Умер царь Дмитрий от огневицы, простудился да и сгорел в семь дней? Ан нет, неправильно ты, боярин, говоришь. Царь не умер. Потому что царя-то никакого и не было. Казнили мы на Болотной площади – не помнишь разве? – расстригу Гришку Отрепьева, который только величал себя царем Дмитрием. Я же толкую тебе – если царевича Димитрия в детстве убили, то откуда же царю-то Дмитрию взяться? Вот он и есть Лжедмитрий, который распутную польку привез да и зачал с ней приблудыша Ивашку.
У боярина Суворцева в голове зазвенели противные молоточки, а потом как железом раскаленным припекло затылок. Он невольно провел рукой по лбу, по глазам. С ужасом понял, что разговор этот – только начало чего-то страшного, во что и верить-то не хотелось. Уж кто-кто, а боярин за многолетнюю придворную жизнь знал – не к добру подобные разговоры, ох миром они не закончатся!
Вот ведь, племя бабское, а? Кому такое в голову прийти могло, если только не матери, бьющейся за своего ребенка?
Суворцев поднял несчастные, вмиг постаревшие глаза на Марфу. Волчица. За сына любимого, Михаила, любому глотку порвет. Вот, значит, что придумали.
– Но записи церковные, матушка? – только и смог боярин пролепетать растерянно. – Они же венчались, а…
– А что записи церковные? – прервала его инокиня. – Были, да не найдешь теперь. Пожары-то в Москве, почитай, каждый год случаются.
Борис Борисыч во все глаза смотрел на невозмутимо сидящую перед ним женщину, одетую в скромное черное платье. Господи, куда же мир-то катится? Ведь приняв монашеский сан, о делах мирских забыть надо, а здесь что происходит?
– Она никогда не согласится, – сказал он еле слышно, ненавидя себя за тихий лепет. – Кто же на такое пойдет? Признать, что вышла замуж за расстригу?
– А не согласится, тогда разговор другой пойдет с ней, боярин, – улыбнулась нежно Марфа. – Сам понимаешь, какой, или опять объяснять придется?
У боярина и дух перехватило. Он понял, слишком хорошо понял, что имела в виду инокиня Марфа.
– Но почему я? – еле выговорил он.
– Я ей шанс даю – ради тебя, – через силу, нахмурившись, ответила Марфа и отвернулась нетерпеливо. – За то, что ты сына моего охранял в страшные дни.
Вот такой разговор состоялся у него, старого дурака, с инокиней Марфой год назад.
Несколько раз приезжал боярин к Марине. И каждый раз лепетал неубедительно, что надо ей забирать сына и уезжать из Московии поскорее. Марина молча отворачивалась от него, и боярин убирался восвояси, давая себе клятву, что уж в следующий раз убедит глупенькую девчонку в опасности, которая грозит и ее жизни, и жизни маленького царевича!
– Моя дорогая государыня, – монотонно, в который раз гудел боярин Суворцев, морщась от отвращения к самому себе. – От Вас требуется только одно – признать, что ваш ребенок рожден от монаха-расстриги Гришки Отрепьева. И вы немедленно получите разрешение уехать в Польшу.
– Всего-то навсего, – шептала Марина, и чудные лазоревые глаза ее наливались слезами. – Мало ты просишь, боярин!
Как убедить ее? Где найти правильные слова, какими силами заставить законную царицу признать, что священного церковного брака не было? Лишить сына права на престол, а себя превратить в блудницу, в девку неизвестного расстриги, вознамерившегося стать Московским царем?
– Поверьте, дитя, я не желаю вам зла. Вы уедете домой, в семью, будете в безопасности, вы же молоденькая женщина, у вас все впереди – вся жизнь.
– Если мой ребенок рожден от неизвестного бродяги, то кто же буду я в глазах моей родни? Какая жизнь у меня будет? Какая жизнь ждет моего сына, если все будут знать, что он – бастард, а его мать – шлюха?!
Боярин Суворцев морщился от грубых слов. Да, это был самый уязвимый момент в разговоре.
– Вам не следует бояться сплетен. Мошенник обладал чудным даром. Уж если он сумел заставить вдовствующую царицу Марию Нагую поверить в то, что царевич Дмитрий жив и что он – ее воскресший сын…
Марина громко рассмеялась.
– Да кто ж в такую чушь поверит-то, боярин?
– Кому надо – тот поверит. Государыня, соглашайтесь, уезжайте. Если себя не жалеете, пожалейте малыша. Если не согласитесь на эти условия…
Марина опять повернулась спиной к боярину. Повисло тяжелое молчание. Еле слышалось дыхание молодой женщины да негромкое сопение Борис Борисыча.
Может, и согласится, надеялся боярин, вглядываясь в исхудавший силуэт Марины. Мать – она ребенка спасает, может и пройдет… Уедет, слава тебе, Господи, и у нас крови на руках невинных не будет.
Такая молоденькая – вот откуда все беды. Была бы постарше – и разговор был бы другой. А молодость – она самонадеянна. Дерзка, жестока порой, бескомпромиссна, но – беззащитна.
– Никогда я не признаю, что сын мой – незаконнорожденный. Он – внук Ивана Васильевича Грозного и сын царя Дмитрия Ивановича. Он – законный наследник престола русского. Ему на троне сидеть, – упрямо возвестила Марина.
Вот ведь дурочка, в тоске думал боярин. Ты здесь одна, тебе ли с инокиней бороться? Как котенка придавит, кто вступится?
Грустил боярин на широкой лавке под образами, не в силах вновь возобновить неприятный разговор. Марина подошла к нему, присела рядом.
– Когда крестили меня по православному обычаю, то дали мне имя великомученицы Марины, – тихо сказала она Борису Борисычу. – Не знала я ничего о ней. Ходила ко мне тогда монашенка Ирина из Вознесенского монастыря, помогала в чтении русского Евангелия. Она мне и рассказывала историю пресветлой великомученицы. Я наизусть те рассказы помню. Когда царь Дмитрий болеть начал, попросила я ее приходить ко мне почаще… Помнишь, как никто из бояр в опочивальню к болеющему не заходил? Все просто ждали, когда… – Марина не удержалась и горько заплакала, прислонилась худеньким плечом к Борис Борисычу.
Тот неловко обнял ее, у самого слезы защипали глаза. Как не помнить тех ужасных дней?
Во дворце стояла гулкая тишина, только еле слышно завывал ветер в печах пустынных комнат да стучал непрерывный дождь в окна. Царице дворня забывала обед накрыть, а маленький сын ее плакал один по ночам в холодной спаленке, пока Марина не приказала поставить кроватку у себя в опочивальне. Когда же государь Дмитрий отдал Богу душу, малыша забрали у нее, и сколько Марина ни плакала и ни просила сказать, где сын, никто не слушал ее.
Боярин гладил намокшие от слез золотистые волосы царицы.
– Бог терпел и нам велел, – мучаясь собственным бессилием, шептал он.
Марина выпрямилась, оттерла слезы и посмотрела прямо в глаза Суворцеву.
– Ты веришь в вещие сны, боярин?
Борис Борисыч неуверенно кивнул.
– Явилась во сне ко мне великомученица, чье святое имя ношу после крещения, – сказала она, и боярин медленно перекрестился.
– Она держала моего сына на руках, – медленно, с трудом подбирая слова, продолжала Марина и прищурилась, будто пытаясь разглядеть что-то в темноте сгущавшихся сумерек. – Море или река окружала их. Только вода была алого цвета, потому то как кровью оказалась. Ниже великомученицы стояли какие-то люди… Лиц их разглядеть не могла – темнота скрывала… Их было немного… Но я хорошо видела мальчика-подростка, тоненького, с ясными глазками. Еще стояла меж них одна женщина… Святая перевела взгляд нее – в самое сердце ее – и содрогнулась я во сне. Было сердце той женщины черно как ночь и твердо как камень…
Марина помолчала, а потом, не поднимая глаз, закончила тихо:
– Передай боярин инокине Марфе слова мои. Если тронут Романовы царевича, прольется кровь и их младенца. Рано или поздно – но прольется. Не мое это предсказание, а святой великомученицы.
В тот день боярин задом-задом выполз из горенки Марины и еле добрался до дома. В груди пекло, будто уголья раскаленные кто запихал внутрь.
О своем разговоре доложил он инокине Марфе, а та, услышав пророчество Марины, как с цепи сорвалась. Боярин не знал, куда себя деть от стыда за инокиню, прятал глаза. Он предпочел бы не слышать всего того, что она кричала в ярости.
– Дрянь, потаскуха, девка подзаборная! – бушевала Марфа. – Ишь, чего выдумала! Предсказание великомученицы! Будет тебе православная святая являться к выкрестам папским! Остаться царицей хочет? Останется, оста-а-нется, ох останется, дрянь, дрянь! Только женой холопа неизвестного будет, бродяги-расстриги, а не женой царя! Женой самозванца будет, ведьма! Ах ты, распутница проклятая…
Боярин отродясь не слыхивал подобных слов от инокини Марфы. Женщина она была суровая, кто бы спорил, на расправу скорая и на язык не сдержанная, но таких бранных слов не выговаривала. Боярин закрыл уши высоким воротником. «Господи, принесла же меня нечистая ко двору не ко времени, – тоскливо думал он и отворачивался, чтобы не видать бордового лица инокини. – Как бы родимчик ее не хватил, гневливую, ишь, сердешная как завелась».
Откричавшись и отплевавшись срамно, опять послала несчастного Борис Борисыча уламывать строптивицу Марину инокиня Марфа.
Боярин головой-то понимал, что задуманное Марфой провернуть было не просто. Как ни крути, а Марина – венчанная царица и ее сын, рожденный в законном браке, имеет все права на трон.
Переговоры затягивались. Марина твердо стояла на своем. Но всему приходит конец – сколько веревочке ни виться… Марфа закусила удила. Для сына, она была готова на все…
Прошло столько лет, а боярин до сих пор с ужасом вспоминал тот страшный день и корил, корил себя, что не настоял на отъезде Марины. В глубине души он был потрясен и возмущен бесцеремонной игрой боярского клана, считал, что государыне Марине не следует уезжать. Может, поэтому и не смог уговорить ее? Если бы он только мог понять тогда своей глупой седой башкой, насколько серьезно настроилась Марфа расчистить дорогу к трону своему сыну и… своему тщеславию!
Но история не признает сослагательного наклонения.
Опять и опять как в горяченном бреду возвращался он в тот день. Опять и опять видел себя и молоденькую Марину в дальней комнате, прохладном покое старого Кремля.
Марина сильно тосковала по семье и особенно по отцу, любимицей которого была. Боярин слушал ее, растворяясь в нежности звучавшего голоса, любовался ею. Слезы высыхали в синих дивных глазах Марины, а щечки заливал нежный румянец, когда вместо положенного «пани Марина» или «государыня», он говорил ей «дитя». Знал боярин, что следовало бы Марине быть погибче и попокорнее, но как и ее покойный муж, царь Дмитрий, не мог ничего приказать девчушке, а только мягко и глупо улыбался.
В тот страшный день, 17 июля, были ее именины. Принес боярин Суворцев ей подарок – икону великомученицы Марины в богатом тяжелом окладе да колечко заморское.
Марина подаркам обрадовалась, никто ее во дворце не жаловал и ничего не дарил. Икону почтительно поцеловала, а колечко сразу на пальчик надела. Хотел было боярин сказать девочке, что не ладно в день именин в басурманское платье рядиться. Ишь ты, руки голые, волосы непокрыты, на обнаженной шейке наверчены жемчуга в несколько рядов, невесомая фата спускается с гладко причесанной головки на плечи. А ведь в трауре царица. Но Марина так радовалась подарку, так вертела ручкой с колечком, что упреки не шли с губ боярина.
Кресла стояли у распахнутых настежь окон, откуда в покои врывался запах раннего июльского вечера и потухшего костра. Над засыпающим Кремлем спускались золотые сумерки.
В тот день боярин не начинал опостылевшего разговора об отъезде. Тихо, по-семейному долго трапезничали они, а потом молча сидели перед окном, наблюдая за гаснущей летней зарей да появляющимися в ночном небе первыми робкими звездами.
Вдруг за слегка прикрытой дверью послышался шум гневных голосов. Минуту спустя дверь пинком распахнулась, чуть не слетев с петель. Эта распахнувшаяся дверь разделила жизнь боярина на две части – собственно жизнь и жуткий кошмар, в коем пришлось ему существовать до того желанного далекого дня, когда смерть наконец-то смилостивилась и забрала его к себе.
На пороге появилась разгневанная инокиня Марфа. Суворцев и Марина враз соскочили со стульев и застыли, как испуганные дети.
– Празднуете? – прошипела по-змеиному инокиня.
– У государыни сегодня праздник большой, – пролепетал боярин в ответ, боясь, что Марфа начнет бесчинствовать словами, – именины у нее…
Борис Борисыч просто физически страдал от громких воплей, ссор, тяжб. Зачем кричать, когда можно договориться обо всем миром?
Марфа только губы презрительно скривила, а Марина спокойно обошла боярина как неодушевленный предмет и встала прямо пред разъяренной инокиней. Две пары глаз – черные, как ночь, и синие, как море, – впились друг в друга. Боярину показалось, что еще немного – и глазами испепелят соперницы все вокруг.
– Не зарезали тебя, девку гулящую, пожалели и щенка твоего пожалели, – вдруг сказала Марфа с сожалением, и боярин замер.
И тут не выдержала Марина.
– Ты говори-говори, а меру знай! – вдруг звонко крикнула она, и блеснули зло ее синие глаза. – Пока меня с трона никто не спихивал, а что жалеешь ты, что не кончили меня, про то мне ведомо!
Сам боярин – чего уж скрывать? – уж голова у него была седа, а побаивался он жену Филарета, суровую инокиню Мафру. А эта девчонка страха не знает – с волчицей сцепилась.
Вот ведь бабы, а? Не наследные цари, а их матери бьются за престол, аж искры летят, дерутся не на жизнь, а на смерть! Кто победит? Царица Марина с сыном-царевичем или инокиня Марфа с патриархом Филаретом, мужем бывшим? У Марфы прав нет никаких, зато клан Романовых, сильный, молодой, зубастый, стоит как уральская гора за ней с Михаилом.
Он покосился на застывших испуганными сусликами обомлевших прислужниц. Но махнула пухлой ручкой инокиня – и всех прислужниц царицыных вихрем вынесло из комнаты.
Тишина настала за раскрытым настежь окном. Только перекликались сонные вечерние птицы. Боярин почувствовал внезапную зависть к ним. Не знают они ни соблазнов, ни чувства власти или страха… Счастливые.
За оконцем середина жаркого лета. На лугах сочные травы поднялись. Хлеба наливаются силой. Ну что бы в мире всем пребывать? Зачем ругаться, что делить? Эх-х-х-х, матушки мои, все равно трон царский не возьмешь с собой на тот свет.
– Моя дорогая… пани Марина, – с опаской взглянув на инокиню, тихо начал боярин Суворцев старый разговор. – Соглашайтесь… Уезжайте…
– Дурочка, – почти нежно проговорила Марфа. – От одного боярского бунта милостью Божией спаслась, а как от другого спасешься?
– Не убили же, – дернула худеньким плечиком Марина. – Не рискнет никто руку на помазанницу Божию поднять.
– А сына не боишься потерять? – спросила вдруг Марфа.
Марина громко рассмеялась прямо в лицо опешившей инокине. Боярин незаметно перекрестился. Спятила, девчонка, помешалась. Марина смеялась и не могла остановиться.
– Сначала просишь признать сына незаконнорожденным, а потом его убийством угрожаешь. Если угрожаешь – значит, боишься? Сына моего боишься? А подумай-ка, княгиня, увезу сына своего в Польшу, да и начну всем говорить, что наследник он? Наобещать-то тебе могу сейчас до небес, а так ли дело буду делать дома под покровом родни? Ты слова не держишь – так и мне надо ли его держать? Так мне не все ли равно? Что терять? Если вернусь с ним в Польшу – не жилец он там, со сраму сгинет. И здесь не жилец! Так какая мне разница?
Княгиня презрительно сомкнула узкие губы, прищурила на Марину ледяные глаза. Ох, не то сказала девчонка, не то.
Боярин попытался исправить положение.
– Ладно, тебе смерть не страшна, но ребенок-то чем виноват? – тихо спросил он Марину.
– Вина его только в одном – в том, что он наследник, – твердо сказала Марина, глядя в злые глаза инокини.
– Насле-е-едник? – ядовито и удивленно протянула инокиня. – Чей наследник? Эк куда тебя занесло, матушка…
– Твоя же церковь и учит, – не обращая внимания на то, что ее прервали, продолжала звонким голосом Марина, – что невинные найдут успокоение у Престола Господня. Если уж сыну моему не суждено царствовать здесь, в земной юдоли, то пусть сядет ангелом у ног Господа. Теперь все равно…
Марина махнула на Марфу рукой и направилась к двери.
– Да, – тихо произнесла инокиня ей в спину. – Занесло тебя. Но права ты в одном: теперь действительно все равно. Ничего не исправишь. Ин, будь по-твоему.
Не от слов инокини, от ее интонации у Суворцев зашлось страхом сердце. Взглянул он в глаза инокини и в ужасе попятился – в тоске понял: проиграла Марина.
Быстрее хищного зверя на охоте метнулась Марфа к царице. Та оглянулась, вскрикнула испуганно. Миг – и окрасилось белое платье молоденькой женщины кровью. Как подкошенный сноп упала она у ногам Марфы, дернулась несколько раз и затихла.
Боярин в ужасе пятился, пока не упал на пристенную лавку, хватая ртом воздух.
– Зачем… Зачем так-то, – беззвучно шевелил он пересохшими губами и отмахивался от Марфы и хотел перекреститься, но рука тяжестью налилась и не поднималась, – грех, грех какой…
– Не понял ты, что ли, друг мой любезный, ничего? – спокойно ответила Марфа и бросила окровавленную спицу на пол.
Каплями крови был забрызган ее летник, и она брезгливо морщилась, размазывая эту кровь по светлой ткани, пытаясь стереть ее.
– Ведьма правильно тебе сказала: чтоб мы ни сделали – клин кругом. Ее сын и мертвый будет мешать нам и живой. Избавиться надо от памяти о них. Была холопка, безбожница – и нет ее, как и нет ее воренка. Слышь ты? Не царевича, а приблудыша!
Суворцев ничего не ответил. Он ожидал, что после такого страшного преступления инокиню поразит молния и рассыплется ее тело в прах. Подняла руку дерзкую на помазанницу Божию!
Но… ничего не произошло. Марфа стояла перед ним, спокойная, обжигая чернотой гневных глаз, по странности даже похорошевшая и помолодевшая от нервного румянца во всю щеку.
Свят, свят, спаси меня от нее, Царица Небесная!..
– Отвезешь Маринку обратно в башню. Да смотри, чтоб аккуратно все сделал! Через несколько дней объявишь, что задохлась от простуды. Все понял? Ступай!
Боярин сидел, не шевелясь, на скамье, и слезы так и текли по щекам, скатываясь по бороде вниз, капая на пол. Он вытирал их как маленький ребенок – рукавом.
– Уноси ее! – прикрикнула Марфа. – Вот мне только штаны вместо тебя носить!
Тело вынесли из покоев замотанным в старинный ковер.
Несколько месяцев спустя было объявлено, что жена самозванца Лжедмитрия польская безбожница Марина Мнишек умерла во сне, задохнувшись от грудной жабы. Ее несчастного сына вскоре повесили осенним изморозным днем. Трупик ребенка болтался на виселице несколько дней, но одной ночью исчез бесследно.
Так же бесследно исчез из истории царь Дмитрий и его любимая жена Марианна. Остались для потомков расстрига-монах да девка-распутница Маринка…
7. Информация к размышлению
Эд был потрясающим рассказчиком. Отступили кремлевские палаты и исчезли разгневанная Марфа с плачущим над бездыханным телом Марины боярином Суворцевым.
Мы с трудом вынырнули из прошлого.
– Вы прочитали это в дневнике Марины? – тихо спросила я Эда.
– Нет.
– Значит, просто догадки, – разочарованно протянул Мур.
– Не догадки, – уперся Эд. – Я знаю, что было все именно так.
Обратную дорогу мы провели в молчании. Мур подкинул меня прямо к дому. Сказал, что завтра пригонит мою машину со стоянки сам.
– Думаешь, это все правда, что рассказал Эд?
Я пожала плечами.
– Елизавета Ксаверьевна говорила про Марину, что она «заблудилась между столетиями». Как странно сложилась ее жизнь! Если версия Эда – правда, то понятно, почему полякам хочется исправить несправедливость.
Какой ужас остаться навсегда в истории женой противных распутных самозванцев. Потерять мужа, сына, жизнь, доброе имя… И если бояре Романовы действительно узурпировали власть и убили наследника, то немудрено, что они попытались «подправить» и исторические факты. А ты что думаешь?
– Ты замужем? – безразличным тоном вдруг вопросил Мур.
Вопрос застал меня врасплох. За подобное любопытство в Америке можно попасть на скамью подсудимых. Частная жизнь обсуждению не подлежит ни при каких условиях.
– Нет.
– Н-да? А вот у меня другие сведения, – прищурясь, объявил Мур.
– А ты что, жениться на мне надумал?
– Пока нет, – недовольно засопел Мур идеально-арийским носом. – И не надо так фыркать – не из праздного любопытства спрашиваю.
Естественно, нет! Просто использует служебное положение.
– Что, такой сложный вопрос? – поинтересовался Мур. – Обычно на него отвечают либо простым «да», либо категоричным «нет».
– Официально – да, замужем, но так – нет, – пробурчала я.
– Очаровательно, – восхитился Джон. – Так – это как?
Я тяжело вздохнула.
– Тебе обязательно и ЭТО знать? Что, сильно помогу следствию, рассказывая о своих мужьях? И ты найдешь убийцу, опираясь на информацию о моей замужней жизни?
Мур холодно кивнул.
Я стала вылезать из машины. Рассказывать ничего не хотелось, так как история выглядела немного запутанной.
В России я выскочила замуж восемнадцатилетней девчонкой. Нам тогда всем хотелось замуж скорее. Быстрее! А то опоздаем и превратимся в старых дев.
Сидящие на скамейках около подъездов тети Дуси и тети Клавы, имеющие в обозе неработающих, дерущихся, пьющих и дурно пахнущих мужей, закатывали в ужасе глаза:
– Девка, что ж, тебе уже девятнадцать, а ты еще неокольцованной ходишь? Кому нужна-то будешь через несколько лет, а?
В двадцать на незамужнюю вешали клеймо старухи Шапокляк, а в двадцать один величали распутницей и развратницей. Ну, оно понятно, своего мужика, бедняжка, не нашла, теперь уж вышла в тираж по возрасту, значит, с женатыми спит. Ату ее, бабы!
После того как мой муж-музыкант удрал в Москву и бросил одну в Штатах зарабатывать деньги, я с ним разговаривала от силы два раза уже после получения наследства. Попыталась напомнить о существовании сына и просила хотя бы поздравлять ребенка с днем рождения.
Официальный по бумагам московский муж клятвенно пообещал и пропал навсегда. Честно, после разговоров с ним у меня было ощущение, что съела тухлую жабу. Подавить отвращение я так и не смогла и поэтому решила спустить все на тормозах и на развод не подавать. Кому в Америке дело до штампа в просроченном советском паспорте? Тем более, что свою девичью «княжескую» фамилию я не рискнула поменять на мужнину и так и не стала Коровиной.
Вацлав, о котором сейчас ревниво вопрошал Мур, был школьным другом старшего брата и соседом по московской квартире. Он эмигрировал раньше всех вместе со своей двоюродной сестрой Машкой.
Вацек сказал мне о решении уехать на школьном выпускном вечере. Я сидела между ним и братом и умирала от духоты. На улице собиралась гроза, и в зале нечем было дышать. Все ждали конца длинных нудных речей и мечтали выскочить на воздух, на травку.
– Лиз, я в Америку сваливаю, – еле слышно прошептал мне на ухо Вацлав.
Стоял 1987 год. Слово «Америка» было полузапрещенным.
– Родственник объявился, троюродный дед по матери. Вовремя уехал на заработки. Свалил из Советов прям перед самой войной. Из Литвы. Приглашает. Уеду я отсюда. Жизни нет.
– А там будет?
– Будет.
– Уверен?
– Хуже не будет. А здесь что? В Армию? В Афган? Благодарю покорно. Мне жизнь самому нужна.
Когда я приехала в Калифорнию по приглашению Галки, Вацлав и Машка уже устроились, получили гражданство и неплохо зарабатывали.
Маша как-то быстро и ненавязчиво стала мне верным другом, тем, о котором дедушка говорил «с ним пойду в разведку». Она не клялась в вечной дружбе, а просто помогала по мере сил и возможностей.
Она помогла мне и тогда, когда я совсем потеряла голову, оставшись одна в чужой стране без денег, работы и официального статуса. Загранпаспорт потеряла, обратный билет в Москву был просрочен.
Маша позвонила мне, и я, не сдержав рыданий, поведала, что сплю в машине, которую одолжила на некоторое время у Галины, что я безработная, бесстатусная и безденежная. В то время Машка училась в Филадельфии и ничего не знала о моем бедственном положении.
– А где Вацлав? – зловеще поинтересовалась она, когда я немного успокоилась и смогла более-менее внятно отвечать на ее вопросы.
У Вацлава была своя жизнь, и я не собиралась садиться ему на шею.
– Понятно, – также зловеще протянула Машка и строго-настрого приказала завтра же встретить ее в лос-анджелесском аэропорту.
На следующее утро после ее приезда объявился злой как черт Вацлав.
– Не могла все согласовать со мной? – раздраженно поинтересовался он. – Обязательно надо было жаловаться Машке?
Не слушая оправданий, впихнул в машину и отвез в Санта-Ану. Там Вацлав мгновенно расписался со мной в суде и я без промедления получила все официальные бумаги, как жена американского подданного.
Вскоре познакомилась с Елизаветой Ксаверьевной и переехала к ней, появились деньги, мама выслала с оказией внутренний русский паспорт, чтобы оформить новый заграничный в посольстве. На сына бывший муж не претендовал, он остался с моими родителями в Москве, пока я не утрясла все формальности. И жизнь по-тихоньку наладилась.
Машка не взяла с меня ни копейки за расходы, хотя я предлагала, и не раз, отдать долг, а с Вацлавом мы так и не развелись – как-то так получилось, а честно говоря – лень. И всего-то нужно было заполнить одну бумажку и выслать чек на 100 долларов, но нас жутко ломало. К тому же после смерти Елизаветы Ксаверьевны Вацлав серьезно заявил, что так будет безопаснее. Дескать, Лиза стала состоятельной дамой, могут появиться альфонсы и проходимцы, а так, прежде чем принимать решение о замужестве, я должна буду «переговорить», то есть другими словами, развестись с ним. Вацлав не хотел отдавать меня замуж за кого попало.
– Интере-е-есно, – противным голосом протянул Джон. – Значит, у тебя два паспорта – русский и американский и два мужа – один в Москве, а другой в Лос-Анджелесе. Все официально, все законно. Лихо. Не ожидал от тебя такой прыти, Бетти. С ума сойти! Два мужа! Мормоны отдыхают.
– Это только по бумагам, – возмутилась я. – А так не имею мужей, то есть мужа.
– А если захочешь вступить в брак еще раз?
– Тогда нужно будет развестись, – сердито буркнула я.
Действительно, ситуация вырисовывалась какая-то не совсем приличная.
– С обоими? – ехидно поинтересовался господин полицейский. – Или в зависимости от страны обитания жениха?
– Хватит, – я решительно вылезла из машины. – Больше эту тему не обсуждаем. Я тоже хотела тебя кое о чем расспросить. Как ты оказался в «Хилтоне»? По работе? Ты уже тогда что-то подозревал?
– Все расскажу, но только есть ужасно хочется, – прервал меня Мур. – У тебя перекусить ничего не найдется? С позавчерашнего вечера в «Хилтоне» ничего не ел, только кофе наливался.
Бесконечный день никак не желал заканчиваться. Дома меня ждал недочитанный Вольфрам Флейшгауэр и теплая лохматая Фрида в постели, но Мур как тень следовал за мной, бубня, что жутко голоден и готов съесть целого быка.
Я тихонько открыла входную дверь и прижала палец к губам – в доме все спали. В холле горел ночник, но я вовремя ухитрилась увидеть Фриду, скатывающуюся вниз по лестнице и в последнюю минуту сумела сжать ей пасть, чтобы она лаем не перебудила весь дом. Фрида радостно стонала и повизгивала, пытаясь выдернуть морду из рук.
Пыхтя от напряжения, мы протащили собаку на кухню. Я прикрыла дверь, выпустила собачью морду и поставила чайник.
– Так как ты оказался в «Хилтоне»? – делая бутерброды, опять спросила Джона.
– Корпоративная вечеринка, – бодро соврал Мур.
– У полиции бывают корпоративные вечеринки? – страшно удивилась я.
Мур ретиво помотал головой. Так машет башкой кобылка моего сына, Люси, когда отгоняет надоедливых мух. Ясно, Джон никогда не скажет мне правды. Корпоративная вечеринка – и баста!
– Я тебя вот что еще хотела спросить. А как ты узнал, что дама завещала мне конюшни? Разве полиция имеет право вскрывать завещания?
Джон выразительно посмотрел на меня.
– Ах да, она ведь твоя бабушка… Послушай, Мур, я решила отказаться от наследства в пользу родственников. Понятия не имею, что делать со скаковой лошадью стоимостью в полмиллиона.
– Не получится. Конюшня находится под контролем Trust’a, вернее, его контрольных акций.
О-о-о, разговор опять свернул на финансы. Американцев хлебом не корми – дай порассуждать о дебитах-кредитах-профитах. Для меня же любые вариации темы бизнеса и денег хуже самой свирепой зубной боли.
– Ничего не понимаю в акциях, – с отвращением пробормотала я. – И понимать не хочу.
– Это очень просто, объясню…
– Потом, – с нажимом сказала я.
– Хорошо, потом, – неожиданно мирно согласился Мур.
– И все равно не понимаю, почему не могу отказаться от наследства в твою пользу, например?
– Двадцать восемь процентов всех акций принадлежит Trust’у, – нетерпеливо вырывая у меня тарелку с бутербродами, отозвался Джон. – Сорок два процента – тебе… М-м-м, как вкусно…
Я сделала в уме математические подсчеты.
– А оставшиеся тридцать?
Не отвечая, Мур не спеша и с видимым удовольствием поглощал бутерброды, откусывая огромные кусищи мощными белыми клыками. Я только с надрывом вздохнула: страсть американцев к жевательному аппарату достойна восхищения и подражания. Что касается меня, боюсь даже перед дантистом открыть рот – обморок доктора обеспечен.
– Не боишься, что отравлю тебя, господин комиссар? – сердито спросила Джона, отбирая пустую тарелку и ставя нарезанный яблочный пирог. – Ты на меня позавчера так рычал, как будто я – серийный убийца.
– Не боюсь, – беспечно ответил Мур. – Смотрю за тобой в оба глаза.
Ха! В оба глаза!
– Это твое настоящее имя – Бетси? – Джон пробурчал вопрос с полным ртом, запихнул огромный кусок сладкого пирога Фриде в пасть, а другой – себе в рот и теперь аппетитно пережевывал его.
Я автоматически сделала замечание:
– Не давай собаке сладости. И не разговаривай с набитым ртом.
Мур засмеялся, а я смутилась. Вот что значит дети в доме, двое мальчишек десяти и одиннадцати лет и старший неженатый брат. Незаметно превращаешься в домоправительницу Фрекен Бок и всех строишь. Даже суровых полицейских.
– Нет. Меня зовут Лиза, – неловко пробормотала я, отворачиваясь.
– А знаешь, какое имя записано у меня в свидетельстве о рождении?
Я с любопытством уставилась на Мура.
– Джованни Ральф Мургенштайн! – торжественно возвестил Джон.
Шутники были родители Джона. Джованни Ральф Мургенштайн, это же надо, сразу и не выговоришь. Я хмыкнула.
– Фамилия отцу осталась от деда-немца. Бабушка же хотела дать итальянское имя – в память о своих предках. Родители сдались, но в школу записали под фамилией Мур. И я превратился в Джона Мура.
– Ты по-итальянски понимаешь? – заинтересовалась я.
– Очень плохо, – признался Мур. – Понимать – понимаю, но когда говорят медленно, а сказать вообще связно могу только две-три фразы… Бабушка пыталась научить меня изъясняться по-итальянски, но кто в детстве слушает своих бабушек?
Это правда. Каждый раз со скандалом заставляю детей заниматься русским языком. Они находят тысячи уловок, чтобы избежать занятий, но в этом вопросе я крепка как гранит в Московском метрополитене – в старости хочу с собственными детьми разговаривать на родном языке.
– Мур, ты мне так и не ответил, кому принадлежат оставшиеся тридцать процентов акций?
– Налей водички, – перебил меня Джованни Ральф Мургенштайн и нетерпеливо сунул пустой бокал прямо мне в нос.
– Так кому?
– Что – кому?
– Кому принадлежат оставшиеся тридцать процентов?
Я начала дико злиться. Мур мастерски выспросил у меня всю интересующую его информацию, но сам виртуозно избегал ответов на мои вопросы.
– Кому?!
– Мне, – спокойно ответствовал Мур. – Не кричи.
Я застыла посреди кухни с пластиковой бутылкой коки в руках.
– Ну почему же твоя бабушка в таком случае не оставила ТЕБЕ полный контроль над конюшней и этого, как его, Ахиллеса?
– Ассуара Арахиста. Не знаю. Опасалась, наверное, – ответил Мур и ревниво потянул литровую бутыль к себе.
– Чего? Чего она опасалась?
– Не знаю! – вдруг сердито рявкнул он. – Если бы знал, не пришел бы к тебе с вопросами!
– Ты связываешь убийства с конюшнями? – помолчав, спросила я опять, заставив себя подождать, пока Мур доест сладкий пирог.
Джон допил не знаю какой по счету стакан гадкой ледяной коки и посвистал с задумчивым видом. Удивительно, как, поглощая такое количество сахарной воды, он сохранил крепкие белые зубы.
– Нет, Лиза, не связываю.
– А как погиб тот парень в гостинице? Моргулез? Или это секрет?
– Какой там секрет, – с отвращением махнул рукой Мур. – Ножевое ранение. В брюшную полость. Если бы его обнаружили раньше, может, врачи и спасли бы. Рана была глубокая, но не смертельная, он потерял сознание от боли и по-глупому истек кровью. Не похоже, что его убийство планировали.
– Убийство в состоянии аффекта? В гостинице?
– Какой толк спрашивать меня? – опять стал злиться Джон. – Я знаю не больше тебя. По моему мнению, убийство было спонтанным, предположительно во время ссоры. В любой момент в залу мог заглянуть гость. Ты, например…
Я поежилась. Пришла на вечеринку отдохнуть и могла запросто нарваться на убийцу. Жуть.
– Ты ведь никого не видела в коридоре?
– Никого, – согласилась я.
– Мы допросили весь персонал. Никто никого не видел.
– А гостей?
Мур только тоскливо вздохнул.
Понятно. У каждого гостя есть свой персональный адвокат, который сделает все, чтобы его клиента не побеспокоила надоедливая полиция. К тому времени, когда гости дадут более-менее внятные показания, время будет упущено, дело закрыто и сдано в архив.
– Чтобы быстро раскрутить убийство, нужны мотивы, – сказал Мур. – Почему убили Давида Моргулеза? Кому была выгодна смерть моей бабушки? Мне? Тебе? Возможна ли связь насильственных смертей двух людей с прошлым Елизаветы Ксаверьевны?
Да, на эти вопросы ответить нелегко.
Я прикрыла дверь и включила телевизор. Мур удобно устроился на кухонном диванчике и задремал; около его ног мирно захрапела Фрида.
Я не торопясь мыла посуду, думая о том, что нам сегодня вечером рассказал коллекционер-любитель Эд.
Итак, Эд высказал предположение, что царевич Дмитрий был внуком, а не сыном Ивана Грозного. Тогда понятно, почему все поверили так называемому Лжедмитрию. Если предположить на минуту, что царевич погиб в ранней юности, как жужжат историки, и пан Мнишек прекрасно был осведомлен об этой трагедии, то у самозванца все равно была сильная карта в руках – он отстаивал право на престол царевича, родившегося в законном браке.
Но если отталкиваться от официальной версии маститых историков, что у Ивана Грозного и в самом деле было семь жен, то получается какой-то бред.
Версия Эда до гениальности проста и логична. Раз седьмая жена считалась обыкновенной сожительницей, то и ее дети не могли претендовать на трон. Но, если Дмитрий – внук Грозного, то тогда все встает на свои места. Марианна Мнишек согласилась на брак, потому что венчалась с настоящим или подложным, но все равно внуком Ивана Грозного.
Продолжая разгребать грязную посуду, я задумалась и о том, что смущало лично меня (и о чем не успела сказать Эду), а именно: почему-то все оставленные очевидцами свидетельства жизнеописания Дмитрия относятся к годам, датированным после рокового 1613 го, то есть после воцарения династии Романовых. О чем же повествуют «очевидцы»?
Оказывается, Лжедмитрий был страшным уродом. Хромым, горбатым, беззубым, кривым, с бельмом на глазу, рябым да еще и с двумя огромными бородавками – на носу и под глазом. Гуляка, кривляка, бил Марину смертным боем, бегал «налево» и насиловал ее прислужниц. А еще по воспоминаниям ближних бояр Дмитрий «есть царь поганый: не чтит святых икон, не любит набожности, питается гнусными яствами, ходит в церковь нечистый».
Не слишком ли много отрицательных черт для одного человека? Могу с радостью допустить, что Дмитрий, любил погулять и попьянствовать с женщинами легкого поведения… Но чтобы и то, и другое, и третье вместе взятое?
Кстати, если вы найдете минутку и посмотрите на прижизненную гравюру Дмитрия-Лжедмитрия, то увидите серьезного молодого темноволосого человека в тяжелых средневековых доспехах. Никаких горбов и бородавок. Напротив, очень стройного. Два глаза на том месте, где им и положено быть. Бельма тоже не видно. В целом, гравюра производит очень приятное впечатление. Может, не писаный красавец, но отнюдь и не урод.
Однако если вы посмотрите на портрет, сделанный спустя почти сто лет после его смерти в 1698 году, то обнаружите удивительнейшую метаморфозу. С портрета взирает новый Дориан Грей – лохматый старик с порочной полуухмылкой на губах, обвислыми щеками и глубокими морщинами. Про такого можно смело сказать – какая отвратительная рожа. А ведь Дмитрию было всего 20 лет, когда тот прибыл в Московию и если правил он, как вопиют «исторические» источники, шесть лет, то в день кончины в 1606 году ему было всего 23 года! Так почему же на гравюре его изобразили шестидесятилетним стариком?
Я осторожно перешагнула через длинные ноги сладко спящего Мура, выключила бубнящий невесть что телевизор и принялась запихивать в автомойку бесчисленные тарелки, стаканы и чашки.
До того дня я очень плохо разбиралась в истории древней России, а уж о Смутных временах Дмитрия Самозванца вообще слышала только краем уха, в рамках школьного учебника. Смерть любимой Елизаветы Ксаверьевы и немыслимые обвинения Мура заставили меня набраться терпения и порыться в исторических мемуарах.
Судя по запискам очевидцев и современников, несчастного царя Дмитрия убивали несчетное количество раз, а он, как птица феникс, с упорством, достойным восхищения, воскресал из мертвых.
Первое убийство произошло в мае 1606 года. Тело убитого юноши-царя, по официальной исторической версии уже Лжедмитрия I, сожгли и его останки закопали на неизвестном кладбище.
Спустя некоторое время непонятным образом сожженный царь воскрес, превратился в дряхлого старика, перебрался в село Тушино вместе с женой, двором, митрополитом Филаретом и превратился в Лжедмитрия II. Оттуда он писал указы и направлял войска против боярина Василия Шуйского, незаконно засевшего в Кремлевских палатах.
Дождавшись известий о том, что соперник и конкурент Василий Шуйский умер или отравлен, холодным зимнем днем в декабре 1610 года старец Лжедмитрий II, наверное, потеряв голову от счастья, что скоро опять вернется в Москву, выехал на охоту один-одинешенек, без свиты и стражников. Там он и нашел смерть, но не от клыков разъяренного кабана или рогов бешеного оленя.
Все было гораздо прозаичнее – безымянный брат отомстил царю за поруганную честь такой же безымянной сестры, отрубив сластолюбцу голову. При этом неизвестный впал в такое неистовство, что иссек тело саблей, сильно изуродовав.
Но неугомонный царь опять воскрес. Сожженный, с отрубленной головой он превратился в Лжедмитрия III, и опять царица Марина, верховные бояре, армия, церковь, ближайшее зарубежье признали в нем царя Дмитрия Ивановича.
Кто управлял страной между 1610-м и 1613 годами покрыто мраком неизвестности. Но странно помолодевшего, с вновь отросшей головой царя Лжедмитрия III, историки на это время загнали за Дон, потом на Яик, присвоили ему имя атамана Заруцкого, не забыв, естественно, превратить вдову двух предыдущих убиенных Лжедмитриев царицу Марину в официальную жену этого самого атамана.
В 1613 году сразу же после воцарения Михаила Романова – одного из дальних родственников первой жены царя Ивана Грозного Анастасии Романовны Захарьевой-Романовой, и, стало быть, законного государя – битва с Лжедмитриями была закончена. Атамана Заруцкого посадили на кол в Москве на Красной площади, при огромном стечении народа.
У-ф-ф-ф-ф! Нагромождение самозванцев, их вдов, которые мифическим образом превращались опять в жен, и резюме специалистов – Смутные времена – за которыми можно благополучно похоронить любые правдивые или лживые рассказы.
А, может, права Елизавета Ксаверьевна? Что она говорила? «Не было никаких Лжедмитриев, Лизонька. Марина Мнишек стала законной женой царя Дмитрия I». Но тут возникает другой, не менее коварный вопрос.
Допустим, Елизавета Ксаверьевна права и внук Ивана Грозного царь Дмитрий имел все права наследовать престол. Но как в таком случае боярам Захарьиным-Романовым удалось узурпировать власть без борьбы с другими сильными кланами и, главное, – православной церковью? Что же, церковь и Московский патриарх дали согласие на казнь царя с наследником, что ли? Посадив одного на кол и повесив другого? Что-то тут не так. Не верится, не связывается, не сходится…
Что еще сказала Елизавета Ксаверьевна перед смертью? Ее отец нашел подлинный исторический документ, подтверждающий права Дмитрия? Так где же он, этот документ?
Я оглянулась и с сомнением посмотрела на дневник Марины, желтевший открытыми страницами на кухонном столе. Нет, не похож он на документ, о котором почти восемьдесят лет назад вел разговор Николай Николаевич с Алексеем…
Часы пробили два ночи. Фрида вскочила, с громким лаем бросилась к дверям, лапой распахнула их и исчезла в темноте холла. От неожиданности я вздрогнула и уронила мыльную тарелку на каменную плитку пола. Мур проснулся и стал нервно вылезать из-за стола.
Через несколько минут на кухне нарисовался мой брат, сильно навеселе.
– Есть хочу! – заорал он, швыряя измятый пиджак на стул.
Пиджак стоимостью с месячный заработок среднестатистического американца, до стула не долетел и плюхнулся на пол.
– «Угощайте меня всласть имбирным пивом с креветками, а хотите – красным вином с фигами»!
Раз брат говорит о фигах, значит, подписал очередной денежный контракт. Если нет, то о креветках с вином не заговаривал бы, а мрачно гремел суповыми кастрюлями, брезгливо фыркал на замечания и злобно огрызался на любые вопросы.
Еще через несколько секунд в дверях появилась заспанная физиономия Вацлава, а за ним – свежее личико Галины. Надо же, а я была уверена, что Галина уехала, а Сергей спит давно без задних ног.
– Угощу тебя просто фигами без вина с креветками, – буркнула я, вновь открывая огромный холодильник.
– Ха! Фигами! Ты только этим и занимаешься! Чего от тебя еще ожидать? – веселился брат.
Мур не понимал нашего веселья и привстал, чтобы поздороваться.
– Джон Мур, – представился он Галине, а потом ребятам.
Галка тут же стала кокетливо щуриться, Вацлав полез в бар, а я, сославшись на усталость и головную боль, быстренько ретировалась. Надеюсь, когда до Сергея дойдет, кто такой Джон Мур, они не передерутся.
Спала я как убитая, без сновидений, и проснулась только около полудня в полнейшей тишине.
Дома никого не было. Осеннее солнышко заглядывало ко мне в спальню. На улице у соседей слабо жужжал мотор – садовник подрезал траву газонокосилкой. Из окна тянуло свежей травой и теплым ветерком.
Я, не умываясь, прошла на кухню и не торопясь позавтракала, отдыхая от марафона предыдущих событий. А потом решила позвонить Машке в Лас-Вегас узнать, как ее дела и поздравить с днем рожденья.
Машка вяло подавала односложные реплики, что было совершенно не похоже на нее.
– Может, приедешь? – спросила она. – На пару дней?
– А ты можешь взять выходные? – страшно удивилась я.
Машка работает как зверь в какой-то финансовой компании, мотается по всему свету, сделав весьма приличную карьеру на зависть многим ленивым американским клеркам. Выходных у нее, как правило, нет. Как нет праздников, больничных листов, мужа, детей и постоянного любовника.
– У тебя что-то случилось? – озадаченно поинтересовалась я.
– Да. Нет. Или да. Приезжай, расскажу, – как-то рассеянно ответила Машка, и я заволновалась.
– Маша, со здоровьем все в порядке?
– Лиза, – крикнула Машка, но тоже как-то без запала. – Приедешь – расскажу.
Лас– Вегас совсем недалеко от Лос-Анджелеса.
– Буду ближе к вечеру, хорошо? – сказала я и побежала наверх паковать сумку.
В разгар сборов и разговоров с Лерой, которую попросила посидеть с детьми пару дней, позвонил Мур. Я как раз собиралась выгулять Фриду.
– Лиза, где мы можем встретиться на пару минут?
– Cобаку вывожу на прогулку, но если хочешь могу подождать тебя дома, – пытаясь пристегнуть поводок и отбиваясь от оживившейся Фриды, пропыхтела я.
– Нет, у тебя дома я не хотел бы, – как-то неуверенно проговорил Мур.
– Тогда давай минут через пятнадцать в скверике перед Good Shepherd?
– Это католическая церквушка напротив Родеро Драйв, что ли?
– Да, беленькая такая. Припаркуйся на Родеро, улицу пересечешь, и я буду ждать тебя у центрального входа…
– Лиза, я могу припарковаться, где мне удобно, – неожиданно сварливо отозвался Мур, – по служебной необходимости, знаешь ли.
Совсем забыла, он же рулит на полицейской машине.
– Устроит тебя? – миролюбиво спросила я.
– Вполне, – ответил Мур и добавил таким же противным тоном: – Ты бы мне еще, невеже американскому, объяснила, чем это место привлекательно для туристов.
– Потому что там отпевали Синатру, – на автомате ответила я.
Мур весело хмыкнул и отсоединился.
Ускоренной трусцой мы побежали к месту встречи. Я едва поспевала за весело скакавшей впереди меня Фридой. Интересно, и чего так злиться? Можно подумать, все американцы знакомы с достопримечательностями Голливуда.
Мне припомнилось, как Галина попросила отвезти ее на очередное свидание. Встречу назначили на знаменитом Бульваре Сансет, но название выбранного ресторана мне ни о чем не говорило, и я предложила ее поклоннику, на мой взгляд, прекрасную альтернативу.
– Я подброшу Галину к бару Роки и оттуда же заберу. ОК?
– Это где ж такой? – обмер мой собеседник.
– На Сансет– Бульваре, – озадаченно ответила я.
Оказалось, что Галкин воздыхатель ни разу не слышал об этом баре. А ведь там прошло первое свидание легендарной Мэрилин Монро с не менее знаменитым Джо Ди Маджио.
– А еще в Лос-Анджелесе живет, – упрекнула я подружку в «дикости» ее ухажера.
– Так он же не актеришка беспородный, а финансовый магнат, – вызверилась Галка.
Когда мы с Фридой добежали до сквера католической церкви, Мур уже поджидал нас. Я с отвращением увидела, что он с удовольствием поедает фастфуд.
Мне тоже был предложен сэндвич, приготовленный в антисанитарных условиях «Макдональдса» и напичканный ядами и токсинами, от которого я решительно отказалась. Фрида же сладострастно умяла жареный картофель и, умильно глядя на Мура, уселась около его ног. Продажная плюшка!
Аппетитно жуя отвратительно воняющий жиром гамбургер, Мур протянул мне несколько измятых листков.
– Это что такое?
– Перевод с латыни дневника твоей Марины.
– Какая оперативность, – искренне восхитилась я, но Мур посмотрел на меня с подозрением.
Я бегло просмотрела напечатанное.
– Это все? – разочарованно спросила я. – Может, переводчик что-то не так понял?
Мур забрал мятые листки.
– Не похоже, что убийства произошли из-за этой информации, – протянул он.
– Может, здесь засекреченный шифр и нужно читать каждое второе слово или вообще читать справа налево? – предположила уныло я.
– Можно попробовать, но сомнительно.
Мур еще раз просмотрел листки и прочитал вслух:
«Поведаю тебе о том, что может выдержать слабая женщина, и о том, чего не сможет выдержать сильный мужчина…
В Самборе в доме отца моего, пана Мнишеха, жил с юных лет царевич Димитрий, с которым воспитывали нас вместе и за которого вышла я замуж в семнадцать лет…
Обручение наше в Кракове пало на ноябрь месяц, 12 числа, 1605 года, 8 же мая 1606 года бракосочеталась я с царем московским Димитрием Иоановичем в Москве…
При рождении нарекли меня Марианной, и муж мой так называл меня, но крестили в Московии по православному обычаю пред венчанием на царство и дали имя Марины в честь великомученицы христианской пресветлой Марины…
Отец мой, славный пан Мнишех, любил меня крепко и не хотел отпускать в Московию, но сдался на горячие мои мольбы. И плакал при расставании и целовал меня…
В Москве пред венчанием посетили мы инокиню Марфу и она целовала меня и благословляла меня и сына своего Дмитрия Ивановича. Оставались мы у нея несколько часов и привечала она нас ласково и угощала превкусно…
Жили мы в миру до бунта боярского, страшного и потом бежали с мужем моим, Великим Государем, и много тяжких дней имели…
Желанный и долгожданный сын наш родился в холодном декабре 1610 года и нарекли мы царевича Иоанном в память о великом царе Иоанне Васильевиче и великом царе Иоанне Иоанновиче…
По великой Божьей милости муж мой боярские бунты укротил, и вернулись мы в Москву престольную. Но сильно здоровье подорвал мой горячо любимый муж, пресветлый царь Димитрий Иоанович, и заболел недужно и говорил мне при прощании: «Не плачь обо мне, голубка моя, но позаботься о сыне нашем и наследнике».
Не успела слез осушить я после кончины любимого моего мужа, как отобрали сына моего единственного и заточили меня в Кремлевских палатах, а сына не знаю где…
А быть ли мне убитой в Москве ли в Коломне ли или Калуге, про то мне не ведомо…
И вспомнила я, что когда покидала отца и родину, то сказала мне одна гадалка при прощании и про то не знал отец мой любимый, а знала только сестра Урсула, которая клятвенно обещала мне на Святом Распятии никому о том пророчестве никогда не говорить… Лететь, тебе, светлая пани, в обе стороны с двуглавым орлом, а игла державная сквозь глаз твой пройдет…»
– Это все? – разочарованно спросила я. – Похоже на подделку.
– Нет, не все, – и Мур протянул еще несколько помятых листков в каких-то жирных пятнах.
– Ты, что гамбургеры в перевод заворачивал?
– Читай давай, – разозлился Мур.
«О Пресветлой Великомученице Марине, именем которой меня нарекли при православном крещении, рассказывала мне Ирина…
Как жила Марина беззаботно с отцом-матерью, людьми знатными, но язычниками.
И как однажды, услышав весть правдивую об Иисусе Христе, захотела принять христианство, и как отец-идолопоклонник преследовал ее за желание сильное, нерушимое…
И как встретил ее в поле преследователь христиан военноначальник Антиноха, жестокий Олимбриус… И поразился Олимбриус чрезвычайно красоте Марины, и решил, что непременно должен жениться на ней. А что верит она, то думал, легко сможет убедить оставить христианскую веру.
Привел он ее к истукану каменному и приказал воскурить жертвенный огонь. Но ответила Марина жесткосердному Олимбриусу:
– Верую я в Отца и Сына, и Святого Духа, Троицу Единородную и не могу поклоняться идолам так же, как преклоняюсь я Богу нашему…
Обуяла тогда Олимбриуса невероятная злоба, и велел он солдатам своим избивать девушку веревками на площади пред собравшимися праздными гуляками…
Били ее, мученицу, весь день…
Когда же милосердная ночь раскрыла над ней свое крыло и ушли мучители, овладели Мариной страх и уныние. Но через боль продолжала она молиться Богу нашему Единственному и Всемогущему…
И наступило раннее жаркое июльское утро, и увидел с изумлением пришедший на площадь Олимбриус, что следов от побоев на теле Марины не осталось… И закипела ненависть в груди его, и приказал он жечь огнем страдалицу…
Молилась громко Марина, чтоб дал ей силы Творец выдержать испытание и чтобы стала она достойной Святого Крещения, которое приняла из рук Господа…
Засмеялся злобно Олимбриус и решил утопить Марину, раз ей так нравится вода…
Выполняя приказ начальника, потащили солдаты Марину в воду…
И со страхом увидел народ, что белая голубка взлетела над головой Марины и вышла она из воды без единой раны, как будто тех и не было никогда на теле ея…
И упал весь народ в едином порыве, и возопили люди… Веруем в Бога Единородного и хотим быть христианами…
Взбесновался Олимбриус, и по приказу его отсекли Марине голову мечом острым, и в тот же день пятнадцать тысяч вслед за ней уверовших в Господа, казнил он лютою казнию…»
– И что? – спросила я, когда закончила чтение.
– Ничего, – перелистывая тоненькую книжицу, пробормотал он. – Просто совпадает с версией нашего толстяка-историка из Анахайма.
– Может, Эд читал дневник и выстроил версию, опираясь на сведения из него? Хотя, если предположить, что рассказ о святой Марине аллегоричен с жизнью Марианны Мнишек, то Эд позволил себе некоторые вольности и зарезал Марину ножом, – напомнила я Муру.
– Спицей, – поправил недовольно Мур, хмуро перелистывая смятые листки. – А почему она называет инокиню Марфу матерью Дмитрия? Если я правильно понял Эда, инокиня Марфа приходилась матерью Михаилу Романову…
– Мария Нагая, мать Дмитрия, после пострижения тоже получила имя Марфы, – объяснила я Муру.
Тот только застонал:
– Бесконечные Дмитрии, Василии, Иваны да Марфы, спятить можно кто есть кто.
– Ага, – согласилась я.
Мы помолчали немного, думая каждый о своем.
– Нет, полагаю, что эта запись не несет в себе дополнительную информацию, на которую мы рассчитывали, – нерешительно продолжила я. – Наверное, ты прав. Моргулез искал что-то другое.
– Тебе нужно пригласить еще раз оценщика антиквариата или независимого специалиста, – ответил Мур. – Что в доме может представлять особую ценность, как думаешь? Кроме этого дневника? Портрет?
– Не знаю, – неуверенно промямлила я. – Все было оценено до составления завещания. Несколько картин, статуэток, украшения, мебель, старинные книги. А портрет был написан лет двадцать назад.
– Может, он с секретом? – безнадежно-уныло спросил Мур.
– Не знаю, – так же уныло ответила я.
Мы сидели, разглядывая пеструю толпу перед церквушкой.
– Кстати, хотел тебя спросить. Кем тебе приходится женщина, с которой познакомился вчера? Я видел ее с тобой в «Хилтоне»…
– Подружка. Я же тебе рассказывала о ней!
– Ах, та самая, которая перевезла тебя в Америку, – кивнул Джон. – Ты ее хорошо знаешь?
Я усмехнулась. Беда здесь одна – Галку я отлично знаю.
– Она вчера со мной вовсю кокетничала, – поделился со мной Мур.
– На здоровье, – едва сдерживая хохот, ответила я, поднимаясь со скамейки, и Мур недовольно отвернулся.
– Кстати, хочу предупредить, что уезжаю сегодня на несколько дней в Лас-Вегас, – предупредила я Джона.
– Зачем это? – недовольно вопросил он.
– Повидаться с сестрой Вацлава.
– С золовкой, значит, – прищурился немец-перец.
Я возмущенно открыла рот, но Мур быстро прервал меня.
– Ты возьмешь свою машину?
Ах, черт, я же оставила ее вчера у обсерватории!
– Кто-то обещал мне пригнать машину к дому, – ворчливо напомнила я ему.
– Так и пригнали. Я попросил своих ребят «пригоните машину к дому». Они и пригнали – к моему.
– А где ты живешь? – обреченно спросила я.
– В Санта-Монике, – ответил Мур, и я с облегчением вздохнула – это совсем близко от меня.
Я потянула за поводок сидящую у ног Мура Фриду.
– Вот еще что, Лиза, – Мур почесал за ушами вредину Фриду, морда у собаки была донельзя счастлива. – Я связался еще с двумя собирателями. Любителями русской старины. Один, внук мафиози, строил первые казино в Вегасе. Другой – даже не собиратель, а так… недоразумение: то ли его дядя, то ли отец приехал из Польши и работал на постройке электростанции – в Хувер Дэм. Сам он живет в городе по дороге в Лас-Вегас.
– А внук мафиози где обитает?
– В ближайшие дни – в Лас-Вегасе.
Я прекрасно поняла намек.
– Хорошо, – подумав с минуту, сказала я. – Возьму тебя с собой, но с одним условием. В Лас-Вегасе после встречи с мафиози и поляком я займусь своими делами, и ты мне мешать не будешь.
– По рукам, – ответствовал Мур, и мы расстались до вечера.
8. Покушение
Я закопалась со сборами и в Санта– Монику поехала во второй половине дня, когда солнце уже стало склоняться к западу. Мур подробно объяснил, где его ребята оставили мою машину.
Естественно, ни у Сергея, ни у Вацлава времени подбросить меня к океану не нашлось, пришлось заказывать такси. Адрес мы нашли быстро, машина ждала в подземном гараже, и я со вздохом облегчения пересела в уютный салон «тойоты».
Времени до встречи с Муром оставалось немного, но я решила побаловать себя и полюбоваться закатом. Несмотря на то, что Санта-Моника находится совсем недалеко от Беверли– Хиллз, мне не так уж часто удается выбираться на океан.
Обычно осенними вечерами в Санта-Монике поднимается прохладный ветерок и многочисленные туристы сваливают в уют гостиниц. Найти парковку рядом с океаном в это время дня не представляет особого труда, но сегодня, к моему великому удивлению, все парковки оказались забиты.
Недоумевая, чем вызван такой ажиотаж, я медленно объезжала их одну за другой, круг за кругом. Около самой последней заприметила свободное местечко и поднажала на газ. К моей немереной досаде оно предназначалось для инвалидов. Подумав с минуту и рассудив, что вечером эта часть стоянки вряд ли срочно понадобится кому-нибудь из них, я решительно впихнула машину на свободный островок.
Хихикающая и целующаяся у въезда на парковку молодая парочка с осуждением посмотрела на меня. Чувствуя себя в душе последней свиньей и нарушительницей бесчисленных, но справедливых американских законов, я поинтересовалась у молодых людей, какие великие события происходят в предвечерней Санта-Монике. Оказалось, гуляла какая-то школа.
Я вытащила из багажника свитер, дневник Марины, перевод – весь измятый и в жирных пятнах от вонючих гамбургеров Мура – и не спеша пошлепала к вздыхающему невдалеке океану.
Кругом вопили и галдели веселые подростки. Я направилась подальше от них, к пирсу, но сегодня явно был не мой день – вход на пирс преграждала огромная яма. Через яму кто-то перебросил доски, а лаконичное объявление грозно требовало от туристов остановиться.
Возвращаться к орущим подросткам страшно не хотелось и, в очередной раз наплевав на запреты, я осторожно перелезла через яму по узким доскам и прошла на самый конец пирса. Осенний черный океан мирно шуршал подо мной. Появилась яркая круглая луна, напоминавшая теплый желтый оладушек, который так и хотелось съесть. Прохладный бриз лохматил волосы и забирался под теплый свитер.
Я сидела, вдыхала морской воздух, читала перевод дневника и думала о Марине.
Пылкий адвокат царицы Марины Эдвард Спенсер безапелляционно заявил, что девушка умерла насильственной смертью, да и многочисленные исторические романы придерживались такой же версии. Разница была лишь в том, что несчастную Марину в официальных источниках уморили голодом в сторожевой башне. Но прямых доказательств-то никаких ни у кого нет!
Так почему нельзя согласиться с версией Эда, который предполагал, что Марину зарезали ножом или закололи спицей? Ведь очевидцев преступления, совершенного четыреста лет назад, как и подлинных документов нигде не осталось.
И где же, где же связь между убийством сына царя Дмитрия и семьи императора Николая II, о которой упомянула Елизавета Ксаверьевна той памятной ночью перед смертью?
Я попыталась сосредоточиться и вспомнить давным-давно прочитанную и полузабытую информацию о расследованиях расстрела несчастных Романовых в Ипатьевском доме в 1919 году. Итак, что помню?
Временное правительство присяжного поверенного Керенского низложило последнего русского императора, но до прихода к власти бешеных «народных освободителей» в ноябре 1917 года тому не грозила гибель.
Вот когда большевики захватили власть в проклятом Богом 1917 году, Белое движение и генерал Колчак осознали серьезность сложившейся ситуации и попытались вывезти семью низложенного императора за рубеж.
Но вот что странно! Никто из царских родственников не согласился помочь несчастной семье. Все старания разбились о странное и стойкое нежелание западных правителей-родственников предоставить кров Николаю II.
Король Англии и двоюродный брат бывшего русского императора отказался принять семью, заявив, что Романовы «скомпрометировали себя кровавыми расправами над рабочими». Но причем здесь несчастные дети Николая? Можно подумать, что в Англии рабочие не бастовали и провинившихся перед короной не сажали в тюрьмы.
Дания, Испания, Норвегия, Швеция, Португалия не приняли государя по причине нейтралитета. Франция, как оказалось, недолюбливала государыню Александру, а Германия находилась в состоянии войны с Россией. Но ведь все родственники знали об опасности положения! Ладно, страны в нейтралитете не могли принять бывшего императора с женой, но оставить молоденьких девушек и больного мальчика на растерзание большевикам?
В 1918 году всю семью низложенного царя расстреляли: Николая, императрицу, больного цесаревича Алексея и его четырех сестер. Одна из девочек, кажется, восемнадцатилетняя Анастасия, была сильно ранена, плакала, но ее хладнокровно добили штыками. Тела убиенных подвергли немыслимому глумлению – им было отказано в православном погребении. Трупы взрослых и детей сбросили в заброшенную шахту, предварительно раздев донага, лица мучеников разбили прикладами, тела облили серной кислотой.
Так почему же родственники Николая и Александры отказывали семье в политическом убежище? Неужели они знали, что никто и ничто уже не может спасти семью, потому что час возмездия пробил? Наказание за преступление… Кара…
А если еще вспомнить магическое число 23… И тот факт, что царствование Романовых началось в стенах Ипатьевского монастыря, а закончилось в подвале Ипатьевского дома…
Я чувствовала, что в голове начала потихоньку вырисовываться довольно стройная логическая версия, которая, правда, была еще очень неуверенной, слабенькой и шла вразрез с официально принятой, серьезной и подтвержденной горой толстых «исторических» документов.
Михаил Федорович Романов, первый семнадцатилетний государь династии Романовых, проживал в Ипатьевском монастыре. В 1613 году он поднялся по 23 ступеням на паперть собора, где ожидали радостные бояре и отец-митрополит, чтобы призвать его на царство.
Последний наследник романовской династии, тринадцатилетний цесаревич Алексей Николаевич Романов, спустился вниз и тоже по двадцати трем ступеням, но со второго этажа Ипатьевского дома, в подвал, где принял мученическую смерть от солдат.
Его отец, император Николай II, правил страной 23 года – с 1894 по 1917 год.
Простое совпадение? Или цифра 23 должна была что-то подсказать мне?
И если вспомнить, что родился Николай II в день святого Иова многострадального…
Имя «Иов» переводится как «поддающийся гонениям». По сказанию, Иов был глубоко верующим человеком и однажды Бог решил испытать его веру: «Выводишь новых свидетелей Твоих против меня; усиливаешь гнев Твой на меня; и беды, одни за другими, ополчаются против меня». Иов потерял всех детей, тяжко заболел, разорился, но никогда не роптал на страдания, а только воссылал Богу благодарные молитвы.
За терпение в испытаниях Бог помиловал Иова, наградив долголетием – Иов жил до 270 лет, – вернул уважение, богатство и здоровье.
Император Николай II, как никто другой, познал в полной мере испытания и унижения. Его расстреляли как «гражданина Романова», оклеветали, имя предали анафеме, а через восемьдесят лет церковь возвела его в ранг святых и теперь православные молятся перед иконой Николая Страстотерпца. Наказание за совершенное предками преступление? А потом прощение?
Где-то еще с полчаса я упорно размышляла над этой темой, но никаких более-менее умных мыслей больше в голову не приходило.
Темнело. Волны океана монотонно накатывались на берег. Я посмотрела на часы. Стрелки подходили к девяти. А ведь Мур обещал выехать в Лас-Вегас около восьми, хотя сам даже не позвонил предупредить, что задерживается. Очень милое поведение. Самое главное – дать команду не опаздывать.
Лениво, в сто первый раз скользнула я глазами по строчкам перевода и вдруг насторожилась… Быстро пролистала перевод до конца, а потом внимательно прочитала вторую часть дневника, неясные отрывки которого вдруг ясно сложились во вполне логический узор.
Магическая завершенность чисел! Цифры никогда не лгут! Не может быть, как не видела этого раньше? Нет, не так. Видела, но не замечала, читала, но не придавала значения.
В волнении я вскочила на ноги и стала шарить по карманам. Мне нужно срочно позвонить Муру. Прямо сейчас! Где же мой сотовый? Телефон как в воду канул. Или в песок? Вот у меня всегда так!
Так и не найдя телефон, бодрой рысцой я побежала по пирсу от океана. Около строительной ямы притормозила и разозлилась серьезно. Клад, что ли, здесь ищут? Какая срочная производственная необходимость заставила рыть траншеи посередине песчаного пляжа?
В темноте наступившей ночи яма выглядела устрашающе огромной и черной. Стараясь не торопиться, я осторожно ступала по влажным от морского воздуха доскам. Странно, но при свете дня доски не показались мне такими шаткими и длинными. Хорошо хоть, что луна не спряталась за тучами и ветер утих!
Когда я была уже почти у цели, сзади послышались торопливые шаги и чье-то сдержанное дыхание. Развернуться на узких досках у меня не получилось, я заспешила, засуетилась, но неожиданно почувствовала сильный удар в спину, не удержалась на ногах и кубарем полетела вниз, даже не успев испугаться…
Очнувшись от того, что кто-то несильно тряс меня за руку, я с трудом приподняла тяжелые, как у Вия, веки и увидела склоненное над собой встревоженное лицо Мура.
– Хей, ты как?
Я попробовала пошевельнуться, но сильная боль в плече заставила меня поморщиться. Охая, приподнялась на подушках и огляделась.
– Как я здесь оказалась? Что случилось?
– Ничего не помнишь?
Я осторожно отрицательно покачала головой.
– Ты забыла мобильник в машине. Я ждал-ждал, звонил-звонил: тишина. Связался с Вацлавом. Тот сказал, что ты уехала на встречу со мной несколько часов назад. Ты хоть помнишь, что мы собирались ехать в Лас-Вегас вечером? – осторожно спросил Мур.
Я возмущенно засопела.
– Естественно. Не страдаю маразмом и провалами в памяти тоже.
– Хорошо-хорошо, – тоном психоаналитика, занимающегося с крайне нервозной пациенткой, подозрительно быстро согласился Мур. – Но как тебя угораздило упасть?
– Я не упала! – рассердилась я. – Какая-то сволочь нагло столкнула меня с дурацких досок!
Мур тихо присел на краешек кровати, поправил одеяло, переставил склянки на столике, внимательно поизучал собственные пальцы и лишь потом негромко произнес:
– Если бы не ребята, которые целовались у ворот стоянки, я бы тебя не искал, решив, что раздумала по каким-то причинам ехать. Случайно услышал, как ребята возмущались нарушителями, паркующими машины в неположенном месте. Кстати, тебя оштрафовали…
– Не ты ли? – не удержалась я от гневного вопроса.
Даму столкнули в ночной океан, а он бубнит о каких-то нарушениях при парковке! Американская зануда!
– Нет конечно, – возмутился Мур. – В общем, подошел к ребятам. Ты не показывалась, а машина на стоянке была твоя. Что ты могла делать в такой темнотище на пустынном пляже? Ответь, зачем тебя понесло на пирс? Там же объявление висело – проход закрыт!
Я отвернулась от Мура и ничего не ответила.
– Врач сказал, что ты несильно ударилась головой, но потеряла сознание и пролежала долго на холодном песке. Надеюсь, избежишь воспаления легких.
Голова не болела, но плечо ломило немилосердно. В этой конторе что, напряженка с обезболивающим?
Впрочем, ничего удивительного. В городе, где я живу, в славном и всемирно известном Беверли-Хиллз, на 39 человек приходится один врач. Правда, этот врач не сможет помочь в моей ситуации, потому что он – пластический хирург.
Традиционного госпиталя в городе нет, зато есть Родеро-драйв с миллионными бутиками, где стремятся отовариваться все звезды Голливуда и иностранные нувориши. А еще есть небольшая тюрьма с камерами на одну персону, где потенциального клиента ждет мягкая кровать, личный телевизор и телефон.
– Мур, – прокряхтела я и села, поддерживая больничную рубашку, так и норовящую соскользнуть вниз. – Не буду лежать здесь! Хочу домой.
– Сегодня не отпустят, – Джон сочувственно смотрел на меня.
– Не хочу лежать в больнице! – громко заявила я, чувствуя себя невыносимо глупо под его жалостливыми взглядами.
– Лиза, – спокойно поправляя плоские неудобные подушки за моей спиной, ответил Мур. – Если ты серьезно считаешь, что кто-то столкнул тебя с пирса, то безопаснее остаться на ночь здесь. Ты мне не ответила – зачем тебя понесло на пляж?
– Хотела почитать дневник Марины и подумать в одиночестве, – пробурчала я.
– А где оставила Маринин дневник? – вопросил Мур.
– Был со мной. В руке держала, когда шла к машине.
– Подлинник?!
– Нет, перевод, – успокоила я Мура.
Тот только покачал головой.
– Вот так-так. Кто-то спер его. Что же такое получается? Толстяк из Анахайма прав? Секретной польской организации действительно нужен дневник?
И тут-то я вспомнила, о чем думала на пирсе перед тем, как упала с досок и, подскочив на кровати от волнения, схватила Джона за руку:
– Мур, я обнаружила кое-что в переводе. Потрясающий факт, который никто из нас не заметил. Таинственная магия чисел – 23 и 17. Вот скажи – когда расстреляли последнюю царскую семью?
Мур с опаской покосился на меня:
– Николая II?
– Да.
Мур возвел очи к больничному потолку и сделал вид, что вспоминает дату.
– В июле 1918 года, – корректно напомнила я. – Так?
– Кажется, так, – осторожно согласился он.
– Да не кажется, а точно, – возмутилась я. – По старому, юлианскому стилю убийство произошло ночью 4 июля. По новому же, грегорианскому календарю, убийство падает на 17 июля. Ты знаешь, что после революции большевики отказались следовать старому календарю? Дескать, потому что его использовала православная церковь – опиум для народа – и перешли на новый. Разница между юлианским и грегорианским календарем составляет 13 дней. А когда празднуется день святой великомученицы Марины православной церковью, в курсе?
– Нет, – Мур вопросительно смотрел на меня.
– Тоже 17 июля, – тихо ответила я. – По новому стилю.
В комнате повисло молчание, нарушаемое только тиканьем электронных часов на стене.
– Ты хочешь сказать, что предсказание Марины о гибели царской семьи не миф? – наконец потрясенным и тихим голосом пробормотал Мур. – Оно исполнилось? Триста лет спустя после насильственной гибели ее сына, потомка Марфы и Филарета постигла та же страшная участь?
– Не знаю, – неуверенно прошептала я в ответ. – Но скажи, почему семью расстреляли именно в день святой Марины? Глухой ночью? Возможно ли такое совпадение? И Елизавета Ксаверьевна всегда плакала, глядя на портрет, и говорила о возмездии и каре…
И еще икона на портрете Марины. Не обратил внимания? Какая-то странная, не похожая на канонические… Я так и не поняла, что за святой изображен на ней… А в руках у Мнишек – католические четки… Марина приняла православие перед венчанием – причем здесь четки?
– Вот что, Лиза, – быстро перебил меня Мур и приветливо помахал рукой появившейся в дверях медсестре с осиной талией и огромным «голливудским» бюстом. – У тебя был долгий день. На сегодня хватит разговоров и волнений. Прими лекарство – и спать. Завтра поговорим. Если что – я в соседней палате, никуда на ночь не уйду…
– Мне здесь не нравится, – понимая, что ночь все же придется провести в госпитале, недовольно закапризничала я, запивая водой огромные розовые пилюли, протянутые любезной медсестрой. – Подушки микроскопические, одеяло колючее, холод собачий. Воняет хлоркой… Дай телефон позвонить домой и предупредить своих. Вот только что бы наврать, чтоб не волновались?
– Все уже сделано. Сказал твоему брату: ты останешься на ночь у меня.
Я подавилась водой. Мур успокаивающе похлопал меня по спине.
– Ну не надо так переживать. В конце концов ты – молодая женщина и я не Квазимодо, Сергей все понял.
Интересно, что такое понял Сергей? Мур просто не представляет, какой концерт ожидает меня завтра!
Когда Мур вышел, чтобы «переговорить с врачом», я быстренько перезвонила Машке и наврала ей, что не с кем было оставить детей и что смогу приехать только завтра. Потом набрала номер Сергея и напомнила о поездке в Лас-Вегас.
– Надеюсь, ты не наделаешь там глупостей? – хмуро осведомился брат.
– Каких глупостей? – озадачилась я.
– Таких, сама знаешь каких. Не обзаведешься третьим, чистокровным, американским мужем? В Лас-Вегасе с этим просто…
Я нажала отбой и соединилась с Галиной. Вот от нее-то мне не удалось скрыть ничего. Подружка орала минут двадцать без перерыва.
– Ты богатая женщина, одинокая, – бушевала Галка, и я ее не прерывала, а только отставила трубку подальше от уха. – Как можно доверять человеку, которого совершенно не знаешь? Ну и что из того, что он в полиции служит? Там, что ли, одни ангелы? Потащилась на океан, ночью, встречаться невесть с кем! Слов нет на твою глупость!
Не знаю, как удалось бы прервать разозленную донельзя Галку, если бы само небо не пришло мне на помощь – батарейки мобильника умерли и визгливая нотация подруги прервалась на полуслове.
Под воздействием гигантских пилюль, меня неудержимо потянуло в сон. Плечо больше не болело и, поудобнее устроившись в тощих подушках, противно воняющих каким-то лекарством, я отбыла в царство Морфея.
На следующее утро, подписав огромную кипу документов и убедив недоверчивых эскулапов, что за мной будет великолепный уход, господин Мур с великими предосторожностями загрузил меня в машину и порулил по направлению в Лас-Вегас. Почему-то он облачился в полицейский прикид и, надо отдать должное, смотрелся крайне устрашающе.
В машине Мур опять начал пытать меня вопросами о добеверли-хиллзской жизни. Может, из-за дурацкой его формы, а может, и потому, что выскочить из несущегося на бешеной скорости джипа было бы весьма проблематично, я покорилась неизбежному, послушно отвечая на многочисленные вопросы.
Мне пришлось рассказать о наших весьма и весьма непростых отношениях с Галиной. Мур вытряс из меня буквально все подробности, факт за фактом, несмотря на мое стойкое сопротивление.
Как я уже говорила, Галка когда-то вытащила меня в Штаты и тем самым дала возможность поддержать семью в момент кризиса. Правда, когда бедность помахала мне ручкой, в дружеских отношениях наметилось некоторое похолодание.
В момент знакомства с Елизаветой Ксаверьевной Галина с мужем проживала в Европе. Из Праги я регулярно получала восторженные открытки и коротенькие письмеца с красочными фотографиями.
В один прекрасный день у Галки закрутился бешеный роман с пылким югославом. Там было все, о чем взахлеб пишут гламурные журналы всего мира – сказочная любовь, ревность, свидания в заснеженных отелях, катание на горных лыжах в Альпах – всего не перечислить.
Роман горел ярким факелом, рыцарь клялся в вечной любви, и Галина решила оставить американского супруга. Но как выяснилось, убежать от ярма семейной жизни было не так-то просто. Муж подружки принадлежал к братии с нетрадиционной секс-ориентацией. Брак по обоюдному согласию был заключен как взаимовыгодный союз – Галина получала американский паспорт, а супруг – репутацию семейного человека. Но договор имел и изнаночную сторону – в случае развода Галина оставалась нищей.
Роман закончился гадко. Узнав об условиях развода, югославский трубадур бесследно испарился, Галка рыдала и истерила, закатывая скандалы и грозясь уйти в никуда, но… работать она не привыкла, без больших денег жизни в Европе не представляла, и ей пришлось вернуться в Штаты в прежнем статусе замужней дамы. Муж «леваку» не придал сильного значения и условий сделки-брака не изменил.
Галина попробовала устроиться на работу, но пришла в шок от кабальных условий контрактов в самой демократической стране мира, которая не переставая вопит на весь земной шар о правах человека и о райской жизни трудящихся Соединенных Штатов.
Потом подружка решила стать примерной матерью, но и тут ее ждало пренеприятнейшее открытие. Оказалось, у ее мужа находился на содержании зубастый молодой человек, с кем тот постоянно мотался в Амстердам «по бизнесу» и который с завидным постоянством опустошал счета своего покровителя. А что касается детей, то своих, а уж тем более приемных, супруг иметь категорически не желал.
Когда Галка вернулась из Европы, в ярости на любовника, мужа и весь мир, я уже жила в доме на Беверли-Хиллз.
– Тебе хорошо, – потрясенно обойдя дом, тут же захныкала она. – Видишь, как все у тебя славно получилось. И дом заимела без проблем, и ребенок есть, и деньги свои – ни от кого не зависишь. Но вот почему только мне так не везет, а?
Что могла я ответить?
Через некоторое время Галка попривыкла к мысли о том, что ее подружка больше не считает медные полушки, и жизнь покатилась свои чередом. Я всегда считала, что старый друг– лучше новых двух, поэтому никогда не припоминала подружке невольно выказанную зависть.
Мур внимал рассказу, не делая никаких замечаний – просто молча слушал.
Когда информация иссякла, солнце уже скатилось за горизонт, и мы наконец-то добрались до городишки с весьма странным названием «Пешеходная Линия», где проживал еще один так нужный Муру коллекционер-любитель.
9. Охота на коллекционеров
Шоссе петляло между полуразрушенными домами города, покинутого людьми: не лаяли собаки, прохожие не бродили по тротуарам, не цвели клумбы, из дворов не доносились голоса играющей детворы. Только кучи грязи вдоль дороги, могильная тишина да поломанные машины.
Видя мое недоумение, Мур милостиво объяснил, что когда-то, давным-давно город жил полной жизнью, но умер, как только правительство закрыло шахты.
Я только качала головой. Вот тебе и Америка XXI века, залитая огнями мегаполисов и набитая беспечными холостыми миллионерами на любой вкус!
Мы медленно проезжали мимо закрытых магазинов, баров, огромного высокого полуразрушенного отеля с заколоченными разбитыми окнами и мрачным холлом, миновали грязно-желтое здание ратуши с засохшими цветами на миниатюрных балкончиках.
Вечерело. Только в нескольких домах забрезжили слабенькие огонечки, большинство же домов оставалось устрашающе темным.
– Ты ожидаешь встретить здесь человека, увлекающегося русским шестнадцатым веком? – недоверчиво уточнила я.
Мур ничего не ответил и лихо припарковался около ужасающе грязного дома между разноцветными кучами мусора.
– Мы туда пойдем? – нерешительно спросила я.
Вместо ответа Джон несколько раз посигналил.
На пороге сарая тотчас же появился молодой мужчина самого обтрепанного вида. Он сбежал со ступенек и приветливо наклонился к окну с моей стороны, а меня чуть не вынесло из машины в противоположную сторону от сперто-вонючего запаха его тела. Наверное, незнакомец не знал о существовании «мыла душистого и полотенца пушистого».
Мур не спеша вылез из машины, расправил плечи и небрежно продемонстрировал гадко пахнущему незнакомцу удостоверение. Тот нерешительно отступил к трухлявому крыльцу.
– У меня очень мало времени, – ледяным голосом, которому позавидовали бы вечные снега Антарктиды, четко выговорил Мур. – Вы сказали, что имеете информацию, интересующую меня?
Вид у Мура был внушительный, и незнакомец, представившийся Аленом, моментально завел рассказ. Я умолчу о грамотности речи повествователя – она полностью отсутствовала. Прибавьте еще его зловонность, ужасающую атмосферу мертвого города и быстро наступающую темноту – тогда вы поймете, почему я поняла не больше половины рассказа.
Вкратце рассказ сводился к следующему. Дед вонючки, Билл, приехал в Калифорнию из Нью-Йорка на заработки, когда в стране наступила Великая депрессия. Потеряв все свои сбережения, он решил попытать счастья на западном побережье, где в то время строилась огромная плотина – Хувер Дэм. Больше сорока тысяч работяг, оставшихся на улице, надеялись получить работу на стройке.
Биллу посчастливилось устроиться кладовщиком. Каждое утро он благословлял небо, что работает в тепле и выдает рабочим инструменты и одежду, а не мерзнет под проливными дождями, копая траншеи.
Дед Алена с жалостью наблюдал, как быстро выдыхаются рабочие. Ребята работали по 14 часов в сутки за гроши, недоедали, многие из них схватывали простуду, умирали, но жаловаться было некому – за воротами плотной стеной стояли тысячи безработных, готовых любой ценой занять места ушедших.
Однажды Билл познакомился с молодым поляком. Тот выглядел плохо, сильно кашлял, задыхался. Билл не удивился, когда через несколько месяцев место поляка занял другой иностранец.
В самую последнюю встречу молодой человек отдал деду Алена маленькую книжку, написанную на непонятном языке. В книжку было вложено письмо и портрет молоденькой женщины. Он просил своего нового друга отправить письмо по назначению, а книгу, сказал, может оставить себе – она, мол, очень ценна.
Для Билла ценность в те дни представляла теплая одежда, кусок хлеба и золотой доллар. Он не стал отказывать поляку, уж очень тот просил его, даже плакал. Умирающему, как известно, отказать нелегко. Билл с легким сердцем пообещал, но так и не отправил письма, а книжку бросил на чердаке с ненужным хламом и вскоре забыл о ней.
Прошло много времени. Билл состарился, вышел на пенсию, стал часто болеть, плохо видеть, почти ничего не слышал, и родители Алена решили отдать его в дом престарелых.
Перед тем как навсегда исчезнуть из жизни внука, старик сумел поговорить с ним. Алену тогда исполнилось пятнадцать и меньше всего ему хотелось выслушивать бредни старика. Но дед стал рассказывать ему, как каждую ночь ему снился умирающий от голода и простуды поляк. Тот стоял, качал головой, бормотал непонятные слова – и Билл просыпался в холодном поту.
Старик просил внука отправить старое письмо и найти на чердаке книгу…
– Ну? – серо-ледяные глаза Мура уставились на Алена.
Тот поежился. Лохматя сальные пряди давно немытой головы, он начал нести какую-то чушь о семье, работе, недостатке денег. Кому, куда он должен был отправить письмо? В общем, просьбу деда Ален так и не выполнил.
– И где эти книжка и письмо сейчас?
Парень неопределенно взмахнул рукой и бесконечно экая и мекая забубнил дальше.
Несколько лет назад, когда он жил самостоятельно от стареньких родителей, его подружка познакомилась с европейцем, который ездил по всем штатам, выискивая и собирая антиквариат.
– Где? – перебил Алена Мур.
– Что – где? – не понял вопроса грязнуля.
– Где она с ним познакомилась?
– А… Ну, это… в баре… – яростно зачесал патлы Ален, и я на всякий случай отодвинулась от него подальше.
Надо же, у блошистого повествователя есть подружка! Все как у людей.
Европеец заплатил неслыханную сумму за какую-то брошюру – пятьсот долларов, и Ален в первый раз с благодарностью вспомнил деда. Незнакомец попросил молодого человека дать ему знать, если тот отыщет на чердаке еще что-нибудь: письма, книги, гравюры. Ален, естественно, пообещал, но подниматься на грязный чердак и разгребать древний хлам ему не хотелось, а телефон иностранца он благополучно потерял.
Когда Ален рассказал подружке о европейце, та страшно воодушевилась и несколько дней провела, прилежно перебирая старую макулатуру на чердаке. Нашла подружка немного, но Ален поборол лень и даже съездил в ближайший антикварный магазин, однако никто не заинтересовался старыми книгами на иностранном языке.
– И где эти иностранные книги теперь? – прервал Мур занудливое, неграмотное и нескончаемое повествование Алена.
– А-а-а… Это… На чердаке. Я… э-э-э… нашел письмо в книге… Там… лежит на чердаке…
– Ну, хорошо, пройдемте на чердак, – так же холодно произнес Мур, но Ален быстро встал в проеме двери:
– Тысяча долларов, – решительно заявил он.
Мур недружелюбно прищурился и быстрым, почти незаметным движением дотронулся до того места, где, судя по голливудским боевикам, лихие полицейские носят огнестрельное оружие.
– Я сказал, что мне хотелось бы взглянуть на имеющиеся у вас исторические документы, – оскорбительно тихим голосом повторил он. – Потому что приехал сюда не торговаться с вами, любезнейший, а по служебной необходимости, знаете ли.
Ален сник и мгновенно исчез за разваливающейся дверью, Мур – следом за ним, а я наконец радостно вздохнула полной грудью.
Прошло минут пять.
Десять.
Пятнадцать.
Последний лучик засыпавшего солнца мигнул и исчез за темным горизонтом.
Где же Мур? Я начала волноваться. Незнакомый мертвый город, молчаливый дом, неприятный Ален. Куда провалился Мур? Сколько времени надо на то, чтобы подняться на чердак и взять книжку? И почему стоит такая жуткая, ненормальная тишина?
Я постояла еще минут пять, напряженно прислушиваясь к ночным звукам, а потом не выдержала и тихонько приоткрыла дверь. В комнате царил немыслимый бардак – вещи кучей навалены на полу и на колченогих стульях, грязная посуда на столе у окна, а из незакрытого крана на кухне монотонно капала вода: кап-кап…
– Мур? – нерешительно прошептала я в темноту комнаты.
Над головой раздались грузные шаги.
– Лиза, – раздалось наверху, – поднимайся ко мне.
Я полезла по узкой крутой лесенке наверх, задыхаясь от пыли.
Чердак представлял собой маленькое пространство, сплошь забитое гнилью и ветошью. Мур и Ален стояли рядом с неопрятной кучей старого барахла под затянутым паутиной оконцем. Я двинулась было к ним, но на чердаке быстро темнело, и, не увидев выступающей из потолка балки, пребольно стукнулась о нее головой.
– Осторожно, осторожно, – забубнил почти не видный в сумерках Ален, он схватил меня за руку липкой влажной ладонью и потащил к окну.
Лица Мура я не видела, но его темный силуэт четко вырисовывался в квадрате золотистого окна. Ален пробрался к Муру и протянул ему замызганную книженцию.
Мур аккуратно раскрыл тоненькую книжечку на той странице, где лежал пожелтевший, вчетверо сложенный, листок письма. Некоторое время он изучал его. Я не выдержала и заглянула через плечо Мура. Зловонный Ален последовал моему примеру и тоже вытянул шею – с другой стороны.
– Э… не разобрать ничего, – разочарованно протянул он. – Это на каком же языке… того, написано? На вашем? – и он противно осклабился, показывая в улыбке желтые щербатые зубы.
Меня чуть не вырвало. Может, в порядке гуманитарной помощи завезти в город мыло, шампунь и зубную пасту?
– Спасибо, – небрежно кивнул Мур Алену, протянул книженцию мне и стал пробираться по скрипучему полу к выходу. – Вы сильно помогли следствию.
Ален громко задышал открытым ртом, распространяя невыносимое зловоние.
– Все ж таки не мешало бы… – плаксиво нудил он, – хоть чуть-чуть вознаградить… За хлопоты, так сказать… Подружка трудилась. На чердак лазила, а тут так… Это… Не прибрано…
Я молча перелезала через кучи тряпья, отряхиваясь от налипшей к влажному лицу паутины. Ну и чего ради Мур приволок меня сюда? Какие такие исторические документы могут быть спрятаны на старом чердаке? Если только раритетные блохи и антикварные книжные черви…
На неописуемо грязной кухне я кое-как вымыла руки, прислушиваясь к пылкой перебранки мужчин. Теперь Ален заломил цену аж в триста долларов, Мур легко сбил ее до пятидесяти. Интересно, на какой цифре Ален сломается?
Слушать перебранку наскучило, и я осторожно присела на расшатанную табуретку. Пролистала книженцию. Из нее выпала фотография симпатичного молодого мужчины. Наверное, тот поляк, который так просил деда Алена отправить письмо на далекую Родину.
Мне стало очень грустно. Сколько же таких молодых, надеющихся на лучшую жизнь, приехало на стройки Нового Света и сколько их осталось лежать в безымянных заброшенных могилах?
– Ты что это здесь делаешь, а? – вдруг раздался над ухом каркающий голос, и от неожиданности я чуть не свалилась с колченогой табуретки.
Передо мной стояла, опираясь на массивную трость, сгорбленная, маленькая, почти лысая старушенция, вылитая Гагула. Несмотря на столетний возраст, выглядела она весьма грозно.
– Извините меня, – пробормотала растерянно я, с опаской поглядывая на здоровенную палку, которую старуха воинственно сжимала сухой ручкой. – Мы здесь по делам следствия. Мой напарник сейчас разговаривает с господином… Аленом…
– Что ж такое натворил этот урод? – закаркала старушенция. – С которым разговаривает твой любовник?
– Напарник, – безнадежно поправила я ее.
– Однофигственно, – возвестила старуха, сверля меня злобными глазками.
За ее спиной из ниоткуда выросли две огромные фигуры мрачных черных парней. Мне стало совсем жутко. Куда нас занесло? А вдруг мы попали в притон бродяг, куда ночью не сунется даже полиция? Я не знаю, есть ли в машине Мура рация. Он нацепил форму, но приехали-то мы на его личном джипе.
– Сейчас все объясню, – дрожащим голосом опять начала я, чувствуя как льется пот по взмокшей от волнения спине. – Видите ли, мы собираем информацию о Марине Мнишек, польской царице… То есть русской царице, но это не важно… А ваш Ален сказал, что имеет старинную книгу, которую на чердаке нашла его подружка из бара. Мой коллега…
Тут лысая старушенция опять саркастически заулыбалась и радостно закончила:
– Ругается с Аленом, который пытается вытянуть из него денежку, потому что пообещал заплатить своей шлюшке!
Не зная что ответить на подобный выпад, я растерянно замолчала.
Какого дьявола Мур застрял на чердаке? А может, не застрял? Все было подстроено? И Ален совсем не дурак, а только претворяется глупым грязным идиотом?
В забытом городе, которого нет ни на одной карте, нас ограбят, убьют, машину разберут на части… «Пешеходная Линия»! Что за название для города? Никогда не слыхивала о таком!
А… а если меня продадут в сексуальное рабство?! Я читала о таких случаях. Случаи происходят с глупыми иностранками и как раз в Неваде, где нет закона о проституции, потому что в этом гадком штате она, эта самая проституция, легально разрешена!
Я стала боком-боком отходить в глубь комнаты. Хотела заорать, но от страха из горла вырвалось какое-то шипение, едва ли Мур мог услышать меня.
– Тебе не с придурком надо было разговаривать, а со мной, – злобилась старушенция, проворно ковыляя вслед за мной. – Что этот урод может знать! Только то, что я ему рассказывала.
– Ален упомянул об умершем молодом поляке, который просил переслать письма на родину, – еле слышно прошелестела я, и старушенция изумленно приостановилась.
– Откуда он мог узнать о письме?
Я неуверенно пожала плечами.
– Подслушал, – усмехнулась воинственная Гагула. – Он ничего делать не умел и не умеет, только подслушивать да выклянчивать мастер…
В эту минуту послышались шаги, и в комнате появился Мур. Черные силуэты парней не пошевелились, а старушенция резво подбежала к Муру. Ростом она едва ли доходила до его живота.
Дальше произошло совсем непонятное. Вспыхнул свет, осветив сердитого Мура и резво улепетывающего Алена. Старуха легко замахнулась тростью и в комнате раздался треск, вопли, вой. Старушенция с азартом лупила Алена, которого крепко держали накаченные чернокожие ребята.
Мне хотелось только одного – поскорее убраться из непонятного дома и заброшенного города с ненормальными жителями. От безденежья, грязи и одиночества они, наверное, все стали сумасшедшими.
Тут к вою Алена присоединился женский визг, шлепки оплеух и отборные ругательства. Клубок человеческих тел выкатился на улицу и там затих. В скудно освещенной комнате остались мы с Муром и злобная старуха.
– Извините за беспокойство, мадам, – как ни в чем не бывало спокойно и вежливо произнес Мур и, взяв меня за руку, направился к двери.
Было странно видеть высокого выхоленного Мура в такой грязи, среди трухлявой мебели и вонючего тряпья.
– Зачем тогда приезжал? Время тратил? – вполне мирно отозвалась старуха, с удовольствием оглядывая подтянутую фигуру Мура. – Чем ты там от уродца разжился?
Мур ничего не ответил, но остановился на пороге. Я тихонько дернула его за руку, думая только о том, как бы нам поскорее сесть в машину, но Мур никак не отреагировал на немую просьбу.
– Ален ничего знать не может. Ты получил приглашение приехать от МЕНЯ, – сказала медленно старушенция. – А поляк тот мне отцом приходится.
Никогда прежде не видела у Мура такого выражения лица! Холодная маска истинного арийца растаяла без следа, и сейчас в неприбранной, скупо освещенной комнате стоял растерянный молодой мужик с отвисшей, в прямом смысле слова, челюстью.
Старушенция победно заулыбалась.
– Пошли, – небрежно кивнула она. – Покажу, о чем нельзя написать или рассказать. Вы должны увидеть ЕЕ собственными глазами…
Ничего не понимая, мы выбежали из вонючего дома и постарались не отставать от резво несущейся по мертвому городу хромой старухи. Неожиданно она притормозила перед другим грязным и темным домом, скрипнула ключами и втолкнула нас в комнату.
Щелкнул выключатель. На мгновение мы ослепли от яркого света. Через минуту-другую, осторожно приоткрыв глаза, я увидела чистейшую студию, залитую неистовым электрическим светом, и не смогла сдержать удивленного возгласа – прямо перед нами возвышалось огромное полотно, правда, без рамы.
– Что это значит? – резко спросил Мур, но старушенция, не обращая на него ни малейшего внимания, не отрывала пристального взгляда от меня.
Я же, в свою очередь, во все глаза смотрела на занимающий полстудии, странный, пугающий своей непонятностью, портрет молодой женщины. Без сомнения, это была она, царица Марина.
Молодая женщина в роскошном, усыпанном самоцветами одеянии, смотрела на нас, и лицо ее не выражало ничего, кроме высокомерного презрения ко всему на свете. Как и на портрете, столь любимом Елизаветой Ксаверьевной, где неведомый художник написал Марину на фоне древнего Кремля. Он не забыл ни о жемчугах, ни о царском венце… Вот только в руках Марина держала не четки, не икону и не скипетр, не ребенка или ларец, а большое тяжелое зеркало… в котором видела свое собственное отражение, – но Боже мой! – в какой странной, жуткой интерпретации!
Отраженное в зеркале лицо было охвачено неистовым пламенем, перекошенный от мук рот что-то кричал. Краски плавились, горели волосы, глаза заволокла дымка боли, нежную кожу пожирал огонь, но лицо жило, жило! Вы видели, чувствовали, что Оно – живое разумное существо, которое вопиет от страданий и медленно умирает в зеркале, которое держала надменная Марина.
Контраст между страдающим зеркальным Лицом и презрительной Мариной настолько поражал, что я просто не в силах передать переполнивших меня эмоций. Портрет, надо отдать должное мастеру, был выполнен профессиональной и бесспорно талантливой рукой, но нигде и никогда в жизни не видела я такого изображения бывшей царицы!
Рядом тяжело дышал Мур.
– Господи, кто же написал такое? – еле слышно пробормотал он.
– Я, – спокойно ответила лысая старуха, и мы беззвучно вытаращились на нее.
– Поляк, книжку которого пробовал продать тебе дурак Ален, – усмехнулась старуха, – приходился мне отцом. Умирая, он попросил своего единственного друга Билла присмотреть за мной. Тот выполнил обещание и вырастил меня вместе со своими детьми…
Мы, в который раз разинув рты, смотрели на спокойно повествующую старушенцию. Подумать только! Великая депрессия случилась в 30 е годы прошлого столетия. Мне казалось, никто из свидетелей того времени и в живых-то не остался. Кто бы мог подумать, что седое прошлое так близко от нас?
Старуха проковыляла к креслу и спокойно уселась в него. Жестом пригласила нас присесть напротив, мы проделали это с молниеносной быстротой.
– Ведьма погубила меня, – сообщила она нам и со злобой кивнула на портретную Марину. – Единственно, как можно было отомстить за искалеченную жизнь, это заставить ее страдать хотя бы на полотне.
– Погубила? – пробормотал Мур. – Женщина, которая умерла четыре века назад? Каким же образом, мадам?
– Каким, каким… Вот таким, – пробормотала современная Гагула.
Как оказалось, старуху звали не Гагулой, а Эрвиной.
У нее было голодное, но вполне счастливое детство. Матери своей она не знала, а вот родного отца помнила прекрасно, да и приемный частенько рассказывал о нем.
Билл, выполняя волю умершего, пробовал неоднократно найти ее родственников, но в Европе начиналась война, и ответов ни на один из запросов он так и не получил. Вообще Билл был превосходным человеком – добрым, отзывчивым, щедрым. Эрвина никогда не чувствовала себя обделенной родительской любовью.
С раннего возраста девочка обожала рисовать. Билл не очень одобрял подобное пристрастие.
– Учись на врача, – долбил он ей. – Люди болеют всегда, во все времена и при любой власти. Без куска хлеба не останешься!
Но Эрвина отмахивалась от увещеваний. В семнадцать лет она тайком сбежала из городка и направилась в Нью-Йорк. Там она благополучно поступила в художественную школу и даже получила гранд.
В школе Эрвина сильно увлеклась русской иконописью и историей, рисовала всеми забытые или вовсе не известные американцам исторические сюжеты и, хотя на вкус придирчивых нью-йоркских критиков картины ее отличались странностью и не всем понятной оригинальностью, они быстро находили покупателей. Можно было смело сказать, что Эрвина нашла свою нишу в перенаселенном художниками городе и даже вошла в моду.
Она была молода, хороша собой, успешна. Появились деньги, а с ними – поклонники и почитатели. Стало престижно иметь портрет жены или дочери, написанный рукой юной художницы.
Приглашения на вечеринки сыпались как из рога изобилия, но Эрвина посещала их только из корыстных побуждений; художница хотела завязать побольше нужных знакомств.
И вот, на одном из вечеров, кто-то представил ее молодому баронету, любителю современной живописи и «коллекционеру всего прекрасного», как отрекомендовал себя отпрыск старинной семьи. Молодые люди стали встречаться.
Баронета связывали крепкие родственные отношения со многими королевскими дворами старой Европы. Он подолгу жил в Англии, Италии, Франции, а в Штаты приезжал нечасто и ненадолго – развеяться и отдохнуть. Он имел польские корни, хорошо знал и любил историю Польши и очень обрадовался, что Эрвина полька. Он расспрашивал ее о родственниках, и девушка впервые горько пожалела, что единственная связь с родиной предков заключалась в польском имени ее отца.
От баронета она впервые услышала о Марине Мнишек. Эрвина начала читать и собирать сведения о странной судьбе давно ушедшей в небытие жены русского царя-самозванца и незаметно «заболела» ею.
Теперь, когда ей приходилось выполнять парадные портреты богатых заказчиков, все женские модели имели неуловимое сходство с Мариной. Конечно, никто бы не мог сказать, в чем заключалось это сходство. Просто, если у заказчицы были обычные невыразительные глаза, то Эрвина немного удлиняла их разрез и меняла цвет на глубокий синий. Или одевала модель в наряды польской шляхты XIV века. Или изображала женщин сидящими на фоне древних замков.
Невинные штрихи. Никто не придавал им особого значения, кроме… баронета. Баронет всячески поддерживал интерес Эрвины к умершей царице.
Иногда Эрвина даже ловила себя на странной мысли, что ее возлюбленный говорит о Марине как о живой женщине, которой просто околдован, а это, согласитесь, очень напоминает паранойю. Но баронет так искренне восхищался каждым портретом «новой Марины», не скупился на изысканные комплименты, так расхваливал талант художницы перед знакомыми и критиками, что Эрвина радовалась, таяла от похвал и отмахивалась от тревожных мыслей.
К тому же она видела, что нравится европейцу чрезвычайно. И уже в мечтах видела себя живущей в Венецианском палаццо или на старинной вилле Итальянской Ривьеры, полностью отдавшись любимому рисованию и не думая больше о добыче денег. Но молодой человек не спешил делать предложение руки и сердца.
Будучи откровенно-честной перед собой, Эрвина понимала, что не так уж сильно желает замуж, но и прозевать выгодную партию тоже не хотела. Рано или поздно наследник повзрослеет и женится, так почему не сейчас и не на ней? И Эрвина, что называется, приперла молодого человека к стенке.
Вот тут-то ее любовник и рассказал ей о Марине Мнишек и о будто бы родовом проклятии семьи.
– Я никогда ни на ком не смогу жениться, Эрвина, – сказал грустно баронет. – Марина приходится мне пра-пра-пра-теткой. Моей прародительницей была родная сестра Марины – Урсула Мнишек.
Эрвина рассвирепела. Ладно, не хочешь жениться, так и скажи, заявила она молодому человеку. Но придумывать бред о родовом проклятии – это уж чересчур.
Разговор закончился шумной перебранкой, слезами, попреками с обеих сторон и импульсивная, как все художники, Эрвина в ярости выставила вон ухажера, так и не удосужившись узнать, в чем же заключается родовое проклятие?
Уже поостыв и успокоившись, ее начало разбирать любопытство. Со смерти Марины прошло четыре века, а семья все продолжает страшиться ее гнева?
Баронет вернулся в Европу и через несколько месяцев Эрвина получила письмо из-за океана. «Мне жаль, что мы расстались, – писал баронет. – Я восхищаюсь твоим талантом не только видеть прошлое, но и способность передать его так верно на полотне. Я не хочу стать причиной твоего несчастья».
Дальше в пространной манере баронет объяснял, что над мужскими потомками Урсулы Мнишек тяготело родовое проклятие. Все они теряли жен и детей, выживали только наследники по женской линии – через браки сестер. Если баронет захочет жениться на Эрвине, то ее ждет смерть.
Девушка прочитала письмо и рассвирепела еще больше. Понятно, хитрый баронет придумал красивую отговорку для того, чтобы вести необременительную жизнь холостяка. Подлец! Эрвина плюнула, сожгла письмо и постаралась забыть о неудавшемся романе.
Прошло еще немного времени. Она продолжала жить в Нью-Йорке. Все получалось, все удавалось кроме одного – личной жизни.
А тут еще она совершенно случайно узнала, что ее бывший поклонник и любовник собирается… жениться! Как оказалось, не одна Эрвина пыталась окрутить богатого европейца. Удалось же заковать его в цепи Гименея, как и следовало ожидать, единственной наследнице богатого американского нувориша.
– Наш изнеженный печальный баронет превыше всего ценил свою свободу, – самозабвенно сплетничала знакомая Эрвины, не замечая помертвевшего лица девушки. – Пока не выяснилось одно неприятное обстоятельство. Престарелый дядюшка, на наследство которого тот сильно надеялся, влюбился, женился, родил собственного наследника и оставил милого друга без копейки денег. И тут произошла удивительная метаморфоза! Оказывается, наш баронет все свою жизнь только и думал о женитьбе, но – на богатой невесте, естественно.
Эрвина тяжело переживала измену.
И надо же было такому случиться, что отцу той самой девушки, к которой переметнулся златолюбивый баронет, приспичило заиметь парадный портрет дочери и он обратился к Эрвине. Художнице деньги были очень кстати и, скрепя сердце, она согласилась.
«Золотой мешок» ничего не смыслил в живописи и просто извел Эрвину придирками – то фон мрачноват, то нос длинноват. Дочка богача тоже отличалась завидной капризностью и ежедневно доводила художницу до белого каления. Флер родовитости жениха ударил в голову наследницы бывшего чистильщика сапог и, как все безродные выскочки, она смотрела на Эрвину свысока, презрительно «тыкая» ей и унижая при каждой возможности.
Та, сцепив зубы, терпела. Она уговаривала себя, что на полученные от противного богача деньги сможет безбедно прожить в Италии или Греции несколько лет. Там она займется настоящим искусством и забудет невоспитанную семейку как страшный сон.
Портрет был почти закончен, когда его увидел бывший возлюбленный Эрвины. Он пришел к ней в студию и задал опешившей и разозленной неожиданным визитом Эрвине один-единственный вопрос:
– Зачем ты это сделала?
Дело в том, что задерганная до крайности вредным папашей и его капризулей дочкой, оскорбленная изменой, Эрвина окантовала портрет малюсенькими, почти незаметными, медальончиками. В каждый медальончик художница поместила сценку из жизни Марины Мнишек. Вот та девчушкой играет на берегу речки, а за ее спиной высится родовой замок. Вот она обручается с женихом, вот ее венчают царицей. На одном медальоне она даже изобразила Марину в приятном ожидании прибавления семейства, а на другом – с зеркалом. И отраженным в нем Лицом, горящим в жутком пламени.
Ну, разозлилась она однажды на очередную хамскую выходку дочки и вот таким образом выплеснула свое раздражение! И вот теперь бывший возлюбленный стоит перед ней и как ни в чем не бывало задает ненужные вопросы!
Эрвина молча указала баронету на дверь.
– Ты не понимаешь. Не надо тревожить Марину, убери медальоны, – шептал молодой человек. – Я хочу отвести от тебя опасность.
– А от своей невесты? – прищурилась Эрвина.
Баронет вышел из студии, не прибавив ни слова. Так они расстались в последний раз, и больше девушка его никогда не видела.
К счастью, всему, даже самому плохому, неизбежно приходит конец. Эрвина закончила портрет, противная богачка вышла замуж за своего аристократа, уехала на родину жениха, а Эрвина вычеркнула из памяти все прошлое, связанное с первой любовью.
Вырученных денег хватило надолго. Она объездила всю Европу и вернулась домой, переполненная впечатлениями и творческими идеями.
Эрвина начала готовиться к очередной выставке, находясь в постоянном волнении и нервном раздражении. Она проводила дни и ночи в мастерской, заканчивая или подправляя работы.
В ту страшную ночь Эрвина так наработалась, что просто падала от усталости. На улице бушевала гроза, и она решила заночевать в мастерской.
Было далеко за полночь, когда раздался неожиданный звонок. Девушка открыла дверь и с удивлением увидела осунувшегося, страшно постаревшего отца-богатея, насквозь мокрого и одетого в мешковатый плащ. За его спиной маячил дюжий мужик. Обойдя растерявшуюся Эрвину как неодушевленный предмет, тот пронес что-то завернутое в белую простыню, поставил на середину комнаты и так же молча покинул студию.
Эрвина и отец девушки остались одни, но художница не успела задать последнему ни одного вопроса. Он сдернул простыню, и Эрвина увидела нарисованный ею несколько лет назад портрет.
– Она умерла, – глухо сказал не похожий на себя мужчина и Эрвина даже не поняла в первую минуту, о ком он говорит.
Оказалось, что его дочь трагически погибла год назад – сгорела в машине. Безутешный нувориш-отец терпеливо ждал возвращения Эрвины из Европы. Когда же узнал, что она в городе, приволок портрет погибшей дочери в студию, к ужасу художницы достал огромный нож и методично располосовал полотно на куски.
– Это ты виновата в смерти моей дочери, – отрешенно сказал он в лицо дрожавшей Эрвине. – Пусть же и тебе не будет удачи больше и пусть твоя Марина станет твоим проклятьем!
Напуганная донельзя Эрвина смотрела на уничтоженную работу. Конечно, она предполагала, что ее невинная месть рано или поздно откроется, но она даже не предполагала о такой трагической развязке.
Она просто разозлилась тогда на вредную дочку! Неужели невнятный лепет бывшего возлюбленного о каком-то там родовом проклятии исполнился? Но причем здесь Эрвина? Смешно в самом деле думать, что портрет может предсказать будущее!
Но отец погибшей жены баронета придерживался другого мнения.
Как поняла Эрвина, ему очень понравился портрет дочери в царском наряде и золотом венце русской царицы, и он оставил его у себя, разместив на личной половине, не показывая широкой публике. Но однажды он пригласил на вечер старинного приятеля, которого не видел много лет. Друзья плотно поужинали, хорошо выпили, и богач решил похвастаться оригинальным портретом. На беду, его гость отлично разбирался в истории и был сильно возмущен увиденным.
– Не надо бередить память ушедших в небытие, – сказал он после небольшого колебания испуганному отцу, почти слово в слово повторив речь баронета. – Особенно тех, чья жизнь окончилась так трагически, как жизнь Марины Мнишек.
Через несколько месяцев дочь богатея попала в аварию и сгорела живьем в машине. Убитому горем отцу, который приехал на похороны, зять сообщил, что они ожидали ребенка. Таким образом, он потерял не только дочь, но и неродившегося внука.
Потрясенная ужасным известием, Эрвина не заметила, как богач покинул студию. Она потеряла счет времени и слишком поздно почувствовала запах гари.
Девушка рванулась к выходу, но не смогла открыть дверь, за ней полыхал пожар. Студия располагалась в старом деревянном здании, и пламя мгновенно обхватило постройку. Масляные краски, растворители только усилили огонь. Из окна Эрвина тоже выбраться не смогла: для безопасности на всех окнах установили решетки.
Девушка поняла, что убитый горем отец приготовил для Эрвины такую же смерть, от которой погибла его собственная дочь. Он заблокировал дверь снаружи и поджег дом. Эрвина должна была сгореть заживо, как и дочка богатея.
К счастью, пожарникам удалось вытащить из полыхавшего дома полуживую художницу. Ливень, только набравший силу к ночи, помог быстро потушить пожар. Эрвине страшно повезло – лицо у нее почти не обгорело, пропали только роскошные волосы, да упавшая балка раздробила кость ноги.
Эрвина долго провалялась в больнице. Вышла на своих двоих, но лысой и хромой. Поклонники мгновенно испарились. Заказов не стало, денег тоже. Кому охота видеть лысую калеку, рисующую твой портрет? А уж если вспомнить, что из-за ее ворожбы погибла молодая мать! Круг искусства узок и не прощает успехов и побед. Когда художник на коне, его особо не покусаешь, но уж если он свалился, то свора радостно набрасывается на поверженного.
И Эрвина вернулась в свой городок…
– Что за чушь, – гневно возмутился Мур, внимательно выслушав рассказ старухи. – Может, этот обедневший аристократ, ваш поклонник, сам и подстроил аварию? «Родовое проклятье»! Вот и придумал, как избавиться от невежественной жены и подозрения отца отвести от себя. Свалил все на вас! Уверен, что после смерти жены печальный вдовец получил жирнющий кусок.
– Может, и подстроил, – легко согласилась старушенция и лихо откупорила непочатую бутылку виски. – Только вот венчались они по личной просьбе невесты в день ее рождения, 8 мая…
– Как и Марина, – потрясенно пробормотала я, наблюдая как Эрвина щедрой рукой наполнила алкоголем три безмерных стакана.
– Дамы! – взвыл Мур. – Простое совпадение!
– Ага, – опять радостно согласилась старая художница. – А молодая жена сгорела в машине 17 июля, и пожар в моей студии случился год спустя после ее смерти и тоже – 17 июля. Еще одно совпадение, юноша?
Мур недовольно насупился и взял предложенный стакан со спиртным. Я же отодвинула бокал, больше похожий на огромное ведро, подальше от себя.
– Ваш барон сам подстроил аварию, – раздраженно выдал Мур, в один глоток покончив с содержимым бокала. – Слепому же видно, Эрвина! Вы – умная женщина и поверили в подобный бред?
– Мур, – тихо заметила я. – Пускай баронет убил жену. А ее отец что, специально ждал целый год до 17 июля, чтобы поджечь студию Эрвины?
Старуха выжидающе уставилась на Мура.
– Ну, хорошо. Допускаю – не совпадение. Дальше что?
– А держитесь от нее подальше, вот и все, – миролюбиво ответила старуха. – Злая она была, ваша Марина. И дух ее неуспокоенный, не нашедший покоя, мстит всем, кто осмеливается тревожить ее память.
– Но позвольте, Эдвина, – влезла я, вспоминая историю толстого Эда. – Судя по другим рассказам, Марина была несчастной женщиной, которую убили во время боярских распрей, чтобы не дать ее малолетнему сыну взойти на престол…
– Присмотрись к ней, – прервала меня старуха, подошла к портрету и ткнула сморщенным пальцем прямо в лицо Марины. – Что видишь?
Я нехотя опять повернулась к портрету.
Если на некоторое время забыть о страдающем Лице, то что я видела? Парадный портрет очередной государыни: пышное одеяние, царский венец, громоздкие перстни, каплеобразные жемчужные серьги. Слева – Московский Кремль. Справа – православная икона. Правда, какая-то непонятная, не классически выдержанная, странная и темная, а так все атрибуты власти и состоятельности на лицо.
Но это только на первый взгляд. Чем внимательнее всматривалась я в портрет, в его сумрачно-лиловый фон и темный, странный лик святой или святого на иконе, тем сильнее ощущала неясную тревогу.
Гасли сумерки над Кремлем и длинные тени струились от Успенского собора. Эти тени как темные щупальца спрута обволакивали молодую женщину, и уже не высокомерие, а страх плескался в ее удлиненных полуприкрытых глазах, а держащие зеркало с пламенеющим в нем Лицом руки казались сведенными жестокой судорогой. Марина в необъяснимом ужасе всматривалась в сгустившиеся сумерки дня и видела там то, чего не мог видеть никто другой.
Я вопросительно перевела глаза на Эрвину. Старуха утвердительно кивнула головой и медленно, с видимым удовольствием допила свой бокал.
– Верно, Марина знала правду. Потому и боялась, ты все правильно поняла, – кивнула она, с громким бульканьем наливая себе и Муру следующую, такую же щедрую порцию виски и бросила в стаканы по одному-единственному кубику льда. («Старуха у себя дома, но вот как поведет машину Мур?» – пронеслось у меня в голове.) – Но честолюбие губит многих, и Марина была не исключением. Вкусила сладость власти и не собиралась сдаваться. Не она первая, не она последняя.
– Что вы имеете в виду? – не понял Мур.
– А то. Марина вышла замуж за внука царя Ивана IV Грозного, все правильно, потому что не было никакого убийства в Угличе по указу Бориса Годунова, ребенка спасли. Но все равно, это не имело никакого значения, и в любом случае Дмитрий I был обречен на смерть. Так же, как и его сын – царевич Иван. Никто из них не имел бесспорного права наследовать трон.
– Но почему? – теперь уже не поняла я.
– Потому, – колко усмехнулась Эрвина. – Что на потомке царя Василия III – Иване Васильевиче IV Грозном – лежало серьезное подозрение в том, что отцом его был совсем другой человек, и Марина прекрасно знала об этом…
– Господи, кто такой Василий? – простонал Мур со своего кресла. – Он-то откуда вылез?
Старуха нетерпеливо отмахнулась от него стаканом и собралась продолжить рассказ, но я просительно подняла руку, схватила листок со стола и быстро написала несколько имен.
– Мур, смотри сюда и быстро запоминай. Василий III и Елена Глинская считаются родителями Ивана IV Грозного. Старший сын Ивана IV, тоже Иван, женился на Марии Нагой, и родил сына Дмитрия. Дмитрий же, как ты уже знаешь, венчался с Мариной Мнишек, и от этого союза получился Иван Дмитриевич, которого повесили в четырехлетнем возрасте.
– Вот теперь мне все-все ясно, – потерянно пробормотал Мур. – Только почему все они – Иваны?
– Чтобы запутать твое следствие, – съязвила Эрвина и опять проковыляла к своему креслу:
– Слушайте меня и не перебивайте больше! – прикрикнула она и так громко ударила палкой об пол, что качнулись на стенах мирные пейзажи с коровками на лугах. – Я теряю нить повествования от идиотских вопросов! Итак, на чем остановилась?
– На потомке царя Василия лежало подозрение в том, что отцом его был совсем другой человек, – вежливо напомнил Мур.
Я невольно позавидовала его спокойствию. Хамству вредной старухи он, казалось, не придавал никакого значения.
– Да. Именно. Совсем другой человек. Царь Василий долго не мог иметь детей. Он отправил свою первую жену Соломонию Сабурову, с которой прожил двадцать пять лет и с которой так и не смог родить наследника, в монастырь и женился на Елене Глинской, молоденькой литовке, годившейся ему во внучки, которая-то предположительно и подарила престарелому мужу сына Ивана…
– Почему – предположительно? – опять удивилась я, со страхом наблюдая как быстро уменьшается количество виски в огромной бутылке.
– Хм… – презрительно сморщилась Эрвина. – Почему… Елена была замужем пять лет и только когда при дворе появился молодой конюший, ее троюродный братец-князь Телепнев-Оболенский-Овчина, свет Иван Федорович, она наконец-то объявила всем о радостном событии. О том, что ожидает ребенка…
10. Тень Елены Глинской
Над златоглавой Москвой стояло сияющее лето 1547 года. В Зачатьевском или, по-старому Алексеевском, монастыре благополучно закончилось строительство первой каменной церкви, которую поставили на месте деревянной, сгоревшей в недавнем пожаре. Митрополит Макарий приехал на освящение соборной церкви, названной в честь Зачатия Святой Анны.
Молодой царь Иван IV Васильевич тоже присутствовал на торжестве, благосклонно принимал благодарность сестер-монахинь за подаренные новые земли.
Для митрополита этот день стал настоящим праздником. Он наслаждался победой над противными Глинскими и чувствовал, что просто готов пуститься в пляс, видя их кислые лица. Ничего, с церковью не борись, проиграешь. Ишь стоят, косоротятся.
Деньги на постройку церкви в Зачатьевском монастыре были завещаны в посмертной воле отца Ивана, Великого князя всея Руси Василия III. Уж он-то, как никто другой, понимал чудодейственную мощь реликвий и силу святых молитв. Сколько раз приезжал в Зачатьевский монастырь сначала с Соломонией, потом с Еленой молиться преподобным Иулиании и Евпраксии, выпрашивая милость стать отцом. Шутка ли – почти тридцать лет ждал рождения наследника.
Дождался царь сыновей, Ивана и Юрия, от второй жены – молоденькой Елены Васильевны. Первой-то, скромнице да тихоне Соломонии Сабуровой, монашеский куколь надел, а шестнадцатилетнюю племянницу боярина Михаила Глинского к алтарю повел.
Долго царь за развод боролся. Плакался всем, что, дескать, кому трон оставить? Деток Бог не дает с Соломонией. Кто управлять могучей державой после него станет? Братья Юрий да Андрей? Неспособны, слабы, не справятся.
Церковь православная разрешения на второй брак долго не давала. Даже иерусалимский патриарх письмо гневное прислал. Все прекрасно понимали, что дело-то не в детках. Просто надоела стареющему Василию верная Соломония и приглянулась молоденькая девчонка. Известно, враг человеческий силен – седина в бороду, бес в ребро. Вот и стал искать государь выход, плакаться на бесплодие первой жены.
Бояре шумели, родственники тишайшей царицы Соломонии недовольство открыто высказывали, а вот митрополит Московский Даниил не захотел ссориться с царем и дал разрешение на повторный брак. Только радоваться на подрастающих сыновей недолго довелось царю. Умер Василий Иванович, оставил Елену-вдову с двумя малолетними ребятками…
Митрополит посматривал то на белевшую под синим сводом летнего неба церковь, то на семнадцатилетнего царя Ивана, то на окруживших того бояр Романовых. Немногочисленные Глинские стояли в отдалении. Новый государь, новое окружение, новые опалы…
Ах, если бы матушка его, Елена-Прекрасная-Глинская, упокой Господи душу ее, не согрешила пред мужем да Богом, не любовался бы сегодня митрополит Макарий отменной красотой церкви Зачатия.
Что сказал тогда патриарх? Монастырь царя стоит. И прав оказался.
В январе этого года, стало быть, шесть месяцев назад, Кремль как раз к венчанию семнадцатилетнего Ивана на царствие готовился. В Успенский собор народу набилось – яблоку упасть негде. Иван Васильевич только знака ждал, чтоб из палат Кремлевских до собора дойти. Певчие, дюжие молодцы, нетерпеливо посматривали на регента, перебирали ногами, как застоявшиеся молодые кони. Гости вытягивали шеи, посматривая на открытые настежь двери собора: не едет ли государь?
Все были готовы. Кроме самого главного человека – патриарха.
Помнил хорошо митрополит, как помертвел лицом старший Глинский, когда в первый раз документ увидел.
Младший же Глинский с ненавистью взирал на сухого старца – патриарха:
– Чего хочешь за молчание? – еле выдавил сквозь сведенные ненавистью губы.
Митрополит стоял за спиной владыки, молчал, опустив глаза долу. Совсем обезумели от страха и гнева Глинские. Кто ж так с главой Церкви разговаривает?
– Не посмеешь, отче. Не посмеешь обнародовать…
– Да, не удивится никто, боярин, увидев сей документ, – разлепил наконец крепко сжатые губы патриарх. – Сколько сплетен ходило о сестре вашей беспутной…
– То сплетни! – оскорбленно и дружно вскричали Глинские.
Лица кровью налилились, глаза – вытаращенные. Ох, нелегко от власти отказываться! Несмотря на серьезность ситуации, митрополит Макарий с трудом удерживал улыбку, глядя на растерянных бояр. Жадные воры!
Царь Василий деньги оставил на постройку новой церкви в монастыре, но семья Глинских воровата была всегда: истратили деньги на наряды да баловство. Церковь молчала, ждала, слушая наглые оправдания зарвавшихся родственников царицы Елены. И дождалась. Отдали ей деньги Глинские, как миленькие отдали. Посопели, глазами посверкали, руками поразводили – и вернули деньги на постройку храма. Нашли быстренько растраченные капиталы. В обмен на одну прелюбопытную церковную запись. Вот ту, которую владыко держал в сухой ладошке.
– Сплетни, говоришь? А доказательство – в руке, боярин.
Братья Глинские едва сумели дух перевести. Ах, сестрица-красавица, Елена-разумница, все правильно делала, пока братьев слушалась, а как волю почувствовала, так и наломала дров.
– Не дело вытаскивать на суд смердов дела давно минувших дней, – постарался взять себя в руки старший Глинский, хоть от распиравшего гнева и злости едва дышал. – Обнародуешь документ – бунт начнется, отче.
– Кто говорит о бунте, боярин? – вступил в разговор митрополит, подчиняясь невидимому знаку патриарха. – По завещанию усопшего царя Василия, Зачатьевский монастырь должен был получить деньги на строительство новой церкви. Когда он завещание написал?
Глинские молчали, как воды в рот набрали, только сопели тяжело, как внезапно потревоженные медведи.
– Ивану тогда семь годков стукнуло, – спокойно продолжал Макарий. – Уж десять весен миновало. Мы терпеливо ждали, но… каждому терпению свой предел есть…
– Не наберем враз такую сумму, – выдавил наконец из себя один из братьев, Макарий не разобрал, который.
– А мы подождем, – тонко улыбнулся патриарх. – И как только церковь построится, так сразу Ивана на царствие и повенчаем, бояре.
Младшему Глинскому так и хотелось пристукнуть старый пенек, чтоб никогда больше не слышать его скрипучего голоса. Ишь, чего выдумал! Венчание на царство племянника отложить!
А все Елена, сестрица ненаглядная. Зарвалась со своим Телепневым. Как уговаривали ее братья образумиться! Не поступать опрометчиво, подождать, подумать. Нет, как шлея под хвост завернулась!
Племяннику Иванушке тогда только-только семь годков сравнялось, правильно старый пень помнит. Царя Василия, мужа сестрицы, отпели, а она уж о новом муже заговорила, глупая баба. О своем ненаглядном Телепневе-Овчине.
Не думала ни о чем, не слышала злых толков, заполнявших Кремлевский терем. «Своей ли смертью умер наш царь-батюшка Василий Иванович? – шептались по углам седые бояре, растворяясь при виде Глинских в темноте как тени. – А, может, помогла ему царица Елена, потому как надоел старик и мешал ей миловаться с разлюбезным братцем?»
Глинские как могли тушили опасные разговоры, но разве за всеми подглядишь и на каждый злобный роток накинешь платок?
А ведь сначала все шло преотлично. Как осталась Елена вдовой, тут же всем бородачам-боярам показала, кто в доме хозяин. Хозяйка то есть. Она – царица Елена. Всегда была упряма и честолюбива, настоящая Глинская! Крепко власть в руки забрала и не собиралась никому спускать за неповиновение. Китай-город выстроила, со шведами перемирие заключила. Деверей под замок посадила, только те осмелились недовольство правлением ее выказать.
Все шло хорошо, братья нарадоваться на сестру-разумницу не могли. И вдруг – на тебе, как гром среди ясного неба. Надумала сестрица венчаться. С кем бы вы думали, христиане православные? Со своим Овчиной!
Старшего Глинского чуть удар не хватил, а дядя Михаил почти языка лишился.
– Не хочу ничего слушать, – твердо заявила Елена в лицо опешившим от новости родственникам. – Иван – отец моих детей. Я – вдовица, он – свободный от брака, перед лицом церкви мы чисты.
Чисты, так. Но где ж это видано, чтоб вдовая царица за конюшего, пусть он трижды князем будет, замуж шла?
– Дура, бунта хочешь? – не сдержавшись, заорал на царицу дядя.
Елена только зубы сцепила да ноздри раздула.
– Уж не дурей тебя, милый мой. Сделаем все по-тихому, тайно. Никто ни об чем не узнает. А мне так легче будет. На том свете хочу вместе с Иваном быть. Хочу быть венчанной с отцом детей своих!
– На том свете! – дружно взревели братья. – Об этом свете думать надо!
Дальше начался такой ор, хоть святых выноси.
– Довольно того, что старика больного терпела рядом с собой почти десять лет! – кричала Елена братьям.
По-человечески понять ее тоже можно было. Царь-то Василий не в отцы, а в деды Елене годился. После заключения Соломонии в монастырь сильно сдал он, поседел, подурнел, и ноги язвами покрылись. Плоть царя старела, зубы редели и запах от Василия – ох! – больно дух нехороший шел. Каждый раз, входя в опочивальню, младший Глинский старался задерживать дыхание, прятал нос в душистые меха, чтоб не вдыхать миазмы старика. Он-то вошел и вышел, а сестрица оставалась…
Когда Василий венчался с Еленой, ему было 46 лет, а Елене едва исполнилось 16. И так любил Василий свою молоденькую жену, что каждый день к ней в опочивальню захаживал.
Как же, все ждали наследника. Повивальные бабки да лекари Елене проходу не давали, расспрашивали, ощупывали взглядами стан – полнеет ли, округляется? Вот и делали царь с сестрицей наследника четыре года – утром в церкви молились, а вечером в опочивальне трудились. Елену трясло от брезгливости к старику. Сил в нем осталось мало, порой полночи ласкал юную жену, прежде чем мог супружеский долг исполнить.
Братья только руками разводили в ответ на жалобы Елены – потерпи да потерпи. А наследника все не было…
Спустя время Елена каждый день рыдать начинала, в опочивальню ее братья почти волоком тащили. Грозилась пострижением в монастырь. Те ее опять терпеть уговаривали.
– Терпеть? – истерически кричала Елена-красавица и топала маленькими ножками в сафьяновых сапожках.
Младший Глинский любовался сестрой, даже когда та в гнев впадала: нежные щечки разгорались румянцем, глазки так и сверкали из-под темных полукружий бровей.
– Терпеть? Сколь терпеть-то? Вот бы вам такое терпение! Не к вам старик в постель лезет каждую ночь! Не вам по покоям пройтись нельзя, все так и ощупывают– где наследник, где наследник?
– Не будет сына, точно в клобуке окажешься, дурочка, – твердили рыдающей Елене братья хором, а потом глубоко задумались.
Пятый год замужем за старцем сестрица, срок немалый. А если вспомнить Соломонию, то что же такое получается-то? Нехорошо получается. Не может свет-царь батюшка Василий Иванович ребятенка сотворить.
Подумали крепко братья и приставили к молодой царице конюшего Ивана Федоровича, князя Овчину-Телепнева-Оболенского, дальнего родственника, так, седьмая вода на киселе, но – сажень в плечах, высок, силен. И – диво дивное! Царица через месяц в тягости оказалась.
Как и положено, родился наследник в срок. Влюбленная Елена первенца в честь отца назвала, хоть братья отговаривали, но сестрица уперлась крепче барана. Сын Иваном будет! Пусть себе царь Василий думает, что хочет, она-то знает.
После рождения царевича Елену как подменили. Стала дерзить братьям, не слушничать. Она подмешивала Василию снотворное в питье и как только тот забывался тяжелым сном, ужом выскальзывала из опочивальни царской, где за дверью ждал любезный сердцу князь Овчина.
После кончины старика мужа совсем сестрица осторожность потеряла. Иван-то Телепнев, к ужасу Глинских и злорадству двора, к вдовой царице, как супруг стал захаживать. Глинских злоба брала на выскочку, не помнившего благодарности. Если бы не они, где бы был Овчина? Где угодно, но только не в Кремлевских палатах, с его-то худородностью.
Хотели братья от князя-то потихонечку избавиться, дело свое он сделал, зачем при дворе лишний свидетель? Но Елена, седьмым чувством угадав намерения братьев, такой крик подняла, что решено было повременить да оставить все как есть.
А Елене все неймется. Начала разговор о венчании, потому как любила своего любовника до одури. Братья запрещали ей даже думать о подобной ереси. Стращали спятившую от страсти боярским бунтом. Угрожали, что вышлют Телепнева с глаз долой в тундру, в степь, в Сибирь! По-мужицки плеткой грозили.
Потом поговорил старший Глинский с глазу на глаз с Еленой, по-хорошему, по-родственному. Будто бы поняла все. Притихла. И братья успокоились. А сегодня вот, десять лет спустя, узнали, что Елена таки наплевала на все запреты да угрозы родственников и тайно обвенчалась со своим Овчиной!
Сидит теперь перед ними древний патриарх с ветхой бумажкой в высохших руках и ведает, что в ней заключается для братьев погибель.
– Как ты мог, владыко, дать разрешение – тайное! – венчать их? – вне себя, кипя от гнева, вопросил младший Глинский.
– Чтобы восстановить справедливость пред лицом Бога. Раз уж отцом Ивана был боярин Телепнев, то должен был он соединиться законным браком с матерью своего ребенка, – благолепно ответил старик.
Глинский аж застонал от душившей его злобы.
– Ну, объявишь ты боярам, что Иван – сын боярина Телепнева? Ну, полетят наши головы. Нового царя выберут – зачем тебе-то это надо? Бояре, сам ведаешь, грызться начнут между собой. Посмотри на Захарьиных – первые, кто мутить начнет! Зачем бунты нужны? Для чего?
– Сын мой, монастырь царя стоит, – усмехнулся длинной бородой старец.
И тут до Глинских дошло, что патриарх не играет с ними в кошки-мышки и не хочет их погибели и что ежели отдать ему припрятанные деньги, то повенчает он на царствие их племянника – Ивана Ивановича, то есть тьфу ты! – Ивана Васильевича!
Через два часа деньги привезли. Через три – стал племянник венчанным царем Московии, Иваном IV Васильевичем.
А через месяц вспыхнул сильный пожар в Москве и сгорели все деревянные постройки Зачатьевского монастыря. Многие документы сгорели, ценные книги, позолоченный алтарь, иконы древние, из Византии привезенные…
Зря Глинские грех на душу взяли. Думали, сгорят книги записные, письменные свидетельства и – концы в воду. Книг церковных множество сгорело, но то что хотели спрятать от нескромных лишних глаз, давно уж было припрятано. Церковь хранит секреты за крепкими замками памяти, и никакие пожары этим глубоко запрятанным тайнам не страшны.
Медленно, с помощью добровольных помощников, кряхтя и охая от усилий, митрополит Макарий залез в повозку. Старость дает знать о себе. Сколько ему еще осталось чудных летних дней, наполненных знойными ароматами трав и солнечным теплом? Кто же знает – все в Божьих руках.
Резво рванули повозку сытые кони. Остались позади выбеленные высокие стены Зачатьевского монастыря, а за ними – взволнованные обитательницы и любезный царь Иван Васильевич.
Да, монастырь царя стоит, подумалось опять Макарию. Прикрыл он уставшие глаза морщинистыми веками, со вздохом думая о быстротечном времени и бренности всего земного.
Он-то прекрасно помнил тайный день венчания матери Ивана с любовником-князем много лет назад, вьюжной зимней ночью, вот в этом самом монастыре, где князь Василий простаивал коленопреклоненно долгие службы, вымаливая у святых наследника.
После пожара монастырь быстро отстроили, еще красивее он стал. А старую цокольную часовенку, где Макарий венчал Елену Глинскую с отцом нынешнего царя, завалило землей да бревнами.
Такое разве забудешь… Студеной ночью привезли легкую незаметную кибитку два огромных коня. Звезд на небе высыпало видимо-невидимо, снег под яркой луной серебрился, деревья потрескивали от мороза.
По обледенелым ступенькам, осторожно ступая маленькими сапожками, спустилась Елена вниз в цокольную часовенку. Там уж ждали ее митрополит да князь Телепнев. Чудо как хороша была царица в тот день, глаз влюбленных не спускала со своего Овчины.
Митрополит Телепнева недолюбливал, но все равно радостно ему было венчать их. Что ни говори, а когда брак людей любящих освящается, легче на душе становится, светлее. И кто мы такие, чтобы судить грешников? На то другой Суд будет, Божий.
Митрополит задумчиво смотрел на стоящих перед ним молодых людей. Воистину, пути твои неисповедимы, Господи… Вот преклонили колени пред аналоем родители двух сыновей. Значит, брак их на небесах уж свершился? Хотя зачала этих детей мать в прелюбодействе…
Пред венчанием Елена пошла на исповедь, вслед за ней – князь Телепнев.
Митрополит незаметно кивнул помощнику-иноку, зажигавшему свечки у алтаря. Тот понял, чуть-чуть прикрыв глаза ресницами. Митрополит улыбнулся про себя. Ах, помощника ему Господь послал – умницу великую.
Темная церквушка наполнилась запахом ладана и раскаленного воска. С сусально-золотых риз милостиво смотрели на Елену и Ивана кроткие святые.
– Обручается раба Божья Елена рабу Божью Ивану…
– Обручается раб Божий Иван рабе Божьей Елене…
Не было в ту ночь ни великолепного хора, ни нарядных гостей, ни шумного застолья, а оба, Елена и Иван, заплакали, как митрополит объявил им тихо, благостно осеняя крестом:
– Пред Богом и людьми теперь вы муж и жена…
У митрополита и самого в глазах защипало, когда увидел как приникла Елена к мужу, как, улыбаясь робко, будто неопытный отрок, боярин Иван обнял новоявленную жену свою…
А уехали новобрачные – инок принес митрополиту исписанный листок, чернила еще не высохли. Близко поднес тогда митрополит документ к близоруким глазам, почти наклоняясь к свечам, так что чувствовал веками жар их. Читал внимательно – исповедь пред венчанием царицы Елены да боярина-князя Ивана Федоровича Телепнева.
Давно почил в мире царь Василий. Успокоилась Елена, Бог ей судья. Отпели князя Телепнева. Вырос Иван Васильевич, принял царский венец, стал чаще задумываться и однажды под вечер после Всенощной пригласил стареющего митрополита Макария к себе.
Знал прекрасно Макарий, зачем призвал к себе молодой царь, но вида не подал. Тихо уселся на маленький стульчик и разговор начинать не спешил. Царь-подросток Иван нервничал, молчал, жевал губами, но вот решился:
– Сказывали, владыко, что у первой жены моего отца, Соломонии, в монастыре после пострижения родился ребенок…
Макарий ожидал такого вопроса.
– Сплетни все, государь, – спокойно ответил. – Не о чем и тревожиться. Откуда в монастыре ребенку взяться?
– Могилу Соломонии вскрыли, чтобы сплетни унять об опальной царице, – не слушая митрополита, нервно продолжал Иван, голос дрожал, срывался, – и рядом с ее доминой гробик маленький увидели. Только вместо детских останков куклу тряпичную обнаружили… Куда младенец девался?
Митрополит отвел глаза и ответил царю Ивану теми же словами, что и царю-отцу Василию почти двадцать лет назад:
– Государь, не бери себе в голову. Не было никакого младенца. Сплетни все это. Небось какая-нибудь черница посоветовала Соломонии объявить такое, да и сама сплетни сеять стала.
– Зачем ей?
– Зависть, государь. К молодой царице и ее материнству.
И так же, как отец его двадцать лет назад, задумался молодой государь.
Митрополит тоже унесся думами в прошлое. Увидел Василия Ивановича, постаревшего, сгорбившегося от боли в ногах. Старость – не радость, никого не минует, ни самого державного царя, ни последнего смерда.
Знал Макарий, о чем думал тогда отживавший свой век государь – о долгожданном наследнике, которого никак не мог зачать. Не получилось ничего с верной Соломонией, не получалось долго ничего с молоденькой Еленой. Значит, напрасно Соломонию в монастырь отправил? И слухи эти тревожные о младенце монастырском у Соломонии, которые поползли по кремлевским палатам… Откуда они? Неужели Соломония и вправду решилась на такое?
Хоть и была Соломония опальной царицей, удаленной за ненадобностью в монастырь, но Василий Иванович ощутил что-то вроде укуса ревности, когда в первый раз сплетни о младенце услыхал. Ведь четверть века прожили вместе, и стала Соломония почти что частью Василия, которую и не замечаешь вроде, как пальцы на руке или ноге, а вот поди, лишись одного из них, ведь заболит? Еще как заболит. И душа тоже болела.
Если правда, о чем народ по углам шепчется, значит, напрасно первой женой пожертвовал. И дело совсем не в ней? А в ком? В нем, в нем самом?! Об этом даже подумать боязно, грешно, неловко.
Митрополит Макарий все мелькавшие в голове царя думы слышал. Слышал он и об отвращении Елены к старику мужу и нежелании разделять с ним ложе, но не отправлять же и ее в монастырь из-за этого? Надеть второй жене монастырский куколь из-за того, что родить не может, значит, во всеуслышание подписать приговор царю.
И Макарий, и стареющий Василий прекрасно знали, что недаром появился при дворе молодой Телепнев. Уж больно переживали братья Елены об отсутствии племянников-наследников, вот и подсуетились, да быстро как!
Никому не мог признаться царь Василий в сомнениях своих, даже ему, митрополиту Макарию. Хорошо бы, кабы только у царя такие догадки промелькнули. Но…
Братья Глинские точно знают, чей Иван сын. Елена знает, ее Телепнев знает, Макарий знает. Ох-ох-ох, много народа знает, и если кто проговорится, смуты не избежать.
Именно в тот день, когда понуро сидел царь Василий Иванович, печально опустив совсем седую голову, митрополит Макарий вдруг сердцем понял, что значит сила истинной горячей молитвы. Бойтесь, православные, просить Господа нашего, потому что все ваши молитвы будут Им исполнены! Василий Иванович молил Создателя о наследнике, вот он и появился. А сейчас не подойдешь к иконе святой и не скажешь ей:
– Не совсем так ты поняла молитву мою, Милосердная. Возьми этого ребятенка, другого надобно наследника, моего собственного.
Поздно. Ты, царь Василий, чего у святой иконы вымаливал? Царского наследника. Вот Бог тебе и дал – здорового мальчика, коему шесть месяцев назад исполнилось семнадцать годков.
Сильно задумавшись, совсем как Василий двадцать лет назад, сидел молодой царь Иван перед старым Макарием, а митрополиту грустно до слез стало от мыслей о бренности земной юдоли.
Пускай молодой Иван Васильевич тешит себя уверенностью, что он – первый после Творца и называет себя Грозным. Молод он еще, несмышлен… Время придет, сын Ивана-царя женится, будет и у него державный наследник престола подрастать.
Церковь и ее святые отцы стоят крепко за спиной государя и его еще не рожденного сына, и всегда стоять будут. Поймет он однажды, что пока Церковь православная правит Русской землей, порядок будет. Много тайн хранит она и даже венчанным ею царям не все тайны свои приоткрывает…
Часть вторая
11. Las Vegas: из борделя – к мафиози
Старуха замолчала.
– Караул, – только и смогла выговорить я.
– Отцом Ивана Грозного был дальний родственник Елены, конюший, князь Иван Федорович Телепнев-Овчина, – безапелляционно закончила Эрвина. – Поэтому-то бояре Захарьины-Романовы и вышибли Марину из Кремля. По справедливости, они имели такое же право посадить на престол своего наследника Михаила Федоровича, как и Марина – Ивана Дмитриевича.
– Но убитый ребенок, – запинаясь, напомнила я.
– Лес рубят – щепки летят, – невозмутимо констатировала старуха.
– Может, легенда о том, что Марина прокляла род Романовых и не фантазии историков? – спокойно заметил Мур. – Я бы тоже всех проклял, если бы моего ребенка повесили. Но как часто проклятия сбываются в реальной жизни? Это все для дамских романов.
Я прямо содрогнулась от его замечания.
Тут у Эрвины громко заорал сотовый. Старуха выхватила телефон и что-то невнятно забормотала.
От бесконечных ночных разговоров усталость одолела меня так, что чувствовалась дрожь в ногах и неудобство во всем теле как будто после долгого сидения в кресле самолета. Пока Эрвина бубнила в трубку, я встала и прошлась по чистой студии.
На стенах висели прекрасно выполненные и идеально оформленные акварели, натюрморты, карандашные зарисовки. Похоже, Эрвина была не только талантлива, но и потрясающе трудолюбива.
– Зачем вы живете здесь? – тихо спросила я. – Вы же талантливая художница. В конце концов не у всех одаренных людей карьера складывается гладко в молодости. Почему бы не попробовать опять выставить работы? Прошло столько лет! Все сплетни давно забылись, Эрвина.
– Хм, талантливая художница, – проворчала, скривившись, старуха. – На устройства выставки деньги нужны. Кто ж на хлеб подаст? Рисование – хобби не из дешевых. Здесь работа держит.
– А кем работаете? – заинтересовалась я.
– Содержу бордель, – спокойно ответила немыслимая старушенция, и в очередной раз мы с Муром застыли с вытаращенными глазами.
Товарищи дорогие, это что же такое делается на свете, а?
Через минуту в комнату впорхнула аппетитная полуголая девушка с ушками зайчика в пышных волосах и хвостиком на невесомых трусиках. На подносе в ее руках дымились чашки с ароматным кофе. Девушка-зайчик кокетливо прищурилась на Мура, и тот в ответ приветливо улыбнулся. А меня почему-то охватила жуткая злость: то медсестра в госпитале, то зайка в притоне!
Старушенция буркнула, девушка исчезла, и Мур, увидев мое покрасневшее и насупленное лицо, смущенно закашлялся и нерешительно пробормотал:
– Нам надо ехать, Лиза?
– Ну, ерунда, – отмахнулась старуха. – Глупости. Сегодня тихая ночь, клиентов мало и полным-полно пустых комнат. Выбирайте любую. Допивайте кофе, а завтра я накормлю вас отличным завтраком. У меня первоклассный повар, с огромным опытом работы, – по-детски радостно похвасталась Эрвина.
Мур вопросительно поднял глаза, но я демонстративно отвернулась. Злость прямо-таки распирала меня. Вот вам и суровый полицейский, расследующий убийство бабушки! Только со мной и Аленом строгий да пасмурный, а вон как разулыбался при виде полуголой красотки.
Мур неловко начал прощаться, но вредная старушенция ехидно заулыбалась и решительным тоном, не терпящим пререканий, приказала двигать за ней.
Через почти незаметную в стене дверь мы прошли, как я поняла, в «публичную» часть дома. К удивлению, везде было тихо: ни громкой музыки, ни мрачных вышибал, ни обнаженных танцующих прелестниц. Но, может, они все заняты с клиентами? И потом, с какими борделями я могла бы сравнить заведение Эрвины? Уж так получилось, что никогда ни в один из них не заходила.
Мы дружно протопали мимо уютного полутемного бара, где вокруг стойки сидело несколько прилично одетых мужчин. Они даже не повернули к нам головы, занятые своими разговорами. Из бара неизвестно куда вел длинный пустой коридор.
Вдруг я с ужасом вспомнила, что сумочку с документами и мобильник оставила в джипе Мура. Звонила детям, глупая курица, и по привычке запихнула телефон в «карман» двери, а потом благополучно забыла о нем.
Только-только я собралась решительно объявить об этом Муру, и что нипочем не останусь одна в спальне неизвестного борделя, как оказалась в одиночестве в крошечной комнатке, основным украшением которой являлась огромная многоярусная кровать. Невнятная реплика Эрвины и – дверь захлопнулась, щелкнул замок, затихли шаги в коридоре.
Я осторожно присела на пышную кровать и огляделась.
Над комодом висело зеркало, на прикроватном столике лежала толстая Библия. Я не удержалась и громко, на всю комнату, негодующе фыркнула. Подумать только – кому и зачем здесь понадобится Библия?! Притворство и лицемерие – вот что прежде всего продает этот дурацкий бордель, если вам интересно мое мнение.
Одну стену комнаты полностью скрывали полосатые задернутые гардины. Я подошла к окну, отодвинула штору и… взгляд уперся в идеально покрашенную стену! В комнате не было окон.
Вот это да. Комната-то больше напоминает камеру! Господи, куда меня занесло? Зачем, зачем я согласилась поехать с Муром?
Вот совсем недавно по телевидению транслировали жуткий фильм о запрещенных методах вербовки молоденьких иностранок, которыми пользуются в Штатах сутенеры подпольных борделей. Как раз в заброшенных городах Невады.
Страшный фильм припомнился совсем некстати. Конечно, я не такая уж молоденькая, но… документы остались в машине… И Мур знает, что я стала богатой наследницей…
Почему Эрвина расселила меня и Мура по разным комнатам? Она ведь даже не предложила нам остаться вдвоем, что выглядело бы более чем естественно!
А Мур? Отчего Мур не предложил остаться со мной? Конечно же я не собиралась провести с ним романтическую ночь, но он так незаметно исчез, что я, если бы даже и захотела, ничего не успела бы сказать.
От глупых мыслей по позвоночнику пробежали мурашки, а в желудке, как говорят американцы, «закопошилась стая бабочек».
Стараясь не паниковать, я открыла следующую дверь, за которой обнаружила чистую крохотную ванную комнату. Небольшое оконце, забранное решеткой, находилось под самым потолком. Я встала на крышку унитаза и дотянулась до оконца. Оно было открыто, из него тянуло жаром душной ночи, но ни единого звука не долетало со спящей улицы.
Может, попробовать выбраться отсюда и найти машину Мура, оставленную около рассыпающегося от грязи дома Алена? Но как отыскать этот дом ночью в незнакомом городе? На дворе стояла темнотища, хоть глаз выколи.
Как же так получилось, что, разыскивая подтверждения законного царствования Марины Мнишек, я попала невесть куда?
Вдруг площадка перед оконцем залил яркий свет. Я затаила дыхание за своей решеткой.
– Ты собак спустил? – послышался низкий «шаляпинский» голос.
Ответа на вопрос я не разобрала, но услышала цокот каблучков.
– Домой? – миролюбиво поинтересовался тот, кто спрашивал о выпущенных на волю собаках. – А кто «крышей» сегодня заниматься будет?
– Не я, – ответило мелодичное сопрано. – Она сегодня капризничает, сердится и пьет, Эрвина меня отпустила. Ой, только собаку попридержи, пока в машину не сяду.
– Не спеши, – миролюбиво ответил бас. – Новенькую предупредила? Чтоб не выходила?
– Два раза, – прозвенело сопрано. – Она сказала Эрвине, что наш гость отрывается по полной.
Взревел мотор, зашуршали шины по сухому гравию. Вытянув шею, я увидела красные огоньки отъехавшей к воротам машины.
Потом под окном раздалось громкое чавканье, и показалась собака размером с хорошо упитанного слона. Вид у нее был недовольный и пресвирепый. Уткнув нос в землю, животное неторопливо пробежало мимо оконца, виляя хорошо откормленным и натренированным телом.
Свет погас, двор опять погрузился в темноту.
Так, в любом случае поиски развалюхи Алена-грязнули на сегодняшний вечер отменяются – из дома я ни ногой. Вот и решай дилемму – остаться ночью совершенно одной в незнакомом борделе или быть съеденной зубастым волкодавом?
Я аккуратно спрыгнула с крышки унитаза, тихонько подошла к двери, покрутила ручку и приложила ухо к замочной скважине. В доме царила такая же мертвая тишина, как и на улице.
Странно. Разве в борделях ночью не должен царить праздник веселья и любви, предлагаемой хмельными красавицами всем без разбору гостям? Или бордель находится под прикрытием профсоюзов, кои строго следят за расписанием работающих девушек и выставляют всех клиентов ровно в 9 вечера?
Осторожно и бесшумно приоткрыв дверь, я высунула нос в темный коридор и на цыпочках вышла из комнаты, напряженно прислушиваясь к темноте.
Сначала я ничего не слышала, кроме шума монотонно гудящего кондиционера, но через некоторое время ухо уловило едва различимый говор. Я немного подумала, а потом почти на ощупь стала пробираться на звук приглушенных голосов где-то вдалеке.
Тихий гул раздавался из бара. Мур и Эрвина сидели в самом его углу, уютно устроившись на полукруглом диванчике и о чем-то очень миролюбиво беседуя, словно знали друг друга тысячу лет.
Застыв у входа в бар и подрагивая от струй холодного кондиционера, я отрешенно подумала: а вдруг Мур – та самая крыша, о которой говорила уезжавшая девушка? Которая «капризничает» и «отрывается по полной»? Тогда понятно, почему Эрвина не предложила ему остаться со мной!
Вот почему Муру приспичило заехать в богом забытый городишко. Встретиться с любителем старины, как бы не так! Только такая дура, как я, права Галка, могла поехать с неизвестным человеком неизвестно зачем и неизвестно куда!
Тихо-тихо я отползла назад, закрыла дверь, которая, кстати, оказалась без замка, осмотрела еще раз комнату и решительно подошла к комоду. Вытащила из него все ящики, сняла тяжеленные подсвечники и стала толкать по направлению к двери. Комод был из настоящего дерева, раритетный и тяжелый как черт, но я лихо передвинула его к двери, идеально загородив массивом дверной проем. Теперь никто в комнату ко мне не зайдет.
Не раздеваясь и не умываясь, свернулась калачиком на шелковом покрывале, тараща глаза в потолок. Время тащилось медленно, стрелки просто застыли на циферблате… Три часа ночи, четыре, пять…
Утешала меня только одна мысль. Машка поднимет дикую бучу, если не увидит меня завтра. Брат, естественно, знает, с кем я путешествую. Главное – не открывать дверь. На этой мысли я благополучно провалилась в сон.
Разбудил меня назойливый стук в дверь и шум голосов в коридоре. Дверь была задвинута комодом, и, естественно, никто войти в комнату не мог.
– Лиза! – надрывался невидимый Мур. – Что случилось?
– У тебя есть мобильник? – вместо приветствия сонно ответила я, выползая из-под скользкого покрывала и с огорчением рассматривая припухшие от почти бессонной ночи глаза в зеркало комода. – Не открою дверь, пока не наберешь номер брата.
За стеной послышалось удивленное покашливание. Через полчаса Мур принес мне мобильник и просунул через зарешетчатое оконцо в ванной комнате. Я переговорила с Машкой, потом с братом.
Сережка хотел узнать, благополучен ли был путь до Лас-Вегаса. От всех пережитых волнений я плохо соображала и поэтому честно ответила, что пришлось переночевать по дороге в одном из борделей Невады. Повисло недоуменное молчание, а потом, по обыкновению, громко и сердито проорав: «Не забудь прихватить телефончик заведения!», – Сергей дал отбой.
– Теперь выходишь? – спокойно поинтересовался Мур откуда-то из-за окна. – Поторопись, есть очень хочется.
– Да, – пробурчала я и попробовала отодвинуть комод от двери.
Вы не поверите, но я не то чтобы оттащить комод на место, а и на сантиметр отодвинуть его не смогла, и пропыхтела целый час, пытаясь сдвинуть проклятый с места.
Наконец между мебелью и дверью образовалась малюсенькая щель, через которую мне и удалось протиснуться в коридор, потной, злой и с дрожавшими от физического перенапряжения коленками. Дюжие секьюрити при виде меня не смогли сдержать смеха.
– Девчонка одна сказала мне утром, – заметил один другому, – что посреди ночи из соседней комнаты раздался странный шум. Она не могла понять, что происходит? Оказывается, наша гостья комодом дверь загораживала! – и мускулистые ребята громко заржали как сытые кони.
Я величественно прошла в бар, стараясь не обращать на зубоскалов внимания. Странно, но утром заведение не выглядело так зловеще, как вчера ночью. Пахло лавандовым мылом, хорошо заваренным кофе и сдобными булочками с корицей.
Присев за стол, покрытый свежей накрахмаленной скатерью, я хмуро поздоровалась с Эрвиной, которой что-то шептал на ухо дюжий молодец.
– Зачем придвинула комод к двери? – весело поинтересовался Мур, одетый сегодня не в полицейскую форму, а в потертые джинсы и простенькую беленькую футболку.
Перед ним стояла тарелка с огромной горой пухлых блинчиков, которую он щедро заливая вонючим кленовым сиропом.
– А зачем ты оставил меня совершенно одну ночью? – возмутилась я, раздражаясь от его веселого тона. – И где? В сомнительном заведении! А если бы кто ко мне пришел? Дверь, к твоему сведению, не запиралась на замок!
– Извини, не понял, что ты была готова провести со мной ночь, – миролюбиво промычал Мур с набитым ртом, – поэтому и не остался.
Сердито выхватив из рук бармена чашку кофе, я отвернулась от Эрвины, которая прямо-таки повалилась на стол от истерического хохота. До нее наконец дошло, почему я полночи двигала мебель в комнате.
– Девочка моя, – всхрюкивая и икая, еле выдавила она. – Не хочу обижать, но в твоем возрасте у меня работают только уборщицы и прачки.
Я задохнулась от негодования. Какая гадина!
Тут к столику подошла одна из ее девочек, не вчерашняя, субтильная, а весьма пышная «зайка» – и Эрвина, все еще смеясь, отошла с ней к бару.
– Я прекрасно выгляжу, – сердито сказала я, глядя вслед на диво откормленной девице. – А ее зайчику не мешало бы сбросить парочку килограммов.
– Угу, – наливая кофе себе и мне, опять спокойно согласился Мур, набрасываясь на вторую гору пухлых блинчиков. – Только не понял, откуда столько сарказма, Лиза? Скорбишь о неиспользованных этой ночью возможностях?
Ну и что ответить на такое хамское заявление? Только больно стукнуть по наглой макушке! Но я заставила себя сдержаться.
– Просто не предполагала, что поиски убийцы твоей бабушки заведут нас в подобное заведение, – колко ответила я, и завтрак закончился в полном молчании.
Когда мы вышли из борделя, наш чисто отмытый и отполированный джип ждал прямо у порога. Мур галантно поцеловал сухую лапку Эрвины и помог мне забраться на высокое сидение.
– Заезжайте на обратном пути завтракать, – послала нам ручкой воздушный поцелуй старушенция, делая вид, что не замечает моего пасмурного лица, а чернокожие молодцы за ее спиной дружно заулыбались.
Мне ничего не оставалось, как также вежливо помахать в ответ. Ноги моей не будет больше в этом заведении!
Через десять минут грязный, забытый богом городишко остался позади. Я искоса поглядывала на спокойно сидящего за рулем Мура. Интересно, а он… воспользовался гостеприимством Эрвины? Вспомнив вчерашнего улыбающегося Мура, свои страхи, бессонную ночь, таскание тяжеленного комода туда-сюда, я покраснела от злости.
Не обращая на меня никакого внимания, Мур порылся в дисках и сунул один в плеер. «Паоло Конте» прочитала я на обложке, где был сфотографирован большеносый изящный мужчина на фоне заброшенного английского сада.
В полном молчании под итальянский речитатив ближе к вечеру мы доехали до бестолкового, залитого бесчисленными неоновыми огнями реклам Лас-Вегаса.
В Лас-Вегасе мы остановились в шумной безвкусной гостинице «Мираж», которая, однако, пользуется колоссальным успехом у публики и всегда забита гостями до отказа.
Закинув сумки в номер, Мур, не дав умыться и поесть, потащил меня на встречу с другим, дорогим, в прямом смысле слова, коллекционером.
Аудиенция коренным потомком мафиози была назначена в его личных апартаментах в помпезном отеле «Венеция», который тоже пестрил мрамором и искусственной позолотой псевдо-Италии.
Перед тем как открыть последнюю дверь к наследию сеньора Маркони Файя, охранники обыскали нас несметное количество раз. Наверное, попасть на прием к президенту Соединенных Штатов было бы не столь затруднительно, как к престарелому внуку американского преступника.
Уже у раззолоченных дверей, перед входом в недоступный простым смертным Эдэм, под пристально-нехорошим взглядом сопровождающих, я обозленно прошипела Муру:
– Ты же сказал, что твой мафиози почти что родственник? Так какого рожна нас до трусов обыскивают в сто первый раз?
– И никакой он не мой родственник, – отбил мяч Мур, тоже злой, как черт. – Просто он знал мою бабушку.
Старинный поклонник Муровой бабушки занимал гигантский номер-люкс, набитый под завязку мебелью, телохранителями и горничными. Сам он оказался сухим невысоким стариканом с живыми темными глазами и острым, как бритва, языком.
– Дневник Марины – полное дерьмо, – с лету, безапелляционно и раздраженно заявил нам сеньор Маркони Файя, даже не дослушав Мура. – Только тупой полиции может прийти в голову такая идиотская версия. Дневник Марины! Да такой бумажке – пятачок за пучок в базарный день. Письмо последнего императора – вот бомба! – продолжал злобиться сеньор Файя на тупость полиции. – За этот документ любой коллекционер глотку перегрызет и на тот свет отправит.
Я навострила ушки.
– Николая II? – живо переспросил Мур.
– Николая II, а может, Александра I, – проворчал старик, пристально разглядывая меня колючими глазками. – А может, Ивана IV? Или Дмитрия I? Как думаешь, девочка?
– Не имею ни малейшего понятия, – неуверенно пробормотала я.
– Мы недавно встречались с господином Эдвардом Спенсером, – опять завел Мур. – Он предположительно высказал версию…
– О том, что Лжедмитрий вовсе и не Лжедмитрий, – откидываясь на шелковых подушках пренебрежительно прервал его Маркони Файя. – Знаю Эда. Иезус Мария! Да эта историческая версия давным-давно обросла огромной седой бородой! – было видно, что старику очень хотелось опять упомянуть о невысоких умственных способностях беверли-хиллзских полицейских, но он сдержался. – Ну а от меня-то вам что надо?
– Вы знакомы с секретной польской организацией, которая разыскивает документы, связанные с правлением Дмитрия и Марины? – спросил Мур.
– Ну, знаком, – зевнул сеньор Маркони. – И дальше что?
– Она взаправду существует? – страшно удивилась я.
– Сто лет в обед, – съехидничал старикан.
Я видела, что Мур немного растерялся и хотела ему помочь, но не знала как.
– Сеньор Маркони, – нерешительно поглядывая на странно раздраженного Мура, чинно сидящего на самом краешке дивана, начала я. – Вы считаете, что версия господина Спенсера неправдоподобна?
– Ох-ох-ох, – завздыхал манерно старик. – Версий может быть сколько угодно, но четыреста лет спустя не все ли равно, какая из них истинная?
– Лично мне не все равно, – холодно отчеканил Мур, недобро прищуриваясь. – Я ищу убийцу, господин Файя.
Ничего не ответив, старик Маркони едва слышно прищелкнул пальцами, и на кофейном столике как по волшебству появилась еда, поданная неслышными и почти незаметными официантами.
Мур вежливо, но непреклонно отклонил предложение мафиози перекусить, мне же есть хотелось невыносимо и, соорудив аппетитный многослойный бутерброд, я налила кофе в огромную чайную чашку, от души добавила сахара и щедро залила топлеными сливками. Мур с удивлением наблюдал за моими манипуляциями. Естественно, он не знал, что дома я пью, по презрительному выражению Вацлава, «сливки с кофе».
– В определенных кругах, – на удивление миролюбиво сказал Маркони, словно продолжая давно начатую беседу и одновременно одобрительно кивая и пододвигая поближе ко мне тарелки с паштетом, сыром, пирожными и фруктами. – в той же польской тайной организации, например, уже давно принята неофициальная версия о законности правления Дмитрия и, стало быть, его жены – царицы Марины.
Поверьте, собрано немало фактов, которые вопиют о несостоятельности общепринятой теории. Ну, например, Дмитрий хорошо ориентировался в вопросах дипломатии, был знаком с политесом. Его радушно принимали при дворе короля Сигизмунда, а проживал он в родовом замке Мнишехов в Самборе. Дмитрий обладал прекрасными манерами, знал иностранные языки. Согласитесь, чтобы бегло и правильно изъясняться с иноземцами, одной хитрости и пронырливости не хватит. Здесь требуются опытные учителя, усидчивость и, главное, время. Бесспорно, в Польше Дмитрия с раннего детства готовили к роли наследника престола и «отрока державного».
– Но, сеньор Маркони, – живо перебил старика Мур. – Любого ребенка можно подготовить к роли наследника, если задаться такой целью.
– Возможно, ты прав, – покладисто кивнул головой господин Файя. – Но вот как убедить московских бояр и патриарха русской церкви, с которым считались и Ватикан и западные монархи, признать в приблудыше, даже хорошо воспитанном и прекрасно образованном, но все равно, приблудыше, – царя? Как заставить патриарха и остальных Рюриковичей склонить головы перед сыном неизвестных родителей?
– Дмитрий приехал в Москву как законный наследник, – быстро напомнил Мур.
– Которого через несколько дней убрали с престола как самозванца, – влезла я, с любовью сооружая второй огромный бутерброд.
– Верно, – опять согласился старик. – Подумай сам, мальчик мой, зачем короновать польского приблудыша-самозванца в Успенском соборе с полного согласия русской церкви и боярской верхушки? Зачем присягать ему при толпах народа? Чтобы через несколько дней объявить самозванцем и убить? Неужели нельзя было оттянуть венчание на царство на несколько дней и убить самозванца до того?
Заключение Маркони отличалось логикой, а я всегда больше тяготела к логическим умозаключениям, чем к истерическим возгласам: «Я знаю, что все было именно так!»
– Ну и зачем московские бояре короновали польского ставленника Дмитрия, если они прекрасно знали, что он – самозванец? – спросил утомленно Мур.
Маркони взял пузатый бокал, подержал его в ладонях, внимательно рассматривая рубиновую жидкость, так похожую на кровь, словно пытался найти в ней ответ.
– Кровь… Всегда проливается кровь там, где идет борьба за трон, – задумчиво проговорил он. – Со слабым противником расправляются безжалостно, чтобы дать дорогу более сильному.
Марину и ее сына убили. С молчаливого согласия патриарха и верховных бояр – и церковная и светская власть одобрили убийство царицы. Удивительная, редкая солидарность. Боярская верхушка не грызется, а дружно голосует за выдвиженца Романовых. Почему именно Романовых? Не Бельских, Годуновых, Мстиславских?..
Вопрос повис в воздухе.
Я взглянула на Мура, сидевшего напротив, как каменное изваяние с острова Пасхи, потом на сеньора Файя. Под моим вопрошающим взглядом господин Маркони прекратил созерцание содержимого бокала, поставил его обратно на стол и потер маленькие ручки.
– Разрешите, господа, неглубокий экскурс в генеалогию одной семьи.
«Господа» молча, согласно покивали головами. Можно подумать, у них оставался выбор – не разрешить?
– В 1547 году семнадцатилетний Иван Васильевич IV женился на Анастасии Романовне Захарьиной из бедного рода бояр Юрьиных-Захарьиных-Кошкиных, – неторопливо начал внук мафиози, демонстрируя потрясающие знания деталей русской истории. – От брачного союза рождаются дети, два сына – Иван Иванович, будущий отец Дмитрия-самозванца, и Дмитрий Иванович, который трагически погибает в шестилетнем возрасте – няньки не углядели за мальчиком, и он утонул во время купания.
После смерти Анастасии и Ивана IV осиротевшие дети воспитываются в семье бояр Захарьиных-Кошкиных, ближайших родственников царицы. Естественно, кто же бросит детей умершей дочери и будущих наследников престола?
Кстати, почившую в мире царицу Анастасию Романовну при жизни часто называли Анастасией «Романовой» из семьи «Захарьиных» – по имени отца. Постепенно от длинной фамилии отваливаются части «Захарьины», «Юрьины», «Кошкины» и остается одна – Романовы.
Маркони прервал неспешное повествование, вновь взял бокал и повозился в разноцветных ярких подушках, почти утонув в них:
– Итак, семья Романовых постепенно разрастается, но по-прежнему является и считается родственной веткой венценосной фамилии.
У Романа Юрьевича, отца царицы Анастасии, кроме дочери выросли два сына: Даниил Романович и Никита Романович. У младшего сына Никиты Романовича тоже подрастал сын, Федор, который перед принятием иночества и имени Филарета в миру звали…
Тут старик Маркони, как великая Джулия Ламберт, выдержал эффектную паузу.
– Федор Никитич? – подумав с минуту, вопросительно уточнил Мур.
– Правильно. А кем приходится царица Анастасия митрополиту Филарету, если его отец – ее родной брат?
– Подождите, Маркони, – забыв о правилах этикета, удивленно пробормотала я. – Получается, что царица Анастасия приходится Филарету… родной тетей?!
Маркони согласно кивнул.
– Именно. А, стало быть, так называемый Дмитрий-самозванец, родной внук царицы Анастасии Романовны, приходится ее племяннику, митрополиту Филарету, – кем?
– Троюродным братом, – потрясенно закончила я. – Но тогда при чем здесь незаконность наследования престола, раз все они – ближайшие родственники?
– Ох-хо-хо, – опять завздыхал старик Маркони. – Вот поэтому-то не было никакой грызни в верхушке московского боярства между другими родовитыми семьями. Битва велась внутрисемейная, «внутриромановская» – обычное дело. Фамилия Романовых через наследников Анастасии приблизилась к надежде рано или поздно взять трон. И война за престол шла как раз между ближайшими родственниками, троюродными братьями: малолетним сыном царя Дмитрия Ивановича и Михаилом, сыном митрополита Филарета и Ксении-Марфы. У обоих был серьезный шанс! Кто оказался сильнее, ловчее, зубастее – тот и венчался на царство. А кто дал слабину – оказался не у дел…
12. Владыко Филарет и инокиня Марфа
Поймем ли когда друг друга? Помиримся? Нет, не будет мира. Никогда не будет. Вот скажи мне кто, что веру истинную, православную сменить я должен на басурманскую католическую или вовсе на лютеранскую ересь? Да никогда! Лучше пытки, огонь, смерть, зато душу спасу. Так, нет? Вот то-то и оно, что так.
Об этом нужно говорить сегодня, если свернет все не туда, куда Филарету надобно. Не до власти ему, бывшему митрополиту Ростовскому. Об уверенности радеет, чтоб спокойствие наконец воцарилось над Русской землей. Выкинут из Кремля последнего иноземца, взойдет на престол православный государь, и затихнут бунты, успокоится народ, опять раскроют двери храмы и церкви. Вот, о чем толковать надо…
Так думал патриарх Филарет, проходя по узким коридорчикам Ипатьевского монастыря, торопясь на встречу с сыном Михаилом да боярами. Следом грузно шагал Борис Борисыч Суворцев, а за ним семенила инокиня Марфа – бывшая его жена Ксения – вот и вся его рать.
Патриарх Филарет слышал за собой торопливые шажки инокини. Никогда не заходилось сердце у Филарета от любви к ней. Не любил. Не жалел. В разлуке многолетней о ней не думал. Сосватали их, как водится, родители, которых чувства детей волновали меньше всего– другое на уме было.
Часто раздражался от упрямства Ксении: если что вобьет себе в голову, не успокоится, пока желаемого не достигнет. Силы духа бывшей жене не занимать. Иногда Филарет жалел, что против воли повенчали их, но всегда признавал, что у жены – ума палата.
И был еще у Ксении дар бесценный – сердце-вещун, природный инстинкт, как у дикой кошки. Нутром чувствовала опасность. Никто сравниться с ней не мог – интриги плела искусно. И крови не боялась. А если ее, кровушки, бояться, то не в Кремле жить будешь, а где-нибудь в Белозерском монастыре на хлебе да воде.
В просторной зале – трапезной, кою использовали только по великим дням, прием ли гостей иноземных или сбор бояр по делам думным, стоял легкий шум от голосов, но как вошел Филарет в комнату, тут же он и смолк.
Филарет скользнул взглядом по бородатым лицам. Не стал начинать издалека, спросил настороженно сидящих по лавкам бородачей прямо в лоб:
– На чем порешили, бояре?
Сын его, Михаил, тихо сидел в отдалении, опустив глаза долу.
Тяжело молчали укутанные в парадные шубы бояре. Трудный вопрос задал им Филарет. Ишь ты, как все повернул. Сына Михаила на трон возвести хочет. Не побрезговал старые бабские сплетни, давно забытые, вытащить на свет Божий. Смердам много ли надо? Пошел жужжать Кремль.
– Не нам судить, бояре, кто на деле был отцом государя Ивана Васильевича, – тихо сказала инокиня Марфа за его спиной. – Великий князь московский Василий Иванович или боярин Телепнев. Бог с ними! О мертвых непочтительно толковать – грех.
Тут Марфа перекрестилась, у многих бояр руки тоже потянулись крестное знамение сотворить.
– О другом вам патриарх толкует. Была у нас одна панночка – царица Елена Глинская. Что принесла нам? Скажу, если послушаете, – голос Марфы окреп. – До нее, до Елены, государь наш Василий Иванович сколько прожил с супругой, венчанной Соломонией? Двадцать лет! Был примерный семьянин, о душе заботился. А увидел Глинскую – отправил жену в монастырь. Да не просто отправил – на развод решился! Не грех ли?
Помните ли, как вслед за ней хлынули католики да лютеране поганые на Москву? Зачем они нам здесь опять? Чего хотят? Раскол, смуту сеять. Мало смут у нас было? Вот теперь другая панночка в Кремле нашем православном засела. Зачем? Чтобы патриарха русского римским папой заменить? Дождетесь – заменит, глазом моргнуть не успеете. Опоганят, разрушат православные церкви, в костелы ходить будете!
Воевать не устали ли? Как польский приемыш пришел к нам, Москва почитай каждый год горела. Смуты не прекращаются. А почему? Порядка нет. Дело до Русской земли нет никому. Загляните в сердце мое, увидите в нем жалость ко всем вам беспредельную. Время пришло из пепла смут Московию восстанавливать.
По-прежнему молчали бояре, уткнулись сопящими носами в пушистые воротники парадных шуб. Говорить было нечего. От смуты устали все. Права Марфа – не дело это: польку на трон сажать.
И всего-то четыре года правила Маринка с ныне покойным Димитрием Иоановичем, а порядка до сих пор нет. Боярские кланы все переругались меж собой – то Шуйские тянут к престолу жадные руки, то Годуновы, то Бельские с Глинскими. А если у них право есть, то почему у меня, Черкасского, права такого нету? Или у боярина Кобылы? Или у Воротынских, Бельских, Колычевых, Головиных, Мстиславских? Тоже роды древние, все Рюриковичи.
А главное – слухи нехорошие ползли ото всех сторон, что Маринка-то не от Дмитрия-царя затяжелела, уж больно плох он был, болел все или на ратном поле сражался. А… от кого? Да кто ж его знает. Вон сколько пригожих кавалеров навезла с собой! Все мазурочки танцевала. И что же тогда получается, опять чужого, не царской крови отпрыска, на престол Московский сажать?
– А если Иван Васильевич-то не сын царя Василия, а и правда Ивашки Телепнева? – подтолкнул Кобыла под локоток Черкасского. – А? Ведь тогда и впрямь у Дмитриева наследника прав-то меньше, чем у любого из нас.
Черкасский прятал глаза в кустистых бровях. Что сказать в ответ? Ловко Филарет все обделал. И дело вовсе не в сплетнях о Елене Глинской и ее Телепневе… Или о Маринке и ее польских воздыхателях. Это все сплетни для глупых баб.
Для бояр хитрец Филарет другое выдумал… Ишь: еретики, католики наводнили страну… Только он, что ли, за православие радеет? Как быстро лукавый владыка забыл, что от Дмитрия получил сан митрополита Ростовского в селе Тушино. Там и наследника Дмитриева крестил. А теперь грязью бывшего царя поливает. А ведь Дмитрий ему не чужой – брат троюродный…
Черкасский все так же молча перевел глаза на Михаила Романова. Тихий юноша, робкий, незлобивый. К родителям почтителен, старину уважает. Чистый ангел. Этот не забалует. Он на троне сидеть будет, а родители править. У Филарета в руках власть церковная, а у Марфы – власть материнская. А может, и к лучшему? Смута успокоится, разбойников присмирят, иноземцев выгонят, хлеб опять сеять начнут мужики, не боясь войн… Чем плохо?… Жену Михаилу выберут из своих, русских. А то ведь и впрямь срам смотреть было на Маринку. Нет, права Марфа. Надо басурманку из Московии высылать.
По лицам бояр Филарет уже видел, что партия выиграна, и незаметно улыбнулся бывшей жене. Та только глаза скромно прикрыла да голову незаметным движением к Борису Морозову повернула.
У Филарета тут же испортилось настроение. Удержал на красивом лице ласковое выражение всетерпения, а в душе буря закипела. Вот кто все играючи испортить может – вредный, всесильный в Кремле, молодой боярин Бориска – как «серый кардинал». Филарет измучился с ним.
Долго еще толковали бояре, но не шумно, примиренчески. Ушли уже в сумерках сырого февральского вечера, подкравшегося незаметно, перед всенощной. Сын Михаил тоже тихонько вышел, поцеловав прежде руку отцу и матери.
Остались в быстро темнеющей трапезной Филарет, Марфа да Борис Морозов. Молодой боярин смело смотрел прямо в лицо Филарета, насупленный, огромный, гневный, как разбуженный медведь-шатун. Вот возись теперь с ним.
– Негоже это – воевать против одинокой вдовицы, – сказал он упрямо, не спуская глаз с Филарета.
– Да не война это против одинокой вдовицы, – застонал в голос Филарет, не в силах больше сдерживать раздражение против боярина.
«Не одинокая вдовица, а матерая волчица, вот, кто она. Сколько намутила за шесть лет – за век не расхлебаешь. Зубами вцепилась в трон московский, намертво, не хочет обратно в затрапезный Самбор возвращаться. Срам один, а не царица. Вот наследие Димитрий оставил, тьфу ты…»
– За Мариной сильная католическая церковь стоит, – с гневом молвил Филарет. – Скажи, Борис Иванович, зачем нам католики сдались? Смута в стране и раскол в церкви – дальше что будет? Неправда царит всюду. Бери нас голыми руками – та же Польша с Литвой. Армии нет. Шведы в Новгороде заседают. Ляхи Смоленскую землю и все Черниговские забрали в вечное пользование. Народ голодает. Денег в казне нет. Что Дмитрий твой обещал народу? «Бог свидетель, никто не будет в моем царствии нищ или беден. Последнюю сорочку разделю со всеми». А на деле что получилось? А Марина – что смыслит в политике? Только наряжаться в срамные одежонки может…
– На каком языке говорить будем? Никак на польском, боярин? – ласково вмешалась Марфа.
Взяла за руку Морозова, тот засопел, но руки не выдернул – дал себя усадить на лавку. Марфа рядом присела, стоял один Филарет.
– Маринкин-то сын по-польски болтает с матерью. Русский плохо знал, пока не отобрали дите в семью дядьев. Да и Дмитрий Иванович на польский все сбивался. Не помнишь такого?
Упрямо молчал Морозов. Набычившись, склонив лобастую кудрявую голову вниз, всем видом своим говорил: «Не согласен!»
Филарет стал закипать, сжал тонко губы, дернул ртом, собираясь что-то сказать, но Марфа предупредила злые слова, готовые сорваться с языка бывшего мужа:
– Ты иди, владыко, по делам своим, а я с боярином еще потолкую.
Хоть и нежным голоском просила Марфа, ласково так, но глаза ледяные приказывали Филарету убраться из залы, да побыстрее и, в который раз подчиняясь железной воле Ксении, от которой мутилось в голове, вышел патриарх из трапезной.
Вступил на московский престол скромный отрок Михаил Романов весной 1613 года с согласия церкви и всех верховных бояр.
Сразу же патриарх Филарет занялся упорядочением внутренних дел и борьбой с извечными врагами – Польшей и Швецией.
Послы русские из Польши жаловались Филарету, что плохо их ляхи принимают, бесчестят молодого государя. Титул московского царя в государственных бумагах пишут не как царя «всея Руси», а «своей Руси», показывая тем самым, что Михаил Федорович не владыка всей Русской земли, а только ставленник боярский в Московии.
Разрозненные отряды польских наемников бесчинствовали везде, разоряя русские деревни и убивая мирных жителей. Шайка Лисовского и атамана Баловня терроризировала население. А при таком раскладе с кого подати взимать? Как пустую казну пополнять? Против разбойников выслали царское войско с жестким приказом – никого из пойманных басурман не миловать, казнить немедленно.
Вторым важным делом стала борьба с фальшивомонетчиками, коих развелось немерено. Их ждала жестокая казнь – горло заливали расплавленным оловом прилюдно, чтобы больше никому повадно не было.
В Москве возобновить типографию надобно, чтоб книги печатать богослужебные, школы для детишек церковные открывать. Дел разных, важных, неотложных – невпроворот. Ничего, справимся.
Патриарх похудел, глаза ввалились, но радостно ему было чувствовать крепко натянутые вожжи власти.
Единственная капля дегтя портила радость Филарету – его бывшая жена, инокиня Марфа. Думал Филарет, что будет она тихонечко сидеть в своем Новодевичьем монастыре, а та в Кремлевских палатах обосновалась. Михаил к ней каждый день заходить обязан, об делах толковать. Во все вмешивается, Филарету перечит, не прилюдно, наедине, но ведь перечит!
Весна отцвела сиренью, лето знойное пролетело, сырая осень дождями протащилась, зима снегами Москву завалила, а Марфе все неймется. Из Кремля выезжать не собирается. Теперь у нее собственный двор образовался – Вознесенский монастырь под ее опекой, а бояре Суворцев да Морозов из покоев инокини и вовсе не вылезают.
Церковные дела часто отзывали Филарета из престольной. Каждый раз, уезжая надолго, в волнение приходил. Только оставь сына ненадолго, под чье влияние попадет? Не было у Филарета таких же надежных глаз и ушей при дворе, как у Марфы. Ну, Суворцев, понятно, всю жизнь Ксению любил, а вот как молодого Морозова на свою сторону перетянуть бывшей жене удалось? Служил теперь Морозов ей верой и правдой.
Что касается государя, все знают, как привязан к Марфе сын. Из материнской воли не выходит, а как же отцовская власть? Она же – церковная?
Видел Филарет, как бояре заискивают перед Марфой. Суворцеву и Морозову в ноги кланяются, бородами пол метут, а патриарха Филарета – по боку? Пусть он надрывается, делами государственными занимаясь до полуночи, до первых петухов, вся награда Марфе достается, матери-инокине, некоронованной царице. А разве пристало инокине в Кремлевских палатах проживать?
Так думал Филарет, все больше и больше раздражаясь от тайных мыслей. Гнев его только усилился при виде благообразного молоденького инока, почтительно вошедшего в дверь залы.
– Инокиня Марфа смиренно просит ваше преосвященство пожаловать к ней незамедлительно, – низко склонился перед Филаретом красивый инок.
Пришлось Филарету последовать за ним в покои бывшей жены, кипя от гнева. Ишь ты, незамедлительно!
Благолепная тишина зимнего вечера стояла на половине Марфы. Инок довел Филарета до низкой двери и опять поклонился в пояс. Филарет небрежно благословил его и в маленькую светелку протиснулся боком.
Как только дверь захлопнулась за патриархом, инок быстро отодвинул висящий ковер на стене и жадно прильнул ухом к маленькой дырочке в стене.
– Зачем звала? – услышал он резкий голос Филарета.
– А ты присаживайся, батюшка, оттрапезничай со мной, – тихо, не вставая и не подходя под благословение, ответствовала Марфа.
– Некогда мне. Звала зачем?
Не отвечая, Марфа спокойно сидела за столом, уставленным изысканными яствами. Марфа понимала толк в кушаньях, собирала лучшие монастырские и светские рецепты и умела отлично готовить. Не спеша налила в серебряные кубки душистого вина, протянула один Филарету, а от другого пригубила чуток сама.
Рядом с ней на расписном стуле развалился огромный полосатый кот, хвост пушистый почти пола касался. Филарет раздраженно взмахнул рукой, сгоняя наглое животное, но то только недовольно дернуло спиной да приоткрыло лениво один глаз. Владыко не то, чтобы котов не жаловал, в Кремле без них никуда, от мышей только ими и спасались, но уж больно дух кошачий, противный и въедливый, раздражал его.
Филарет резко дернул стул и стряхнул наглеца. Присел за стол и брезгливо принюхался, но в комнате пахло хорошо – трапезой, сухими травами да горячим воском зажженных свечей.
– Слышала я, – поднимая тяжелого кота на колени, спросила спокойно Марфа; кот повис мягкой тушкой на руке, зажмурил изумрудные бусинки глаз, – что хочешь с почетом удалить меня в монастырь? Насовсем? Подальше от сына, стало быть?
– Хочу, матушка, ох, как хочу, – согласно закивал Филарет, отведал глоточек сладкого вина и поморщился: не вино – вода сахарная. – Давно тебе пора в монастырь. Грехи замаливать, Ксения.
– Ох, не тебе бы говорить о грехах и не мне бы слушать, Федор Никитич! Когда по молодости обеты семейные нарушал, то не грех был? Когда меня и сына оставил да в Польшу подался «по государевым делам» на девять лет долгих – то не грех был? Если бы не Бориска Суворцев, пропали бы мы с Мишей. Ладно я, что ж сына-то единственного не пожалел? Борис Борисыч ему за отца был…
– Что ж ты замуж не пошла за своего Суворцева? – не сдержавшись, огрызнулся Филарет. – Двадцать лет мне тычешь в лицо им!
– Дура была молоденькая. Как же, бояре Романовы, с родней царской связанные! Родная тетка – царица! Замутил девчонке голову, наобещал…
Филарет зло дернул плечом:
– Что старое вспоминать? Жить сегодняшним днем надо.
– Кто забывает прошлое, у того нет будущего, – спокойно произнесла Марфа и придвинулась поближе к Филарету, заглянула в светлые глаза.
Все так же красив, как и в молодости, и так же щеголеват, строен. Глаза как у юноши поблескивают, от выхоленной бороды пачулями иноземными сладко пахнет, пальцы белые, ухоженные, перстнями жаркими переливаются. Но не дрожит у Ксении больше сердце от волнения при виде мужа и дыхание не сбивается. Все любовные тревоги остались позади.
– Помнишь уговор-то, Феденька?
– Не помню, Ксения, – тоже наклоняясь поближе к бывшей жене, прошептал Филарет.
Толстый кот прижал уши, сузил глаза, заурчал недовольно. Филарету так и хотелось ему по усатой морде щелкнуть, крепко, от души.
– Кабы ты, матушка, по самую макушку себя в крови не запачкала, может, и помнил бы об уговоре.
Марфа легко поднялась из-за стола.
– Неблагодарный ты, Феденька. Всегда неблагодарным был, – ласково сказала она. – Хочешь быть сильным? Помни, что людям обещал, не скаредничай на выполнении обещаний.
– За этим и позвала? – обидно засмеялся Филарет, поигрывая холеными пальцами. – От дел важных отрываешь. Чтоб напомнить? Ну, напомнила – дальше что?
Марфа, казалось, не обратила никакого внимания на насмешливый тон.
– Вот что я тебе сказать хотела, Федор Никитич. Времена сейчас сложные, смутные. Не дело, что ты богатство государево выставляешь напоказ. Не поймут тебя. Ты – смиренный слуга Господа, а потом уж отец государя…
– А ты сама? – насмешливо перебил ее Филарет и повел руками вокруг.
Зимняя ночь давно уж наступила, а в покоях Марфы было тепло, красиво, уютно. Полумрак густился вокруг зажженных свечей богатого киота. Так и брызгали от него огоньки самоцветов! Вся мебель и сундуки вырезаны из кипариса, изразцовые печи покрыты диковинной вязью цветов и трав, так что казалось не зима за окном, а летний полдень. Как будто очутился ты в полдень жаркий июльский в лесу или на лугу.
Особую тягу имела Марфа ко всяким иноземным безделицам. Вот и сейчас Филарет показывал на столик да лавку, щедро украшенные золоченой вязью. Перешли они к Марфе из Марининых покоев. То была мебель, которую привезла она с собой из Польши, подарок от отца.
– Что – сама? У меня все в горнице, только ближним боярыням показываю. Никто не видит моей роскоши.
Филарет дернул бровью недовольно. Да, это правда. Марфа никогда не снимала простого монашеского покроя черного платья, хоть и не проживала в монастыре.
– А ты? Зачем крест такой златой надел? Перстнями пальцы украсил? Не выставляй богатства да власти своей на люди, Федор Никитич, а то как бы пожалеть не пришлось…
– Вот что, Ксения, слушал я тебя довольно, – отрывисто и сердито сказал Филарет. – Теперь ты меня послушай. Не дело тебе в Кремле оставаться да юных отроков за мной посылать. Разговоры пойдут и тогда уж своей скрытой набожностью не отделаешься.
– А кого ж мне за тобою посылать, владыко? В покои-то государевы? Сам не приходишь, посылать за собой не велишь. Как же достучаться-то мне до тебя, а?
Филарет злобно посмотрел на жену. Ничего не осталось в ней от той молоденькой Ксении, с которой шел он много лет под венец. Увяла девическая красота. Расплылась и огрузнела. Персиковый цвет кожи изменился на нездоровый, желтоватый. Только умные глаза не старели – жгучие, как горячие угольки, полные жизни.
– Эх, о чем жалею я, Феденька, – протянула Марфа задумчиво, – что не мужчиной привелось мне родиться… Дела бы делала, на вас всех не оглядываясь…
– Ты бы делала, это верно, – не удержался Филарет, направляясь к двери. – Завтра, помолясь, собирайся вон из Кремля, матушка, – но Марфа, все так же спокойно улыбаясь, встала у него на пути.
– Если надумаешь нехорошее, Феденька, помни, книга у меня припрятана одна, весьма интересная книга.
Филарет приостановился и пытливо взглянул в лицо Марфы. Оно оставалось ласковым и безмятежным.
– Какая книга?
– А такая. Церковная. Из села Тушино. Где запись сделана о крещении царевича Ивана Дмитриевича. Твоею рукою. А в книге той – записочка, тоже твоею рукою написанная.
Филарет замер. Марфа усмехнулась, глаза – темные омуты. Так и впился в них Филарет, пытаясь понять, что на уме у жены бывшей.
– Думаешь пожар всполохнул да все улики пропали? Сохранила я улики-то.
Филарет тяжело опустился на лавку.
– Ведьма, – прошептал еле слышно побелевшими губами.
– Может, и ведьма, – легко согласилась Марфа и уселась рядом с Филаретом.
Кот тяжело впрыгнул на лавку вслед за ней, изогнулся мягким льстивым телом, подсунул лобастую башку под человеческую ладонь. Инокиня гладила любимца, тот ласково подмяукивал, а Филарет не мог оторвать взгляда от бледной тонкой руки, с тускло сверкающим золотым ободком на пальце – обручального кольца Марфа не сняла, даже приняв монашеский сан.
– Только зубами-то на меня не скрежещи, Федор Никитич, – услышал он тихий голос бывшей жены. – Зубы-то обломаешь, мил друг. Да… А в книге церковной той письмо одно преинтересное лежит. Вот ты меня в грехах упрекнул. Может, и правильно. А ты? Ты не грешен? В том письме указ отдан… тобой… что время пришло от Ивана-то младшего избавляться… Как от отца его в свое время избавились… Капельками лечебными от простуды…
Филарет помертвел.
– Не вздумай ругаться со мной боле, – продолжала так же спокойно Марфа. – Не до ругани сейчас. Нам всем вместе быть надо – с сыном. Все твои начинания поддерживать буду, не сомневайся. Из Кремлевского терема, не из дальнего монастыря. Ты в отъездах постоянных – кто сыном заниматься будет? Он в пору вошел, его женить надо… Школы церковные строить надо… Что боярам обещали? Православие в Московии? Так надо с детей начинать… Ты-то этого не знаешь, сына твоего Суворцев да я воспитали…
Филарет дернулся, но Марфа сделала протестующий жест рукой, призывая Филарета молчать:
– Не в упрек сказала, Федор Никитич. А со школами боярин Морозов поможет нам. Не задевай его, сила у него в Кремле больша-а-а-я. Молод он, да его даже сейчас старики слушаются. Вот жениться надумал… Невесту выбрал, ко мне за советом приходил… Понимает: не только на девице женится, а и на всей ее родне тоже. Он Михаилу другом будет, не всегда с отцом-матерью беседовать-то захочется сыну, не про все расскажет нам, а вот другу-постельничему, боярину ближайшему пред сном поведает все сердечные тайны… Да на Бориску Суворцева зубами не клацай – на него положиться можно. Он с Михаила глаз не спустит. Ты пять пальцев-то сожми, Феденька, – кулак и выйдет: ты, да я, Суворцев с Морозовым, наш Михаил. Не сломить никому! А разожми кулак – пять пальцев по одному сломать легче легкого. Понял, к чему речь веду?
Филарет молчал.
В этом мире никому доверять нельзя. Как он, дурак, поверил тогда Ксении, сообщнице своей, оставил документ с ней, не сжег, не уничтожил! Голова у него кружилась предчувствием великих перемен. Вот и докружилась! Забыл он, в заморских странах проживая, о несгибаемой воле жены бывшей и сильнейшей любви к сыну.
Шумела ночная метель за окном, набирая силу. Журчал тихий голос.
– А что до грехов, Феденька… Кто ж знает, всем нам отвечать придется. Отмолишь ли прежде свои?
Филарет в бешенстве вскочил со скамьи.
– Да ты сама поболе меня рвешься к власти! Почище меня руки у тебя в крови невинной! – тонким ненавидящим голосом закричал вне себя Филарет, не в силах сдерживать свой гнев на спокойно сидящую рядом с ним женщину. – Господи, вот наказание ты мне послал! Не отвязаться мне от тебя, ведьма проклятая. Пристала как банный лист, даже монастырским саном от тебя не отделаться!
– Верно, не отделаешься, – легко согласилась Марфа. – Сын наш теперь Московией управляет, помнишь ли? Куда ему без нас? Без отца да без матери? Ты бы гнев свой попридержал, Федор Никитич. Да и язык тоже. Ну, договорились, что ль?
– Повезло Бориске, – сказал Филарет, с лютой ненавистью глядя в спокойные глаза бывшей супруги. – Спас я его от грехов, на тебе, ведьма, женившись.
Инок только успел отскочить от стены, как Филарет, выйдя из комнаты Марфы, так шарахнул дверью, будто надеялся, что обрушится за ним потолок над головой жены бывшей.
Марфа подошла к заложенному войлоком слюдяному окошечку, держа теплого, мурлыкающего любимца на руках. Пусть бесится вьюга, бренчит в оконце. Пусть Феденька грохочет дверьми. Дело сделано, и дороги назад нет.
13. Карнавал
Так. Это уже третья версия событий, услышанная мною за прошедшую неделю. «Прошлое глазами сеньора Файя». Запросто можно спятить.
– Вы серьезно, господин Маркони? – простонала я.
Маркони согласно закивал в ответ, хитрющие глазки радостно засверкали:
– Произошел переход власти от одного троюродного брата к другому, но… не на совсем законных основаниях. После насильственной смерти маленького Ивана Дмитриевича, потребовалось немного «подправить» историю, что и было мастерски проделано.
Главный же факт – коронацию царя Дмитрия в Москве – убрать из всех русских и западных письменных источников не удалось. Абсолютно никому не понятное, логически необъяснимое, вопиющее о своей глупости событие задержалось на страницах истории. Поэтому-то маститые историки обходят его стороной и прячутся за чехардой дат и мнимыми убийствами «ложного» царя. То Дмитрий царствует шесть лет, то – четыре дня, то ему двадцать лет, то пятьдесят, то его убили, то сожгли, то повесили…
Плавная речь сеньора Файя прервалась скрипом зеркальной двери. Массивная дверь приотворилась, и в проеме показалась аккуратно причесанная голова молодого человека, на лице которого застыл вопрос. Старик Маркони взглянул исподлобья, голова кивнула и немедленно исчезла.
Я поняла, что нам пора уходить и с сожалением отложила недоеденный бутерброд и недопитый кофе. Честно, уходить не хотелось. Диван был удобен, еда вкусна, а заключения Маркони импонировали. Престарелый внук мафиози мне нравился.
– У меня немного изменились планы, и сейчас я вынужден прервать встречу, – извинился он, провожая нас до зеркальных дверей, – но вечером прошу стать моими гостями на карнавале в «Венеции». Будет страшно весело! Начало в полночь. Танцы, игры и ужин с шампанским!
О-о-о! Только этого не хватало! Прекрасно помню, куда завело меня легкомысленное согласие посетить вечеринку в «Хилтоне» несколько дней назад с Галкой! Нет-нет-нет, никаких карнавалов!
Я открыла было рот, чтобы вежливо отказаться, но сеньор Файя резво опередил слабую попытку улизнуть от царского приглашения следующими словами:
– Елизавета Ксаверьевна сказала, что убийство семьи последнего российского императора напрямую связано с историей Лжедмитрия и Марины, не так ли? А я упомянул, что искать надо пропавшие письма царя, а не дневники Марины из сожженной библиотеки Ивана Грозного?
Мур настороженно кивнул, а Маркони, пристально и внимательно глядя мне в глаза, тихо закончил:
– Приходите на карнавал. За полночным ужином, когда снимаются маски, ты, девочка, возможно, узнаешь, где их искать…
Добравшись до своего номера, я без сил, прямо в туфельках упала на кровать. Ну и денек!
Часы показывали восемь, до карнавала оставалось полно времени. Мур попросил быть готовой к половине двенадцатого, а с Машкой мы договорились встретиться в баре гостиницы только через час.
Я лежала на мягком покрывале и лениво размышляла о том, о чем никогда не подозревала: как много людей, знающих историю, не согласны с официальными версиями событий.
Когда Елизавета Ксаверьевна поведала мне, что в истории России не было никакого Лжедмитрия, я испытала легкий шок. Хотя старая дама подготовила меня этим неожиданным заявлением к последующим откровениям нервных коллекционеров-любителей.
Никто из них не признавал официальную историческую версию о Дмитрии-самозванце. Никто! Правда, их предположения не были едины. Каждый тащил одеяло событий в свою сторону, но, как ни странно, все они как один отрицали «самозванщину».
Интересно, о чем расскажет мне сегодня ночью сеньор Файя? Нужно подготовиться к любым неожиданностям. Неужели, правда, он откроет секрет, где искать письма Николая II?
Я немного пришла в себя и ровно в восемь спустилась в бар.
Народу было – не пропихнуться. Бармены сбивались с ног, надрывалась громкая музыка, гости смеялись, пили и тоже кричали другу другу прямо в уши. Меня всегда удивляло подобное времяпровождение. Чего хорошего сидеть в душном, прокуренном помещении да еще и непрерывно орать своему визави?
Машка выглядела уставшей, непохожей на себя. Сказала, что на работе куча проблем, с повышением в который раз обошли, да и личный фронт не радует переменами. Я знала, что она давно встречается с одним человеком, отношения сложные, запутанные и бесперспективные, но кто он, мне никогда не говорила.
Мы сели за столик под навесом, плотно увитым листьями синтетического винограда. Гостиница «Мираж» – непередаваемая смесь деревенского «французского» шарма и тропического леса. Поэтому стены выкрашены в веселые розовые тона и цветочки, а с потолка свисают мясистые лианы и плющи. Я не представляю себе, каким образом чистятся тонны искусственных растений на потолочных балках, и всегда ожидаю, что в любой момент в бокал с вином может упасть жирная сороконожка или дохлая муха.
Веселые толпы народа дефилировали за окнами, потные официанты бегали с огромными подносами, заставленными горами тарелок, но в нашем уголке было сравнительно тихо.
Как всегда, Маша не захотела обсуждать личные темы, но с удовольствием выслушала резюме исторических версий, от которых у меня пухла голова, огорошив совершенно неожиданным вопросом:
– Ну и что ты будешь делать с письмом, когда найдешь его?
А, действительно – что? Об этом я как-то не подумала.
– Ничего, – озадачилась я.
– Тогда зачем все эти расследования, поиски коллекционеров?
– Мур считает, что когда найдет исторический документ, за которым охотится секретная польская организация, то сможет узнать, существует ли связь между убийством Марины и казнью последнего русского императора, а потом вычислит убийцу бабушки, Моргулеза, моей Елизаветы Ксаверьевны и… закроет дело.
– Хм, – только и сказала недоверчивая Машка.
– Что значит – «хм»?
Машка скептически скривилась и уверенно заявила:
– Тут что-то не то. Неужели сама не видишь? Секретная организация, связь с последним императором, отравленная бабушка, убийство садовника в «Хилтоне», обеспокоенный твоей безопасностью беверли-хиллзский полицейский с итальянским прошлым – все до кучи. Самой-то не смешно верить в подобный бред?
Твоя цепочка умозаключений не выдерживает никакой критики. Знаешь, я недолюбливаю Галку. Она – того… без царька в голове, но здесь права: шустрый полицейский явно преследует какую-то тайную цель, но к убийству бабушки или этого… как его… садовника Моргулеза поставленная цель не имеет никакого отношения!
И вообще не понимаю, что конкретно вы ищите? Дневник Марины? Так он у тебя!
– Исторический документ, который в 1916 году перед самой революцией Николай Николаевич, отец Елизаветы Ксаверьевны, показал офицеру Алексею, – сердито ответила я. – Что представляет собой этот документ, мы не знаем… Может, действительно письмо убиенного Николая II?
Машка раздраженно зафыркала:
– Исторический документ! Но при чем здесь секретная организация-то? А что касается убийств, то и без исторических документов могу придумать сто версий. Первая: Моргулеза и Елизавету Ксаверьевну убили уставшие ждать наследства родственники… Или все подстроил доверенный адвокат старушки, – как его?
– Мистер Дейвис, – обалдело подсказала я, теряясь от Машкиного напора.
– Или, если Мур так настаивает на суперценностях, государство могло потихоньку убрать Елизавету Ксаверьевну, чтобы раритет не ушел из страны, ведь она стала переписывать завещание в пользу нищей русской… А, может, толстый любитель старины из Анахайма был в сговоре с адвокатом? Или с твоим разлюбезным Муром, который сидел в тот момент в долговой яме? Вот и помог любимой бабушке отправиться на тот свет, чтобы заполучить часть акций на конюшне…
– Маня, ты говоришь ерунду, – возмутилась я, отмахиваясь от нее. – Большая часть акций принадлежит мне!
– А то я тебя не знаю, – прищурилась Машка, подписывая принесенный замученным официантом счет. – Небось уже предложила отдать полицейскому задарма свою долю? Правильно Вацек не дает тебе развод. За тобой нужен глаз да глаз. Прошу, Лиза, будь со своим сыщиком-Мурзавецким поосторожнее. Он подозри-и-и-телен…
Хорошо, что я не поведала Машке, как и где провела предыдущую ночь.
– А на карнавал мне можно с ним пойти? – сердито спросила я, обиженная на подружку за несправедливые нападки на Мура.
Подумать только, приписать ему убийство собственной бабушки! Ну, просто из рук вон! Машка совсем спятила на своей работе. Впрочем, ничего удивительного. Вкалывая на огромный финансовый концерн, где сотрудники бьются за место под солнцем с жестокостью римских гладиаторов и коварством отцов-иезуитов, любая нормальная психика придет в расстройство и везде будут мерещиться убийства.
Узнав, что господин Маркони Файя пригласил меня на приватный сабантуй, уж не знаю в честь какого события, Машка впала в ступор.
– Серьезно? – еле выдавила она. – Ты хоть знаешь, кто он такой?
– Внук гостиничного мафиози.
Подружка помолчала.
– Лиза, можно, попрошу тебя об одном одолжении? – тихо спросила она. – Маркони – владелец компании, где я работаю. Я столько лет пытаюсь перейти на более высокий уровень. Все есть – желание работать, образование, опыт, но… Нужны либо связи наверху, – и Машка потыкала пальцем в потолок, в мясистые лианы, хищно раскачивающиеся над нашими головами, – либо элементарно найти покровителя – мужика или бабу из верхнего эшелона, с которыми придется прыгнуть в койку.
– Маша!
– Что – Маша? Ты думаешь, мир бизнеса в Америке сильно отличается от нашего? Или какого-то другого? Я тебя умоляю! Путь на повышение лежит через диван покровителя. Все кругом одно и то же, поверь мне. Ты можешь быть семи пядей во лбу, но если у тебя нет сильной руки или любовника, так и будешь тухнуть на первичных позициях, пока не изработаешься как лошадь. Я не прошу устроить меня на новую должность. Мне нужно только интервью. Помоги мне, а? Мне необходимо повышение… Поможешь?
Мы посидели еще с полчаса, но Машка сильно устала, да и мне было пора двигать в номер, чтобы успеть переодеться к карнавалу. Расцеловавшись с ней у выхода из бара, я клятвенно пообещала сегодня же переговорить с Маркони.
В номере меня ждали платье времен Лукреции Борджиа, роскошный веер из пышных перьев, выхоленный изнеженный стилист и насупленный Мур.
– Ни за что не надену ЭТО, – Мур указал пренебрежительным жестом на яркий костюм венецианского сеньора.
Я подавила смешок. Если помните, знатные сеньоры той эпохи носили камзолы, белые чулки и туфли с бантами, высокими каблуками и посеребренными пряжками.
– Что же ты оденешь?
– Черный фрак.
– Ваш муж – очень красивый мужчина, – закатил в восторге подкрашенные глазки молоденький стилист, как только за Муром закрылась дверь. – Зачем надевать черный фрак? Фи! Немодно, несовременно!
Я хотела сказать восхищенному стилисту, что Мур вовсе не мой муж, но почему-то промолчала.
Ровно в полдвенадцатого мы встали в конец длиннющей очереди приглашенных на карнавал. Зрелище, надо отдать должное, впечатляло. Разноцветно-камзольная очередь извивалась веселой змейкой и быстро просачивалась сквозь открытые двери в комнату, наполненную зажигательными звуками музыки.
Когда очередь дошла до нас, вежливый распорядитель спокойно глядя на Мура, объявил:
– Извините, сэр, но ваш костюм не соответствует требованию сеньора Файя. Пропустить вас не смогу.
Мур молча продемонстрировал удостоверение. Молодой человек даже глазом не моргнул.
– Это частная вечеринка, сэр. И будь вы хоть президентом Соединенных Штатов, вход сюда сегодня открыт только тем, кто одет в костюм венецианской знати XIV века. Всего доброго!
И он удивительно незаметно оттер обалдевшего Мура от дверей, а меня протолкнул в ярко освещенную залу да так быстро, что я не успела сказать Муру ни слова.
Я подумала, что же буду делать одна на карнавале? Но буквально через несколько минут молодой человек с прилизанной головой, тот самый, кто присутствовал несколько часов назад в номере старика, подхватил меня под локоток и отвел к ожидавшему сеньору Файя.
Старик Маркони выглядел восхитительно – камзол и парик удивительно шли ему и сильно молодили. Я отпустила сеньору любезный комплимент и стала ждать благоприятного момента, чтобы заговорить с ним о Машке.
Но его разрывали на части – он был нужен всем и таскал меня за собой как пришитую. Знакомил с какими-то вальяжными мужчинами и представлял выхоленным подружкам последних. Он ловко вел необременительные беседы – легкие замечания о современном искусстве, моде, кино и великолепно, дипломатично, обрывал серьезные реплики о финансах и политике.
Я стала проникаться к старику все большей и большей симпатией, а еще искренне позавидовала его железному здоровью: бегать вприпрыжку, непрестанно болтать, пить, есть и танцевать поздней ночью не каждому дано.
Где-то через час, устав как полковая лошадь, к великому ужасу я узнала, что карнавал – не просто праздник. Раздавая щедрые улыбки направо и налево, Маркони провел меня сквозь пеструю толпу и представил высокой молодящейся даме с шикарными брильянтами на морщинистой шее и на редкость писклявым голосом. Дама радостно расцеловалась с Маркони и защебетала, что эта вечеринка – благотворительная акция и в конце бала все гости будут принимать участие в аукционе, а вырученные средства пойдут на «благие цели».
– Вы собираете деньги на борьбу с голодом и СПИДом в развивающихся странах Африки, сеньор Файя? – тоскливо спросила я веселого, подвыпившего Маркони.
– А вы против помощи несчастным голодающим детям? – тут же ощерилась бриллиантовая дама, сразу растеряв всю свою светскость.
– Нет, – ответила я, а Маркони в удивлении воззрился на меня:
– Почему ты решила, что собираются средства для Африки?
– Потому что в Америке сегодня модно усыновлять детей из Эфиопии и посылать деньги в Зимбабве, – уныло сообщила я. – А я не всегда считаю правильным следовать течениям моды.
– Деньги пойдут на поддержание исторических домов в Венеции, – презрительно заявила дама и, зловеще прошуршав пышными юбками, величественно отвернулась.
Маркони засмеялся и оттащил меня от сердитой любительницы Африки.
– Я тоже не люблю следовать моде, Бетси, – интимно прошелестел старик на ухо, почти касаясь губами мочки. – «Мода, это то, что слишком быстро выходит из моды», верно? Поэтому предпочитаю всегда идти своим путем и собираю деньги на реставрацию уходящим под воду особнякам Венеции, которые, увы! – сами не могут попросить о помощи.
– Но я никогда не принимала участия в аукционах, – растерянно сообщила Маркони.
Старик, находясь в отличнейшем настроении, легко ущипнул меня за щечку и решительно заявил, что беспокоиться не о чем – все будет проделано прилизанным секретарем. От меня требовалось только одно – выбрать желаемый предмет. Пришлось молча покориться – против несущейся с горы снежной лавины бороться бесполезно.
В процессе аукциона я ничего не понимала, что не помешало уйти оттуда обладательницей симпатичного старинного кольца. После чего, осушив пару бокалов великолепного шампанского, собравшись с духом, стараясь не смотреть в глаза старику и запинаясь на каждом слове, я изложила просьбу моей Машки.
Сеньор Маркони задумчиво гладил подбородок и, понимая, что мне сейчас откажут, поддала жалости в голос и просительно взяла Маркони за руку. (Как же трудно быть просителем!)
– Ладно, помогу твоей протеже, – миролюбиво протянул мафиозный внук и задержал мою ладонь сухонькими пальцами, удивительно сильными для столь преклонных лет, приобнял за плечи, радостно осклабился фарфоровой улыбкой и заговорщически прошептал: – Кстати, для друзей я просто Маркони, Лиза…
Ага, понятно, для особо приближенных к батюшке. Ох-ох-ох, «минуй нас пуще всех печалей и барский гнев и барская любовь»… Но делать было нечего – Маркони – значит, Маркони.
– Твой друг выбрал очень неудобный день для встреч, Лиза, – продолжал старик, не выпуская меня из цепких и жарких полуобъятий – Утром улетаю в Европу, но у меня есть еще пара часиков. Подходи минут через тридцать в личные апартаменты, туда, где встречались днем. Обещаю, честно расскажу все, что знаю.
И сеньор Файя – для друзей просто Маркони – растворился между разноцветными гостями как чеширский кот.
Я медленно побрела к выходу, путаясь в длинных юбках маскарадного платья.
Нет, ну как ловко этот мафиозный наследник играет на распиравшем меня любопытстве! Просто загнал в угол. Зачем-то пригласил на маскарад… Естественно, встречусь с ним в «личных апартаментах», зря, что ли, парилась на празднике целую ночь, но вот что делать ближайшие полчаса?
Я постояла немного, а потом решила пройтись вдоль «плазы», имитирующей площадь Святого Марка.
В этот ранний час торговые залы «Венеции» спали. Бутики и рестораны были закрыты, пустые гондолы покачивались в зеленой воде, уткнувшись длинными носами к стенам канала. Только секьюрити да редкие гости медленно прогуливались по притихшим лабиринтам муляжно-театрального города. Из казино долетал глухой шум толпы, но у канала было тихо. Полчаса пролетели незаметно.
И тут я сообразила, что не знаю, где находятся личные апартаменты мафиози. Днем-то к старику Маркони меня провел Мур.
Ничего не попишешь, уныло подумала я. Придется спускаться вниз на ресепшен по длиннющей и скользкой лестнице, потом идти через сигаретно-дымное казино, брести невесть сколько километров вдоль мраморно-зеркального коридора… Как раз доберусь к утру – дизайнеры супермодного отеля «Венеция» не скупились на квадратные метры.
У стойки администратора, выслушав мою вежливую просьбу, вышколенный клерк на несколько мгновений замер за своей конторкой, а потом дрогнувшим голосом пригласил старшего по смене. Не иначе как просьба клиентки узнать номер богача Файя, приравнивалась здесь к выдачи секретов расположения всех американских атомных боеголовок, космических спутников-шпионов и нефтяных скважин.
Я разглядывала себя в многочисленных зеркалах и терпеливо ждала, когда служащие кончат шушукаться и выдадут нужную информацию, как вдруг, в отражении зеркала, поймала знакомый силуэт Мура.
Быстро обернулась и увидела Джона, медленно бредущего с потрясающе красивой молоденькой женщиной: осиная талия, стройные ноги на высоких шпильках, пышная грива белокурых волос. Сама богиня красоты Афродита позеленела бы от зависти, увидев подобный человеческий экземпляр. Мур нежно поддерживал красотку под ручку, что-то рассказывал той на ушко, а девушка весело смеялась.
Заинтригованная выше всякой меры, я осторожно двинулась за ними, путаясь в длинном платье, так и норовящем соскользнуть вниз.
Видимо, собираясь на карнавал, незнакомая с хитростями туалета венецианских сеньор далекого XVI века, я несильно затянула средневековый наряд, и приходилось то и дело подтягивать лиф, что выглядело очень вульгарно. К счастью, никто из редких гостей не обращал никакого внимания ни на меня, ни на мой необычный костюм, ни на то, что я периодически поддергиваю верх платья. Как давным-давно сказала Машка: «Если в Лас-Вегасе увижу голую даму, только поинтересуюсь, не холодно ли ей».
Мур с красавицей исчезли за вращающейся дверью бара прямо перед входом в казино. Я притормозила невдалеке, раздумывая, что же следует сделать, но буквально через несколько минут Мур вышел из тех же дверей – вместе с Галкой!
Протерев глаза, пришлось убедиться: да, это действительно Галка, собственною персоною. Каким образом красавица Мура превратилась в мою подружку – было выше моего понимания.
Не успела я и глазом моргнуть, как парочка, словно бестелесные предрассветные тени, быстро растворилась среди игральных аппаратов казино. Догнать их в сползающем платье мне не удалось бы ни за что.
Что происходит? Что за шпионские игры? Ладно, сейчас повидаюсь с Маркони, а завтра вытрясу всю правду из подружки, встречающейся с Муром инкогнито глухой ночью в баре гостиницы «Венеция»!
На ресепшен меня встретил встревоженный секретарь с прилизанной головой. Бросая грозные взгляды на притихших клерков, приседая и расшаркиваясь, отвел до дверей номера Маркони.
– Господин Файя просил вас немного подождать, – тихо сказал он и испарился, словно роса жарким полднем, оставив скучать в молчаливом обществе золоченой мебели, гигантских букетов и распахнутых настежь итальянских окон, через которые вливался гомон многотысячной толпы с улицы.
Я смирно сидела на диване, прислушиваясь к звукам ночного города, а потом стала все чаще поглядывать на часы. Оно понятно, что сеньор-господин Файя был нужен больше мне, чем я ему, но, согласитесь, заставлять даму ждать – отнюдь не показатель воспитанности и хороших манер.
Прошло минут двадцать. Не зная, чем заняться и уговаривая себя не раздражаться, я решила найти секретаря и осторожно открыла дверь в соседнюю комнату. Никого. Прилизанный секретарь бесследно исчез, и сеньор Маркони не показывался.
Неожиданно тишину нарушили гневные голоса – мужской, глухой и невероятно сердитый, явно принадлежащий господину Файя, а другой, женский, истерический и молодой, срывающийся на плач.
Стать свидетелем ссоры или мафиозной разборки мне решительно не хотелось. Но не успела я выскользнуть в коридор, как закрытая перед моим носом шикарная дверь распахнулась, и на порог выплыл старик Файя, все еще одетый в карнавальный камзол, в парике. Он был зол, как осенняя муха. За ним выбежала юная горничная с заплаканными глазками.
– Извини, Лиза, задержался, – любезным тоном сказал сеньор Файя и небрежно кивнул девчушке.
Та мгновенно исчезла, всхлипывая, а сердитый Маркони, не смущаясь, уютно расположился в кресле напротив меня. Я сделала вид, что ничего не заметила.
Зализанный секретарь бочком просочился в гостиную и прикатил полную тележку напитков. Маркони так же вяло кивнул, задумчиво покопался в красиво расставленных на зеркальном столике бутылках и не спеша наполнил два бокала. Потом стащил парик и расстегнул камзол.
– Поезжай в Носсу, девочка, – вдруг устало сказал он мне.
– Почему в Носсу? – опешила я.
– Потому что там найдешь то, что ищешь.
– Письмo Николая II?
– Я очень любил Марию, – невнятно заговорил старик и я не сразу догадалась, что он говорит о бабушке Мура. – Что я эти письма с собой в могилу возьму? Моим детям и внукам денег на две жизни хватит, а мне на том свете вряд ли дублоны золотые понадобятся. Эх, девочка, голыми приходим, голыми и уйдем. Мария просила меня помогать внуку…
Я невольно почувствовала сострадание к престарелому сеньору. Вот ведь поколение было! Войны, концлагеря, голод, эмиграция – о какой любви можно говорить? Оказывается, любить можно во все времена.
– Лиза, я хочу кое-что подарить тебе, на память о встрече, – вытаскивая из недр разноцветного камзола маленькую коробочку, заявил Маркони и, не слушая возражений, вложил в руку маленький медальончик в виде изящной греческой вазы-амфоры, только без ручек.
– Подарок от Лжедмитрия, – усмехнулась я, внимательно рассматривая симпатичную безделушку.
– С вами, молодыми, очень-очень сложно, – пожаловался неизвестно кому сеньор Файя.
Всего час назад на балу он шутил и смеялся, а сейчас передо мной сидел очень грустный старик с потухшим взором. Что такое могло произойти за истекшие шестьдесят минут? А может, Маркони просто устал?
Я чувствовала себя не совсем в своей тарелке от странно поменявшегося настроения хозяина и хотела быстренько распрощаться, но он как-то умоляюще попросил меня:
– Поскучай со стариком еще немножко, хорошо? – и щелкнул музыкальным пультом.
В предрассветной тишине комнаты зазвучала печальная мелодия саксофона. Через минуту-другую к нему присоединился необычный, «простуженный» голос певца. Под сумасшедше-прекрасную мелодию он даже не пел, а хрипло рассказывал историю, и, похоже, интересную, но как я ни вслушивалась, ничего не понимала, потому что в итальянском – ни в зуб ногой. Что-то о «салате» и «ди маре» с «аморе».
– Маркони, о чем он поет?
– О любви.
Ну, естественно, о чем же еще петь итальянцу, как не об «аморе» салатового цвета?
– Мы играли в случай и не знали, что за чувство возникло между нами, – вдруг начал медленно переводить Маркони, отвернувшись к широко распахнутому в ночь окну. – Мы играли в жизнь – игру нечестную и тяжелую. Мы любили друг друга, но потерялись в мире проблем… А сейчас уже поздно начинать жизнь сначала, и все, что я могу сказать тебе: между нами была любовь и ты даже не знаешь, какой силы…
Простуженный голос певца смолк, но рыдающий саксофон продолжал свою мелодию, нежную и хрупкую. Она была как морозная корочка на воде ранней весной – дотронься неосторожными пальцами и корочка превратиться в тающее на глазах крошево. Саксофон пел и страдал, и оплакивал нечто такое, что на человеческом языке и высказать-то невозможно…
14. Поездка в Носсу
Я просидела у старика до рассвета. Мы не говорили больше о дневниках, письмах и Марине Мнишек. Маркони рассказал о своем детстве, о переезде в Америку, о первой и единственной любви – бабушке Мура.
Дедушка Мура служил в немецком госпитале врачом, там познакомился с пленной итальянкой Марией, а после падения Третьего рейха в 1945 году Маркони помог им перебраться в Штаты – язык денежных купюр универсален и, к счастью, понятен чиновникам всех стран и народов.
После смерти дедушки-немца Маркони предложил Марии замужество, но она отказала ему, о чем он до сих пор, казалось, переживал.
– Времена меняются, – философски размышлял Маркони, потягивая терпкое вино, – а чувства, испытываемые людьми, остаются прежними. Мы сгораем от любви, бесимся от ненависти, нас сжигает пламя амбиций и страстей сегодня так же, как и древних египтян, суровых спартанцев или романтических этрусков тысячи лет назад. Какой странный, но чудовищно предсказуемый мир страстей человеческих, Лиза…
– Поезжай в Носсу, девочка, – опять настойчиво и грустно повторил он, по-итальянски шумно и пылко расцеловав меня на прощание в обе щеки. – Там найдешь все, что ищешь.
Небо светлело, на улице появились первые поливальные машины, когда я покинула роскошные апартаменты сеньора Файя. Спать хотелось невыносимо. Легкое вино, которое Маркони незаметно подливал мне весь вечер, туманило голову, лишило последних сил и, не вылезая из венецианского платья, я заползла под одеяло. В последнее время у меня вошло в привычку ложиться одетой и неумытой.
Спала я плохо, часто просыпалась и вновь погружалась в странные сновидения, в которых тревожно блуждала в полном одиночестве по старинным покоям и переходам какого-то монастыря. То мне чудился перестук острых каблучков Марины, то тяжелая поступь больного царя Василия, то шажки и смех маленького ребенка…
То ли живые люди, то ли невесомые призраки-незнакомцы бесследно исчезали за коваными дверями, только при попытке коснуться их рукой. Но как это часто бывает во снах, я вдруг преисполнилась чудодейственной силы и смогла пройти сквозь дверь, за которой исчез преследуемый мною человек.
Дверь с тяжелым всхлипом захлопнулась, фигура неизвестной женщины стояла ко мне спиной… Вот она начала медленно поворачиваться… Но мне расхотелось увидеть ее лицо! Панический страх охватил сердце, но ноги не слушались, намертво прилипнув к каменным плитам пола… Закрытые ставни окон заколотились, забренчали, еле выдерживая натиск ветра…
От ужаса я громко заорала и проснулась, обнаружив, что лежу на полу. Кто-то назойливо и энергично стучал кулаком в дверь. Часы показывали половину десятого. Господи, кому же неймется-то, а?
Ничего не соображая, я еле доползла к двери. На пороге стоял Мур.
Я невольно попятилась назад, запуталась в сползающем тяжелом платье и чуть не упала. Мур с грохотом захлопнул дверь, протащил меня за шкирку в комнату и грубо толкнул на кровать.
– Ты где вчера была? – грозно поинтересовался мой приятель.
– В гостях, – простонала я, потирая шею.
Точно останется синяк от железной хватки Мура.
– У стариков-миллионеров никак?
– Понимаешь, Машка просила замолвить за нее словечко, и я решила не откладывать и закончить все дела вечером. А Маркони согласился помочь, но пригласил в свой номер.
– В свой номер? Ладно, – с силой сказал Мур, глаза превратились в узкие щелки, из которых так и била волна еле сдерживаемой ярости. – Я умываю руки. Надоело тебя из дерьма вытаскивать.
– Честное благородное слово, ничего не было, клянусь.
– Лучше бы было, – вдруг рявкнул Мур так громко, что у меня в голове разорвалась бомба.
– Ты в своем уме?
– Я-то в своем. На, звони адвокату и быстрее!
– Почему?
– Потому что твоего миллионера нашли утром с перерезанным горлом. И все свидетели, начиная с личного секретаря и заканчивая горничной, в один голос твердят, что ты была последней, кто уходил из его номера на рассвете.
– Как – с перерезанным горлом?
Я сидела на кровати, поддерживая на груди дурацкое, упорно сползающее скользкое платье, и непонимающе смотрела на пыхтящего Мура… И вдруг до меня дошел смысл его слов. Черные точки закружились надоедливыми жирными мухами перед глазами, а Мур стал погружаться в темноту, уходить от меня, растворяясь в туманной дымке…
Очнулась я от того, что телу было невыносимо противно и мокро. Теплые капли растекались по лицу, по шее, заливались под спину. Неужели опять свалилась с пирса?
– Лиза, не хотел пугать тебя, – встревоженно бубнил Мур рядом и пытался влить в меня воняющую железом воду.
Я тут же все вспомнила, подпрыгнула на мокрой кровати и затряслась в ознобе страха. Скрючившись на краешке развороченной кровати, я пыталась взять со стола стакан воды, но рука не слушалась, пальцы не сжимались, а зубы, наоборот, не разжимались, словно намертво склеенные цементом.
– Мур, – язык не слушался совершенно и слова выговаривались с трудом. – Это не я… Не Я! Ты мне веришь? Меня кто-то подставляет. Но кто, кто, Мур? Зачем? Кому я нужна?? Дневник Марины не имеет баснословной ценности, об этом сказали все, груды золота у меня нет. И писем последнего императора тоже нет!!
Мур едва слушал.
– Адвокат уже ждет внизу, в машине, – быстро говорил он, вытряхивая меня из венецианского платья и помогая залезть в узкие джинсы.
– Наш Дейвис? – дрожащие руки не повиновались, и Муру пришлось придержать стакан с водой, когда я пыталась запить какие-то белые пилюли.
– Нет, его помощник. У адвоката приготовлено алиби. Ничему не удивляйся и ничего не говори обо мне. Поняла? Как это все некстати! Если меня отстранят от дела, не представляю, что может случиться с тобой.
К счастью, в полиции мучили недолго, а, может, мне просто так показалось. Мур накачал меня успокоительными таблетками и действительность стала восприниматься в страшно замедленном темпе. Серьезный и суровый адвокат, которого я никогда раньше не видела, не дал мне даже рта раскрыть, следователь записал рассказ с его слов и взял подписку о невыезде. Моем невыезде из штата Невада, как вы понимаете.
К удивлению, стражи порядка вели себя на удивление учтиво. Адвокат, о чьем присутствии я не преминула многократно пылко поблагодарить небеса, заставил полицейских быть предельно вежливыми с клиенткой. А часа через два он довез меня до кафе, вежливо попрощался и улетел.
Я осталась один на один с хмурым Муром.
– О чем можно было трепаться со стариком до утра? – с пол-оборота завелся тот.
Если бы не усталость и абсурдность ситуации, стоило бы ответить Муру, что он ведет себя как глупый ревнивый муж. Но, с трудом преодолевая головную боль, давясь, я отпила невкусной воды и как могла пересказала ночной разговор с Маркони. Странно, в моем исполнении рассказ занял от силы пять минут.
– Так, – сказал решительно Мур, думая о чем-то своем. – Значит, летим в Носсу. На два-три дня. Никому о поездке ни слова!
– Чем ты слушаешь? Я подписала бумажгу о невыезде. Нахожусь под подозрением и не могу покидать пределы Невады. Тем более, лететь в Носсу. Там же в паспорте штамп ставят на таможне!
– Ерунда, – беспечно ответствовал Мур. – Я достану тебе документы по своим каналам. Лиза Князева не покинет штат Невада, гарантирую.
«Свои каналы» обернулись для меня истинным кошмаром.
Во-первых, как оказалось, мы полетим в Носсу в маленьком частном самолетике. И пилотом будет, угадайте – кто? Мур! Прямо швец, жнец и на дуде игрец! Только вот узнать, кто меня подставляет, ему слабо, а остальное – пустяки. Не удивлюсь, если он заявит об умении управлять межконтинентальными кораблями.
– У меня есть частные права пилота, – невозмутимо ответил Мур, когда я раздраженно заметила, что самолетом, даже маленьким, должен управлять специалист.
Во-вторых, и в главных, молодой парень в форме уж не знаю какого там департамента, встретивший нас в аэропорту с документами, заявил, что в Носсу безопаснее лететь зарегистрированной парой.
– Вопросов меньше будет, Джон, понимаешь? – сказал он, глядя на меня и протягивая Муру два паспорта.
Джон «понял», и мы мухой понеслись обратно в славный Лас-Вегас, надоевший мне до зубовного скрежета.
На Стрипе, главной улице города, мы подрулили к одной из многочисленных часовен, и, даже не выходя из машины, через маленькое окошко, непостижимым образом я обрела в течение двух минут статус замужней женщины, а Мур – женатого мужчины.
– Всего на два дня, – бормотнул Мур, выруливая на забитый машинами хайвей и включая мигалку, – мне будет так спокойнее.
– А подписка о невыезде?
– Так Лиза остается в Неваде. В Носсу летит Бетси Мур, – ответил «муж», и я оказалась повержена на обе лопатки…
– Отлично, – констатировал Мур, разглядывая розоватую бумажку – наше свидетельство о браке и передавая его мне с кучей брошюрок. – Теперь можно лететь, все документы в порядке.
События решительно вырывались из-под моего контроля.
Через два часа мы уже летели во Флориду, а откуда, заправив крошечный самолетик, взяли курс на Носсу, где, как надеялся Мур, мы найдем письма последнего русского императора.
По дороге в Носсу я мрачно молчала, рассматривая раскинувшийся под самолетом океан. Зачем согласилась на эту авантюру? Сначала дала себя втянуть в глупое расследование отравленной бабушки, потом вышла замуж за внука-полицейского… Дура!
Я уговаривала себя не волноваться: только для дела, только на бумаге, только на два-три дня стала официальной женой абсолютно чужого мне человека, и конечно же безусловно мы расторгнем брак сразу же по возвращении в Лас-Вегас, кто бы сомневался! Но, честно признаться, уговоры помогали мало и раздражение на себя и на весь свет заливало здравые рассуждения.
Носса встретила нас отличной погодой.
Особняк Маркони располагался рядом с домом бывшего английского губернатора, можно сказать – дверь в дверь. Не знаю, сколько престарелый внук мафиози заплатил властям за то, чтобы дом не экспроприировали островитяне после народной революции, но, должно быть, немало.
– Я бывал здесь ребенком, – объявил Мур и подтолкнул меня к запертым высоким воротам, – до того, как местные жители выгнали «гадких белых поработителей» и провозгласили на отдельно взятом острове свободу и независимость.
По словам Мура, когда Носса входила в состав британской империи, хотя и называлась колонией, на острове царил строгий порядок. Королевский губернатор правил железной рукой.
После революции же начались проблемы и беспорядки. Оно и понятно, воевать не работать. Как только бывшие белые хозяева перестали терзать несчастных местных жителей непосильной работой по благоустройству острова, тот пришел в упадок. Сады не чистились, улицы не мылись, мусор не вывозился, дома не подкрашивались, банки и магазины перестали слаженно и четко работать, госпиталь закрыли. Появились наркотики, банды, а безопасность с благоустроенностью канули в Лету.
Революционеры поостыли и милостиво вернули часть домов и банков бывшим владельцам – за деньги. Со временем и с помощью все тех же «гадких европейцев» на острове возобновился порядок, открылись гостиницы, и Носса превратилась в один из средних курортных островков, которых и не пересчитать на мировой карте.
Когда я увидела особняк Маркони, то не смогла сдержать возглас восхищения. Дом, знававший и лучшие времена, все еще выглядел внушительно.
Мур распахнул чугунные литые ворота, и за ними оказались ухоженные клумбы с яркими цветами и оливковыми деревьями. По широким, белым от солнца ступеням террасы мы вошли в знойную духоту холла.
Пробиваясь через цветные витражи окон, полуденные лучи солнца теряли свой накал и расплескивались миллиардами разноцветных брызг по выбеленным стенам и потолку. Рассохшийся деревянный пол поскрипывал от жары. Мур раскрыл жалюзи в комнате слева, и в нее ворвался пронзительный запах цветущих под окнами магнолий.
– Вот это да, – прошептала потрясенно я, останавливаясь перед полукруглой деревянной лестницей, ведущей на второй этаж и опуская на пол сумку. – Никогда не видела такой красоты!
– Дому почти сто лет, – послышался голос Мура из залы. – Маркони выкупил его у родственников губернатора. Семье надоело жить вдали от шумного Лондона в глуши тропиков.
На втором, еще более роскошном этаже, Мур показал мне спальню – огромную светлую залу. Я кинула вещи на все еще кипенно-белое покрывало и довольно оглянулась: а поработители-то жили совсем недурно!
Несколько часов спустя мы расположились внизу, в залитой тропическим солнцем и насквозь продуваемой жарким бризом, «бальной» зале. Туда же мы перетащили несколько огромных коробок с документами с чердака. (Если бы кто мог себе представить, как я устала от пыльных чердаков и коробок за последние два дня!)
На чердак мы попали через третий этаж – туда вилась узенькая деревянная лесенка. Я как будто попала в другой дом – ничего общего с элегантностью и размерами увиденных ранее парадных помещений и спален.
– А что здесь? – ткнула я пальцем в темные ступеньки справа от дверцы, ведущей на чердак.
– Там пыточные комнаты для рабов, – спокойно ответил Мур.
– Что?! – наверное, я ослышалась.
– Каждая уважающая себя белая семья просто обязана была иметь в доме камеры пыток для слуг. Знаешь, почему Маркони никогда подолгу не жил здесь? – таинственно поинтересовался Мур.
– Почему?
– Души замученных рабов никогда не покидали дом. В полночь до сих пор можно услышать, как они ходят, разговаривают, стонут… Не каждый, знаешь ли, сможет выдержать подобные представления…
– И ты их видел? – обморочным голосом поинтересовалась я.
– Ага, – беспечно отозвался Мур и обмел паутину с чердачной двери. – Когда приезжал сюда с бабушкой. Даже привык к ним. Некоторых помню по именам. Вот вытащим коробы с чердака, покажу тебе камеры. И пыточные инструменты. Очень интересно.
– Нет! – взвизгнула я и стала пятиться к лестнице. – Не хочу!
Мур прислонился к дверному косяку и расхохотался в голос. Он даже всхлипывал от смеха. Я со страхом смотрела на него и не могла понять, что же его так развеселило. Мой отказ полюбоваться пыточными инструментами?
Наконец он выдохнул:
– Лиза, ты доверчива, как ребенок. На третьем этаже, так называемых антресолях, в викторианской Англии строили спальни для прислуги и детей. Я тоже жил здесь мальчишкой, моя спальня под самой крышей. Жарко там было всегда до одурения. Неужели ты веришь в бред о пытках рабов? – Мур тянул меня за собой на темный чердак, все еще смеясь. – Первый этаж – приемный. Третий – для детей и слуг, а второй, самый удобный – для взрослых. Я решил, что лучше занять их, в них будет не так душно ночью.
Я сердито посмотрела на него и полезла вверх по скрипучей винтовой лестнице. Надо же – пыточные камеры. Глупые шутки!
Чердак оказался завален разным барахлом, у меня сразу засвербело в носу и горле. Обливаясь потом, мы выволакивали тяжеленные коробы на свет и рассматривали их содержимое на более прохладной лестнице. Наконец обнаружили то, что искали – три ящика с пометкой «Сеньор Маркони Файя – документы, Европа» и, пыхтя, как носороги, потащили это вниз.
Мур рассчитывал провести в Носсе два дня, но мне не верилось что за оставшиеся 48 часов мы сможем перелопатить такое огромное количество информации и, главное, найти бесценные письма последнего русского царя.
Оттащив последний короб, Мур исчез.
Я спустилась на один пролет вниз и вытерла о шорты грязные руки. Устало присела на верхнюю ступеньку парадной лестницы и прикрыла глаза. Какой странный дом, подумалось мне. Похоже, он задремал в прошлом веке, когда дамы носили длинные платья и высокие прически, а мужчины умели укрощать диких коней и строить усадьбы на неизвестных цивилизации тропических островах.
В холле прозвенел дверной колокольчик, и его трель странно прозвучала в тишине пустого дома. Я встала и склонилась над перилами – на пороге стоял улыбающийся Эд. Вот уж кого я совсем не ожидала увидеть! Откуда он узнал, что мы в Носсе? Мне это не понравилось, совсем не понравилось.
Эд приветливо помахал пухлой ручкой. Я сбежала по полукруглой лестнице на первый этаж и увидела Мура в проеме дверей. У него был очень хмурый вид, но Эд, не замечая его недовольства, вежливо поздоровался со мной и прошел в залу с коробами. Мы – следом за ним.
– О, отлично! – радостно потер руки Эд. – Приступим!
И мы приступили.
Что мы обнаружили в коробах Маркони? Дневники, романы, переписку. Но писем последнего русского императора Николая II в коробах не оказалось.
Эд раздражал меня ужасно. Он не просто «читал» бумаги. Он старался найти подтверждение своей теории, а именно, что в начале XVII века произошла рокировка в престолонаследии и впоследствии – убийство его драгоценной Марины. Мур, по моим наблюдениям, все еще пытался решить для себя: могли ли убийства быть связаны с предположительно украденным раритетом из коллекции Елизаветы Ксаверьены. А мне хотелось просто бесцельно порыться в старинном архиве. В общем, каждый из нас преследовал свою цель, мы не слушали друг друга, сердились и спорили.
Работу осложняло то, что часть писем была написана неразборчивым почерком, многие из них – на французском языке, они передавались Эду. Может, он и хорошо понимал французский, но не имел терпения, и объяснения его носили весьма расплывчатый характер. К тому же все русские книги печатались по правилам дореволюционной грамматики, и я быстро уставала от чтения.
Когда за окнами начало темнеть и Мур невесть откуда принес лампы, Эд утомленно потянулся и снял с толстого носа очки. Я тоже отложила книгу в сторону.
– Ничего нового я в документах не вычитал, – сказал он задумчиво.
Кто бы сомневался!
Мне пришло в голову, что Маркони, старый хитрец, просто посмеялся над нами. Если бы он знал, что письма императора преспокойненько лежат четверть века в пыльных коробах на острове Носса и они бесценны, то разве разрешил бы найти их? Конечно же нет! Даже признание, что деньги ему не нужны, не совсем убедило меня. Может, сейчас и не нужны, но короба-то пролежали на чердаке многие годы. В альтруизм и бескорыстие Маркони мне что-то не верилось, хотя я по-прежнему испытывала к нему нежную симпатию. Но ведь зачем-то Маркони направил нас сюда… И так настойчиво направил. Зачем?
И главное – Мур согласился приехать на остров. Значит, надеялся что-то найти?
И еще. Я видела, как недовольно встретил Мур Эда. Но – не выставил того вон, что было бы проще простого. Более того, разрешил коллекционеру копаться в найденных бумагах. Опять-таки почему? Ответа у меня не было.
К вечеру жара спала. Появились дождевые облачка, и в воздухе запахло грозой. Солнце склонялось на запад, и притихший по-вечернему сад окрасился в нежно-коралловый цвет.
Я вышла из комнаты и в изнеможении присела на нагретые солнцем ступеньки.
– Вчера мы беседовали с господином Маркони, – услышала ехидный голос Мура из окна.
Он расположился на широком подоконнике спиной ко мне и с удовольствием, шумно отхлебывал лимонад.
– Коллекционер придерживается мнения, что царский переворот в Москве не что иное, как война за престол между ближайшими родственниками семьи Романовых – кузенами или троюродными братьями…
– Да? – скептически вопросил из глубины комнаты Эд.
– Да. А другая собирательница русских древностей вообще заявила, что отцовство, которое приписывают боярину Овчине историки, имеет крепкие доказательства, – явно подзуживая Эда, медовым голосом вещал Мур. – И раз Иван Грозный – сын Овчины, то никто из его прямых или косвенных наследников не имел бесспорного права на престол…
– Бред! – тут же взорвался Эд, мгновенно купившись на провокацию. – Никаких подтверждений такому факту нет! Дмитрий был не нужен боярству по другой причине – православие боялось влияния католичества, которое принесла с собой Марина Мнишек!
Ответа Мура я слушать не стала – просто сошла с крыльца в засыпающий сад. В кустах попискивали и шуршали меленькие птички. Пахло свежей травой и теплым летом. Я подняла голову и стала смотреть в далекое-далекое, быстро темнеющее, предгрозовое небо.
– Привет, – услышала я вдруг знакомый голос.
На тропинке стоял Вацек с огромной спортивной сумкой на плече.
– Устал как собака и есть хочу, – раздраженно объявил он и быстрым шагом направился к дому. – Через таможню проходил чертову тучу времени, все еле шевелились и делали вид, что «не понимают» мой английский. Свинство и хамство!
Я растерянно потрусила вслед за ним. Откуда он смог узнать, что мы на острове?
Юрист, кольнула догадка. Если тот молодой серьезный юрист из Лас-Вегаса «раскололся», то Вацек знает и об убийстве мафиози, и о подписке о невыезде и… о новом замужестве?! «У меня сегодня большая стирка, – припомнилось некстати, – мне нужно намылить голову своему управляющему». Вот только голову будут мылить вашей покорной слуге. Да еще как!
В зале Вацек небрежно оглядел пыльные короба и заявил, что всем нужно прерваться на обед, так как он страшно голоден.
– Нас ждет море… – раздраженно перебил его толстый и потный Эд, нетерпеливо глотая воду у меня за спиной, – работы. Обед может и повременить.
Не слушая его, я выбежала из комнаты вслед за Муром.
Через час мы привезли из местного ресторанчика вкуснейшую рыбу, овощи, салаты и все умяли в считанные минуты. Как оказалось, не только Вацлав мог пожаловаться на желание заморить червячка.
После обильной и вкусной пищи Вацек сразу подобрел, заулыбался, пришел в отличное настроение и, развалясь в гамаке на крыльце, стал перелистывать книгу-дневник Марины. Я исподтишка поглядывала на него и пыталась угадать по поведению и настроению, что тот знает.
На улице стремительно темнело. Пахло приближающейся грозой, но она никак не начиналась и только деревья тревожно шептались в тишине ожидающего дождя сада.
Эд еще немного пошелестел старыми документами, а потом раззевался до слез, галантно поцеловал мне ручку, извинился и отправился спать.
Я села рядом с Муром за стол, освещенный яркой лампой.
– «И твой католический бог не поможет тебе», – задумчиво процитировал Мур, разглядывая медальон, который подарил мне вчера ночью старик Маркони.
Скрип гамака прекратился, и растрепанная темноволосая голова Вацека всунулась в гостиную. В руках он держал книжку-дневник, раскрытый на странице с портретом Марины.
– Идите сюда, – приказал он нам.
Мы быстренько перелезли через окно.
– Смотрите на ее руки, – скомандовал Вацек.
Мы послушно уставились на скрещенные руки Марины.
– Ну, ничего не видите, что ли? – раздраженно поинтересовался Вацлав.
– Слушай, это же не четки, – потрясенно пробормотал Мур.
У меня перехватило дыхание. С Марининой руки свисали не католические четки, как мы почему-то решили вначале. На тоненькой цепочке держалось украшение – точь-в-точь такой же вазон-амфора, как и у Мура в руке, только большего размера.
Мур задумчиво повертел в руках безделушку.
– Дай-ка сюда, – сказал ему Вацлав. – Откуда у тебя это?
– Подарок Лизе от сеньора Маркони. И еще вот… Кольцо.
Вацлав быстро осмотрел кольцо.
– Я его приобрела на благотворительном аукционе, – похвасталась я Вацеку.
– Ну, оно недорогое, – пробормотал он. – Это не раритет. Так, безделушка, выполненная под старину. Хотя, надо отдать должное, симпатично выполненная…
Вацлав повертел перстень в тонких пальцах и вдруг… перстень открылся! Сталкиваясь лбами, мы с Муром склонились над руками Вацлава.
– Пусто, – разочарованно бормотнул Мур.
– Перстень с «секретом», – протянул Вацек. – В таких Лоренцио Борджия и Екатерина Медичи хранили яд, который во время приема незаметно подсыпали «любезному другу» в чашу с вином.
Господи, только Екатерины Медичи нам не хватает в наших расследованиях! Или Эд был неправ? И русскую царицу Марину отравили? Ядом из подобного перстня?
– Ты с ним того, поострожнее, – пробормотал Мур, аккуратно беря кольцо из рук Вацека двумя пальцами.
– А вот амфора-колумбарий тоже интересна в своем роде, – продолжал Вацлав, не обращая внимания на слова Мура.
Он опять поиграл пальцами и опять мы с Муром, как дети, с любопытством склонились над его руками.
– Снип, снап, снурре, пурре, базеллюре, – пропел Вацек и теперь на его ладони лежал… малюсенький ключик!
– Ключ, – удивился Мур. – Вот это да! Но как ты догадался?
– Внутри медальона вырезано углубление для хранения ключика, – авторитетно пояснил Вацлв. – Поэтому медальон такой необычной формы – не круглый или овальный, как большинство украшений, а вытянутый в форме колумбария. Мур, ты в курсе, чем я зарабатываю на жизнь?
– Нет.
– Вацлав – первоклассный ювелир, – объяснила я.
Тот теперь повертел в руках и ключик:
– Напоминает ключ от банковской ячейки. Такие фокусы видеть мне не впервой. Медальон – идеальное место для того, чтобы спрятать маленькую вещицу, о которой не должны подозревать муж, например, или брат… или какие другие близкие родственники…
– Я не совсем понимаю, к чему здесь перстень, – протянул Мур, но Вацлав уже опять полез через окно, и мы услышали, как заскрипел гамак. – Хотя раз Маркони посоветовал Лизе ехать на этот остров, чтобы найти письмо или письма, значит, разгадка должна быть…
– Ага, в «маньюскриптах», которые вы все читаете вот уже двадцать четыре часа, – ворчливо закончил Вацек с крыльца.
– Если, как ты говоришь, разгадка прячется в старых письмах, то почему сам Маркони не нашел ее? – я вышла на крыльцо и уселась в гамак рядом с ним.
– Ну, ответов может быть по крайней мере два. Либо ваш Маркони не смог найти ее, либо он просто не захотел найти ее.
– Кого – ее? – уточнил Мур из кухни.
– Разгадку, – лениво ответил Вацек.
– Скажешь! Маркони говорил, что письмо императора стоит басносновных денег и что, мафиози так легко от них отказался бы, что ли? – усомнилась я.
Вацлав утомленно пожал плечами, поворочался, вылез из гамака и переместился в плетеную качалку.
– Знаешь, – задумчиво вымолвил Мур, присаживаясь на ступеньки рядом с ним и разглядывая ключик. – Мой дедушка называл часто беседку в этом саду «банком». «Пойду в банк», – говорил он, – и пропадал на долгие часы.
– Что же он там делал, в беседке? – заинтересовался Вацек.
– У бабушки постоянно собирались дамы на чай и трещали как сороки, – бормотал Мур. – Дед любил почитать в одиночестве, ну и… выпить рюмочку-другую, а бабушка волновалась за его здоровье и запирала в буфете все алкогольные напитки. Вот дед и стал припрятывать кое-какие из них. У него там вроде клуба образовалось. Дамы в доме на веранде располагались, а дед с джентльменами в дальний конец сада уходил.
– Думаешь, Маркони письма там заховал? – протянул Вацек.
Ничего более глупого в своей жизни я не слыхивала! Престарелый и ушлый мафиозный внук, знающий цену деньгам, припрятал ценные бумаги, стоившие килограммы баксов, в саду на острове Носса на долгие-долгие годы, а не продал их?
Я хотела было громко возмутиться, но тут в окне показался заспанный Эд с бутылкой минералки, и Вацлав с Муром нарочито бодрыми громкими голосами завели разговор о новой машине моего брата.
15. Неожиданный поворот
Гроза началась ближе к полуночи, когда мы все расползлись по спальням. Сначала дождик был слабый и мелкий, затем потихоньку стал набирать силу. И вот с неба упал неистовый поток воды, и сразу посвежело. Вода булькала в сточных желобах, стучала по открытым настежь ставням, шуршала по листьям и цветам, истосковавшимся по влаге.
Далеко за полночь я сидела на широком выступе у окна, вдыхая свежий запах дождя. В дверь вежливо постучался Мур. Он принес еще одно одеяло, сладкий пирожок и минералку. Уселся напротив меня, вытянул длинные ноги и затих.
Дом спал, и только шумел тропический ливень в саду. От порыва ветра скрипнула и приоткрылась дверь спальни, от темной лестницы потянуло холодным сквозняком. Я поежилась, но слезать с подоконника не хотелось.
– Зачем ты рассказал Вацеку об убийстве Маркони? – спросила я мрачно.
Мур невесело усмехнулся:
– Рассказал не я – твой адвокат. К тому же круг богатых людей очень узок. Все считают Вацлава твоим официальным мужем, разве не так? И как бы Эд воспринял наше пребывание здесь вдвоем?
Я покраснела как перезревший помидор. Скажите, какой блюститель нравственности! Все, еду в Москву, прижимаю Коровина, развожусь со всеми официальными и неофициальными мужьями и выправляю чистые паспорта!
– А зачем Эда притащил в Носсу? – рассердилась я. – Он-то зачем здесь нужен?
– Мне – нужен, – тихо ответил Мур.
Я фыркнула и отвернулась к черному, залитому дождем, саду.
– Итак, мы имеем три версии, – так же тихо сказал Мур. – Дмитрий – законный наследник престола, внук Ивана Грозного; Дмитрий – внук незаконнорожденного царя Ивана Грозного; Дмитрий – наследник, который вынужден защищать трон от слишком активных кузенов… Какая версия тебе больше близка, Лиза?
– Никакая, – вяло потянулась я. – Лучше скажи мне, Мур, зачем Маркони так настойчиво советовал приехать сюда: «Поезжай в Носсу. Там найдешь все, что ищешь». Что же я ищу, интересно?
Мур хотел ответить, но тут затренькал его мобильник. Вернее, не затренькал, а противно завизжал. Звук больше напоминал взбесившуюся циркулярную пилу, и я невольно поморщилась. Однако о музыкальных вкусах не спорят.
Прежде чем ответить, Мур посмотрел на засветившийся экран телефона и почему-то переключил его на громкую связь.
– Хей, Джон, – послышался симпатичный мужской голос. – Я выполнил твою просьбу.
– Да, – сказал Мур, взглядом призывая меня к вниманию.
– Моргулез-то, похоже, был из «ваших»…
– Да ну? – удивился Мур.
– Да-с, из государственной структуры.
– Подожди, ты хочешь сказать, что русская дама оставила наследство или пыталась оставить наследство государству?
– Похоже на то. Мургенштайн, там какая-то странная история. Почему родственники не пошли в суд по наследству? Меня, понятно, близко к делу не подпустили, узнал интересующую тебя информацию по… кхе-кхе… личным каналам. Понимаешь?
Мур закатил глаза. Видимо, ему было понятно, какие такие личные каналы использовал собеседник.
– Я понял. Передай ЕЙ большое спасибо лично от меня. Так ты хочешь сказать, что русскую даму запугали или принудили к подобному шагу?
– Не знаю, Джон. Там что-то не то, раз наследники даже не пикнули. Ну что они получили? Недвижимость в Англии? Золотые побрякушки?
– Кажется, так.
– Вот, замолчали и проглотили даже то, что большая часть наследства уплыла к нищей девчонке-сиделке из России… Как ее?
– Бетси, – хмуро подсказал Мур и отвернулся от меня.
– Так. Родственники чего-то испугались и отступили. Лучше уж синица в руках, чем роскошный гроб на кладбище. Чего уж они там испугались – не знаю. Сам ищи, Мургенштайн. Успеха.
– Ладно. Спасибо.
– Слышь, Мургенштайн, а девчонка эта русская, похоже, в хорошее дерьмо вляпалась. Ты ей намекни, что если кто тревожить начнет, пусть отдает сразу, не раздумывает.
– Намекну.
Я бы отдала! Немедленно и в собственные руки того, кто требует, но что отдавать-то? Пойти туда – не знаю куда. Найди и отдай то – не знаю что. Несуществующие письма мученика Николая II? Дневник Марины? Неужели Елизавета Ксаверьевна подставила меня? Не может быть, не похоже на нее.
– А с твоей бабуленцией вообще ничего в схему не укладывается, – опять подал голос невидимый собеседник. – Может, русская дама передала твоей бабушке что-то ценное? А та – Бетси? Думай, Джон. Бывай.
Мур выключил мобильник и выразительно посмотрел на меня. Я ничего не ответила и молча слезла с подоконника.
От сквозняка дверь в спальню совсем открылась, стало холодно сидеть у окна. Когда я потянула круглую ручку, мне показалось, что от двери к темной лестнице метнулась тень, похожая на тень большой птицы. Заскрипели ступеньки, и я замерла, чутко прислушиваясь к сонной тишине несколько минут, но ничего не нарушало покоя старого дома, только слышен был шум вовсю припустившегося ливня.
На следующий день, спустившись к позднему завтраку, я узнала, что аэропорт не принимает самолеты из-за сильного дождя, но рейсы на вылет пока не задерживает. После наскоро проглоченной чашки кофе, Эд пошел собирать вещи, сказав, что попытается улететь сегодня днем или в крайнем случае вечером.
Дождь серой, скучной стеной лил за окном. Вацлав неподвижно сидел за компьютером, а Мур сначала перетаскивал тяжеленные короба с документами опять на пыльный чердак, а потом вышел зачем-то в поливаемый дождем сад. Но вот Вацек с хрустом потянулся и вытащил листок из принтера.
– Я отправил Максу копию иконы с портрета твоей Марины. Вот, пришел ответ…
Макс – мой двоюродный брат и страстный лошадник. Каждый раз, приезжая в Москву, мне приходится брать детей и тащиться с ними в Переславль в частные конюшни, где работает Макс. Насколько помню, кузен никогда не интересовался историей, разве только архивами разведения племенных орловских жеребцов, поэтому страшно удивилась словам Вацека.
– У Макса друг-послушник или что-то в этом роде при монастыре. – предвосхитил готовый сорваться вопрос Вацлав. – От него Макс получил информацию.
Я быстро пробежала глазами письмо кузена.
«Вацек, – писал Макс, – тебе необходимо приехать и переговорить с Александром лично. Он сейчас проживает в Дмитриевском монастыре, недалеко от нас. Икона написана в необычной манере, сказал он. Ты знаешь, как я далек от истории православия и, тем более, иконописи, поэтому из рассказа Александра понял два слова: икона нестандартная, почти еретическая, но тому есть причины. Если приедешь до конца месяца, Александр будет рад увидеться с тобой».
– На парадном портрете царицы – изображение еретическай иконы? – засомневалась я.
Но Вацек ничего не успел ответить, потому что в кухню ввалился радостный, промокший до нитки Мур.
– Я вспомнил, ребята, – весело возвестил он, вытираясь полотенцем, которое тут же поменяло цвет с нежно-оливкого на буро-коричневое. – В беседке, где прятался дедушка от болтливых подружек бабушки, есть что-то вроде шелтера. Там хранили садовый инвентарь, семена, мешки и прочую хозяйственную лабуду. Там же дедушка устраивал маленькие заначки шнапса. Бутылочки он упаковывал в миниатюрные деревянные ящички, в которых приносили рассаду…
– Ты думаешь, что один из ящичков будет заперт на замочек, к которому подойдет наш золотой ключик? – с сомнением спросил Вацек, посматривая на быстро синеющее окно.
Было всего около четырех пополудни, но от дождя казалось, что уже наступал хмурый осенний вечер. Под проливным ливнем, который никак не хотел заканчиваться, мы побежали гуськом в сад, пролезли в грязный шелтер, по-простому садовый сарай, и начали методично обшаривать его. Старые ведра, рассохшиеся скамейки, подмокшие мешки, угрожающе огромные пилы и молотки – все было в идеальном порядке разложено по полкам и нишам.
Мур раскачал несколько деревяшек на полу, пошарил и вытащил миниатюрную лопаточку.
– Хм, здесь нет ящичков, – доложил он и вытер мокрые руки прямо о джинсы.
– А должны были быть? – спросил Вацлав, клацая от холода зубами.
– Иногда дедушка прятал ящички со шнапсом под полом в этом шелтере, а иногда зарывал под старой магнолией, – ответил Мур.
– Зачем? – удивился Вацлав.
– Бабушка находила его заначки довольно быстро, но вот выкапывать ящик из-под земли все же не стала бы.
– Помнишь, где он копал?
– Естественно, – пожал плечами Мур.
Ребята переговаривались громкими голосами, и я попросила их говорить потише.
– Господи, – раздраженно воскликнул Вацлав. – Да кто нас здесь услышит в такой муссон?
Мур присел около каких-то ящиков с инструментами и неторопливо копался в них.
– Ну, – опять нетерпеливо завел Вацек, – мы пойдем выкапывать ваши письма из-под кустов или мне здесь до смерти мерзнуть?
Я попробовала уговорить ребят подождать до утра, но они и слышать ничего не хотели. И мы пошли, опять гуськом, дрожа от холодного дождя, в сгустившейся темноте к разросшимся старым магнолиям. Мур долго ходил от куста к кусту, а потом нерешительно остановился рядом с одним из них.
– Кажется, здесь, – неуверенно пробормотал он.
– Точно? – светя фонариком под куст и доставая лопаточку, ворчливо спросил Вацек. – Я не собираюсь уподобляться строителям египетских пирамид и копать ямы несколько десятков лет.
Мур ничего не ответил и тоже опустился на колени. Довольно энергично они принялись копать мокрую землю под ветвистой магнолией. Я светила им, ежась от ветра и холодных капель.
Через минут двадцать Мур приостановился и задумчиво сказал:
– Кажется, я ошибся кустом.
– Кто бы сомневался, – с отвращением пробормотал Вацек.
– Дай мне подумать, – бубнил Мур. – Точно помню, что магнолия росла около ограды…
– Ограда окружает дом по кругу, несколько сотен квадратных метров, – злобно высказался Вацек, отплевываясь от воды, – что-нибудь еще ты можешь вспомнить?
– Качели! – воскликнул радостно Мур. – Как я мог забыть! Качели поставили недалеко от куста. Рядом с ним должны остаться кирпичи, которыми укрепляли у основания чугунные ножки качелей…
– Чугунные ножки, – скривился Вацек, вытирая мокрое и грязное лицо.
– Точно, ограда, вторые ворота, которые заложили, когда устанавливали для меня качели, и еще бабушка разбила рядом огромную овальную клумбу, за что ее порицали все соседи, считая эксцентричной американкой. Хорошо помню, потому что клумбы должны были быть круглыми или квадратными.
– Почему только круглыми или квадратными? – удивился Вацек.
– Ну не знаю, – пожал мокрыми плечами Мур. – Так было принято.
Вацлав плюнул.
– Давай, ищи скорее свою овальную клумбу.
Ребята вырыли еще несколько глубоких ям под разными кустами, но ничего не нашли.
– Хватит, – начал возмущаться мокрый и злой Вацлав. – Я не намерен превращаться в крота. Нет здесь никаких ящиков и никаких писем!
Я пыталась успокоить его, но Вацек орал все громче и громче. В самый разгар наших пререканий Мур выскочил из-под кустов колючих диких роз, которые так и норовили засунуть колючки поглубже в вашу кожу, – с ящиком в руках. Мы замолчали на полуслове.
– Вот это да, – потрясенно пробормотал Вацек. – Никогда бы не поверил!
Ящик был маленький, черный от грязи, опутанный заржавленной цепью, на которой болтался такой же заржавленный замок. Нежно прижимая его к себе, Мур резво побежал к дому, мы – за ним, скользя по мокрой глине. На кухне, не переодеваясь, Мур и Вацек сразу же склонились над залепленным глиной ящичком.
Я продрогла до костей под холодным тропическим дождем и, оставив ребят возиться с грязным замком, побежала наверх принять горячую ванну. Я очень надеялась, что, когда заставлю себя вылезти из горячей воды, ребята либо откроют ящик и успокоятся, либо уснут. В то, что в ящичке лежат письма последнего императора, мне не верилось.
Часа через два я спустилась на кухню и увидела Вацлава сидящим на окне и раздраженно курящим. Мур что-то рассеянно высматривал в своей чашке с остывшим кофе.
– Открыли? – поинтересовалась я, но не дождалась ответа.
Вацлав сердито затушил сигарету.
– Не открыли, – буркнул он.
– Не переживай, – попыталась успокоить его я. – Утро вечера мудренее.
– Какая умная, – скривился Вацек. – И утром не откроем!
– Это почему же? – искренне удивилась я.
– Потому что я недооценил Эда, – вполне спокойно ответил Мур и рассказал мне, что произошло на кухне, пока я отмокала в ванной.
Ключик подходил к замочку идеально, но цепи заржавели и никак не хотели разматываться. Не успели ребята достать клещи и молотки, как послышался шум подъехавшей машины. Через минуту на кухню ворвался Эд с тремя местными островитянами самого подозрительного вида. (Я слушала, не веря своим ушам.) Откормленные и накаченные налетчики навели пистолеты и на прекрасном «Royal English» велели немедленно отдать ящик Эду.
Что оставалось делать ребятам? Драться? Вцепиться в ящик зубами? Естественно, они разрешили Эду спокойно уйти с нарытым под дождем сокровищем.
Мне так и хотелось сказать Муру, что нужно было вести поменьше разговоров в присутствии любителя старины, но я вовремя прикусила язык. В конце концов все совершают ошибки. Кто бы мог предположить подобные действия от интеллигентного и выдержанного Эда?
Неужели Маркони был прав: Эд похитил неизвестные письма Николая II, захороненные в саду на острове Носса на долгие годы? Письма, которые теперь, по словам поклонника Муровой бабушки, смогут стать интересным открытием для ученого мира?
16. Секрет старого письма
Утром Мур принес ко мне в спальню свежесваренный кофе, ведерко теплого молока, сахар и сладкие булочки.
– Вацлав улетел ночью, – сказал он, избегая моего полусонного взгляда.
Большие международные авиалайнеры из аэропорта выпускают, объяснил Мур, пряча глаза, но нам придется подождать еще немного – из-за шквального ветра.
Я молча закуталась в одеяло и открыла размокшие от дождя ставни. За окнами все шумел неугомонный тропический ливень, ветер гнул деревья, капли однотонно шуршали по черепичной крыше.
После неспешного завтрака, уничтожив гору вкуснейших булочек, я заскучала. Делать было совершенно нечего. Маясь от безделья, прошлась по темному от дождя дому. Спустилась вниз в гостиную и стала рассматривать старые фотографии в рамочках, плотно жавшиеся друг к другу на круглом одноногом столике около дивана.
Один снимок сразу же привлек внимание. Маленькая черно-белая фотография в тяжелой витиеватой рамке. Точно такую же я видела в доме Елизаветы Ксаверьевны: молодой, старающийся сохранить серьезность офицер сидит на скамейке в парке, а рядом, облокотившись на его плечо, хохочет в объектив стройная длинноволосая девчушка. Худощавый, коротко стриженный офицер странно напоминал Мура.
Заинтересовавшись, взяла фотографию, поднесла поближе к глазам и заметила желтоватый кусочек бумаги, выбивающийся из-под рамки. Заторопилась, стала выдирать намертво приклеившуюся к рамке фотографию и вместе со снимком вытащила письмо. Пожелтевшие листочки были перевязаны наивной ленточкой, а на ее розовом, почти истлевшем шелке написано изящным старомодным почерком «Алеша».
Я осторожно развернула хрупкую от времени бумагу.
Ушедший в небытие надменный царский Петербург, теперешний Петроград жил в страхе погруженных в темноту улиц, где время от времени раздавались пулеметные очереди да пьяная ругань перепившихся матросов.
По ночам мертвые окна покинутых особняков отражали холодный блеск луны. Ужас вселился в души ничего не понимающих людей, и только опьяневшие от вседозволенности и наркотиков вчерашние слуги, называющие себя большевиками, веселились со своими комиссаршами в опустевших анфиладах дворцов.
Трупы расстрелянных русских офицеров лежали на обледенелых мостовых, синея разутыми ногами… В оскверненных церквях молчали колокола… Закрылись магазины и театры, исчезли продукты, начались эпидемии, тиф, а доктора прятались, одни неумелые солдатские фельдшера в казенных промерзших больницах хамски грубили несчастным умирающим…
Я перестала узнавать знакомых людей…
Любимый папин воспитанник, Юзик Нильковский, мой почти что брат, пришел арестовывать Алешиных родителей. Родные мои отказывались понимать происходящее.
Юзик был сирота. Матери он не помнил, а отец постоянно проводил время в тюрьмах – боролся за освобождение Польши и забыл о сыне. Папа нашел Юзика на улице – несчастный попрошайка умирал от голода.
Когда мама узнала, что приемный сын отвел в большевистскую тюрьму родителей Алексея, почти что зятя и мужа единственной дочери, она, рыдая, крикнула в лицо отцу, растерянному, потрясенному услышанным: «Как волка ни корми, все равно в лес смотрит! Твоя благотворительность! И пусть бы от голода издох тогда на улице, Иуда!»
Я тоже не понимала происходящего.
Рядом дышал, жил мой обожаемый Алексей – я любила его всем сердцем, всей душой пятнадцатилетней девчонки. Он был – мой мир, моя вселенная, мой остов беззаботной прежней жизни. Я верила ему, как Богу. И он спас меня, мой любимый, мой единственный, мой Алеша…
Утром Алексей выполнял «трудовую повинность» – очищал от снега двор. Наш сосед, приболевший профессор теологии, милейший Роман Захарьевич, попросил Алешу отработать и за него, а в награду принес охапку поленьев. Как мы ни отказывались от такой щедрости, старик ничего не хотел слушать.
Вернувшись с улицы, Алеша сразу же затопил буржуйку, прикрыл двустворчатые стеклянные двери в гостиную и присел рядом со мной.
Приближался Новый 1919 год. Несколькими днями раньше Алеша где-то раздобыл несколько еловых веток. В тепле они оттаяли, и смоляной запах зимнего леса разлился по комнате. Мы поставили их в чудом уцелевшую от обысков, треснувшую напольную вазу и украсили двумя огромными золотисто-красными стеклянными шарами.
Я сидела, укрывшись с ногами маминой шалью; она все еще слабо пахла ее любимыми ландышами. Молча смотрели мы на весело играющий в печурке огонь. Я накрыла Алешу концом пледа, вытащила руку из тепла маминых духов и провела по ежику волос, а потом вниз по колючим щекам, обветренным на морозе.
– Я совсем зарос, – смущенно трогая себя за щеки, извинился Алексей, но я, ничего не говоря, потянула его руку к себе и поцеловала ее.
Трещали поленья, в комнате стало совсем тепло, мы сидели, закутавшись в душистую мягкость маминой шали, и голова моя кружилась от любви и счастья. Ох, недаром говорил мой духовный наставник, добрейший иеромонах Ювеналий: «Бойся, когда хорошо, а не тогда, когда плохо». Как же он был прав!
Алеша тихо отвел мои руки, обнимавшие его за шею.
– Лиза, не время сейчас и не место. Ты же девочка совсем…
– Моя бабушка уже вышла замуж в пятнадцать лет, – обиделась я. – В восемнадцать лет она растила троих детей и говорила, что у настоящих чувств нет возраста.
– Так то бабушка. Времена были другие.
– Времена всегда одинаковы, – упрямо пробормотала я. – Для… отношений. Личных.
Выговорить слово «любовь» под его внимательным и таким печальным взглядом я не смогла.
Синие сумерки разлились по комнате. Я подвинулась к Алексею поближе, вздохнула и протянула к нему руки, но он решительно выбрался из-под пледа.
– Вот что, Лиза. Давно хотел поговорить с тобой. Тебе нужно уехать. Я смогу устроить это.
Я недоуменно посмотрела на него.
– Английский атташе – отец моего друга. Он сможет выдать тебя за свою родственницу или сотрудницу. Посольство через несколько дней уезжает из Петербурга в Польшу, а там – в Британию…
– Без тебя никуда не поеду, – твердо ответила я.
– Лизочка, вряд ли можно вывезти нас двоих. В один раз. Я приеду позднее.
– Без тебя никуда не поеду! – уже сердито повторила я.
Алексей опять присел рядом со мной, обнял, заставив растерять весь пыл возражений.
– Лиза, – обнимая и целуя меня в волосы, зашептал Алексей, – сейчас не время вредничать, делай, что говорят, обещаешь слушаться?
– Угу. Только без тебя никуда не поеду…
– Лиза, – мои губы обжег поцелуй, щеки разгорелись пожаром, сердце застучало на всю комнату, – обещай, что уедешь…
– Только с тобой…
– Я приеду, но позднее.
– Только с тобой. Я люблю тебя, – в первый раз сказала ему.
Он смотрел на меня ласково, с такой нежностью. Помню тот взгляд до сих пор, больше никто и никогда не смотрел на меня так!
– Лиза, выслушай же меня.
– Нет!
Алексей тихо отошел к темному окну.
– Иди ко мне, – немного погодя сказала я дрогнувшим голосом. – Ничего не нужно говорить. Все знаю, что хочешь сказать мне, все понимаю и ничего не хочу слушать… Я люблю тебя.
Печальный замерзший день гаснул за окнами, заблестели первые звезды. Показался нежно-золотистый серпик месяца. На старинной гравюре царь Михаил Федорович, поблескивая золотой парчой парадного одеяния, благосклонно взирал на нас из сгустившихся сумерек зимнего дня. Дробящийся огонек печурки освещал молчаливый силуэт Алексея.
Я знала, о чем думал Алексей, присев на подоконник обледеневшего окна нашей разоренной квартиры, потерявшей своего хозяина и притихшей в тот вечер, как испуганный ребенок. О том же, что и я.
Непрошеные слезы обожгли глаза. Только три года назад, мы также сидели в тишине квартиры, мама с папой ушли в театр, Алешины сослуживцы и мои подружки пришли праздновать наступающее Рождество.
Алешин друг ухаживал за моей страшно надменной кузиной и все читал ей наизусть стихи о любви, разлуке, опять о любви. Он был поэт, и кузина Юлия снисходительно принимала его ухаживания. Она только что вышла замуж за седого полковника царской армии, мужа обожала, а на поэта смотрела холодными глазами страстно влюбленной в другого женщины. Поэт обнимал, ласкал ее взглядами и выговаривал осипшим от неразделенной любви голосом:
Вы предназначены не мне.
Зачем я видел вас во сне?
Полковник погиб на фронте, друга-поэта расстреляли еще в 17 ом, кузина сгорела от испанки, а мои родители пропали – просто в один день ушли и никогда больше не вернулись домой.
Почему, почему мы не родились на двадцать, десять, пять лет раньше? Вместо страха, потерь и разлуки у нас были бы первые тайные от родных свидания осенними сумерками у потемневшей Невы. И страстные поцелуи в прихожей около наваленных на вешалки шуб, после официально объявленной помолвки, когда все делают вид, что ничего не видят и не слышат, но обмениваются едва заметными улыбками, а прислуга таинственно шепчется на кухне о «женихе». И венчание в переполненной, нарядной, полной цветов и девичьих голосов церкви. И шумные семейные вечера на Рождество, и сусально-весенняя Пасха. И поездки в скалистую, знойную от солнца и праздничной толпы Ялту. И именины наших любимых, так и не родившихся детей.
Я спрашивала себя в тот зловещий 19 ый год и спрашиваю себя сегодня: кому и зачем понадобилось переворачивать устои нашей жизни, такие правильные, такие имеющие смысл, когда женщины умели быть нежными и верными, а мужчины – галантными и надежными? Когда пьяные от власти мерзавцы и недоучки не издевались над русской страной, ее культурой и православной верой народа?
Ну почему, почему нам не дано право выбирать времена, в которых мы живем?
…Я лежала в жарких объятиях Алексея, а он повторял вновь и вновь:
– Обещай мне, что уедешь, – и так же, опять и опять, шептала ему в ответ:
– Только с тобой.
Мы так пытались выжить в хаосе ужаса, называвшегося Революцией, Свободой и чем там еще?! Два потерявшихся ребенка, которых выдернули из привычной среды, но для которых не нашлось места в новой стране обитания, мы жались друг к другу в надежде обрести уверенность в завтрашнем дне, гнали от себя мысли об обреченности надежд, но все равно были счастливы своей любовью…
Наша жизнь закончилась хамским стуком в дверь серым промозглым днем, на которые так щедр зимний Петербург.
За несколько месяцев до того страшного дня мы получили известие, что августейшая фамилия была зверски убита. Вместе с больным подростком-цесаревичем.
– Это начало конца, – прошептал Алексей, сидя в прихожей в мокрой шинели. – Брат государя, великий князь Михаил Александрович Романов тоже убит. Княгиня Елизавета Федоровна и великий князь Игорь Константинович сброшены в шахту. Живыми…
Я замерла от ужаса.
– Перед самым концом она громко сказала: «Господи, прости им, не ведают, что творят». – Алеша поднял на меня измученные глаза, полные слез. – Лиза! И девочек, сестер цесаревича, тоже убили… Штыками кололи потерявших сознание…
У меня в горле стоял ком, который я силилась, но никак не могла проглотить. Господи, где же христианские заповеди? Не убий, не укради… Они канули в Лету под винтовками пьяных садистов.
Дальнейшие события слились в один безумный кошмар. Алешу забрали в ЧК, а через неделю за мной, почти обезумевшей от горя, приехал папин воспитанник и сказал, что именем революции я арестована.
Я знала другого Юзика с детских лет, но того щупленького простого паренька, который грубо тащил меня к заплеванному грузовику и бросил на грязную скамейку, никогда не видела раньше.
Не помню, как оказалась в темной комнате. Юзик сидел напротив, а рядом с ним стоял еще один большевик или солдат, и меня тошнило от отвратного запаха немытых ног. У него были нечистые руки и прыщавое лицо. Я теряла сознание от ужаса происходящего. Что они сделают со мной?
Очнулась только тогда, когда в комнату втолкнули худого, измученного офицера, в котором я узнала своего Алексея, избитого, похудевшего…
Юзик взмахнул рукой, и надзиратели не спеша покинули комнату. Мы остались втроем. Я смотрела на разбитое в кровь лицо Алексея, и сердце мое рыдало.
Русские офицеры, Георгиевкие кавалеры.
Вы умирали «За царя! За Отечество!»
Несчастные! Вас били в подвалах революционные наркоманы, вас выгнали из истории, опорочили, забыли неблагодарные потомки!
– Если не отдашь, что прошу отдать твоего жениха по-хорошему, пока по-хорошему, замучаю, – дыхнул Юзик в лицо гнилью нечищеных зубов.
Я похолодела. Господи, кто этот человек? Иуда, назвала его мамочка.
– Юзя, забирай все, что хочешь. Но квартиру несколько раз грабили, то есть проводили обыски, многие вещи из коллекции папы пропали…
– Знаю об обысках.
– Юзя, скажи, что ты ищешь?
Раздался дикий женский вопль, и я потеряла от страха голос. Вопль не утихал, он набирал силу, как будто не человек кричал, а его душа. Я закрыла уши руками, но Юзик подскочил ко мне, стал отрывать руки.
– Ты так же завопишь, если и дальше будешь играть в молчанку! Молчишь? Не знаешь? Ну, ладно…
– Оставь ее, она правда ничего не знает, – подал голос Алексей. – Отпусти ее и получишь то, что хочешь.
…Мы бежали по темной улице.
– Алеша, что же Юзик хотел получить из коллекции отца?
– Не знаю.
– Но ты же пообещал принести ему…
Алексей молча тащил меня за собой. Ноги не повиновались, я падала от перенесенных волнений, задыхалась, слезы щипали щеки.
Как Юзя, папин воспитанник, мог так угрожать? Я задавала этот вопрос в каком-то забытьи, опять и опять, но Алексей не отвечал. Он взял меня на руки и понес бережно, как несут маленького ребенка.
Весь мир был против нас. За что? Будь же навеки прокляты все революции, всех времен и всех народов, пожирающие своих собственных детей и несущие людям океаны страданий!
Мы остановились перед темным Английским посольством. Алексей что-то сказал по-английски, в вое метели я не разобрала, но дверь тут же отворилась. Через несколько минут мы неслись в черной машине по неосвещенным улицам когда-то родного города.
Я ничего не слышала, ничего не понимала, о чем вполголоса говорили атташе, милейший лорд Ирвингс, с Алешей. В голове стоял звон и упорно лезли воспоминания о прошлых праздниках, после которых в такую же метель в уютной машине мы возвращались от атташе. Но только тогда метель не пыталась разбить авто, а уютно пела о приближающейся ночи.
Вокзал встретил нас запахом паровозов и еще чем-то из прежней жизни. Я стояла на ступеньках дипвагона польской миссии, сжимала руку Алеши и не могла ее отпустить даже тогда, когда вагон тронулся и проводник стал что-то мне говорить по-польски. Атташе тянул меня за плечи в душистое тепло вагона, а я все не отпускала такие теплые, такие свои пальцы Алексея.
– Люблю тебя, Алеша, так люблю тебя, – шептала я, и слезы заливали глаза, и губы были соленые от слез, и я бесконечно слизывала их, но слезы все лились и лились, а я все повторяла и повторяла, как заклинание одни и те же слова: – Люблю тебя, Алеша, так люблю тебя…
Поезд набирал скорость, Алексей остался совершенно один во враждебной темноте метели, меня отвел в купе атташе. Слезы тоже висели на его аккуратно постриженных седеющих усах и он все гладил меня по волосам дрожащей рукой и говорил, что все образуется, все пройдет и что я непременно увижу Алексея, скоро, очень скоро, нужно только немножко подождать и не терять веры и надежды…
Но я не верила его словам… Я знала, что мы расстались навсегда в тот ужасный и кровавый 1919 год после Рождества Христова.
Выцветшие чернила письма расплывались перед глазами, и вдруг странная догадка, от которой похолодели и задрожали руки, пронзила меня. Я схватила письмо, вытерла слезы и бросилась в спальню к Муру.
Мур валялся под одеялом с потрепанной книжкой. «Анна Каренина», прочитала на обложке. На острове Носса, под шум дождика Мур наслаждался русской классикой – кто бы мог подумать!
Не дав ему сказать ни слова, я плюхнулась на кровать и быстро перевела письмо, особенно выделив голосом фразы, написанные курсивом.
– Ну и что? – недоуменно спросил Мур.
– Ничего не видишь? – нетерпеливо огрызнулась в ответ.
– Нет.
– О-о-о-о, какой глупый! Слушай еще раз.
Я еще раз прочитала все только выделенные курсивом фразы.
– Ну? – нетерпеливо воскликнула я. – Теперь дошло?
– Юзик как-его-там, приемный сын родителей твоей Елизаветы Ксаверьевны оказался родом из Польши, – неуверенно начал Мур.
– Не то!
– Царь Михаил Федорович, первый из Романовых – намек, что идем правильным путем в расследованиях?
– Нет!
– Профессор теологии, где это? Ага, здесь. «Милейший Роман Захарьевич, приболевший профессор теологии». Первого Романова, отца Анастасии Романовны, жены царя Грозного, звали Роман Захарьин.
– М-ууур! Читаю еще раз. «Царский, Юзик, Роман, иеромонах, хорошо».
– Ну?
– «Царь, Юлия, Романов, Игорь, христианские».
– И?
– «За Царя, Юзик, революции, лорд Ирвингс, Рождества Христова». Понял теперь?
– Нет!
– Ц – Ю – Р —И – Х. Заглавные! Первые буквы повторяются: Ц – Ю – Р – И – Х. Ц – Ю – Р – И – Х!
– Хочешь сказать, что то, что мы ищем, может находиться в Цюрихе? – потрясенно спросил Мур и быстро вылез из-под простыни.
– Точно, в Цюрихе. В банке. В БАН-КЕ. Идеальное место для хранения денег, писем, икон – в банковской ячейке.
– Ты представляешь, сколько в Цюрихе банков? – возмутился было Мур. – И сколько в каждом банке ячеек?
– Если Елизавета Ксаверьевна оставила письма мне, то и ячейка будет на мое имя!
Полуголый Мур задумчиво потер подбородок. Заулыбался и обнял меня.
– А ты умница, – воскликнул он, а я засмущалась, как девчонка-первоклассница от неожиданной похвалы строгого учителя.
Странно, но мое смущение передалось Муру. Он неловко попятился к кровати, покраснел и быстро натянул джинсы.
– Попробую к завтрашнему дню получить всю информацию по цюрихским банкам, – бормотал Мур, кидая алчный взгляд в сторону голубоватого экрана невыключенного компьютера. – Хотя… Проще и быстрее, наверное, будет слетать туда самому…
– Мур, – сказал я. – Там может быть не письмо…
– А что же?
– Икона. Помнишь в дневнике на портрете Марины странную икону?
Мур медленно кивнул.
– На том портрете все странно. Икону послушник монастыря назвал «еретической», – продолжала в полной тишине я. – Католические четки оказались медальоном с секретом, а Марина – не гордо позирующей художнику царицей, а испуганной женщиной, опасающейся за свою жизнь. Вернемся из Носсы, смотаюсь в Москву и попробую узнать, что имел в виду Александр, назвав икону «еретической»?
– Позвоню тебе из Цюриха, – пообещал Мур. – Если что-нибудь найду.
– И если не найдешь, тоже позвони.
Мур присел на кровать.
– Странно, – тихо сказал он, пристально вглядываясь в пожелтевшие листки письма и аккуратно разглаживая их нежными движениями; тонкая, как паутинка, морщинка перерезала высокий лоб, упала на глаза белокурая прядь, и Мур нетерпеливо мотнул головой. – Ничего в жизни не меняется. Люди рождаются, влюбляются, строят семьи, теряют короны, новые поколения приходят на смену старым, и все повторяется опять, как сто, двести, триста лет назад…
– То же самое сказал мне Маркони в ночь перед убийством, – прошептала я тихо-тихо в ответ, – когда так настойчиво убеждал меня поехать в Носсу…
Почему-то в сумраке спальни, глядя на перелистывающего старые страницы письма Мура, вдруг в голове промелькнула сумашедшая, «еретическая» мысль, что формально Мур – мой муж.
– Знаешь, чего мне хочется больше всего на свете? – спросила я Мура, неожиданно для самой себя, попав под волшебство странного дома, затерявшегося где-то посреди океана на маленьком островке. – Чтобы Елизавета Ксаверьевна вернулись из небытия и чтобы ранним свежим утром я вышла на широкую террасу, а вся моя семья сидела бы за белым столом, попивая кофе, и чтобы мальчишки радостно смеялись, предвкушая поездку на океан, и чтобы ты больше не хмурился, и чтобы не было никаких убийств, в которых так или иначе замешана я…
И тут он обнял меня и поцеловал. Я закрыла глаза и прижалась к теплому Муру. Мы обнимались и целовались под едва слышный шорох дождя в темной спальне старого дома со скрипучими дверями, куда так настойчиво отправлял все понявший раньше нас самих мудрый старик Маркони. Обрывочные мысли появлялись и сразу таяли в затуманенной поцелуями Мура голове…
В этом доме он проводил детские каникулы с родителями. На чердаке все еще пылятся его забытые игрушки, а чайные столики в гостиной украшены наивными семейными фотографиями. И, может быть, наши мальчишки когда-нибудь найдут в саду зарытый от внимательных глаз бабушки секретный дедушкин ящичек со старым ликером…
Я открыла глаза только тогда, когда Мур, с трудом переведя дыхание, разжал объятия. Сразу стало холодно и одиноко.
– Сережка убьет меня, когда узнает, что я летала с тобой в Носу. Меня ведь к суду могут призвать, да, Мур? За многоженство… Или как правильно сказать – за многомужество? – сказала я и потерлась носом о плечо Мура.
Нос был холодный, а плечо горячее и шелковистое на ощупь, оно пахло свежим телом и дождем.
Притихшая было гроза обрушилась за окном на безмятежную тишину сада так внезапно и мощно, что мы вздрогнули. Полыхнула зигзагом молния, осветила огромную комнату и нас на один короткий-прекороткий миг.
И вдруг мне все стало понятно – и Мура я видела тоже – без глупых, ненужных слов, за которыми неуверенные, боящиеся, несчастные люди скрывают и прячут все то хорошее и мудрое, чем сама жизнь и природа так щедро наделили нас.
17. В поисках истины
На следующее утро мы вылетели в Лас-Вегас, а оттуда я – в Лос-Анджелес, а Мур – в Женеву.
Мур улетел на час раньше. И как только худощавая подтянутая фигура исчезла за регистрационной стойкой, я тут же позвонила Галке. Счастье просто распирало меня.
– Ну? – мирно спросила подружка.
– Неда-а-вно гостила в чудесной стране, там ри-и-фы играют в янтарной волне, – радостно пропела я. – В зеле-е-еных садах там заснули века, и цве-е-та фламинго плывут облака…
– Понятно, – хладнокровно констатировала Галка. – Влюбилась. В американского полицейского. С твоими-то доходами можно было быть и немного пооригинальнее…
Мое желание признаться Галке в том, что не только влюбилась в «американского полицейского», но и еще и ухитрилась расписаться с ним в скандальном Лас-Вегасе два дня назад, тут же испарилось без следа. Надо было срочно ехать в Москву, разводиться с Коровиным, потом поднимать вопрос о разводе с Вацеком, пока никто из домашних не прознал про так нелепо заключенный брак с Муром.
Папу точно хватит удар, а мама собственными руками придушит дочку, узнав что у любимой Лизоньки – три законных одновременных мужа. Мои родители ничего не знали о фиктивном американском браке с Вацеком, для них я была все еще женой Коровина. Что уж говорить о Муре!
Да, три мужа – явный перебор не только для московских папы-мамы, но даже для демократической в вопросах брака Южной Калифорнии.
И тут в мою башку, все еще окутанную «романтизьмом» любви прошедшей ночи, закралась крамольная мысль. Если я ухитрилась заиметь одновременно троих мужей, что кардинально противоречило моим желаниям, логике и здравому смыслу и во что с трудом поверили бы собственные родители, то, возможно, у Ивана Грозного и правда было семь или десять жен? Не из-за болезненного сластолюбия, шизофрении или неумения сдерживать всем известные инстинкты, как твердят нам с пеной у рта историки, а просто потому, что так сложились неведомые нам обстоятельства, просто говоря – так легла карта?
Хорошенько поразмышлять над этим предположением мне не удалось – пришлось срочно паковать чемоданы. Сергей и Вацлав неожиданно поменяли планы и решили лететь в Москву вместе со мной. Сергей хмуро гавкнул, что его бывшая жена-актрисулька будто бы хочет переселяться в Америку – через знакомство по Интернету.
– Кошмар, – протянул с неподдельным ужасом Вацек. – Здесь гарпия начнет судиться за опекунство над Яном и пустит вас по миру – обоих. Никакого наследства Елизаветы Ксаверьевны и золотоносных писем императора не хватит на то, чтобы удовлетворить желания и потребности глупенькой, но очень жадной провинциалки.
Сергей с чувством хлопнул дверью, а я побежала заказывать билеты. Около полуночи мы уселись в тесные кресла боинга «Лос-Анджелес – Москва».
Сказать, что я измучилась с братом и Вацеком за десять часов перелета, это не сказать ровным счетом ничего. Сначала оба возмущались креслами: Сергею было тесно, а Вацлаву некуда девать ноги и руки. Потом им стало душно, холодно, захотелось есть и пить в неурочный час. Сергею приспичило покурить, хотя курит он раз в год. А Вацлаву дуло из окна, он сердился и никак не мог из-за этого уснуть.
Только дети не дергали меня. Поиграв в «стрелялки», они быстро съели и выпили все предложенное любезной стюардессой, и, свернувшись клубочком, мгновенно уснули под пледом.
Вацлав и Сергей успокоились только на рассвете, когда запахло кофе и сонные пассажиры начали шевелиться в креслах. Самолет приземлился, и оба вылезли на терминал заспанные, с надутыми небритыми физиономиями и в пресквернейшем настроении.
Веселые родители встретили нас в грязном пустынном Шереметьеве и объявили, что сразу повезут на дачу, так как оттуда будет легче добираться до конюшен, чем повергли Яна и Алешку в состояние эйфории, а меня – в глубочайшую депрессию.
В машине вредные молодцы – Сергей и Вацлав – разом расцвели, развеселились, оживленный разговор с родителями не прерывался ни на секунду, только я засыпала с открытыми глазами, мечтая поскорее добраться до дачи.
Ближе к вечеру я смогла наконец подняться к себе в «светелку» на второй этаж. Плотно прикрыла дверь и беззвучной кеглей свалилась на чистые подушки. Завтра никто не вытащит меня из-под одеяла раньше часу дня, даже если на Землю прилетят марсианские тарелки или начнется всемирный потоп.
Гул голосов и смех внизу стали отдаляться, мягкая дрема подкралась и окутала меня, как пуховое невесомое одеяло, тело охватила приятная истома… но тут противно, громко, прямо в ухо, замяукал мобильник.
– Лиза, немедленно просыпайся, – раздался бодрый и веселый голос двоюродного брата. – Ты что, в Москву спать приехала?
– Макс, можно все дела завтра? – простонала я в трубку, не в силах пошевельнуться и открыть слипающиеся глаза.
– Можно и завтра. В Дмитриевском монастыре Александр ждет тебя к пяти утра…
– Во сколько?!
– К пяти утра. К началу службы. А потом приезжайте сюда – от монастыря до нас рукой подать.
Никогда, ни при каких условиях не смогу стать послушницей в монастыре, уныло подумалось мне, потому что только жестокое и каждодневное лупцевание палкой заставит меня выползать из постели в такую рань.
– Спасибо, – мрачно поблагодарила я исчезнувшего Макса и зарылась в прохладные простыни.
Ровно в пять утра, беспрестанно зевая и дрожа от пронизывающей предрассветной сырости, я подошла к воротам белеющего в темноте Дмитриевского монастыря, оставив мальчишек досыпать в машине.
Худенький Александр, бодрый, одетый в черный скромный подрясник уже поджидал меня. Мы присели на холодную скамейку рядом с собором. Не зная, как начать разговор, я молча протянула дневник Марины – оригинал и перевод, раскрыла его на страничке с портретом царицы.
Несколько минут Александр внимательно читал перевод, а потом из молочного тумана нарисовался молоденький парнишка, тоже одетый в черное и Александр быстро встал:
– Извините, Лиза, я должен немедленно идти. Давайте встретимся у церкви, которую хотел показать вам Максим через… ну, скажем, пару часов?
От возмущения я остолбенела и потеряла дар речи. Зачем же тогда было вставать вместе с петухами? Хотя, уверена, петухи в такую рань дрыхнут без задних ног, только послушники монастырей резвы, бодры, веселы и готовы к работе в такой отвратительно ранний час!
Злые слова готовы были сорваться с языка, но худенький до прозрачности Александр поднял на меня светло-голубые глаза: ничего не отражалось в них – ни печали, ни волнения, ни радости. Так гладь горного озера спокойно смотрит в далекое небо, не потревоженное волнениями мирской суеты. Мне пришлось затолкать подальше рвущееся возмущение и молча покориться обстоятельствам. Как известно, в чужой монастырь со своим уставом не лезут.
К Максиму в конюшни мы приехали как раз к первому завтраку.
– В монастыре встают рано, – засмеялся Макс, когда я пожаловалась на несостоявшуюся беседу. – Зато как хорошо: с утра кончил дело – гуляй смело!
– Ты не мог запомнить или записать рассказ Александра, чтобы не мучить меня подъемом до восхода солнца? – проворчала я, уплетая за обе щеки горячую, сладкую и невыразимо вкусную овсянку.
– Да я ничего не запомню, – отмахнулся Макс. – Вот церковь покажу. Только ехать туда надо сразу после завтрака.
– На чем ехать? – подозрительно осведомилась я.
– Не на чем, а на ком, – ответил Макс, отобрал недоеденную кашу и потащил в конюшни.
Много-много раз я давала торжественные обещания детям начать брать уроки верховой езды, но всегда ухитрялась виртуозно увиливать от них. В это раннее утро голова была забита размышлениями, и я «мышей не ловила».
Не успела и глазом моргнуть, как ступни мои впихнули в стремена, в руки вложили поводья, а туловище засунули в седло. Ноги раздвинулись «на ширину плеч». Со страху показалось, что еще немного – и я сяду на шпагат – такой непривычно широкой оказалась лошадиная спина. Да уж, вот откуда пошло выражение «сидеть враскоряку».
Обливаясь холодным потом, пришлось тихонько стиснуть круглые бока лошади ногами. Лошадь неторопливо заколыхалась подо мной, земля поплыла мимо, и я мертвой хваткой вцепилась в поводья.
– Поводья не натягивай так! Отпусти их совсем! Да не дергай ты их! – дружно закричали дети.
– А за что же мне держаться? – возмутилась я.
– За гриву!
Это как же так? Отпустить поводья и держаться за гриву?
Указания детей посыпались на мою несчастную голову, как горох из дырявого мешка.
– Пятки вниз опусти!
– Не заваливайся!
– Спину выпрями!
– Руки расслабь!
– Сядь глубже в седло!
– Держись коленями! Коленями, не пятками!
Я честно пыталась выполнить все указания, но уже через пять минут у меня заныла спина, заломило ноги, руки задрожали, и я не чаяла, как бы поскорее оказаться на твердой земле. Мне казалось, что парю где-то под облаками, а кобыла неприлично высока.
Вдруг лошадь приостановилась и затряслась всем телом. «Иииийго-го-го!» – заорала она. Я застыла в седле испуганным сусликом.
– Почему она так орет? – прошептала я.
Дети недоуменно переглянулись:
– Ни почему. Просто так. Счастлива.
– А она меня не скинет?
Дети засмеялись.
– Может, до церкви дойдем пешком? – дрожащим голосом спросила я Макса.
– Ага, как раз к вечеру добредем, – взлетая в седло легкой птичкой, ответил вредный кузен. – Не трусь. Трудно только в первый раз. Помни, держись коленями, поводья не натягивай, если что – хватайся за гриву.
От его «если что» мне стало совсем нехорошо. Мы выехали, на мой взгляд, неоправданно резвым шагом по направлению к желтеющему полю, за которым неярко сияла куполочком далекая церквушка.
В полях царило бабье лето. Просторы уже по-осеннему спокойных лугов раскинулись до самого горизонта. Солнышко мягко пригревало, белые облачка неподвижно висели на ярко-синем небе, и невидимые глазу букашки громко стрекотали, спрятавшись в отцветающем разнотравье. Я глубоко вдыхала запахи травы, осеннего костра и прохладного ветерка. Мне хотелось громко и радостно кричать. Нигде и никогда не чувствовала я такого всеобъемлющего, настоящего счастья и покоя!
Когда мы подъехали поближе к церквушке, я с огорчением увидела, что от нее практически ничего не осталось.
Минут через десять подошел Александр. Макс привязал лошадей и помог перелезть через руины полуобвалившихся стен.
Мшистый, безмолвный мир рушащейся святыни встретил нас. Некрепкий остов ее все еще венчал купол, но алтарная часть обвалилась полностью. Краски на сохранившихся фресках внутри церквушки стерлись и поблекли, изображение святых разглядеть было очень сложно.
Я опять вспомнила Елизавету Ксаверьевну. Если даже меня, воспитанную советской школой в духе атеизма, при виде разрушенной церкви овеяла печаль, то что же говорить о верующих людях, которые в 1917 году видели храмы, отданные на поругание и осквернение пьяным иноверцам или воинствующим безбожникам?
Макс уверенно пробирался среди обломков камней и густо растущего чертополоха. Около одного из выступов он остановился и показал рукой на остаток стены.
На размытом дождями, едва видном изображении, показалась одна фигура, вторая поменьше и третья, совсем маленькая… Заставив себя сфокусировать взгляд, я с удивлением увидела проступившие черты молодой женщины, затем мужчины и группки детей. Над всеми были изображены нимбы, полустертые непонятные буквы.
Оцарапав руки об острые углы и обжегшись крапивой, я ухитрилась вскарабкаться наверх по выступающим из стены булыжникам поближе к почти исчезнувшим лицам святых.
– Похоже на изображение святого семейства? – неуверенно предположил Максим снизу.
– Да, но оно какое-то странное, и святые выглядят слишком живыми, земными, что заметно даже моему неискушенному глазу, – возразила я. – Александр?
– 21 июня 1547 года в первый год правления Ивана IV в Москве вспыхнул страшный пожар, опустошивший город, – не отрывая взгляда от стены, очень тихим, бесцветным голосом произнес Александр. – Горели дома, монастыри, Кремлевские палаты. В огне погибло множество старинных икон.
А спустя четыре года, в 1551 году, в Москве под председательством митрополита Макария состоялся собор, вошедшего в историю под именем Стоглава. Собор пытался разобраться в сложном вопросе, который волновал и служителей церкви, и простых мирян: позволительно ли изображать на иконах не святых, а обыкновенных людей?
Собор потребовал принятия письменного закона: писать иконы только по старинным церковным образцам. Изображения простых людей на иконах, роспись стен с живой модели будет считаться ересью и преследоваться законом.
– Но почему? – удивилась я, вцепившись в стену руками и пытаясь удержаться на шаткой плите.
– До решения собора любой православный мог заказать себе семейную икону с изображением своих небесных покровителей. Древние же иконописцы знали лики святых, как свои собственные. Отклонений быть не могло, понимаете?
Стоять на остатках выступов было крайне неудобно, откуда-то появились и запищали комары и мелкие мушки.
– К чему вы ведете? – отмахиваясь от противных насекомых, нетерпеливо прервала я Александра.
– А к тому, что если бы церковь построили раньше 1551 года или если бы она находилась в частных владениях, то крепостному иконописцу боярин, проигнорировав приказ собора и нарушив законы иконописи, мог приказать изобразить себя с женой и детьми в таком положении, какое нравилось ему. И поместить под изображенными те имена святых, которые были угодны ему.
Я начала понимать, к чему клонит Александр.
– Здесь, – вытянутый палец Александра указал на стену, – явно неканоническое изображение семьи, вы совершенно правы. Муж, жена и маленький сын или… сыновья.
Тут до меня доперло наконец. Эти земли, тогда Ростовские, Ярославские владения – принадлежали родственникам царя, боярам Глинским!
– Приглядись повнимательнее к буквам, – ткнул меня носом в стену Макс.
– Н… Е… – растерянно прочитала я. – Или нет? Не разглядеть… Helena? Елена?
– Елена, – согласился Макс.
– С Телепневым?!
Я перевела безумный взгляд на Александра:
– Иконописное изображение Елены Глинской с сыновьями Телепнева?! В церкви?
Тот осторожно пожал острыми плечами.
– Возможно, но небесспорно…
– Церковь, к твоему сведению, построена в честь Святого Михаила Архангела, – подал голос Максим.
– Откуда знаешь? – удивилась я.
– Потому что живу здесь, – напомнил кузен. – Бабушка говорила…
– Лиза, помните, у Бунина есть странный рассказ, – тихо сказал Александр. – «Баллада»? В нем бывшая крепостная перед сном всегда говорила: «Божий зверь, Господень волк, моли за нас Царицу Небесную»?
Я кивнула, прекрасно помня бунинские рассказы.
– Князя в рассказе волк растерзал за блуд и бесчестие. Будто бы хотел старик у сына молодую жену украсть. Сын жену в полночь в тройку усадил да и погнал по лесу. Старый князь за ними припустился в погоню, а когда нагнал и сына убить хотел, откуда ни возьмись – огромный волк по снегам на него несется. Навалился на старого князя и кадык тому в мгновение пересек.
Когда князя принесли домой, он еще дышал. Успел причаститься и приказал церковь выстроить и написать того волка в ней – в назидание княжеским потомкам – за преступление и наказание…
– Сань, хочешь сказать, что в назидание потомкам царь Михаил Федорович выстроил церковь и поместил туда изображение прабабки – Елены Глинской? Дескать, все помню, ничего не забыто, без греха нет прощения, но жизнь продолжается? – нетерпеливо перебил Александра Макс.
– Возможно, – ушел от ответа тот.
Я открыла было рот, но тут Макс решительно заявил, что прежде чем вести дальнейшие разговоры, мы должны последовать за ним и посмотреть еще кое-что.
Спорить с Максом – дело бесперспективное. С людьми он ведет себя точно так же, как с породистыми лошадьми из скаковой конюшни: я тебя люблю всем сердцем, но делать, животное, будешь то, что тренер приказывает – без рассуждений, недовольства и сию же секунду. Так что как послушные жеребята мы потрусили вслед за нашим вожаком и спустились по заросшим бурьяном и полынью ступенькам в подвальное помещение.
Сразу запахло мышами и болотной сыростью. Я замешкалась – честно, спускаться в подвал мне совсем не хотелось, но Макс упорно тянул за рукав в глубину подземелья. Через минуту-другую он присел среди серых мшистых камней и стал что-то отдирать от пола.
– Мальчишками лазили здесь, – пыхтел Макс, – при церкви когда-то было кладбище, и старухи говорили, что внизу тоже какие-то захоронения остались. Когда церковь жгли, то сломали колокольню, разбили колокол, кресты на кладбище повытаскивали и разрыли многие могилы, но подпольные плиты поднять не смогли… – Макс продолжал тянуть на себя напольную плиту, но она никак не поддавалась.
Тогда он привстал и сильно топнул несколько раз ногой. Раздался жуткий треск, гром, крик, и не успели мы с Александром глазом моргнуть, как Максим с шумом провалился под пол.
Опомнившись, ринулись к черной дыре, в ужасе заорали в один голос:
– Макс! Ты жив?
Из вонючей дыры послышалось кряхтение, и голос Макса ответил утвердительно.
– Господи, – непрестанно причитал Александр, – как же ты так неосторожно-то?
Их дыры показался лучик фонарика, и мы увидели стоящего внизу на ногах Макса. Фу-ффф. Раз стоит, значит, переломов нет. Я смогла перевести дух и осмотрелась.
Деревянный пол церкви над нашей головой крепился на каменных подпорках. Практически никакого покрытия нигде не осталось – только мощнейшие обугленные брусы там и сям. Внизу же, в полуподвальном помещении, где сейчас мы и стояли, пол уцелел. Я приняла старые доски за землю. Когда Макс, пытаясь отодрать намертво застывшую напольную дверь, топнул, старое прогнившее дерево не выдержало и провалилось под его тяжестью вниз – в настоящий подвал.
– Черт, – сердито ворчал из ямы Макс, потирая ушибленные бока. – Кабы знал, что можно так легко доски отодрать, то не мучился бы откапывать напольную дверь в подвал. Знаешь, сколько времени убил, выковыривая грязь из-за зазоров? А тут два притопа – и готово дело – в подвале очутился! Лизок, лезь сюда!
– Там, похоже, сохранились надгробные плиты, – заинтересованно высказался Александр, опять заглядывая в дыру.
– Думаете – подземное кладбище? – быстро отодвигаясь подальше от проема, спросила я.
– Необязательно. Цокольное помещение церкви могло служить и кладовой, – ответил медленно Александр. – Другое дело, если над основанием старой церкви выстраивали новую. Часто церкви в XIV–XV веках строили из дерева, но основания подвальных помещений имели каменную кладку. В XVII–XVIII веках над некоторыми сгоревшими или разрушенными деревянными церквями строили новые каменные церкви, не разбирая при этом старые каменные закладки…
– Если спуститесь вниз, увидите кое-что любопытное, – опять перебивая Александра, подал голос Макс.
Яма оказалось совсем не такой глубокой, как со страха и темноты вначале показалось нам. Вытянув руку вниз, я могла спокойно дотянуться до головы стоявшего внизу Макса.
Принеся веревку из сумки, притороченной к седлу, Александр намертво замотал ее вокруг тяжеленной глыбы. Друг за дружкой, аккуратно, мы спустились по веревке вниз.
Сильнее запахло сырыми досками, гнилой водой, затхлостью, поганками. Под ногами хлюпала вода, и ноги сами по себе разъезжались в разные стороны.
Максим развернул меня лицом к белеющим обломкам каменной глыбы. Лучик фонарика осветил что-то похожее на надгробную плиту с непонятными вырезанными знаками, забитыми грязью, еле видными.
– На плитах обычно вырезали кресты, так? – спросил Макс.
Александр кивнул и начал перечислять:
– Кресты, даты, иногда черепа или ритуальные знаки…
– Ритуальные знаки? – не дослушав Александра, Макс сфокусировал лучик фонарика прямо на стертом знаке, почти скрытом разросшимся мхом.
Некоторое время я внимательно разглядывала непонятный узор на камне. Похоже, кто-то очень старался уничтожить его с поверхности. Но вот узор стал принимать знакомые формы… Невозможно было поверить собственным глазам: на камне древней глыбы едва различались очертания выгравированной вазы-амфоры…
– Нет! – пятясь от надгробной плиты и всем телом заваливаясь на Максима, крикнула я. – Нет! Не может быть! Здесь, что – она? Она? Марина?
Макс поддержал меня, не дал упасть, тихо сказал:
– Вылезаем наверх, там поговорим.
Я никогда не отличалась хорошей физической подготовкой, и лазание по канатам не стояло в списках моих любимых занятий, но в тот критический момент, вспомнив с благоговением уроки вредного физрука в школе, быстрее белки полезла вверх по веревке. Конечно же, если бы не стальные мышцы Макса, мне бы ни за что не удалось подтянуть отяжелевшее тело на слабых руках и вылезти на поверхность. Но один рывок кузена – и я, как вырванная из рыхлой земли морковка, упала на гнилой пол рядом с его ногами справа. Другой рывок – и тощий Александр рухнул с левой стороны кузена.
Когда я немного отдышалась и уняла противную дрожь в руках, мы с Александром быстро полезли через камни и мусор к выходу, а потом, не сговариваясь, устало присели на поваленное дерево напротив церкви и затихли. Я протянула Александру медальон-подарок от Маркони. Он долго вертел его в руках, молчал, вздыхал и о чем-то напряженно думал.
Макс примостился рядом с нами, задумчиво покусывая травинку.
– Мы и скелет в подвале тогда нашли с мальчишками, – сказал он, не глядя на нас. – Только давно это было.
– В том подвале, откуда только что вылезли? – опять в один, сильно задрожавший голос, воскликнули мы с Александром.
– Откуда я помню? – возмутился Макс. – Столько времени прошло… Где-то здесь… Перепугались тогда страшно… Череп маленький, белый-белый, как будто вымытый хорошим мылом, и фаланги пальцев помню…Тоже белые, как снег…
– Максим, – еле слышно простонала я. – Прошу тебя…
Брат послушно замолчал.
После мрачного, затхлого подземелья так хорошо было сидеть и греться на теплом осеннем солнышке, смотреть на мирно дремлющих лошадей, которые лениво помахивали хвостами и поматывали сонными мордами, отгоняя приставучих мух.
– Макс, – собравшись с духом, немного спустя сказала я. – Неважно, что прячется за могильной плитой – Марина или кто другой. Нужно обязательно сделать фотографии и пригласить сюда историков.
– Душа моя, – грустно засмеялся в ответ Максим. – От этих изображений через год-другой не останется и следа! Думаешь, легко убедить кого-нибудь из серьезных специалистов приехать? В полуразрушенную, никому не известную церковь? Кто сюда поедет? Что ты скажешь историкам? Что Иван IV был сыном Телепнева? Или что Маринин прах покоится в подвале? Где доказательства? Этот твой невесть откуда взявшийся медальон и рассказ старухи Эрвины из борделя в Неваде?
– Все равно, нужно сфотографировать рисунки и показать специалистам и иконописцам, пока они совсем не пропали, – заупрямилась я и в волнении встала с трухлявого дерева. – Подлинные исторические документы исчезают! Никому не интересно посмотреть на пробелы в истории новыми глазами и дать молодежи высказать свою точку зрения. Нет, никогда и ни за что! Читайте учебники, написанные при царе Горохе, дети. Что в них найдешь-то? Неправдоподобные историйки о спятившем неизвестно от чего царе-изверге Иване IV да про трех придурков-самозванцев, бьющихся за московский трон? Тоже, кстати, неизвестно зачем.
– Ага. И наш долг коммуниста-комсомольца обратить внимание общественности на заброшенную церковь. А то ты не знаешь, какие консерваторы все академики? – ухмыльнулся Макс, рисуя хлыстом замысловатые закорючки на песке. – Я тебя для чего сюда привел? Не для того, чтобы начинать свару с историками, а чтобы помочь найти, что ты там ищешь.
– Александр?!
– Каждый видит только то, что хочет – такова особенность людей, – спокойно сказал послушник Дмитриевского монастыря. – Вы верите в историю Елены Глинской…
– А вы не верите? – воскликнула я сердито.
– Даже если и верю, ничего не изменится, потому что…
– Потому что никто не хочет отстаивать новую историческую версию! – топнула я в гневе ногой.
– Эй, эй, ты поосторожнее, – предостерег меня опасливо Макс, – ногами не топай здесь сильно…
– Нет, – мягко улыбнулся Александр, – потому что правда обнаружится только тогда, когда придет время.
– А когда оно придет? – задумчиво спросил Макс, глядя на несущиеся по своим делам далекие облачка.
– Никогда! – уже всерьез разозлилась я. – Ежу понятно, почему никто не заинтересуется здешними росписями! Если царевича Дмитрия ребенком не убили по приказу коварного Годунова или кого там еще, значит, не существовало в природе Дмитрия-самозванца! Опля – и тонны исторических трудов рассыпаются в прах!
Макс перестал пялиться в небо и резко повернулся к невозмутимо спокойному Александру:
– Сань, а если это правда и сына или внука Ивана Грозного действительно не убили в детстве то… что получается? Его позднейшая канонизация – выдумка православной церкви? А икона ребенка-мученика, святого Дмитрия? Тоже – подделка, выдумка?
– Это не совсем так, Макс, – тихо возразил Александр. – Не совсем. Вспомни, у Ивана Грозного было ДВА сына, старший из которых в детстве утонул. Возможно, его-то и убили? Не зарезали, а «нечаянно» утопили?
Макс только недоверчиво покачал головой и с шумом выдохнул воздух, собираясь что-то сказать, но Александр слегка возвысил голос:
– Икона может изображать не только образ одного мученика, а быть собирательным прообразом многих замученных или невинно убиенных. Сколько детей пострадало во время правительственных переворотов, восстаний, войн, революций? Икона малолетнего погибшего сына или внука Ивана Грозного, сейчас не так важно, какое имя носил он в миру, может олицетворять идею всех погибших детей, понимаешь?
– А почему вы назвали «еретической» икону на портрете Марины, Александр? – припомнилось мне.
– Исходя из самого портрета Марины. В XVI веке в России было не принято писать парсуны с живых цариц или их детей – только иконы. Там не икона. Предполагаю, миниатюрный прижизненный портрет ее малолетнего сына Ивана…
– Вы спросили, Лиза, когда придет время? – продолжил опять спокойным голосом Александр, помолчав. – Оно обязательно придет, когда люди будут готовы услышать, понять и, главное, принять новую правду. На несчастную династию Романовых и так вылит за последнее столетие океан грязи.
Николай I в 1825 году повесил пятерых декабристов за покушение на свою жизнь и еще сто двадцать человек, принимавших участие в заговоре, кстати, отправил на каторгу. 125 человек пострадало за 25 лет правления императора, а его окрестили «кровавым». В революционном ЧК ежедневно на протяжении нескольких недель расстреливали по 500 человек, включая женщин, стариков и детей. Но исполнителей почему-то называли людьми с «горячим сердцем» и «чистыми руками».
Жену Николая II, царицу Александру, обвиняли в любовных связях и рисовали отвратительные карикатуры. Никто сегодня не помнит, что она работала во время Первой мировой войны обыкновенной сестрой милосердия. А ведь Александра сильно болела: ревматические боли, хроническая болезнь сердца, часто посещавшие удушья и невралгия лицевого нерва, пять беременностей окончательно разрушили ее здоровье. Но современники, да и историки, как глупые попугаи, все твердят и твердят о ее распутной жизни, лености, презрении к простым людям, не имея на то никаких правдивых доказательств! Уверен, даже если бы она была сто раз грешна, ей все простилось – она видела, как убивали и добивали ее детей…
Всем людям свойственно совершать ошибки, но блаженны лишь те, кто готовы принять наказание не только за свои грехи, но и грехи далеких предков…
18. Два Бориса
«…И прошу тебя, боярин, смилостивиться над несчастием отца и явить Божескую добродетель христианина и прислать мне единственное изображение дочери моей, царицы Марины, с внуком в Самбор…» Боярин Суворцев потер уставшие глаза и отложил письмо.
Прошло пять лет после воцарения Михаила Федоровича. Потихоньку воспоминания о казне малыша Ивана стали забываться, хотя нет-нет да и появлялись подметные письма о незаконном правлении нового Московского царя.
Совсем недавно в Варшаву по велению светлейшего собора поехал боярин Григорий Пушкин, чтобы собрать и сжечь все бесчестные книги, где упоминалось о «прозванном» князе, то есть о царе Михаиле Федоровиче Романове, и сделать это надлежало в присутствии царских послов. Кроме того, было приказано всех наборщиков, печатников, владельцев типографий казнить.
Запрещенный портрет Марины лежал у Суворцева в одной из нежилых комнат. Все иконописные изображения ее приговорили к сожжению, но этот портрет уцелел. Суворцеву невозможно было представить, что лик Марины, такой нежный, такой живой на портрете, охватит пламя, и превратится он в пепел. А вместе с ней сгорит и маленький Иван на иконке с левой стороны.
Об Иване вообще думать он не мог. Сразу накатывался камень удушливый на сердце, и начинало оно как пойманный щегол в клетке биться, а Борис Борисыч ртом воздух ловил. А иногда как жаба тяжелая прыгала на сердце и начинала лапой жесткой давить, и тогда боярину не всегда сразу и дух удавалось перевести – задерживал дыхание, боясь острой, рвущей грудь боли…
Суворцев тяжело поднялся и неспешно поехал в Кремлевские палаты.
Всесильный Борис Морозов принял его как всегда, почтительно и спокойно. Взял протянутое ему письмо пана Мнишеха. Хмурясь, прочитал слезную просьбу пана, сложил, бросил на заваленный бумагами стол.
– Зачем письмо привез?
– Хочу отправить портрет Марины к отцу, – признался Суворцев, прижимая вспотевшую ладонь к резво застучавшему сердцу и с трудом переводя дух. – Только людей зря губить не желаю. Есть верные слуги, но если поймают с такой ношей – на дыбу отправят.
– Отправят, – хохотнул Морозов, но проницательные темные глаза не смеялись, оставаясь холодными и внимательными. – Непременно отправят. А на дыбе верные слуги тебя оговорят. Нашим толстосумам только дай повод – такое раздуют, свет станет не мил…
– Борис Иваныч, – тоскливо протянул Суворцев, – сделай милость, отправь ты этот портрет отцу Марины…
– Да, пожалуй, отправлю, – молвил Морозов и легко прошелся по богато убранной комнате, – что один портрет сделать сейчас может?
Дошел до оконца, повернулся на носках, оглядел Суворцева незаметно из-под опущенных век. За пролетевшие пять лет сильно сдал Борис Борисыч. Не раз и не два просил он Морозова отпустить его из Кремля, но тот только шутками отделывался и все про пять пальцев, в кулак крепко сжатых, твердил. Может, и впрямь, пора пришла отпустить на покой помощника?
– Помню, как Марфа все молилась пред иконой Божьей Матери в ссылке, – неожиданно сказал Суворцев, – часами на коленях простаивала, за благополучие сына прося. Говорила: «Если нужна жертва – меня выбери, а от сыночка отклони все несчастия, мне силы на борьбу за него дай, меня наказывай, а на него благость свою пролей»…
– Молитва матери многое может, – согласно вымолвил Морозов, уже в открытую, не таясь, пристально глядя в глаза Суворцеву.
– Сон мне каждую ночь один и тот же снится, – морщась, сквозь силу проталкивал слова, признался Морозову Суворцев, лицо дернулось непроизвольной судорогой, – что тащу малыша к виселице…
– То сон, – быстро и ласково перебил его Морозов, и Суворцев понял, что и того жгут воспоминания о злодействе давнем. – Ты прости, Борис Борисыч, о снах некогда толковать мне, дел много…
Вздохнул протяжно боярин Суворцев, поблагодарил всесильного соправителя и покинул Морозовские хоромы. А Борис Иванович долго сидел, уставившись в угол залитой весенним солнцем комнаты и бездумно теребя ухоженную черноволосую бороду.
Ишь ты, Суворцев-то не послушался царского указа, сохранил портрет любимой Маринки, хотя знал: головы можно лишиться за ослушание. Что стоглавый собор приказал? Все иконы заново переписывать, а старые беспощадно сжигать. Дескать, иконописцы совсем законы иконописи забыли, вместо светлых набожных икон еретические парсуны малюют, стыд позабыв.
Уважит Морозов просьбу Суворцева, отошлет портрет в Самбор.
Два дня назад родилась у всесильного московского боярина Бориса Ивановича дочь. Жена, ближние боярыни, няньки да приживалки чуть умом не тронулись от страха – что ожидать от сурового отца? Известно, он сына-первенца ждал, наследника, а тут такой конфуз – девка.
Испуганная кормилица подала дрожавшими руками Морозову тугой спеленатый кокон. Из-под белого платка показались два голубоватых глазка, беззубый ротик распустился улыбкой, и боярина Морозова пронзило неведомое ранее чувство беспредельной любви к шевелящемуся теплому комочку. Еле сдерживая слезы умиления – не дай бог, кто увидит! – дотронулся осторожненько до розовой атласной щечки, недоуменно думая про себя, что однажды этот комочек, попискивающий у него в руках, расцветет и превратится в молоденькую барышню.
Боярин даже зубами скрипнул – уже не любил того молодца, который осмелится отнять у него дорогую дочку. Накла-а-а-няется ему в ноги молодой жених, прежде чем ее получит, а если кровиночку чем обидит, Морозов негодника в порошок сотрет, в землю живым зароет. Вот как! Дочку, как пан Мнишех, замуж в далекие края нипочем не отдаст – здесь будет жить, под присмотром отца-матери. Даже, если полземли на блюдечке жених в подарок принесет.
Морозов потянулся всем большим, здоровым телом.
За окном веселилась капель, таяли ноздреватые черные снега. Пробежала ватага ребятишек с уроков. Шумели, пострелята, прыгали, кричали.
Без детских голосов одиноко, плохо в дому, даже в царском. Марфа, умница, школы воскресные да церковные быстро заставила открыть при своем монастыре, не дожидаясь особых указаний и великих перемен. Просто нашла наставников, у сына-царя заручилась поддержкой и – начали школы работать.
Боярин проводил детишек враз повеселевшими глазами. Когда видел вот такую мелюзгу, понимал, зачем работал до шума в ушах и рези в глазах, для них, сыночков-дочек, ничего не жалко: ни жизни, ни здоровья. Не хотелось бы плакаться в старости, как несчастный пан Мнишех, да выпрашивать у сильных мира слабое утешение в одинокой беспомощности – портрет умершей дочери.
Хорошо быть у власти, при деньгах, при силе. Но лучше всего – быть в такой славный, радостный, весенний день – живым…
19. Печали солнечной Калифорнии
Поездка в Москву получилась бестолковая. Коровина я так и не нашла, он как в воду канул, у Сергея не прекращались разборки с бывшей женой, Вацлав бегал неизвестно где, да еще на Москву обрушился дикий холод, и все мои мальчики вернулись в солнечную Калифорнию простуженные, кашляющие и непрерывно чихающие.
Уже перед самым вылетом домой отзвонился Мур.
– В Цюрихе ничего не нашел, – грустно поздоровавшись, огорошил меня неожиданным известием. – Ни на имя Алексея, ни на имя Елизаветы ячейки в банках нет.
– Как это – нет? – возмутилась я. – Мое имя на английском может быть написано в разных вариантах…
– Перепробовал все, – перебил меня Мур. – Ничего нет.
Как же так – ничего нет?
– Приезжай поскорее, соскучился, – нежно попросил Мур и отсоединился.
После возвращения из Москвы на меня навалилась куча дел. Я засунула дневник Марины подальше от глаз в секретер, за старые счета, вытащила из гостиной ее портрет и постаралась забыть обо всей истории.
Прошла неделя. Мур заезжал пару раз, но нормального общения не получалось – мои мужчины грипповали, куксились, вяло переползали с одного лежбища на другое и капризничали.
Только ребята стали поправляться, с простудой свалилась я. Поднялась температура, череп залило свинцом, а разговаривала я так, как будто родилась с волчьей пастью.
Как-то под вечер, когда темнело за окнами и все рассеялись по комнатам, я лежала, уютно закутавшись и пригревшись на старом продавленном кухонном диванчике, подремывая и прислушиваясь одним ухом к тому, что передавал History Chanel.
Оказывается, по мнению многих ученых, наша планета – живое существо и, как всякая другая живая субстанция, подвержена старению. Как и у людей, старость планеты сопровождается болезнями: в ближайшем будущем Землю будут сотрясать землетрясения, цунами и пожары, что в конечном счете приведет к ее самоуничтожению. Кажется, после падения одного особо крупного метеорита или астроида начнутся ужасные пожары – все небо от Мексики до Калифорнии будет красным и днем и ночью. Океанская гигантская волна накроет побережье вместе с городами и – заключительный аккорд – в итоге планета расколется на мелкие кусочки и черная дыра поглотит ее.
На экране мелькали лица сумрачных бородатых физиков и приветливых астрономов. Правильная «академическая» речь ученых без ругательств и жаргона, пламенно отстаивающих свои точки зрения, убаюкивала как колыбельная песенка.
«Не может быть, чтобы во вселенной не стало голубого шарика Земли, – в счастливом полусне думалось мне. – Ученым тоже нужно о чем-то диспутировать. Простые люди спорят о политике и экономике, а ученые – о глобальных катастрофах, которые никогда не произойдут…»
Вдруг откуда-то послышался такой ужасающе дикий вопль, что меня подбросило на диване. Залаяла басом Фрида.
Ничего не понимая, я вскочила и понеслась на второй этаж, но там было тихо. Заглянула в одну спальню, потом в другую – дети мирно спали, и только мне удалось перевести дух, как припадочно затрясся мобильник. На экране отпечатался номер соседки.
– Бетси! – завизжала трубка. – Сюда, скорее! Сейчас! Умру! Он! Мама! В бассейне!
Ничего не понимая, я выскочила из дома на тихую ночную улицу и побежала на соседний участок.
Элена, надменная и выхоленная молоденькая блондиночка, которая сквозь зубы цедила мне «добрый день», да и то не каждый раз, сейчас стояла у дверей дома в полураздетом виде, истерически ревя белугой. Оглохнув от ее воплей, я пыталась сообразить: детей у Элены нет, мужа тоже. Собака? Кошка? Нет, кажется, зверюшек тоже нет.
– Бетси! Там! Он! О! о! о! о! Мама!!!!
Я отцепила от себя рыдающую Элену и осторожно вошла в сумрачный и холодный холл. Оглянулась. Ничего и никого. Пустота, красота, чистота.
Быстро прошла через анфиладу полутемных комнат и вышла в ярко освещенный внутренний дворик. Никого.
И тут громко и тоскливо завыла Фрида из-за забора. «К покойнику», – пронеслось у меня в голове.
Разозлившись на себя за глупые мысли, осторожно подошла поближе к бассейну и увидела рядом с лесенкой у самого бортика плавающего лицом вниз, почему-то полностью одетого Вацлава.
Ничего не соображая и не веря глазам, я аккуратно опустилась на коленки и вытянулась вниз, опираясь на скользкую плитку рукой. Пальцы попали во что-то противное, липкое, похожее на жидкий кисель. Брезгливо отдернув руку, потерла ее о другую и… ладонь окрасилась в красный цвет…
– Мама! – заорала я и кинулась вон.
Дрожавшая Элена ждала меня на улице. Я схватила ее за руку, и мы понеслись домой, крепко захлопнув за собой дверь.
– Лизка, – услышала заспанный голос Сергея. – Что опять случилось?..
Через десять минут улица наполнилась воем машин. Рыдающую Элену увезли в госпиталь. Страшно безжизненное тело Вацлава запихнули в неотложку, и она, дико завыв, рванула с места. Мне вкатили сильную дозу успокоительного, и теперь я сидела, тупо разглядывая набившихся в мою кухню полицейских.
Один из них что-то шепнул брату на ухо, и тот оцепенел:
– …! – потрясенно выругался он и с испугом посмотрел на меня.
Сергей прикрыл дверь, выходящую на патио, чтобы не слышать возни за соседним забором, и сел напротив меня. Так сидели мы, молча, не знаю сколько времени.
Потом раздались громкие шаги, и в кухню торжественно прошествовал Мур.
– Чья вещица? – очень вежливо спросил Мур и со всей силой шваркнул об столешницу новенький сотовый.
Я непонимающе уставилась на него.
– Чей аппаратик?
– Мой, – пролепетала я, разглядывая розовые осколки.
– А какого дьявола он оказался в бассейне, а? – так же вежливо вопросил Мур.
Боже мой, когда Элена истерично вопила в трубку, я выскочила из дома с мобильником в руках и не заметила, как уронила его в бассейн, увидев безжизненное тело Вацлава в воде.
И тут Сергей словно с цепи сорвался.
– Тебя же просили никуда не ходить! И так уже под подозрением, – ревел любимый брат. – Забыла? Ты жила в доме, когда умерла твоя Елизавета Ксаверьевна! Ты нашла тело Моргулеза в чертовом «Хилтоне»! Ты была последней, кто разговаривал с зарезанным мафиозником! И теперь твой телефон утонул в бассейне рядом с Вацеком!
По лицу Мура, пробежала странная тень, словно он пытался что-то вспомнить.
– Что тебе говорили? – напирал разгневанный Сергей. – О чем предупреждали? А ты?
Я попыталась выскользнуть из-за стола, но Сергей успел цепко схватить меня за рукав свитера.
– Что же делать, Мур?
– Сидеть дома! Никуда не выходить! Ни с кем не общаться! – все громче и громче надрывался Сергей. – Не разбрасывать телефоны по чужим бассейнам!
– Просто из рук вон, – тихо сказал внешне спокойный Мур, но таким ужасным голосом, что мне стало по-настоящему страшно. – Сколько можно предупреждать? У меня язык отсох повторять одно и то же. Тебе очень хочется в американскую тюрьму, что ли?
– Не хочется, – устало опускаясь на диван, ответила я, сжимая горячую голову, похоже, температура опять резво поскакала вверх.
– Ты маленькая? Не знаешь, что при подобном раскладе – покушение на мужа – жена, то есть ты! – опять окажется под пристальным вниманием законников? – не мог успокоиться Сергей. – Развела мужей, как кроликов!
– Боже мой, – вдруг с такой силой сказал Мур, что Сергей перестал наконец-то орать. – Как безнадежно глуп я был все это время! Ведь дело-то проще простого. И как раньше не допер, дурак? Ребята, срочно лечу в Женеву. Лиза, тебе строго-настрого приказываю: никуда не выходить из дома до моего возвращения.
С этими словами, под изумленным взглядом Сергея, Мур помахал нам рукой и исчез за дверью.
Мне было так плохо, что ни слушать, ни говорить я больше не могла. Присела рядом с Фридой на коврике в углу и уткнулась лицом в теплую лохматую шкуру.
20. Недостающее звено
В следующую субботу, по настоятельной просьбе Мура, на нашей просторной открытой веранде собралась куча народа: он сам, я, Сергей, Машка, Галина и адвокат мистер Дейвис.
Отсутствовал только Вацек. Его, к счастью, врачам-реаниматорам удалось «вытащить» с того света. Он по-прежнему находился в больнице, но доктора утешительно заверяли сначала в «положительной динамике», а потом и в скором полнейшем выздоровлении.
Мы чинно расселись вокруг круглого стола. Машка принесла огромный заварной чайник, Сергей прихватил виски «Старый дедушка» для себя и Мура, а серьезный адвокат – двухлитровую бутыль коки и стакан, набитый льдом.
Мальчишки играли в бассейне, смеялись. Брызги летели во все стороны, искрясь на солнце. Эта беспечная, шумная возня странно успокаивающе действовала на издерганные нервы. Если дети здоровы и весело плещутся в голубой воде, ничего страшного произойти не может. О чем бы ни поведал сегодня Мур, все можно будет пережить, понять и со временем благополучно забыть.
Я бездумно наблюдала за парой ярких бабочек, зигзагами порхающих над головами детей, страшась начала разговора. Но вот адвокат, несмотря на жару, одетый в стильный костюм и как всегда застегнутый на все пуговицы, негромко кашлянул и вопросительно взглянул на Мура.
– Для начала хочу сразу сказать, что никакого убийства моей бабушки не было, – заявил Мур.
За столом тут же прокатился недоуменный ропот голосов.
– Прошу, господа, дайте мне возможность закончить, – твердо возвысил голос Мур. – Если начнем пререкаться и перебивать друг друга, рассказ затянется до утра.
Мы послушно закрыли рты, пугаясь мысли просидеть на веранде до первых петухов.
– Незадолго до смерти Елизавета Ксаверьевна пообещала оставить государству малую часть наследства: некоторые вещи, которые представляли интерес только для американских историков. Зная неумеренную жадность прямых наследников, она попросила помощи и в последние годы жизни находилась под внимательным наблюдением наших спецслужб, о чем ее родственники не имели ни малейшего представления, естественно.
В полнейшей тишине Мур, не торопясь, продолжал:
– Родственникам же не терпелось получить богатство, а Елизавета Ксаверьевна все жила и жила, как заговоренная. Тогда, утомленные ожиданием, наследники подумали-подумали и наняли некоего Моргулеза, садовника и мастера на все руки, следить за престарелой дамой и, главное, потихоньку приворовывать не особенно ценные раритеты в их пользу. Но садовник был себе на уме и быстро сообразил выйти на настоящих знатоков-коллекционеров. Одного из них звали Эд Спенсер.
– Вообще, надо сказать, за долгую жизнь Елизавета Ксаверьевна успела собрать удивительно ценную коллекцию. Ты знаешь, – обратился ко мне Мур, – что она вышла замуж за лорда Ирвингса и только перед самой войной, после его смерти, переехала в Штаты? У них не было общих детей, и наследники лорда сильно возмущались, когда папа поделил нажитое между ними и молоденькой русской женой…
– Ты зачем мне наврал об убийстве бабушки? – мрачно прервала я его.
– Лизка, договорились же, все вопросы – потом, – хором возмутились все.
– Если бы я этого не сказал, ты бы стала сотрудничать со мной? Делиться воспоминаниями о старушке, поехала бы вместе разыскивать коллекционеров? – я отрицательно качала головой на вопросы Мура. – Конечно, нет. Поэтому мне пришлось… немножко…
– Приврать? – ехидно подсказала Машка.
– Нет, не приврать, а… подтасовать некоторые факты.
– Это правда, что сначала в завещаниях стояло имя Моргулеза? – влез Сергей.
– Кто его убил?
– А Елизавету Ксаверьевну? Ее убили или ты тоже «подтасовал факты»? – зазвучали нетерпеливые вопросы с разных концов стола.
Мур, смеясь, поднял руки вверх.
– Елизавету Ксаверьевну никто не лишал жизни, а вот Моргулеза убили во время ссоры…
– Наследники, – не утерпела Галка.
Со всех сторон раздалось возмущенное шипение.
– Нет, не наследники. Его убил собиратель…
– Эд? – ахнув, опять влезла Галка.
– Если не перестанешь перебивать – вышвырну вон, – хмуро пообещал ей Сергей, и мне пришлось незаметно ущипнуть его за коленку под столом.
Галина величественно вздернула нос и отвернулась, а адвокат насупился и недовольно поджал тонкие губы.
Мур, как ни в чем не бывало сделав вид, что ничего не заметил, мирно вещал дальше:
– Что сказал Эд во время нашей первой встречи, Лиза? «Я считаю, что убийство за дневник Марины Мнишек слишком большая цена, ведь дневник-то остался у вас». Почему он заговорил об убийстве? Откуда он вообще узнал об убийстве Моргулеза? Мы не давали никаких комментариев журналистам.
Эду нужны были бесценные исторические документы, которые, как он думал, старушка где-то прятала. Но где? Моргулез за жирное вознаграждение пообещал выведать информацию.
Наследница Лиза – существо доброе, бестолковое – и не надо так грозно смотреть на меня – раритетный дневник держала в незапертой спальне. Спецслужбы больше семьей не интересовались – государство получило обещанное наследство пять лет назад.
Моргулеза погубила собственная жадность – он долго водил за нос Эда, а потом решил, что дневник Марины не отдаст задарма коллекционеру, а сам толкнет на черном рынке. Эд рассвирепел, потерял контроль, схватил первый предмет, попавшийся под руку, и…
– У тебя не было против него никаких улик, – догадалась я. – Поэтому вы так странно вели себя с Вацеком в Носсе. Громко обсуждали историческое письмо Николая II, носились по всему саду с железным ящиком… А этот нелепый звонок из «спецслужбы», который ты перевел на громкую связь…
– Вацек – отличный актер, – похвалил Мур нашего друга. – Мы уже надежду потеряли и не знали, что и придумать, а потом разыграли сценку с ящиком. Эд и купился. Стащил ящик, но не сумел вылететь с острова – его ждал неприятный сюрприз в аэропорту.
– Значит, никаких писем Николая II в ящике не было?
Мур покаянно вздохнул:
– Не было, Лиза.
Мальчишки вылезли из бассейна, мокрые и холодные, как тюлени. Я наскоро помогла им переодеться в сухое. Сергей неохотно кивнул на робкую просьбу посидеть с нами, и дети, присев поближе ко мне, замерли.
Пока ребята устраивались за столом, Мур молчал. Машка успела разлить горячий чай, что было очень кстати – на улице заметно посвежело, а Галка с помощью галантного адвоката притащила гору всяких вкусностей из холодильника.
Дружно прихлебывая чай, все опять с ожиданием уставились на Мура.
– Мы подозревали Эда во многих серьезных нарушениях долгие годы, но он вел себя крайне осторожно. Неожиданное и непонятное покушение на Лизу – вот, что насторожило меня. Я не предполагал, что Эд может зайти так далеко.
– Так это был он? – возмущенно дернулась я и расплескала горячий чай.
– Подождите, какое покушение? – встрепенулся Сергей.
Мур протяжно вздохнул.
– Лиза потом все расскажет, ладно? А то до конца никогда не доберемся. Итак, после покушения на Лизу нам пришлось опять раскрыть дело Елизаветы Ксаверьевны…
– Это был Эд? – не могла успокоиться я.
– Нет, – нетерпеливо отмахнулся Мур. – Эд не сталкивал тебя с мокрых досок. Это сделал другой человек.
– Кто же? – напряженным голосом поинтересовалась Машка.
– Я не случайно пришел с разговором после убийства Моргулеза в «Хилтоне», – не ответив на Машкин вопрос, обратился ко мне Мур. – Ты унаследовала огромные средства, и тебя могли окружать люди, которым была бы очень выгодна твоя внезапная смерть. Начну с того, что подозревал всех: московского мужа, Вацлава, брата…
– Сережку? – гневно вскричала Машка, и Мур слегка поморщился:
– Кто унаследует деньги, если с Лизой что-либо случиться? Ближайший родственник, не так ли? Лиза недавно написала нелепое завещание: «Все – брату». Несмотря на краткость, оно имеет полную юридическую силу. Но Сергей – не просто брат, он еще и опекун несовершеннолетнего племянника. В случае смерти сестры, до того дня, как Алексею исполнится 21 год, огромный капитал находился бы в полной власти опекуна…
– Ты не понимаешь, мы воспитывались совсем в другое время, – раздраженно перебила я Мура, – в другой стране, где материальные ценности не возводились в фетиш. Мой брат никогда не столкнул бы меня с пирса ради получения каких-то паршивых денег!
– Не каких-то, а очень больших, – занудливо поправил меня адвокат.
– Неважно! Вы просто всегда жили в капиталистической стране, где за деньги покупается все – любовь, дети, работа…
– Ага, а ты жила в другом мире, где только идеи имели ценности, – иронически прищурился Мур. – Так? Эх, «хорошо в Стране Советов жить»! А на самом деле?
– «В стране советской», – машинально поправила я.
Мур мгновенно замолчал. Машка отставила чашку и в изумлении уставилась на него.
– Мур, – потрясенно сказала она. – А ведь ты не служишь в беверли-хиллзской полиции. Ты кто?
Мур нервно почесал переносицу и отвернулся к бассейну.
– Черт, как это я проговорился, – пробормотал он растерянно.
Голубая вода под заходящим солнцем переливалась таким неистовым огнем, что глазам было больно смотреть на волнистые блики, но Мур упорно не отводил от нее взгляда.
– Джон, мы ждем, – ледяным голосом подал реплику Сергей из своего кресла, и Машка тревожно оглянулась на него.
Мур громко рассмеялся, сел рядом с Сергеем и потянулся к бокалу.
– Вы правы, я не служу в беверли-хиллзской полиции, а занимаюсь расследованием дел, связанных с антиквариатом. Русским антиквариатом, если уж быть совсем точным. Убийства, гонки, пистолеты, преследования – это, к счастью, не моя ниша. После падения социализма, к нам хлынули потоки государственных ценностей из России, которые нечистоплотные контрабандисты пытаются продать частным лицам…
– А вам, жадным американцам, не все ли равно, если государственные ценности осядут в частных коллекциях? – язвительно перебила Мура вредная Галка.
– Представь себе – не все равно, – спокойно отбил выпад Мур. – Государственные музеи не должны грабиться теми, у кого есть деньги, и уникальным экспонатам древности не место в потайных сейфах и на закрытых вернисажах для избранных. На то они и государственные ценности. Мне очень жаль, но вы даже отдаленно не представляете, сколько подлинников украдены из музеев России за последнее десятилетие и как часто посетители любуются искусными подделками и копиями.
В голосе Мура звучала истинная печаль, которая заставила всех нас немедленно устыдиться.
– Джон, – деликатно покашлял юрист, – давайте ближе к делу.
– Хорошо. Осталось совсем немного. Итак, кроме Сергея я подозревал Лизиных мужей и подружек.
Девчонки в унисон грозно засопели и так неприкрыто враждебно взглянули на Мура, что я не сдержалась и захихикала.
– Только после покушения на Вацека все встало на свои места, и я наконец догадался, где искать спрятанные Елизаветой Ксаверьевной документы. А я ведь, Лиза, и тебя подозревал одно время, – покаянно признался Мур.
Неожиданное признание заставило меня онеметь. Подозревал меня! Как же так? А сам ухаживал и прочие шуры-муры?
– Подозревал? И – поехал в Носсу? И – признавался в любви?
– Ну и что, – легкомысленно пожал плечами Мур. – Одно другому не мешает. Я и сейчас могу сказать, что люблю тебя.
В немом негодовании я только беззвучно развела руками, не в силах вымолвить ни слова. Да, такого объяснения в любви мне никогда и ни от кого не приходилось слышать. Сергей смущенно закашлялся, адвокат весело рассмеялся, но мне было не до веселья.
– А если убедишься, что я – преступница, то что, посадишь в тюрьму, все так же нежно любя? – закричала я вне себя.
– Успокойся, – опять поморщился Мур. – Тюрьма тебе не грозит. Уже знаю, кто стоит за всеми преступлениями. Не ты. И, пожалуйста, прошу, не кричи больше.
– Хочу кричать и буду, – возмутилась я.
– Лиза, потом разберетесь, – нервно прервала меня Машка. – Мур, ты сказал что знаешь, кто преступник?
– Знаю, – спокойно ответил Мур. – Но прежде, Лиза, ответь на простой вопрос – как зовут твоего сына?
– Алексей Князев, – сердито буркнула я в сторону.
– А мужа?
– Алексей Коровин, – даже произносить фамилию бывшего мужа было противно.
– Ты знаешь девичью фамилию Елизаветы Ксаверьены?
Я отрицательно помотала головой.
– Воронцова, наверное, – усмехнулся Сергей.
– Нет, хотя логически подобное предположение весьма возможно. Ее девичья фамилия – Коровина. А как звали офицера, которого любила Елизавета Ксаверьевна? – Мур по очереди обвел нас глазами.
– Алексей… А фамилию она никогда не упоминала…
– Князев, да? – тихо закончила Маша.
Мур кивнул, а я только ахнула.
– Елизавета Ксаверьевна завещала все тебе, Лиза, оставив с носом наследников. Она рассказала моей настоящей бабушке о необыкновенном совпадении – к ней пришла работать тезка, которая носила фамилию Князева, фамилию, которую Елизавета Ксаверьевна надеялась получить после замужества с Алексеем. Мало того, фамилия тезки по браку совпадала с ее собственной девичьей фамилией!
– Фантасмагория, – прошептала я. – Такого не бывает.
– В жизни бывает все, – философски изрекла Галка.
– А ее Алексей выжил? – влез молчавший до сих пор юрист.
– В ЧК, – медленно ответил Мур. – его следы затерялись.
Понятно. Замучили или расстреляли. Бедная, бедная Елизавета Ксаверьевна! Жить, зная, что любимый ценой собственной жизни заплатил за ее свободу… Немудрено, что старушка не боялась смерти – она устала страдать от мысли, что Алексея терзали в подвалах ЧК голодом, пытками и унижениями.
Несчастный Алексей! Он знал, что никогда не сможет уехать и все же попытался спасти любимую. Спас, а сам погиб. Благородный русский офицер – слава тебе в веках за то, что любил и остался Человеком с большой буквы в страшные времена апокалипсиса.
– Елизавета Ксаверьевна оставила наследство Лизе, но какие-то ценные бумаги спрятала в Цюрихе и завещала Лизиному сыну, имя которого так ей дорого – Алексей Князев, – прервал мои грустные размышления Мур. – Однако в банке Цюриха ячейки с именем Елизавета Князева или Алексей Князев мы не нашли. Меня даже взяло сомнение, правилен ли такой путь. А потом наконец-то дошло. Тот, кто наперегонки с нами бежал за историческими документами, тоже не догадался об этом факте, потому что факт был абсолютно непредсказуем.
– Какой факт? – опять напряглась Машка.
– Московский муж Лизы недавно поменял фамилию и тоже стал Князевым…
– Как это поменял? – возмутилась я. – Он мне ничего не говорил. И он бывший муж, к твоему сведению, Мур, сколько раз можно повторять!
– Ну и что! Не говорил, но сделал. Не в этом дело…
– А в чем? – влезла раздраженно Галина, было видно, что неторопливое повествование Мура ей сильно наскучило.
– А в том. Появляются два Алексея Князева: один в Москве, другой – в Лос-Анджелесе. Правда, американский Князев по российским законам все еще Коровин, так как его мама никак не может дойти до русского представительства и оформить правильно все документы.
Я виновато замычала.
– Твой русский муж, – повернулся ко мне Мур, – то есть, прости, бывший муж, ничего не знал о Вацлаве. Никто, кроме Сергея и Маши, не знал о вашем фиктивном договоре с Вацеком, верно?
Вацлав, до недавнего времени Лизин законный американский муж, правильно все рассчитал. Он стоял на страже ее интересов. Если бы Лиза захотела выйти замуж, ей было бы необходимо прежде развестись с ним. Но наши-то преследователи ничего не знали об американском браке. Таким образом, по их предположению, после смерти Лизы все наследство должно беспрепятственно достаться Алексею Князеву, проживающему в Москве.
– Но законный или бывший муж Лизы ничего в случае ее смерти не получил бы, – напомнил адвокат – из-за последнего завещания в пользу брата.
– Так, – согласился Мур. – А завещание заставила Лизу написать Галина, вот из-за этого она и попала под мое подозрение.
– Галина – единственный здравомыслящий человек во всей вашей развеселой компании, – строго изрек юрист, нежно поглядывая на порозовевшую от комплимента подружку.
Машка закатила глаза и отвернулась от Галки, а до меня вдруг дошел смысл фразы Мура «по мнению преследователей, бежавших по следу с нами наперегонки»…
– Мур, ты хочешь сказать, что Коровин хотел лишить меня жизни и столкнул с пирса?
– Нет, столкнул не он.
– А кто?
– Подожди, – прервал меня Сергей. – Мур, ты остановился на том, что в Цюрихе так и не обнаружил ячейки с именем Лизы или Алешки. Но ты же нашел письма? Как?
Тут щеки Мура заалели, он неловко почесался, заюлил, закашлялся. Мы в недоумении смотрели на него.
– Ну? – поторопила его Маша. – Как ты нашел письма? Как догадался?
– Моя бабушка, – начал Мур, глядя поверх моей головы куда-то вдаль, – очень переживала, что я не женат. Ну, она дружила много лет с Елизаветой Ксаверьевной…
Мур замолчал и опять нервно почесал переносицу.
– Ну и? – воскликнули мы дружным хором, но Мур алел, сопел и молчал.
Вдруг Галка громко рассмеялась:
– Ячейка была на фамилию Лизы по новому мужу, так?
Мур кивнул.
– Какому новому мужу? – привстал Сергей.
– Как – какому? – удивился Мур. – Разве Лиза ничего не сказала? Мы расписались в Лас-Вегасе пару недель назад.
Сергей разинул рот, а Галка, ехидно улыбаясь, явно наслаждаясь растерянностью Сергея, с умилением разглядывала себя в блестящий чайник и, кокетливо поправив тщательно уложенные локоны, закончила:
– Бабушки седьмым чувством угадали, что вы, ребята, будете вместе… Вот видишь, Лиза, как хорошо иметь такую умную подружку? Не взяла бы я тебя в «Хилтон», не закрутилась бы вся эта карусель и не встретилась бы ты со своим Муром.
Сергей налился краснотой перезрелого помидора. Не говоря ни слова, он выскочил за дверь и с такой силой хлопнул ею, что на каменном полу подскочила мирно спавшая Фрида.
– Мне, пожалуй, пора, – стал выбираться из-за стола юрист.
– Подождите, – запротестовала я. – Так вы поняли, кто преступник?
Мур и юрист переглянулись.
– Кто?
Юрист избегал смотреть мне в глаза, Машка тоже. Мур молчал. Только Галка была весела и беззаботна.
– Кто? – уже с испугом повторила я. – Кто?
– Близкий человек, почти родственница, но которая очень хотела денег, – отозвался Мур, отвернувшись к бассейну. – Та, которая ради денег – как ты говорила? – начала опять «атаковать» брата…
– У меня их две, – растерянно пробормотала я с ужасом понимая, что обе мои близкие подружки «атаковали» Сергея. – Ты что, спятил совсем, Мур?
Машка? Галина? Хотели убить меня из-за денег?
– Всегда думала, что я – твоя единственная подруга, – вдруг громко и обиженно вскричала Машка и вылетела с веранды, тоже громко хлопнув дверью.
Фрида вскочила и громко, негодующе гавкнула Машке вслед. Юрист тяжело вздохнул.
– Галка?!
– Галина, – занудил юрист, – единственно думающий человек во всей вашей компании…
– Слышала уже, – бесцеремонно перебила его я. – Кто?
– Вика, – ответил Мур. – Бывшая жена Сергея.
Я не поверила своим ушам.
– Да вы здесь все рехнулись, что ли?
– Сначала грешил на Галину, – опять присаживаясь к столу, признался Мур. – Она испытывала страшную зависть после того, как ты получила огромное наследство, попыталась «заарканить» Сергея, но у того уже были серьезные отношения с Машей, и он вежливо объяснил, что игра не стоит свеч…
Послышался грохот упавшего стула, и Галка злая, как фурия, тоже вылетела прочь. Следом за ней, укоризненно качая головой, вышел юрист. Мы остались одни.
– Зачем встречался с Галкой в Лас-Вегасе?
– Откуда узнала? – удивленно воззрился на меня Мур.
– Болтливые стены отеля «Венеция» рассказали, – съязвила я.
Мур довольно хмыкнул:
– Не раз замечал, что у стен бывают не только длинные языки, но и острые глаза с ушами. Галина первой подняла кипеж, когда узнала о нашей самой первой встрече. Странно получилось – я подозревал ее, а она – меня. Твоя подружка устроила бучу Вацеку, подключила Дейвиса, и мне пришлось выложить все карты.
Тебе не говорили, но юрист ехал за нами по всему маршруту вместе с Вацеком. У обоих чуть башку не снесло, когда я показал им паспорт с именем «Бетси Мур». Оба орали и плевались, и я с трудом уговорил подождать, пока не закончим следствие…
Мы помолчали.
– Мур, почему твоя бабушка оставила мне Ассуара? Ты же ее единственный наследник, а я ничего не смыслю в лошадях и конюшнях…
– Пока не смыслишь. А мне много чего осталось от бабушки, хватит до конца жизни…
Она была страстная лошадница – в седле до 60 лет сидела и сравнивала себя с легендарной графиней, неувядающей Дианой Пуатье, – улыбаясь воспоминаниям, тихо сказал Мур. – Бабуля страшно волновалась за судьбу Ассуара.
Конь – серьезное капиталовложение, на него всегда найдется покупатель. Но, с другой стороны, это же живое существо, которое стареет, и в один ужасный для него день не сможет больше ставить рекорды. Ты знаешь, что чаще всего скакуны, приносящие миллионные доходы, оказываются в старости на страшных задворках или живодерне? Ты понравилась бабушке… Она часто повторяла: «Кони – как мужчины. Если в хорошие руки попадут, до конца раскроют свой природный дар, а если в плохие – на свалке непутево жизнь закончат». Как твой сеньор Маркони…
Я пропустила ревнивое замечание мимо ушей.
– А к нему-то Вика каким боком пришлась?
– Никаким, – улыбнулся Мур. – Приревновала старика молоденькая любовница-горничная и не сдержалась. Чаровала, ублажала, надеялась на золотой водопад, а тут на тебе – другая появилась, у которой своих денег куры не клюют. Обидно.
– Какой ужас, Мур.
– Ужас, – согласился он и посадил меня к себе на колени.
Дворик окрасился в яркий пурпур закатного солнца, а небо – в необыкновенный бледно-сиреневый цвет. В бассейне заплескалась серебряная загогулина молодого месяца. Из открытого окна послышались веселые голоса детей и бурчание телевизора.
Я устроилась поудобнее на коленях у Мура.
– Коровин хотел много-много денег, сразу и ничего не делая, – тихо заговорил Мур, дыша мне в затылок. – Вика узнала от твоих родителей, что Елизавета Ксаверьевна оставила что-то очень ценное Алешке, и в красивой головке созрел интересный план.
– Подожди, но как Вика попала сюда?
– Знакомство по Интернету. Приехала к потенциальному жениху. Им оказался престарелый родственник или друг Элены. Вацек зашел как-то по-соседски в неурочное время к Элене, застал там Вику, страшно удивился. Там они и разругались.
Кстати, Вацлав никогда не жаловал ни Вику, ни Коровина. Вика никогда не работала, все ждала «шикарную» роль да выклянчивала деньги у бывшего мужа. А Коровин? Удрать от жены, оставив одну в незнакомой стране, и жить на деньги, которые она присылала родителям, шантажируя стариков и грозя отнять у них внука?
Я подавленно молчала – говорить было нечего.
– Уж очень Вика с Коровиным на тебя, Лиза, были обижены. Почему у тебя, Князева, все в шоколаде, а у них, бедненьких – нет?
Я обняла теплую, вкусно пахнущую туалетной водой шею Мура и уткнулась в нее носом.
– Хорошо, что все закончилось, – прошептала я. – Теперь у меня есть ты.
Тут Мур заворочался, полез в карман и что-то вытащил из него. Когда до меня дошло, что Мур держит в руках, то я прямо задрожала от бешенства.
– Выбрось на помойку, отвези в Носсу, подари музею, отдай Эду, родственникам Елизаветы Ксаверьевны, государству, коллекционерам – кому угодно! Не желаю ничего видеть и слышать о Марине в своем доме!
Мур укоризненно покачал головой.
– Ну что ты все кричишь? Неужели неинтересно, что оставила Елизавета Ксаверьевна в Женевском банке?
Я внимательнее присмотрелась к потрепанной книжке, которую Мур держал в руке. Сначала мне показалось, он вытащил проклятый дневник Марины, но нет, Мур раскрыл тонкий, источенный временем путеводитель, поднес поближе к моим глазам. «Из архивов Церкви Святой мученицы Александры, – прочитала я вслух. – Аляска».
Мур вопросительно взглянул честными глазами и продолжил:
– «После отречения от престола Николая II, трон перешел к его младшему брату – Михаилу Александровичу. Хотя Великий князь Михаил и отказался от престола, он разделил печальную участь многострадальной семьи Романовых. Спустя несколько месяцев в ночь с 12 на 13 июня 1918 года он был расстрелян большевиками Марковым, Иванченко, Жужговым, Мясниковым и Колпащиковым. Могила до нынешнего дня не найдена»…
Не дослушав, я решительно слезла с коленок Мура и, оставив в одиночестве наслаждаться обществом раритета с Аляски, поднялась в спальню к Яну.
– Маша будет теперь жить с нами, не против? – спросила племянника.
– Знаю, – ответил Ян недоуменно. – От папы. Когда ты отдыхала в Носсе, представь, как они орали друг на друга? Я чуть не оглох. Маша хотела продолжать работать, а папа сказал, что ей нужно о ребенке думать и он не позволит, чтобы его малыш не доедал и не допивал, пока ненормальная мамаша делает карьеру. Они уже и имя выбрали. Если мальчик – Вацлав, а если девочка – Лиза. Здорово, правда?
Я выпустила из рук детскую ладошку. Мальчик Вацлав или девочка Лиза…
Красота. И Сережка смеет еще упрекать меня, что я все скрываю от него?
21. Последняя
«Я верю, что ничто не проходит бесследно и что каждый малейший шаг наш имеет значение для настоящей и будущей жизни», – писал Антон Чехов почти столетие назад, но слова его остались насущными и в наши дни.
Для меня так и осталось загадкой, был ли Дмитрий самозванцем или Федор-Филарет Романов действительно узурпировал власть в далеком 1613 году.
Может быть, Муру посчастливится найти документы, за которыми охотится секретная польская организация где-нибудь в архивах полузабытой русской церкви на Аляске и миру откроется наконец правда о Смутных временах? Кто знает?
Как бы то ни было и что бы ни случилось в тот роковой день почти четыре века тому назад, никто не сможет отрицать, что за триста лет правления династии Романовых Россия превратилась в мощнейшую державу мира.
Кто сегодня помнит, что Николай II принял в 1894-м империю с населением в 170 миллионов людей? 50 национальностей, говорящих на 200 языках и диалектах входили с состав его державы. Романовская Россия конца XIX – начала XX века занимала шестую часть суши планеты!
Кто помнит, что в 1897 году Россия взяла в аренду у Китая на 99 лет Порт-Артур – единственную в Тихом океане базу с незамерзающими водами?
Кто знает о крестьянских реформах умнейшего премьер-министра Петра Столыпина, выдвиженца императора? С согласия императорской семьи, Столыпин распродавал земли семьи Романовых крестьянам через правительственные субсидии и низкопроцентные ссуды, давая возможность крестьянству выйти из нищеты и стать полноправным членом российского общества. Кто из других европейских королевских фамилий так заботился о процветании крестьян? (Замечу, что в 1917 году по приказу товарища Ленина, рьяного поборника справедливости и гонителя «поработителей Романовых», все выкупленные русскими крестьянами земли конфисковались – бесплатно! – в пользу советского государства.)
Россию уважали, русский золотой рубль конвертировался в любой стране мира.
Трехсотлетие благоденствия российской земли закончилось светлой июльской ночью фразой коменданта Янкеля Юровского: «Мы должны расстрелять вас». «Вас» относилось ко всей семье Николая: его жене, четырем дочерям и единственному сыну.
О чем успел подумать несчастный государь в последнюю минуту жизни? О своем подростке-сыне? Или о другом малыше, повешенном на Серпуховских воротах триста лет назад?
Эти строки поэта Бехтеева великая княжна Ольга, сестра царевича Алексея, незадолго до расстрела семьи переписала в свой дневник. Что она знала? Что предчувствовала? Простое совпадение? Или… провидение?
И почему же самые невинные – дети! – отвечают за грехи и амбиции своих отцов?