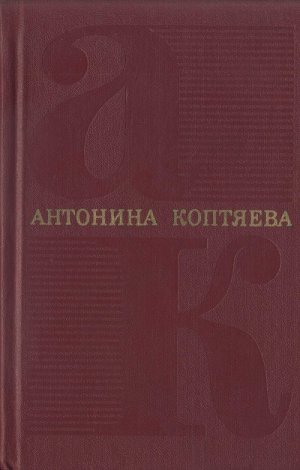
Антонина Дмитриевна Коптяева Собрание сочинений том 6
На Урале-реке
Роман
Часть первая
На масленой неделе в Форштадте — казачьем предместье Оренбурга — была устроена военная потеха — взятие ледяного городка. Отливая холодной голубизной, круто вздымалась потешная крепость над простором площади, примыкавшей к старинному земляному валу, где уже толпился собравшийся загодя простой народ. Публика почище — офицеры гарнизона и губернские чиновники с семьями — подъезжала на извозчиках. Купцы, промышленники, степные помещики щеголяли собственными выездами: парами и тройками породистых лошадей, катили в кошевах и жители ближних станиц. Далеко разносился звон бубенцов и колокольчиков. Повизгивал под полозьями затвердевший от мороза снег. Крики лихачей сливались с веселым ребячьим гомоном и женским смехом.
Все на пути к Форштадту кипело, только казачьи караулы стояли как вкопанные. Спешила, чтобы посмотреть праздничную потеху, и толпа молодежи из Нахаловки, рабочего поселка главных железнодорожных мастерских.
— Вон сколько народищу! Кто на лошадях — давно уж на площади. Не проберемся вперед — не увидим ничего, — говорил рыжий Пашка Наследов, крутясь на бегу возле братьев и сестры Фроси. — Кто будет нынче отбивать атаку? Кидать снегом в конников? — допытывался он, заглядывая в глаза то долговязому подростку Мите, то своему любимцу Харитону.
Харитон — старший, ему двадцать лет. Он давно нянчит кувалду в кузнечном цехе, и мускулы у него, как у циркового борца. Гордо, заносчиво он держится — самому губернатору не уступит дороги, — но к надоедливому братишке относится терпеливо.
— Пожарные, поди-ка, станут оборонять городок.
— А пошто не мы?
— На вот! Толкучку устраивать… Казаки лавой сомнут сразу. — Харитон уже сталкивался с казаками на рабочих митингах и маевках и не ради простого любопытства шагал в Форштадт: под заношенным ватником грели его бока тугие пачки листовок.
— Будь осторожен, — наказывал ему один из руководителей подпольного комитета Александр Коростелев. — Помни, что ты не на кулачный бой идешь, а на партийное задание.
Харитон сам это понимал, но кипели в нем молодые силы, подмывало дерзить «блюстителям порядка».
— Гляди, обломают тебе рога! — стращал его и отец Ефим Наследов, сам не раз отведавший казачьей нагайки. — Велено нам вас, молодых, воспитывать… обуздывать. А как, скажи на милость, если вы никакого чура не признаете?
— Зато тебя из-за этого чура повело от рабочего класса к гнилой интеллигенции. Чего тебе дались эсеришки?! Это они натравливают вас, стариков, обуздывать молодых на фронте и в тылу. А мы теперь такие — где сядешь, там и слезешь. Хотят — пускай сами воюют!
Горящие азартом глаза Пашки, упрямо забегавшего вперед, снова уставились на Харитона.
— Ты говоришь — казаки сомнут лавой? А пошто? Чай, это игра! Чай, они не слепые!
Харитон засмеялся, стряхнув минутное раздумье:
— Лошади-то не разбирают, игра или побоище… Если наперегонки, бешеную резвость дают! А казакам, им что — лишь бы покрасоваться.
Видя нешуточную озабоченность Харитона, Пашка, изнывая от нетерпения, перебежал к Мите.
— Мы с Гераськой слетали сюда вечор… Снегу у башни целые горы. Сено и солому привезли для костров. Огромадные вороха напасены. Казаки в дыму-то не сообразят, куда с коней бросаться.
— Хватит тебе стрекотать! — оборвала братишку Фрося, тоже почему-то беспокоясь. — Как положено, так и изготовились. Нам только бы встать откуда повиднее.
Однако «встать откуда повиднее» оказалось не просто: народу на площади — не протолкнуться; к крепостному валу, где среди черно-серых шапок и полушубков пестрели цветные кашемировые платки, не подступиться.
— Вот, говорил, опоздаем! — сердито роптал Пашка.
Зато Харитон, попав в людскую толчею, сразу повеселел, заложив руки в распоротые карманы ватника, неприметно потрогал листовки. Народ стоит стеной плечом к плечу. Задрав головы, все смотрят вперед, где защитники городка готовятся к отражению атаки. Вот мужик громадного роста держит на плече мальчонку, туго перепоясанного красным кушаком по овчинному полушубочку. Оба — отец и сын, — разинув рты, застыли в напряженном внимании. Протискиваясь рядом, Харитон сует свернутый листок в боковую прорезь кармана на борчатке крестьянина. «Получай, дядя!»
Уличный торговец зазевался с калачами и пирогами на лотке, там, похоже, кухарка с потрепанным ридикюлем и еще пустой корзиной.
Медленно продвигаясь в толпе, Харитон смеющимся взглядом окидывает соседей, и кто может заподозрить, что этот могучий парень с добродушно-озорным лицом запросто играет со смертельной опасностью. Но, «играя», он предельно собран и не глядя видит — кто тут, как и он, явился не ради зрелищ, кого надо обойти сторонкой.
— Знатный бы из тебя карманщик получился! Какой талант пропадает! — приглушенно сказал Митя, когда Харитон, распотрошив одну пачку листовок, начал пробиваться к Фросе и Пашке.
«Ох уж этот долговязый тихоня! — Харитон усмехнулся. — То-то он тащился за мной по пятам. Старался прикрывать с тыла».
— Следил, значит?
— Нет… Просто боялся за тебя. Мало ли что? Ведь среди бела дня…
— Ночью добрые люди спят.
— Но вдруг схватился бы кто, закричал?
— Зря шуметь не станут. Народ теперь ученый — с полицией зря не связываются!
Управление Оренбургского казачьего войска и городская дума неспроста позаботились о развлечениях в такое тяжелое время: надо же чем-то отвлекать чернь от собраний и митингов. Однако богатые горожане тоже дружно съехались на занятные игрища. На подступах к площади, возле трехэтажного епархиального училища и духовной семинарии, выстроились рядами щегольские санки с меховыми полостями, расписные, под коврами кошевы. Толстозадые в теплой одежде кучера, ссадив господ, еле удерживали рысаков, разукрашенных яркими лентами, грубо подшучивали насчет близости поповен — учениц епархиального училища — к семинаристам, будущим попам, толковали о ценах на хлеб и овес, о раненых, которых везут с германского фронта эшелонами.
А на пустыре, напротив приземистых зданий казачьего юнкерского училища и Константиновских казарм, набились упряжки победнее с тем же многоцветьем лент в гривах коней. Вокруг городской водонапорной башни сплошные волны расписных и резных дуг с колокольчиками. Тут сани с ворохами сена, покрытого дерюгами, с которых ссыпались целые выводки краснощеких ребят и девчонок. Весь народ стремился к центру площади, где конные полицейские и казаки освобождали проезд для атаки на городок и где для именитых горожан и губернского начальства устроены были широкие помосты со скамейками.
— На пожарную каланчу бы взобраться! — со вздохом сказал Пашка, зажатый в толпе вместе с Фросей и ничегошеньки, кроме воротников да шапок, не видевший. Только красовалась, манила его узкая каланча, что стояла над пожарной возле юнкерского училища, но попасть на нее все равно что на облачко, плывшее над городом. И Харитон куда-то запропал, утянув с собой Митю. Сроду так — везде у него какие-то дела. И тут не утерпел! Нет чтобы протолкнуть поближе к городку сестру и братишку. Конечно, будь Пашка один, он давно бы стоял впереди. Между ног у горожан пролез бы. Но нельзя бросить сестру! За этими девками глаз да глаз нужен. Не зря маманька наказывала старшим братьям, чтобы Фросю ни на шаг не отпускали. Вот она стоит, как кукла, помахивает ресницами. Ей что! Лишь бы поглазеть на людей. И на нее заглядываются… А что военные события пройдут в стороне, ей горя мало! — Где тебя носит? — забыв с малых лет въевшуюся осторожность, Пашка чуть не всхлипнул от радости, увидев Харитона, ухватился за него, как утопающий. — Айда поближе!
— Сейчас разыграется потеха! — возбужденно говорил Харитон, бесцеремонно раздвигая людей.
На него оглядывались — кто с удивлением, кто с досадой. Но резкое слово невольно замирало на губах: так располагающе выглядел крепкий парень с задорно вздернутым носом. Вид Фроси и Пашки, плывших по бурлящему людскому морю за угловатым парусом его плеча, тоже сразу настраивал оренбуржцев на мирный лад: такое предвкушение радости сияло на лице юной девушки и такое отчаянное нетерпение, страх прозевать разгар баталии выражало все существо Пашки. Он будто взывал к взрослым в своем страстном устремлении:
«Пропустите! Люди добрые! Не дайте помереть в одночасье!»
Даже разрисованные, как пасхальные яички, шлюхи с Ташкентской улицы не стали перекоряться с ребятами. Потуже подбирая пышные юбки, они с шуточками раздались в стороны под напором Харитонова плеча: сами явились, нарушив полицейские предписания.
Наконец вся троица пробралась почти к центру площади. Завиднелся впереди флаг, призывно трепыхавшийся на верхушке ледяной крепости, и Пашка, возликовав, еще энергичней стал подталкивать Харитона, а заодно и Фросю.
— Куда вы претесь? — заорал есаул Григорий Шеломинцев, разглядев в нарядной толпе рабочую одежду Харитона и Пашкины обноски.
Он даже нагайку привычно приподнял, но, встретив быстрый взгляд Фроси, осекся и тоже посторонился, тесня людей конем и приосаниваясь в седле.
— Как бородач перед девчонкой-то бодрится! — крикнула разбитная мещанка-солдатка. — Меня чуть не взашей, а тут разъело губу!
— Но-но, потише! — пригрозил не без игривости в голосе есаул, любуясь девушкой и крепко оглаживая густые усы.
— Не нокай, я тебе не кобыла. Ишь радетель любезный! Радеешь небось и о снохах, коли сыны на фронте!
Смущенная возникшей из-за нее перепалкой, Фрося укрылась за спиной Харитона, потом выглянула, как зверек, и опять вспыхнула: казаки, что ехали со стороны казарм и застопорили в толчее, глазели на нее, о чем-то улыбчиво переговаривались. Особенно пристально смотрел ближний молодой казак, сидевший на выхоленном степном скакуне, держа в руке натянутые поводья. Был он в кавалерийском полушубке, тонко перехваченный ремнем в поясе, светло-русый «висок» шелково кудрявился из-под белой папахи. Зеленоватые глаза его так и обожгли Фросю победоносной усмешкой.
Она совсем застеснялась, низко опустила голову, повязанную дешевенькой шалью.
А Нестор, сын есаула Шеломинцева, подался вперед, чтобы еще раз заглянуть в лицо девчонке, приковавшей к себе внимание празднично оживленной толпы. Но тут раздалась команда, и казаки, гарцуя и рисуясь на лошадях, поскакали по образованному среди толкучки проезду, чтобы на конно-сенной площади изготовиться для броска в атаку.
— Кому масленая, да сплошная, а нам вербная, да страстная…
— Есть и другая поговорка: не все коту масленица! Придет он, придет и для них великий пост!
— Третий год воюем, а что завоевали? Убитых на фронте нет числа. Живые в тылу тоже по краю могилы ходят: то старых, то малых с голодухи хоронят. Одни толстосумы жиреют…
— Ничего. Долго терпели — еще немного потерпим. Зато как одолеем немца — всем облегченье будет, — сказал отец ребят Наследовых, слесарь Ефим, стоявший на крепостном валу среди пожилых рабочих.
— Чем ты его одолеешь, немца-то? — насмешливо спросил кузнец Федор Туранин. — Фронтовики сказывают: сидят наши солдатушки в окопах без винтовок, без патронов…
— Мало ли болтают разные… дезертиры! А что же прикажешь делать теперь? Сняться всей армии да немцу спину показать? Он тогда вслед ударит и государству Российскому полный разор учинит. Будем под немецким сапогом, как триста лет под Батыем сидели.
— Эх, Ефим! Крепко ты проникся эсеровским духом! — сокрушенно сказал Туранин. — Только не по голосу такая погудка. Негоже рабочему человеку в одну дуду с буржуйскими подпевалами играть.
Ефим Наследов норовисто тряхнул головой, отвернувшись, с преувеличенным вниманием посмотрел в сторону конно-сенной площади, куда ускакали для разминки казаки. Туда же смотрел Митя, отставший в тесноте от Харитона и увязавшийся за Федором Тураниным, который тоже доставал потихоньку из своей объемистой пазухи свернутые листки, но не подсовывал их людям, как Харитон, а незаметно ронял под ноги. Разговор Туранина с отцом смутил Митю, плохо разбиравшегося в политике. Кто тут прав, поди разберись.
Ведь эсеры тоже против царя. На каторгу их ссылают, в тюрьмах они сидят. А большевики никакой другой партии, кроме своей, не признают. Чудно! Вместе-то легче бороться.
Не был силен Митя и в грамоте, как все нахаловские рабочие. Но он гордился своей работой в железнодорожных мастерских и любил родной город. Далеко видны матовые с золотыми звездами на темно-синем фоне купола женского монастыря, окруженного разными кладбищами (магометанским, христианским, еврейским, военным). За монастырем каретные ряды и кузницы, звон молотков на всю округу, с десяток ветряных мельниц, а поодаль, в степи, на сенных кардах, стога — будто серые облака в белой степи, и место, именуемое на заседаниях городской думы «зарытием палого скота», а в просторечии — конскими ямами, где день-деньской вьются вороны да галки. Такова восточная окраина Оренбурга, лежащего на стыке Европы и Азии, греховного торгового города, молящего о прощении медными языками сотен колоколов!
Правее сенных кард, за полигоном стрельбища, спит среди сугробов в лесистой пойме синеглазый красавец Урал, в старину, до пугачевского восстания, называвшийся Яиком — рекой вольности казачьей. Теперь в зарослях по берегам Урала бывают летом тайные сборища иной вольницы — городских рабочих: мельников, пекарей, кожевников. У железнодорожников, нахаловцев и рабочих гиганта «Орлеса» приют — пойменные леса Сакмары, притока Урала.
«Ведь не ради буржуев созываются эти собрания, за которыми так охотятся полицейские и казаки! — думал Митя. — Какие там побоища случаются! А многие наши рабочие за эсеров да за меньшевиков».
Федор Туранин думал по-иному:
«Кабы не путались у нас под ногами эсеры и меньшевики, разом бы подвинулось рабочее дело. Многих они, окаянные, завлекли. Вот Ефим с толку сбился… В девятьсот пятом вместе боролись, а после всеобщей забастовки закис он, присмирел, чего-то к эсерам стал прислоняться. А много ли дела этим говорунам до нашей каторжной жизни? Так вот я и уступлю им своего товарища! Надо Коростелеву сказать, чтобы покрепче, подушевней поговорил с ним».
Тут ударили всем в уши дробный топот копыт, свист, удалой гик, и громада народа на площади заколыхалась, оборачиваясь, приподнялась на цыпочки.
Лавой несутся казаки к ледяной крепости. Несколько бородачей на резвых лошадях затесались в рассыпной строй, поддают жару, азартно и громко покрикивая.
Кричат и зрители, машут шапками, рукавицами, платками. Вспыхнули желтые огни вокруг ледяных стен, и сразу все до трепещущего флага наверху, где должны лежать золотые часы — приз победителю, заволоклось черно-сизой дымовой завесой, а сквозь этот дым, в который ринулись казаки, полетели комья снега, взметывая белые вихри: пожарники отбивали атаку на городок.
— Зачем дымищу-то столько напустили! Ничего не видно… — кричал Пашка, цепляясь за Харитона. — Что они там делают?
— Казаки, наверно, соскочили с коней. С крючьями наверх карабкаются…
— А кони?
— Вот ты надоедный! — Но Харитон и сам досадовал на помеху. — Кони стоят в этом дыму, дожидаются хозяев.
Фрося молчала, тревожно вслушиваясь в гул толпы. Ее поразило выражение лица давешнего казака, когда он снова промчался вместе с другими по площади, потрясая плетью, но не касаясь ею боков своего скакуна: острый взгляд прищуренных глаз из-под белой папахи, звериный, хищный оскал…
— Этак они и на рабочих бросаются во время забастовок, — сказал Харитон, задетый тем, что его сестренка, похоже, любовалась на форсунов казаков. — То, что они тут разделывают, — видимость одна для завлеченья. Кроме свирепости лютой к нашему брату, у них ничего нету.
— Да я… вовсе не завлекаюсь… — Однако, нечего греха таить, хотелось девушке, чтобы снова взглянул в ее сторону красавец казак.
После слов Харитона, словно разгадавшего ее мысли, она попыталась избавиться от наваждения.
«Форсит офицеришка — лампасы голубые! Что мне до него?»
А сама нет-нет да вспоминала, как он, отъезжая на исходные позиции, поднял коня на дыбы, лихо развернулся и шибко поскакал, уверенный, должно быть, что все только на него и смотрят.
— Набаловали вас, царевых прислужников! — сердито и неуверенно (потому что не испытывала искренней злости) прошептала девушка.
В это время, пыхнув сквозь черный дым желто-красным огнем, дружно занялась солома, и сразу, будто занавес поднялся, открылась захватывающая картина: сквозь летящие со всех сторон комья снега казаки отчаянно карабкались на ледяную стену с железными крючьями в руках. Выбеленные, словно в метель, лошади, опустив головы, тесно сбились за чертой огня, у подножия ледяной горы-крепости. Нелегко дается подъем! Один из нападавших, ослепленный снежной лавиной, обрушенной с верхней площадки, заскользил вниз, тщетно пытаясь задержаться на крутом склоне. Вот и другой сорвался, распластавшись, как лягушка, волоча за собой кровавый след: ненароком нос расквасили.
Зрители, не сочувствуя побежденному, хохочут:
— Руки коротки этакую домну обнять!
— Держись теперь за землю!
— Нос прежде утри!
Остальные казаки еще упорнее стали подниматься, вонзая в лед крючья, наверное, и не слышали в азарте борьбы, как гудела толпа, исходя воплями и подстрекающим свистом.
— Всем охота, чтоб кто-нибудь схватил поскорей золотую луковицу! — сказал Ефим Наследов, с увлечением наблюдая за ходом событий.
— Понятно. Тут игра вчистую, — охотно поддержал его своим громовым басом Федор Туранин. — Способны, черти, на разные штуки.
— Глядите, как этот вперед вырвался! — по-мальчишески закричал сын Федора, Костя, оборвав разговоры с Митей. — Папаху сбили, а он карабкается напропалую!
Студеный ветер раздувал полотнище флага над потешной крепостью. Мороз так и хватал за щеки, хотя солнце щедро золотило ледяные стены, у которых бегали, суетились добровольцы, подтаскивая защитникам ведра и корзины со снегом. Но уже протягивались руки к призовым часам. Кто одолеет? Кто будет первым? Когда самый сильный и ловкий казак, сделав последний рывок, навалился всем телом на площадку и схватил часы, зрители разразились радостными криками, а озябшие принялись толкаться для согрева, обмениваясь шутливыми, но увесистыми подтычками взашей да под бока.
Казаки тем временем стали готовиться к джигитовке и снова освобождали проезды посредине площади, вдоль подмостков, где находилась городская знать, дразнившая голытьбу беличьими и собольими шубами, бобровыми воротниками и шапками, пушистой вязью оренбургских платков. Сверкали там золотые погоны армейских офицеров, теснились на ступенях черношинельные кадеты и юнкера с серо-серебристыми нашивками. В центре излучало самодовольство губернское начальство.
Дамы, отдыхая от напряженного «боления» за исход борьбы, шушукались — перетрясали сплетни. Молодежь занималась флиртом. Деловые люди сколачивали компании для вечерней пульки, у кого-то наклевывалась обоюдовыгодная сделка, уславливались о магарычах. «Отцы города» обсуждали под шумок, куда им закатиться вечером: в шантан Трошина, расположенный в центре возле губернского суда и Петропавловской церкви, или в «Декаданс» Ладыгина, куда девицы поступали по особому конкурсу. Как нарочно, и это роскошное четырехэтажное, с полуподвалом заведение тоже красовалось на самом видном месте: на Соборной площади, напротив Кафедрального собора.
Праздник, устроенный в Форштадте, столкнул лицом к лицу нищету и богатство, бунтарей и карателей.
Оренбург, давно ставший воротами из Европы в Азию, славился как торговый и железнодорожный центр. В любое время года он кишел приезжими купцами разных наций, барышниками, торговцами хлебом, прасолами. Обширные гостиные ряды, и Караван-Сарай, и расположенный за чертой города с южной стороны белокаменный Меновой двор (где раньше происходил обмен пленными), заполненный внутри сотнями лавок для торговли с «киргизцами», все издавна притягивало купцов. А то, что этот город являлся еще и столицей казачьего войска оренбургского, которое смотрело на него как на свою исконную вотчину, укрепляло в богатых людях уверенность в безопасности. Кого же могли опасаться они в глубоком тылу, надежно защищенном от набегов азиатских кочевников и далеком от западной границы, где третий год бушевала война, которой конца не было видно? В России начался голод, а тут справлялась масленица — целая неделя обжорства перед великим постом. Сегодня воскресенье — прощеный день. Казалось, никому на Форштадтской площади и дела нет до того, что шла тяжкая война с Германией, что разваливалась, «гибла на корню» власть царской династии Романовых.
— Гляди, Ефим! — Федор Туранин легонько толкнул Наследова. — Наши соколики прилетели.
Неподалеку от них пробирался сквозь толпу человек в черном пальто и высокой каракулевой шапке. Коротко подстриженная бородка не скрывала усмешливых губ, зорко посматривали жизнерадостные глаза из-под пушистых бровей. Это был Петр Алексеевич Кобозев, инженер-железнодорожник. Рядом с ним шел Александр Коростелев, рабочий паровозоремонтных мастерских, рослый, статный, склонив скуловатое лицо, говорил ему что-то на ходу. «Испытанные, стоящие у нас вожаки», — с гордостью подумал Федор, посматривая то на Кобозева, то на Коростелева, у которого утром брал пачки листовок и прокламаций.
«Взяли мы дело революции в свои руки и будем бороться за него, не щадя жизни», — сказал себе Федор, вспомнив все волнения и трудности, связанные с устройством подпольной типографии в рабочем поселке. Яма для нее выкопана в ночное время на огороде, вход — лазейка у забора за грудой кизяка; сколько ловкости и осторожности нужно, чтобы тайком спуститься туда!
Разевать рот не приходилось: жандармы тоже не дремали. Чуть что — и волчий билет. Отметки в паспортах будто зарубцованные раны: арест, тюрьма, ссылка. И опять сначала: арест, тюрьма, каторжные работы.
Александр Коростелев, горячий и прямой по характеру, все это изведал. В Оренбург он приехал после ссылки из Самары и сразу включился в политическую борьбу.
Не зря гарцевали повсюду казачьи разъезды и караулы… Город стоял как на вулкане, то и дело ощущая толчки народного возмущения. Бурно проходил здесь девятьсот пятый год, долго не затихали отголоски его громовых раскатов, и вот опять неотвратимо назревали события.
Коростелев тоже приметил своих, но только прищурился, а от Кобозева отошел с самым равнодушным видом, будто случайно встретились в толпе. Петр Алексеевич, высланный из Риги за политику, строил железную дорогу Оренбург — Орск, но политикой занимался по-прежнему, хотя жандармы не давали ему покоя, а меньшевики и эсеры поносили на страницах газет за каждое выступление. Чем больше его преследовали, тем крепче льнули к нему такие рабочие, как Харитон Наследов и Федор Туранин.
А у Ефима Наследова будто раскололась душа: он тоже против царя, но не согласен с большевиками насчет диктатуры пролетариата. Утром накричал на Харитона, освобожденного от воинской повинности из-за травмы глаза и работавшего в одном цехе с Тураниным.
— Больно вы скорые! — с раздражением говорил он. — Народников долой, эсеров долой! А они за трудящий народ страдали, за то, чтобы землю общинам отдать, за восьмичасовой рабочий день. Конечно, войну прекратить хорошо бы, да ведь по щучьему велению такое не делается. Значит, отставать от своих союзников нам никак нельзя. Ради победы можно и лишние часы отработать, подождать со своими требованиями.
На площади все снова азартно зашевелилось: началась джигитовка…
Кузнец Федор Туранин, в прошлом хлебороб, на верховых лошадей и рысаков смотрит со снисходительной усмешкой. Конечно, красиво летит во весь опор степной скакун, выносливый, неприхотливый, быстрый, как ураган. Хорош и рысак, когда, играя литыми под атласной шкурой мускулами, высоко вскинув голову с поставленными торчком ушами, идет он рысью, щегольски выбрасывая стройные ноги. Всякий невольно обласкает его взглядом, но если разобраться по существу…
— Разве это конь? Идет, пританцовывает тоненькими ножками, как барышня. Куда его в крестьянстве, к примеру: ни пахать, ни бороновать. Клади возить тоже негож, — не стесняясь соседей, вслух рассуждал Федор. — Вот у нас в артиллерии кони были в японскую войну, опять же на германских позициях… То кони! На спине выспаться можно: как стол спина! Верхом ехать, конечно, трудно. Зато тяга! Сила! А джигитовка эта самая — баловство. Ну чего он лезет под пузо коню? Повис с седла, ровно летучая мышь, да еще мешок напялил на башку. Вона как сиганул наземь да опять в седло… А кабы промахнулся? Зачем такие поигрунки?
Стоявшие рядом горожане оглядывались на громкоголосого кузнеца. Одни посмеивались, другие пожимали плечами: вот, мол, чудак отыскался.
Федор Туранин плечист, ширококост, большенос. После недавнего ранения на щеках впадины (мало того, что получил уже три осколочных): пробило пулей навылет через рот, когда с криком «ура!» бежал с пехотой в атаку.
Несмотря на грозную внешность, он был добрым, уживчивым человеком и хорошим семьянином. Дома с матерью две маленькие дочурки — еще несмышленыши, а сыновья пришли с ним. Старший, Костя, черномазый, похожий на мать-цыганку, все вертелся, как сорока на колу: высматривал Фросю. Заметив издалека не ее, а Харитона, стал продираться к нему. Двенадцатилетний Гераська, освобожденный матерью ради праздника от обязанностей няньки, потащился за братом и был прещедро за то вознагражден встречей со сверстником Пашкой.
Тут-то друзья и пустились азартно разбирать подробности штурма городка, ловкость джигитовщиков и достоинства казачьих лошадей. Обсудили они и пробежавшую весть о том, что, когда стемнеет, будет устроен небывалый фейерверк. Покрикивания лоточников, продававших пирожки и разные лакомства, не очень занимали их: ребятам только бы по куску хлеба добыть. Про халву и пряники думать нечего: в карманах ни полушки, а просить у братьев и отцов — зряшное дело. Дороговизна военного времени скоро всех доконает.
Харитон опять будто под землю провалился, а Фрося стояла возле Пашки, пряменькая, строгая, спрятав озябшие руки в длинные рукава полупальто, сшитого когда-то к свадьбе матери. Черная тугая коса, отливая синевой, тяжело висела за плечами.
— Здравствуй, Фрося! — сказал Костя, радуясь встрече.
— Здравствуй, — сухо ответила она.
Нашелся кавалер — молоко на губах не обсохло! Правда, он уже работает в мастерских и чуточку старше ее, но какой это возраст для мужчины — шестнадцать лет! Другое дело девичьи пятнадцать… Даже повивальная бабка Зыряниха, знатный человек в Нахаловке, сказала нынче:
— Выровнялась, девушка, заневестилась. Ну, дай-то бог хорошего женишка, чтоб не засидеться в перестарках.
Все девчата боялись остаться в перестарках, страшило это и Фросю. Однако мысль о замужестве тоже не очень привлекала: далеко не каждой женщине выпадает счастливая семейная жизнь. У матери и ее соседок мужья были работяги, трезвенники, дома никогда не скандалили, но при всем старании выбиться из дикой, гнетущей нужды не могли. Среди рабочих жили в достатке только машинисты поездов, но никто из них не обращал еще внимания на девочку-подростка.
— Ну как тебе здесь, весело? — спросил Костя, озадаченный ее неприветливым тоном.
Фрося почти надменно прищурила ресницы, побелевшие от инея:
— Само собой разумеется.
Держала она сейчас на примете золотисто-рыжего скакуна, что выступал первым перед зрителями: казаки, спешась, один за другим начали проводить своих питомцев перед судейским столом.
Господа на трибунах, убранных коврами, кричали наравне с простым народом «ура» победившему Нестору Шеломинцеву, били в ладоши. Девушка, укутанная в пышные меха, перевесившись через барьер, потребовала, чтобы он разрешил ей погладить лошадь.
У Фроси даже во рту пересохло, когда он, высоко держа поводья во вскинутом кулаке и этим еще больше задирая широконоздрую голову коня, подвел его к трибуне. Девушка, придерживая одной рукой муфту, без боязни погладила нервную морду лошади с выпуклым узором вен под тонкой кожей, поправила челку над ее сторожко скошенным глазом и сказала Нестору, что слово «казак» звучит как название хищной птицы.
Он снисходительно улыбнулся, смело глядя на капризницу в богатой собольей шубке. Шапочка из баргузинского соболя подчеркивала выхоленность ее нежного лица. Бриллиантовые серьги сверкали голубоватыми огоньками в розовых от холода ушах.
«Ничего, пригожа», — говорил безотчетно нежный взгляд Нестора, и красавица ярко зарделась, обернувшись к окружавшим ее поклонникам, залепетала по-французски:
— Стремительность и смелость — вот девиз нашего времени! Не правда ли, господа?
— Совершенно верно, мадемуазель, — не очень чисто, но уверенно произнес тоже по-французски Нестор (окончивший после станичной школы казачье училище в Оренбурге) и отошел, поглаживая взмыленную шею коня…
— Это Софья, дочь орлесовского пайщика Кондрашова, — пояснил Костя, проследив взгляд Фроси. — В институте благородных девиц училась в Петрограде. Вон где!
— Откуда ты знаешь? — с неведомо почему прорвавшейся досадой спросила Фрося.
— На вот! Мы всех здешних тузов на примете держим. Дай срок, собьем с них спесь. А Софья-то, говорят, приз за красоту получила, — добавил Костя, настороженный необычным тоном девушки.
— Нарядить ее в дерюгу, никто бы и внимания не обратил.
— Ты у нас не нарядная, а небось везде примечают. — Костя вдруг тоже взорвался ни с того ни с сего. — Дать бы кирпичиной по затылку этому хорунжему!
— Какому хорунжему? — Фрося попыталась показать полное безразличие, а у самой так забилось сердце, что кровь в лицо бросилась, залив тонкий румянец, наведенный морозом.
— Этому, который сейчас Софье Кондрашовой амуры строил. Видать, отпетый бабник. У него и глаза-то как у нашего кота — пустые, зеленые.
Фрося посмотрела на ловких всадников, плывших над толпой в сторону казарм, и с неожиданной грустью сказала:
— Берут нас завидки на чужое богатство, вот мы и злимся!
— Разве это завидки? Ты не подумай чего… Я горжусь тем, что ты у нас в поселке лучше всех. Меня просто злит, когда кто-нибудь нахально подходит к тебе. — Костя заметил усмешку Фроси, что-то недоброе в выражении ее глаз, но это не смутило его, и он продолжал придирчиво: — Неужели вам, девчонкам, любое ухаживанье лестно? Только бы смотрели на вас!
Девушка сердито отстранилась, однако в уголках ее губ снова промелькнула непонятная Косте улыбка.
— Меня от таких смотрин не убудет. Другое обидно: у них денег куры не клюют, и наряды, и дома красивые, а нам — кусок хлеба черного с боя дается. Но, видно, ничего не поделаешь.
Тут и на смуглых щеках Кости разыгрался яркий румянец, черные глаза вспыхнули от возмущения.
— Мы тоже должны получить свои права — добиться хорошего в жизни. — Спохватясь, он оглянулся по сторонам и заговорил о другом: — Скоро я с подсобных работ перейду в кузнечный цех.
— А дальше что? Чего хорошего там ты добьешься? Будешь, как Харитон и твой папаня, чертомелить за гроши до седьмого поту! — Фрося умолкла, но взгляд ее выразил такое раздражение, что Костя поневоле упал духом.
Славная, тихая девочка, а вот ощетинилась, точно еж! Может быть, это и к лучшему: начала понимать глубину социальной несправедливости. И тут Костя впервые заметил, как выдаются из коротких рукавов армяка его большие руки в старых варежках, неумело заштопанных Гераськой, как заношен армяк, особенно убогий возле добротных одежд городских обывателей. И сразу по-иному неловко стало ему перед девушкой: ну не чудак ли! Просто-напросто стыдится она, хотя и сама не нарядная, разговаривать с ним на богатом празднике. Значит, льстит им, девчатам, внимание только видных кавалеров!
— Не сердись, Костя! — сказала Фрося ласковее, заметив его грустную задумчивость. — Я сама не пойму, что со мной творится. Но нельзя же всегда — до старости, до смерти — жить так, как мы живем. У маманьки кости вылезли из плеч от коромысла, от худобы. А ведь красивая была смолоду…
У Фроси даже слезы навернулись, такой затерянной и несчастной почувствовала она себя в этой шумной толпе, ожидавшей новых развлечений.
— Что же ты собираешься сделать, чтобы тебе жилось иначе? — спросил Костя, подавленный противоречивыми мыслями.
— Не знаю. Но все жду чего-то. Вроде чуда. Маманька сказывала: когда она еще девушкой была… Будто вышла она ночью во двор, и вдруг озарилось все голубым сияньем. Небо, до того вьюжное, черное, разверзлось у нее над головой, и идет оттуда этот чудный свет. Ни солнца, ни луны, а что-то белое и золотое… Будто крылья ангельские веют, будто ризы божьи приближаются. Маманьке молитву бы сотворить, попросить у господа жизни счастливой, а у нее голова от страха кругом пошла, и пала она наземь, как мертвая. А опомнилась, уж нет ничего, только метелица снегом шуршит в потемках. — Фрося замолчала. Как отраженье сказочного видения-сна, лился из ее широко распахнувшихся глаз яркий свет. — Нет, я бы не сробела. Я бы попросила за нас всех!
— Мистика… То есть самый настоящий религиозный дурман, — промолвил Костя угрюмо. — Счастливая жизнь не явится по божьему веленью. За нее бороться надо.
Не раз хотелось ему рассказать Фросе о партийной подпольной организации, да клятва, данная товарищам, сдерживала. А сейчас он решил твердо: нельзя такие тайны выдавать девочке, у которой невесть что бродит в голове. Больно уж она размечталась о какой-то легкой жизни! Этак недолго и до поисков богатого жениха. Кто же иной обеспечит ей возможность жить без горя и забот?
И вдруг Костя увидел давешнего казачишку в белой папахе. Сдав на казарменной конюшне скакуна, он шел в поредевшей толпе, то и дело, вытягивая шею, кого-то высматривая.
Фрося тоже приметила его. Сначала ей захотелось убежать, затеряться среди людей, но странное любопытство и подсознательное желание противоборствовать нагловатому казачьему офицерику пересилило, — она осталась на месте. И чем ближе подходил он, тем сильнее поднималось в ней чувство досады за свою недавнюю растерянность — чего ради оробела она перед ним?
Зато растерялся Костя: подружка детства, похоже, утаила от него знакомство с молодым хорунжим. Что-то особенное появилось в выражении их лиц, когда, подойдя к девушке, он молчком стал перед нею, будто загораживал, оттеснял ее от Кости Туранина, от зазевавшихся братьев.
Фрося не отступила ни на шаг, только слегка откинула голову. Плотно стиснуты губы, сурово нахмурены брови, но этот недоступный вид не обманул Костю. Он понял — боится Фрося выдать себя, вот и напустила гордыню.
Стремясь отвести ее от беды, Костя произнес сдавленным от волнения голосом:
— Пойдем, Фрося! Наши, наверно, уже ушли.
— А фейерверк? Бенгальские огни будут бросать, — напомнил Нестор Шеломинцев. — Сейчас самое гулянье начнется.
— Кому гулянье, а нам домой пора, — заносчиво и невольно грустно сказала Фрося: хотя озябла она, но ей, как и подошедшему Пашке, совсем окоченевшему, тоже хотелось взглянуть на эти бенгальские огни.
— Я вам сейчас тулуп достану, — пообещал Нестор, заметив, как вздрогнула девушка то ли от мороза, то ли от волнения, однако не двинулся с места, словно боялся, что она исчезнет, едва он отойдет от нее.
— Мне ваш тулуп без надобности. Подумаешь, какая забота! Пойдем, Костя, пошли, ребята, а то обморозитесь. Харитон-то где?
— Уходите? — спросил казак.
Фрося, охваченная смятением, ничего не ответила.
Звеня бубенцами, разлетались по улицам, над которыми уже сгущались синие сумерки, пары и резвые тройки. Кучера еле сдерживали застоявшихся рысаков.
— Причитается с тебя, Нестор? — спросил Антошка Караульников, похожий на батрака-молдаванина в надетой набекрень папахе, из-под которой выбивался целый ворох черных кудрей. Он был в засаленном полушубке и поношенных шароварах без лампасов, заправленных в подшитые пимы, но на лошади и без седла сидел, как настоящий казак; подогнал скотину к обледеневшей колоде у проруби и, пока работник-киргиз черпал и, расплескивая, лил воду под исходящие паром морды сгрудившихся коров, проехал немного рядом с Нестором. Лошади, коровы и овцы Шеломинцевых, сопровождаемые пешими батраками, уже двигались, ископытив широкий изволок, к станице, расположенной на высоком береговом бугре.
Нестор, ездивший к прорубям напоить коня, а главное, чтобы без помехи встретиться с Антошкой, рассеянно глядел на родные сердцу картины, впервые не решаясь на откровенный разговор.
Был час утреннего водопоя. Скрипели ворота на базах во дворах станицы Изобильной и в кардах — обширных загонах в пойме Илека среди высоких тополей, где за плетнями дымили саманушки «киргизцев-кормельщиков». Натужно, будто жалуясь, мычали волы и коровы, бойко блеяли овцы, важно шествовали знаменитые оренбургские козы, одетые, словно попонами, длинной шерстью, и лошади — звонкие конские табуны — спешили к пойменным озерам, заметенным снегом. Все богатство казачье выперло из-за высоких плетней Изобильной и «пригородов» ее.
— Как на параде! — сказал Антон, озирая живые потоки, хлынувшие по дорогам поймы между кардами и над яром, где горели червленым золотом окна вынесенной на видноту богатой станицы, которая называлась на Илеке офицерской. Почти в каждом доме отражалось в окнах по нескольку солнц, а настоящее — голое, без сияющей короны лучей, взошло над белыми лугами и облачно-седыми от куржака пойменными рощами и напоролось прямо на черные кресты, раскинувшие тонкие руки по бугру сурового — ни кустика — станичного кладбища. Кресты из полосового железа, звенящие на всю округу при отковке, упруго покачивающиеся летом на выбитой скотом голой земле от бешеного степного ветра. Есть и маленькие каменные надгробия с глубоко врезанными надписями — могилы станичной знати. Сейчас на кладбище снег, а между крестами краснота зари, как кровь, стекающая с края неба на сугробы. И на фоне этой красноты течет с бугра к старицам Илека еще один бурный поток — движется над выемкой дороги живая темная стена, унизанная острыми рогами.
Где еще, в каком поселке столько скота? Хотя гурты и табуны — гордость всего оренбургского казачества. А станица красуется на виду, как богатая невеста, не из хвастовства… Если крестьянские деревни прятались от летнего зноя и зимних буранов в укромных низинах у речек, то поселения казаков, как сторожевые дозоры, всегда ставились на юру.
— Нынче прощеный день у нас так прошумел — еле живы остались. Кислушки, самогона и медовки сотни бочат выдули.
Нестор опять промолчал. Красота зимнего утра, радовавшая Антошку, совсем до него не доходила.
— Ты чего такой тусклый сегодня? Или тоже малость переложил вечор?
— Ладно, если бы переложил…
— Тогда с чего? За джигитовку приз получил?
— Дали.
— Чем-то недоволен?
— Сам не знаю, должно быть, не выспался, — ответил Нестор, все еще стесняясь заговорить о полонившем его необычном чувстве к совсем незнакомой девушке.
С минуту молодые казаки ехали рядом молча. Очень разные по характеру, оба из богатых семей, они подружились еще в начальной школе. Потом Нестор учился в Оренбурге, а Антошка, понаведавшись несколько раз в станицу Краснохолмскую к дяде, растившему целый взвод сыновей-казачат, стал частенько задумываться, избегать молодежных гуляний. И когда в возраст вошел, вовсе сделался вроде умом тронутый: ни казак, радеющий о войсковой службе, ни гуляка — охотник до девок и зелена вина. То-то намаялся с ним папаня, войсковой старшина Семен Караульников. Станица Изобильная недаром называлась офицерской: казаки здесь жили сплошь зажиточные, заслуженные, хвалившиеся воинскими отличиями, и вдруг такая проруха не только для фамильной чести, но и для всего станичного круга! Отец — войсковой старшина, почетный человек, и дед — кряжистый дуб Тихон Захарович — служил старшиной. Знают, помнят оренбургские казаки и прадеда Антошки Захара Караульникова, храброго сотника, участника войны с турками и трехлетней Крымской кампании, а правнук, единственный наследник исконного казачьего рода, на сектанта смахивает.
Имел по этому поводу Семен Тихонович серьезный разговор с братом, обернувшийся неприятностью для любимца Краснохолмской молодежи учителя Николая Андреевича Шибрина, распространявшего среди своих учеников «каку-то запрещенну литературу». Учителя из Краснохолмской сбыли, но самовольство, посеянное им среди ребят, изжить не удалось. Вот и Антошка, видно, нахватался там, в семье брата, крамольных идей.
Сейчас прадеду его, Захару, перевалило за девяносто, и он больше сидит на печи, грея простуженные в походах кости. Но боевой задор в нем не иссяк, и, заслышав очередные сообщения о германце, об атаках и поражениях русской армии, бредет старый, подпираясь клюшкой, к сверстникам — обсудить невеселые новости с фронта.
Сбившись в кружок, ерепенятся седобородые, не раз смертью меченные:
— Бывалоча, езживали… Рубили врагов. Самой главной опорой были для царского трону. А теперь жидкий пошел народ, ненадежный. То-то и есть: надежа на них, как на вешний лед! Изменили фронтовики государю-то, бегут от германца, будто овцы сполошенны. И духу прежнего боевого нету.
Но хоть и сетуют, ропщут бородачи, а староказачий дух вовсе не выветрился в станицах. Большинство станичников фанатично преданы царям — небесному и земному, живут скудно, темно, скупо, копят богатство ради богатства, иногда прерывая это скопидомство несусветной пьянкой по поводу очередного семейного события или тезоименитства кого-либо из царской фамилии, а то и просто так — потешить душеньку.
Просторны и прямы, как по линейке проведенные, улицы станицы. Крепко сложены бревенчатые дома с кухнями в нижних, полуподвальных этажах, прочно, затейливо, точно добротные корзины, свиты высоченные плетни, умазаны рыжей глиной саманные ограды, и побелены во дворах летние кухнешки под крышами, крытыми чаканом [1]. Домовито, даже нарядно выглядит станица, хотя возле домов ни садочков, ни палисадников: нет той моды у казаков, чтобы сажать деревья там, где сам господь бог не порадел их посадить. Только за ближней мельницей раскинулся в степи по оврагу Джеренксай яблоневый сад богатого станичника Масалинова, белым цветом — лунным разливом да шумливыми родниками приманивающий по весне станичную молодежь. Но насчет гуляний, особенно по ночам, здесь строго: быт искони устоявшийся, суровый. Кондовое казачество — от рядовых до заслуженных офицеров — в свободное от военной службы время с головой уходит в сельскохозяйственные работы. Такова традиция.
— Здорово наши старики обдурили киргизцев, — прервал непривычно затянувшееся молчание Нестор, сам дивясь своей нерешительности: делился ведь раньше с Антошкой каждой малостью. — Всего-то сажен на двести прорыли канаву, а сразу изменили пограничную линию.
— Да, пошел Илек по старому руслу под левым берегом. — Антошка снова окинул влюбленным взглядом заиндевелый лес, похожий вдали на клубящиеся дымчатые облака, белые равнины — луга, окраенные талами, — все общественное владение казаков. — Теперь сено и дрова через реку перевозить не надо. А почему ты про это речь завел?
— Потому, что думаю… не пришлось бы и мне курс жизни изменить, в другое русло укладываться.
Глаза Антошки заискрились.
— Которая тебя окрутила?
— Не нашенская она…
— Из другой станицы?
— То-то и беда, что вовсе чужого поля ягода.
Антошка рот разинул от изумления:
— Купчиха либо дворянка?
Нестор сразу развеселился:
— Дворянская барышня нам не подходит — чего ей тут среди навоза?.. Но и с дворянством легче было бы папане сладить, чем пустить в дом девчонку из рабочей семьи.
— Ох ты-ы! Тут твой есаул правда взовьется! Он тебе выдаст! Попомни мое слово: полетишь кубарем с родительского крыльца. Одно дело — невеста без приданого… другое — из рабочих, которые только и норовят бунтовать. С этого родитель начнет отповедь, а кубарем-то, чтобы любовь вытряхнуть. Нужна старикам наша любовь! Они привыкли детей спаривать, словно скотину. А как теперь твоя здешняя?..
Дорофея, крепкая, статная девка, вместе с замужней сестрой Алевтиной трепали коноплю под навесом сарая. Сестры как будто спорили своей наружностью: у Алевтины узкое матово-смуглое лицо, Дорофея издалека привлекала внимание ярким румянцем плотных щек и белизной выпуклого широкого подбородка, и брови у нее против Алевтининых черных шнурочков поражали щедрой гущиной, похожие на полоски колонкового меха, удивительно приставшие к ее огромным голубым глазам, полным задумчивой кротости.
— Телка породистая! — дразнила ее иногда Алевтина. — В кого ты уродилась?
Дорофея отвечала доброй улыбкой и бежала управляться по хозяйству. Любила она нянчить сестриных ребятишек, перебирать их легкие, как пух, волосы, играючи ворочала в печи ведерные закопченные чугуны. Алевтина же, неспособная по деликатному своему сложению к грубому труду, отлынивала от него, но хозяйство и дом держала в руках крепко. По местным понятиям двор Ведякиных считался почти захудалым: четыре лошади, три пары быков, пять коров да десятка три овец. Из шестидесяти десятин казачьего надела едва управлялись с пятнадцатью, остальные сдавали в аренду соседу Шеломинцеву.
По соседству Дорофея, находившаяся под опекой старшей сестры, подружилась с Нестором и его сестрой Харитиной. Вместе с детства выезжали они на покосы в пойме Илека или по ту сторону его в степях Киргизии[2], где казаки почти задаром брали у «киргизцев» неоглядные сенокосные угодья; встречались на полевом стане, где смыкались межи посевов богатея Шеломинцева и пашни Ведякиных.
Конечно, по достатку не ровня Ведякины богатому соседу, но какое дело до этого ребятишкам? Рослая Дорофея не хуже любого сорванца скакала верхом на лошади и при всей степенности характера умела ответить любому обидчику увесистой оплеухой, потому мальчишки-подростки уважали ее, а иные и влюблялись.
Что касается Нестора, то он был по-мальчишески увлечен тоненькой, гибкой, как девушка, Алевтиной, матерью четырех малых детей, обожавшей своего Демида, громоподобного урядника с вислыми усами до голубых погон и русым, пышно взбитым «виском». Дорофея это примечала, втихомолку плакала. Перед сестрой она сникала, безропотно подчинялась ей. Так, сама того не сознавая, подавляла Алевтина сестренку, батрачившую у нее в хозяйстве вместе с деверями — хромым Прохором и удалым красавцем Николаем.
Когда Демид приезжал на побывку, Алевтина забывала даже о детях, все время любовалась им, точно молодушка, милуя да развлекая, оберегала его не только от надсадной, но и легкой для такого силача работы, ходила с ним по гостям, таскала на гулянки, а Дорофея растила малышей, будто своих собственных, да так и осталась в домашней кабале совсем неграмотной, года не проведя в школе.
Только в одном чувствовала она себя равной с сестрой — когда на радость всей станице играли они песни. Тогда Алевтина даже уступала ей, вторя глубоким грудным голосом, а Дорофея расцветала, тревожа людей то грустью до слез, то нежностью или вызывая веселые улыбки. В такие минуты, казалось, нет предела власти и силе ее голоса, и станичники, привыкшие слушать ведякинских певуний, чуть не взбунтовались нынче, когда в их дворе наступило странное затишье. Но дело объяснялось просто. Явился с фронта Демид, да не на побывку, а насовсем, после тяжелого осколочного ранения, и Алевтина, всю тоску по нем изливавшая в песнях, ревниво заметив обаяние голоса заневестившейся Дорофеи, стала избегать петь с нею при муже. А Демиду было не до песен: засел под лопаткой осколок снаряда, и хоть цел с виду остался казак, однако прежней прыти поубавилось, в плохую погоду задыхался. Вот и списали.
Провоевав два с половиной года, он рад был уйти от греха. Как говорится: служил семь лет, заслужил семь реп — получил одного «Георгия», второго не вручили якобы за дерзость. Но кто кому дерзил? Командир армейской части ударил казака по лицу при попытке вступиться за своего станичника. Непривычное в казачьих войсках рукоприкладство золотопогонника чуть не вызвало «ответное действие», но — то ли на счастье, то ли в дополнение к перенесенной обиде — разорвался близко немецкий снаряд, и так шваркнуло Ведякина оземь, что из другого и дух бы вон, а Демид очухался и вот встал…
Дорофея мяла-трепала коноплю так, что пыль и кострика над мялицей вихрем летели. Простой снаряд на ножках, сделанный из двух дощечек на ребро, а между ними третья, подвижная — «било», — так и ломал, жевал грубые стебли. Сжимая сильной ладонью рукоятку «била», Дорофея встряхивала и отбрасывала в сторону похожий на конский хвост пучок кудели, совала на мялку полную горсть новых стеблей, а мысли ее были далеко: она думала о Несторе.
Алевтина, расчесывая кудель широким деревянным гребнем, тревожно поглядывала на необычно задумчивое лицо сестры, запорошенное серой пылью: жалея ее, боялась упустить из дому помощницу.
По-женски чутко давно приметила она, что не к деверям — Прохору или Николаю — и не ради Дорофеи зачастил в ее дом сын Шеломинцева, но только усмехалась тишком, пока не заметила, что у расторопной сестренки все валилось из рук, когда приходил Нестор. Однако сумела-таки Дорофея задеть его сердце нескрываемой влюбленностью и песнями; когда запевала, целый хор подчиняя своему голосу, подчинялся ей и Нестор, открыто восхищался ею. А в обращении был сдержан, ласковых слов не говорил, будто боялся зря ославить девушку.
«Не любит он меня, — с горечью думала Дорофея, — с городскими гуляет. Что я — деревня! Глаза по ложке, коса — целый сноп… Много мяса, да все шеина. А там барышни в корсеты затянуты, образованны, на музыку способны. Ручки-то у них, наверно, мягче да белей, чем у нашей поповны. Только-только приручила я своего соколика, да и упустила. Глаз не кажет — все в городе…»
Дорофея шумно вздохнула, отряхнула кострику с простого байкового платка, с обтерханной шубейки:
— Шабашим, что ли? Скоту корм задавать надо, а там и коров доить пора.
— Лежи, моя куделя, хоть целую неделю, — весело отозвалась Алевтина и приумолкла: в калитку ввалился Семен Тихонович Караульников.
— Помогай бог, красотки!
Брякнула шашка о подворотню, хрупнул притаявший за день снежок под добротным «гамбургским» сапогом — в полном параде явился вдовец — войсковой старшина. Конь его остался у ворот, ради форса не привязанный.
— Что это вы, никак, холсты ткать надумали? У нас в станице такое вроде не принято…
— И мы не собираемся ткачихами прослыть. Только козий пух прядем да шерсть, — задорно отозвалась Алевтина. — Да заехали хохлы из Кардаиловской станицы, у них тканье — суровье в почете. Из чакана и то рогожи плетут! Вот и сестренку мою подбили: зачем, мол, тако добро задаром выбрасывать — лучше ниток напрясть.
— Забогатеете сразу! — Караульников осклабился, показав крупные прокуренные зубы, посмотрел одобрительно на Дорофею. — А где ваш хозяин?
— По сено с братьями отправились, должны бы уже возвернуться. Да сами знаете, как оно на быках-то… — Алевтина тоже отряхнулась, красивым жестом поправила полушалок, и в будний день кашемировый с малиновыми и зелеными разводами по черному полю. — Проходите в дом, Семен Тихоныч. Может, чайку откушаете?
— Благодарствую. Чай для нашего брата военного — напиток несущественный. Мне, старику, приятней на вас полюбоваться.
— Ну какой вы старик! Не всяк молодой этак выглядыват!
Караульников в самом деле выглядел очень моложаво. Правда, раздался в поясе, но плотен и в плечах; благообразное лицо в окладе вьющейся бороды, придававшей его облику что-то поповское, гладко, как репа. Глаза с рыжинкой, со сторожким прищуром в тяжелых веках. Такого оглоблей не перешибешь.
Стоял он и смотрел в упор то на одну сестру, то на другую. Дорофее, глянувшей исподлобья, улыбнулся поощрительно: давно приметил старательность работящей девахи, добротную ее красоту.
«Что ему понадобилось?» — с чувством неловкости подумала Дорофея.
«Не высматриват ли невесту для Антона?» — Алевтина тоже насторожилась, как бы посторонним глазом окинула застенчиво потупившуюся сестру.
«Видная будет молодушка, дому настоящая хозяйка», — единодушно отметили про себя она и Караульников.
Но Семен Тихонович не о сыне радел, давно решив:
«Ничего Антошке не дам — не на ту стезю парень стал. Пусть-ка потянется теперь, заслужит».
О самом себе заботился Семен Тихонович:
«Пока я еще в полном соку, могу и молоду жену взять. Взамен непутевого сына других детей выращу».
— Пойду я? — пугливо спросила сестру Дорофея, теряясь под пронизывающим взглядом нежеланного, хотя и почетного гостя.
Даже Алевтина пришла в замешательство: чего он, старый хрыч, так смотрит на девку? Неужто думает, что впрямь за молодого сойдет? Года не прошло, как вторую жену — Антошкину мачеху — схоронил, а вроде опять ладит под венец пойти.
— Богатому человеку везде почет, и женщины вам все улыбаются, — продолжает Алевтина разговор, явно приятный гостю, делая вид, что не замечает стремления Дорофеи сбежать.
— «Все» — это ровным счетом ничего, а вот когда супруга дорогая приветит… Но посылат господь испытанье многогрешному, разорят семейный очаг. Наградил достатком, а разделить его не с кем. И то сказать: хоть работников держим, досмотреть за хозяйством некому; мое дело — служба царская, у Антона же ни к чему раденья нет. — И в отместку Дорофее, заметив оглядки ее на соседний двор, бросил будто вскользь: — Вот у Шеломинцева сын — орел! Нынче Софья Кондрашова — оренбургска королева красоты — такие авансы ему давала при всем честном народе. Невеста самая завидная: дворянка столбова, и придано за ней не мене пятисот тыщ да недвижимо имущество…
Заметив, что краски в лице Дорофеи поблекли, Караульников спохватился: не слишком ли он разговорился с женщинами, не уронил ли достоинство казачьего офицера? Но, с другой стороны, зачем молчать, если можно вовремя оброненным словом подготовить почву для решающего шага? Жалости к побледневшей Дорофее он не испытывал, а, наоборот, ужаленный неожиданно проснувшейся ревностью, упрямо добавил, пряча тлеющие угольки глаз:
— То, что Нестора городска жизнь прельщат, — не диво, а вот мой Антошка куда метит? В город не рвется и здесь чужой, а с работниками без догляду — горе. В страду я нынче двадцать человек нанимал, и все сам следи — не то растащат по нитке, по зернышку. Спасибо, батя — Тихон Захарыч вникат в дела, но старикам покой нужен. Вот и раскидывай умом…
Караульников вздохнул всей широкой грудью и умолк, давая возможность не очень говорливым при нем станичницам тоже раскинуть бабьими своими мозгами, к чему он речь клонил. Потом подвинтил кончики темных еще усов, важно надел кожаную на меху перчатку:
— Однако пойду я. Демиду передайте: после загляну.
— Фу-ты, какой пышный! — Алевтина с облегчением шевельнула узенькими покатыми плечами. — А он еще ничего, видный мужчина. Как он тебе показался?
Она лукаво посмотрела на сестру и прикусила язык: по лицу Дорофеи катились слезы.
О Софье, сидевшей, как царевна в дорогих соболях, в ложе на площади, Нестор и думать забыл. Зато не выходила у него из ума девочка, Фрося, которую он встретил в Форштадте. Насчет Дорофеи он не беспокоился: слава богу, ничем себя с ней не связал, а если раза два обнимал и целовал на гулянье — что с того? В играх многое допускается. Нет, Дорофею он ничем не обидел, ухаживал, как за другими девушками в станице, и только. Не так уж тянуло его к ней, да и жениться на бедной батя не позволил бы.
Как примет отец невесту из рабочей среды, Нестор представлял тоже хорошо. Но тут он готов был на любые крайности, хотя еще не выяснил ни отношения к себе своей избранницы, ни ее семейного положения. Почему это старики привыкли своей державной властью — без любви и согласия молодых — заключать брачные сделки? Может, дочка не дотянула до «барышни», с ребятишками в мяч, а то и в куклы играет, но пробьет час, и поведут ее под венец, боязливо-покорную, как овечку. С «кавалерами» разговор тоже недолгий.
Собираясь обратно в Оренбург (отпуск кончался завтра), Нестор бестолково бродил то по дому, где в чисто прибранных комнатах нежилось февральское солнышко, то по широкому двору с просторным навесом, под которым громоздились тарантасы, фургоны, глубокие кошевки, розвальни и санки, щегольские, с круто выгнутым передком. Посмотрел он, не видя, на все эти добротные повозки и пошел к утепленной летней кухне, будто привлеченный живо повалившими из трубы клубами дыма, но на полпути свернул к высокому амбару с пристройкой — клетью, куда укладывали спать после бурной свадьбы старшего брата Михаила с его молодайкой. Сейчас оттуда доносились азартные в торговом споре голоса отца и татар-покупателей, и это остановило Нестора, еще не готового для серьезного объяснения с родителями.
«Фрося-то ничего ведь мне не сказала. Я-то нужен ли ей? Вдруг она уже просватана…»
Глядя на прочно, по-хозяйски устроенный двор, Нестор вспомнил рассказы о женитьбе папани. Как загнанный заяц, метался по этому двору, спасаясь от побоев отца и старшего брата, семнадцатилетний Григорий Шеломинцев, не хотевший ехать к венцу. Так и венчался весь в синяках, со слезами на глазах. А сейчас вон как шумит, охрипший с похмелья, того и гляди, вытолкает татар взашей. Но те не из робких и свое возьмут.
Вот уже работники стали выносить на помост перед амбаром и клетью тюки грязной овечьей шерсти и гремящие на морозе, широко распластанные бычьи, бараньи, козьи шкуры.
Мать, черноглазая, нос кнопочкой, проплыла из кухни в дом с жаровней в руках, и чем-то вкусным пахнуло на Нестора. Дородностью Домну Лукьяновну бог не обидел, но она легко носила свое плотное, большое тело. Нестор вспомнил, что злые языки поговаривали, будто отец, который был моложе жены лет на семь, гулял от нее раньше и крепко ее поколачивал. Однако она судьбой была довольна, сора из избы не выносила, запретив и детям рассказывать о семейных вспышках. Только с невесткой Аглаидой ужиться не могла, и Михаил еще до ухода на фронт поселился с женой и двумя малышами на степном хуторе. Там они и жили до сих пор, приезжая в станицу только в банные дни. Баня, топившаяся по-белому, тоже стояла в переднем дворе, окруженная башнями кизяков, поленницами дров и хвороста. Младшая сестра Харитина выносила из ее дверей колодки с узлами отжатого белья, исходившего паром на морозе, проворно ставила их на сани, пока работница Айша — здоровенная, как солдат, киргизка, в туго подпоясанном бешмете — заводила в оглобли смирного мерина. Закончив нелегкое свое дело, Харитина подлетела к Нестору, все так же в задумчивой нерешительности ходившему по двору.
— Уже собрался, братец? — спросила она, любуясь его молодецки-воинским видом. — А мне маманя такой урок задала, что я и поговорить с тобой толком не успела. Смотри, каку гору мы с Айшой накрутили, будто век не стирались. Да и то баушка все строжится: половики побей вальком, сполосни да опять поколоти. Больно-то мне нужно зазря силу у проруби мотать!
Нестор, еще не выведенный из глубокого раздумья этим щебетаньем, с удовольствием смотрел на вертлявую курносенькую сестренку, но слова ее отскакивали от него, как горох от стенки.
— Ты бы не больно спешил. Не уйдет твой Оренбург! Мы через часик-другой управимся на речке, тогда я тебе такое расскажу!.. — скороговоркой сыпала Харитина.
В коричневых глазах ее так и прыгали чертенята, пухлые губы готовно складывались в улыбку, хотя в присутствии родителей она казалась тихоней. Она была без рукавичек, влажные после банной парной духоты светлые волосы, завиваясь колечками, налезали на байковый платок, из-под длинной стеганой юбки блестели на валенках новые галоши — подарок Нестора. Словом, прачка хоть куда!
«Оставлю им свою женку, они и ее запрягут в эту чертову бричку!» — мелькнуло у Нестора.
Вот Харитина — прямо из бани, накинув на нижнюю рубашку юбку, побежит потная к проруби на старице Илека и будет под морозным ветром полоскать белье в ледяной воде.
«Наши-то привычные, а Фросе каково будет?» — точно о вполне реальном деле продолжал раздумывать молодой казак.
— Ты вроде чумовой сегодня? — заметила Харитина и сразу забеспокоилась. — Или случилось что? О чем ты закручинился?
— Насчет женитьбы соображаю… — бухнул Нестор.
Харитина от неожиданности присела:
— Уже разговаривал с батей?
— А ты откуда знаешь, что я собираюсь потолковать с ним?
— На вот! Разговоров тут было-о, ровно на станичном круге!
— О чем… разговоры?
— Да о женитьбе…
— Чьей женитьбе-то? — всполошился Нестор, очнувшись от своих мечтаний.
— Знамо, не Антошкиной. О тебе прикидывают, решают. Неонилу Одноглазову батя в невестки прочит.
— Пусть он ее за себя возьмет!
— Ой, как можно! — Харитина пугливо оглянулась на поднавес у амбара и клети, где росла да росла груда мерзлых кож и гора грязно-серой и черной шерсти. — Услышит, он тебе задаст!
— Ничего он мне не задаст! Не те времена. Самому-то не больно поглянулось, когда его палками под венец загоняли.
Забыв про обед, не простясь с родителями, Нестор прошел во внутренние дворы — базы, отгороженные один от другого плотными плетнями. В крытых базках сразу за баней гомонила птица. Особенно надрывались, кричали гуси и утки, тосковавшие по раздолью озера Баклуши, куда их не пускали с тех пор, как мороз сковал его водное зеркало, соединив и забереги речушки, меж которых, шевеля, точно щука темной хребтиной, долго двигалась в овраге тугая струя беренксайских родников. Так и рвались к прорубям, горластые, не боясь унырнуть под лед. Рядом за плетешком хрюкали свиньи, дальше густым паром исходили коровьи и воловьи базы.
Сквозь устоявшийся кисловато-теплый запах навоза пробивался тонкий, но сильный аромат лугового сена, наваленного на крышах базов, напомнивший Нестору о веселом раздолье летнего сенокоса. Но это мимолетное воспоминание лишь усилило горечь обиды, вызванной грубым прикосновением близких людей к впервые возникшей мечте о счастье, еще не совсем осознанной, но уже дорогой, — и оттого сжалось сердце, защипало, заело глаза. Однако Нестор только крякнул, словно ударил клинком по лозе, и рванул ворота конского база, где стоял его Белоног.
Привязанный к яслям конь по шагам сразу узнал хозяина и, оборачивая, насколько можно, голову, потянулся к нему, приседая на пружинистых точеных ногах, колыша длинным, пышо расчесанным хвостом.
Закинув поводья, Нестор обнял его крутую шею, прижался к ней лицом и сказал, жалуясь и осуждая: — До каких пор так будет? Столько добра нажили, а для души нет ничего — одна жадность неукротимая.
В Оренбурге во всех церквах благовестили к вечерне. Однообразный звон одиноких колоколов плыл над затейливыми особняками богачей, добротно сложенными казенными зданиями и уютными домиками мещан, щедро украшенными кружевом деревянной резьбы. Звонили и в Форштадте с его по-военному строгими, прямыми кварталами, и на убогих рабочих окраинах.
После закрытых на болты оконных ставен в дремотных предместьях весь центр города показался Нестору сплошным сияющим торжищем. Ярко струили желтый свет на утоптанные, заснеженные улицы витрины бесчисленных магазинов и лавок. Скрипел снег под ногами прохожих и полозьями саней. Расфуфыренные барышни выходили с пакетами из зеркальных дверей, кокетливые, в пышных горжетах и отороченных мехом ботиках, выглядывавших из-под длинных платьев, семенили к своим выездам. Заманчиво светились огромные окна «электротеатров» и кафе, где чинно сидела за столиками «чистая публика», и тронутые морозными узорами стекла ресторана, откуда цыганский хор вдруг выбросил бесшабашно-разгульный напев, прозвучавший как вызов мерному церковному благовесту. Рвали струны гитар бешеные пальцы гитаристов, мелким бесом рассыпался, звенел бубен, сливаясь с гомоном хора, подхватившего песню.
Старушки, ковылявшие к вечерне в Петропавловскую церковь, суетливо взметывая руками из-под шалей, открещивались:
— Свят! Свят! Да воскреснет бог!
— Во время великого поста и то дерут горло, проклятые!
— Не туда крестишься, мамаша! — озоруя, крикнул выскочивший налегке бледноликий подросток в кожаном фартуке, перебегая улицу с целой связкой воблы и пивным жбаном. — Там заведение господина Трошина.
— Ах, паскудный мальчишка! Уши оторву… — грозил еле стоявший на ногах захудалый обыватель, похоже, чиновник, уволенный от должности. — Уши паршивцу желторотому…
— Ладно уж… Проходи, проходи, господин хороший, — говорил солидный дворник, отводя пьянчужку от своих ворот: не ровен час, забьется в хозяйский двор, а мороз… потом греха с полицией не оберешься. — Уши огольцу пусть мастер да подмастерье правят, коли отец с матерью до ума его не довели.
«Кто во что горазд!» — подумал Нестор.
Разминулся с казачьим дозором, рысившим на резвых лошадях, и тоже посмотрел на окна трошинского «заведения». Вход к женщинам не с главной, Николаевской, улицы, а с соседней, где всю ночь над крыльцом горит красный фонарь.
Нестор был здесь однажды в компании подвыпивших офицеров. Запомнились узкие и высокие комнаты с причудливыми рамами окон, странно сочетавшихся с иллюзорностью жизни, скоротечно, лихорадочно и дико протекавшей в них. Жалкими показались Нестору ярко накрашенные юные женщины, быстро переходившие в разряд грязных шлюх, которыми кишели по ночам закоулки и подворотни Оренбурга. А сейчас впервые пришло в голову, что вроде бы не место этому борделю на главной улице, недалеко от церкви и губернского суда. Но через один квартал четырехэтажный шантан «Декаданс», а напротив — громада Кафедрального собора.
«Хитро попы говорят: не согрешишь — не покаешься».
Сдав лошадь дневальному по конюшне, Нестор в состоянии беспокойной отрешенности от привычной обстановки, нехотя направился в казарму. Тоска по черноглазой незнакомке, о которой он знал только одно, что ее зовут Фрося, обуяла его с новой силой. Образ ее следовал за ним неотступно, и, то стараясь стряхнуть это наваждение, то целиком отдаваясь его очарованию, он твердил, звал про себя:
«Фрося! Фросенька!»
Если бы не предстоящее дежурство, махнул бы через забор. Но куда? Где искать молоденькую девушку в огромном ночном городе? Не на условленное свидание бежать!.. Может, она спит уже, разметав по подушке тяжелую косу, — рано ложатся в рабочих пригородах: заводские гудки поднимают до рассвета. Фрося! Кем ей приходятся те парни, с которыми она ушла из Форштадта? Обаянием чистой юности веяло на Нестора при воспоминании о нежном румянце и черном блеске глаз в опушенных белым инеем ресницах. То сердито смотрела, то затаенно-ласково.
«Найду. Возьму ее за себя. Пусть батя хоть ремней из меня нарежет — не хочу и думать о Неониле. Засватал… Ведь надо сообразить!»
Когда Нестора раньше срока вызвали на дежурство, он не удивился: теперь все так и должно быть, иначе куда деваться от небывалой тоски-тревоги?
— Срочно в распоряжение начальника гарнизона!
Через несколько минут взвод уже гнал вскачь по улице, спугивая с мостовой редких в это время прохожих, которые шарахались в стороны, оскользаясь на льду, образовавшемся после проезда водовозов.
В штабе начальника Оренбургского гарнизона суматоха, необычная для позднего вечернего часа. Офицеры с бумагами бегают по коридорам рысцой, громыхают сапоги, звенят шпоры, по лестницам — топот обвальный: шашки казачьи и офицерские сабли с затейливыми эфесами то и дело пересчитывают ступени.
— Видно, что-то приключилось, — сказал Нестору торопливым шепотом станичник Изобильной Николай Недорезов, высокий, тонкий, сутуловатый от своей долговязости. — Ей-бо, неспроста тут така заварушка! Может, замиренье на фронте вышло?
Нестор отмахнулся:
— Замиренье? Жди, пожалуй! Везде только и слышишь: «До победного».
Адъютант начальника гарнизона, как ураган, налетел на есаула, прискакавшего со взводом, и мигом — только стук да бряк по коридору — исчезли оба. А минутой спустя есаул, багровея и неестественно выкатывая глаза, — отчего вид у него был совершенно идиотский, — осипшим тенорком командовал:
— Недорезов, Шеломинцев, срочно доставить пакет в архиерейский дом! Лично вручить епископу Мефодию. Головченко, Конобеев — в войсковое правление, Нечеухин, Чигвинцев — к атаману Оренбургской станицы! Аллюр три креста! Ответа не ждать! Сбор здесь, в вестибюле. Коноводом — Травников.
«Видно, и впрямь что-то стряслось, — заинтригованный сумятицей в штабе, подумал Нестор, взметнувшись в седло. — К епископу! Не вздумал же гарнизонный жениться на несовершеннолетней! Это уж моему бате с Одноглазовым пришлось бы тащиться с подарками к отцу Мефодию, раз они Неонилу мне определили: ей только пятнадцать недавно минуло».
В архиерейских палатах тишина. Люстры погашены, лишь блестят дорогие оклады икон, озаренных неугасимыми лампадами, да отсвечивает позолота на лепке потолков и в багетах, струящих переливчатый шелк гардин. На мягкой мебели дремлют тени, выступают узоры паркетов и ковров, да еще запахи напоминают об обыденном обиходе необычного дома: в трапезной яблоками пахнет и тмином, повсюду легкое дыхание ладана, тимьяна — богородской травы, в опочивальне отдает настоем хвои и чуть-чуть розовым маслом.
Все располагает к отдыху, раздумью, молитве.
Но тяжко, тревожно на душе епископа Мефодия. Далеко за пределами оренбургской епархии известен он как ревнитель веры православной, книжник и златоуст, одаренный искрой божьей. Отовсюду приезжают верующие — послушать его пламенные проповеди; устрашенные своей греховностью, падают ниц перед амвоном, а получив отпущение, внеся посильную лепту для храма, отправляются восвояси — копить новые грехи и умножать славу проповедника.
Глядя на богатые киоты, заполнившие весь угол обширной опочивальни, Мефодий возлежал на пуховиках, выпростав поверх пухового же атласного одеяла нестарые, еще цепкие руки, рассеянно поглаживал перстень с большим аметистом, переливавшимся лилово-красными огоньками в отсветах лампад, пылавших перед образами. Сей камень в древности считался священным талисманом, чудесно исцелявшим от пьянства, и не раз проверил его действие епископ, сам суеверный в душе, — словно печать, прикладывая перстень при благословении, когда брал зароки от алкоголиков.
Алексий, служка архиерейского дома, преданный Мефодию, как собака, и уже изрядно потучневший на богатых хлебах, притулясь на скамеечке у затененной лампы, читал епископу…
Нет, не Святое писание читал он, а последние петроградские газеты и журналы, заполненные корреспонденциями с фронтов, известиями о различных беспорядках. Епископ слушал и хмурился, нервно теребил холеную бороду, веером лежавшую на груди.
Не только церковником считал он себя, а и государственным деятелем, особенно когда сочинял свои проповеди. И уже присматривался к нему издали зорким глазом московский митрополит Тихон, горячий сторонник реформ Столыпина и ярый черносотенец, один из организаторов «Союза русского народа».
По сродству душ отвечал ему симпатией Мефодий, который тоже понимал, что зажиточные крестьяне-хуторяне станут прочной опорой для царской династии. Признавал он и необходимость погромов… Недаром сам царь Николай был почетным председателем «Союза русского народа» и наравне с Пуришкевичем [3]платил туда членские взносы.
Опять надвигались на страну смутные времена…
«Триста лет царствовал дом Романовых. Гордо шел по волнам истории корабль Российской державы. А сейчас? Все не то. Война несчастливая, затяжная. Голодные бунты. Смута гнездится повсюду: на заводах, среди крестьянства и — страшно подумать — в войсках. Не стало трепета и покорности. Трещат даже вековечные устои церкви православной. Откуда сие? — с горестью размышлял Мефодий. — Какие плевелы злые посеяны в народе? И кем? Военными ли поражениями и разрухой? Непотребством ли тех, кто позорит царскую семью? Каждое ничтожество, каждый раб последний скалит зубы в скверной ухмылке. И нет твердой, властной руки, нет силы, противоборствующей кощунству».
Что это там Алексий вычитывает еще? О доходах монастырских и землях церковных?.. Вот оно, наглое посягательство! Сколько годовых получает архиерей? Ну, допустим, триста тысяч рублей. Много? Но ведь и забота у него — мировая печаль. Взять хотя бы епархию оренбургскую — пятнадцать монастырей, семьсот двадцать пять храмов. Обо всех нужно попечение иметь.
— Кто же осмелился… Кто назвал церковь святую самым крупным помещиком?
— Социалисты, отец Мефодий! Большевики, — сказал Алексий, нежно упирая на «о»; приподняв голое, как у евнуха, лицо со спадавшими из-под лиловой скуфейки русыми, реденькими, но длинными кудряшатами, с благоговением посмотрел на епископа.
— Вот кого надо уничтожить! — заерзав на перине, как на дерюге, усеянной колючками, выкрикнул Мефодий. — Чтобы помину от них, злопыхателей, не осталось! Это они подстрекают крестьян жечь и грабить помещиков, значит, монастыри и храмы божии тоже начнут жечь! — Он хотел еще что-то присовокупить, но вдруг замер: послышались необычные в это время торопливые шаги по дому, а потом легкий стук в дверь.
— Во имя отца и сына и святаго духа…
У порога — согнутая в поклоне фигура управителя архиерейского дома, и отлегло у Мефодия от сердца, только смотрел еще тревожно, вопрошающе:
— Вас… к вам казаки нарочные от начальника гарнизона.
Оплывшие под бородой щеки епископа мелко задрожали от волнения, в глазах опять метнулся страх: ночной гонец — черный вестник несчастья.
— Пакет у них… велено в руки лично.
— Проси… Нет, подожди, непотребно… Сам выйду. Алексий, одеться!
В широко распахнутые двери, ведомый под руки (оно и не мешало: так теснило в груди, что от удушья подкашивались ноги), он вышел важно, в черной камилавке и строгой домашней рясе с золотым крестом на груди. Едва приблизясь, благословил, осеняя крестным знамением низко склоненные молодые стриженые головы с казачьими чубами над левым виском.
Казаки приложились к холеной руке, ощутив холодок фиолетового камня в массивном перстне. Хорунжий, стройный и плечистый, с ликом архангельской красоты, близко взглянул светлыми, как слеза, строгими глазами. Но пакет подал почтительно:
— Ответа ждать не приказано.
Забоявшись вскрыть послание сразу, епископ помедлил в нерешительности и, любуясь Нестором, повторил про себя машинально, а потом и с восторгом чьи-то чужие слова: «Вот они, казаки, самые верные сыны России. Соколы вольные и смелые».
Вслух спросил на сибирский лад:
— Чьих ты будешь-то?
— Сын есаула Григория Шеломинцева из станицы Изобильной, ваше преосвященство. При крещении наречен Нестором.
— Ну добро, дети мои. Благодарствую. Идите с богом.
С неожиданной завистью к молодым отец Мефодий посмотрел, как уходили казаки с папахами в руках, поддерживая шашки, пошевеливая слегка разведенными сзади полами кавалерийских полушубков, туго опоясанных ремнями. Широкоплечий, но узкий в поясе хорунжий Шеломинцев и со спины выглядел необыкновенно складным. Вздохнув без облегчения, Мефодий взвесил тощий конверт на ладони, взглянул через него на свет, оторвал полоску по краю, и сразу будто ударило по глазам, а пол так перекосился под ногами, словно покачнулась сама твердь земная. Испуганные служка и управитель дома тотчас же подперли епископа с обеих сторон, но он, устыдясь проявленной слабости, уже совладав с собой, посмотрел отчужденным взглядом и не сказал — уронил слова, как пудовые гири:
— В Петрограде революция… Государь отрекся от престола…
«Они носятся с идеей Учредительного собрания, а мы решим по-своему, по-ленински», — думал Александр Коростелев, шагая по улице, подбеленной свежевыпавшим снегом, и с веселой насмешкой поглядывая на шпиков, шнырявших среди горожан, толпившихся у ярко освещенных витрин магазинов и возле афишных тумб.
«Подслушивайте, записывайте, а кому фискалить будете? Скоро весь город, да что там — весь мир зашумит об одном: в России революция. Сбросим царя, значит, и охранку его, извечного врага народа — жандармерию, — тоже побоку».
Коростелев шел в магазин общества потребителей, издавна использовавшийся для сборищ оренбургской социал-демократии. Под видом заседаний по поводу кооперативных дел там обсуждались вопросы партийной организации. Председателем «потребиловки» был брат Коростелева Георгий.
Мысль о том, что скоро жизнь пойдет по-новому, звучала в душе Александра как музыка, и оттого праздничными казались ему улицы Оренбурга, радовал предвесенний ветер, дышавший простором степей, и звезды, светло горевшие над редкими уличными фонарями. Александр любил музыку. В детстве, которое он провел в Самаре, у него был редкостной силы и красоты голос, и он, мечтая стать певцом, пел в соборном хоре. С замиранием сердца, с горькой мальчишеской завистью крутился он иногда у подъезда театра во время спектаклей или концертов приезжавших на гастроли знаменитостей. Закутанные в душистые меха примадонны и артисты в черных фраках и белоснежных воротничках казались ему людьми совсем из другого, прекрасного мира, и он, гордый, даже заносчивый в своем мальчишеском стоицизме перед невзгодами жизни, со всех ног бросался, если им требовалась какая-нибудь услуга.
Однажды известный в городе скрипач, которому он купил сигары, тронутый лихорадочным волнением мальчика, дал ему полтинник на билет. Саша не устоял перед искушением и, вместо того чтобы отнести деньги матери, купил билет на галерку. Он сразу высмотрел «своего скрипача» среди черно-белой массы оркестрантов, но потом они как бы исчезли, и Саша Коростелев остался один на один с музыкой. Это была Девятая симфония Бетховена, буквально потрясшая мальчугана.
Рассказывая о ней матери, он вдруг заплакал:
— Там тоже хор, но это совсем не то, что в церкви, мама. Я даже забыл, где нахожусь…
Мать погладила его по голове жесткой от работы рукой и вздохнула:
— Нарядная, красивая жизнь в театрах, только не для рабочих людей она, сынок.
— Теперь, если мы не оплошаем, все будет для рабочих. И театры тоже, — сказал Александр вслух, прислушиваясь к возникшему в памяти звучанию музыки Бетховена: музыкальный слух у него был исключительный, а голос пропал после жестокой простуды в детстве.
Очередное заседание правления прервала телеграмма из Петрограда от Кобозева, сообщавшего о победе Февральской революции. Социал-демократы были подготовлены к необходимости назревшего переворота, но известие о нем вызвало настоящий взрыв радости.
Глядя на брата Георгия, Александр взволнованно сказал:
— Нам надо немедленно обсудить вопрос о выборах в Совет. Теперь все зависит от нашей решимости.
— Само собой, — подхватил слесарь Андрей Левашов, которого рабочие любовно звали Андрианом. — То, что царя опрокинули, еще полдела. Если власть перейдет к буржуазии… народу легче не будет. Не зря оренбургское начальство утаило от нас вести о перевороте. Оно-то, поди-ка, сразу поинтересовалось, что обозначали пробелы в последних центральных газетах. Почему были перебои с телеграфной связью?
— Это мы выясним и строго спросим с тех, кто утаивал от нас правду. — Александр помолчал, крепко сжав твердые губы, на сухощавом лице его с небольшими рыжеватыми усами резче обозначились покрасневшие скулы. — Сейчас я иду в редакцию. Завтра появятся в газетах сообщения о свержении царизма. Начнутся, конечно, митинги: и в гарнизоне, и на предприятиях, и на городских площадях. Мы по примеру наших товарищей в Петрограде должны создать комитет по выборам в Совет рабочих депутатов и установить в Оренбуржье Советскую власть. Соберемся сегодня небольшой группой в помещении редакции «Оренбургского слова» и составим текст обращения к народу.
— Надобно в нем разъяснить, что соглашатели вместе с буржуями хотят сделать парламент вроде Государственной думы, — сказал слесарь Константин Котов.
«Пошлем Константина в казармы на митинг гарнизона. На него можно положиться — любое задание выполнит, — решил Коростелев, хорошо знавший Котова, который пришел в главные мастерские после демобилизации и сразу принял горячее участие в партийной работе. — С людьми поговорить умеет, особенно развернулся с тех пор, как стал посещать наши общеобразовательные курсы».
Курсы эти были организованы в 1915 году Кобозевым и, как коростелевская «потребиловка», связывали большевиков с трудовым людом Оренбурга, являясь фактически школой рабочих агитаторов.
— Но когда Совет начнет работать, ему понадобится свой печатный орган, — напомнила Мария Стрельникова, работница консервной фабрики.
— Насчет выпуска новой газеты мы с Петром Алексеевичем уже загадывали, — ответил Александр. — Когда из-за притеснений стало невозможно работать в «Оренбургском слове», мы договорились о замене его новым издательством. Меньшевики и эсеры нас поддержат, да еще как постараются, чтобы закрепить там свои позиции! Борьба с этими попутчиками нам предстоит жестокая. Надо почаще напоминать народу о той предательской роли, которую они сыграли в Петербургском Совете в девятьсот пятом году. Это по их вине Петербург безмолвствовал, когда Москва сражалась на баррикадах.
Жандармы знали, что в газете «Оренбургское слово» вместе со всеми демократами сотрудничают большевики, и держали ее под постоянным надзором. Десятки филеров охранки дежурили на улице, обшаривая взглядами каждого, кто подходил к дому. К выходящим из дверей «подозрительным лицам» сразу приставали «хвосты».
— Вел за собой шпика до самого порога. Как прилип возле депо, так и тащился след в след. До чего же грубо, бездарно они работают! Ну, хотя бы для блезиру, как говорится, соблюдал дистанцию! — сказал Семен Кичигин и, потеснив сотрудников, толпившихся у стола, достал из карманов почту, полученную через проводника скорого поезда Москва — Ташкент.
— Ничего, дорогой наш друг, вам не привыкать! А жандармы действительно уже одурели от усердия, раскидывая свои тенета, — шутливо-утешающе отозвался редактор, принимая корреспонденцию из рук в руки и торопливо, даже с жадностью просматривая обратные адреса. — Ну-ка что там делается? У нас в Оренбурге идет какая-то скрытая закулисная возня. Тревога носится в воздухе, а связь с центром нарушена. Уж не новый ли прорыв на фронте?
— Возможно, но дипломатическая попытка умолчать об очередном поражении была бы просто нелепой, — возразил Кичигин и оглянулся на вошедшего Александра Коростелева, запыхавшегося то ли от волнения, то ли от быстрой ходьбы. — Что случилось?
Коростелев, расцветая светлозубой неудержимой улыбкой, обвел сияющим взглядом всех работников редакции:
— Только что на заседании правления кооператива мы получили телеграмму от Петра Алексеевича… Трудно поверить, но ведь сообщает Кобозев! В нашей стране произошла революция, Николай Романов свергнут с престола.
Несколько мгновений в комнате стояла тишина. Потом все сразу заговорили наперебой, засмеялись, бросились целовать друг друга и качать Коростелева. Подхватив оброненные им телеграммы, Кичигин начал читать их вслух.
Петр Алексеевич писал, что после захвата Государственной думы в Петрограде создан Совет рабочих и солдатских депутатов, а на улицах столицы и в Москве еще идут бои между рабочими и юнкерами.
«Как в девятьсот пятом году», — подумал Александр и вдруг совсем близко увидел одного из лидеров оренбургских меньшевиков, вытиравшего глаза и губы белоснежным платком с видом восторженного умиления.
— Тоже до слез растрогались, — заметил Александр, а сообразив, что тот тянется и к нему с поцелуем, поморщился, даже в такие радостные минуты памятуя, что с меньшевиками надо держать ухо востро.
Но уклониться не удалось, и Александр был заключен в рыхлые теплые объятия «лидера».
Истово расцеловав его, тот сказал с привычным ораторским пафосом:
— Дожили до светлого дня! Не зря боролись, не щадя живота своего!
Возражать не приходилось: действительно дожили, и насчет борьбы тоже сказано уместно, но Коростелев прекрасно понимал, что меньшевикам, как и эсерам, будет не по душе рабочая власть.
И, не испытывая противную сторону (что было совсем не в его характере), а наступая, Александр Коростелев сказал:
— Нам надо экстренно созвать здесь, в помещении редакции, группу социал-демократов, чтобы разработать план совместных действий.
— А именно? — Матерый соглашатель мгновенно остыл и уже не с восторженной, а с брюзгливо-усталой миной тяжело опустился в кресло, притерся к его спинке плечами. — Что вы имеете в виду?
— Нужно немедленно обсудить вопрос о выборах в Советы по заводам и предприятиям.
— К чему такая поспешность? Вопрос серьезный и требует предварительного широкого обсуждения в печати.
Александр снова как будто ощутил объятия этого «милого» друга и крепко провел по лицу ладонью, словно хотел стереть следы его поцелуев.
«Вот как вы запели, когда возникла необходимость решать на практике насущные проблемы революции!» — подумал он, а вслух сказал:
— Вопрос действительно серьезный, но он давно проверен практикой революционной борьбы. Самотек и двойственность в политике во время переворота недопустимы… Судите сами: царя уже нет, а монархисты стреляют в рабочих. Чего же прикажете ждать?
— Созыва Учредительного собрания, — категорически заявил меньшевик, — только оно может определить форму народовластия.
Сообщения в газетах о свержении российского самодержавия произвели на горожан поистине ошеломляющее впечатление. Давно уже в народе ходили разные слухи о царской семье. Насчет Распутина и его отношений с царицей судили и рядили все, кому не лень. Но каково было собственными глазами увидеть напечатанное черным по белому: «Государь отрекся от престола!»
Городской митинг возник почти стихийно. Огромные толпы людей спешили по улицам туда, где под открытым небом была наспех сооружена трибуна. Шли солдаты гарнизона, нестройно, грозными колоннами двигались с окраин рабочие, а потом хлынули пестро одетые обыватели, интеллигенция, гимназисты. Все были охвачены одним восторженным порывом:
— Ура! Да здравствует революция!
Трибуна превратилась в островок среди шумного людского моря.
Ораторов объявилось много. Александр Коростелев стоял среди железнодорожников, ревниво следя за выступающими, которые высказывались сразу по два и даже по три человека.
Люди, стоявшие позади, все равно ничего не слышали, но лица их светились радостью.
Только казаки, прискакавшие для «поддержания порядка», но не получившие приказания разгонять демонстрантов, с молчаливым недоумением посматривали вокруг.
Все смешалось: речи большевиков, меньшевиков, эсеров, кадетов. И вовсе беспартийные, никому не ведомые говоруны лезли наверх, с охотой подсаживаемые близстоящими.
— Форменная стихия: кто во что горазд! — сказал Александр брату Георгию, косо посматривая на каких-то интеллигентов и нахальных купчиков, которые тоже кричали свои приветствия революции, источали слезы умиления и целовались, будто в Христов день. Георгий усмехнулся презрительно, но благодушно.
— Распинаются за свободу для своей касты.
Он был в отличном настроении. Даже разгром булочной, устроенный утром его подшефными из Нахаловки и с мельницы Зарывнова, не омрачил ему праздника.
— Это уже прошлое, когда люди должны у хлеба умирать с голоду! — сказал он Александру. — Ведь не ювелирную лавку разграбили, не банковскую контору, а ради куска насущного для детей разбили витрины. Конечно, и давнее ожесточение прорвалось.
Он был не такой высокий, как Александр, зато плотнее, пошире лицом, и лишь с первого взгляда разительно напоминал брата тем особым родственным сходством, когда на самом деле нет почти ни одной схожей черты.
— Пускай выговорятся. Сейчас на каждый роток не накинешь платок: у всех накипело, — сказал Андриан Левашов. — А у буржуазии сразу возникла смычка с эсерами и меньшевиками. Вроде медовый месяц начался — от поцелуйчиков аж губы вспухли. Поглядим, что они запоют, когда мы предложим начать выборы в Совет.
Александр уже стоял на краю трибуны, стиснув в руке шапку, смотрел на обращенную к нему тысячеглазую притихшую толпу.
Ветер, еще по-зимнему холодный, но уже дышавший свежестью первых проталин, шевелил его коротко подстриженные волосы, холодил лицо, пылающее страстной решимостью. Рабочие Оренбурга хорошо знали и любили его, известен он был и солдатам гарнизона, а остальных просто заставила насторожиться необычная наружность этого волевого, смелого человека.
— Товарищи, граждане! — громко сказал он, почти не слыша своих слов, так гулко билось его сердце. — Приветствуя революцию, мы сразу должны подумать о практических задачах, которые она поставила перед нами. Страна находится в очень трудном положении. На нас надвинулись разруха, голод. Мы безнадежно увязли в кровавой войне. Требуют своего немедленного разрешения вопросы о мире с Германией, о передаче земли крестьянам. Все эти задачи, жизненно важные для миллионов людей, легли теперь на наши плечи, и мы обязаны создать власть, которая сможет разрешить их по-настоящему раз и навсегда. Такой властью являются Советы рабочих и солдатских депутатов, созданные самим народом во время революции девятьсот пятого года. Мы, большевики, уже поместили в газетах обращение о выборах и призываем вас немедленно выдвигать своих депутатов. Да здравствуют Советы!
Последние слова Коростелева утонули в обвальном шуме аплодисментов, гвалте и свисте.
— Где же тут свобода и равенство? — зычно заорал протодьяконским басом буржуа в добротном пальто и бобровой шапке. — Господа, посудите сами: Советы рабочих и солдатских депутатов… А кто же в них будет представлять остальных россиян, которые не служат в армии и не работают на заводах? Говорите, власть теперь должна быть народная? А даже насчет крестьян умалчиваете! Нет уж, граждане большевики, лучше нашу думу сохранить, пока Временное правительство решит, как быть дальше.
Это выступление тоже было заглушено криками, и гневными и одобрительными.
Переждав, пока люди чуть угомонились, Коростелев сказал:
— Будут обязательно в Совете и крестьянские депутаты. А вашей думе не бывать, потому что в нее трудящимся никакого доступа нет. Товарищи, сегодня вечером митинг в земской управе, а завтра в главных мастерских, где мы создадим комитет по выборам и начнем избирать депутатов. Следуя примеру Петрограда, по всей России — в городах и в селах — народ устанавливает Советскую власть.
— А мы не народ разве? — крикнул толстяк.
— Вы — гласные городской думы, те, которые стояли над народом. Плохо вы «думали», раз довели страну до разрухи и голода.
Со слесарем Андрианом Левашовым — бригадиром сборочного цеха, настоящее имя которого было Андрей Ефимович, — Александр подружился сразу, когда поступил токарем в главные мастерские. Оба они были рабочими высокой квалификации, оба состояли в одной партийной подпольной группе.
Андриан во время японской войны находился в действующей армии, вернулся в звании фельдфебеля, но остался для железнодорожников своим человеком. Ребятишки вроде Пашки Наследова и Гераськи Туранина особенно почитали его как бывшего военного: подкараулят по дороге домой и, поспевая вприпрыжку за мощным пышноусым ремонтником, расспрашивают о пушках, об атаках, о гибели крейсера «Варяг» и «хитрых япошках».
— После митинга пойдем к вам в Нахаловку, — предложил ему Александр, придя на другой день в главные мастерские. — Надо собраться активу у кого-нибудь из наших и обсудить вопросы, требующие немедленного решения.
— Соберемся у Туранина, у него землянка большая.
— Отлично.
Федора Туранина, молотобойца кузнечного цеха Коростелев особенно запомнил во время протеста против попыток жандармов закрыть газету «Правда», которая существовала благодаря денежной поддержке рабочих.
«Тяжелыми трудами и жертвами создали мы свою газету. Поддерживать ее сборами, коллективной подпиской — наша прямая обязанность… Только при этом условии бешеные атаки реакции будут бессильны задушить пролетарскую газету», — так написали оренбуржцы в своем письме, отправленном в «Правду» в 1914 году.
Письмо с приложением денег в контору газеты «Путь правды» было изъято петербургской охранкой, и из департамента полиции полетела в Оренбург депеша с приказанием «принять меры к выяснению через агентуру лиц, участвовавших в сборе денег». После этого у братьев Коростелевых сделали обыски, но доказательств для «дела» не обнаружили. Зато у Федора Туранина нашли несколько листовок со словами текста, напечатанного в «Правде»:
«Мы, оренбургские рабочие, были тоже виновниками появления на свет божий газеты „Правда“. И когда наше родное детище взывает к нам: „Батько, слышишь ли?“ — тут мы не можем молчать. Мы должны громко крикнуть: „Слышим, детко“».
Федора забрали. Сам начальник губернского жандармского управления взялся допрашивать его, чтобы выяснить, кто еще участвовал в сборе денег, но Федор молчал, а когда его стукнули раз-другой, неожиданно улыбнулся:
— Без своей газеты нам никак нельзя. Кто же нам укажет правильный путь борьбы за справедливость?
Расходившийся начальник затопал ногами и «самолично» ударил Туранина подсвечником, да так ловко угодил, что чуть не отправил на тот свет. Залитого кровью Федора вынесли из кабинета. Зато перестаравшийся жандарм, побоявшись скандала с нахаловцами, поспешил замять дело и отпустил молотобойца домой.
— Дай срок, тяпну и я его как-нибудь, — пообещал Федор в своем кругу. — У меня он не подымется.
Народу в паровозосборочный цех набежало столько, что митинг пришлось проводить под открытым небом на территории мастерских, перекрещенной рельсовыми путями и обнесенной высоким плотным забором. Чтобы дать возможность высказаться ораторам, общими усилиями подкатили вагонную платформу.
Попросив слово, Александр Коростелев, только что получивший от Кобозева новые сообщения, сказал:
— В Петрограде уже идет сговор между временным комитетом, организованным в первый день революции при Госдуме, и соглашательскими лидерами из Петроградского Совета. Они создали совет министров из представителей крупной буржуазии и помещиков. По иностранным делам Милюков (кадет, как известно), военный и морской министр — Гучков, а министром юстиции — Керенский… Знакомые все имена! Председателем совета министров назначен с царского благословения князь Львов — он же министр внутренних дел. Царь Николай утвердил это своей подписью второго марта, когда подписал и отречение от трона в пользу брата Михаила…
Слитный, мощный гомон голосов, злые выкрики, свист словно взорвали толпу, тесно обступившую трибуну-платформу.
— Чтобы сохранить завоевания революции, нам надо создать крепкую народную власть, — продолжал Александр Коростелев, когда улеглась буря негодования. — Прежде всего давайте организуем комитет для выборов в Совет депутатов…
И хотя меньшевиков и эсеров набралось на митинге предостаточно, они не выступали против создания Совета, опасаясь разоблачить себя перед рабочими. Когда стали выдвигать людей в комитет по выборам, формовщик Илья Заварухин назвал первым Александра Коростелева.
— Мы скинули грязную шубу, а ее вывернули наизнанку и нам же обратно суют: предлагают в цари то Михаила, то Константина, — говорили рабочие. — Нет уж, теперь мы сами лучше рассудим, чего нам надобно.
Александр стоял на трибуне вместе с другими активистами. Сверху был виден как на ладони городской вокзал за пустырем. По другую сторону рельсовых путей возвышалось большое депо. Митинг у рабочих-деповцев прошел утром хорошо. А у других? Александр с тревогой посмотрел на кирпичные заводы, красневшие справа за пустырем, на штабеля бревен и досок у дороги, идущей к Сакмаре, где находился «Орлес». Пока шла война, всех недовольных рабочих немедля отправляли на фронт, а вместо них приходили на заводы, чтобы избежать мобилизации, сынки кулаков и городской буржуазии, засорявшие пролетарскую среду, А тут еще меньшевики и эсеры!
— Пойдемте к Туранину, — сказал Левашов Александру после митинга, — я его предупредил.
Подбежал Лешка Хлуденев, белобрысый, по-стариковски сутулый слесаренок, с целой пачкой газет:
— Вот первый номер «Зари», которая будет выходить вместо «Оренбургского слова». Написано: «Орган Совета рабочих депутатов», а выборы-то мы еще не везде провели.
— Проведем, не беспокойся. — Александр взял газеты и стал раздавать товарищам.
Он был рад тому, как быстро наладился выпуск газеты, хотя сразу определилось, что меньшевики и эсеры, которые имели в партийной организации Оренбурга подавляющее большинство, получат численный перевес в Советах.
«У них ораторов много и весь актив — интеллигенты, владеющие пером. Забьют они нас, пожалуй, и на страницах газеты», — подумал Александр.
Семен Кичигин, опоздавший на митинг, сказал с раздражением:
— Буржуазия не дремлет: уже образовала сегодня губернский гражданский комитет общественной безопасности. В него вошли представители городской думы, наши «друзья» социал-демократы, крупные капиталисты и купцы. Этот гражданский комитет учредил милицию, куда зачислена вся прежняя полиция. Каково?
— Пошли в Нахаловку, там поговорим. — Александр подхватил Семена под локоть. — В Петрограде тоже установилось что-то неслыханное: с одной стороны — Советы, с другой — органы буржуазного Временного правительства.
— Какого еще Временного правительства?
— Самого контрреволюционного. Да, да! Ты послушал бы, что у нас творилось на митинге, — народ за Советы, а буржуазии царя подавай. Кобозев передал по прямому проводу, что выступления Милюкова и Гучкова за «императора Михаила» вызвали настоящий взрыв возмущения среди петроградских рабочих и солдат.
— Наши-то сегодня тоже взорвались, — напомнил Левашов.
— Не потерпит народ возврата к монархии, — сказал Георгий Коростелев, по-новому приглядываясь к рабочему поселку, к которому они приближались. — Да и мы не допустим этого.
Улицы Нахаловки раскинулись между длинным забором главных мастерских и подножием Маячной горы, за которой протекает красавица Сакмара. Там, на берегу Сакмары, дачи богатеев, Богодуховский монастырь и склады «Орлеса». Выше, километрах в семи, — станица Берды, бывшая столица Пугачева.
Неказисто, на взгляд приезжего человека, выглядит Нахаловка — засыпные домишки из вагонной шалевки да землянки, построенные как попало в голой степи. Тут и днем-то не весело, а ночью в черный, вязкий мрак городского предместья, где ни единого фонаря, даже жандармы не суются в одиночку. Во время арестов полиция и казаки действуют здесь скопом, выворачивая обысками наизнанку рабочие жилища. Но прямо из-под носа ищеек скрытыми тропками-лазейками уходят «бунтовщики». Поэтому железнодорожники дорожат своим поселком, в котором живет немало и орлесовцев. Тут все за одного, один за всех.
Гордятся нахаловцы и громогласным гудком паровозоремонтных мастерских. Трижды в сутки — ранним утром, в обед и вечером, когда кончается десятичасовая смена, — тревожит он город, поймы Урала и Сакмары и окрестные степи. По всей округе отмечают время по этим гудкам.
— Здорово мы тут обосновались! — весело сказал Левашов. — Кое-кому не глянется, властям особенно, а нам любо. Для хозяев и полиции Нахаловка сроду была бельмом на глазу. В девятьсот девятом году хотели ее стереть с лица земли. Приехали пожарные команды, чтобы сжечь наши «дворцы». Казаки прискакали, полиция собралась для острастки. А тут как взревел заводской гудок, как посыпали из цехов рабочие… Тысяч до трех сбежалось спасать Нахаловку. Ну и отступили фараоны и лампасники.
— Отступили потому, что помнили еще девятьсот пятый год, — сказал Александр Коростелев. — Лет полсотни назад всех бы перепороли и землянки завалили. Пороли ведь тогда казаков, которые не хотели переселяться на новую укрепленную линию в степях по Илеку. А вас не тронули, чтобы не вызвать нового восстания.
— Зато бандитами обозвали, хотя мы не на ихнее позарились, а вольность свою под собственной крышей защитили.
Входя в землянку Туранина, Александр Коростелев подумал, что в самом деле единственной отрадой такого жилья было то, что оно являлось убежищем от шпиков: кругом свои, верные люди.
Собрались, как и прежде, при плотно занавешенных окнах. Оглядывая знакомые оживленные лица, Александр вспомнил занятия на курсах, где предметы по общему образованию сочетались с острыми политическими темами. Его всегда радовало стремление передовых рабочих к знаниям, их уважительно-любовное отношение к книге и задушевному слову агитатора.
Однажды жандармы, частенько наведывавшиеся к курсантам, явились на беседу Александра Коростелева «Кому выгодна война?».
Заслышав стук их сапог в коридоре, Коростелев стал превозносить энергию и деловую хватку российских промышленников и богатых купцов, попутно сообщив о баснословных прибылях, которые они получали.
Жандармы зорко осмотрели аудиторию, где сидело больше сотни железнодорожников, но когда уставились на лектора, то лица их поскучнели: блюстителей порядка взбадривали только крамольные речи.
Глянув на форменные фуражки, проплывшие за окнами, Коростелев снова обратился к слушателям:
— Представляете, что творится?! Страна совершенно обескровлена и разорена, а война приносит громадные доходы. Кому? Конечно, не солдатам — защитникам отечества. Война — нажива для богачей. А что остается народу?!
— Бунтовать! — откликнулось разом несколько голосов.
— Кажется, все в сборе, — сказал Федор Туранин Левашову и, поймав его взгляд на Ефима Наследова, сидевшего у стола, шепнул, прикрывшись широким ковшом ладони: — Напрасно ты сомневаешься. Он хоть и прислоняется к эсеришкам, но не выдаст. Его не отваживать, а, напротив, приблизить надо, чтобы мозги у него прояснились.
Александр Коростелев, тепло поздоровавшись с хозяйками, хлопотавшими возле русской печки в окружении своих ребятишек, тоже подсел к столу.
— Значит, три дня рабочие и солдаты вели уличные бои в Петрограде, а за их спиной шли сговоры деятелей Совета с буржуазией, — говорил Кичигин, взволнованный новостью, услышанной от Коростелева. — Не успела революция победить, а эсеры и меньшевики ее уже опять предали и продали.
Ефим Наследов слушал молча. Имея свое «особое мнение по политическим вопросам», он редко встревал в споры потому, что избегал столкновений с Федором. Вообще ему казалось: незачем ломать копья партийным руководителям социал-демократов. Все они за революцию, все против тирании, и надо уважать свободу слова, печати, мнения. Зачем подгонять членов партии под одну колодку, как это делают большевики? И однако, рассуждения Кичигина задели Ефима Наследова за живое.
— При чем тут эсеры? — не выдержав, спросил он.
Александр Коростелев удивленно, даже сердито шевельнул бровями, но пояснил сдержанно:
— При том, что они и меньшевики от имени Петроградского Совета заявили: управлять будет Временное правительство, которое состоит из капиталистов.
Ефим стушевался было, нахохлился и тут же спросил с задором:
— А вот… народ намечает выбрать тебя, Александр Алексеич, председателем Оренбургского Совета… Ты как себя поведешь: разгонишь местную думу ай нет?
— Это будут решать депутаты Совета, а не председатель единолично. Одно могу сказать наверняка: фракция большевиков поведет твердую политику против любых попыток установить парламентскую монархию. Поэтому мы сейчас сразу должны наметить ряд мероприятий. — Александр запустил руку в карман пиджака, извлек сложенный восьмушкой листок бумаги. На днях управление Ташкентской железной дороги получило из Петрограда такую телеграмму: «Железнодорожники! Старая власть оказалась бессильной. Комитет Государственной думы, взяв в свои руки оборудование власти, ждет от вас удвоенной энергии». Подписано членом Госдумы Бубновым. Дана из министерства двадцать восьмого февраля, а управление Ташкентской дороги запретило начальникам станции обнародовать эту телеграмму! Потом ее все-таки напечатали под шумок. Дескать, не все разберутся, где Госдума, где Временное правительство. Там были министры, и тут министры. Тем более что сегодня в центральной печати Временное правительство уже изложило свою программу.
— Значит, таили вести о революции, чтобы дать своим время захватить власть!
— Кто же, кроме царя, утвердил князя Львова председателем совета министров?
— Какая программа у Временного правительства?
Георгий Коростелев сказал, приковав к себе общее внимание:
— Временное правительство собирается проводить ту же политику, что и Госдума при Николае. Прежде всего — довести войну до победного конца, второе — выполнять договора с союзными державами. Насчет передачи земли трудовому крестьянству, восьмичасового рабочего дня и других наших требований решение откладывается до созыва Учредительного собрания.
— Выберем Совет, а эсеры и меньшевики будут проводить в нем свою политику, — возмущенно крикнул Илья Заварухин.
— Неверно говоришь: выбирать будем не ради их политики: надо сразу мобилизовать рабочих на борьбу против буржуазии и помещиков. Скоро приедет Ленин из-за границы, и все пойдет по-хорошему. — Александр Коростелев вспомнил последние статьи и письма Ленина и просветленно улыбнулся: теперь никто не помешает ему вернуться домой.
— Задача номер один. — Александр Коростелев слегка склонился над столом, и все подались к нему, загородившись плечами от женщин и ребятишек в тесном кругу. — За злоупотребление властью, за скрытие от народа телеграмм о свержении самодержавия, полученных первого марта, надо отстранить от должности начальника Ташкентской железной дороги, начальника службы движения и старшего механика телеграфа.
Смуглое, строго красивое лицо Семена Кичигина повеселело было, но сразу точно дымкой подернулось:
— Каким же образом это осуществить?
— Сразу после выборов пойдете в депо: ты, Туранин и Георгий Алексеевич. Поднимете вопрос на рабочем собрании. И немедля поставим его на утверждение Совета. — Александр исподлобья прицелился взглядом в опешившего Ефима Наследова. — А вы как думаете?
— Я-то? Да с великой бы охотой убрал их. Но… — Ефим предостерегающе поднял руку. — Больно уж начальство-то того… Большое начальство! Как его опрокинешь?
— Опрокинем — голосом народа и его справедливой властью. Вторая задача не менее важная: арестовать начальника гарнизона и начальника губернского жандармского управления. — Коростелев повернулся к Туранину, обнял его за плечи. — Твой давний приятель, Федор!
Туранин широко, конфузливо улыбнулся, потрогал застарелый шрам на лбу:
— Точно! Давненько мы познакомились с начальником жандармерии. Я бы его не только арестовал, а и приголубил, чтоб он забыл, как на допросах нашему брату кровь пускать!
Александр Коростелев тоже улыбнулся, но, представив сомкнутый воинский строй, построжел.
— Этот вопрос надо ставить на митинге солдат и офицеров. Там запросто можно пулю схватить… Поэтому туда пойду я.
— И я! — заявил Левашов.
— Меня возьмите, — с видом, не допускающим возражения, сказал Константин Котов.
— Я тоже пойду, — вызвался Илья Заварухин. — Димитрия Саликова возьмем с собой. Он, как участник событий пятого года, с солдатами поговорить сумеет.
— Сначала побеседуем в казармах, а потом пусть солдаты сами решат вопрос на митинге и тоже обратятся в Совет, чтобы там рассмотрели их предложение.
«Вот как можно все повернуть! — изумленно подумал Ефим Наследов. — Тут, правда, зевать не приходится: не то буржуазия мигом нас околпачит».
— А кто столкнул царя с трону, Александр Лексеич? — спросил Гераська, вместе с Пашкой сидевший у печки, заметив, что серьезный разговор за столом, похоже, закончился.
— Царя кто столкнул? Да сам упал, как гнилое яблоко с ветки, — отозвался Ефим Наследов.
— Гнилое яблоко — точно, но древо-то царской династии пришлось крепко тряхнуть, чтобы сбросить эту гниль, — поправил Коростелев, которому уже приходилось разговаривать о политике с нахаловскими мальчишками.
Только женщины: тетка Палага — жена Туранина, Фрося да Евдокия Арефьевна — ее мать, не выказывали интереса к государственным событиям, поглощенные хлопотами в кухоньке.
Избушка, которую Наследовы снимали под квартиру, совсем разваливалась, поэтому праздничное угощение — в складчину — готовили в землянке Тураниных. Здесь было и просторнее. Сестренок Гераськи, двух крохотных девочек, тетка Палага сунула на печку, посулив им кусок круглика, чтобы сидели смирно. Неизбалованные дети тихонько играли, пеленая в лоскутья бабки, отданные им Гераськой, изредка свешивали вниз косматые головенки — терпеливо наблюдали за суетней поварих.
Евдокия Арефьевна резала на мелкие кусочки свинину для кругликов, Фрося чистила и нарезала ломтиками картофель. Платок, повязанный по-старушечьи, затенял ее лицо, пальцы почернели от картофельной шелухи — пройдешь, не приметишь. Но когда она, привлеченная громким восклицанием за столом, обернулась, то даже Александр Коростелев, суховато-сдержанный в общении с женщинами, засмотрелся на нее.
— Дочка? — спросил он Туранина. — Быстро растут ребятишки! Вчера еще бегала кроха, а глядь, уж совсем невеста.
— Это моя, — с гордостью сказал Наследов. — Что, не похожа? Бывает… Евдокия у меня рыжая… Сыми с нее платок, и лампы не надо — словно солнышком осветит. И ты в ту же масть отдаешь, Александр Алексеич. А не родня. — Ефим захохотал, довольный собственной шуткой. Улыбнулись и остальные. — Детями бог не обделил. Только жить негде. Позарез новый дворец надо, да земля-то еще мерзлая. Придется до тепла погодить, а там землянушку артелью сделать. Знаешь, ведь как у нас водится: чтобы печь и кровлю за одну ночь…
— Поможем артельно, ежели не будешь к эсерам таскаться, — полушутя обещал сосед Илья Заварухин. — Приготовь только кирпич да глину. Печку мигом слепим, а там — пускай явится хоть вся городская полиция (тьфу ты, теперь ведь в милицию обратили ее господа гласные!). Пусть соберется — жилье уже будет законное.
Тут распахнулась дверь, и в облаке морозного пара в землянку втиснулись, легкие на помине, три новоиспеченных милиционера, блестя пуговицами и пряжками ремней. Постовой Игнат Хлуденев, частенько наведывавшийся в жандармерию, осмотрел сборище маленькими на широком лице глазками; увидев братьев Коростелевых, недовольно поморщился.
— По какому случаю… изволили собраться? — Но вопрос его прозвучал без уверенности, скорее для проформы.
— По случаю дедушкиных именин, — ответил Наследов.
«Сроду дедушка Арефий не говорил про именины», — подумал Пашка, который тоже никогда не интересовался этим: не было в заводе у рабочей семьи вспоминать о днях рождения.
Однако мальчишки давно уже усвоили правило: ничему не удивляться и в разговоры взрослых не вмешиваться, особенно при чужих людях, а полицейский Хлуденев рабочему поселку вовсе чуж чуженин; даже родные братья — Кузьма, токарь в мастерских, и младший, Лешка, — терпеть не могли этого родственника и держали от него в секрете свои дела. Потому Пашка только сжал губы, чтобы не засмеяться.
«Поминки по царю будем справлять», — вертелись у него на языке слова Федора Туранина. Царя уволили, а они ходят как ни в чем не бывало да еще спрашивают: «По какому случаю собрались?»
Милицейские помялись у порога, шныряя глазами по сторонам, и, тесня друг друга, горбя в дверях широкие в добротных шинелях спины, перекрещенные ременной сбруей, подались на улицу.
Тогда Пашка и Гераська снова повели носами в сторону печи, прислушиваясь в то же время к разговору старших о политике.
Тетка Палага, выглядевшая настоящей богатыршей в своем пестром бумазеевом платье, командовала приготовлением пирогов — кругликов, самого лучшего блюда у оренбуржцев. Родом она из цыган, любит гадать на картах, украдкой от мужа и Кости покуривает и обязательно угощает Пашку, когда стряпает. Поэтому он дал себе слово, что, как только начнет зарабатывать деньги, купит ей в подарок цветастый платок или новые карты.
Круглики, приправленные луком и лавровым листом, посажены в печь. Их подают к столу с пылу с жару… Разломят верхнюю зарумяненную корку, и каждый будет брать ложкой на свой кусок картошку и мясо из горячей сковороды, у Пашки даже слюнки потекли от такого заманчивого предвкушения.
А женщины накинули полушалки, кацавейки и метнулись на улицу, вильнув подолами широких юбок. Тетка Палага — в казенку — купить бутылку сладкой наливки да штоф водки, Наследиха — к себе в погреб — принести квашеной капусты и огурцов. Решили сотворить еще «на скорую руку» постный пирог.
Доглядывать у печки осталась Фрося.
— Я нынче на масленой пробовал круглик с сазаном. Вот вкусно! — похвастался Пашка.
— Пирог с солеными огурцами да картошкой тоже хорошо. Когда остынет, как грибной, — прошептал Гераська, следя, чтобы сестренки, учуявшие, точно голодные зверята, запах жареного, не свалились на пол.
— Все-таки что теперь будет? Нам Советы нужны, буржуи за старое цепляются… Миром-то навряд ли поладим? — спросил Георгия Коростелева Федор Туранин.
Заварухин, собиравшийся свернуть цигарку, просыпал табак, не замечая этого, придвинулся поближе:
— В самом деле, две разные власти образовались, и может настоящая междоусобица произойти.
— Пока дойдет до междоусобицы, нам придется размежеваться с меньшевиками, которые продолжают тормозить рабочее дело, — задумчиво сказал Георгий Коростелев.
— И то! На словах они за народ, а на практике только вредят, — горячо откликнулся Котов.
— Однако они за Советскую власть, — осторожно, будто пробуя ногой тонкую корку льда, вступил в разговор Ефим Наследов.
— Стремятся к одному — утвердить свое влияние в Советах, — возразил Александр Коростелев. — Но если они получат в них большинство, то Советы только тем и будут отличаться от Думы, что заседать в них станут не сами господа, а их ставленники. Вот и получится под видом демократии сплошной обман трудового народа.
— Понял? — опять зашептал Гераська, обвив руками тощие, но сильные плечи дружка и встряхивая его. — Я маленько начинаю разбираться. Ведь в самделе чепуха получится, ежели буржуи и Советскую власть присвоят. Юров и Зарывнов портрет Николая таскали на молебны? Таскали. А теперь заместо него управлять возьмутся? Значит, мельницы, заводы при них останутся? А нам чего? — Гераська вскинул патлатую голову, но вдруг присмирел, задумался: — Может, это… революция-то понарошку? Только разговорчики? Жандармы-то, как и раньше, ходют… Ведь царь!.. Может, сидит еще на троне. Сколько силы надо, чтобы спихнуть его! У него слуг было — тысячи да войска, поди, миллиенов пять…
— Было, да сплыло. Солдаты теперь тоже против него, раз воевать не хотят. Чего им царь: генералов и то не слушаются. Я хотел…
Что он хотел, Пашка не успел сказать: вернулись хозяйки — тетка Палага с двумя полуштофами, Наследиха с мисками огурцов и квашеной капусты, — и сразу у печи поднялась суматоха.
— Куда ты смотрела, растяпа? — набросилась Наследиха на Фросю. — Ведь наказывали тебе: жар от загнетки отгрести, как зарумянятся, заслонку приоткрыть.
Тетка Палага стучала ножом по обгоревшим кругликам, пробовала отскрести с них пригар, махала отымалкой и чуть не плакала. Глядя на нее, надули губы и заревели девчонки: светленькая Кланька по-младенчески звонко, заливчато, цыгановатая, трехлетняя Антонида — басом.
— Чем твоя головушка бедовая занята? — Наследила дернула за косу растерявшуюся Фросю. — Али заснула? Неужто дым да чад глаза не ели?
— Дыму здесь и до того было полно, — попробовала защититься Фрося.
— Полно… — Тетка Палага оглянулась — лица мужчин были едва видны в сизом тумане. — Тоже хороши! — напустилась она на своего политика, подошедшего унять дочерей. — Круглики аж обуглились — никто и не расчухал.
— Экая досада! — дружно вздохнули за столом.
— Наше дело кипело, да на льду пригорело!
— Коли пригорело — не беда.
— Кабы так, а то ведь куснуть нечего.
Оказывается, взрослые тоже ждали кругликов… Но разве можно было сравнить их досаду с огорчением Пашки? Такое готовили угощение, а получилось как в прибаутке: по усам текло, да в рот не попало. И когда Левашов шутливо сказал, что «Фрося, видно, влюбилась», Пашка, не подумав, брякнул:
— Еще бы не влюбилась! Этот казачий офицеришка чуть не умыкнул ее в Форштадте.
Возможно, никто не придал бы значения словам мальчика, но Фрося, и без того расстроенная, испуганно ахнула и, боясь расплакаться, бросилась к двери.
— Погоди! — властный окрик Ефима Наследова словно заморозил ее у порога. Держась за дверную ручку, она обернулась и так умоляюще посмотрела на отца, что всем в землянке стало неловко. — Ты слышала, что он сказал? Правда это? — сурово спросил Ефим, подходя к Фросе.
— Эх ты, трепач! — укорил приятеля Гераська.
— Встречалась ты с казачьим офицером? — будто срывая на дочери свое раздражение от беспомощности в спорах с товарищами, допытывался Наследов.
— Полно, отец, при людях срамить девушку! Мало ли что парнишка может сболтнуть! — заступилась мать.
— Молчи ты!.. Отвечай, Ефросинья!
— Да я… — Фрося сжала ладонями запылавшие щеки, собираясь с мыслями: в самом деле, отчего она так испугалась? — Я ему только и сказала, что мне его тулуп не нужен.
— А он тебе и тулуп предлагал?
— Господи, ведь я не одна там была! Пашка, ну чего ты молчишь? Скажи бате, что я с Костей стояла. Они, казаки, просто набивались с разговорами.
— Зачем же переполох устраивать? Вскинулась — побежала! Вот шельмец Пашка, это он тебе за круглики выдал. Но шутки шутками, а только я вот при товарищах говорю: вздумаешь с офицером путаться — уходи совсем. Дочерью тебя считать не стану. Учти: у нас с казаками старые счеты еще не закончены.
Фрося, ничего не ответив, выскочила за дверь, а рабочие выпили по стопке и взялись таскать из мисок нарезанные огурцы и капусту.
— Был этот Николашка ни богу свечка, ни черту кочерга, потому и круглики сгорели: поминок даже не заслужил.
— Отчего не заслужил? Черным словом вспоминать долго будем.
— Раз наливки в казенке не нашлось, значит, везде отмечают его отставку.
— Ну, она девка… Девичья память, известно, короткая, а вы чего рот разинули? — тихонько выговаривала Наследиха мальчишкам.
— Мы слушали про то, как власть забрать, — угрюмо сказал Гераська, приняв от нее кусок хлеба с солью. (Пашка свой не взял, молчком отвернулся.)
— Каку еще власть?
— Да без царя-то.
— Господи, воля твоя! Вот уж правда — без царя в голове.
Фрося, будто кто гнался за ней, бежала через темную улицу, спотыкаясь на снежных ухабах. Без шубейки, повязанная только ситцевым платком, она не чувствовала холода, привыкнув с детства выскакивать на мороз босой и полуодетой, но вся дрожмя дрожала от жестокой обиды.
«Уходи совсем, если с офицером вздумаешь путаться!» Почему добрый, никогда не шумевший дома отец бросил ей при всех такие слова? Разве виновата она в том, что любовь неожиданно осветила ее жизнь, бедную радостями? Ведь не искала она встреч с человеком, который завладел ее помыслами, и даже подружке Вирке Сивожелезовой не посмела признаться в своих переживаниях. Хотелось только получше одеться, ленту вплести в тяжелую косу, в землянке прибрать, как перед приходом дорогого гостя. Кому от этого хуже?
Вон Костя ходит печальный, задумчивый, и она теперь не грубит ему: понятнее стали, хотя и не трогают, его вздохи. А тот, что встретился в Форштадте?.. Хорош собой, ловок на коне, и как он смотрел на нее, утратив озорную усмешку, смутившую ее вначале. «Так-то пусть бы глядел хоть целый день!» — думала девушка.
В тесной лачуге Наследовых Харитон и Митя колдовали над чем-то возле тусклой, еле теплившейся лампешки. Дедушка Арефий похрапывал на полатях. Увидев Фросю, братья загородили что-то локтями, хотя она уже увидела: разобранный пистолет, похожий на собачью ногу. Зачем им такая игрушка, если царя уже нету? Ведь это при нем забастовки кончались схватками рабочих с полицией и казаками. Но отец сказал, что старые счеты еще не закончены. Неужели и теперь вражда останется по-прежнему?
— Фрося, я тебе гостинчик принес, — сказал Митя, оглядываясь на темный угол, куда тишком забилась сестра. — Сегодня у Юрова на мельнице муку грузили… Мы с Харитоном шли на вокзал после митинга, с ходу и впряглись — не все ли равно, где спину гнуть.
Он встал, необычно крупный для своих лет, но по голосу сразу чувствовалось — подросток: то баритонит, даже басит, то срывается на альт.
— Мамане — плитка чаю, вам с Пашкой — по крендельку, дедушке саечку купил, да жалко будить его.
— Вы сами-то поели? — с трудом подавляя подступившие слезы, спросила Фрося, особенно тронутая сейчас сердечностью брата.
— Непременно, — дурашливо отозвался Харитон. — Прямо от Юрова в трактир и по целой миске борща слупили. Я кружку пива взял, а Митяй и от чайку отказался: скуповато рассчитал мельник — денежки на пай берегет. Охота была бедняжке в рабочий кооператив затесаться. То ли подделаться к нам хотел, то ли развалить наш кооператив собирался. Учуяли, паразиты, что там вся партийная работа шла.
— Чаю… Я сейчас вскипячу. — Пропустив мимо ушей рассуждения Харитона о хитром мельнике и кооперативе, Фрося, не одевшись, вышла из землянки.
— Куда же ты? Хоть бы платок накинула! — закричал Митя, но ее и след простыл.
Ласковое внимание брата только растравляло в ней горечь обиды. Кусая губы, чтобы не расплакаться, девушка набрала впотьмах сухого хвороста. Дров осталось в обрез, и их берегли, чтобы хватило до тепла. Скудость жизни во всем давала себя знать. Но до сегодняшнего вечера у Фроси было ожидание чего-то необыкновенного, радостного, а теперь она чувствовала себя как побитая.
Леденящий ветер налетел на нее посреди крошечного дворика, осыпал колкими снежинками голые по локоть руки и шею, раздул полы кофточки. Фрося замедлила и остановилась, всматриваясь в мутное небо. Нет, не разверзнется, не зашелестят в голубом сиянии белые крылья ангелов.
«Господи! Вот бы простудиться и умереть! Тогда батя спохватился бы, пожалел о своей грубости».
Звонкий перестук лошадиных копыт вспугнул девушку: несколько всадников рысью вылетели из переулка. Крутясь на резвых лошадях, они задержались возле наследовских ворот.
— Какая это улица, барышня? — спросил ближний из конников, перегибаясь в седле и присматриваясь к тонкой фигурке с черной косой на светлой кофточке.
— Называют Первой улицей, а так просто — Нахаловка.
— А вас как зовут? — Он почти перевесился через плетень, разглядел в полутьме большеглазое девичье лицо и вдруг, как большая птица, перемахнул во дворик прямо с седла.
Пугливо заслоняясь охапкой хвороста, Фрося отступила от него, но он положил ладони на ее озябшие руки и, сжимая их, сказал радостно, не обращая внимания на шутки спутников:
— Наконец-то я нашел тебя, Фросенька!
— Уходите… Я вас не знаю.
— Разве забыла? На масленой… в Форштадте. Но почему так легко одета? Ты простудишься.
— Уходите! Уходите, — твердила Фрося, потрясенная неожиданной встречей. — Ради бога, не срамите меня.
Позади них стукнула, со скрипом открылась дверь. В слабо освещенном прямоугольнике встал Митя, пригнувшись под притолокой.
— Где ты запропала? Кто это с тобой?
— Хорунжий Нестор Шеломинцев! А вы кто?
— Я Фросин брат, — с юношеской доверчивостью ответил Митя, которому и в голову не пришло заподозрить в чем-нибудь сестренку.
На шум голосов выглянул на улицу Харитон.
— Ваше благородие! — иронически обратился он, увидя офицерскую кокарду на папахе казака и группу всадников за воротами. — Зачем пожаловали к нам? Не насчет ли обыска спохватились? Царской милостью мы уже взысканы предовольно: все углы обшарены. Фрося, чего ты зябнешь, дурочка? Айда домой.
— Почему вы со мной так разговариваете?
— Как еще прикажете? Нашли время по чужим дворам шастать!
Нестор шагнул к Фросе, но замедлил, боясь повредить ей:
— Мы дорогу спрашивали. Заблудились в вашей Нахаловке…
— Это другое дело. Куда вам? К лагерям юнкерского казачьего училища? Левее надо. Айда покажу. — И Харитон как был без шапки и ватника, пошел к воротам, оттесняя к ним Нестора.
Фрося разожгла под таганком костерчик, поставила котелок с водой и в изнеможении присела возле печи, уронив на колени ноющие руки.
«Крепко я дровишки держала! — удивленно подумала она, потрогав саднящие царапины на коже. — С испуга ухватилась: Нестор-то словно с неба свалился. Что, если бы папаня в эту минуту возвернулся?! — Фрося вздрогнула от внутреннего холода, представив такую возможность, съежилась в комочек. — Ладно, Харитон выпроводил казаков! Не надо встречаться, не надо!»
Но вспомнила, как лихо перемахнул Нестор через забор, и сердце заболело сильнее, чем ссадины на руках.
«Смело он с Харитоном разговаривал и ведь назвал себя: Нестор Шеломинцев. Видно, не хотелось ему уходить! — Фрося неожиданно рассмеялась, затаенно, радостно. — Все равно буду думать о нем. Пусть ругают, пусть со двора прогонят».
Огонь на шестке облизывал желтыми языками черный от копоти котелок с водой. Озаренное мерцавшим светом лицо девушки цвело молодым весельем впервые разбуженного счастливого чувства. Как в землянке Туранина после грозного окрика отца, она сжала ладонями щеки, но теперь совсем по-иному, будто собиралась запеть или, вскочив, закружиться в бешеной пляске.
Братья, не придавшие значения тому, что их сестренка разговаривала во дворе с проезжим казаком, были заняты своим делом. Родители задержались у Тураниных, и этот ябеда Пашка… Только что Фросе хотелось умереть, провалиться сквозь землю, и вдруг, словно ветром вольным подхваченная, взлетела душа, освобожденная от всех страхов и сомнений.
Проснулся дедушка Арефий, свесил с полатей седую голову с серебряным клином бороды:
— Никак, вы чаевать собрались?
— Слезай, деда! Я тебе саечку свежую купил, — поспешил порадовать старика Митя.
Наскоблив ножом крошек от плитки чая, Фрося бросила их в котелок, бурлящий на тагане, потом стала собирать на стол: достала из шкафчика единственную фарфоровую чашку, эмалированные кружки, стеклянную вазочку с мелко-мелко наколотым сахаром. Нарезая пшеничный хлеб, вздохнула, пожалев о кругликах, и принесла из сеней кусок сала:
— Пировать так пировать!
— Правильно, мировое событие произошло — не грех и чаю выпить! — задорно отозвался Харитон. — Теперь жизнь должна взыграть по-новому, по-хорошему. Власть Советам — пролетариям дорогу. Старые порядки побоку.
Митя улыбнулся спокойно и ласково, блестя такими же, как у Фроси, черными глазами:
— Не просто все переиначить! Были мы вчера с ребятами еще на одном митинге в цирке Камухина. Там ораторов выступала тьма-тьмущая. Насчет будущей жизни толковали. По всей видимости, интеллигенты в союзе с буржуями страной управлять будут. А нам, рабочим, придется прежде культурой овладевать.
— И ты согласный с этой брехней? — сразу ожесточился Харитон. — Что вас с батей нынче повело? Ну, батя — куда ни шло: он эсеров с народниками путает. Заслуги их боится умалить. Но народники давно уж повымерли, а эсеры ладят рабочему классу на голову сесть. Восьмичасовой день у нас самих давно в программе, о национализации промышленности они ни гугу, войну прекратить не хотят, а насчет земли подпевают помещикам. Чему у них учиться? Кому нужна ихняя культура?
Митя смущенно повел крутыми плечами.
— Я еще не разобрался толком. Да не фырчи ты на меня! Мы ведь правда без понятия — как, например, производство наладить. Образования у нас нету, а страной править — не на тройке с бубенцами кататься!
— Эка рванул! — Дед Арефий, опустив в кружку кусок сайки, чтобы размякла, посмотрел на оживленные лица внуков, грозя кому-то крючком пальца, сказал. — Ишь удумали! На тройке, ежели плохой кучер, сразу на столб налетит либо об угол трахнется. А страной-то от веку всякие адиоты правили, и ничего, никакая холера их не брала.
— Ты о чем, деда? — Харитон недоуменно вскинул рыжие брови, нагнав морщины на широкий, упрямо выставленный лоб.
— О том самом. Чай, уж не хуже этих обормотов управимся на пользу трудящемуся народу.
— Во, видал! — торжествуя, сказал Мите Харитон. — За такую премудрость, деда, я тебе завтра две сайки добуду.
Дед Арефий добродушно улыбнулся:
— Нонче, ребятки, хороших саек нету. Для саек тесто идет крутого замесу, шибко битое. А пекари свою выгоду смекают — привесу на жидком тесте добиваются. Кругом расчет. И я тянусь за куском помягче: съел зубы-то. Теперича дела получше пойдут — вставлю себе железные.
— Золотые, дедушка! — смеясь поправил Митя.
— На кой они мне, золотые-то? Опять за буржуями гнаться? Этакой культурой я овладевать не желаю. Однако золотое колечко для Фросеньки, когда замуж ее станем выдавать, все вместе осилим купить. Есть и у меня для того неразменный рупь.
Фрося вспыхнула, чуть не опрокинув свою чашку, но в дверь кстати ввалился Костя Туранин, приплясывая, потопывая застывшими на морозе отцовскими сапогами.
— Здорово, дружки! Дедушке Арефию — почтение!
Радостный, он подошел к Фросе, натолкнулся на отчужденный, почти враждебный взгляд и сразу притих: смуглое лицо будто увяло без улыбки.
— Садись с нами чаевать, сынок! — Дед радушно засуетился: принес кружку, отломил кусок сайки. — Присаживайся, погрейся чайком. Видно, в город бегал?
Костя кивнул, скинув полушубок, молча уселся на скамью.
— Чего надулся? — дружелюбно спросил Митя, он сразу уловил причину перемены в настроении приятеля, бросил взгляд на сестру и удивился тому, как мгновенно посуровела она.
«Отчего невзлюбила Костю? Друзья ведь с малых лет! Парень славный, работящий, скромный».
— Нет, братцы, скромность теперь надо побоку! — словно проникнул в Митины мысли Харитон. — Если дело до рукопашной дойдет, я от Левашова и Заварухина не отстану.
— Против кого драться-то будете? — спросила Фрося, не скрывая тревоги.
— Да ведь все старое на месте осталось. Посмотрел я, какое ликование на митингах было. Буржуи, офицерня, господа с дамами целовались, как в Христов день. Значит, рады они, что Николашку взашей из дворца вытолкали. Всем он осточертел со своей немецкой мадамой. Но эти господа теперь тоже кадило раздуют — другого золотого кумира из запаса вытащат. Поэтому и ораторов с каждым днем нагоняют, чтобы у рабочих в мозгах затмение сделать. Вот Митяй уж попался — поверил, что надо идти на выучку к культурному капиталу.
— А ты всегда торопишься. Надо самим разобраться, что к чему. Зачем петь с чужого голосу?
Харитон вскочил со скамьи, стукнул кулачищем по своей широкой груди:
— За версту чую чужаков! Если подпеваю, так не меньшевикам да эсерам, как некоторые, а ученикам Ленина: Александру Коростелеву, Петру Алексеичу Кобозеву.
— Кобозева я тоже слышал не раз, — сказал Митя, которого не так легко было вывести из равновесия. — Очень располагающий товарищ: бородка интеллигентная и смеется хорошо. Я веселых люблю.
— Нет, вы посмотрите на этого недотепу! — опять взорвался Харитон. — Разве сила Кобозева в веселости?
— Веселье, внучек, лучше богатства, — вступился дед Арефий, утирая полотенцем распаренное после чая лицо. — Веселый человек всегда к себе располагает.
— С вами не сговоришься! — Харитон, не замечая молчания Фроси и Кости, махнул в досаде тяжелой рукой. — Спасибо, хоть добрым нравом завоевал тебя, Митяй, Петр Алексеич. А смеется он… точно: хорошо смеется. — И Харитон сам заулыбался. Осененное щетиной рыжих жестких волос, круглое лицо его с ямкой на твердом подбородке засветилось, как солнышко.
— Алибий Джангильдин.
— Петр Алексеевич Кобозев.
— Александр Коростелев.
Крепкие рукопожатия — как присяга на верность дружбе. Три совершенно разных по характеру и по внешности человека. Кобозев действительно «интеллигентного» вида: в добротном костюме, при жилетке, борода аккуратно подстрижена; словом, вполне сойдет за солидного буржуа или за деятеля науки. В широко открытых серых глазах, умных, с озорной живинкой, острое внимание. Коростелев, быстрый и ловкий в движениях, в кожаной куртке, темных галифе и сапогах — так он стал одеваться с тех пор, как был избран председателем Оренбургского Совета рабочих депутатов.
Большевик-казах Джангильдин? Кое-что о нем оренбуржцы уже слышали.
— Сосед ваш. Из Тургайской области, а сейчас из Петрограда, — сказал он почти без акцента.
Знакомство произошло в клубе социал-демократов на Хлебной площади — в одноэтажном деревянном доме, часть которого занимал владелец — врач по профессии.
В коридорах и комнатах клуба, организованного в марте по предложению Кобозева и Александра Коростелева, постоянная толчея. Собирались и азартно спорили представители разных партий, пытаясь разобраться в путанице политических событий, заседали и отдельно по своим фракциям. Александр Коростелев со всем пылом отдавался теперь общественно-партийному делу, оставив работу токаря в цехе.
Прищурившись (солнечные лучи били прямо в лицо через высокие окна), он пристально разглядывал Джангильдина. Алибий худощав, щетка густых усов над бритым крепким подбородком, большие глаза почти без азиатской раскосинки выражали спокойную доброту и силу.
«Сын пастуха из глухих степей, но сразу видно — бывалый. Интересно, как он ушел от своих отар?»
— Нам нужно позаимствовать ваш опыт, чтобы создать Советы в Тургайской области, — сказал Алибий Коростелеву. — Опыт революционной борьбы у меня есть, и порядочный. До революции пришлось порядочно помыкаться по белому свету. Только Оренбургское духовное училище благополучно закончил (из начальных школ отец упорно со скандалом утаскивал меня в степь — пасти овец, пока я совсем не сбежал из аула). Из Казанской учительской семинарии исключили после ареста в девятьсот пятом. Из Московской духовной академии тоже исключили за скептическое отношение к религии и революционную агитацию.
— Отец был доволен, конечно, заполучив богом проклятого пастуха? — с необидной улыбкой спросил Кобозев. — Ведь «волчий билет» получили, в городе с ним прожить невозможно.
— Домой, в степи, я не вернулся, а отправился за границу. По объявлению в газете нашел компаньонов для пешего путешествия по Европе и Азии, и втроем двинулись в путь.
— Денежных нашли компаньонов?
Глаза Джангильдина зажглись веселыми огоньками:
— Таких же голодранцев, как я. Похоже на авантюру? Да? Но побывали мы в Польше, Австро-Венгрии, Сербии, Болгарии. Дальше они не рискнули — я отправился один. Научился фотографии, по пути снимал интересные сценки, виды красивые. Продавал эти фотооткрытки, тем и жил. Был в Турции, Сирии, Иране, Египте, Месопотамии, Индии, потом Китае и Японии. — Алибий будто из этого далекого далека скользнул отчужденным взглядом по лицам новых друзей, но вдруг, полыхнув гневом, бросил: — Всюду одно и то же! Роскошь богачей. Ужасающая нищета и дикое бесправие народа. Надо иметь каменное сердце, чтобы проходить мимо детей, умирающих от голода на многолюдных улицах. Растление. Изуверство. Истязание черных и белых рабов. Превращение женщин в бессловесных, тупых животных. Вернулся я домой, в Тургайские степи, как взрывчаткой начиненный. Привез киноаппарат, стал показывать и объяснять, каково везде положение бедноты. Тут полиция нагрянула. Но я скрылся в Перовск[4]. В девятьсот пятнадцатом году в Петрограде вступил в партию большевиков, а потом опять в Тургае вместе с Амангельды Имановым возглавляли восстание против царского указа «о мобилизации киргизов и других инородцев на тыловые работы», организовывали повстанческие отряды. На днях я доложил в Смольном о зверствах генерала Лаврентьева… А теперь послан организовывать Советы в Тургайской области. Пока там Временный комитет, избранный в марте на съезде представителей волостей, созванном Имановым в Каратдгае. Придется у вас посмотреть…
— Пожалуйста, — с достоинством сказал польщенный Коростелев, которому еще ни разу не приходилось делиться опытом с таким необычным человеком. — Хорошо, что нашего полку прибыло! Но и меньшевики не дремлют: расплодилось их тут, как грибов поганых. Хотели мы нынче размежеваться с ними, но они забили тревогу перед своим ЦК, активно мобилизовались и начали всюду внушать рабочим: большевики — бузотеры, разваливают социал-демократическую партию вместо того, чтобы сообща укреплять дело революции. Каково?! А теперь по указанию Мартова прислали им подмогу из Самары. Может, слышали о Семенове-Булкине? Ох, речист, собака! Да еще из ссылки возвращаются эсеры, восстанавливают связи. Вот недавно вернулся Барановский… Говорун — не уступит Семенову-Булкину. Здешние эсеры шумиху устроили при встрече, на руках его несли, как икону, от поезда до площади. И ведь что обидно: потянулись на эсеровскую комедию и рабочие. Тоже несли эту дрянь на своих мозолистых руках! Ну и пошла трепотня — спасу нет!
— Беспринципность всегда прикрывалась красной фразой, — заметил Кобозев.
— Петр Алексеевич на себе это испытал, — сказал Коростелев Алибию, проникаясь все большей симпатией к приехавшему товарищу. — Досталось ему от меньшевиков и эсеров за юровские деньги. Сейчас посмеивается, а тогда нам было не до шуток. Я его предупреждал: рабочие не поймут вашего довода, что все равно мы будем конфисковывать деньги у буржуазии. Они как подвох и приняли желание богатого мельника Юрова вступить в наш кооператив. А меньшевики рады стараться — чтобы уничтожить Кобозева, подняли вой: дескать, он продался Юрову.
— Однако не уничтожили! — задорно отозвался Петр Алексеевич.
— Я эту шумиху знаю. В Петрограде тоже печатались грязные статейки. Дошли газеты даже в Тургай.
— Суд чести оправдал Кобозева, но меньшевики у нас по-прежнему верховодят, — упрямо продолжал Александр.
— Приходится даже сотрудничать, — с прорвавшейся горькой иронией сказал Кобозев. — Создали мы новую газету, «Заря» — орган Оренбургского Совета. Я тоже подписал статью от бывшей редакции «Оренбургского слова», в которой мы просили наших подписчиков не сетовать на то, что мы ликвидировали эту газету, потому что Совет лучше сможет в печатном своем органе бороться за программу демократии. А меньшевиков и эсеров, вроде политкаторжанина Барановского, в Совете большинство, и теперь все они лезут на страницы рожденной нами «Зари». А что они проводят и защищают? Конечно, созыв Учредительного собрания и войну до победного конца.
— Как же вы думаете противостоять?
— Пока потерпим, а дальше видно будет. Порвать с ними сейчас — значит потерять рабочих, которых они оплели своей паутиной.
— Мы тут еще статью подготовили… — Александр потянулся за папкой и уронил со стола листок бумаги.
Джангильдин подхватил его на лету:
— Я это ваше объявление сегодня прочитал в «Заре», и таким удивительным оно мне показалось… Вслушайтесь-ка: «Оренбургский комитет РСДРП. Социал-демократический клуб помещается на Хлебной площади, рядом с Александровской больницей. Библиотека и читальня открыты от 6 до 8 часов вечера. Запись в члены партии принимается». Подумать только: «клуб помещается на Хлебной площади»!
Клуб РСДРП… Открыто указан наш адрес.
— А ведь в самом деле, — весело сказал Коростелев, извлекая из папки исписанные листы. — Столько лет скрывались в подполье. И вот, пожалуйста, в полный голос: «Запись в члены партии принимается».
В апреле с высокого полуденника сходит на оренбургские степи настоящая весна. Небо наливается густой синевой. Рыхлый снег торопливо уступает место черным проталинам. Все дышит влагой, и по утрам туманы долго кутают деревья в поймах рек, вздувшихся, чтобы, прогремев ледоходом, хлынуть в луга неоглядным бурлящим разливом. А пока по обнаженной, зябко ощетиненной земле шныряют скворушки, вышагивают отощавшие грачи, то и дело запуская высветленные обушки клювов в комья грязи и травяную ветошь.
«В Тургае у Алибия сейчас дичи в степях и на озерах полно!» — подумал Александр Коростелев, прислушиваясь к шагам редких прохожих на улице под окнами, к гудкам паровозов и шуму проходящих поездов. Уже давно ночь наступила, весенняя, темная, усыпанная звездами. Выйди на крыльцо, и, как в деревне, охватит свежей прохладой. Но прохлаждаться некогда.
Весь день прошел в волнении и спорах: была получена газета «Правда» с Апрельскими тезисами Ленина. На меньшевиков и эсеров эти тезисы произвели не меньшее впечатление, чем на Коростелева и его товарищей. Но если большевики, расстроенные засильем своих противников в Советах, воспрянули духом, то Семенов-Булкин, Барановский и их сторонники разразились негодованием, прочитав о возможности перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую.
— Это уж, знаете, ни в какие ворота не лезет! — говорил в клубе Семенов-Булкин, раздраженно встряхивая газету.
— В ваши ворота не лезет, потому что вы их загородили ненужным хламом прошлого, — сказал ему Коростелев в порядке свободного обмена мнениями. — Ленин правильно пишет: единственным выходом из тупика, созданного вами и вашим любезным Временным правительством, является победа социализма в России.
Тут Семенов-Булкин так побагровел, задохнувшись от злобы, что Коростелев, будучи в отличном настроении, встревожился за него. Но когда предводитель меньшевиков, конвульсивно подергав губами, изрек: «Свихнулся ваш Ильич! Упрятать бы его куда следует», — вспыльчивый Александр Коростелев чуть не пожелал вслух: «Чтоб ты сдох!» — однако сдержался, сказал другое:
— Значит, в самую точку угадал Владимир Ильич, если вас так корежит! А мы эти тезисы, как знамя, теперь понесем. И народ пойдет за нами, потому что в них говорится о его нуждах насущных.
— Спекуляция! Полное забвение интересов республики! Удар по революции! — продолжал выкрикивать, не владея собой Семенов-Булкин.
— Удар по вашим жирным спинам, — окончательно успокоясь, ответил Коростелев.
Весь вечер он просидел дома, готовясь выступать на собрании социал-демократов, где будут обсуждаться тезисы, и вдруг в голову полезли мысли о весенних разливах, об охоте, которая и не снилась никогда. Правда, охотники с азартом рассказывали о лебяжьих озерах в Тургайских степях, о стаях казары, идущих на присад во время перелетов. А сколько дроф — настоящих степных индеек, только куда крупнее, с пестрым опереньем и ярко-розовым пухом, бродит в степи. За ними Александр наблюдал только издали.
На севере губернии Уральские горы, богатые рудой: золото, медь, железо, уголь. Доходы от разработок — Оренбургскому казачьему войску. Здесь тучные черноземы — казачьи земли. Урал, Илек и Сакмара славятся лучшими сортами рыбы, и тоже казачьи это угодья! Да еще владения монастырей и помещиков.
Что же остается иногородним селянам? Чем пользуются рабочие? Жалкую лачугу поставить негде. В воскресный день податься с семьей некуда: сюда не ступи, туда не пойди. Вот как до сих пор поделены богатства края!
А Ленин в своих тезисах, выдвинув программу основных экономических требований, ставит вопрос о национализации всех земель в стране при конфискации помещичьих, о передаче права на распределение их в областные и местные Советы крестьянских депутатов.
— Тогда действительно свободно вздохнет народ! Вот в Нахаловке большая семья Наследовых хочет строить себе жилье.
— Мечта трех поколений, черт возьми, войти в свою землянку — при жизни в могилу врыться!
Как стояла у двери Фрося бледная — ни кровинки в лице, только глаза, обжигающие укором: «Пашка, что же ты молчишь? Я ведь не одна была!» «А казаки к ней приставали. Еще бы! Они тут везде хозяевами себя чувствуют. Отец чуть не ударил ее, а мы растерялись, словно онемели. И я промолчал… — Краска стыда обожгла щеки Александра. — Мы тоже, выходит, поверили, что Фрося гуляет с казачьим офицером. Но ведь страшно за нее стало: совратят девушку — тогда она сама из землянки уйдет. Куда же? Дорожка одна — в трошинское заведение, а то на Пиликинскую или на Ташкентскую…»
Александр, как и старший брат Георгий, любил и оберегал сестренку Лизу. Но когда они поочередно отбывали то тюремное заключение, то ссылку, девочке пришлось с двенадцати лет носить им передачи и выполнять их серьезные поручения. Гордая доверием, она все понимала, держалась смело и умно.
«Случись с нею теперь что-нибудь… как с Фросей нам померещилось? Даже подумать страшно.
А Ефима надо отбить у эсеров: свой, рабочий человек, хотя и нес на руках Барановского.
Действовать тут нахрапом нельзя. После девятьсот пятого года Ефим сидел в одной камере с эсерами. Оттуда-то и тянется ниточка! Но крепкая ли?..»
В коридоре послышалось шуршание, занавеска на двери колыхнулась.
— Можно?
— Входи, легка на помине, я о тебе думал.
Потеснив бумаги, лег на краю стола острый локоток, обтянутый ситцем кофточки. Глаза у Лизы пытливые, брови задумчиво приподняты на светлом миловидном лице.
— Прочитал?
— Давно уже. — Александр взял газету, где были опубликованы тезисы Ленина, еще раз просмотрел то, что подчеркнул синим карандашом. — Сейчас возьми, а завтра утром заберу.
— Опять готовишься к бою?
— Готовлюсь, сестренка. Целый вечер сидел, видно, устал: полезла в голову всякая всячина.
— Какая же? — Лиза устроилась поудобнее, захватила обеими ладонями прохладную косу и, подложив ее под щеку и подбородок, приготовилась слушать.
— Да разная… Насчет охоты подумал. Раньше казалось — барское занятие. Но ведь тут лицом к лицу с природой, и красота ее и богатство открываются настоящему охотнику. Ведь и к природе люди относятся по-разному: кто хищнически, а кто с любовью. Ленин, говорят, любит с ружьишком побродить. Может быть, отдыхает в это время, а может, обдумывает новые идеи в мировой политике. Вот эти тезисы — как сразу все осветилось! Каждая строчка бьет в цель. Признаться, оторопь брала иной раз от того, что творится в стране после революции. Правительство буржуазное, Советы на сторону империалистов подались. Перспектива замутнилась. И вот теперь полная программа действий. — Александр говорил негромко, задумчиво, не выпуская газеты из больших рук. — Сколько у Ленина терпения и уверенности в победе!
— А ты горячишься, — не без упрека сказала Лиза, хотя отлично понимала, как досаждала прямому, резкому Александру необходимость обходных маневров.
— Бывает иногда… Вот тут есть слова о разъяснении ошибок меньшевиков и эсеров. Я бы этих нахальных болтунов вроде Семенова-Булкина и Барановского разогнал без всяких предисловий. Кричат теперь, что война с Германией нужна для защиты республики. Но война как была, так и осталась грабительской. Все катится к полной разрухе, а тут ходи возле них кругом да около! Однако Ленин не призывает немедленно свергать Временное правительство и разгонять его холуев, потому что оно пользуется поддержкой Советов.
— Значит, примирение?
— Ни в коем случае! Тут написано: «Никаких соглашательств». Надо разъяснять народу, что за сволочь набилась у нас в Советы, завоевать их постепенно и через них изменить состав правительства.
— Трудно будет!
— Конечно, но вполне возможно.
Безотчетно строго глядя в лицо сестры, Коростелев задумался о том, как в первомартовские дни утверждалось в Совете решение солдатского митинга об аресте начальников гарнизона и губернской жандармерии, как утверждали увольнение начальника Ташкентской дороги и других чиновников, утаивших весть о свержении самодержавия. Ни эсеры, ни меньшевики не осмелились тогда возражать против этих решений.
— Советы — великая сила, — сказал Александр, снова повеселев. — Поэтому мы выдвигаем лозунг «Вся власть Советам!» и будем бороться за то, чтобы большинство в них перешло к нам. Вот еще очень серьезный момент… Ленин пишет: надо переносить наши организации в войска. Это значит: вести подготовку гарнизона к восстанию, когда придет время забирать власть. И еще серьезнейший вопрос — работа в деревне. Нам и среди казаков придется крепко поработать: разъяснить им, как понимать правильно вопрос о земле, выдвинутый в тезисах. Поля, которые они сами обрабатывали, за ними останутся. Пусть не ершатся зря против Советской власти. Здесь некоторые уже орут, что большевики хотят уничтожить казачество. Конечно, богатым станичникам — прямым нашим врагам, туго придется. А фронтовиков-казаков упускать нельзя: многие из них самой действительностью уже сагитированы в нашу пользу. Так что принимаем статью как боевое руководство к действию. Заметь, Лиза, все равно боевое. Начнем овладевать тактикой борьбы на первом этапе революции.
— Ты согласен с тезисами, а оговариваешься, будто споришь с Лениным, — сказала Лиза, прямотою характера тоже не обиженная.
— Я с ним не спорю, а думаю о дальнейшем вынужденном сотрудничестве с меньшевиками и поневоле ощетиниваюсь.
— А помнишь, ты говорил: хорошо, что сначала эти болтуны сами взялись управлять делами. У нас на курсах шитья одна тоже хвалилась, хвалилась, но когда дошло до практики — вшила рукава задом наперед.
— При чем тут рукава?
— При том, что Семенов-Булкин тоже пришивает рукава задом наперед, хотя на словах у него все ладно получается.
— Ты сама-то пришиваешь их как следует? Целыми днями шьешь да шьешь.
— Спешу заказ вовремя выполнить — платье купчихе Пушновой к благотворительному балу. Такая привередливая, а материя в работе тяжелая и отделки… отделки!.. Я все пальцы исколола. Но богатое платье будет…
Александр посмотрел на сестру, одетую в дешевую длинную юбку и простенькую кофточку; наверно, обидно хорошенькой девушке шить красивые наряды для других? Он вспомнил свои недавние размышления, нахмурился:
— Тебе тоже хочется танцевать на балах?
— Когда же! Надо и копейку заработать. Я ведь вижу, как вы с Горой устаете, как ему трудно в цехе! Маме помогать для меня радость. Она у нас такая хорошая! Будет для всех легче — успеем повеселиться.
Лиза ушла, унося газету, но Александр еще долго сидел за столом, то писал, то прислушиваясь к близким паровозным гудкам, к приглушенному гомону большого города, думал о предстоящем выступлении, а в уголках его твердого рта пряталась едва заметная добрая улыбка.
Пашка и Гераська стояли на страже не первый час. В поселке сегодня особенно темно: тучи к полуночи заволокли небо, заслонив от ребят сияющие глаза звезд. Дул не сильный, но пронизывающий холодной сыростью ветер. От этого было так зябко, что не спасали и отцовские ватники. А уйти с поста нельзя: вдруг нагрянет Игнат Хлуденев со своими фараонами! Нет уж, терпи, караульщик, топай ногами, поддай дружку плечом покрепче — вот и согреешься.
— Чего они там без свету нагородят? — Гераська прислоняется теснее к Павлику, а то очень уж неприятно в кромешной тьме. — Поставят печку криво, — не унимается он.
— Небось яму для нее загодя выкопали, бурьяном закидали, всю-то землянку после выроем. А кирпич класть и в потемках можно: днем-то на глазок, а сейчас ладонями оглаживают. — Пашка тоже встряхивается, точно озябшая собачонка, переступает с ноги на ногу. — Сегодня и казара не летит, а то день и ночь гагакали. Чудно кричат эти гуси… Нам хоть одного бы на горячую похлебку с лапшой…
— Не дразнись! Пошто рабочие казаков казарой зовут? Гусь надобный, а казаки к чему? Царя теперь нету, а они все одно ездят кругом. Чуб на отлете, шашка на ремне — фу-ты, ну-ты, и все нагайками трясут, грозятся. — Гераська обжался потуже полами ватника, неожиданно задушевно зашептал: — Знаешь, как я напугался, когда ты у нас про казака сказал! Думал, побьет дядя Ефим Фросю. Так мне ее жалко стало…
— Зачем же она, дура, в казака влюбилась? Я еще не совсем уверенный был, пока она круглики не сожгла. А теперь дело ясней ясного.
— В старушечьи приметы веришь?
— Это не приметы, а факты. И в Форштадте офицер фактически к ней салазки подкатывал. Костя еле-еле ее отбил.
— Костя по ней давно сохнет.
— Чудаки парни! — Пашка презрительно сплюнул. — Я про эту любовь слышать не могу. Правильно сделал Стенька Разин, когда его присушила персидская княжна, — сгреб в охапку да бросил в воду.
Мягкосердечный Гераська, несогласный с приятелем, сердито засопел — значит, мозги у него зашевелились, заработали. Так и есть:
— Все бы ты бросал!.. А где бы мы были, кабы батьки наших матерей в воду покидали?
Такого оборота Пашка не ожидал и не нашелся что возразить. Отцы своих жен любили. Даже пива выпить в трактире без их согласия не решались, и в дни получек скандалов дома не водилось.
Ох уж этот Гераська со своими круглыми глазами и утиным носом! Тураниха зовет его бесценным помощником и заставляет водиться с ребятишками. Правда, трех малышей он не донянчил и до году — умерли, как умирали они в семье Наследовых и по всей Нахаловке (то и дело уносили жители в степь маленькие некрашеные гробики).
— Куда бы их девать, младенцев-то? — просто говорила повивальная бабка Зыряниха. — Зато в царствии небесном они божьи ангелы — душеньки безгрешны.
Теперь Гераська нянчит годовалую Клашку, благо, Антонида уже большая — четвертый год ей пошел, с подружками хороводится. Эти в «божьи ангелы» не попали — оказались живучими, как старшие братья.
— Слышь-ка, чего твой отец какого-то шкодника на руках таскал? Будто по всему городу несли заместо иконы…
— Я не видел, — угрюмо уклонился Пашка, хотя знал о Барановском и в домашней стычке держал сторону Харитона. — Должно, выпустили из тюрьмы того, с которым батя вместе сидел, — присочинил он, смутно желая оправдать отца.
Тихо в поселке. Давно спят нахаловцы.
— Печку, поди-ка, уже сложили, — гадает Гераська. — Теперь еще навесик над ней да заборчик бы… Почему для полицейских главное, чтобы печка была?
— Потому что очаг, — отвечает Пашка, все еще не переварив обидной подковырки насчет «шкодника».
Переспрашивать не пришлось: за перекрестком на ближней улице возникает суматоха — топот бегущих людей, крики, кто-то злобно рычит:
— Разрази вас гром, канальи!
Мальчишки, вскочив со скамейки у ворот, вслушиваются, оглушаемые гулким стуком своих сердец. Кутерьма происходит в стороне от наследовской стройки… Свистеть или нет?
Гераська вопросительно смотрит на Пашку, даже в темноте видно, как блестят его глаза. Но Пашка мотает головой, дескать, оно и лучше, если постовые отвлеклись во время обхода. Крадучись ребята спешат к угловому дому богатого бакалейщика, затаиваются в тени каменного крыльца.
«Сгрохал на тысячу лет небось не ночью. Не таился», — неприязненно подумал Пашка, высматривая из-за ступеней: кто рычал, кто за кем бежал?
Фрося с Лешкой Хлуденевым подносила строителям воду. Наследиха, тетка Палага и Зина, жена формовщика Заварухина, готовили еду, чтобы рабочие, закончив свое дело и перебросив пожитки семьи на новое место, успели позавтракать до заводского гудка. Работа кипела: несли мимо затаившихся соседских окон на облюбованный крохотный пустырь кирпичи, глину, тащили купленные заранее плетешки для ограды, из плетня же сооружали временные стены землянки и крышу — лишь слепить бы подобие жилья над добротно сложенной печью. Под покровом темной, беззвездной ночи эта возня походила на воровство.
Воду приносили понемногу издалека. Всякий шум в поселке пугал Фросю так, что у нее руки и ноги холодели: боялась, набегут милицейские, пожарников вызовут и растащат незаконченное жилье по кирпичику, по колышку, как это случилось прошлой осенью у Заварухиных. Дважды начинал Илья постройку, и каждый раз злой на него городовой Хлуденев (служивший и в жандармерии) подстерегал полуночников и прекращал их работу в самом разгаре. Рабочие не противились этому, поскольку установился такой неписаный закон. Только с помощью братьев Хлуденевых — Кузьмы и Лешки — поставил свою избенку Заварухин. Кузьма под предлогом «мировой» увел жандарма в пивную и там «ублаготворил» его — напоил в стельку. Лешка был связным.
Вот он, Лешка, сутулый, белоголовый, до смешного похожий на старика, идет впереди Фроси с ведром воды. Он тоже опасается своего брата-жандарма, только для виду надевшего милицейскую форму, и злится, что тот обосновался в Нахаловке.
— Нарочно тут поселился, чтоб шпионить сподручней было.
Что-то стукнуло рядом: то ли доска оборвалась с крыши, то ли калитка ветхая упала. Фрося, рванувшись в сторону, расплескала воду.
— Кто тут? — тихонько спросил Лешка.
У девушки холодок по спине:
— Где? Кого ты увидел?
Собачонка визгливо взлаяла за соседним заборчиком и умолкла, поленилась брехать. В Нахаловке собаки — редкость: нечего тут охранять, да и кормить их нечем.
Вроде нет никого, но только тронулись с места, как словно из-под земли выросли две темные рослые фигуры, и сразу пучок света — сначала в лицо Фроси, потом Лешки. Заглянули в ведра.
— Так-с, дорогой братец, ты что-то спозаранку хозяйничать стал. Может, и вовсе спать не ложился? — ехидно сказал Игнат Хлуденев, и к Фросе: — Вы, барышня, не гнездышко ли вьете? Пойдемте вместе, посмотрим!
«Издевается, подлец! — Фрося стояла, не трогаясь с места. — Там целая артель трудится. Еще бы час, хоть полчаса, а потом пусть идут чешут об изгородь толстые рыла».
— Чего же вы медлите? Пожалуйста, путь свободный, — насмешливо поторапливал Хлуденев.
Фрося, делая вид, что не слышит его, соображала:
«Хлуденев уже вроде не жандарм — теперь ведь милиция. Так в чем разница? Почему рабочим приходится строить свое жилье украдкой, как при царе?»
Ноги у нее будто свинцом налились — не пойдет она с ним, не двинется с места. И Лешка мнется, не зная, каким образом выйти из положения. Стоит Хлуденеву повернуть направо, да еще раз направо… Вот что-то там уронили, глухо возня донеслась. Спасибо собачонке: опять взвилась, подняла такой лай — в ушах зазвенело.
— Ну, шагом марш, а то арестуем! — уже угрожающе скомандовал Хлуденев и вдруг повалился прямо на Фросю. Она едва успела отскочить — так он бухнулся наземь. Кто-то метнулся прочь по улице, второй милицейский с криком: «Стой! Стой!» затопал следом, на ходу доставая револьвер. Но тут Лешка, не будь прост, окатил его водой сзади, а когда тот шарахнулся от неожиданности, кинулся ему под ноги, сбил и, разом вскочив, побежал по неровному прогалу между избушками и землянками, петляя, как заяц, чтобы не подстрелили. И еще два юрких подростка вывернулись из-за угла и бросились за Лешкой к заводу, в сторону города, отчаянно вопя: «Украли, жандармов украли!»
Хлуденев поднялся и по привычке поспешил скорым шагом за нарушителями порядка, но, заметив их резвость, припустил тяжелой рысью, как настеганный битюг, громыхая сапожищами и оглядываясь на своего напарника:
— Не стреляй, черт!.. Братишка там!
В конце улочки — отголоском женский крик, а потом уже дружный, слитный:
— Украли! Воры! Держите, держите, держите-е!
Фрося опомнилась, подняла пустое Лешкино ведро и вернулась к колодцу. Опасность, похоже, миновала. Теперь милиционеры-жандармы бегут на другой край Нахаловки, а их еще будут подстегивать криками, сбивать с толку. Здесь народ не сидит за ставнями на болтах, как в зажиточных кварталах, где под окнами убьют, и никто не выглянет. Нахаловцы-то знают, отчего кое-кому ночью не спится. Воровать? Да что тут воровать-то? Если девку красивую, так в это время она только по доброй воле за калиточку выйдет.
Нервный смех охватил Фросю после испытанного страха. Как они растянулись оба! Но кто же сбил с ног Игната Хлуденева?
Можно было свободно вздохнуть и без опаски идти к своему новому жилищу. Теперь оно будет закончено наверняка, потому что милицейские не отступятся от погони за теми, кто оскорбил их «при исполнении долга службы». Но Лешка моложе их, и тот смельчак, который сбил с ног Хлуденева, тоже, должно быть, молодой рабочий из местных жителей. Они легко заманят осатаневших от злости бывших городовых к вокзалу, где скроются в каком-нибудь лесном складе, а скорее всего уведут их к ямам кирпичных заводов, где можно и днем на глазах у ищеек провалиться сквозь землю.
«Почему нам так трудно все достается? Ведь надо же людям иметь крышу над головой! Суслик мордастый, крот-слепыш и те спокойней живут, настоящие скиты у них под землей со всякими ходами-переходами», — думала Фрося, шагая по извилистому закоулку, поглядывая на начинавшее светлеть небо (спасибо, дождь не собрался, хотя и накрапывало после полуночи!), на смутно розовевший под чернотой туч краешек на востоке — предвестие солнечного дня.
Отец, братья и другие рабочие шумят: вот революция, свобода должна быть, права трудовому народу, толкуют о мире, о земле… А где это все? Третий месяц страна без царя, но, кроме громких споров на митингах, ничего нового не появилось в жизни. Несколько раз была она с Виркой Сивожелезовой и братьями на городских собраниях, слушала ораторов. Потом вместе с Виркой принималась тихонько обсуждать наряды дам и барышень, посмеивалась над услужливыми кавалерами, высматривала, нет ли где Нестора.
— С вами ходить только в цирк да на рынок! — сердился Харитон. — Никакой у вас политической сознательности.
Митя относился мягче, дружественнее.
— Ты поняла, что говорил этот гражданин? — спросил он сестру после двухчасовой речи знаменитого в городе оратора эсера Барановского, того самого, из-за которого шел спор у отца с Харитоном.
— Поняла. По-русски ведь говорил.
Но когда Митя попытался выяснить, что именно она поняла, то, к обоюдному конфузу, оказалось: громкая речь вожака оренбургских эсеров, построенная по всем правилам ораторского искусства, ни одной фразой не зацепилась в сознании девушки.
— Может быть, я глупая, — искренне огорчилась Фрося.
— Не-ет! — Митя покачал головой, в глазах его зажглись озорные светлячки, и он неожиданно признался: — У меня ведь тоже ни-че-го не осталось. Пожалуй, не зря честят Барановского большевики. Может, он понарошку так выступает: крутил, крутил, такие узоры навел, а хвать — пусто.
— Зачем же он на трибуну выходит? Батюшка в церкви, когда проповеди читает, будто сказку сказывает, само в душу западает.
И все-таки Фрося продолжала ходить на митинги и собрания, но Нестора так и не увидела. Наверно, он совсем не интересовался политикой.
В семье Наследовых этот интерес сказался пока только полным оскудением, поглотив все подсобные заработки. Вот надо переезжать в новую землянку, а даже табуретки купить не на что.
«Скоро тепло наступит, пойдем с маманей на сезонные, — подумала Фрося и остановилась переменить ведра. — Заработаем хоть немножко, а тогда…»
Что будет тогда, Фросе нетрудно представить. Конечно, пойдут в магазин. Долго будут ходить возле прилавков, поглаживая куски прочной «немки», тяжелые штуки драпа и полусукна, осторожно трогая шелковистые батисты да тонкие шерстяные ткани, при одном прикосновении к которым замирает сердца. Потом маманька, отвернувшись, достанет из-под верхних юбок надежно увязанные в платок, каторжным трудом добытые деньги, еще раз пересчитает их, вздохнет, и начнется свирепая торговля с приказчиком или хозяином, терпеливо караулящим каждую жертву.
«Заработать бы на платье из ташкентской кисеи, столешник купить, одеяло пикейное. Скорей бы влезть в новую землянку! Уж я там все вычищу, побелю, пол — глиной, чтобы ни трещинки». Занятая этими мыслями, Фрося обходила торчавшие бревна избяных углов, колья убогой городьбы, по высоте бугров угадывала крыши жилых землянок, и вдруг услышала — за нею кто-то бежал. Закричать? А если постовые нагрянут? Может быть, Лешка вернулся? Мальчишки не так топали бы.
Поборов страх, она обернулась. Если свой — хорошо, чужой — пусть себе бежит мимо.
Но сразу ее в жар бросило: сердце, забив тревогу совсем по-иному, подсказало: Нестор! Значит, он следил за нею и Лешкой!
Подбежав, он спросил, быстро дыша:
— Ловко я заставил постового пройтись носом по земле?
— Так это вы были? — Фрося поставила ведра, любовно всматриваясь в его лицо.
— Да. — Он легко перевел дыхание. — Я прятался у забора, пока не уронил калиточку (у вас тут все на живую нитку!), и любовался, как вы с дедушкой ходили мимо.
— С дедушкой? — Фрося чуть не расхохоталась, но, спохватясь, зажала рот обеими ладонями. — Это Лешка — наш сосед, — пояснила она тихонько, теперь боясь привлечь внимание своих людей. — Он еще подросток.
— То-то он улепетывал так прытко! Я подумал грешным делом: ничего себе нахаловские старики — на хлеба жалуются, а на ногу дюже резвые.
— Его не поймали? — обеспокоилась Фрося, вспомнив о тяжелых кулаках старшего Хлуденева.
— Где им было угнаться за ним! Он и меня обогнал возле заводского забора. Да еще двое мальчишек откуда-то выскочили.
— Вы-то почему убегали от милицейских?
— Надо было занять их, заманить подальше от вашей самовольной постройки. А потом я, как ни в чем не бывало, пошел обратно, даже пришлось им откозырять мне. Разминулись, и я припустил, чтобы успеть перехватить вас на улице — домой-то к себе вы меня не зовете! И вот он я! — Нестор, улыбаясь, прикоснулся кончиками пальцев к фуражке с офицерской кокардой. — Ваш сосед и мальчишки умчались. Милицейские — за ними, но держи цыгана в поле! — Нестор придвинулся к Фросе и по-другому зазвучавшим голосом ласково спросил: — Вы на меня не в обиде?
— За что же?
— Этот болван, кажется, толкнул вас, когда падал.
— Н-нет! Не беда, ежели бы и толкнул нечаянно. Хорошо, что Лешка убежал от него.
— Здесь, наверно, много соседей, готовых вам помогать… Кто тогда у вас во дворе был такой сердитый?
— Брат Харитон.
И снова по-другому, без ревнивой пытливости, Нестор сказал:
— А у меня сестра есть — Харитина. Очень славная… Она бы вам понравилась.
Фрося не нашлась, что ответить. Поведение Нестора было непохоже на заигрывание.
— Почему вы молчите? Вам интересно, откуда я, из какой семьи?
Девушка кивнула, скованная волнением и нахлынувшей вдруг робостью.
— Вот и мне хочется все узнать о вашей семье, хотя кажется, будто давным-давно знаю вас, вы красивая, милая, скромница, а живете так трудно. — Нестор завладел маленькими, шершавыми от грубой работы руками Фроси, нежно сжал их в комочек, грея в ладонях.
Проснувшийся южный ветер тепло дохнул на них, забывших обо всем, что творилось вокруг. Занимался рассвет, и на ярко-розовой полосе зари, как черные горы, выделились корпуса мастерских. В поселке, приветствуя утро, звонко запели петухи, утки пролетели поблизости, со свистом рассекая крыльями весенний воздух, дурманящий запахом талой земли и вянущих, не просохших с осени таловых плетней.
— О чем ты думаешь? Ты рада, что мы встретились?
Она смотрела на него, не в силах ни заговорить, ни улыбнуться: губы ее шевелились, но слов Нестор не слышал, потому что и не было их.
Стая казары звучно закликала в вышине.
— Ветер с полудня весну торопит. Вот птицы опять и полетели. Как они дорогу находят? — прошептала Фрося, запрокидывая большеглазое лицо, истово-строгое, словно во время молитвы.
— Так же, как я нахожу ее к тебе. — Нестор властно и бережно обнял девушку, прижал к груди. — Это судьба. Вот мы вместе, и мне так хорошо, даже сердце захватывает от боли. А ты… А тебе?..
— Да. — Фрося склонила голову на его плечо. — Слышите, как громко птицы кричат? Будто в колокола бьют по всей округе.
— Сейчас я ничего не слышу и не вижу — только ты. — Нестор обнял ее еще крепче, расстегнув шинель, обхватил полами и, ощутив прелесть девичьего тела под плохонькой рабочей дерюжкой, поцеловал в полуоткрытые губы. — Я буду сватать тебя.
Фрося будто очнулась от чудесного сна, пугливо оглянулась.
— Отчего ты встревожилась?
— Отец… Он так сердился, когда узнал, что мы встречались.
— Но ведь я не просто погулять хочу…
— Подождите, — легонько отталкиваясь и отстранясь, она уперлась ладонями в его грудь: — Идите, а то побьют вас.
— За что? Полно выдумывать. Не бойся. Мой отец тоже будет против, но я не уступлю.
— Мы еще поговорим, — все больше тревожась, шептала Фрося.
— А где мы увидимся? — Нестор плотно запахнул шинель, словно хотел сберечь теплоту прикосновения дорогой ему девушки. — Послушай, я с ума сойду от тоски.
— Приходите в субботу ко всенощной в Кафедральном соборе. Я отстану от матери, и вы проводите меня. — Фрося взяла ведра, не оглядываясь, — так трудно было расставаться! — пошла домой, а над поселком уже вовсю разливался, розовел ранний рассвет.
— Нет, Ефим, эсеров нельзя сравнивать с народниками, хотя методы борьбы у них одинаковые: сегодня одного вельможу хлопнули, завтра другого, а толку? Эсеры шли против даря ради интересов буржуазии и сейчас ей прислужничают — в деревне поддерживают кулаков, в станицах — богатое казачество, — говорил отцу Фроси в клубе социал-демократов Александр Коростелев. — Что такое сельская община, о которой они хлопочут? Община может быть только на равных началах, а как ты примиришь интересы кулака-мироеда и безземельного батрака? Можно ли волка и ягненка подружить? — Ожидая ответа, Александр Коростелев всмотрелся в лицо слесаря, но под насупленными бровями того поблескивало лишь глубоко засевшее упрямство.
— Неужели ты думаешь, что Барановскому близки наши рабочие нужды?
— Учредительное собрание все рассудит…
— Ничего оно не рассудит. Будет защищать интересы капиталистов да помещиков, а нас воевать погонит. Прислоняясь к эсерам, ты поневоле подыгрываешь антисоветски настроенным казакам.
Румянец гнева пробился на щеках Наследова, однако старый железнодорожник промолвил сдержанно:
— Казаки сроду для нас назола одна.
— Тем более… Помяни мое слово, когда рабочие и крестьяне потребуют свои права на деле, эсеры вместе с буржуями натравят на нас казаков.
— Помилуй бог, Александр Алексеич. Не должно того быть! Ведь Барановский за демократическую республику, за свободу…
— За какую свободу-то? — В голосе Коростелева нетерпение и досада, но он тоже сдерживается: какой же он пропагандист, если не может убедить своего, в сущности, человека?
— Свобода для собраньев, печати, чтобы свободная совесть… И опять же: бесплатно школы — раз, восьмичасовой рабочий день — два, страхованье… — Ефим Наследов загнул еще один палец, посмотрел на Александра и, забыв о счете, спросил: — А что есть свобода совести? От чего ее освобождают?
— От принуждения в религиозном вопросе: в кого угодно веруй, а можешь и вовсе без церкви.
— Правильно. Насчет церкви Барановский сказал, что ее того… от государства тоже освободить надо.
— Отделить, — поправил Александр Коростелев, смягченный простодушной улыбкой Ефима. — Но это у эсеров опять слова одни: никогда не посягнут они на влияние церкви. Деятельность ее им просто необходима. Как думаешь, церковь за царя или против?
Ефим совсем развеселился, даже подморгнул, шутливо грозя пальцем:
— Ты меня на пушку-то не бери! Оба на одну букву зовутся.
— Если за царя, то она против пролетарской революции. И эсеры против. Они, как попы, проповедуют равенство всех классов. Но равенство при капитализме — басня вздорная. Значит, одно у эсеров с попами на уме: посадить нам на шею вместо царя богатеньких.
— Чай, не одним буржуям даст права Учредительное собранье! Всем миром управлять будем.
— Опять за то же! — чуть было не вспылил Александр, раздражаясь именно потому, что это говорил кадровый заводской рабочий.
С минуту они наблюдали исподлобья друг за другом, как бойцовые петухи. Нет, упорно оставался Ефим при своем путаном, но уже устоявшемся мнении.
— Жаль мне тебя! — Александр отодвинулся, окинул рассеянным взглядом постепенно заполнявшийся зал. — Сидишь ты, друг, промежду двух стульев. Не сесть бы на пол!
Социал-демократы собирались для проработки решений VII (Апрельской) Всероссийской конференции большевиков, на которой дважды выступил докладчиком Ленин: по текущему моменту со своими Апрельскими тезисами и по аграрному вопросу.
Был воскресный день. На дворе то солнце светило в разводья туч, то накрапывал, временами припуская, теплый дождичек. Радостно блестели за распахнутыми окнами ветви деревьев, обрызганные только-только проклюнувшейся влажной зеленью…
Собрание назначили открытое, поэтому явилось много беспартийных, и из-за тесноты желающие послушать навешивались с улицы на подоконники, как на деревенской свадьбе. Интерес был вполне понятен: разговор предстоял о первой в России легальной конференции большевиков, которая по своему значению приравнивалась к съезду партии. Уже нашумевшие после опубликования в «Правде» Апрельские тезисы Ленина, легшие в основу ее работы, продолжали страстно волновать всех политиков.
Славный весенний денек и животрепещущий вопрос повестки дня взбодрили людей, развеяв тяжелое настроение, вызванное грандиозным пожаром в Форштадте, смахнувшим при ураганном ветре несколько улиц и переулков. Только Коростелев после разговора с Наследовым помрачнел, и Кобозев тихонько спросил:
— Что, Александр, проработали тебя в главных мастерских за отмену первомайской манифестации?
— Покритиковали крепко. Дескать, случись пожар у нас в Нахаловке, казаки нам не посочувствовали бы. Но, однако, уважая решение Совета, товарищи раздумали устраивать свою отдельную демонстрацию. Меня другое угнетает: не удастся нам сейчас размежеваться с меньшевиками. Опять они поднимут бешеный вой, чтобы уронить нас в глазах рабочих, и пока не хватает сил подавить их влияние. На собрании социал-демократов мы не наберем, как и в прошлый раз, нужного числа голосов за размежевание. Придется еще тянуть лямку… Но теперь, имея план мирной борьбы в Советах за постепенный переход власти к пролетариату, мы станем так их разоблачать, что, не боясь попреков, расколем свое формальное объединение с ними. А пока они в блоке с эсерами создали в Оренбурге свое политическое засилье.
— Постараемся ликвидировать это засилье, — спокойно, даже весело сказал Кобозев. — Когда мы твердо возьмем курс на социалистическую революцию, меньшевики и эсеры начнут метаться и открыто перейдут на сторону Временного правительства. Тут они будут разоблачены полностью. Вот увидишь, какую чушь будут они пороть сегодня.
Когда Александр Коростелев открыл собрание, слесарь Константин Котов зычным голосом прочитал резолюции Апрельской конференции, особенно выделив постановление по «Текущему моменту», в основу которого легли Апрельские тезисы Ленина. После этого большинство собравшихся социал-демократов решило, (чего и опасался Коростелев), касаясь в обсуждении фракционных группировок в партии, не бередить прошлого, а только выяснить, как обстоит дело теперь, и положить конец раздорам в организации.
Первое слово взял ярый демагог меньшевик Семенов-Булкин и сразу по-хозяйски прочно утвердился на трибуне:
— Теперь, когда мы должны по требованию масс объединить усилия всех социал-демократов, чтобы помочь матери-родине справиться с внешними врагами и победить голод, разруху, расхлябанность в тылу и на фронте, настоящим ударом в спину явились для нас Апрельские тезисы Ульянова-Ленина, согласно которым седьмая конференция большевиков выработала новую программу своей партии. — Семенов-Булкин передохнул, выдержав скорбную паузу и с еще большим нажимом продолжал: — Пагубная это программа во всех отношениях! Едва вернувшись в Россию, Ленин уже ступил на путь раздора, сделав на собрании партийных руководителей в Таврическом дворце доклад о войне и революции.
Игнорируя тот факт, что Россия уже не империалистическая страна во главе с монархом, а республика, игнорируя святую необходимость ее защиты, он призывал к борьбе против революционного оборончества. Величайшую в истории человечества победу русского народа — свержение самодержавия, рождение нового общества на основе всеобщего равенства — Ленин называет всего-навсего первым этапом революции и призывает перейти ко второму ее этапу — диктатуре пролетариата. Диктатуре! — Семенов-Булкин со страшной гримасой вскинул указующий перст и посверлил им в воздухе, как бы пронзая свод небесный. — Вон куда взвился вихрь архиреволюционной мысли, архиретивого общественного деятеля, — язвительно подчеркнул он любимую Лениным приставку.
— Вот архиплут и архимерзавец, — шепнул Александру Коростелеву Кобозев, кивая на вошедшего в раж вожака оренбургских меньшевиков.
— Что значит диктатура? Это железная власть, опирающаяся не на закон, а только на силу оружия. Мы знаем о необузданном насилии римских диктаторов, заливавших площади Древнего Рима кровью борцов за свободу. Можем ли мы теперь, вкусив плоды революционных побед, пойти на призывы Ленина, зовущего общество покориться кровавой диктатуре, осуществлять которую должен, по его мнению, пролетариат, представляющий собою несознательную массу, попросту сказать, толпу черни, способную на любые стихийные взрывы и любые крайности? Никогда! — почти взвизгнул Семенов-Булкин, сорвавшись с голоса, чем вызвал смешок среди «вольнослушателей». — Никогда! — Ничуть не смутившись, торжественно, будто клятву, повторил он. — Поэтому, когда Ленин, спеша утвердить объявленные им истины, повторил тезисы своего доклада на собрании большевиков и меньшевиков — делегатов Всероссийского совещания Советов депутатов, — он не встретил ни энтузиазма, ни поддержки, на которые рассчитывал. И тогда он опубликовал эти тезисы в «Правде» от седьмого апреля, надеясь, что мы, граждане свободной России, с радостью откликнемся на его призыв.
Тщетные надежды! Мы решительно отвергли его спекулятивные лозунги. И вот теперь он утвердил их в постановлении Апрельской конференции, предложив метод «мирной», открытой борьбы в Советах.
Мы не боимся борьбы и не станем отказываться от выполнения общих святых задач, памятуя, что мы стоим у постели смертельно больной матери-родины. Но именно поэтому я предлагаю вам осудить склочную, ведущую к раздорам тактику большевиков. Правильно выступили на конференции против Ленина Каменев и Рыков, утверждая, что Россия не созрела для социалистической революции и у нас возможна только буржуазная республика, потому что капитализм — неизбежная прогрессивная эпоха в развитии страны. Большевикам — делегатам конференции — следовало бы прислушаться к разумному предложению Рыкова и Каменева: ограничиться партии и рабочему классу только контролем над Временным правительством. Диктатура пролетариата — вреднейшая утопия! — Провожаемый шумными аплодисментами Семенов-Булкин важно направился к своему креслу в президиуме.
— Мы должны сейчас главным образом ставить вопрос об отношении к войне и Временному правительству, — сказал Барановский, тоже встреченный бурными аплодисментами его сторонников и последователей Семенова-Булкина. — Ленин называет величайшим надувательством рабочих наш лозунг о том, что мы ведем теперь оборонительную войну в защиту республики, о том, что мы воюем с Вильгельмом ради свержения Вильгельма. Отказывая в доверии Временному правительству, подстрекая русский народ не поддерживать Керенского и наших министров, которых он костит почем зря, Ленин тем самым срывает призыв революционной России к немцам свергнуть Вильгельма. А сам, выступая на Апрельской конференции, говорит, что переход власти в России в руки пролетариата будет началом прорыва фронта мирового капитализма. Но такой переход власти в современных условиях России невозможен.
Большевистский лозунг «Долой войну!» — тоже пустые слова, но, обращенный к несознательной солдатской массе, способствуя дезертирству, а значит, ослаблению защиты республики, он становится контрреволюционным. Правильно поступила буржуазия, взяв власть, и хорошо поступили рабочие, мирно уступив ее, поскольку сознание масс не доросло еще до управления государством. Именно это заставляет нас верить в то, что объединение всех усилий демократии выведет нашу родину на путь истинного процветания.
Кобозев, взойдя на трибуну, сказал:
— Вам удалось передать власть Петроградского Совета буржуазному Временному правительству, потому что пролетариат после многих лет господства реакции и политического террора оказался слабоорганизованным. Но это был как раз тот первый этап революции, о котором говорит Ленин. Этот этап закончен, поскольку власть перешла от феодалов-помещиков в руки буржуазии. Теперь рабочие должны на втором этапе революции подготовить свою победу, которая передаст власть в руки пролетариата и беднейшего крестьянства. Это не утопия, а реальная возможность мирного развития революции, на которую правильно ориентирует партию большевиков Апрельская конференция. Мы сейчас в меньшинстве, но наша программа выражает интересы всего народа, и мы будем добиваться ее осуществления путем свободной борьбы за свое влияние в Советах. А добиваясь этого, изменим и состав правительства. Да, мы зовем к диктатуре пролетариата, а вы, как бы ни маскировали свою политику, ведете страну к диктатуре буржуазии, к неограниченной власти капитала.
Ведь все ваше правительство состоит из представителей буржуазии и обуржуазившихся помещиков, поэтому война при нем осталась той же грабительской войной, какой она была при царе Николае. Поэтому мы против лозунга защиты республики. Прав Ленин, что лозунг буржуазии о свержении Вильгельма — величайший обман, созданный для распространения угара социал-шовинизма. И сто раз он прав, когда предложил на Апрельской конференции немедленно выйти из Циммервальдского объединения, не порвавшего с буржуазными оборонцами, и создать новый Коммунистический Интернационал. Жаль, что Зиновьев выдвинул требование остаться в Циммервальде. Свергать надо не только Вильгельма, но и королей союзных воюющих стран. Лишь передав власть народу, настоящему противнику империалистической войны, мы получим мир. Иначе его добиться сейчас невозможно.
Сходя с трибуны, Кобозев взглянул на Барановского, на Семенова-Булкина, вольно развалившегося в кресле и даже как будто равнодушно позевывавшего, обвел глазами взбудораженную аудиторию. Он знал, что железнодорожники-большевики любили его, знал и то, что злобная клевета меньшевиков — травля, которую они упорно вели против него в печати и на собраниях, — повредила ему: даже большая часть рабочих поверила тому, что он будто бы продался капиталисту — мельнику Юрову, обещав принять его в кооператив после внесения большого денежного пая. И вот теперь первой задачей борьбы было завоевание доверия всех рабочих, «обработанных» соглашателями.
— Решения конференции дают нам настоящее оружие для мирной борьбы на втором этапе революции, чтобы завершить ее победой диктатуры пролетариата, — заявил Александр Коростелев, заняв трибуну и обращаясь непосредственно к обособленно сидевшей группе большевиков.
— Не забывайте выступлений Каменева и Рыкова на конференции и статью Рыкова в вашей «Правде», — крикнул Барановский, с ненавистью глядя на резко сдвинутые рыжие молнии бровей Александра Коростелева. — Каменев ставил вопрос о поддержке Временного правительства, поскольку оно искореняет остатки царско-помещичьего режима. Ставил вопрос и о продолжении войны.
— Точно. Ставил. Да криво поставил. Поэтому и опрокинулись его утверждения после Апрельской Всероссийской конференции большевиков, которая эту каменевскую линию назвала в «Правде» каутскианством.
— Не только Каменев! Отнюдь! — сразу вскипел Семенов-Булкин, заметив беглые улыбки в аудитории. — Против тезисов Ленина выступили Рыков и Пятаков. Вы идете рядом с нами только потому, что массы требуют объединения сил социал-демократов. А вы — против и держите камень за пазухой. Это называется говорить народу правду?
— Мы везде заявляем, что будем работать вместе с вами в Советах, честно, открыто борясь за свое влияние в них, неуклонно выполняя решения партийной конференции, принявшей за основу Апрельские тезисы Ленина, которые осветили нам дальнейший путь. Без них мы, пожалуй, заблудились бы в дымовых завесах, которые вы наловчились пускать. Теперь рабочие имеют программу и экономических требований, чтобы быстрее двигаться к социализму. Национализация земли с конфискацией помещичьих владений…
— За это получите по зубам! — прорвался гласный городской думы — богатый степняк-помещик.
— Вот на ком шапка-то горит! — почти весело поддел его Коростелев. — Живете при новой буржуазной власти, как у Христа за пазухой, а ведете речь об искоренении царско-помещичьего режима! Ведь только окраску переменили, и теперь господствуют не феодалы-помещики, а помещики-капиталисты.
О войне и мире тут уже достаточно толковали. Я только хочу в связи с этим сказать, что очень своевременно поставлен вопрос на Апрельской конференции о создании Третьего Коммунистического Интернационала, где не будет места оппортунистам. Хорошо и то, что на предстоящем съезде нашей партии будет стоять вопрос об изменении ее названия и программы. Назовемся партией коммунистов, как во времена Маркса и Энгельса. Проведем критику и разоблачение ошибок наших идейных противников, а когда завоюем большинство в Советах, тогда оцепим вагоны с балластом и на всех парах устремимся вперед.
— Впереди может быть срыв под откос, — пригрозил эсер Архангельский. Он говорил долго и напустил туману еще больше, чем его приятели, пока Андриан Левашов не сказал:
— Вот так вы и задурили головы многим рабочим. Да вдобавок стараетесь подавить всех своей кичливостью — дескать, образованнее вас нет на белом свете.
Наконец выступления прекратились, и подавляющим большинством голосов была торжественно принята резолюция, предложенная Семеновым-Булкиным насчет объединения всех сил социал-демократии на борьбу с разрухой в стране, на защиту революционного отечества. А после собрания в комнатах клуба начался, как и следовало ожидать, обмен мнениями в каждой партийной группе.
— Эх, как мне хотелось выступить и прямо сказать: ничего путного, братцы, у нас вместе с Барановским, Семеновым-Булкиным, его дражайшей супругой и прочими их подголосками не получится! — заявил Федор Туранин.
Кобозев, еще не остыв, сумрачно сказал:
— Нельзя было так выступать: мы будем работать вместе с меньшевиками в Советах не ради дружбы, а чтобы привлечь на свою сторону трудовые массы. Надо на конкретных фактах показать народу, как лживы и продажны эти социал-демократы и как контрреволюционны министры правительства, которых они поддерживают. Начнем сразу разъяснять везде значение Апрельской конференции, рассказывать о ее решениях. Вы, Александр Алексеевич, вместе с Георгием и нашими активистами проведите беседы на предприятиях и в селах. Бахтигорай Шафеев и Мингареев пойдут к своим землякам. Организуем агитпоезд. Он будет на пути от Оренбурга до Ташкента останавливаться на станциях, и наши товарищи проведут везде митинги среди рабочих и солдат.
— Отлично! — сказал Кичигин. — Сегодня же приступим к созданию агитбригады.
— Новоселье справили? — спросил Ефима Наследова Коростелев. — Как землянка? Построили?
— Ну-у, настоящий дворец получился! Не хуже того, что был у Пугача в Бердах.
— Жалко, что Первомай у нас сорвался из-за пожара в Форштадте, — сказал Котов. — Казаки себе не землянки, новые дома мигом отстроят. Чего им сочувствовать? Надо бы показать буржуям единство рабочих, пускай они не мечтают о реставрации, а то царские портреты висят кое-где по-прежнему!
— Ничего, скоро все почувствуют нашу силу, — ответил Георгий Коростелев, уже составлявший для своей бригады список агитаторов. — Семеновы-Булкины сегодня корчились, как береста на огне, а то ли еще будет!
Землянка, конечно, мало похожа на дворец, но тогда, в первое утро своего появления, она так приветливо глянула на строителей, что они обрадовались, словно дети.
Илья Заварухин большими шагами обошел вокруг низкого, обмазанного глиной жилья, над двускатной крышей которого победно торчала желто-красная кирпичная труба.
— Семь аршин на девять! Потрудились на славу!
Не было еще потолка, не вынута земля внутри и не выровнен пол, но заранее приобретенные рамы со стеклами закреплены в просветах окон, и дверь прислонена к проему без порога и косяков. Участок, самовольно занятый под постройку, огорожен врытыми столбами с привязанными плетешками, а где и просто голыми жердями.
Яма, в которой сложена печь, оказалась почти на середине будущей землянки.
— Вот и отлично! — сказал Левашов, потеребливая вымазанные глиной усы. — Теперь тут, когда будете выемку грунта делать, можно земляные подушки оставить, чтобы доски для нар настлать.
Дедушка Арефий и Наследиха не согласились:
— Больно-то нужно! Летом — сырость, зимой промерзать будут. Потихоньку выберем всю землю. После саманны стены сложим, потолок настелем.
Ефим Наследов весело похаживал вокруг, что-то подправлял, подтыкал, уже без опаски вколачивал гвозди.
— Живет баба за барином! Теперь тут можно городить что угодно.
Федор Туранин крепко сжал локоть Ефима:
— Гляди у меня, домовладелец, не забывай рабочую дружбу, не то приду и, как медведь, раздавлю твой теремок.
Фрося оживленно хлопотала на новоселье, вытрясала одежонку, постели, помогала матери вносить и размещать домашний скарб.
— Радуешься? — спросил дед Арефий. — Добро, внученька, и я рад: все-таки в своем углу помирать спокойней.
— Типун вам, батя, — посулила Наследиха. — Выстроили, чтобы жить. Теперь надо прибраться да по обету свечу божьей матери-заступнице поставить в соборе. Доделки разные — это успеется.
Явился после утренних гудков Игнат Хлуденев с другими милицейскими.
Он тоже обошел вокруг землянки, для чего-то постучал по крыше, спускавшейся краями до его пояса, обтер с кулака приставшую глину, испытал прочность изгороди и осуждающе покачал головой, увенчанной форменной фуражкой:
— Вы бы еще половину улицы захватили!
— Нам и тута не тесно будет, — бойко отозвалась Наследиха, победоносно сияя рыжими прядями, вылезшими из-под тесного будничного волосника.
— «Тута»! — Бывший жандарм презрительно сплюнул себе под ноги. — Городская земля каких денег стоит, а вы нахалом… Да еще плачетесь: угнетают вас, иксплотируют!
— Самый Иуда Искариот, — убежденно молвил дедушка Арефий, глядя ему вслед выцветшими, но непотухшими глазами. — Сколько шкур спустили с нас жандармы да казаки!
Он взглянул на Фросю, усердно чистившую возле плетешка самовар, и, захваченный нахлынувшими воспоминаниями, продолжал раздумчиво:
— Лет этак полсотни назад у нас каждое утро людей через строй гоняли. Без того день в городе не зачинался, и никто уж вниманья на эти казни не обращал. Вроде утренней разминки обыденно драли. Стоят этак на плацу Форштадтском либо на площади от Водяных до Чернореченских ворот две шеренги солдат с прутьями, а промежду ними, будто по зеленой улице, волокут человека с голой спиной, распятого на чем придется. Попервоначалу-то он ногами шагает, с боков только распорку держат, а после волоком тащат, сердешного. А с обеих сторон ему отвешивают, только кровь брызжет да лохмотья мяса летят. Бывало, иные, перекрестясь, на эту дорожку сами твердо ступали, но чтобы до конца дойти… Нет! Ежели еще назначат тыщу шпицрутов, кой-кто доходил. А как три тыщи — каюк! Я тогда в военном лазарете санитаром работал и насмотрелся всячины. Раз казачьему уряднику так шкуру спустили, что врач лазарета сожаленье возымел: самовольно допустил к нему ручного медведя кровь лизать. Зверь смирный, сытый, дескать, раны вычистит, а заодно и занозы вынет. Да куда — к утру помер казачок.
Фрося сидела на корточках, обернув вокруг колен широкий подол, опустив руки в грязно-зеленых разводах от дрожжевой закваски с золой, соболезнующе морща юное личико, смотрела на деда:
— Кто же бил-то, дедушка… если казачьего урядника?..
— Солдаты били. Известное дело: любой дури подчинена солдатская головушка! Наши губернаторы страх охочи были народ пороть. В мое молодое время в Оренбургской губернии, поди-ка, всех перепороли. Только что дворянство неприкосновенность имело.
— А казаки?
— Пороли и казаков. У губернаторов это запросто. Казаки для них — те же мужики. Они ведь в моду вошли, только когда всякие усмиренья понадобились. Тогда-то они для нас, рабочих, в такое преткновенье и обратились. — Дед Арефий подкатил поближе чурбак от кучи дров, присел, кряхтя, вытянул ноги и начал сворачивать цигарку. — Казаков сильно пороли, когда на новые укрепленные линии переселяли, на Илек да в киргизские степи. Не хотели они уходить от своих обжитых куреней по Уралу. За упорство против церкви тем, которые раскола придерживались, крепко перепадало. Опять же — это уж не на моей памяти, а раньше, при губернаторе Перовском, пороли казаков за отказ от запашек для общества. Теперь у них засыпка хлеба в общественный анбар на черный день как закон. А тогда бунтовали. Ну им и вкладывали. Самая внятная агитация! И еще шибко мужиков пороли под Челябинском.
— А тех за что?
— Счас скажу. Только принеси мне сперва, лапушка, уголек прикурить. Мать, должно, таганок еще не погасила.
Арефий, прищурясь, с видом знатока полюбовался трубой, мощной даже для такой большой землянки. Чуточный, почти бесцветный дымок дрожал над нею в голубом безветрии, значит, таганок на шестке горел потихоньку.
— Слава те, господи, чудо какое сотворили! — пробормотал старик, перекрестясь на трубу и совсем не удивляясь другому чуду — внучке своей, вывернувшейся из темного проема, сделанного для двери.
А она шла по дворику, вся залитая солнцем, жарко светя черными глазами под белым платочком: осторожно несла тлеющий уголек на куске коры, легко ступая маленькими чириками на босу ногу и колыша зонтиком широкой юбки.
Присела и снова занялась своим делом, посматривая на деда, молчаливо торопя его рассказывать дальше.
— Мужичкам челябинским за бестолковость всыпали, — сказал дед, смачно пошлепав губами и окутавшись облачком махорочного дыма. — Были они казенные крестьяне… Их переделали в государственные, а они — на дыбы. Дескать, царь проиграл нас министру в карты. Чиновники приехали объяснять, а они чиновников в холодную воду посадили. В прорубь, стало быть. И пытать начали у них: что да как? Тогда наш губернатор сам за дело взялся: поехал с отрядом и всех подряд там перепорол. Схватят, скажем, мужика… Тот рубаху на голову: дескать, уж обработанный. Глянут, — и дальше. Всех перебрали. После того народ сразу успокоился. А губернатору — орден.
— Кому же всех хуже жилось, деда?
— Рабочему, знамо! Ни кола ни двора у него. Житье впроголодь. Работы и посейчас десять да двенадцать часов в сутки, а тогда кто ее усчитывал? И все нас терзали: войска губернаторские, казаки, жандармы, городовые. До той поры кровь пускали, пока не стало у рабочего ни страху, ни терпенья. И вот гляди чего получилось: спихнули ведь и царя и губернаторов!
— Дедушка! — Фрося бросила быстрый взгляд на проем двери, где то и дело мелькала мать, гнувшаяся под низким пока потолком (Пашка вместе с Гераськой убежали разведать о поденных работах к болгарам-огородникам, что снимали в аренду пригородные земли в поймах возле устья Сакмары). — А ты дружил с кем-нибудь… из казаков?
— Дружить не дружил, а смолоду знался с одним из Бердинской станицы… В лазарете его выхаживал. Раненый он был не шибко тяжело и вскорости опять в полк уехал. Легкий характером человек — долго я его вспоминал. А в войске он артиллеристом служил.
Фрося ходила в Берды с подружками. Это всего верстах в шести-семи от Нахаловки вверх по берегу Сакмары. Там, говорят, была столица Емельяна Пугачева. И хотя казнили этого казака в Москве лютой казнью, но бердинцы вроде гордились тем, что станица их прославилась такой историей и с оглядкой, а все же охотно показывали место, где стояла дворцовая изба.
— Он и сейчас живет в Бердах, твой знакомый казак?
— Не-е, в японскую его убили где-то в Порт-Артуре.
— А почему ты долго о нем вспоминал?
— Я же говорю: веселый был. Тогда еще казаки летом белые рубахи носили. Они же форсуны первеющие! Ну, понятно, на службе ихней только и дела при полном замирении: то себя чистит, то коня скребет. И чтобы на рубахе пятнышка не было. Едут, бывалоча, с пиками, кони блеском играют, сами в рубашках белых, как лебеди, с-под фуражек кудрявые «виски» на отлете. Да все с песней, со свистом да гиком — бравые ребята, ничего не скажешь!
Дед Арефий тяжело вздохнул и умолк.
— Говори еще! — Фрося совсем забыла о самоваре, похожем теперь на пузатого бухарца, лежавшего на боку в грязно-полосатом халате. — Правда, что, когда казаки в поход собираются, по всем станицам набат враз ударяет и слышно его от Уральских гор до моря Каспия?
— Правда, — уже неохотно подтвердил Арефий. — Чего они тебе дались, эти казаки? И думать-то о них — изжога одна! А походы?.. Вот мой знакомец из Бердов рассказывал нам однова, как еще в старину отличились бердинские казаки… В старые времена они, когда с походу домой являлись, по станице гнали наметом, из ружей палили, в джигитовке удаль показывали. Теперь за это вроде за фулиганство в околоток забрали бы… Ныне казаки свою удаль по-другому показывают: безоружных людей лошадьми топчут, баб да ребятишек нагайками урезают…
— А раньше? Что он тебе рассказывал?
— Раньше казаки с врагами внешними сражались… И вот ехали с боевого походу бердинские… Вел их атаман еще молодой — горячая голова. Шибко гнал. К любушке, видно, торопился и замотал конников совсем. С нашей Маячной горы уже повестили станишников, что казаки на подходе. Девки с подарками на бугры высыпали. А казаки к станице подъезжают, нахохлились в седлах, ровно куры на насестах. Атаман глянул на них и охнул: позор войску! Видит, у дороги поля Богодухова монастыря… Подсолнухи — корзинки спелые… Вздыбил коня, шашку вон: «Сотня, на противника в атаку лавой!» И первый заполосозал шашкой. Полетели головы подсолнушков: казаки ожили, развернулись.
А пушкари стоят на дороге. Завидно им. Теперь только и разговору будет о казачьей рубке.
Командир батареи, не будь плох, тоже скомандовал:
«Пушки к бою! По наступающему противнику огонь!»
Девок с бугров будто ветром сдуло. А пушкари разошлись вовсю:
«Огонь!»
Да промазали в небо — угодили в церкву. Она вспыхнула — и дотла сгорела.
Протоиерей нашенский донес письмом епископу в Казань, а владыка, осердясь, начертал: «В Бердах церкву вместо сгоревшей строить запрещаю. Войска Оренбургского казакам Бердской слободы на моление ходить (ходить, а не ездить, анафемы!) в Форштадт. Вечно». Ладно, не проклял, а мог бы анафеме предать.
— Неужто это правда, дедушка?
— Так я ж тебе быль пересказываю. Видишь, какие они — казаки-то! Ради гонора отца-матери не пожалеют.
— Ты их все-таки не любишь?
— А пошто я их должен любить? У меня до сей поры их отметины чувствуются. Вот они, рубцы-то! — Дед Арефий пошарил сквозь рубашку на тощих ребрах и пониже спины. — Ровно у волка травленого. Ты меня еще спроси, как киргизцы за волками с камчой охотятся… Плеть это тяжелая со свинчаткой, — пояснил Арефий и, помаргивая сморщенными веками, пытливо посмотрел на присмиревшую Фросю.
Росли в здешних садах только желтые акации с невзрачными цветами на колючих ветках, а в городе, уже уставшем от военных поборов, мобилизаций, недостатка продуктов, пели, как и по всей России, романс «Белой акации гроздья душистые». Это было словно поветрие. В ресторанах гремели цыганские песни и пляски, и цыганки из таборов, обложивших город шатрами, будто вражеская орда, подметали пыльные улицы широкими юбками.
Задыхаясь от среднеазиатской жары, Оренбург справлял пир во время чумы, потрясаемый пьяными скандалами, грабежами, убийствами, бешеными разгулами купцов и военных.
— Перед пропастью бесятся, — говорили рабочие.
Нахаловка жила суровой трудовой жизнью. Наследовы всей семьей дружно углубляли, утепляли и охорашивали свою землянку: закончили городьбу, срубили сенцы из тонкого леса. Уже по-настоящему скрипела дверь, умазан гладко глиной земляной пол, и окна превратились в глубокие бойницы, когда были сложены стены из саманных кирпичей. И грядки для лука да моркови сделаны во дворе, и сарайчик появился для дров и кизяка, а Наследиха, теперь владелица всех этих чудес, не спешила поставить обещанную свечку в соборе перед образом божьей матери.
— Гляди, рассердится богородица, — сказала ей Фрося, когда мать, умаявшись, снова не пошла ко всенощной в субботу.
А девушка принарядилась, причесалась, даже напудрила умытое личико и вот металась в тоске. Нестор-то ждет, ищет ее, наверное, и вся площадь перед собором, широкая, с аллейками сирени, с тополевыми шатрами на поворотах дорожек, шумит народом. Идут, конечно, барышни в длинных, светлых платьях, отделанных кружевами и лентами. Барыни волочат по ступеням паперти тяжелые подолы, придерживая их и показывая красивую обувь.
Глядя на свои дешевенькие, на низком каблуке баретки, Фрося вспомнила, сколько радости доставила ей эта обновка. О модах в Нахаловке разговору мало. Но когда Фросе было лет десять, бегала она в праздник с подружками к мельницам у вокзала, чтобы получить по копейке — дар богатого мельника. И еще тогда заметили девчонки на Ташкентской улице два дома с широкими парадными, на ступенях и перилах которых сидели нарядные барышни. Какие яркие платья, какие туфельки с бантами, со шнурками и блестящими пряжками! И на соседней Пиликинской улице в некоторых домах праздно сидели у окошек стайки пестро одетых девушек.
— Что они там делают? — спросила дома Фрося у матери.
— В заведении. На службе, — неясно отговорилась мать.
Приглядываясь в другой раз с жадным детским любопытством к вычурно одетым, намалеванным красоткам, Фрося решила:
«Когда подрасту, тоже пойду сюда работать».
Теперь-то она все поняла и боялась даже подумать о поганой той жизни. Вместе с матерью нанималась на поденные работы, жила на заработок отца и братьев. Пока… А что потом? Один выход для честной хорошенькой девушки — замужество. Но ведь не ради куска хлеба! Вот Нестор сватать хочет… Отчего же при одной мысли об этом холодеют, отнимаются у Фроси руки и ноги? Дорог, люб он ей, но даже матери боязно сказать о нем. Неужели испугалась отцовской угрозы? Нет, не может еще она разобраться в своих чувствах и намерениях. Обязательно нужно увидеть Нестора, тогда они вместе решат, как им быть дальше. Не верится, что в самом деле хочет сватать, но, если придет он к отцу, разве согласятся родные отдать ее в казачью семью? Да еще за офицера! Уж на что добрый дедушка Арефий, и тот не любит казаков!
Не гнева богородицы опасалась Фрося, когда мать, нарушив обет, не пошла ко всенощной, а всей душой переживала за Нестора. Он ведь ждет в соборе, где гулко отдаются под сводами в немыслимой высоте громоподобный бас протодьякона и ангельское пение детей и женщин, то перекликающееся со звучным гудением мужского хора, то единым дыханием с ним славящее «жизни подателя». У Фроси от этого пения теснит в груди и слезы просятся на глаза. А Нестор, наверное, опять ничего не слышит: ждет ее, оглядывается по сторонам… Да разве разглядишь в тысячной толпе!.. Повсюду огоньки колеблются в голубом дыму ладана, и то ли от них движутся тени на иконах, то ли, внемля молящимся, склоняются, как живые, лики святых. Смотрит, не мигая, глазастый спас, скорбно сдвинув брови. Грозно-задумчивы очи архангелов. Хмурится и Нестор: обманула, не пришла. «Что же я могу?» — мысленно обращается к нему Фрося.
— Если уж собралась, сходи в нашу церкву. — Мать порылась в сундучке, потом в кубышке. — Вот две копейки, поставь свечку богородице. А в ту субботу пойдем к соборной. Сегодня мне невмоготу, чтой-то совсем расклеилась.
«Да нельзя ждать до той субботы!» — хотела крикнуть Фрося, но только губы закусила и отвернулась, чтобы скрыть свое огорчение.
Тихо вышла во дворик. Постояла в смятении возле грядок, сжимая в кулаке платок, обшитый дешевыми кружавчиками, с завернутыми в уголке двумя копейками. Как раз ударил колокол соборной колокольни, стали мерно вторить ему другие по всему Оренбургу, и Фросе вдруг показалось, что можно запросто пойти в город одной. Быстро-быстро пройти по пустырю мимо карьеров кирпичных заводов, мимо скотобойни и вокзала к центру, прямо на сияющий среди садов бело-розовый минарет Караван-Сарая, одетый доверху светлыми изразцами. А там до собора рукой подать.
«К нам! К нам!» звал Фросю средний, но все равно выделявшийся среди множества других, соборный колокол, а она стояла недвижно, оцепенев в непонятной растерянности.
Звонили и в нахаловской деревянной церквушке, где за стеной помещалась начальная школа, в которую две зимы бегала Фрося. Жалко дребезжал вблизи знакомый колокол, и Фрося, покорно опустив голову, пошла на его зов. Какая серенькая, убогая, под стать всей Нахаловке, эта заводская церквушка, — просто амбарчик рубленый. Даже сравнить нельзя со строгой, словно из исполинских кубов сложенной церковью Петра и Павла, сияющий купол которой и золотой шпиль колокольни манят богомольцев Гостинодворского района. А собор…
— Точь-в-точь куличи с нарядными маковками на большом подносе, — сказала как-то Вирка Сивожелезова.
«Может, и правда похоже», — подумала Фрося, мысленно находясь там, возле Нестора.
Нахаловская церковка была полна народу, и так же, как в соборе, строго смотрели на людей со стен разные святые.
«Отчего они только строжатся над нами? Почему никогда не улыбаются? Чем недовольны: все им кланяются, целуют руки, зовут на помощь в беде… Если вы правда добрые, сделайте так, чтобы Нестор пришел сюда! — попросила Фрося. — Подскажите ему, где я…»
Мысли ее путались, в ушах звенело от духоты и кадильного чада, голубоватой дымкой висевшего над тесно сбившейся толпой. Тихонько пробравшись вперед, она поставила зажженную свечу в свободное гнездышко паникадила, стоявшего перед иконой на высокой подставке, и, пятясь обратно, лаская взглядом тонконосое, большеглазое лицо богоматери, прошептала страстно:
— Матушка, помоги! Приведи Нестора ко мне. Отдай его мне в мужья. Ведь я больше ничего хорошего не смогу — только любить и беречь его.
Стоявшая рядом старуха с нервным, злым лицом, похожая на монашку в своей черной кашемировой шали, осуждающе покачала головой, но смолчала, вдруг смягченная ребячески невинным выражением лица девушки и слезами, копившимися в ее широко открытых, чудных глазах, вздохнула, размашисто вынося костлявую руку, истово закрестилась, сгибая в поклонах молодо послушную спину.
Нестор не пришел в Нахаловку ни в тот вечер, ни в следующий. Он будто решил наказать Фросю за нарушенное ею обещание. И через неделю в соборе не увидела она его, сколько ни оглядывалась, как ни вертелась, вызвав строгое порицание соседок и матери…
Май нагрянул жаркий, сверкающий, заполнивший пышной пеной цветения сады богатых казаков и поймы рек. Особенно буйствовал терн, местами совсем загородив колючими белыми зарослями доступ к берегам. Желтым кружевом накинулись кусты колючей чилиги, розовыми цветами покрылся дикий персик-бобовник и лишь семик-жимолозник крепился, набирая восковые почки, чтобы к троице — духову дню сразу одеться в белоснежный наряд. Тогда побегут девки и ребятишки в пойменные леса, чтобы принести охапки жимолозника украсить красные углы в избах и ворота.
Только Фросе сейчас не до цветов, не до весны. Похудела, краски сбежали с лица, но будто еще красивее, желаннее стала, еще ярче заблестели горячие глаза. По улице пройти не могла без того, чтобы не увязались ухажеры. И наконец, сам епископ Мефодий во время проповеди обратил внимание на необыкновенное лицо юной богомолки.
Слушая его, вздыхали мужчины, не стыдясь вытирали слезы женщины. О родине-матери говорил епископ, о гибели, грозящей ей от безвластия при многовластии, об оскудении веры Христовой в час тяжелых испытаний. Скрадывая дыхание, слушали страстную речь убежденного и опытного проповедника сотни людей. Гибкий мощный голос его проникал в сердце, грозил бедою.
— Только верою Христовой укрепимся, братья и сестры, что твердыней своей спасала наших предков от набегов половецких, как щитом укрывала под игом татарским трехсотлетним, избавила от польских захватчиков в смутные времена, вдохнула силу разящую в годину французского нашествия. Ею единой силен перед врагом и чист перед богом великий русский народ. Крест господень, аки меч, бриллиантами звезд усыпанный, сияет ныне в руке архангела во мраке, объявшем родную землю. И слышен глас, скликающий под воинские хоругви его, внушающий народу русскому твердо стоять на рубежах отечества. Да не ослабеет карающая десница его до дня великой победы, когда приумножится слава оружия нашего и воссияет Россия вкупе и влюбе с союзниками на поле брани. Памятуя о святой церкви нашей, о благе родины, отриньте прельстительные слова подкупленных Вильгельмом богохульников-большевиков, что внедряются в ряды православного воинства и в тылу среди верующих сеют смуту и раздор.
В этом месте своей патетической речи и обратил внимание отец Мефодий на вспыхнувшее не то испугом, не то гневом лицо молоденькой девушки, ярко выделившееся из множества расплывчато колебавшихся перед ним женских лиц.
Всего несколько секунд он помедлил в молчании, но так необычна была заминка, так явно оробела девушка, поймав на себе его исступленно сверкавший взгляд, что Алексий, верный служка архиерейского дома, стоявший на страже у амвона, успел мгновенно подметить и по-своему оценить положение.
— Соборному хору пополнение требуется, — сказал он после вечерни, загородив девушке дорогу к выходу возле прилавка церковного старосты, где продавали восковые свечи, образки и крестики.
— Да я не смогу. — Густо покраснев, Фрося обернулась к матери, завязывавшей в уголок платка новый нательный крестик для Пашки, утерявшего свой вместе с гайтаном. — Ведь правда, маманя, не пела я никогда в церкви?
— Дар божий бывает до времени скрыт в человеке. Голос твой в обиходе ласкает слух. Подойди для испытания завтра после заутрени к регенту хора… Природный алмаз огранки требует, чтобы засиять всеми цветами радуги, — явно заимствуя цветистость речи епископа, говорил Алексий, а сам тем временем оценивал нежный овал девичьего лица, отметил прямизну точеного носа и тяжесть опущенных ресниц. Шейка высокая, и маленькие два голубеночка шевелились от дыхания под простенькой кисеей платья, отчего так и хотелось накрыть их ладонями (прости, господи, прегрешение!). И руки у нее округленные, с гибкими еще пальцами. Станом тонка, а плечи гордые, сильные…
— Нету у нее никакого дара, батюшка, — заявила Наследиха, заметив далеко не отцовские взгляды ухажера в поповской рясе. — Поищите лучше в пансионе благородном, там пограмотней, побойчей.
— Что ж ты ему не присоветовала еще в Москву съездить? — грустно спросила Фрося, озираясь на паперти, где осаждали выходивших богомольцев попрошайки да нищие.
Кавалеры, ожидавшие барышень, теснились на развилках дорожек, по которым рассыпалась валившая из церкви нарядная толпа, но все они были чужие, незнакомые, ненужные. Нестор, значит, не пришел, и Фрося, не выдержав, вздохнула с таким разочарованием, что Наследиха, уже настороженная, сразу заметила ее огорчение.
— Уж ты не свиданье ли назначила? — без обиняков спросила она, заглядывая искоса в лицо дочери. — Ежели и впрямь офицер — убить тебя мало. То-то я и гляжу: к вечерне — в колокол, всю работу — об угол. И думать не смей! Видно, ты, девка, совсем ума решилась… В храме божьем вертишься, как сорока на колу. Людей вводишь в искушение: не зря тебя батюшка-то приметил…
— Ну что вы ко мне пристаете, запугиваете! — воскликнула Фрося, но в голосе ее прозвучал не испуг, а ожесточение. — И так живу, ничего доброго не видя.
Поздно вечером, когда епископ закончил статью «Об опасности сектантства» для созданной им же газеты «Церковный вестник», Алексий, приготовив все в опочивальне, завел речь о соборном хоре и своем разговоре с девушкой, красотою подобной шемаханской царице. Мефодий слушал, как пересказ светской книги, бесстрастно, даже позевывая, но в этом и открылся опытному служке затаенный его интерес.
— Не исчез еще страх божий в народе. С матерью девица приходит к вечерне. И то: ночью по пустырям хождение опасно. Тут недолго на вербовщика из вертепа наскочить. Они таковские: где легким житьем улестят, а где и силой… Хотя нахаловским девицам терять нечего, кроме пролетарских цепей, как говорят ораторы-большевики. Дома в черном теле содержат, и замужество добра не сулит: женихи-то заводские — голь перекатная. Но матери, известно, строжатся, — добавил Алексий, вспомнив отповедь Наследихи.
— Отчего же… нахаловским девицам?.. — В голосе отца Мефодия новая нотка: не властная, не елейная — нетерпение страстное прорвалось, любопытство мирское.
— Проследили-с до самого местожительства, — с торопливым угодничеством и затаенным торжеством ответил Алексий.
— Ну, добро. Иди пока. Я помолюсь.
Слушая, как затихали шаги верного служки, епископ рассеянно смотрел на исписанные листы бумаги. Сам сочинял он передовицы для своей газеты, сразу оценив великое значение печатного слова в заварившейся борьбе за власть, сам писал целые подвальные статьи, щедро вкладывая в них пыл врожденного политика. Готов он был без страха ринуться в бой за реставрацию царского режима, увлекая за собой всю громаду подвластного ему оренбургского духовенства, и только ждал настоящей силы, на которую мог бы опереться.
Пробегая бездумно взглядом по набросанным строкам, он напрасно силился вернуть настроение одухотворенности, утраченное после сообщения Алексия.
«Истребляйте сектантство, как зараза проникающее во все слои общества. Иноверцы других стран, наипаче всего в Америке и Англии, не жалея средств, готовят проповедников для русских сект. Сильны и многолюдны их миссионерские школы и самым щедрым поощрением пользуются от своих правительств. Они и засылают к нам тысячи сектантов с единой целью подрыть устои православной церкви — исконной хранительницы государства Русского!»
Нет, ничего не говорили сейчас ни уму, ни сердцу епископа недавно волновавшие его слова. Пропало вдохновение, заглушенное яростным зовом взбунтовавшейся крови. Легко встав, разминая на ходу еще не огрузневшее тело, он подошел к освещенному лампадами киоту, истово осеняя себя крестом, отвесил несколько поясных поклонов и опять забылся, стоя у образов, заложив под мышки ладони скрещенных на груди рук. Спохватись, опустился на колени, с жаром ударил челом в пол:
— Прости мя, господи! Знаю — непотребно сие для пастыря, облеченного столь высоким саном. И Алексий… Ох искуситель во образе человеческом! Возлюбивший злобу чтит ю паче благостыни…
В наследовской землянке свои дела. Раньше всех, еще до гудка, проснулся на полатях дед Арефий — свесил вниз бороду, посмотрел, как спят его потомки. Только Ефим с Дуняшей за занавеской в углу, остальные вот они: Фрося на железной коечке спит, притянув лоскутное одеяло к носу, а коса висит чуть не до полу: Пашка изогнулся между братьями на нарах так, будто ведет жаркую драку: один кулак торчит над Митиным ухом, другой закинут на грудь Харитону, и нога подогнута, как у боевого петуха.
«Надо же так исхитриться! — влюбленно усмехнулся Арефий, глядя на внуков. — Добрые парни!»
С сегодняшнего дня вся семья будет уходить на работу: мужчины в ремонтные мастерские, остальные на шерстомойку к богачу Хусаинову, и дедушке Арефию предстоит домовничать одному. Опять у Пашки ноги покроются царапинами, ссадинами и цыпками. Ну-ка, потопчись день-деньской в грязной и мокрой овечьей шерсти! В ней и прилипший песок, и щепки, и разные колючки. От непрерывного полоскания с утра до ночи в воде Урала даже у Фроси опухают пальцы, о матери и говорить нечего: лицо отекает, все суставчики болят. Но надо! Надо к зиме одеться, обуться, дровишек припасти.
Кряхтя, Арефий сползает на печь, а уже оттуда вниз. Второй просыпается Евдокия…
Заревел гудок и словно сбросил с постелей Наследовых. Один плещет в лицо пригоршню воды, другой тянет на ноги опорки, взмахивают рукава рубах, и семья уже за столом.
Харитон тащит с улицы бунтующий самоварчик. Ефим привычно режет на доли каравай хлеба, по-крестьянски прижимая его к груди. Молчаливо едят подогретую на таганке похлебку и бегом на работу, благо мастерские рядом.
«Вторым эшелоном» отправляются на шерстомойку Фрося, мать и Пашка. Эти собираются дольше. Хотя вначале им путь лежит через пустыри, но от вокзала до моста к Зауральной роще — по городским улицам. Не пойдешь в нищенских отрепьях. В корзину их — и на закорки (Пашка понесет на клюшке).
Фрося украдкой смотрится в зеркальце, закладывая прядку волос за ухо так, чтобы виднелась из-под платочка. Много народу встретится и на мосту, что ведет на ту сторону широкого Урала. Там, налево, за старицей, дачи оренбургских богатеев, а направо, где Урал, — пройдя вплотную под кручей, на которой красуется южная часть города, — опять круто отходит в степи, устроена шерстомойка. Дальше прямая дорога к линейным станицам по реке Илеку, в одной из них и живет Нестор. Кто знает, может быть, он мчится сейчас с казачьей сотней. Там, в степях, бараки, где проводятся военные учения… Мог и домой отпроситься — поговорить с грозным отцом…
Надежда на встречу вспыхивает с новой силой, Фрося успевает надеть красные стеклянные борочки на шею и еще раз заглянуть в крохотное зеркальце.
Уже прогнали городское стадо, а пыль еще не улеглась — висит тонким розоватым облаком. Какие в степи корма? В пойме лучше. Но вдоль нее ездят сторожевые казаки, берегут свои покосы, чтобы не было потравы.
— Вечор мы с Гераськой только дождались клева на Сакмаре, откуда ни возьмись — казачата из второго корпуса — кадеты на палочку надеты… — болтал Пашка, нарочно пыля на ходу. — Как начали пулять камнями и в нас и в воду — всю рыбу распугали. У них лагерь под Маячной горой, так они думают — и земля их! Я говорю: «Мы, нахаловцы, тоже под Маячной живем». Куда там! Спасибо, сторож с каменоломен вступился, сказал: тут городская лесная дача и рыбу ловить на удочку всем разрешается.
— Плохо устроили: выйти рабочему человеку некуда, — озабоченно отозвалась мать. — Да не пыли ты, паршивец, одежка и так грязнится!
Фрося шагала молча, быстро — опаздывать нельзя: все места бабы расхватают — и рассеянно посматривала по сторонам. У вокзала длинные ряды извозчичьих пролеток. Битюги, широкие, как паровозы, громко бухали по мостовой могучими ногами. Рысаки по сравнению с ними казались совсем поджарыми. В зеленой прохладе оживленная птичья щебетня — архиерейский сад. Фрося только собралась спросить у матери, почему дом архиерейский, если живет здесь епископ Мефодий, но вдруг его самого увидела за высокой сквозной оградой… Властного вида человек в подряснике из дорогой материи шагал не спеша по ближней аллейке, поигрывая янтарными четками. «Вот бы такие борочки на шею!» — подумала девушка и испугалась: повернул голову епископ, и хоть сразу потупилась она, заспешила, забегая по другую сторону матери, но всей спиной сквозь простенькое ситцевое платье ощутила взгляд подходившего быстрыми шагами грозного владыки. Ближе, ближе гулкие шаги, а может быть, так с перепугу казалось и стучало глупое сердце.
«Как он тогда в соборе насчет большевиков-то!»
А тут Пашка будто нарочно замешкался — уронил корзину с тряпьем.
— Куда так спешите, люди добрые? — раздался ласковый голос, совсем не тот, что гремел с амвона в церкви.
— На поденную, на хусаиновскую шерстомойку, ответила мать, низко кланяясь.
Поклонилась и Фрося, не поднимая глаз.
— Ваши детушки?
— Мои, мои, ваше преосвященство, — поклонилась еще ниже совсем нельстивая Наследиха.
Пашка, сопя, затискивал мятые юбки и кофты и свои рваные порточки обратно в корзину, на попа даже не взглянул. Рабочие говорят, что попы — главная опора царского трона. Не зря, следуя примеру старших братьев, Пашка зашвырнул свой крестик, а из гайтана сделал прочный кукан для рыбы. Станет он кланяться долгогривому! Но Мефодий и не смотрел на него, только на Фросю, пожмуриваясь из-за чугунной решетки.
— Мне доложили, что голос у вашей дочки хороший. Как зовут-то?
— Ефросиньей кличем. А голосу мы от нее особого не слыхивали. Некогда нам распевать.
— Испытать надобно. Пусть придет завтра к соборному регенту! — сказал уже тоном приказа. — И мальчонку можно служкой определить. Личиком он благообразный, обмыть только его. Я скажу ктитору…
Пашка набычился, бросил дерзко:
— Не пойду я служить в церкву. Расстреляйте — не пойду.
Наследиха сконфузилась: каково слушать этакое верующей матери!
— Глуп он еще, ваше преосвященство, какой из него служка! Двенадцать годков, умок совсем детский. Он и кадилу так же растрясет, как наши ремки. На воробьев, поди-ка, позарился, непутевый!
— Ну бог с ним. А дочку Ефросиньюшку к регенту пошли. Кто знает, может, судьба ей…
— Я тоже не пойду. — Губы у Фроси дрожали; больно споткнулась босыми ногами, торопясь уйти подальше от епископа. — Боюсь я их. И этого, и того, что в соборе к нам подходил.
— Выдумывай-ка! Духовные лица — пастыри, богом к нам приставлены. Ты бойся казаков да всяких лоботрясов молодых, особливо приказчиков. А про божья служителя плохо думать — грех большой.
— Все они жеребцы долгогривые! — небрежно бросил Пашка.
— Цыц! — Наследиха на ходу отвесила сынишке подзатыльник, еле на ногах удержался, оглянулась испуганно.
— Ну и что? — Пашка стоически вынес колотушку. — Чего ты мне этим доказала?
— Я тебе, паршивцу, вицей докажу, а руки об тебя обламывать зря не стану.
Мимо бывших Водяных ворот ехали водовозы, огибая «деевскую линию» — целую улицу добротных домов, принадлежавших одному купцу Дееву. Вниз к Уралу тарахтели пустые бочки, а наверх по крутому взвозу — мокрые, хлещущие по сторонам светлыми брызгами. Пашка и тут успел — прокатился, пока зазевался водовоз, — и, лихо гикая, вскачь догнал своих, только болталась за плечами корзинка на клюшке.
— Ведь уж большой, пора бы за ум взяться, — выговаривала ему мать.
— Ты сама сказала епископу: мал еще да глуп. Грех обманывать «батюшек». — В голосе мальчишки явная издевка, но Наследиха только плюнула в сердцах.
А Фрося остановилась, достала из подвернутого фартука туфли-баретки, надела их, обтерев ладонью узкие ступни ног. Зазорным считалось (особенно в станицах) ходить при посторонних босиком. Но что поделаешь, недаром говорил дед Арефий: «Нужда свой закон пишет: по нужде и пеши пойдешь, коли ехать не на чем». Так и Фрося: обмирала другой раз от стыда, когда глазели кавалеры, а ходила босая, если обувка развалилась.
— Колко шагать! — пояснила она матери, тоже топавшей босиком натруженными ногами. — Я уж ушиблась, а на мосту кабы занозу еще не загнать.
Проезжали казаки — верхом и в повозках, скакали навстречу и в обгон армейские, должно быть, в лагеря Оренбургского гарнизона, за которыми по этой же дороге находится белостенный кремль Менового двора. Дальше, прямо на юг, идет дорога рядом с рельсовыми путями к старинным соляным копям — Илецкой Защите, к передовым линейным станицам по Илеку. К Нестору ведет эта дорога, прокаленная знойным солнцем. От Илецкой Защиты чугунка уходит к Ташкенту, и по обе стороны ее стелются там бескрайние киргизские степи. Так говорили бывалые люди. А Фрося из Оренбурга никуда не выезжала, хотя и витают теперь ее думки далеко от Нахаловки.
— Вот бы окурнуться! — мечтательно сказал Пашка, задерживаясь у низеньких перил деревянного моста, откуда виднелись величавые арки железнодорожного, по которому как раз шел поезд, развертывая клубящееся черное полотнище дыма.
— Я тебе окурнусь! — пригрозила мать. — Опоздаем, и работы не дадут. Обратно пойдем — искупаемся. — И она первая круто свернула за мостом вправо.
Среди кустарников по травяным кочкам, под высокими тополями, осокорями, корявыми талами и дубами по черной земле проторены тропки-стежки. И ухабистые дороги сворачивали с тракта туда же — к берегу Урала, сверкающего синевой меж стволов деревьев. Утреннее солнце скользило по реке косо падавшими лучами, и вода будто ежилась, смешливо блестя светлыми чешуйками.
Разноголосый шум стоял над двумя рядами бесконечно длинных мостков, устроенных прямо в воде вдоль левого берега. По мокрым доскам уже шлепали босоногие женщины в самых что ни на есть затрапезных платьях. Ломовики, громыхая по корневищам прибрежных деревьев и по камням, подвозили на грузовых телегах целые горы грязной шерсти и сваливали ее на берегу, напротив бочек, стоявших на помостах.
Пашка, гологрудый и длинноногий, высоко закатав штанины портков, не оглядываясь на мать и сестру, затерявшихся в пестроте женских измятых лохмотьев, мчался вверх по берегу к этим бочкам, куда бежали такие же сорванцы. Еще кипя не растраченной с утра энергией, они выбирали путь с препятствиями, перескакивая через жерди, положенные для сушки вымытой шерсти.
Фрося и Наследиха тоже получили бирки от Бахтияра, приказчика Хусаинова, здоровенного татарина в засаленном бешмете и такой маленькой тюбетейке, что она казалась приклеенной на его бритой толстолобой голове. Быстро переодевшись в кустах и положив снятую одежонку возле поста приказчика, они направились к мосткам, унося с собой по охапке сухой шерсти — подложить на доски.
И в изношенной до дыр бористой юбке, в заплатанной ситцевой кофточке с обрезанными рукавами, Фрося выделялась среди других. Даже Бахтияр приметил ее и отвлекся от дел, заглядевшись, как она, устраиваясь на мостках, обжала юбку вокруг колен и подоткнула край подола так, чтобы его не задрал ветер.
— Карош девка! — Бахтияр покачал головой, одобрительно поцокал языком. — Сколько деньгам надо таскать в кусты такой девка?
— Мотри, кровь носом пойдет! — огрызнулась на него Палага Тураниха, обминавшая себе подстилку на другой линии мостков, лицом к берегу, напротив Наследовых. Она нарочно заняла место между Зиной Заварухиной и Виркой Сивожелезовой, чтобы можно было поболтать за работой. Вирка, дочь разорившегося казака, работавшего в литейном, курносая, синеглазая, с белесыми густыми волосами, по-бабьи собранными в шишку «кулек», была девушка характерная, языкастая и ни с кем, кроме Фроси, не дружила.
— Ты чего-то не заходишь ноне? — окликнула она подружку.
— Да когда мне?! Ты бы сама забежала к нам на новоселье.
— У меня батя опять пьет. Замучилась я это время с ребятишками.
Фрося, затянув потуже платком уложенную короной косу, опустила руки в воду, примерилась, зачерпнула полные пригоршни, умыла запылавшее лицо. Стыдно стало, что вот и Вирку совсем забросила в последние дни.
Насколько глазом можно охватить, вдоль всего берега на мостках — молодые и старые женщины. Все громко переговаривались, девчата брызгались, звонко визжали, хохотали, даже песни завели, пока не прозвучала команда. Тогда поденщицы угомонились, уже плыла по течению меж мостками над погруженной в реку сеткой намокшая в бочках комковатая шерсть. Быстро сновавшие руки жамкали, полоскали, растеребливали будущую пряжу, а неугомонные языки продолжали перемалывать новости о войне, идущей в каких-то неведомых, сроду не слыханных краях, о раненых солдатах, вернувшихся в поселок, о новом правительстве — чтоб ему пусто было: нет ни чая, ни сахара, ни муки. И о семейной жизни, о болезнях детей здесь можно услышать, о каких-то страшных сектах, которые возглавляют богатые казаки. О чем только не толковали женщины, перекидывая в воде друг другу жгуты размытой шерсти, терявшей постепенно грязь и жир.
Одна Фрося молчала, только вскрикнула сердито и лягнула узенькой пяткой Бахтияра, подобравшегося к ней по воде, чтобы потрогать ее стройные ноги. Тураниха и Зина чуть не лопнули от хохота. И другие бабы сначала притаились, лукавые (все-таки развлечение!), а потом задыхались от смеха, когда приказчик, багровея налитым затылком, побрел к берегу, потирая ушибленную скулу.
«Нестор, миленький, куда ты пропал?» — с чувством щемящей обиды думала Фрося и так мыла, жамкала шерсть, так закручивала ее в жгуты, словно вымещала на ней свою сердечную боль.
Зина Заварухина, мать двух малых детей, загоревшая, как киргизка, только глаза да зубы светились на круглом лице, смеясь, попрекнула:
— Ты чего, Ефросинья, мне лишнюю работку подкидываешь? Чего шерсть укручиваешь — не расплетешь?
Тетка Палага, любившая Фросю и не шутя считавшая ее невестой своего Кости, сказала весело:
— Рученьки-то у ней проворные, не поспевает за ней струя речная.
Палага сама проворная: нужда да дети малые научат пошевеливаться. Смуглая, мощная, раза в два шире своих соседок, особенно узкоплечей, длиннорукой Виринеи, она ласково сверкнула на Фросю цыганскими глазами. На крупных губах добрая улыбка.
— Не трать силушку понапрасну, дочка. Она тебе еще ох как пригодится!
Виринея, полоща размытые космы, погружает руки в воду чуть не до локтей, кажется, вот-вот сама ускользнет в нее, но утягивает назад тонкое тело, изучающе искоса поглядывает на Фросю через кипящую водяную дорогу, по которой плывет и плывет, словно водоросли, овечья шерсть, кружится, переходя зигзагами из рук в руки.
Странно печальное лицо у Фроси, будто знает она что-то свое, затаенное, оттого и смотрит на всех отчужденно и тревожно ожидающими глазами.
— Неужто закрутила с кем? — тихонько шепнула Вирка, когда полдничали под тенью еще зеленого тополя, рухнувшего с берега, подмытого весенним половодьем.
И оттого, что Фрося пугливо оглянулась на мать, поняла — попала в точку.
— Кто? — спросила одним движением губ.
Фрося недовольно повела бровью, отвернула зардевшееся лицо от подружки, с которой совсем недавно, нянча ее ребятишек, шили тряпичные куклы, а потом вместе начали ходить на поденные работы. И хотелось поделиться, и страшно было отдавать в чужие руки свою необыкновенную радость-боль. Поэтому, помолчав, заговорила совсем о другом:
— В хор церковный меня зовут.
— Пойдешь?
— На вот! Я никогда не пела для других.
— В церкви разве для других поют? — сердито возразила Виринея, обиженная уклончивостью подруги. — Божественно для службы церковной, для своей души. Я умела бы — пошла.
— Я тоже не похвалюсь.
— Сказывай! Голос у тебя хороший, а петь научат. — Вирка засмеялась невесело — самой-то похвалиться нечем, кроме отцовского самодурства, — добавила, озоруя. — Главное для певчих — рот разевать…
— Рот разевать надо учиться у Хлуденева, на это он мастер. А песен от него ни от трезвого, ни от пьяного не услышишь, — сказал Пашка, уплетая горбушку хлеба с зеленым луком.
Пойма Урала возле устья Сакмары занята огородами болгар, снабжавших овощами и рассадой весь Оренбург. И как это допустили здешние буржуи, чтобы у них из-под рук взяли такое доходное дело?! Вот опять показались высоко нагруженные телеги — для работниц шерстомойки везут зеленый лук, а редис и салат — в город.
— Редиски бы взять, да больно кусается. — Женщины провожают взглядами корзины с бело-розовыми клубеньками. — А салат этот на кой пес нужен? Снизу — ничего, и сверху листья — трава голимая.
— Зато самая пишша для господ! — едко промолвила Палага Туранина. — Им что ни чуднее, то и подавай. Еще есть какой-то дивикатес. Должно, уж хуже нету, самих диво берет. Им денежки не жалко — легко добыты. Попробовали бы вот так поелозить целый день!
— Кто же тогда дурака валять будет?
— Довольно уж поваляли! Вон как царица-то дурила. Сраму на всю Расею, да и в иноземных странах, поди-ка, судачили. Куда только царь глядел!
Палага Туранина сердито встряхивает платок, снова повязывает косматую голову (видно, и расчесаться утром не успела), говорит с раздражением:
— Немку пошто-то взял… Неужто русской подходящей не нашлось в целом царстве?
— Фрось, а кто он? — прильнула к плечу подружки вспыльчивая, но отходчивая Виринея, заметив, что та опять замкнулась, где-то далеко бродит мыслями. — Давай вечером убежим в город.
Фрося так и всполошилась:
— Можно ли?
— Отчего же нельзя? — возразила Вирка. — В кинематограф попадем. Насчет работы узнаем. В объявлении пишут: в газету нужна рассыльна…
— А если рассыльный? — Пашка подсел поближе. — В какую газету? В городе их полно, а устроиться некуда.
— Тебе что: ты в мастерские пойдешь, а вот нам с Фросей… Летом не здесь, так в кизячном дворе поработаем либо на кирпичном заводе, а зимой чем жить? Не сидеть же у отцов на шее!
Наследиха прислушалась, обернулась:
— Куда наладились, голубушки? В рассыльные хотите поступить? Статочное ли дело девушкам днем и ночью по чужим дворам шататься?
Лицо Фроси гаснет, утратив выражение оживленного интереса:
— Господи, а где же для нас «статочное дело»? В требухе рыться на кишечном заводе либо кирпичи из навоза лепить на кизячном дворе?
— Давай ходи моя замуж!.. — Листва на тополе затряслась, ветки затрещали. Бахтияр, толстый, как медведь, выглянул, похохатывая, из зеленого просвета.
— Этакая рожа! — со злостью пробормотала Фрося, отворачиваясь.
Но бабы сразу настроились весело: перерыв на отдых короткий, скудный полдник и того короче, только и отрады — позубоскалить.
— Какой с тебя жених! Прежде мамон подбери.
— Иди-ка, милок, мы тебя пощекотим маленько… хворостиной.
— Не серчай, Фросенька, худой жених идет — хорошему дорогу кажет.
— Зачем худой? Моя жина целый день чай пьют, биляш, шурпа кушают.
Сморщенная, черная, точно головешка, да еще кривая солдатка Танька Кривая под общий смех подскочила к татарину, прицепилась за рукав:
— Бери меня. Я баба сговорчивая и хоть некрасивая, да завлекательная. Чего вы за девчонками все гоняетесь? Они еще скусу в жизни не понимают.
Татарин брезгливо отмахивался, а Танька, озорничая, крутилась возле него, пошлепывала да пощипывала.
— Сколько у тебя жен-то? — спросила Зина Заварухина, вдоволь насмеявшись.
— Один старый да два молодой. Мало-мало играет.
— Нет, бабай, мы тебе Фросеньку не отдадим. Хватит с тебя троих, — сказала Тураниха. — И то грех великий. Как тебя только бог терпит!
Бахтияр протестующе мотнул большой головой, прищурил хитрые глаза:
— Русский мужик веселый изба каждый день ходит? Да? Каждый ночь другой девка спит? Это ваш бог чего думает?
Взрыв смеха опять спугнул с отмели суетливых галок.
— По веселым домам купчишки ходят. Бог за них не ответчик. Их там нечистый пасет.
Вирка первая перестала смеяться, выпрямилась, в голосе дрожь:
— Смеемся, а тут плакать надо, кусаться надо от злости. Нас будто нарочно мордой в грязь, в навоз суют, чтоб мы польстились на зазорно житье. Меня вчера в коробовски номера звали. Оченно, говорят, заработки хороши. И дело не трудно — умелости не требует… — Бросала страшные, охальные слова, воткнув кулаки в бока, ветер облепил юбкой тонкие бедра, раздувая подол, — вот-вот взлетит девчонка в гневном порыве.
Женщины даже опешили перед ее отчаянной выходкой. Но знали: большая семья у этой девчонки осталась на руках после смерти матери. Отец — разоренный пожаром станичник, утративший звание казачьего урядника, хотя и работает в литейном цехе, но часто пьет. Пьяный бьет ребятишек чем попало, достается каждый раз и Вирке. Недавно швырнул ее на ступени крылечка и отрубил шашкой косу — то ли пугал, куражился, то ли впрямь убить хотел, да промахнулся спьяну. Поневоле придешь в отчаяние.
— Я уж все передумала, — жарко шептала она Фросе, когда пошли домой. — Надо нам настоящу работу искать. Ну чего доброго можно ждать в наших нахаловских трущобах! Не упасу я здесь своих пацанят и сама пропаду. На днях ходила в милицию. А они, паразиты, говорят: мы в семейны дела не вмешивамся. Нет, мол, таких законов, чтобы посягать на власть главы дома. Подумать только: раз отец — так может нас со свету сжить, как нашу мать сжил. Ты книжки читать?
— Нет, не приходится…
— И мне тоже. А нынче увидела у знакомой в городе книжицу… И название тако завлекательно, как в кино, — «Гангрена». Спросила, кто эта гангрена? Принцесса али страна какая? Что же ты думаешь? Оказыватся, гангрена — болезнь, по-нашему антонов огонь, когда человек заживо разваливатся на куски. И мне теперь сдается: вся наша жизнь — гангрена. Гнием на корню.
— Будет тебе! — Фрося зябко шевельнула плечами, сверкнули на шее красные стекляшки. — Смотри, какая роща красивая, травка шелковая, зеленая, Урал синий-синий. И в Нахаловке неплохо, кабы не было таких зверей, как твой батька. Надо его самого шугануть хорошенько. Я братьям скажу. Пускай они в Совет обратятся, с Коростелевым потолкуют. Царя столкнули, а на пьяницу неужто управы нет? Харитон говорит: должна у всех жизнь наладиться. Чтобы по-хорошему, чтобы радость в ней была. И я жду теперь чего-то особенного. Но, видно, у меня терпенья мало: устаю ждать.
Нестор тоже измучился от ожидания. Но он ждал встречи с Фросей, а не перемены жизни, она ему и такая нравилась.
— Улучшить условия можно без революций, — говорил он дружкам. — Все от нас самих зависит, а не от правительства.
Долгая разлука с Фросей угнетала его. Почему девушка не пришла в собор, узнать не удалось: прямо с паперти его с двумя приятелями, подготовившими все для увоза Фроси на Илек, самих «умыкнул» гарнизонный патруль. Оказалось, что один из приятелей участвовал перед этим в разбойном нападении на киргизский аул с угоном баранты да еще захватил из табуна принадлежавшего местному баю лучшего скакуна.
Так Нестор (в чужом пиру похмелье!) попал за компанию на гауптвахту, а еще через день его вместе с другими казаками сотни запасного полка спешно отправили на сбор в степные бараки.
В степях успели отполыхать ковры тюльпанов. Красные, белые, желтые чашечки их увяли и сникли, виднелись лишь жесткие настилы побуревших листьев. Струился по буграм шелковый ковыль; ждал косарей, колыхаясь волнами на ветру, высокий житняк. Заросли куги да крики чибисов выдавали близость затаившейся кое-где в низинах воды, на солончаках мертво серела бесплодная, растрескавшаяся земля, как паршой, покрытая белесоватыми чешуйками, а вокруг озер стелилась мелковетвистая упругая трава — солянка.
Над неоглядным диким простором, дрожа, пламенели заревые пожары, стоявшие вполнеба, и по этой немыслимой красноте черными стаями проносились на кормежку птицы с гнездовий и обратно. В чистейшем воздухе, еще не замутненном песчаными бурями, веяло то озерной свежестью — запахами соли и рыбы, — то ощущалось дыхание разгоряченных солнцем спеющих сочных трав. Степь была привольна, хороша и грозна, в ней с особой силой звучали казачьи песни и особенно остро саднила сердечная тоска.
Никаких бараков на месте сбора не было. Стояли на выбитой земле только брезентовые палатки, привезенные казаками, что впервые оторвались от родных станиц, и «стариками» вроде Нестора, обучавшими новичков рубке и джигитовке.
С севера лагерь прикрывала цепь низеньких круглых холмов, похожих издали на тесно поставленные кибитки, на юг тянулись бесконечные травянистые равнины. Целина нетронутая. Только ветер носится да громоздятся в близком небе кучевые облака. Неприметна в ровных бережках похожая на арык тихая речонка с чуть солоноватой, чуть горьковатой водой. Орлы на курганах, неподвижные, как межевые камни; тонкий посвист сусликов. Да еще набегали из глубины Киргизии рыжие стада быстроногих антилоп — сайгаков, вызывали у казаков охотничий зуд и желание испытать резвость своих лошадей. Да куда там! Лучшие скакуны далеко отставали от неуклюжих с виду, горбоносых, большеголовых сайгаков: будто стальные пружины, отлетали от земли их короткие ножки, догоняла только пуля, посланная верной рукой.
— Вот где охотиться-то! — сказал Нестору приехавший впервые на сбор деверь Дорофеи Николай Ведякин. — Дудаки тут бродят, будто овцы. Которы по пуду, наверно, потянут. А вчера смотрю, глазам не верю: пестры куры под бугром в пыли купаются. Взлетели — ан это стрепеты, подкрылья белы, ровно снег. Куропатки с цыпушками по балочкам так и бегут, бегут — куда ни ступи, трава шевелится.
Николай рассказал Нестору о последних новостях в Изобильной, куда вернулась целая группа фронтовиков, «воткнувших штык в землю». С ними приехал и Михаил Шеломинцев, брат Нестора.
— Батя ваш Григорий Прохорыч выпил по случаю встречи. А потом шибко шурогатил. Ударил Михаила… Подвернулся под руку седельный нагрудник — им и хлестнул. Спасибо, не вышиб червонной глаз, зато лоб рассек. Да так, что фершал в Буранном швы накладывал.
— Чего они не поделили?
— Я толком не разобрался. Мы аккурат в Буранном выстилку делали. Как девки с приданым, стояли возле своих сундуков, у станичного правленья, когда его Григорий Прохорыч на тачанке привозил.
— Сам и привозил? — Нестор, нервно поигрывая нагайкой, постегивал себя по голенищу сапога: чего доброго, батя и его с Фросей так встретит!..
— Чай, он испужался — коней наметом гнал. — Зубы Николая сверкнули, осветив красивое лицо, высмугленное солнцем. — Харитина сказывала — кровь из раны ключом била.
Нестор машинально поправил зеркально начищенную червонку на выпуклой груди своего Белонога, криво усмехнулся:
— Здорово батя угостил Мишаню ради встречи?
Брови Николая вскинулись, а яркая нижняя губа вывернулась, что должно было означать полное недоумение.
— Знашь ведь бородачей. Как фронтовик через порог, так и пошло-поехало: изменники родины, таки-сяки, царя предали. Воевали плохо, а теперь ишо с фронту бежите, германцу дорогу к родным куреням кажете! Теперь, мол, и нас здесь в разор введете, честь войска казачьего уронивши.
— Помирились наши-то?
— Ничего, поладили. После того ваш батя велел Михаилу ехать на ярманку в Уил. Подвод триста ишо по станице набралось. Караульников твоего дружка Антошку турнул. От нашего двора — брат Прохор. Он хоть и колченогий, да сильный, и башка у него по торговой части хорошо варит. Теперь у нас дома один Демид воюет по хозяйству с женской командой. — Николай снова ослепительно улыбнулся. — Ты чего-то совсем забыл про своих станичных! А ведь там слухи бродют о твоей женитьбе на Неониле Одноглазовой. Дорофея-то… плачет.
Нестор не ответил, повел коня в сторону. Не коснувшись стремян, взлетел в седло и мгновенно пропал за буграми.
— Не чертяка ли? — восхищенно выдохнул Николай и направился к своему стреноженному, еще не совсем объезженному коню, ходившему всю зиму на тебеневке[5].
На учебных джигитовках Нестор работал так, что новички прозвали его бешеным, а начальство за лихость и старание отметило в приказе. И рубку лозы он показывал для примера отличную: срубал шашкой наискось очень хитрый для неопытной руки пруток так, что тот, падая, втыкался в землю, успевал на скаку кольнуть чучело, и снова с веселой яростью рубануть зыбкую лозу, и тут же, рядом поразить набитого соломой «врага», пока еще дрожали «посаженные» вершинки. Но после разговора с Николаем Нестор заметно притих, хотя занимался с молодежью так же усердно.
Лежа на земле с седлом в изголовье, он следил за плывшими в небе облаками, похожими на редкие льдины, идущие по голубой реке, вспоминал, как подростком ездил с отцом на ярмарку в Уил. Тогда батя был помоложе, поприветливей, хотя слыл твердым, расчетливым хозяином. Вот он размашисто шагает «для размину» за возом — плечистый, худощавый, весь свитый из мышц и сухожилий, борода вполгруди; посверкивает по сторонам глубоко посаженными глазами, шутит с Нестором.
«А теперь червонкой по лбу! Раз он так озлобился — не пустит Фросю в дом. Придется выдела требовать. — С легким холодком озноба Нестор опять подумал о протесте отца. — Нет, все-таки к лучшему перемена власти: в мозгах у людей тоже переворот происходит. Раньше родитель выпорол бы меня на обществе „за непослушание“ с согласия станичного круга, а нынче старики вроде посговорчивее стали. Хорошо бы, вместо того чтобы заниматься здесь выкрутасами, которые уже надоели, поехать на ярмарку в Уил вместе с Фросей. Лежать рядом с нею на возу, целовать ее, ночевать вместе в телеге на косматом тулупе…»
Снова вспомнилось, как они стояли, укутанные одной шинелью, и то, как Фрося, высвобождаясь из его объятий, уперлась ладонями ему в грудь. С нею он мог бы жить даже в Уиле, пыльном, неказистом городишке на пути к Каспийскому морю. Это верст двести пятьдесят от Изобильной. Ехать надо прямо степью на юг через Покровку и Троицкое в верховья реки Киила, а там по берегам Киила и Уила. Походы затягивались иной раз до двух месяцев. Станичники брали подряды до сорока пудов на бычью подводу, везли туда сахар, кожевенные товары, муку, чай, мануфактуру, а обратно привозили шерсть, соленую и вяленую рыбу, мазут в турсуках, гнали живой скот. Случалось, приходили обратно с одним кнутом. Теряли и головы, когда киргизы были немирные.
«Скота у кочевников сколько хочешь… А интересно, что же наши-то повезли? Муку, разве, да обувь. Михаил с Антошкой и другими конниками вернутся быстро, а быков работники пригонят».
Осенью после уборки, в сентябре — октябре, бывает ярмарка на Илеке, в Покровке. Тогда киргизы везут в Покровку шерсть, мясо, кожи, сало топленое в турсуках, которое берут степняки, батрачащие у казаков на своих харчах.
Мерещится Нестору мычание стад и ржание табунов в пойме по Илеку, пахота в черноземных степях, и всюду с ним рядом она, Фрося, девушка с ярким ртом и черными огневыми глазами.
Недели через две после работы на шерстомойке Фрося нанялась вместе с Виркой Сивожелезовой на городской кизячный двор. Это совсем близко от дома — за пустырем, не доходя скотобойни и вокзала. Но руки, покрытые цыпками, стали болеть еще сильнее: кожу разъедало жидким навозом. А выработка требовалась немалая: тысячу кирпичей в день надо было отформовать, перенести и в целости вытряхнуть из деревянной формы, при оплате четыре копейки с сотни. Вирка умудрялась и по полторы тысячи отшлепывать, но к вечеру еле держалась на ногах. Прибежит домой, там дел невпроворот: сестренка Нюшка не успевала по хозяйству, оставаясь с пятью малышами. Да и какой спрос с девочки, которой едва минуло одиннадцать лет!
— Идите, девчата, работать к нам в газету «Заря», — предложил однажды Александр Коростелев, встретив подружек, когда они возвращались с кизячного двора. По их одежде и изнуренному виду он сразу определил, каково им доставалось.
— Сумеем ли? — спросила Вирка.
— Конечно, сумеете. Тебя определим в наборщицы, а ты, Фрося, будешь рассыльной. Поступите в вечернюю школу, а дальше видно будет… У нас сейчас в «Заре» такие драки с меньшевиками происходят, что впору совсем с ними размежеваться и свой печатный орган создать.
— Куда же нас тогда? — робко поинтересовалась Фрося.
— К себе заберем!
Несмотря на трудности, Коростелев был доволен ходом событий. Пятнадцатого июня опубликовали в «Свободном слове солдата» резолюцию партийного социал-демократического суда по делу Кобозева, который сам потребовал назначить этот суд. Никаких оснований для обвинения Петра Алексеевича в политической провокации не нашли. Так закончилась долгая злостная канитель, затеянная меньшевиками. Но это подхлестнуло Александра стремиться к разрыву с временными попутчиками, «ненадежными, как вешний лед».
Придя вскоре в Нахаловку, Коростелев зашел к Наследовым и договорился о том, что Фрося пойдет работать в газету.
— Лучше быть рассыльной, чем ходить на поденщину, — сказал он ее родителям. — Зачем девушке бегать по Зауральной роще, где на каждом шагу не жулье, так купчики пьяные?
— Чай, она со своими… — возразила мать.
— И в редакции не чужие будут.
— Как вы правильно говорили с маманей, Александр Алексеевич! — сказала Фрося, придя первый раз в «Зарю».
Баретки ее были начищены до блеска, кофточка туго накрахмалена, оборки на юбке разутюжены, и жакетка матери, ушитая по фигуре, сидела как влитая.
— Какая ты нарядная! — хотел было пошутить Александр, чтобы подбодрить ее, но шутки не получилось: слишком хорошо он знал, чего стоили старания бедности выглядеть получше.
А сотрудники редакции даже не заметили Фросиного наряда, только удивились:
— Ах, коса какая!
— Ах, глазки!
Другая, может быть, и возгордилась бы, но Фрося боялась, как бы ее не выпроводили из этого дома, узнав о том, что она малограмотная. Не скрывая тревоги, она всматривалась в бумажки, конверты, расписки в разносной книге, доверенной ей вместе с почтой: почти не дыша, выслушивала тех, кто давал поручения: «Не перепутать бы чего! Да не забыть… Все адреса запомнить надо».
Смущалась, если совали деньги «на чай», замирала, не решаясь резко одернуть, когда брали за подбородок, нагло рассматривая разгоревшееся румянцем лицо: ведь не шалопаи уличные, а «клиенты», «подписчики», «авторы», нужные для газеты. Гораздо меньше этих любезностей пугал ее бешеный собачий лай, поднимавшийся за дверью после звонка.
Вирка как-то сказала:
— Ты чувствуй себя уверенной, не поддавайся этим хахалям — бей их по рукам. Мы тут хозяева, рабочие. Вот в профсоюз вступать будем. — Но сама задумывалась: — У тебя хоть дома хорошо, а у меня душа изболелась. Кабы не отец!.. Он, вишь ты, тоже за то, чтобы мы где угодно на поденных работали, только не в организации. У всякого свое: твоя мать ухажеров городских боится, а наш изверг не хочет, чтобы у меня защитники нашлись.
Теперь город открывался для Фроси по-новому: появились в ее жизни городская управа, земская управа, клуб социал-демократов, Советы депутатов и другие неслыханные прежде учреждения, а улицы и переулки распахнулись множеством ранее незнакомых дверей.
В дождь и ветер торопливо шагала она по тротуарам, поднималась на этажи, нередко слыша за собой чье-то прилипчивое дыхание, вкрадчивые шаги.
Иногда плакать хотелось от страха, а иной раз лопалось терпение — отчитывала с отчаянной резкостью. Вечерами нарочно убожилась: укутываясь шаленкой, прятала косу, сутулилась, с горькой нежностью думала:
«Ну почему бы вместо этих поганцев Нестора не встретить?»
Пусть бы он брал ее за подбородок или под локоть, обнял бы, как тогда, в первый раз.
Но вместо него остановил однажды Фросю у входа в городскую думу другой человек… Ощутив прикосновение его властной руки, она оглянулась и стушевалась: перед нею стоял епископ Мефодий. Из-под шляпы спадала на плечи львиная грива волос, черное пальто, как ряса, до пят, а в отворотах воротника, напоминавшего большую пелерину, блестел на золотой цепи край наперсного креста.
Прожигая девушку сверкавшими глазами, епископ потрогал за уголок красную косынку на ее плечах, укоризненно покачал головой.
— В ересь большевистскую впадаешь, милая дщерь церкви Христовой! Уж лучше бы зреть тебя в вертепе разврата…
— А вы разве там бываете? — с неожиданно прорвавшейся дерзостью спросила Фрося, оскорбленная его словами.
У Мефодия дыхание перехватило. Он и сам не сказал бы, что больше взволновало его: убийственная прямота вопроса, или близость девушки, столько раз прерывавшей его молитвы и сны, или одна мысль о встрече с нею в том запретном месте, о котором он тоже нечаянно упомянул.
Не оглядываясь по сторонам, епископ потянул косынку, но, ощутив нежную теплоту гладенькой Фросиной шеи, не удержался — грубо сжал плечи девушки.
— Господи, воля твоя! — вспомнив о своем сане, промолвил он и резким движением распахнул тяжелую дверь в нарядный вестибюль, не ожидая услуги от ринувшейся к нему свиты церковников, до этого почтительно медлившей в отдалении. А перепуганная Фрося, не подняв косынки, только крепко прижимая к груди разносную книгу и пачку пакетов, бросилась бежать по улице.
— Хоть бы уж скорей состариться! — с горечью сказала она Вирке во время перерыва, когда они обедали в углу коридора типографии.
Еду приносили из дома. Сегодня по куску пирога с капустой, бутылка чая. Чего еще желать? Но не старости, конечно! Вирка поперхнулась от смеха и долго кашляла, побагровев и весело блестя глазами.
— Ну и дура! — изрекла она, отдышавшись. — Надо же выдумать! Чего хорошего, а состариться успеем.
— Зато жила бы спокойно, а сейчас все пристают… Ведь он мне синяки на плечах сделал… Пальцы у него как железные. Маманька увидит — прибьет.
Вирка опять начала бурно смеяться:
— Твоя маманька на эти синяки молиться будет. Ты теперь вроде святым миром мазана. Брось хныкать. Давай лучше сходим сегодня в электротеатр «Олимп», там кинобоевик «Тайна склепа, или Любовь святыни», а то еще в «Фуроре» идет «Пепелище счастья».
Фрося сразу оживилась. На прошлой неделе в «Аполло» смотрели они с Виркой тоже боевик — «На вершине славы» с участием Мозжухина и чернобровой красавицы Лисенко. Дома за опоздание влетело. Но зато теперь казалось — легче умереть, чем не попасть на любую картину, в которой играют эти артисты.
К вечеру в редакцию пришло известие о том, что воинские части, матросы и толпы вооруженного народа подступили к Таврическому дворцу, где заседал ЦИК Совета депутатов, и потребовали: «Долой Временное правительство и министров-капиталистов!». Демонстранты открыто выражали свою враждебность руководителям ЦИКа, меньшевикам и эсерам, передавшим всю полноту власти Керенскому. Но князь Львов и командующий войсками округа, составив план ликвидации «беспорядков», вызвали из Павловска конную гвардию, артиллерию, казаков и несколько рот измайловцев и семеновцев.
— Вот так бомба для Временного правительства! — подмигивая, сказал девчатам старый вахтер редакции. — Да и для Советов тоже конфуз. Чтой-то они так опрофанились!
Все перепуталось в голове Фроси: Мозжухин и Лисенко, мысли о Несторе, епископ Мефодий, объявления газет, которые она читала, ожидая распоряжений в коридоре редакции. А тут еще кронштадтское восстание… Опять для усмирения его в Петроград вызвали казаков. Опять их клянут рабочие… Теперь даже думать нельзя о встрече ее родных с Нестором.
«Чего этим казакам неймется? — чуть не плача, размышляла она. — Что они лезут, куда не надо? Почему рабочие и теперь, когда нет царя, не имеют права выйти на демонстрацию? И надо же было случиться такому несчастью, что полюбила я, глупая, казака! У него даже имя-то неласковое… отдается ровно удар плетью — Нестор. — Но снова пробуждалось у Фроси волнующее, девичье: — Ведь он не просто грамотный, настоящее образование, наверно, получил, мог бы весточку-то прислать…»
Знала теперь Фрося такое здание в Оренбурге, как главный почтамт: относила туда из редакции письма и бандероли. А сегодня заглянула в окошечко «До востребования». Что, если востребовать?..
Строгий старичок с белыми бакенбардами, откинувшись на стуле, вопросительно воззрился на ее запылавшее лицо.
— Мне бы… письмо, — еле слышно пролепетала она. Чиновник молчком протянул узкую ладонь. Фрося, не понимая, озадаченно посмотрела на нее.
— Документ! Паспорт! Па-аспорт! — желчно выкрикнул он, потряхивая ладонью.
— Вы посмотрите, Наследова я… Документ потом принесу. — Вдруг обнадеженная именно этой резкостью, попросила Фрося, хотя паспорта у нее не было.
Рука, изобразив усталость, опустилась, но прелестное лицо девушки расположило и старого чиновника. Он порылся в длинном узком ящичке, перебирая стопку писем, потом полез в другой…
— Вам… нету.
Фрося отошла пристыженная и обиженная, повторяя про себя: «Ну и пусть! Ну и пусть! Значит, не нужна ему. Может, это к лучшему. Вдруг он тоже поехал подавлять кронштадтцев».
В партийном клубе, куда Фросю послали за статьей Александра Коростелева о событиях 3 и 5 июля в Петрограде, все собрались в самой большой комнате. Накурили так, что из окон дым валил синими волнами — того и гляди, пожарники нагрянут.
Присела на скамью и Фрося.
Петр Алексеевич Кобозев, стиснув в руке свернутую трубкой газету, говорил возмущенно:
— Снова как при царском режиме! Для наведения «порядков» в столице Временное правительство казаков вызвало. Этого и следовало ожидать. Помните, в июне, когда шел Всероссийский съезд Советов, собрался общеказачий съезд? Наши делегаты говорили, что надо избрать истинно народное правительство, поднимали наболевший вопрос о войне. А казаки стремились только закрепить свои сословные права. Вожаки их открыто потребовали создания особой казачьей армии для борьбы с «внутренним врагом». Вот сейчас и началась такая борьба.
«Господи, зачем допускаешь зло? — мысленно взмолилась Фрося. — Одну войну не закончили, другая зачинается! Да с кем? Со своими людьми».
— Корниловы хотят оказачить Россию! А Гучков их подбадривает. — Это голос Заварухина из дымной пелены. — Дескать, казаки выполнят свою государственную роль. Ему мало горя, что они опять пролили рабочую кровь!
— Мы в июне надеялись, что казаки-демократы не пойдут за Гучковым, — сказал Коростелев, отрываясь от статьи, в которой что-то исправлял, примостясь на краю стола. — Но даже фронтовики поддались на красивые слова о защите казачьей вольности. Поэтому так единодушно избрали Дутова председателем своего постоянного совета. Наш «заслуженный» станичник пришелся по сердцу и Каледину и Корнилову. Читали, как генерал Корнилов приветствовал его на казачьем съезде?
— Несмотря на это, отбрасывать огульно все казачество во враждебный лагерь мы не будем, — твердо сказал Кобозев, и у Фроси, охваченной страхом после слов Заварухина и Коростелева, немного отлегло на душе.
— Фронтовиков, конечно, не надо отбрасывать, но и полагаться на них нельзя, — упрямо возразил Коростелев. — С фронта они уходят под впечатлением ужасов войны, озлобленные против золотопогонников, поэтому возвращаются в свои станицы, сочувствуя большевикам. Но дома сразу попадают в казачью среду, где господствуют традиции и сильна власть стариков. Нельзя забывать, что наше оренбургское казачество при своей зажиточности самая подходящая почва для старорежимных идей. Ездили мы с Кичигиным в станицы… Как же! Все стараемся склонить станичников на нашу сторону! Проводили беседы об Апрельских тезисах Ленина. Молодежь еще интересуется политикой, а у старшего поколения разговоры сводятся к одному: сохранить бы землю да свои казачьи привилегии. На большевиков смотрят бирюками. Если произойдет тут заварушка, дай бог, чтобы они нейтралитет сохранили.
— Но молодежь? Ты сам говорил о ней иначе, — напомнил Кобозев.
— И молодежь… Куда она от своих куреней?
— Неверно так рассуждать. В отдельных станицах расслоение в казачьей среде далеко зашло.
— Да там, где лодыри развелись… — сердито отмахнулся Александр, явно раздраженный воспоминаниями о выступлениях у станичников. — Какой от них прок? Есть, конечно, среди фронтовиков по-настоящему сочувствующие нам, но их забивают старики.
— Любишь ты поспорить!..
— Почему бы нет? Если бы мы с тобой, Петр Алексеевич, имели возможность вести в станицах постоянную партийную работу, тогда, глядишь, сколотили бы и там крепкий актив. Но агитаторов у нас раз, два, и обчелся. А у них почти в каждом доме собственный ярый агитатор против Советской власти. Казачество в массе — сословие более реакционное, чем крестьяне-середняки. Даже сравнивать невозможно. Потому я и расстроен. И вообще… Мы стараемся развивать ту линию, что проводилась на Апрельской конференции, а эсеры и меньшевики помогают князю Львову да Керенскому!
— Зато народ разобрался, кто его друзья и кто враги. Насчет казачества надо крепко подумать, шире использовать печать и прямые обращения к фронтовикам. Теперь размежевание сил пойдет быстро. Заявления Милюкова после расстрела демонстрации, что Кронштадт — это измена войскам, — демагогия. Но, наверное, министры прибегнут к террору и арестам.
— Как бы они Ленина не захватили! — встревожился Левашов, сразу после работы вместе с другими рабочими пришедший в клуб узнать новости.
«Даже не переоделись», — отметила про себя Фрося. Но ее гораздо больше, чем их заботы о политике, волновало то, что казаки в Питере убивали рабочих и матросов. Ведь это усложняло ее отношения с Нестором. Теперь она не допускала мысли о том, что Нестор мог уехать туда.
— Я тоже беспокоюсь об Ильиче, — заявил Александр Коростелев, и в голосе его прозвучала необычная мягкость, почти нежность.
— И я думаю об этом, — сказал Кобозев. — Но Владимир Ильич опытный боец. Он не станет рисковать собой и товарищами.
— Минуточку внимания! — Слесарь Константин Котов, отличавшийся военной выправкой, заметной и в рабочей одежде, вышел на середину комнаты, держа в руках широко развернутую газету. — Вот «Воспоминания делегата Всероссийского Совета». Он тут со слезой вспоминает, как вносили на кресле в Таврический дворец освобожденную из заключения эсерку, старушку Брешко-Брешковскую. Керенский тоже кресло поддерживал. — Котов, пряча усмешку под густыми усами и нарочно хмурясь, посмотрел на сникшего Ефима Наследова. — И про торжественную встречу с Плехановым красиво расписано. А что говорится о прибытии Ленина? Слушайте: «Я не ходил его встречать. Мне его проезд через Германию показался подозрительным. Проезд ему могли исхлопотать только те германские социалисты, которые идут на поводу у Вильгельма». Здорово брешут?
Фрося засмотрелась на Константина Назаровича, с трудом вникая в смысл его слов (о ком это он так?) и не заметила, когда к ней успела подсесть коротко стриженная девушка с лихорадочным ярким румянцем на худощавом миловидном лице.
— Откуда ты? — спросила она.
— Рассыльная из газеты «Заря». А вы кто?
— Мария Стрельникова. Я работаю на консервной фабрике, депутат Совета. Сейчас организую школу рабочей молодежи и вообще хочу заниматься вопросами культуры. В народном доме стану работать.
— Счастливая вы — ученая!
— Не очень ученая, но это еще впереди, если останусь жива.
— Почему вы так говорите: «Если останусь жива»? Так только старики загадывают.
— Потому что нам теперь придется воевать у себя дома. Раз начались такие столкновения — значит, не миновать гражданской войны.
Фрося по-детски беззастенчиво рассматривала новую знакомую.
— Вы из «Союза женщин»?
— Нет. Но бываю и у них. То, что они обучают грамоте взрослых женщин, — хорошо. Но с их политазбукой я не согласна. Мы агитируем солдат против бесполезной изнурительной войны, а они организуют в Оренбурге «Женский батальон смерти» по примеру петроградского.
— Вы сами сказали, что нам придется воевать даже здесь, дома.
— То будет другая война, за настоящую народную власть, за государство рабочих и крестьян.
— Вы большевичка?
Стрельникова молча кивнула.
«Может, мне тоже записаться в большевики?» — подумала Фрося и тихонько спросила:
— А среди казаков есть такие… которые в вашей партии? — спросила и сразу спохватилась.
«Почему я говорю: в „вашей партии“? Ведь дядя Андриан, Александр Алексеевич, мои братья, Федор Туранин — все большевики. А отец застеснялся, покраснел, когда Котов говорил про эсерку, которую в кресле несли! Знать, не зря Харитоша попрекает его за этих эсеров!»
— Многие казаки, побывавшие на фронте, поняли, где правда… — уклончиво ответила Стрельникова.
«Нестор не был на фронте», — чуть было не выпалила Фрося, но вовремя прикусила язык, а подумав, сказала:
— Ведь они тоже русские…
— Конечно. И такие же землепашцы, как крестьяне. Поэтому неправильно выделять казачество в какую-то особую категорию. Земли, отобранной у помещиков, хватит на всех.
— Вы не хуже мужчин обо всем можете рассуждать! — наивно позавидовала Фрося.
Стрельникова искоса взглянула на Александра Коростелева, который, положив в конверт исписанные им листы, о чем-то оживленно заговорил с Кобозевым. Он, «этот сухарь», никогда не восхищался ею. Румянец еще ярче заиграл на скулах Марии, и Фросе она ответила неожиданно сердито:
— Вот поваришься в нашем котле… сама поймешь, что к чему.
Только что в бело-золотом зале дворца закончилось заседание Временного правительства. Шорохи шагов глохли на мягких коврах, слабо звучали отдельные голоса под высокими потолками парадных покоев Зимнего, рассчитанных на толпы придворных. Исполинские двери открывались всюду почти без усилий, легко, бесшумно.
Полковник Дутов с чувством сожаления и невольного торжества проходил по этим чертогам, куда раньше казаки имели доступ только как телохранители царствующих особ. Да, он сожалел о бесславном конце трехсотлетнего царствования, потому что понимал: вместе с крушением дома Романовых приходит конец и казачьему сословию.
Керенский, не уверенный в прочности своего положения, с одной стороны, стеснялся дружбы с казачеством, с которым были связаны все карательные меры последних десятилетий, с другой — заигрывал с ним. Дутов так же, как Корнилов и Каледин, понимал, что казаки нужны Временному правительству лишь для того, чтобы удержаться у власти, но возможность уклониться от подавления июльского восстания представлялась ему самоубийством казачества.
Особенно близко принимал к сердцу Дутов судьбу своего Оренбургского казачьего войска. Яицкие казаки были вольными людьми даже при Петре Первом, хотя тот, несмотря на их бурные протесты, сделал им перепись, определил службу и жалованье, назначил войскового атамана и отдал всех в ведомство военной коллегии. После новых притеснений от правительственной канцелярии, учрежденной для них при Екатерине, казаки стали прямыми бунтарями и под предводительством Пугачева потрясли все устои государства. Жестоко усмиренные, названные, дабы стереть память о прошлом, уральскими казаками, они в царствование последних Романовых, когда начало развиваться революционное движение, снова получили разные поощрения и превратились в настоящих царских опричников. Революция могла бы уничтожить казачьи войска, отменив окончательно их сословные привилегии, но Временное правительство не осуществило ни одного революционного мероприятия: все оставалось пока на своих местах.
Проходя твердым шагом по залам дворца, полковник Дутов чувствовал себя исторической личностью, ниспосланной для России самим господом богом. От него во многом зависело, сохранится ли казачье сословие, которому он был так горячо предан. Может быть, поэтому коренастый, ниже среднего роста, полковник смотрел на окружающих свысока смелыми, навыкате глазами. И во всей его крупноголовой приземистой фигуре, расширенной внизу пузырями брюк галифе, в густобровом щекастом лице с крупным носом и полногубым ртом, плотно сжатым под коротко подстриженными усами, чувствовалась надменная самоуверенность.
Умея владеть собой, Дутов очень волновался, вступая в сферу политики, когда, будучи командиром 1-го Оренбургского казачьего полка, воевавшего в Румынии, приехал в марте в Петроград делегатом на общеказачий съезд.
«Военный министр Гучков широко пошел навстречу казачеству», — сообщали газеты. «Главнокомандующий генерал Корнилов целый день пробыл на казачьем съезде, и, когда Дутов произнес свою речь, резко и твердо отстаивая самобытность казачества, предсказывая ему огромную роль в направлении русской резолюции в государственное русло, Гучков, Корнилов и вожак донского казачества Каледин горячо приветствовали его».
Это был шумный успех полковника Дутова. Съезд, создав союз всех казачьих войск с временным советом в Петрограде, единогласно избрал его старшим товарищем председателя. И дальновидный Дутов, чувствуя зыбкость почвы под ногами казачьего войска, всю свою энергию бросил на ее укрепление, стараясь войти в верховные дела государственной жизни. Большой демагог, он везде выступал с докладами (ни один съезд в столице, ни один большой митинг не обходился теперь без его речей); имея хорошее образование и владея слогом, писал статьи в любые газеты, которые просили его об этом.
В июне он подготовил съезд всероссийского казачьего круга, обеспечив все — от места заседаний до общежитий, и делегаты, восхищенные практической хваткой полковника и умением выступать с трибуны, избрали его председателем постоянного совета. С деловито-самоуверенным председателем начал заигрывать дипломатический корпус, зорко следивший за событиями в России.
«Дни третьего и пятого июля, когда большевики в первый раз серьезно атаковали Временное правительство, были торжеством казачьей твердости», — писали правые газеты. В эти дни, когда казаки опять стреляли в толпы демонстрантов, Дутов впервые увидел открытое желание Керенского опереться на его руку.
Дутов вышел из автомобиля у общежития совета, где он жил вместе со служащими своей канцелярии, как раньше в походах — наравне с казаками. Рядом раздался пронзительно звонкий голос газетчика:
— Исчезновение Ленина и Зиновьева! Сообщение по России: самая крупная политическая новость — исчезновение Ленина и Зиновьева!
У Дутова радостно екнуло сердце.
Адъютант, расторопный молодой казак, повинуясь движению бровей полковника, бросился за газетой.
«Странно: редакциям известно, а во дворце промолчали!» Эта мысль усилила радостную тревогу Дутова. Он слышал речи Ленина на многолюдных петроградских митингах, сразу почувствовал силу воздействия, исходившую от этого человека с необычно большим, светлым лбом и доброй улыбкой, и сразу возненавидел его, увидев в нем непримиримого врага Ленин говорил с неотразимой логикой, убежденно страстно, но, чем больше подчинял аудиторию, тем яростнее ненавидел его Дутов.
— Таких надо немедля убивать, — сказал он Керенскому, когда тот спросил его однажды, какое впечатление производит на него Ульянов-Ленин.
— Да, убивать, и немедля! — опять пробормотал Дутов, беря газету из рук адъютанта.
У себя в комнате он так и впился в газетные строки, не снимая перчаток.
В сообщении говорилось: «Самой крупной политической новостью сегодняшней ночи является внезапное исчезновение из Петрограда Ленина, Зиновьева и всей большевистской руководящей компании. В связи с получением исключительной важности сведений руководство исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов и крупнейшие социалистические партии решили пригласить Ленина и Зиновьева на совещание. Но, несмотря на все принятые меры со стороны политических деятелей и властей, найти их в Петрограде не удалось, — они скрылись».
— A-а, ч-черт! — Дутов зло отбросил газету. — Упустили! Надо было сразу думать… А теперь ищи-свищи! Вот же арестован какой-то присяжный поверенный — большевик Козловский, а самого главного — «Ленина — упустили. Растяпы!»
Затем, все еще не перекипев, он бегло просмотрел заметку о прибывшем из действующей армии в полном боевом вооружении Митавском гусарском полке. Командир митавских гусар сказал корреспонденту: «Полк примет меры, чтобы расплодившиеся здесь гнусные, подлые изменники не могли мешать закреплению завоеваний революции». И снова Дутов прошипел:
— Упустили, сволочи!
Вот и о Керенском: «В штаб военного округа прибыл вернувшийся с фронта Керенский. Ему доложили о событиях. Он прошел в соседнюю комнату, встал на подоконник и обратился к стоявшим внизу с речью: „Происходящее в Петрограде произвело в армии ужасающее впечатление. Шлю проклятие большевикам, которые пролили на улицах столицы невинную кровь. Проклятие изменникам!“» Дутов представил Керенского, позирующего на подоконнике, актерский голос его и презрительно усмехнулся: не мог простить ему, что, взяв власть, он не воспользовался ею для разгрома большевиков и не расправился с Лениным, не мог простить и двоедушия в казачьем вопросе. Теперь, после Кронштадта, Керенский готов вызвать не только митавских гусар и казачьи полки, но, пожалуй и наследников престола.
При обсуждении декларации нового правительства он так и заявил: «Позорный прорыв фронта русской народной революционной армии войсками германского императора облегчен предательством большевиков, теперь Временное правительство будет действовать против них со всей энергией и решимостью».
От досады у Дутова заболела голова: сказывалось фронтовое ранение. Все залечили, а трещину в черепе не замажешь — нет-нет да и напоминает о себе.
Дутов, не отличаясь особой скромностью, не подавлял подчиненных роскошью и причудами личной жизни потому, что с детства получил спартанское воспитание, кроме того, ему приходилось считаться с трудностями военного времени и особенно с мнением о нем как деятеле казачьего войска. А войско казачье он любил ревнивой любовью.
Походив по комнате, напоминавшей канцелярию, он принял патентованную облатку, прилег на диван, подстелив газету так, чтобы не испачкать сапогами богатой обивки (неряшливости не терпел), и минут десять лежал не шевелясь — ждал, когда утихнет головная боль. За окнами серое взлохмаченное небо. Ветер с моря опять нагнал тучи, и начался дождь: верхушки деревьев, которые только что сильно раскачивались, присмирели, лишь листья подрагивали, блестя мокрым глянцем. Сколько здесь таких дней, промозглых, туманных, когда по-военному прямолинейно расчерченный город словно размывается, утопая в белесой дымке.
Головная боль стихла, но ощущение тупой тяжести осталось. Дутов снова прошелся по комнате. Ноющую тревогу вызывали в нем зажигавшиеся в домах огни, похожие на костры, горевшие в неведомой черноте. Ряды уличных фонарей убегали вдоль мостовой, роняя в лужи жидкий желтый свет. Где-то там, на рабочей окраине, а может быть, в одном из ближних домов находился сейчас Ленин… Что значил один небольшой с виду человек перед тем грозным, что творилось на фронтах войны? И однако же сообщение о том, что он исчез, больше расстроило Дутова, чем прорыв немцев на передовой линии: ценой больших жертв там можно выправить положение, а как бороться с большевистской заразой, разлагающей и фронт и тыл?
Отец Дутова, генерал-майор, участник покорения Средней Азии, являлся всегда сторонником самых крутых мер. Он и внешне производил внушительное впечатление: седая борода, расчесанная на две струи, взгляд фанатика-службиста, неласковая рука на эфесе шашки.
Александр гордился своим отцом, а жил у деда в Оренбургской станице. Весь быт семьи и духовная настроенность ее были проникнуты военщиной. Но эта жизнь не была тем официально узаконенным бездельем армейской военной касты, о котором писал граф Лев Толстой: если рядовые казаки в мирное время работали в своем сельском хозяйстве, то их командиры тоже не понаслышке знали, что такое пахота.
Отсюда возникала рознь между офицерами-казаками и белоручками-золотопогонниками, кичившимися своим дворянским происхождением.
«А теперь судьба связала нас одной веревочкой. Мой полк и тот же Митавский полк: вместе дрались на фронте, теперь — в тылу. Задача — вырвать с корнем большевизм. Александр Федорович будет тверже теперь. Пора!»
Стремясь избавиться от тяжелых дум, Дутов перенесся мысленно в родное Оренбуржье. Он любил, когда глубокий снег ложился голубоватыми сугробами на улицы станиц, а низкое солнце стелило над степью золотую пряжу. Отшумела на станичных токах молотьба, наварены в каждом доме бочки браги-кислушки и арбузного меда, и всюду звенят свадебные запевки. Только налетающие внезапно бураны омрачают небо. Тогда люди сбиваются у домашних очагов и под яростный вой ветра и шорох метели ведут разговоры. Кто вяжет, кто читает, кто чинит сбрую. Народу словно на посиделках, а на самом деле одна большая казачья семья. Во всем патриархальная старина, строгое соблюдение обычаев, истовая религиозность. На эту казачью приверженность старине и возлагал надежду Дутов.
В ночь на 21 июля 1917 года в Малахитовом зале Зимнего дворца собрались члены правительства, руководители всех четырех советов, партийная верхушка кадетов, эсеров, меньшевиков и представители казачьего войска. Дутов переходил от одной группы людей к другой, не очень заметный в скромных полковничьих погонах, заложив руку за спину, другою держась за нагрудный ремень портупеи, с невозмутимо-спокойным видом вслушивался в горячие споры.
«Правильно говорится: горбатого могила исправит: все больше колебаний у моего тезки Керенского, — думал он. — Вручили ему пост министра-председателя, союзники тоже делают на него решительную ставку, а он мечется из одной крайности в другую. И это ощущается во всей политике Временного правительства: в самом деле временное!»
Малахитовый зал сиял хрусталем люстр, позолотой богатой лепки, облицовкой стен и каминов, горевшей переливчатыми зелеными огнями. Тяжелые шелковые драпировки на окнах опущены. Лихорадочный Петроград спал вполглаза. В грязи и во вшах перемогались в бредовом полузабытьи солдаты на фронте. Неспокойно спали сто шестьдесят миллионов полуголодных, холодных, осиротевших и просто выбитых из колеи жителей государства Российского. А здесь, в роскошном зале, собралось сто двадцать ответственных персон решать судьбу России — создать власть для нее. Страшно становилось Александру Дутову от одной мысли об исполинской стране, доведенной до разрухи. Жутко было ему в глухую ночную пору ходить по великолепным палатам, где словно витали тени человека, считавшегося помазанником божиим, всегда внушавшего верноподданнический трепет. Еще возвышались в спальнях пышно убранные кровати, в столовых, гостиных, приемных залах стояла редкостная мебель, как бы хранившая прикосновения царственных особ, и лежали драгоценные ковры, по которым ступали эти богочеловеки. Но вдруг их закружил Распутин — буйный мужик в сапогах и широкой русской рубахе, и вымело их бурей революции из роскошных чертогов.
От безлюдья опустевшего дворца Дутову делалось холодно. Но стоило вспомнить о большевиках и Ленине — сразу кидало в жар. По всему Петрограду рыщут сотни ищеек — бывших жандармов и городовых, — разыскивая следы исчезнувшего Ленина, и не могут найти. Однако везде ощущается его незримое присутствие. Большевиков преследуют, арестовывают, а их становится больше и больше, и с каждым днем крепче, грознее смыкаются ряды рабочих. От этого тоже становилось страшно, хотя Дутов не принадлежал к породе робких людей.
После круговорота встреч в зале и обмена приветствиями начались выступления. Остро ощущая свое одиночество среди толпы собравшихся, Дутов с негодованием слушал речи, полные трагизма и обреченности.
«Вот так князья и бояре устраивали драки, когда Русь истекала кровью, и вместо борьбы с врагом раздирали в клочья ее одежды и выдирали друг другу бороды, — сокрушенно думал Дутов. — Все вошли в раж дележа власти».
Хотят править кадеты, преданные Лавру Корнилову, которого они и казаки превозносили как народного героя. Эсеры, подстрекаемые Савинковым, предлагают кандидатуру Керенского. Меньшевики требуют старшинства, а сами пятятся, словно раки, и всех стараются утянуть за собой. Ночь проходит, на западе бухают пушки, голодная страна спит. А тут говорят, говорят, говорят… Кто же сможет вывести Россию из тупика?
Дутов кашлянул, вытер платком вспотевший затылок и короткую шею и подумал: «А если бы сейчас явился в парадный зал из своих покоев свергнутый император?.. Но что бы он смог — невзрачный человечек, тоже в мундире подполковника, пустые глаза, речи избалованного недоросля», — и Дутов отвернулся от вызванного призрака с тоскливым чувством: не та фигура. Тяжелый камень, привязанный на шею тонущей матери-России, — вот во что превратился ее последний монарх, которого Временное правительство решило отправить из Царского Села в захолустный Тобольск.
Керенский на совещании отсутствовал. Следуя примеру Бориса Годунова в Смутное время, он подал в отставку и теперь ждал решения совещания, которому предъявил свои категорические требования. Хотел, чтобы его попросили главенствовать.
На столе президиума лежали телеграммы генерала Корнилова со знаменитыми пунктами условий, на которых он мог бы принять звание верховного главнокомандующего. Корнилов уже ввел опять смертную казнь на фронте и требовал введения ее в тылу, требовал милитаризации железных дорог, беспощадной расправы с революцией, введения буржуазно-помещичьей диктатуры.
Корнилов требовал, а ответа ему дать никто не мог, ибо в России в этот момент не было твердой власти.
Дутов, всей душой сочувствовавший Корнилову и его требованиям, знал, что Керенский, который сам был вдохновителем этой программы, открыто поддерживать ее не решится, даже получив всю полноту власти, потому что боится нового революционного взрыва.
«Что делать? Что делать? — лихорадочно билось в мозгу Дутова, хотя внешне он казался спокойным, как каменная глыба. — Армии бегут, фронт гнется, и нет той руки, которая предотвратила бы катастрофу».
Только в пять часов утра по настоянию кадетов было решено передать власть без всяких оговорок Александру Керенскому и поручить ему составление кабинета.
Стояло зябкое туманное утро. Низко нависли тучи, мелкая морось сеялась на Неву, на словно свинцовую набережную и автомобили, ожидавшие у парадного подъезда. А Дутову казалось, будто сама природа плачет над опустевшим дворцом, откуда улетела гордая когтистая птица, украшавшая герб трехсотлетней царской династии. С трудом удерживая нервную дрожь, полковник забился в угол машины, устало смежил тяжелые, набрякшие веки: не было у него веры в то, что будет толк из ночной говорильни, вымотавшей душу, не было надежды на избранного властителя.
Жара, стоявшая в спертом воздухе, изнуряла, а когда открывались окна, встречный ветер забрасывал к пассажирам переполненного вагона гарь и дым паровоза. Пыль неслась над поездом с заброшенных полей, как бурые облака, хрустела на зубах, сушила горло.
Самуилу Цвиллингу страшно хотелось пить. Ощущение жажды, вызванное жарой и лихорадочно-напряженным состоянием, в котором он находился дома, в Челябинске, и после проводов на перроне, преследовало его даже в коротком полусне, когда он умудрялся вздремнуть, стоя между багажом матерой мешочницы и двумя матросами с тихоокеанских кораблей.
Место на средней полке, забронированное для него железнодорожниками вокзала, Цвиллинг сразу, едва тронулся поезд, уступил старушке с двумя малыми ребятами, и вот уже сутки ехал стоя, осуждая мысленно толстую тетку, занявшую своими баулами и мешками большую часть нижней полки. Задремав, он иногда наваливался на них сухощавым стройным телом.
«Нет на вас пропасти! — думала спекулянтка, косясь то на Самуила, то на матросов, тоже сморенных сном и припадавших к ее багажу, но скандалить с ними опасалась, тем более что они даже не поинтересовались: куда она везет столько груза? — Едуть и едуть, и каждый из себя какого-то гражданина корчить. — Поглядывая на Цвиллинга, внешне совсем юного, с остриженной по-солдатски головой и тонкой шеей, она не могла взять в толк, что это за человек. — Видать, из начальников, — как давеча в вагон-то его впихивали, старались. Ишь проклят! Опять навалился, а в мешке-то сало да масло и так, поди-ка, растопилось».
— Баб! Дай хлебца! Хоть корочку! — захныкал на полке малыш, выглядывая, как тощий котенок, из-за плеча бабки.
— Нишкни, малец! Ужо приедем к деду. У яво пасека. Медом угостит.
— Не хочу меду-у! Дай хлебца-а!
«И то! — мешочница усмехнулась. — Малец твой, поди-ка, не знает, какой он, мед-то!» В ее мешках был хлеб, но она скорее отрезала бы себе руку, чем подала бы кусок чужому ребенку. Белый свет велик, всех не обогреешь!
Поэтому она и на Цвиллинга, уступившего даром место незнакомой старухе с ребятишками, смотрела с насмешкой.
А Цвиллинг, за свою недолгую, но трудную жизнь привыкший обходиться без удобств, чуть вздремнув, уже зорко поглядывал вокруг, прислушивался к разговорам. Кого тут только не было: бранчливые и пронырливые мешочники, солдаты, обросшие до глаз мужики, инвалиды войны, помятые интеллигенты, изнемогающие от недовольства жизнью, казаки в лихо заломленных фуражках.
— Ищут яво, Ленина-то, по всей Расее. Большая, дескать, награда будет дадена за поимку, — говорил неказистый мужичонка в белой домотканой рубахе, вертя по сторонам козлиной бородкой.
— «Ищут яво!» — язвительно передразнил оренбургский пожилой хорунжий с голубыми, как и его погоны, глазами. — Вот от этого самого, от всеобщей проникновенности в политику, и произошел крах наступленья на фронте. Монолитность нарушена!
Мужичонка «кольнул» его издали острой бородкой и недоуменным взглядом:
— Скажет, язви тя, и не поймешь чего!
— Ты бы тоже поискал Ленина, может, получил бы награду, — посоветовал щуплый интеллигент в панаме.
— А чаво я стану яво приследовать? Мине он плохого не сделал. Землю, бают, хотел нам дать.
— Вот, вот! Нашелся богатый всероссийский помещик! Решил наделить мужиков землей за чужой счет.
— Пошто за чужой? Чай, она, земля-то, господом богом на общу пользу сотворена.
— Цыц, ты-ы! — сердито гаркнул хорунжий. — Теперь за такие разговоры за шиворот да в ящик. Хватит, натрепались со своими дорогими «товарищами». Все ихние газетки прихлопнули, «Правду» и ту закрыли.
— Вы правду от народа сроду закрывали, потому как она невыгодна для богатых! — послышался голос из глубины вагона.
«Еще полгода назад о Ленине знали главным образом мы — большевики да наши партийные враги, а теперь, когда контрреволюция празднует свою победу, его имя у всех на устах, — подумал Цвиллинг с чувством тревоги и гордости. — Миллионы трудящихся людей, как этот мужичок, против преследования Ленина, но все-таки большинство, не разбираясь в политике, пока идет за Временным правительством, ожидая именно от него решения своей судьбы».
Жизнь Ленина была в опасности. Стоило опознать его при встрече вот такому горлохвату-хорунжему или тихонькому интеллигентику в панаме, и — схватили бы. Лицемерная шумиха, поднятая по поводу его неявки на суд буржуазными газетами, походила на рычание голодного зверя, упустившего добычу.
Обстановка для большевиков сложилась очень тяжелая, но они верили в то, что это поражение, вызванное предательством меньшевиков и эсеров в ЦИКе Советов, временное. Поэтому известие о созыве в Петрограде VI партийного съезда было принято ими с воодушевлением.
Февральская революция застала Цвиллинга в глухой уездной Челябе, когда он, уже намотавшись по тюрьмам и ссылкам, служил солдатом в запасном пехотном полку. В те дни оформленной большевистской организации там не было, — ее разгромили в годы столыпинской реакции, — но группа рабочих-большевиков, в которую сразу вошел Цвиллинг вместе с политическим ссыльным Евдокимом Лукьяновичем Васенко, вела активную революционную работу. В марте эта группа пополнилась вернувшимися из отдаленных мест другими челябинскими большевиками. Нелегко им было вести борьбу с кадетами и многочисленными социал-демократами, которые стояли за оборону отечества и заглушали на собраниях ревом и свистом выступления большевиков.
Но Васенко, Цвиллинг, Елькин и их друзья говорили о нуждах народа, и народ прислушивался к ним, голосовал за них.
«Добились мы все-таки немалых успехов, — думал Цвиллинг под перестук вагонных колес. — В Челябинском Совете депутатов перед июльскими событиями нам принадлежало большинство».
В Петрограде он уже побывал весной этого года, когда челябинцы направили его делегатом на Первое Всероссийское совещание Советов, присутствие на котором стало самым радостным событием его жизни. Вступив в ряды большевиков по примеру старших братьев, еще подростком испытав гонения старого режима, Цвиллинг всегда помнил, что вождем дела, которому он отдал себя, являлся Владимир Ильич Ленин. Он никогда не видел Ильича, но, будучи эмоциональным по натуре и имея пылкое воображение, хорошо его представлял. Книги, статьи, речи Ленина, известные по большевистским газетам, находили горячий отклик в душе Цвиллинга. Это было осознанное подчинение могучей воле гениального человека, с изумительной ясностью определившего пути развития истории, перспективу борьбы рабочих за свое будущее и значение созданной им партии в этой борьбе.
Третьего апреля семнадцатого года в Питере, охваченном революционным кипением, Цвиллинг вместе с тысячами рабочих, солдат и моряков-балтийцев встречал Ленина на Финляндском вокзале. Когда Ленин выходил из вагона под гром военного оркестра и огромная толпа со знаменами и лозунгами, колыхнувшись, подалась к нему, на лице его появилась смущенная и даже чуть растерянная улыбка, — видимо, он не ожидал такой многолюдной встречи.
Потом он поднялся на броневик, снял головной убор вроде котелка и, сунув его куда-то, заговорил с народом, сразу всем родной, понятный и нужный.
Высокая глыба броневика в отсветах вечерних огней напомнила Цвиллингу уральский утес, а Ленин, стоящий на нем — устремленный в своей речи вперед, с приподнятыми плечами и распахнутыми полами пальто, — показался похожим на орла!
На другой день, 4 апреля, в Таврическом дворце состоялся доклад Ленина на собрании участников (большевиков и меньшевиков) Всероссийского совещания представителей Советов. В этом докладе Владимир Ильич изложил свои Апрельские тезисы.
Цвиллинг слушал Ленина, думал о положении дел в Челябинской партийной организации, изредка окидывал взглядом замерший зал, совершенно подчиненный обаянию оратора, которому не нужны были никакие эффектные слова и позы. Ленин наметил и указывал ближайший, единственно верный путь к цели: вся власть Советам! Никакой поддержки Временному правительству! Бороться против революционного оборончества! А в Челябинске некоторые большевики, — в том числе и сам Цвиллинг, — энергично выступая против империалистической войны, еще не решились полностью порвать с этим революционным оборончеством!
Речь Ленина прямо призывала тогда к размежеванию с оборонцами-меньшевиками, к мирной, но решительной борьбе в Советах, за свое влияние в них, чтобы осуществить переход от буржуазно-демократической революции к революции социалистической. По этому пути и шли большевики до июльских событий. Теперь Советы — после предательства эсеров и меньшевиков, засевших в ЦИКе, — стали контрреволюционными. Значит, дальнейший путь политической борьбы должен измениться; об этом, вероятно, и пойдет разговор на VI съезде. Положение очень серьезное: Ленин в подполье, большевистские газеты закрыты, соглашатели вместе с контрразведкой и тысячами добровольцев выслеживают и арестовывают вождей рабочих. Но невозможно вытравить из сознания людей идеи большевиков, и, как огненная лава, клокочет в народе непрестанное глухое недовольство.
«Зреет новый взрыв, который сметет все преграды», — думал Цвиллинг, измученный жаждой и жарой в вагоне, но весь поглощенный мыслями о предстоящем VI съезде, о встречах в Петрограде, о Ленине.
По всему миру знаменита здешняя пшеница, и лучшее в стране просо дают поля Оренбуржья. В августе в степях страда в полном разгаре: заканчивают уборку озимых хлебов, начинается жатва яровых; служивые казаки и офицеры казачьи берут отпуска — помочь родным станицам убрать хлеб без потерь, — нынче, когда так голодно в стране, войсковое правление об этом особо позаботилось.
Получил отпуск и Нестор, но поскакал он не в Изобильную, а в Оренбург, чтобы повидаться с Фросей и, может быть, не умыкать ее, а взять в жены с согласия родителей. Почему она так боится сказать им, что полюбила казака? Кого из ее родни обидели станичники?
Солнце палило немилосердно, над полями зреющей пшеницы стоял запах горячего свежеиспеченного хлеба, и теплый ветер, дующий с юга, как из печи, разносил его по степи. Хорошо, что ночи прохладные: зерно уже начало твердеть, и суховей не выбьет, а только подсушит его.
«Фросенька, ненаглядная! Ты, наверно, и серпа-то никогда в руках не держала! С коровами-телятами тоже не приходилось встречаться в Нахаловке. Может, тебе скучно покажется после города в нашей станице, где ни собора, ни электротеатров».
При мысли о скором свидании Нестор радостно улыбался, но папаня — Григорий Прохорович — нет-нет да и приходил на ум: как, осатанев от злобы, налетел на Михаила! И Нестор задумывался. Приданого у Фроси нет — раз, из рабочей семьи — два, неумеха в сельском хозяйстве… Это тоже немало значит. Михаил и Харитина против папани пикнуть не посмеют, мать в доме полностью подчинена мужу. Один на один придется спорить с отцом, если только не придет тому в голову втянуть в семейное дело бородачей казачьего круга, которые, безусловно, будут на его стороне.
«Ладно, посмотрим. В крайнем случае обращусь в Оренбургский Совет казачьих депутатов, — неожиданно решил Нестор и снова повеселел. — Должна же быть управа на тех, кто так свирепствует в семейных делах. Шутка сказать: три года воевал Михаил, дважды в госпиталях лежал, а дома встретили червонкой по лбу! Шалишь, папаня! Все бы ты громыхал до седых волос!»
В Форштадте на пепелищах еще чернели кое-где печи, не разобранные после весеннего пожара, но большинство казаков уже строились заново, повсюду слышался перестук топоров. Горький душок гари на улицах перебивался запахом свежераспиленного дерева и смолистых опилок; горы пакли и желтого мха виднелись между навалов ошкуренных бревен. Солнце припекало сильнее, чем в степи. Как дохлые, лежали куры у завалин и подворотен, свиньи в напрасных поисках прохладной лужи, жалостно хрюкая, еле бродили вдоль тесовых заборов. Бронзово-загорелые лица плотников, оседлавших растущие срубы, лоснились от пота. Близкая осень поторапливала людей, и, изнемогая на припеке, они работали споро.
В центре города все оцепенело от несусветной жары, только босоногие ребятишки бегали по булыжной мостовой, подпрыгивая, словно блохи, — так жгли подошвы камни, накаленные солнцем. От стен домов на южной стороне улицы веяло, как от горячей плиты, полотняные маркизы над витринами магазинов слепили глаза белизной, окна в нижних этажах были прикрыты ставнями, а верхние распахнуты настежь, хотя пыль вилась в воздухе и серым слоем оседала на подоконниках и листьях деревьев. Горожане по возможности спасались в тени, в холодочке; редкие прохожие тащились разморенные, распаренные, точно из бани.
Вдруг, будто в насмешку над извозчиками, дремавшими под навесами пролеток в длинном ряду на бирже, выкатила из переулка рессорная коляска. Коренник — орловский рысак — шел крупной машистой рысью; умело подобранная пристяжная скакала галопом, красиво изгибая шею, чуть не касаясь гривой пыльной мостовой. За растопырившимся на козлах кучером Нестор увидел барышню в белом платье и черной разлетавшейся накидке; шляпа, затенявшая ее лицо большими полями, чудом держалась на высоко уложенной прическе. Как ни мимолетна была встреча, Нестор сразу узнал: Софья Кондрашова. И она узнала его, покачиваясь на сиденье, как сорока на гибкой ветке, весело помахала рукой в длинной, по локоть, черной перчатке.
«Куда это ее понесло? Вот так нарядить бы Фросю да прокатиться с нею в коляске!»
Нестор заспешил, легонько тронув Белонога сложенной вдвое нагайкой, но вскоре услышал громкий цокот копыт мчавшихся лошадей и оглянулся:
«Опять она, Софья. Видно, забыла что-то!»
— Я за вами вернулась! — крикнула она, заставив кучера остановиться. — Сегодня вечером в Тополевом саду мы устраиваем концерт-лотерею в пользу солдат-инвалидов. Вы могли нам помочь…
— С радостью бы, но у меня дела в городе. И к начальству ишо заехать надо, кое-что в канцелярии выправить.
Несмотря на то, что в казачьем училище следили за чистотой речи учащихся, Нестор иногда говорил «ишо», но Софью это не смутило: так понравился он ей с первой встречи, а он смотрел на нее с тем же веселым одобрением, с каким смотрел тогда, в Форштадте, во время гулянья на масленой, и нарочно умолчал об увольнительной.
«Тогда от нее вовсе не отвяжешься. Любят эти избалованные гордячки помыкать своей свитой!»
— Ну если у вас нет времени для такого святого дела, то, может быть, вы вечером найдете полчаса для меня лично. Я вас приглашаю на вальс в Тополевом саду…
— К сожалению…
Сияние в ее глазах померкло, протянутая гибкая рука, словно облитая перчаткой («И охота ей в такую жару перчатки напяливать!» — мелькнуло у Нестора), опустилась, а из-под короткого рукавчика нежно глянула впадинка вогнутого локтя.
— Значит, нет?
— Честное слово казачьего офицера!..
— Отчего же казачьего? Понятие о чести едино у всех офицеров.
— Извините, если не так выразился. — Он притронулся к фуражке, нагайка, висевшая на запястье, вильнула ременным хвостом. — Здравия желаю, барышня!
От этого нарочито урядничьего козыряния у Софьи оскорбленно дрогнули губы, и она ударила кучера по плечу сложенным веером:
— Поехали!
В войсковую канцелярию Нестору не нужно было, он спешил в Нахаловку, надеясь поговорить с Фросей и ее матерью до прихода Харитона и отца. Чем ближе подъезжал он к грузно осевшим каменным зданиям главных мастерских, с их шумом и, должно быть, адской жарой в цехах, прокопченных гарью и дымом паровозов, тем сильнее одолевало его волнение, а далеко видные на степном пустыре корпуса все еще прятали, заслоняли милую теперь для него Нахаловку.
«Наверно, уж обустроили свое поместье», — с ласковой насмешкой думал Нестор, и снова звучали в его ушах подслушанные в ту весеннюю ночь слова Фроси: «Печку бы только успеть сложить!»
Как наскочили тогда жандармы, какая кутерьма возникла по его почину на рабочей улице! А Фрося — ее радость, робкое молчаливое признание, когда она прислонилась к нему!
От этих воспоминаний и ожидания новой встречи невольная улыбка пробивалась на лице Нестора.
Он довольно быстро нашел землянку Наследовых, спрыгнул с коня и вошел в калитку. Старый, но еще не дряхлый дед в распоясанной рубахе выглянул из низеньких сенцев.
— Вот молодцы! — вслух одобрил Нестор действия будущих свояков. — Уже и сени срубили.
— Вам кого, ваше благородие? — не очень-то приветливо спросил старик, держа руку щитком над глазами; в другой был пук лучинок для таганка.
— Где Фрося? — спросил Нестор, задетый недружелюбием, помешавшим обратиться с должной почтительностью к старшему в роде.
У деда вывалилась из рук заготовленная растопка. Собираясь с мыслями, он наклонился, а Нестор бросился помочь, и они едва не стукнулись лбами.
Отступив на полшага, по-прежнему загораживая собою дверь в сенцы, дед Арефий растерянно смотрел на незваного гостя, отметил пригожесть его лица, отличную выправку, вспомнил расспросы внучки о казаках, сбивчивую болтовню Пашки… Все стало понятно старику, но, отодвигая неприятное объяснение, он молча протянул руку и принял от Нестора лучины.
— Зачем вам понадобилась Фрося? — спросил он наконец.
— Сватать ее приехал, — нетерпеливо пытаясь через его плечо заглянуть в сенцы, чистосердечно объяснил Нестор.
— Ох, молодец хороший! Кто же так сватается с налета? — Дед Арефий укоризненно покачал головой, прищурив не по-стариковски живые глаза. — Дорога к невесте в дом никому не заказана, но надо сперва родителей спросить. И своих родных показать. Да и с девушкой потолковать не мешало бы.
— С нею мы уже договорились, — радостно перебил Нестор, все обдумавший и за себя и за Фросю.
— Ай-я-яй! Как же мы не видели, не слышали, когда вы договаривались! И видно, неспроста в одиночку явились. Сразу видно, справных родителев сын. — Арефий наметанным глазом снова покосился на офицерского коня. — А ежели родители зажиточные казаки, так вряд ли они согласятся взять невестку из рабочей семьи: у нас за ней ни денег, ни коров, ни перин нету. Окромя того, ее отец с матерью, да и сам я, грешный, нагайками лупцованный, побоимся этакого родства. Давно добрыми людьми сказано: котел горшку не товарищ. Попробовали вместе поплыть, торкнулись, и пошли ко дну глиняные черепушки.
— Дедушка, я с честным намерением к вам приехал. Родитель мой, точно, не согласен будет. Так разве мы не проживем без него? Я свой надел имею. У вас тут вон какие ребята здоровые — Фросины братья. Если один не осилю, помогут мне в станице домишко поставить.
Дед Арефий, поневоле тронутый простотой и сердечностью хорунжего, сказал с доброй усмешкой:
— Здоровые ребята — это верно, но вряд ли пойдут они помогать тебе: Харитон скорей в драку кинется. А и хотел бы пособить, да своя работушка одолевает, выматывает: по десять часов в сутки на заводе. Вот при такой-то жаре! Да еще подрабатывать надо, чтобы наготу свою прикрыть. Рубахи-то на них просолевают лубок лубком. Шел бы ты с богом, некогда мне с тобой! Иди своей дорогой, покуда не поздно: не больно-то жалуют в нашем поселке полицейских да казаков.
Нестор вздрогнул от оскорбительного, хотя и беззлобного отпора, но ответил упрямо:
— Никуда не пойду. Позовите Фросю. Если она не согласна, тогда другой разговор.
— Где же я ее возьму? Ее и дома-то нету. Сама давно выглянула бы, раз уж такое дело. — Дед Арефий чуть помедлил и для общей пользы покривил душой: — В деревне она. К тетке уехала с матерью. Не веришь? Посмотри — в жилье ни души. — Он отстранился от двери, желая отделаться поскорее от опасного гостя, и добавил для пущей убедительности: — Стал бы я сам кашеварить — бабьим делом заниматься.
Нестор, не церемонясь, прошел в землянку, со смешанным чувством жалости и умиления осмотрел убогую обстановку, впервые смутно стыдясь чего-то, подумал: «Столько народу из одной семьи… по десять часов работают. Рубахи твердеют от соли, а бедность какая!» Букет невзрачных, недавно сорванных цветов возле аккуратно заправленной, явно девичьей коечки обрадовал, всполошил, как добрая весть.
— Когда уехала Фрося, — дедушка?
— Да уж с неделю, поди-ка…
— И не совестно вам обманывать меня? Вы, что ли, за цветами бегали?
— Какими цветами? — Арефий посмотрел и смутился, медленно покрылось старческим румянцем морщинистое лицо, на Пашку сослаться не сообразил. — Разве это цветки? Так, бурьян степной… Однако дотошный вы человек, ничего не скажешь.
— Где она все-таки?
— Откуда я знаю? Может, с матерью да с Пашкой по грибы ушли… — продолжал хитрить Арефий, не желая наводить казака на верный след: «Вишь какой он скорый — поскачет в город, выхватит девку прямо с работы…»
— Вы со мной поступаете, словно с недругом, а Фрося меня ждет не дождется! — смятенно и счастливо улыбаясь, сказал Нестор и оглянулся на шум чьих-то шагов.
Взбудораженные разговором, прослушали они с дедом рев заводского гудка…
— Кто тут? — еще не рассмотрев гостя в полутемной землянке, спросил Ефим Наследов, вслед за которым вошли Харитон и Митя.
— Да вот к Фросе сваты… То есть они сами за себя и сватают.
— Хорошенький номер! Но, пожалуй, не пройдет, — насмешливо бросил Харитон, бесцеремонно отстранив опешившего отца. — Вы, часом, не из тех казачьих полков, которые в Питере пятого июля народу кровь пущали? Опять расправу устроили, да к нам же в родство?
Его распирало от ярости, он готов был взять этого красивого офицерика за шиворот и, встряхнув, вышвырнуть на улицу.
— Стой, Харитон, не пыли! — одернул сына Ефим. — Мы с их благородием мирно договоримся. Ежели вы в самом деле свататься пришли, спасибо на добром слове, но только родниться с вами нам не пристало. Фросе я уже сказал давно. Теперича вам заявляю. Все.
— Нет, не все! — ожесточаясь, ответил Нестор. — Легко вы хотите меня отбросить! А если мне без нее не житье и она меня любит? Вы уж лучше придушите нас обоих.
— Это вы, казаки, мастера душить, а мы не палачи, — прорвался снова Харитон. — Ежели у вас с Фроськой дело далеко зашло, то пускай она катит от нас на все четыре стороны. Помех чинить не станем.
— Я несогласный, — тихо, но твердо сказал Митя. — Чего вы набросились на человека? Он сестренку жалеет, убивается по ней… И Фросенька наша лучше всех, а ты, Харитон, городишь невесть что!
— Цыц ты, заступник! — Ефим в сердцах пнул подвернувшуюся под ноги голодную кошку. — Не будет моего согласия, и баста, а там как хотят.
Подавленный стыдом и обидой, Нестор медленно пошел из землянки, в сенцах замедлил, обернулся:
— С вами я ее не оставлю. Увезу к себе в станицу, там и обвенчаемся. Побоится из-за вас — силой заберу!
— Чего хорошего ждать от тебя! — прозвучало в ответ. Он даже не разобрал, кто это бросил.
Белоног потянулся навстречу — ждал у плетня, не отогнать, — заржал тихонько, понимающе. У Нестора будто туманом застлало глаза. Поискал, как слепой, уздечку… Конь сам прижимался боком: что ж, мол, ты, джигит? (Приученный, он мог и прилечь, чтобы, принять в седло всадника.) Вконец расстроенный чуткостью умного животного, Нестор взял его под уздцы и, похлопывая по взмыленной шее, повел прочь.
Торопиться теперь было некуда.
«Встанем за поселком у заводского забора и будем ждать хоть до утра».
«Декаданс» в Оренбурге устроен по образцу лучших публичных домов, известных в Питере и за границей. Это новинка. Внизу, в полуподвале, пивные. И не просто пивные, а затейливые гроты со сталактитами, с таинственным освещением, зеленые беседки, увитые виноградом с искусно вылепленными гроздьями. Пиво пенистыми ручьями бьет в кружки прямо из «скал» через проведенные в стенах трубы. Шашлыки, бифштексы и для веселой компании красивые девушки, отобранные по конкурсу, в одеяниях, позволяющих полный обзор природных богатств: нимфы, вакханки, русалочки и просто полураздетые красотки, встречающие гостей и предлагающие программы увеселений. Вход только для избранной публики.
Широкие лестницы вели наверх, в фойе с эстрадой для оркестра и цыганского хора. Здесь танцевали. Отсюда вход в зрительный зал с ложами, с бельэтажем, со столиками вместо рядов кресел в партере. Певицы, танцовщицы — опять показ, уже со сцены, прекрасного женского тела. В верхних трех этажах громадного дома комнаты для кутежей и свиданий. Первоклассный ресторан. Бильярдная.
Гуляй, покуда есть на что!
Но не всякого и с деньгами пустят сюда. Дом для простонародья недоступен, и бродят о нем разные слухи. Говорят, что существуют под Соборной площадью подземные ходы, идущие от собора в разные стороны. Идут будто бы они и к «Декадансу». Для чего подземные ходы в соборе? Не диво, если бы то была церковь или монастырь двенадцатого или четырнадцатого веков, когда приходилось жителям ближних селений спасаться от вражеских набегов. А Кафедральный собор отстроен и освящен в 1896 году, и самое достопримечательное в нем — настенная живопись, сделанная художником Маковским: ни спрятать, ни унести.
Поговаривают, будто бывает в «Декадансе» архиерейский и губернаторский день. Но мало ли что болтают в народе, незачем предавать гласности то, что творится в заведении: хозяин в тесной дружбе с отцами города. Тут скроют от посторонних опухшего с перепоя почетного гостя, спрячут концы в воду после любых дебошей и преступлений. Зато выручают и хозяина: нет такого щекотливого положения, из которого он не выпутался бы с помощью завсегдатаев дома.
Вот отец Алексий, да его и родная мать не узнала бы сейчас! Около него суетятся, подают содовую, освежают, причесывают, помогают одеться. Но никто не поможет ему припомнить, с кем он спал сегодня в этой уже прибранной и проветренной комнате.
Ведь не ради того, чтобы потешить себя, пришел он сюда, не на шутку встревоженный маетой отца Мефодия. Потерял епископ покой и сон, а можно ли терзаться такому достойному человеку из-за какой-то девчонки?
«Да я ее узлом свяжу и к благодетелю своему представлю! Не пришла к регенту хора, в соборе не показывается… Кабы по согласию, можно было бы под видом прачки либо садовницы в архиерейский дом допустить, а она красной косынкой повязалась, в клуб к большевикам стала заглядывать. Еретичка несчастная!»
Думал, думал Алексий и вот решил: чего лучше искать, когда есть «Декаданс» со многими выходами на улицы города и даже подземными коридорами.
«Доставлю красотку, будто по согласию с ней. Небось напугается — будет послушной, а вознаграждение получит, так и возрадуется. Все они, девки, лукавые шкодницы, только для виду упрямятся, цену себе набивают. Небось, что бы ни случилось, останется шито-крыто». Так обмозговал дело Алексий, но только попутал ходатая нечистый своими соблазнами.
Протрезвленный, умытый служка епископа повел тайный разговор с хозяином заведения. Тот с полуслова его понял. Бывало, девушки и руки здесь на себя накладывали… Ведь разными путями приходит сюда живой товар, и не всегда добровольно. Через Бахтияра, хусаиновского приказчика, поступают из степных аулов на строгий отбор дочери киргизов, привозят вербовщики красоток из дальних городов, заманивают здешних девочек-подростков. Нельзя по царскому закону допускать хозяевам к промыслу своему девиц моложе двадцати одного года, но как тягаться с теми, кто дружит с сильными мира сего? Нет для них законов, указов. Большого шума не будет, если и из грязной Нахаловки выкрасть девчонку.
«До чего просто решают они нашу судьбу: „Мы не хотим!..“ В Петрограде казаки вместе с бывшими царскими полками расстреляли рабочих и матросов, которые вышли на демонстрацию… Конечно, зря опять ввязались станичники! Но при чем здесь мы с Фросей? Почему такое отношение в ее семье к нашему серьезному чувству? Хочу взять ее в жены, делаю предложение, а, точно кошку, пинком отбрасывают!..»
Обняв шею лошади, Нестор стоял под самым забором главных мастерских, высоким и плотным. Как в тюрьме, забор да еще окошечки-бойницы… и, видно, совсем недавно прорезаны… Он сунул ладонь — провел по шершавым краям прорези, но по ту сторону забора лязгнул затвор винтовки:
— Эй, кто там? Проходи!
«Что за черт! Неужели пикеты выставлены? Зачем?»
Нестор вывел коня из рослых чернобылов, прошел с ним вдоль забора и снова забрался в засаду. Солнце уже заходило, часовня на Маячной горе просвечивала от его лучей, как фонарь с красными стеклами. Черные на алеющем небосклоне стаи ворон и галок азартно толклись левее, над городской свалкой. Слушая хрипло-пронзительные крики птиц, Нестор снова подумал о неприглядности городской окраины, о бедности и трудности той жизни, которой жила Фрося. Раньше такие мысли мало тревожили его: испокон веков были нищие и бедняки, значит, узаконен на белом свете этот порядок и нечего о нем беспокоиться. А теперь…
Нестор поморщился от досады:
«Задело под ребро, вот и лезет в голову разное».
Кончилась всенощная в церквах. Звенели повсюду мелкие колокола. И в Богодуховском монастыре, за Маячной, тоже трезвонили.
На душе Нестора было тревожно. Так однажды в детстве, уронив привезенные батей из города часы с кукушкой, они убежали вдвоем с Харитиной и спрятались в бурьянах за станицей.
«Пойдем домой!» — истомившись от безделья, ожидания и неизвестности, говорил он. Но трехлетняя Харитинка цепко хватала его за рубашку, блестя бусинами глаз: «Боюсь. Бить станут. Больно». — «Ищут ведь нас, наверно…» — «Пусть ищут, скажут — утонули! А мы сами придем. Тогда ничего не будет». И мальчик, будучи старше сестренки почти на шесть лет, невольно подчинялся ее паническому страху, пробудившейся в ней чисто женской хитрости.
Потом в самом деле «ничего не было», хотя наделавшие шуму гири часов — чугунные еловые шишки, упав со стола, раскололи кукушкин дом. Этот пустяковый случай застрял в памяти Нестора, предпочитавшего сразу идти навстречу опасности.
Но сейчас поневоле приходилось таиться, чтобы не обращали внимания прохожие. «Сижу, как в дозоре». Белоног, точно собака, лежал рядом, все время настораживая чуткие уши. Нестор молчком поглаживал его, а непоеный, голодный конь косил в ответ большими глазами и вздыхал, будто сожалел о невозможности сказать свое, наверное, веское и очень нужное слово.
Уже луна светила над Сырейной площадью, что лежала меж главными мастерскими и кирпичным заводом, ничем не отличаясь от уходившего к скотобойне и вокзалу степного пустыря. Только скопище окровавленных шкур, над которыми днем колыхалась туча мух, оправдывало название этого места — Сырейная.
Сейчас, под лунным разливом, «площадь» выглядела как заросли темных кустарников. К счастью, ветерок дул с левой стороны от линии железной дороги и завода «Орлес».
«Почему так поздно задержалась Фрося?» — думал Нестор, вслушиваясь в гул цехов мастерских, глухое мычание скота, в крики и песни гуляк, раздававшиеся там, где за кизячным двором и скотобойней горели огни городской окраины. Особенно ярко светились вокзал и улица у арсенала оренбургского войска.
Неожиданно Белоног, вскинув голову, призывно заржал.
Нестор сжал легонько его шелковистый храп, ощущая под ладонью горячее трепетание ноздрей, заставил умолкнуть и выглянул из засады.
Два всадника на резвых лошадях, заскакивая вперед, отрезали путь к Нахаловке тоненьким девушкам, которые молчком, должно быть онемев от страха, метались по пустырю, как козы, окруженные волками. Платочки, узенькие жакетки над бористыми юбками — так одевалась Фрося. В следующее мгновение Нестор был на коне и, вылетев из зарослей чернобыла, помчался на выручку к девчатам.
Потускневшая от пыли луна плыла за серыми лохмотьями туч, над черными провалами карьеров, вырытых кирпичным заводом, над кривыми улицами возле вокзала, где, как трупы, валялись у казенок пьяницы. Там, где горели красные фонари, слышался хохот, а возле кабаков — вопли жен и детишек. Громко дребезжали пролетки извозчиков, подвозя на Ташкентскую и Пиликинскую новых гуляк… Вся подлая изнанка большого торгового города выворачивалась здесь, на грязной окраине. Можно кричать, звать на помощь, но никому нет дела до чужой беды, пока не появится объект для правосудия — мертвое тело.
«Ах, Фрося! Зачем ходить так поздно в таком страшном месте?»
Нагнав одного из всадников, Нестор огрел его плашмя по сутулой спине выхваченной из ножен шашкой. Кони на полном скаку сшиблись боками. Злобное лицо с широкими темными скулами мелькнуло перед казаком. Будто из недавнего прошлого, глянули раскосые глаза не то киргиза, не то татарина, умыкавшего из станицы молодую казачку, — она и лежала поперек седла с голыми коленками, запрокинув острый подбородок.
«Не Фрося!» — мелькнуло в голове Нестора, однако остановить себя он уже не мог, новым тупым ударом высадил из седла разбойника, перехватил девчонку и погнался за вторым похитителем.
— Ну, тварь, догоню — отрублю башку!
Но вдруг луна закувыркалась перед ним, и возле черной ямы Нестор вместе с девушкой сам вывернулся из седла. Белоног сразу остановился, обнюхал хозяина, заметив кого-то кравшегося к нему, взвился на дыбы, увернувшись от жадно растопыренных чужих рук.
Вирка, хоть и ушиблась, стерпела сгоряча, расхрабрилась, взмахнула шашкой Нестора.
— Не подходи, зарублю!
— Ай, баришна, какой ты злой! — Голос Бахтияра заискивающе-просительный. — Миня нога ломал. Миня лошадка надо…
— Убить тебя надо, поганца! Куда Фросю увезли?
Нестор очнулся, сев на пыльной земле, ощупал себя.
Руки, ноги целы, крови нигде нет, а в голове гудит, в глазах туман. Видно, саданули камнем.
— Где Фрося?
Вирка, жалуясь неизвестному спасителю, даже не удивилась тому, что он знал ее подружку, заплакала:
— В школе мы с ней задержались! Первое занятие, и вот… Это Бахтияр, приказчик Хусаинова. Другого не знаю. Похоже, из казаков…
— Эй, Бахтияр! Куда увезли Фросю?
В ответ — тишина.
Хитрый татарин скатился в черноту глиняного карьера и, ковыляя, быстро уходил неведомыми тропами.
Въезд во двор с переулка под арку. У ворот, держа в поводу лошадь, запряженную в телегу, неузнаваемо переодетый Алексий неистово нажимал кнопку звонка. Возчик с поклажей в Оренбурге вовсе не диво: город торговый. Город казачий. День и ночь звенят молотки ковалей за Уралом в кузнечной слободе. То и дело брызжут искры, высекаемые подковами из булыжников мостовой. Ho стоять в людном центре с живым грузом, который в любую минуту может прорваться криком!.. Не сам ведь Алексий всунул кляп в рот девчонке и сейчас заглянул под дерюгу: не задохнулась бы. Нет, дышит, смотрит с немым отчаянием черными глазюками. Не удержался отец Алексий — тоже для проверки — запустил лапу за узкую пазушку: помял, забирая ладонью, обжигаясь и охая, гладеньких «голубят», под которыми билось, трепетало девичье сердце. Ей теперь уже все равно, а ему за хлопоты и переживания — сладостная минута.
Торопливые шаги по каменным плитам, лязгает ключ, и широко распахиваются ворота. Ко всему привычные холуи из рук в руки принимают живой товар. Старший выслушал наказ, и поклажу потащили в дом. Алексий, чуть помедлив, рысцой ударился вслед: не напутали бы, часом, не подменили бы!
Резкий внезапный свет ослепил Фросю. Она зажмурилась. Звякнули ножницы, и грубые руки разом сорвали с нее немудрящую одежонку.
Не делая даже попытки прикрыться, она стояла среди незнакомых мужчин, которые рассматривали ее. Потух блеск в глазах, беспомощно опустились плечи. Не стыд за свою наготу, не страх поругания — смертельный ужас жертвы, ощутившей у горла нож, сковал ее, застудил, и все поплыло куда-то… Фрося пошатнулась, но поборола слабость — устояла. Ведь только что Мария Стрельникова ходила между партами и, встряхивая стрижеными волосами, диктовала:
— «Бабы не рабы». Правая сторона, повторите. — Девушки, парни в косоворотках, бородатые отцы семейств хором, недружно затягивали: «Бабы не рабы». — Пишите букву «Б», — говорила Стрельникова, постукивая мелком по доске, и, стремительная, нервозная, круто поворачивалась на каблуках: — Левая, слушайте: «Мы теперь уже не рабы…»
Фрося и Вирка, как более грамотные, сидели на левой стороне и бойко царапали карандашами, выводя на бумаге заданные слова.
Потом девчата, радуясь лунной ночи, весело бежали домой, миновали темную после ярко освещенного вокзала скотобойню, где глухо и жалобно мычал в загонах обреченный на убой скот, проскочили мимо длинных изгородей кизячного двора, где работали летом, и вдруг их поймали, повезли.
Фрося царапалась и кусалась, пока похититель не бросил ее на землю в глухой степной балке и не сказал усмешливо, заламывая ей руки назад:
— Ох, девка, вздул бы я тебя, а посля того приголубил!.. Вовек не забыла бы, да самому дороже будет стоить. Приказано в целости доставить, потому и терплю…
Эти многозначительные слова испугали Фросю больше угрозы побоев, да и руки уже были связаны. Сжав ей щеки твердыми пальцами, казак втиснул в поневоле раскрывшийся рот скомканную тряпку, а затем завернул девушку в лошадиную попону.
— Вот так-то лучше! — бормотал он, затягивая ее до лодыжек веревкой, как свивальником. — И тебе спокойней, и мне соблазну нету.
Мысль о Стрельниковой, об Александре Коростелеве, который обязательно должен заступиться за нее, ободрила Фросю, и она гневно поглядела на негодяев, которые затащили ее сюда.
— Вы что?.. С ума сошли? — губы, распухшие от кляпа, одеревенели и не слушались, грудной голос звучал необычно сипло. — Как вы смеете?!
— Подумаешь, графиня фу-фу!..
— Не угодно ли ванночку принять, ваше сиятельство?!
Они открыто потешались над беспомощностью хорошенькой девочки: кому она сможет пожаловаться, побывав в стенах этого дома? Разве только господу богу! Издевательство похитителей подсказало Фросе, что не они главные виновники случившегося с нею несчастья, что им так же, как тому казаку, приказано не трогать ее. «Ванночку принять!» Где же тут ванночка?
Вода с шумом дождя лилась откуда-то сверху в бассейн из черного мрамора… Оказывается, тут, в блестевшей белым кафелем комнате с зеркалами, целое озерко. Фрося скинула оставшуюся на ноге баретку и без рассуждения бросилась в него: «Хоть в омут головой!..»
Пусть смотрят, пока им не надоест, а она будет тут, под теплым дождиком… Но как дальше-то быть? Где Вирка?
Стараясь выиграть время, девушка медленно расплела косу, выбрала из волос мусор, все еще ощущая прикосновения воровских рук, принялась плескаться в бассейне, взяла мыло и прямо в чью-то подсунувшуюся рожу крикнула:
— Пошел отсюда!
— Французское — душистое! Не угодно ли?..
Она замахнулась взятым ею куском.
— Оставьте ее в покое! — сказал владелец заведения, любуясь, как она стояла в воде, полуприкрытая мокрыми волосами. За одно это зрелище можно брать деньги. «Совсем еще девочка, и забавная какая!» Кивком на дверь он отослал пособников и присел в сторонке.
Фрося ожесточенно мылась, наводя как можно больше мыльной пены, а тот сидел и смотрел, посмеиваясь: будто в городскую баню пришла!
Но движения ее становились все более вялыми, выжидающе осторожными. Наконец она деловито сказала, бросив угрюмый взгляд:
— Дайте свежей воды — окатиться!
С шумом потекла куда-то вниз, начала быстро убывать мыльная вода, в которой она спасалась, а сверху опять ударил ласково-теплый дождик.
«Вот ловко устроили!» — подумала Фрося, совершенно подавленная сознанием своей беззащитности.
Рывком приняла мохнатую простыню из холеных рук, накинула ее, точно поповскую рясу, и, выйдя из бассейна, уставилась на узкие пальцы ног, выглядывавших из-под этого покрывала (как у святой на иконе!), набралась решимости, спросила:
— Так и будете над душой торчать? Дайте одеться да причесаться, а потом скажете, чего от меня надобно.
С трудом подавляя отчаяние, она мучительно искала выхода из страшной ловушки.
Хозяин, помедлив, отошел и уселся в смежной нарядно светлой комнате.
Кутаясь, Фрося пробежала по ковру, увидела себя в зеркале, ужаснулась: нет и уголка, где бы укрыться…
— Куда вы мое бельишко девали?
— Бери любое, все, что тебе понравится.
На кушетке, будто на прилавке в магазине, лежали белье из шелка и тонкого батиста с кружевами, платья.
«Для кого столько натащили?» — Фрося схватила рубашку, торопясь и путаясь, накинула ее, потом нарядную нижнюю юбку, еще одну поплотнее, затянула на талии тесемки. На прочие вещи дамского туалета внимания не обратила, стала расчесывать волосы.
Хозяин терпеливо ждал. И опять явился один из тех, что крутились тут вначале, подал беленькие туфли, чулки в красивой обертке, Фрося поискала, чем завязать косу, не нашла, взяла платье, побледнев, отбросила: рукавов нет, вырез воротника — насквозь можно просунуться. Потянулась к другому — потемнее, надела. С непривычки холодок по голой спине, плечам и рукам, грудь тоже оголена. Подвернулась еще юбка — не поймешь: верхняя ли, нижняя ли, — девушка свернула ее, набросила шалью на плечи поверх платья и завязала узлом концы на спине.
На душе будто слиток чугунный — не вздохнуть.
«Маманька-то дома не спит, ждет, плачет, наверно. Отец и Харитон клянут: с казаком шляется. А Нестору и невдомек, в какую беду я попала!»
К хозяину Фрося выглянула с виду храбро:
— Теперь что еще будет? Отпустите меня домой, покуда не поздно. Подружку-то мою не смогли захватить, она сейчас переполох в Нахаловке поднимет. Придут сюда мои братья, отец, товарищ Коростелев с рабочими. Они вас в тюрьму посадят.
Фрося говорила громко, но голос ее заглушался музыкой, пением цыганского хора, которые доносились из соседних комнат, и смешливые огоньки в глазах хозяина погасли, лицо сделалось властным, жестоким.
Опять вошли те двое и замерли, вытянув к нему послушные шеи. Что он им велел, Фрося не поняла, но, когда они направились к ней, она отпрыгнула в сторону и стала бросать в них чем попало: туфлями, банками с белилами и помадой, коробками с пудрой, флаконами духов. Тогда в комнате, ставшей тесной от белой пыли и резких запахов, раздался грозный голос:
— Если ты не угомонишься, эти парни тебя мигом успокоят. Иди с ними к тому, кто ждет…
— Кто меня ждет?!
— Там увидишь.
— Не трогайте, я сама пойду! — закричала Фрося, но ее схватили, обернули чем-то и с шуточками потащили, не обращая внимания на яростное сопротивление.
Еще и посмеивались:
— Перец, а не девка.
— Если бы он дал нам надкусить этот перчик!
— Обожгешься. Он сам тут терся целый вечер, изучал натуру. Значит, ответственная задания. Другие девчонки отсюда ровно пробки выскакивают.
— Для кого же?
— Не приказано говорить.
Ее передали кому-то с рук на руки, перебросившись невнятными словами, и опять потащили и вдруг поставили на ноги, сдернув с головы покрывало.
Она стояла в кромешной тьме, молча хватала воздух пересохшим ртом. Сердце билось так, что в ушах гудело. Точно слепая, разводя ладонями, ступила шаг-другой и, натолкнувшись на что-то живое, оцепенела.
Сильная рука сжала ее запястье, другая коснулась плеч, ощупала косу, шею:
— Ефросиньюшка, солнышко! Это ты, радостной нареченная? Не бойся, худого не будет. Все для тебя сделаю, всем обеспечу. В почете, в богатстве и холе жить будешь. Беречь тебя стану, как зеницу ока.
Где она слышала этот приглушенный нежностью густой голос?
«Пусть бы говорил, что ему на ум взбредет, только б не трогал… „Худого не будет“, а сам обнимает…» И она отпрянула, ощутив прикосновение пышной бороды и жарко дышащего рта.
— Господи, да как вам не совестно! По речам судить — почтенный вы человек, а с ворами водитесь! Зажгите свет! Чего вы света боитесь?
— Зачем он надобен, когда тайна сия трепет свой мраком ночи покрыть стремится? А ты, радостная, и во мраке, словно звезда, сияешь.
— То разбойники, то полоумный привязался!.. — сквозь злые слезы проговорила она, отбиваясь.
— Ты сама меня безумным сделала… И разве ты поневоле здесь?..
Это был тот, ради которого ее обидели, оскорбили, унизили?.. Она пережила бог знает что, — такое страшное ей и не снилось за всю ее короткую жизнь, — а он тут сидел, притаившись в темном углу, как паук? Отчаянная решимость и пылкая ненависть овладели Фросей. Страх пропал. Собрав все силы, изгибаясь в попытках вывернуться из жадных рук, она изловчилась и ударила бородача головой, да так, что у того зубы лязгнули и что-то теплое брызнуло ей на грудь.
Он охнул и выпустил девушку.
«Нос, видно, разбила!» — злорадно подумала Фрося и, не слушая, как он не то хлюпал носом, не то всхлипывал, бросилась в сторону, запуталась в каком-то тряпье, упала, вскочила, налетела на косяк открытой двери — искры из глаз, — но молчком прямо на далекий свет окна, откинула тяжелую штору и, не размышляя, высоко ли, куда будет падать, рывком ударилась о стекло, словно о звезды, мелькнувшие за ним.
Грохнуло железо, рванулись где-то на цепях собаки. Боль пронзила все тело. Но тут же Фросю охватило острое ощущение свободы, радость избавления от неминучей беды. Она лежала на чем-то холодном и твердом, смотрела в небо, слушала невнятный гомон бессонной улицы. Знакомый голос твердил в сознании: «Мы уже не рабы, мы совсем не рабы!..»
Стукнула наверху створка окна… Мысль, что ее могут увидеть, что за нею сейчас придут, заставила Фросю подняться. Она осмотрелась и тихонько, прижимаясь к стене дома, пошла по крыше одноэтажной пристройки. Листовое железо предательски погромыхивало под босыми ногами. Во дворе особняка шумел темный сад, лаяли собаки. Смотреть туда страшно… Лучше еще раз броситься вниз, на улицу.
«Авось не убьюсь, только бы ноги уцелели, чтоб утечь отсюда».
Но спрыгнуть вниз оказалось не просто. Пристройка была высокая, затейливая, с большим выступом крыши, украшенным железной решеткой. Выручил Фросю проезжавший казачий патруль.
— Стоп, ребята, чур, мое! — весело крикнул молодой урядник, увидев тоненькую девушку, повисшую над мостовой. Подскакал и, встав во весь рост на седле, ловко принял ее на руки.
— Откуда тебя бросило, красавица?
Фрося молчала, растерзанная, окровавленная, но взгляд ее был так светел, что казаки перемигнулись.
— Чокнутая, видать!
Однако отпустить ее без опроса на все четыре стороны не решились: дело тут, видать, не чистое.
— Придется в околоток тебя сдать. Там разберутся.
— Сдавайте, — охотно согласилась Фрося, знавшая, что в полицейские городские участки, именовавшиеся околотками, сдавали жуликов и подобранных мертвецки пьяных. Она сейчас и в тюрьму пошла бы, только бы не остаться одной на пустынных ночью улицах. Да еще в таком наряде… А полицейских, теперь отчего-то называвшихся милицейскими, она не боялась.
Какое счастье — сидеть на лошади, держась одной рукой за пояс незнакомого казака, другой — стягивая глубокий вырез платья, — шаль из юбки слетела, должно быть, во время борьбы — и смотреть на спавший еще город, на дворников, которые лениво начинали мести тротуары. Они, как и все встречные, подшучивали над Фросей и дозорными. Пьяные гуляки пытались схватить ее за босые ноги, видневшиеся из-под нарядных юбок.
— У-у, хорошенькие какие!
— Где купили?
Фрося ежилась за спиной казака, подбирала колени повыше, но тогда он начинал оглядываться, посмеивался:
— Обнимай крепче, лапушка!
У околотка постовой совестил раскосмаченную гулящую бабу, которая крыла его последними словами и лезла в драку, доказывая, что ее «взяли не по закону», «что она сроду этим самым не занималась», и пусть они лучше наведаются в форштадтские бани, «где все банщицы»… дальше следовали такие пояснения, что дружно загоготали и милицейские, и казаки, доставившие Фросю. А она, сначала простодушно занятая безобразной сценой, вдруг увидела верховую лошадь у каменного крыльца участка и казака, который сидел на широких ступенях, облокотясь на колени. Безнадежная унылость была во всей его позе: то ли дремал он, хмельной, то ли беда у него стряслась, только что-то знакомое, родное померещилось Фросе в его больших руках, сжимавших понуренную голову.
— Нестор! — крикнула она, еще не веря возникшему предчувствию.
Казак вскочил точно обожженный.
— Нестор, это я, это я, — твердила Фрося, стараясь оттолкнуть цепкую руку дозорного и соскочить с лошади.
А Нестор уже кинулся к патрульным.
— Ваша? — удивился урядник, обрадованный исходом дела.
— Моя. — Нестор принял Фросю, не пугаясь ее вида, попытался только поднять короткий лиф платья, чтобы спрятать голую спину, покрытую синяками и ссадинами.
— Сестра? — полюбопытствовал урядник, разговаривая с Нестором, будто со своим сверстником, а не старшим по чину.
— Невеста. Вчера приехал по увольнительной… специально. А ее выкрали из-под рук.
— Ну… и что теперь думаете? — с интересом, хотя и осторожно пытал урядник.
— Что? — Лицо Нестора сияло отражением гордо-счастливой улыбки Фроси. — Сам разве не видишь: будто казачка, бежавшая из полона. За покорство синяками не платят. А взыскивать с мерзавцев — шум поднимать не станем.
Фрося сразу забыла о диких кошмарах ночи и, когда Нестор, сев в седло, наклонился, чтобы взять ее к себе, потянулась к нему без размышлений.
Пока не наступило утро, они сидели на скамейке бульвара «Беловки» над Уралом, прижавшись друг к другу, смотрели, как всходило над городом солнце, слушали щебетание проснувшихся птиц.
Им было так хорошо под накинутой на плечи шинелью.
— Будто у окошка сидим! — говорила Фрося.
— Сам себе не верю. Я ведь чуть с ума не сошел, когда тот гад умчал тебя. Казак?
— Казак.
— Жалею, что не зарубил его.
— Пускай живет, а то тебя в острог посадили бы. Не говори про них. Не хочу я! Прошло, будто сон худой, и ладно. — Фрося обвила шею Нестора теплой рукой, просунула гибкие пальчики за его воротник. — Я так стосковалась по тебе.
Он вспыхнул, задержав в своей горячей ладони ее руку, серьезно попросил:
— Давай сидеть смирно. Мы ведь теперь навсегда будем вместе. Поедем сегодня в нашу станицу, и все увидят, какая ты у меня хорошая.
— А как я туда заявлюсь в этаком наряде?
— Сейчас мы зайдем в магазин, и я куплю тебе платье и ботинки.
— Магазин еще закрытый. Поедем лучше к нам, в Нахаловку.
— К тебе домой нам нельзя. — Нестор, сердясь и недоумевая, рассказал о своем неудачном сватовстве.
Фрося выслушала, почти не дыша.
— Вот почему никто не стал выручать меня? Ведь Вирка-то, наверно, сказала им!.. — Но, вспомнив, как удалось выскользнуть из сети, раскинутой «старым пауком», Фрося развеселилась снова: она была на воле, Нестор был с нею, теперь ли унывать?
— Если нас прогонят и из твоей станицы, мы обратимся к Александру Алексеевичу. Он нам поможет, — обнадежила она Нестора, гладя его по щеке.
— Кто это?
— Коростелев. Наш главный большевик.
— Скажи пожалуйста! Какие все у тебя важные знакомства!
Она покраснела: наверное, он имел в виду ее рассказ об обещанных сегодня ночью богатстве и почестях.
— Не виновата же я!..
Потом они опять проехали по главной улице города. Фрося, чтобы не привлекать внимания зевак, надела шинель Нестора, туго запахнулась ею.
— Здесь мы, пожалуй, найдем все, что надо. — Нестор спешился у магазина готового платья, снял с седла Фросю и нехотя опустил, босоногую, на тротуар.
Поначалу у обоих глаза разбежались, когда приказчик щедро разложил на прилавке товар. Но, посмотрев, дружно облюбовали широченную темно-малиновую юбку в шесть полос, с черной кружевной прошвой по подолу и малиновую, узенькую в талии кофточку с отрезной баской, с кокеткой, тоже обшитой кружевом. И еще один наряд они выбрали попроще, с черным крапчатым узором по серому полю, с такой широкой юбкой, что раскинутый «зонт» ее мог бы закрыть почти весь пол нахаловской землянки. Фрося сразу надела серое поверх своего странного наряда.
— Материя больно хороша… Я потом переделаю, — сказала она, просительно глядя на Нестора, который хотел было сбросить ее платье.
Когда выбрали черные удобные башмаки с застежкой на пуговицах, Фрося натянула в уголке за ширмой чулки, надела впервые в жизни круглые с бантиками резинки, а потом повязалась кашемировым платком с яркими розанами по черному полю.
— Настоящая станичница. — Нестор заботливо оглядел ее и, не торгуясь, купил еще суконное полупальто с плюшевым воротником.
Фрося трогала покупки, тихо улыбаясь, смотрела на своего милого, и опять ей казалось, что это сон, но сон такой, от которого не хотелось пробуждаться. Впервые ей покупали столько обнов сразу, и каких хороших!
Хозяин магазина понимающе любовался на молодых людей, присоветовал взять еще полушалок попроще, нижние рубашки, два запона, будничный и праздничный, полдюжины носовых платков. Отстранив приказчика, он сам достал коробку с шуршащими канаусовыми нижними юбками, слезая с лестницы, вытянул еще одну, тоже с юбками из бумажной байки.
— Покупательницы этот товар очень уважают.
Фрося знала, что зажиточные женщины носили по пять-шесть нижних юбок сразу, чтобы казаться толще в бедрах и не просидеть пятна при «месячных». Особо гнались за дородностью казачки-хохлушки, и Фрося не раз слышала на базаре их критические замечания по своему адресу.
— Яка это девка — як жичка!
Ей совсем не хотелось предстать перед родителями Нестора похожей на хворостинку, но Нестор и так уже поиздержался, а вдруг их не примут и в станице? Куда они тогда подадутся с ее нарядами, без денег?
— Хватит. Спасибочка, — сказала она, испуганная этой мыслью, охваченная тревогой за любимого человека.
— А сколько тебе лет? — спросил Нестор.
— Осенью шестнадцать минет.
С минуту он смотрел, как стояла она — талия в рюмочку над сборчатой махиной юбки. Румянец разыгрался во всю щеку, черные глаза так и горели, светясь любовью, нежностью, радостью.
— Горе ты мое! Ведь нас венчать не станут. Придется к епископу Мефодию обращаться, чтобы разрешил.
— Что ты? Это нельзя!
— Отчего же нельзя?
Лицо ее стало матово-белым, прозрачным.
— Он меня звал в церковный хор. А после рассердился. Содрал с меня красную косынку на улице и чуть не задушил.
— Что ты говоришь?..
— Вот провалиться! У меня на плечах такие синяки были, почище сегодняшних.
Нестор засмеялся:
— Святой отец! Это мы слышали…
— Чего слышали?..
— Большевиков он терпеть не может. И женщин в красных косынках тоже…
Неприветливо глянула на них Изобильная с голого берегового бугра. Еще не так давно приходилось здешним станичникам устраивать на улицах заграждения из опрокинутых борон и тесно составленных телег и саней, чтобы не могли ворваться врасплох не мирные степняки. Летом в береговых зарослях Илека сторожевые казаки слегка переплетали на ночь кусты терна, красноталов и колючей чилиги, а утром сразу обнаруживали, где пробирались лазутчики врага. Боялись тогда казачки переходить по насыпи-перебоине за старицу Илека: вмиг налетали киргизы, и, если успевали увезти за пограничную черту — прощай родная семья. Пленным рассекали пятки, заращивали в ранах конский волос, чтобы не уходили далеко, — сваливала боль на ходу. Некоторые так и жили до смерти в неволе вблизи своих станиц, хотя раньше на Меновом дворе в Оренбурге два раза в год — в осенние и весенние ярмарки — обменивали пленных.
С детства наслушался Нестор песен и рассказов о молодых полонянках, сгинувших в степных аулах, о замученных казаках. Но куда больше пелось песен о походах и саблях острых, об удалых атаманах и волюшке молодецкой, песен лихих и раздольных, прославлявших казачью свободу. Где же она, эта свобода? Пожалуй, правильно говорил дружок Антошка Караульников, что пользуются ею только отцы семейств — богатые самодуры-бородачи. Да и то, не зная, куда девать эту свою силу-власть, тратят ее чаще на мелкое домашнее тиранство. А молодых казаков шпыняют родители, отчитывает станичный круг, тех, что постарше, служба заедает с руками, ногами, начальство муштрует, кто не сгниет в окопах, тех гоняют на усмирение…
Что же остается от всей вольной воли молодому казаку?
Нестор вздохнул:
«Невесту привез, а в дом веду, как на казнь. И она хоть бодрится, а видно, нелегко ей. Но жить-то надо, значит, ладить с родными приходится, покорность оказывать отцу-матери».
Фрося правда с тревогой смотрела на широкие улицы станицы, привольно раскинувшейся на бугре. Все тут было непривычно и чуждо ей: добротно свитые, высоченные плетни, мазаные и побеленные большие дома под тесовыми и железными крышами.
В низине, где зеленела пойма реки Илека, среди высоких тополей тоже виднелись плетни «пригородов», а за ними — избушки-мазанки с толстыми трубами.
— Это карды, — пояснил Нестор. — Летом в них кое-кто овощи сажает, зимой скот живет и работники-кормельщики. Скота и птицы у нас — дворы ломятся, в этом все богатство. Вон на озерах, за перебоинами, где плотники наезженные, видишь, сколько гусей. А на том, нашенском, краю — большая старица Баклуша, в ней гусей и уток тьма-тьмущая. Живности — девать некуда, а житье скаредное. Так что уж не обессудь!
Фрося прижалась плечом, глянула улыбчиво:
— Что ты понимаешь насчет скаредности-то? Вот зашел в магазин и столько деньжищ ухлопал сразу!
— Да ведь не зря! — Нестор припомнил Нахаловку, смутился. — Если сравнить, то конечно… Но вот посмотришь — сама поймешь.
Белоног похаживал кругом, шелестел жесткой травой-резучкой, затянувшей сквозным покровом наступавшие здесь когда-то песчаные барханы. А молодые стояли, не спеша войти в станицу: пусть сначала родные узнают об их приезде.
Их, конечно, уже приметили из крайних окон: во дворах слышались разговоры и девичья суетня.
— С той — нашей — стороны бегут в Баклушу родники по оврагу Джеренксай. Там, выше, сад большой, яблоки родятся, и мельница работает над плотинкой. В половодье все заливается. И еще одна мельница есть в пойме, где Илек пустили недавно по новому руслу, во-он, где лес густой за лугами. Там у нас покосы.
Оживленное лицо Нестора казалось Фросе необыкновенно красивым, у нее дыхание останавливалось, когда она смотрела на него.
«Только бы не прогнали нас отсюда!» — думала она.
— Пошли? — спросил Нестор, не желая дольше пытать ее и себя ожиданием тяжелой встречи.
Вместо ответа она подала ему руку, и так рядом, ведя в поводу коня, они вошли в станицу, как сказочный добрый молодец со своей суженой.
Повсюду распахивались окна, открывались калитки, казаки, казачки, малые ребята высыпали на улицу. Расспросов никаких. Только: «Здравствуйте» да «Будь здоров». Но уж зато смотрели!..
Под этими взглядами у Фроси холодело сердце. Но Нестор шагал строгий, подтянутый, и она тоже старалась держаться гордо.
Однако при всем волнении она заметила Баклушу — озеро под бугром, — потому что птиц там плавало действительно тьма-тьмущая. Значит, это уже «нашенская сторона». Сердце у Фроси билось сильнее и сильнее. А гуси да утки так азартно гоготали и крякали на озере, будто тоже обсуждали новое событие в казачьей семье Шеломинцевых.
Звякнула щеколда калитки, и в ушах Нестора зазвучали вдруг слова древней свадебной песни:
Пусто на широком дворе. Помедлив войти в станицу, Нестор дал возможность стоустой молве добежать до родного куреня, но не видно никого из большой семьи Шеломинцевых. Все так же рука об руку с Фросей Нестор прошел мимо затаившихся окон дома. Под навесом еще стояли на колесе, насаженном на заостренный столб, глиняные горшки с вечерним молоком для каймака: видно, женщины, потрясенные известием, забыли о домашних делах. А что отец и брат Михаил?
Стукнула дверь, Нестор круто обернулся и покорно опустил голову, хотя руку Фроси сжал еще крепче.
Батя — Григорий Прохорович Шеломинцев — утвердился на крыльце, широко расставив ноги в смазных, для работы, сапогах, бросив руки за спину, в упор мрачно рассматривал Фросю. Спутанная борода густым помелом темнела на распущенной рубахе. Подчеркнуто небрежный домашний вид. Оскорбительно неприветливая поза: дескать, не звали, не ждали и ради вас суетиться, прихорашиваться не намерены.
Не поднимая глаз, стояла возле Нестора его избранница. На что он польстился? Походочку ее легкую, большую косу, прикрытую углом кашемирового платка, уже отметил из окна старый Шеломинцев. Как шла по улице, как в калитку входила… Ничего не скажешь — природная, без обмана красота. Красивых женщин довольно повидал на своем веку бывалый казак. Когда служил в личной царской охране при дворе, присутствовал и на короновании императрицы. Хвост ее платья несли пятеро взрослых мужчин. Женщин там было что звезд на небе. В глазах рябило от их сияющих украшений, от платьев, расшитых златом-серебром, одна перед другой они старались-выставлялись, — но даже мысленно он не позарился ни на одну, может быть, как раз богатством нарядов сбитый с толку. И в его представлении о будущей невестке, жене младшего сына, наружность значения не имела. Пусть даже и «умом недовольна» будет, но чтобы к дому была как ловкая упряжка к доброй лошади…
А эта личиком редкостно миловидна… Кто она? Какого роду-племени? Что дадут за ней? На своем седле привез ее Нестор… Похоже, умыкнул. Чего же ради он, есаул Григорий Прохорович Шеломинцев, отцу и матери Неонилы очки втирал? Как ни поверни, нехорошо поступил Нестор. Осрамил отца перед станицей.
Бородач еще не успел составить свой приговор, как из-за его широкой спины выскочила Харитина, с необычной смелостью повисла на шее брата, глянув на Фросю, не сказала — пропела:
— Батя, посмотрите, парочка-то до чего славна!
— Славна. Это я и без тебя вижу. А насчет пары еще неизвестно, — веско сказал старый Шеломинцев и, не торопясь, сошел с крыльца.
Следом выплыла дородная, нос кнопочкой, мать Нестора. Ей хотелось позвать сына и привезенную им девушку в горницу — не на улице же разводить разговоры! — но она боялась прогневать «самого» и потому остановилась в нерешительности. Тяжелое молчание нависло тучей над живописной группой, застывшей во дворе.
Кстати подоспевшее тарахтение повозки и топот лошадей заставили всех обернуться к воротам. Харитина бросилась отворять, и во двор бойко вкатила пара буланых. На ворохе свеженакошенной травы сидели раздобревшая Аглаида с грудным ребенком, спавшим на ее раздвинутых коленях, и Михаил, совершенно изменившийся за три года службы на фронте.
Из станицы уходил в армию румяный, круглощекий, будто полный месяц, казак с буйно кучерявым чубом и всегда смеявшимися глазами. И в прошлом году он был еще веселый, когда приезжал на побывку после первого ранения, а сейчас к Нестору подходил угрюмого вида человек с незнакомо вытянутым под выгоревшей фуражкой темным лицом. Похоже, война не только высушила, выдубила брата, но и озлобила.
— Здравствуй! — сказал он Нестору, обнимая его твердыми, словно из корней свитыми, руками и трижды целуя; догадался, что встреча тут получилась трудная, в глазах засветилось прежнее, по-молодому озорное и доброе: — Ты, браток, под батиным крылом все красивеешь. За границей тебя наверняка в магазин заграбастали бы для показу мужской моды.
Отстранил Нестора, всмотрелся ласковым взглядом:
— Здорово папаня с маманей выдали тебя под первый сорт? Надо же, ни одного изъянца! Вы как думаете? — полушутя обратился он к Фросе, желая разрядить напряженную обстановку, и протянул ей жесткую руку.
Она вспыхнула, искоса взглянула на Нестора, на его родителей и снова потупилась, ухватясь, как за спасение, за свой выстроченный складочками новенький фартук. Аглаида, передав ребенка свекрови, тоже поздоровалась за руку с деверем и привезенной им девушкой.
Пухлые губы ее смешливо морщились, но улыбка пряталась в прищуре ресниц, ярко-черных на толстощеком лице с утиным носиком и легкими черточками бровей: еще свежа была в памяти ссора между свекром и мужем-фронтовиком, да кабы опять не грянуло!
— Насовсем явился? — забыв осторожность, спросил брата Нестор.
Михаил кивнул, но с таким видом, словно не придал значения этим словам: дескать, не о том речь, есть кое-что поважнее, хотя багровый рубец на лбу показывал, насколько серьезным было здесь недавнее столкновение.
— Пройдемте в горницу, — пригласила всех хозяйка, ободренная поведением старшего сына.
Прошли гурьбой в дом, шумно топая по полу, добела промытому в сенях, а в горнице крашенному желтой охрой и устланному покупными дорожками.
«Не то что у нас в землянке», — тоскливо промелькнуло у Фроси, не знавшей, куда ей теперь деваться и как себя держать.
Чувствуя растерянность любимой девушки от суровой встречи, Нестор взял ее за локоть, поближе притянул к себе.
— Ну, сынок, рассказывай, — приглушенно-ровным голосом произнес старый Шеломинцев, выложив на стол грубые, сильные руки с волосатыми запястьями. — Кого это ты привел к нам? С кем тебя судьба свела?
У Фроси больно сжалось сердце.
Душно в большом, добротно поставленном доме, даже мухи и те угомонились от жары. Чуть веет в открытые настежь створки теплый ветер, чем-то печеным, съедобным наносит со двора. Есть не хочется Фросе, но в горле пересохло, может быть, оттого, что сердце, похоже, переместилось: стукает где-то под косточками ключиц. Голова так и клонится — плакать охота.
«Даже чаем не угостили — сразу допрос. Вот они какие, а еще православными называются! Как же принимают людей те казаки, которые кулугурами зовутся? Сразу, поди-ка, в колья…» — И испуганно вздрогнула, когда отец Нестора добавил:
— Мы ведь не кулугуры. Те вас и на порог не пустили бы. Крик бы подняли. У них чуть что, и пошли проклинать. А у нас разговор по-людски, начистоту. Вы на меня, барышня, не обижайтесь, сами понимаете, не чужой я ему, и вот она, мать, тоже вес имеет. Нас с ней родители сосватали по старому обычаю… Ну, теперь времена, понятно, другие, и, однако же, согласие отца-матери все равно требуется. Опять же для обустройства новой жизни начала должны быть заложены, фундамент, так сказать…
На минуту опять наступило тягостное молчание, а в доме словно бы потемнело.
— Какое будет слово со стороны ваших родителей? Кто они? Судя по вас, не скажешь, без роду-племени!
Фрося хотела сказать, что отец ее работает в главных мастерских, что семья Наследовых большая, дружная и жители поселка их уважают, но в горле у нее совсем пересохло и язык словно прилип: непреодолимая помеха — ненависть отца и Харитона к казакам. Даже дедушка Арефий, Митя и Пашка их не любят.
Чувствуя, что щеки и уши у нее горят, а над бровями и стиснутым ртом выступил пот, она посмотрела на грозного хозяина.
— Если вам надо богатую, то я не богатая. У меня даже совсем ничего нет. И родители отдавать меня за Нестора Григорьевича несогласные.
— Это почему же? Значит, люди бедны, а за человека из состоятельной семьи вас отдать не желают?
Фрося еле слышно:
— Да.
— Но отчего, позвольте узнать?
Она снова сделала над собой огромное усилие и опять подняла дремуче густые ресницы.
— Потому, что у нас в поселке казаков не любят.
— Это верно, — заговорил Нестор, не дав застояться зловещему молчанию. — Ефросинья Ефимовна из рабочей семьи. Отец ее и два… три брата работают в главных железнодорожных мастерских. Я с ними говорил, и они правда не согласны на наш брак. Но нам с Фросей расстаться невозможно, и мы приехали поклониться вам. Если вы тоже не согласитесь, тогда мы с ней хоть в кормельщики — за скотом ухаживать, но поженимся обязательно.
— За таки слова, за подобно поведение тебя выпороть следует на кругу при всем честном народе! — вскипел Григорий Прохорович. — В кормельщики он пойдет! Твое дело службу воинску отбывать. Да, может, не в запасном полку, а на фронт идти придется. И здесь еще неведомо чего… Время смутно, грозно. Казакам родину защищать, спасать надобно, а он — в кормельщики! Служить будешь, сукин сын! А женушку куда? От нее и родные — отец с матерью — отказались.
— А я не откажусь! — Нестор обнял испуганную Фросю. — Я за нее жизни не пожалею и уж в крайнем случае найду для нее уголок, где она без страха ждать меня сможет, как законная жена.
— Правильно, Несторка! — Михаил встал, угловатый, костистый, протянул брату широкую ладонь. — Вот тебе моя рука, что мы с Аглаидой заодно с вами держаться будем. Не пыли, батя: Нестору с женой жить, ему и выбирать для себя, котора по душе. Пороть его на кругу никто не станет. Теперь и в станичном правленье прислушиваются к депутатам из казачьего Совета. Давайте не будем срамиться перед родным казачеством! Время невеселое. Сыграем свадьбу без приданого, пускай взамен наш род ишо обогатится красивыми казачатами.
— Ты коров доить умеешь? — спросила Харитина после ужина, когда Фрося, обласканная Домной Лукьяновной и Аглаидой, успокоилась и немножко повеселела.
— Не приходилось мне…
— Ясно-понятно! Вы, городски, только молочко пить горазды, — поддразнила Харитина, уже надевшая платьишко похуже и чирики сыромятной кожи. Голову она туго повязала платком, запрятав под него косу и светлые завитушки на висках.
— Молочко мы никогда не пили, — серьезно сказала Фрося. — Только чай забеливали.
— Чего же так?
— Мало зарабатывают рабочие на заводах. Работаем все, и старые и малые, а только-только на хлеб да на приварок. Из-за того и забастовки.
Харитина сунула в карман кусок пшеничной булки для своей любимицы коровы и загремела подойником. Разговор шел в летней кухне-мазанке, жарко натопленной, хотя дверь была распахнута настежь.
— А у нас в станицах говорят: рабочие — лодыри и сквалыжники. Потому, мол, они бога-то и не признают, на церковны богатства зарятся. То царя спихнуть с трону старались, теперь хотят ликвидировать начисто казаков и наши земли мужикам отдать.
— Насчет земли я не знаю. А казаков у нас не любят оттого, что мешают они рабочим законную прибавку требовать. За богатством-то мы не гонимся!
Харитина стояла с подойником в руке, серьезно смотрела на Фросю ясно светившимися коричневыми глазами.
— Я впервой разговариваю с рабочей. Но тебе верю. Из-за Нестора. Раз он за тебя воюет — значит, стоишь того! За ним девки знаешь как бегают! А он только с виду баловник. На деле-то строгий.
— Хочешь, я с тобой пойду коров доить, покуда Нестор занятый? — предложила Фрося, проникаясь все большей симпатией к Харитине. — Надо же мне присматриваться… учиться, как у вас тут.
— Правда? — обрадовалась Харитина и достала из ларя старые обноски. — Надевай, в базах-то грязно.
Фрося сняла кофту, бережно скинула и свернула широченную юбку.
— Что это на тебе? — ахнула изумленная Харитина, глядя на ее нижний наряд. — Ни воротника, ни рукавов. А материя-то шикарна, шелкова!.. И кружев-то сколько! Что же ты говоришь, плохо зарабатываете? Этакого платья у жены станичного атамана нету. Стой, да оно порвато и в крови. У тебя и кожа-то содрана да поцарапана! — Харитина зорко оглядела сконфуженную Фросю, и на курносеньком, чуть веснушчатом лице ее промелькнула догадка: — Это тебя дома так отделали?
Фрося только губами пошевелила.
— А платье вы с Нестором достали, чтобы под венец пойти?
Фрося кивнула, сгорая от стыда.
— Ну и дураки! Кто же такое под венец одеват? И выкат на груди страшенный. Ладно, что ты не толста, а то бы все наружу лезло, как тесто из квашни. Давай скидавай эту срамоту, пока маманя с Аглаидой не увидали. И снизу-то набрали сплошно круженье! Все снимай! — Харитина заперла дверь на крючок, скатала снятое Фросей в тугой сверток. — Покуда спрячем, после покроишь на кофточки, на отделки. И мне дашь, ладно? А я тебе платье шерстяно подарю. Мы с тобой ростом вроде одинаки… — И Харитина, примериваясь, прислонилась к новой подружке.
Фрося мигом накинула поношенную кубовую юбку, ситцевую кофтенку, напомнившую ей работу на шерстомойке, сунула ноги в чирики, поданные чистосердечно услужливой Харитиной. «Идет баба за барином!» — прозвучала в ушах отцовская поговорка, и снова ворохнулась тоска в сердце.
— Покуда мы с тобой коров подоим, Аглаида с Айшой баню приготовят. Тогда и переоденешься, — рассудительно сказала Харитина. — Коровы у нас подпускны, только с подсосом доят, — говорила она, открывая скрипучие ворота база на втором дворе. — С телятами доим. Почиркашь сколько, а он уж тут, хвостом крутит. Ежели месячный, так его хоть убей: лезет, да и все, а больших отбивать да доишь. А которы коровы на хуторах, тех запускам.
Фрося слушала и не понимала, как собиралась Харитина отбивать телят и куда запускают коров на хуторах.
— У нас здеся везде палки понатыканы. Без палки в баз заходить нечего.
Харитина вооружила и Фросю, с опаской посматривавшую на острые рога коров, сердито косившихся на нее. Их было тут штук тридцать, а между ними, создавая суматоху, уже толклись телята. Оттащив от матери одного, с чертячьими рожками и мохнатыми мосластыми ногами, Харитина пристроилась с ведерком сама, наскоро ополоснув вымя коровы, принялась звонко чиркать молоко в подойник. Но бычок тоже не дремал: разбежался и, конечно, сбил бы девушку, если бы она не вытянула его хворостиной по морде.
И пошло: одной рукой Харитина доила, другой отбивала атаки рослого сосуна. Фрося стояла в нерешительности, боясь подступиться к корове, которую уже сосал теленок. Этот был еще маленький, зато Пеструха, любуясь им, так и заслоняла его.
— Чего ждешь? — Харитина подскочила с молоком, пенившимся в подойнике. — Он тебе и кружки не оставит, ишь как тянет. — Она ухватила теленка за шею, подтолкнула к морде заволновавшейся матери. — Давай садись, я его подержу.
Фрося заспешила, стараясь подражать движениям Харитины: начиркала на землю, себе в рукава, на ноги Пеструхи, попало и в подойник. Харитина заглядывала сбоку, поучала, смеялась…
Молока от такого большого стада надоили совсем немного: телята буйствовали, требуя свою долю, опрокидывали подойники, отталкивали девчат.
— Мученье-то какое! — сказала Фрося, с уважением глядя на ловкую и смелую Харитину. — Зачем бы их привадили вместе? Оставить им половину, пусть сосут.
— Да так уж заведено. Себе масла, молока и каймаку хватат, работникам тоже, не жалем и для телят, чтоб росли хороши. — Харитина потрогала синяк над локтем в продранном рукаве. — Ишь как саданул, проклит! На быках пашем, на быках в извоз и по сено… Вот и душимся с этой скотиной!..
Она процедила молоко, разлила его в крынки и горшки, потом снова провела Фросю по базам.
— Тут хряки и свиньи… Сколько они всего сжирают — не поспевай варить да месить. А куры… Полазий-ка за ними, пакостницами, по яслям да крышам: не несутся в гнездах, все норовят украдкой… Гуси, утки — эти сейчас в лугах, на Баклуше, а зимой только и дела: корми, снежку принеси, в базке почисть. Овечкам корму, козам, лошадям, коровам тоже, да на прорубь либо к колодцу два раза каждый божий день. Хорошо, что не меньше того скотины в кардах зимой помещается да на хуторах. Там уж одни киргизы присматривают. Маманька, когда осердится, бранится, за грехи, мол, послана нам эта благодать, а все равно гордится — хозяева!
— А ты?
— А я бы лучше поплясала часок, с ребятами, с девками балясы поточила. Столько работников держим и сами тут же чертомелим день-деньской. Намотаешься другой раз — к вечеру без рук, без ног…
— У меня спина устала. Должно, с непривычки, — созналась Фрося. — Уж очень я старалась, торопилась, аж кулаки заболели…
Харитина тихонечко отперла калитку в проулок, по которому гоняли скот на водопой. Постояли тут. Вся станица разлинована поквартально. В каждом квартале четыре хозяина: два дома на одну улицу, два на Другую, а длинные переулки — сплошь плетни да мазаные саманные заборы, чтобы было просторно и людям и скотине.
Кланялся журавель в соседнем, ведякинском, дворе, и Харитине не терпелось свести Фросю с Дорофеей, чтобы посмотреть, как поведет себя соседка. И не из злорадства хотела испытать она ее чувства (знала ведь, что та сохнет по Нестору!), а потому, что сама не на шутку ревновала к ней Николая — младшего из трех братьев Ведякиных.
Все тут казалось Фросе необычным. Живут себе люди под широким синим небом, не задыхаясь в тесных каморках, не гомонят на пыльных улицах возле трактиров и кабаков, не дышат заводской копотью. Вроде бы хорошо!.. День в поле или в лугах на покосе, а росным вечером под спелыми звездами, не замутненными грязной мглой, едут на телегах в станицу, пахнущую молоком, свежим сеном, терпким кизячным дымком. Ужин сытный, неторопливый, и тихая ночь надвигается из степей на зеленую пойму Илека, гасит в домах огни.
Молодежь угомонится не сразу. Где-то еще звенит гармонь, еще не все песни допеты. Фрося под крылом Нестора слушает стук его сердца; стесняясь Харитины, вьющейся вокруг да около, целуется с ним.
Потом Нестор нехотя уходит, а девчата ложатся вместе в Харитининой светелке, но долго еще шепчутся, поверяя друг другу нехитрые тайны. А потом, когда Фрося лежит без сна, слушая сладкое дыхание умученной работой Харитины, приходит к ней плачущая мать и скорбно приникает к изголовью. И вся нищета наспех сколоченной, зарывшейся в землю Нахаловки надвигается из углов спящего казачьего дома. Душно, жарко делается Фросе, жалобно скулит где-то ребячий голосишко: не Костины ли сестренки просят хлебца у тетки Палаги? И уже не степнячка Харитина, а Вирка, истерзанная недевичьим горем, сидит рядом. Не износить ей синяков, не избыть забот, свалившихся на худенькие плечи. Но до чего же гордая она и злая! И дедушка Арефий, ступая босыми ногами, проходит, с улыбкой глядя на Фросю… И Митя…
«Родные вы мои! — с трудом побарывая желание заплакать, шепчет Фрося. — Всех вас променяла на единственного. Но что же делать, раз я не могу без него? Без него не могу и по вас скучаю. Вирка-то теперь совсем с ума сойдет со своим зверем-батей. Не успевает, поди-ка, оборонять от него братьев и сестренок».
Милая, бедная подружка! Сколько вместе работали на поденной каторге, вместе в редакцию газеты поступили, бегали в кино. И накануне беды, случившейся с ними, зашли они в кинотеатр «Чары», манивший ярко размалеванными афишами. В тот день там обещали «необыкновенное» зрелище первой серии «Духа времени» по роману Вербицкой, «с редким по глубине и интересу сюжетом и небывало роскошной обстановкой». Правда, «Дух времени» тогда где-то запропастился, и вместо него шла, тоже «небывалый шедевр», жуткая драма — «Танцовщица черной таверны». Девчонки прикинули свои возможности и взяли билеты на «Танцовщицу».
А когда они бежали домой, то встретили по дороге Александра Коростелева, избранного председателем Совета депутатов. Он шел в Нахаловку на рабочее собрание. Бойкая Вирка стала с восторгом рассказывать ему про «шикарные и жуткие шедевры», какие им удалось посмотреть в кино.
— Охота вам забивать себе голову разной дрянью?
— Что вы! Красота-то какая!
— Какая же?
— Ну, платья, наряды… И все ж таки будто входишь сам в красивые комнаты и видишь своими глазами, как люди богато живут.
— Скажи пожалуйста! А в жизни вас это привлекает? Нравится вам, что есть богатые люди?
— Так то в жизни!.. — отмахнулась было Вирка, хотя вдруг задумалась, но, еще не сдаваясь, добавила: — Опять же артисты… и так завлекательно про любовь.
— И про любовь в этих боевиках только для спекуляции говорится, именно для завлекательности. Разве она такая, любовь? Тащат на экран слащавые чувствица или страсти-мордасти, а человека-то живого и нет.
Фрося слушала и опять удивлялась тому, что Коростелев так серьезно разговаривал с девчонкой-наборщицей. Сама она никогда не решилась бы пуститься в споры с ним, да еще о любви.
— Настоящий человек должен дышать глубже, чувствовать сильнее. Не может он отрываться от своих жизненных задач, отгораживаясь от людей шелковыми ширмами и прочими прелестями буржуазного уюта.
— Значит, вы против кинотеатров? — спросила Вирка, заметно поколебленная.
— Вовсе нет! Кино — важнейшее достижение современного общества и лучший агитатор в народе. Но пока что оно агитирует за мещанскую мораль, за основы старого мира. Вот когда мы создадим свое пролетарское искусство, тогда этот «Великий немой» станет нашим лучшим помощником в воспитании нового человека.
— И все «небывалы шедевры» побоку? — Вирка неожиданно развеселилась. — Тогда, может, и я в артистки попаду? Чем черт не шутит! Уж я бы сыграла про женщину, у которой муж тиран вроде моего тятеньки! Чтоб все смотрели и плакали!
— Вот видишь, дошло до тебя! — Александр Коростелев тоже рассмеялся.
А Фрося шла молчком, растревоженная, старалась понять, почему, в самом деле, богатые люди, которые так возмущали рабочих, по-иному выглядят в кино? Почему им сочувствуешь, когда они действуют на экране?
Живя в Изобильной и вспоминая Нахаловку, разговоры с Коростелевым, дружбу с Виркой, родную ершистую и в то же время дружную семью, Фрося со странно щемящим чувством душевного холодка думала:
«Теперь Александр Алексеич не считает меня своим человеком. А для кого здесь я своя? Кому я нужна? Только Нестор да я. Я да Нестор. Ну и пусть! Лишь бы он был всегда со мной!»
Свадьбу решили справить поскорее. И хотя возраст невесте не вышел, не поехал Григорий Прохорович в епархию, а отогнали они с Михаилом корову во двор станичного попа, обещали щедрое вознаграждение за венчание и получили согласие. Пусть здешний поп и отвечает перед епископом, если выйдет огласка.
— Такое кругом творится: цело государство рушится. Кто теперь станет из-за одной девчонки дело затевать? Все понятья кувырком, — сказал старый Шеломинцев своей Домне Лукьяновне. — Но чтоб не было покора от станичников, приготовить столы честь честью. Охотников пображничать, как телят палкой, не отобьешь. — Он сел на лавку, широко расставив мощные колени, проутюжил кулаком усы, привычно поправил бороду, в медвежьих глазах — недоумение и вроде печаль. — Все не вовремя. Самая страда. Сроду свадеб не игрывали об эту пору. Только ради смуты окаянной поступился: не стал скандалить с Нестором. Что ему приспичило? Ведь вот-вот в полк для военного действия потребуют. Дать бы выволочку, да опять политика препятствует. Ссориться мне с Михайлой второй раз не с руки: фронтовики в станицу гуртом прут. Неохота пока что с этой молодью в контры вступать, ишо одумаются, пригодятся для делов казачьего войска. Потому, видно, и начальство временно рукой на них махнуло, не может сейчас совладать.
— Арбузы у нас ноне до срока вызрели на хуторской бахче, где рассадой посадили. Медку свеженького арбузного не сварить ли, отец? — соображала свое Домна Лукьяновна.
Шеломинцев глянул на нее, как сквозь пустое сто, угнетенный государственными заботами:
— Сказал ведь: чтоб покору не было! Велю гурт овец пригнать со степи, двух бычков годовалых забьем, пусть наготовят студню и пашкету на всех, ишо нетель выходилась одна — пудов двадцать потянет. Свиней… сама отбери. Киргизцы из аула, чай, припрутся.
— Ты уж, отец, не сажал бы их за чисты-то столы. С души воротит глядеть, как они грязными ручищами в блюдо лезут!
— Которых надо — посажу. Уваженье требуется. — Есаул немножко повеселел, снова поправил, обласкал свою окладистую бороду. — Покосы, считай, задаром у них берем. Сколь ни попросишь, столь и дают: хоть сто десятин, хоть сто тысяч. Ровно ребята малые.
— А как тебе она кажется? Ефросиньюшка-то?
— «Кажется»! — передразнил Шеломинцев и с минуту отчужденно, молча смотрел на жену, обросшую жиром, неповоротливую, нелюбимую. — Нестору глянется — и ладно, а мне от нее ни радости, ни прибытку. Неонила Одноглазова, та, по крайности, тысяч полтораста чистоганом в дом принесла бы.
— Да бог с ней, отец! Нескладна, непригожа девка. И рука-то у ней не права с той поры, как сломала она ее, да ишо умом недовольна. А деньги… — Домна Лукьяновна подошла бочком, таинственно сощурила и без того махонькие глазки. — Патреты царевы в городе сымают. Вон куда хватили! А деньги…
— Деньги всегда будут, — резко оборвал ее Шеломинцев. — Николаевски ли, керенски ли. Без царя ишо куда ни шло… Полгода при всех беспорядках прожили, а без денег дня не протянешь. То-то и оно!..
Снова помрачневшим взглядом он окинул горницу. Большая. Светлая. На побеленной стене портрет свергнутого государя в круглых золотых эполетах, лицо благообразное, чистое, бородка уголком подстрижена. В другой раме — молодая императрица, молочно-розовая, как месячный поросеночек. Волосы пышно взбиты, по голой груди низки-борочки белого жемчуга.
«Дал ей, бусурманке, волю Николай, вот она и положила клеймо на всю царску фамилию. Может, ишо тоже по сговору с Вильгельмом работала, чтоб расшатать устои, уронить Российско государство. Всыпал бы ей розгами по розовой-то… Враз бы утихомирилась».
Насчет денег Шеломинцев сам подумывал:
«Введут эти временны правители еще каки-нибудь купоны, и пропадут в банке мои денежки. Те, что дома в кубышках, — звонки золоты останутся, но ведь это капля в море».
Он снова оглядел горницу.
«Ни ковров, ни мебелей городских. Кровати просты, деревянны: все одно спим, как киргизы, на полу. Перины кошмами обернуты, тулупами закрываемся. Все богатства — скот да земля, и про то социалисты — язви их душу — раструбили на всю Расею. А как оно, это богатство, достается — никому не ведомо».
Женский смех во дворе спугнул его раздумья. Григорий Прохорович шагнул к окну, затаился у косяка в простенке.
Нестор возле летней кухни пытался поцеловать Фросю, держа за косу и локоть, а она, откинув голову, смеялась и клонилась назад, не в силах защититься, потому что в руках ее был арбуз.
До чего же гибка она, камышинка озерная! Юбка зонтом раскинулась, руками смуглыми, загорелыми цепко держит белый шар, а лица не видно, смеха уже не слышно: целует ее Нестор, пойманную в кольцо рук, полуопрокинутую. До тех пор добаловали — чуть не перевернулись через порожек, так и опустились, сели наземь, и арбуз уже на коленях Фроси. Харитина с ножом подоспела, чуть тронула, и разломилась красно-серебристая мякоть. Осторожно, чтобы не брызнуть на платье, надкусывает Фрося сладкую скибку арбуза, а Нестор хочет вместе с нею от одного ломтя отведать, и она, улыбаясь, подносит свой кусок к его губам.
Пустяки? Баловство? Но ради такого баловства города летят!.. Сроду бы не взял Григорий Прохорович куска, надкушенного его женой, и не целовал так никогда, и не падал рядом с ней, опутанный любовью, точно птица сетью. Буднично было все, как молотильный камень. Надо — привязал, повез. Обмолотил хлеб, и опять лежит серый, тяжелый, на задворках до нового обмолота.
А тут… Девки проходят, аж бледнеют от зависти. Парни, сажен десяти не дойдя до ворот, рубахи под ремнем одергивают, «висок», под фуражкой раскудрявленный, трогают, прихорашивают, и даже у самого Григория Прохоровича какой-то росток веселый в душе подается, проклевывается при виде избранницы Нестора.
«Может, зря мы родителев слушали — ломали свою жизню, потому и радости в семьях не было. Кубышки только набивали, а наступило безвременье, и прахом могут пойти труды… Не-ет, надо свадьбу сделать, чтобы всем запомнилась. Не утечет пшеничка. Котора поспелей, работники-поденщики уже лобогрейками покосили, в бабки поставили. Покуда пускай в обрывы возят да в скирды кладут. Возьмем свое. Гульнуть, чтоб небу жарко было. А то пропадут, обесценятся деньги, да и самих-то неведомо что ждет в смутно это время».
Так думал Шеломинцев…
…Много глины идет в казачьем хозяйстве: там умазать, тут подбелить, саманные кирпичи для ограды сделать, печь в летней кухнешке или в доме сложить. Повсюду, где есть глина, роют за станицами ямы. Потом в них сваливают мусор со дворов. На реку — по неписаному древнему договору — никто дряни не вывезет, и вода в ней идет, как стеклышко, чистая, светлая, только в бездонных омутах, словно завороженная, дремотно и загадочно смотрит в небо, заманивая в черную глубину плывущие облака. Зато рыбы первейшего сорта в Илеке полно. Судаки и окуни «скуснее нигде нету», сазаны аршинные, лещи красноперые — кипящее в хрустальных струях живое серебро — ловить не переловить! И казаки ловят безданно, беспошлинно: кто бреднем, кто сетью, или ставят плетневый чегень с ловушками через весь сверкающий плес.
Фрося и Нестор шли по песчаному яру над поймой, шурша выгоревшей уже травой, к глиняным ямам, куда женщины увезли на быках чугунные котлы, черпаки, большие ножи, словом, целую кухню для варки арбузного меда. Чтобы не отвлекать работников от уборки хлеба, Григорий Прохорович, прихватив Михаила и Харитину, сам с рассвета до полудня возил арбузы в фурманках с хуторских бахчей. Замужние казачки и девчата, отработав свое в полях, спешили на толоку, как в церковь. Всем хотелось принять участие в редкостном по времени веселом событии.
— Нравится тебе у нас? — спросил Нестор, срывая на ходу веточку дикой мальвы и осторожно вкалывая ее в косу Фроси.
— С тобой мне везде хорошо. Смотри, деревья тянутся над яром, будто на цыпочки встают, чтоб заглянуть сюда.
— Интересуются, наверно, какую невесту я себе привез! Скорее бы прошла вся эта свадебная канитель и нам остаться вдвоем.
— Сегодня и так до утра просидели вдвоем на лавочке. Люди затемно снопы возят, а мы как голуби-лодыри… Твоя маманя сказала, что мы совсем изведемся, и придется мне под венец румянец наводить.
— Отоспимся, успеем. Я боюсь, чтобы нас в полк не вызвали. Как ты тогда без меня?
В эту минуту Фросе действительно не мешало бы навести румянец, но только миг печали, раздумья — и снова беспечно-преданный взгляд:
— С немцем воевать тебя не угонят, а в бараки — новобранцев учить — не страшно. Я тут привыкать начинаю. Не навечно ведь расстанемся.
Дорофея вела себя так тихо, такой отрешенной от всех выглядела, пришибленная появлением Фроси, что родные начали бояться, как бы она не натворила чего.
— Ну, а если бы он на Неониле женился? — шипела Алевтина, стараясь, хотя бы разозлив, вывести сестренку из состояния этой странной безучастности.
Бледно-голубые глаза, точно пустые фарфоровые чашки, и голос ровный, беззвучный, неживой:
— Тогда я знала бы, что и он несчастный…
Сестры тоже пришли к глиняным ямам, где, окончив страду, все хозяева каждую осень сжигали мусор, а потом устраивали печи-горны и варили мед из арбузов. Шеломинцевы впервые нарушили прочно установленный обычаем распорядок времени.
Печи уже дымили вовсю. Над ними были поставлены два большеухих кубастых котла, ведер по восемнадцати, да три котла развалистых, вроде глубоких тазов. Набежавшие девчата и женщины, — опаленные жгучим солнцем, в будничных платьях, но все-таки успевшие прихорошиться, — начали резать арбузы пополам и выгребать из них мякоть в кадки железными ложками-чистилками. Другие рубили ее там лопатами, чтобы при варке семечки скорее садились на дно котлов. Аглаида, Домна Лукьяновна и могучая батырша Айша загружали изрубленной мякотью кубастые котлы, к которым мальчишки и девчонки подтаскивали дрова и кизяки.
Дорофея, вооружась ковшом на длинной деревянной ручке, помешивала красное месиво, которое должно лишь слегка кипеть на медленном огне, чтобы не подгореть. Когда оно сварится, его процедят, мякоть — в бочки на корм свиньям, семечки — на маслобойку, а сусло выпаривается в развалистых котлах, пока не станет черным, тягучим, приторно-сладким медом. А тем временем кубастые котлы снова заполняются арбузной мякотью.
Для свадебной стряпни хозяйки варили тут же из сусла с тыквой сладкое варенье, отлив неуваренного сусла и на брагу-кислушку.
— Настоящий завод! — шутил Нестор, толкаясь среди девушек и женщин, которые нарочно оттирали его от Фроси.
— Иди-ка ты отсюдова, — притворно шумела на него Аглаида. — Тебе, жениху, пышек из семечек напечем.
Нестор все еще любил пышки из муки толченых арбузных семечек, обваренной и смешанной с медом. «Лучшее угощение для ребятишек», — подумал он, ища взглядом Фросю.
Вот она обернулась, засмеялась, юбка фартуком подобрана, в руках нож, будто и родилась здесь, в казачьей станице, но вдруг задумалась, глаза стали строгими.
— О чем загрустила? — спросил Нестор, снова оказавшись рядом с нею.
— Ты смотри! — Она повела рукой.
Нестор осмотрелся: земля вокруг была завалена пустыми арбузными половинками, красными от спелого сока.
— Ну и что особенного?
— Похоже, побоище тут произошло.
— Полно выдумывать! Ничего похожего.
— А ты видел убитых?
— Знаю. Сказывали… Вот выдумщица, ей-богу! — Но ему тоже показалось: валяются арбузные корки, как расколотые черепа.
— Охота людям пачкаться, черный мед варить. У меня от него изжога, — громко сказала белобрысая богатейка Неонила Одноглазова.
Дома она еще, как говорили, «шибко играла в куклы» — устраивала с подружками кукольные свадьбы да крестины, а на людях жеманничала, точно старая дева. У отца ее была большая лавка в станице, магазин в Оренбурге, и хотя он считался станичным казаком, но с городом связь имел более тесную, ездил по ярмаркам и Неонилу нарядами, подарками совсем избаловал. Единственной долгожданной дочкой была она на придачу к девяти братьям, которые — орешек к орешку: все русые, белые, бравые — при царе служили. Неониле же (хоть десять юбок надень!) — не спрятать худобы, да еще рука «не права» — плохо сгибается после того, как сломала она ее, упав с качелей.
Вот какую невесту облюбовал Нестору отец. Увидев ее сейчас, он и сам подивился в душе, можно ли было пожелать сыну такую жену.
«Дурочка не дурочка, но фактически умом недовольна. И с виду, хоть рядись, хоть не рядись — журавель общипанный. А ведь законной женой стала бы, присухой до гроба».
Увидя Неонилу, изменилась в лице Дорофея, кивнула сестре и первая звенящим голосом вывела:
Алевтина подхватила, вторя:
Голос Дорофеи тосковал, звенел.
— Чего вы завели этаку нудну? — запротестовала Аглаида. — Сыграли бы веселу.
— И эта хороша! — с необычной суровостью бросила Дорофея и залилась еще звонче:
Алевтина, сбившись от неожиданного упрека, умолкла и почти испуганно смотрела, как Дорофея ожесточенно мешала в котле черпаком и пела, словно вызывала, накликала беду:
— Откуда ты таку жалку песню выкопала, соседушка? — спросил Михаил Шеломинцев, разгружая с помощью мальчишек последний воз арбузов. — У нас в казармах и то задорней пели!
И сам затянул хрипловатым баритоном:
Взрыв смеха был наградой певцу.
— Это вы на фронте спортили нашу песню «Прощай, страна моя родная»! — крикнула Алевтина. — Здорово ты покохался у тятьки свого! — намекнула она на недавнюю ссору.
Михаил тоже не забыл этого, но, будто вспомнив юность, а на самом деле желая рассеять впечатление от выходки Дорофеи, которая разыгрывает из себя покинутую невесту, повел свою запевку дальше:
— Ох, чтоб тебя намочило, видно, у шармачей в Челебе перенял песню-то. Блатна песня-то, говорю! — Это дед Захар Караульников, возвращавшийся с «обрывов», где работники складывали снопы в скирды, заглянул на веселый шум к ямам и стоял, опираясь на клюшку. — Чего это вы, станишники, не ко времени меды заварили, игрища завели? В страду хлебушко надо убирать, а у вас, никак, свадьба на уме?
— Она, дедуня, — отозвался Михаил. — Приглашаем вас на пир честной. Отпируем, оженим своего казака и сразу за уборку, а пока и без нас идет.
— Чего так приспичило? Летний день год кормит.
— Казаку, дедуня, каждый час — божье соизволенье, теперь тем паче. Потому на месяц ему загадывать нельзя, не то что на год!
— Да оно, пожалуй, по нонешним-то временам… А чью берет? Одноглазову ли, чо ли?
Неонила вспыхнула, вздернула нос, тряхнула полями французской фасонистой шляпки:
— Очень-то нам нужно!
Нестор взял Фросю за руку, гордясь, подвел к старику:
— Вот моя невеста, дедуня.
Тот посмотрел, пожевал ввалившимся ртом, тронул задумчиво седые, прокуренные до желтизны усы:
— Стар, видно, стал: не помню, чья така. Но сразу видно: казачка природна. — Тут он увидел Алевтину, поманил к себе скрюченным пальцем, отвел в сторону и сказал озабоченно: — Тихон-то мой просил вас с Демидом уведомить, как вы есть опекуны Дорофеюшке. Сватов к ней собиратся засылать внук Семен по осени.
У Алевтины под тонкой кожей ало плеснулась кровь, даже веки порозовели. Год назад каким завидным женихом был бы для Дорофеи вдовец Семен Караульников. А сейчас — и то, да не то! Вон как старый черт Шеломинцев вильнул от дочки торговца: сегодня у нее капитал, завтра вместо денег будут бумажки, годные только сундуки обклеивать. Разве уступил бы старый казак сыну в прошлом году?
И она промолвила сдержанно:
— Спасибо Семену Тихонычу за честь. Только разговор с Дорофеей вести надо. Она сама себе голова.
Захар Караульников, опираясь на клюшку и осуждающе кивая в такт твердым еще шагам, пошел домой:
«Все перевернулось вверх тормашками! — ворчал он. — Девка сама себе голова. Это придумать надо! Бывало, сваты ходили… Другой раз дворов шесть обойдут: то родители не согласны по младости дочерней, то о приданом не договорятся, то у невесты изъян какой обнаружат. Девка — товар, ее и выбирали, словно как товар. А тут: сама себе голова. Не бывало такого и не будет!»
В солнечный день собралась у Шеломинцевых родня на запой. Страда еще в разгаре, и, сами себе дивясь (такого не бывало!), приехали казаки и казачки из соседних поселков, с Илецкой Защиты и из уральских станиц, что, как орлиные гнезда, стоят вдоль правобережного Сырта — водораздела меж Уралом и рекой Самарой. Прискакали с левобережья, из многолюдной Краснохолмской, брат Григория Прохоровича — Степан с сыновьями и молодыми казаками Кучугуровыми, друзьями Антошки Караульникова, явились и дружки Нестора по Оренбургскому казачьему училищу.
Шумно стало во дворе и в доме Шеломинцевых. Распахнулись двери амбара и клети, устилались полы и временные настилы под поветями сеном, брезентами да кошмами для отдыха дорогих гостей.
Нестор, ради особого торжества сменивший казачий мундир на щегольской черный костюм с твердой бело-крахмальной грудью рубашки, казался без вина пьян.
— Доволен судьбой? — с ласковой насмешкой и с завистью пытал Антошка, тоже приглашенный в шафера, хотя держать в церкви венцы над женихом и невестой поручили другим: не могли старики простить ему причуд, дышавших непокорством.
— Сказать, что доволен, — этого мало, — ответил Нестор. — Счастлив безмерно. Могли ведь год назад силком окрутить с Неонилой!
— Очень просто. А родные Фроси не согласны, значит, родниться с вами?
— Слушать даже не стали. Рабочие давно против нас зуб имеют, а тут кронштадтцы еще жару подкинули — наших казаков на грех навели.
Не стриженная по-казачьи, а вся кудрявая цыганская голова Антошки склонилась к самому уху Нестора:
— Вдруг и здесь, в Оренбурге, такая заваруха приключится, ты тоже пойдешь расстреливать рабочих?
— Н-не знаю. Раньше сказал бы: «Как начальство прикажет»… Теперь мне это совсем не по нутру.
— Из-за Фроси?
— Да! На ее братьев у меня рука не подымется, хотя старший, Харитон, от одного слова «казак» сатанеет. Может, минует нас это испытание. Ты сам-то что собираешься делать? Дома до победного отсиживаться?
— На полати залезу — припадочным прикинусь, а против своих не пойду.
— Кого же ты своими считаешь, если не станичников?
— Так станичники-то разные… Если взять наших батек, то это один коленкор (мои отношения с папаней тебе давно известны). А другие станичники — это ты, я, ваш Михаил, фронтовики наши. Вот сейчас я тебя познакомлю с моим Краснохолмским дружком — Горой Кучугуровым. У них семья — пятьдесят два человека.
— Что так много?
— Как водится в казачестве: дети, внуки все вместе. — Антошка нырнул в толпу гостей, вывел рослого верзилу казака. — Вот он, Горуня!
— Горуня, стало быть, человек-гора? — спросил Нестор, проникаясь симпатией к юному богатырю.
— Стало быть, Георгий, — спокойно уточнил Кучугуров неожиданно тонким голосом. — Нас двенадцать братьев, и все такие рослые, кроме одного, горбатого. Я младший — от второй жены.
— У вас ведь и сестры есть… — припомнились Нестору разговоры с Антошкой.
— Семь сестер — и тоже богатырши.
Нестор невольно улыбнулся.
— А отец?
— Папаня ростом не вышли, даже неказисты с виду. Зато они полный георгиевский кавалер, выдумщик и забияка. Потому и по кулачным боям сильны были — решительностью брали. Дома командуют до сей поры.
— Патриарх, одним словом, — весело перебил Антошка неторопливую речь Горуни, преисполненного почтения к своему родителю. — Ты скажи лучше насчет линии вашего папани в политике.
Горуня огляделся, но гости были заняты разговорами.
— Они за нейтралитет.
Нестор, с нетерпением ждавший выхода Фроси и оттого не очень внимательный, сразу заинтересовался:
— Как это понимать?
— Так что хватит, мол, навоевались. Ни в какие свары встревать не будем. С дворянами-золотопогонниками нам ладить трудно, с голью рабочей тоже не по пути. Пусть они меж собой договариваются как хотят, а мы своим казачьим самоуправлением обойдемся.
— Дельно, пожалуй… — Однако Нестор сразу же забыл и о Горуне и о нейтралитете: гости, притихнув, подались к двери, из которой вышла невеста, закутанная платком, поддерживаемая под локотки свахой и дружкой. Сутуло согнутая, припадая на одну ногу, она заковыляла к побледневшему от испуга Нестору.
Но тут Алевтина громко крикнула:
— Не наша!
И все закричали:
— Не наша!
Горбунья звонко рассмеялась, повернулась и, уже не хромая, не горбясь, побежала обратно.
— Харитина! — Нестор покачал головой, еще не опомнившись от внезапной растерянности. — Вот озорница! А я подумал: что-то с Фросей стряслось…
— Здорово ты врезался, милок! Все на веру теперь берешь! — смутно ревнуя друга, сказал Антошка. — Старинная ведь шутка!
— Мне сейчас не до шуток. Даже лихорадит!
Дверь в парадную горницу снова открылась. Робея, вошла в окружении нарядных девчат-провожаток Фрося с дарами на подносе: белыми пуховыми перчатками и шарфом для жениха.
Бирюзовая, узкая в талии кофточка с кремовой гипюровой вставкой на груди и юбка, тоже отделанная по волнистому подолу богатой полосой выпуклого кружевного узора, особенно выделяли смугловатую красоту чернобровой невесты, делали ее похожей на сказочную царевну. Была она без платка, «развязкой», и волосы, заплетенные в косу с бантом, хоть и оттягивали голову, но пышно, от гущины, лежали над чистым лбом. На шее вокруг стоячего воротника белели нежно на кружеве жемчужные борочки, поднесенные от щедрот будущего свекра посаженой матерью Алевтиной Ведякиной. А сережки и перстенек золотые — подарок жениха. Под плавно колеблющимся платьем чуть виднелись на ходу носочки белых туфель.
Все уставились теперь только на Фросю, — оценивая каждую черточку ее лица, каждое движение, каждую подробность наряда, — и оттого она застеснялась еще сильнее, вся вспыхнула до слез, до испарины над задрожавшими губами, полуоткрытыми словно от удушья, но стала от этого еще краше и притягательней для жадно устремленных на нее взглядов. Нестор не выдержал — шагнул навстречу, скорее взял дары из ее ослабевших рук. Зато и посмотрела она на него распахнувшимися глазами! Столько счастья, еще несмелого, в них светилось, так усилили их черное сияние близко стоявшие слезы, что даже шорох прошел по горнице от общего вздоха удовольствия, одобрения, зависти, когда Нестор обнял ее и поцеловал прямо в губы.
— Поднесешь дары-то да по рюмке вина ишо подай родителям да сватьям, — поучали, наставляли ее перед выходом, и теперь она, закруженная в толпе, гибким движением обернулась назад, на обе ладони приняла поднос с рюмками и стала обносить старших.
— Посмотри и на нас, красавица! — сказал разбитной, подходчивый дружка, желая еще раз показать товар лицом. — Ну, Нестор, какую кралю выхватил! Ручки с подносом, сердце с покором, голова с поклоном…
Народу на окнах налипло — на каждом будто пчелиный рой жужжит. Все, побросав работу в полях, сбежались поглядеть, как у Шеломинцевых начнут запивать невесту.
Жених взял ее под руку, и вместе с шаферами и провожатками они пошли в другую комнату, где собралась молодежь, а девчата исходили нетерпением возле гармонистов и столов, уставленных закусками, сластями, кувшинами с медовухой да брагой. Запой начался.
И в день свадьбы с утра песни, пляски, веселое похмелье.
Рука в руке. А вокруг цветной вьюгой бабьи платки, карусели юбок, девичьи банты, пестрые шали, перепляс, пересвист, дробное топанье каблуков. От говора гармоник, от хлопанья ладоней — звонкий плеск на всю округу. «Пусть пляшут, поют и гомонят, а мы только вдвоем, хотя ради нас и затеяна вся эта несусветная веселая суматоха».
На голове Фроси увал — восковые цветы, белоснежные на черных как смоль волосах. Коса прикрыта красой — пучком лент. Ярко рдеет маленькое ухо, чутко ловящее в обвальном шуме шепот любимых губ. Не поворачивая головы, чувствует она каждый взгляд, каждое движение Нестора.
Дружка в красном кафтане, полотенце через плечо, командует свадебным торжеством, с обрядной выступкой, с приговорами встречает и угощает почтенных гостей. Сколько тут всяких примет, обычаев, уловок! Но вот запевают прощальную «Злату трубоньку»:
И у Фроси начинает пощипывать глаза, тугой комок подкатывает к горлу: вспомнились опять доброе лицо матери, ее ворчание, вечные хлопоты и то, как по копейкам собирала она на последнюю обновку для дочери — баретки, потерянные в тот страшный вечер.
«Ведь она теперь панихиды по мне заказывает!»
И такая жалость, такая горячая любовь затопила сердце Фроси, что она не выдержала и залилась плачем, будто отвечая, по обычаю, на свадебную песню обязательным для девушки рыданием. Глядя на нее, и Нестор расстроился, впору самому заплакать.
Вывели Фросю с женихом на середину горницы, сняли с нее девичью красу, накинули длинную фату, прозрачную, шелковую, шпильками прикрепили к увалу, восковые цветочки на тонких плеточках спустили до плеч. Дружка мечется, точно огонь, в красной своей рубахе: девок за столом, что песню спели, одаривает, иконы помогает снимать — благословить молодых. Фрося уплакалась, еле на ногах стоит, и еще милее и прекраснее кажется она Нестору в слезах, в просвечивающем сквозь снежную дымку фаты атласном белом платье с отделкой из дорогих парижских кружев — специально нарочного гоняли в Оренбург за подвенечным нарядом.
Окруженные свахами, провожатыми, родными, жених с невестой выходят на крыльцо. Во дворе парни и девчата едят глазами нареченных; лошади, запряженные в брички и коляски, нетерпеливо роют землю копытами, позвякивают бубенцами. Народу на улице — пушкой не прошибешь: старые и малые, бородатые почтенные казаки в черных мундирах с голубыми лампасами и высоких сапогах, нарядные казачки…
Дружка, понаторевший в свадебных делах, кричит:
— Господа поезжане, все по местам, как соколы по гнездам!
И понеслись — пыль столбом — в недальний веселый путь к церкви, заполненной огнями и голубым дымком ладана. Площадь перед церковью поросла вдоль изгородей зеленой травкой-муравкой, а середина ее — место, где по звуку набата или по зову горниста вмиг собираются конные казаки, — покрыта толстым слоем взбитого праха, в котором любят купаться куры да малыши, дружно улепетывающие, когда раздастся топот всадника или зашумит казачья сотня, оглашая окрестность гиканьем, свистом, пронзительным ржанием просящего поводьев горячего конского табуна. Долго смотрят с крылечек казачки, держа на руках голозадых карапузов, как, клубясь, катится по знойной степи облако пыли. Заслыша грохот лавины, дед, замшелый воин, вышагнет через подворотню за калиточку и, морщась от солнца, оскалив темные пеньки зубов, тоже будет долго смотреть, затаенно вздыхая.
А на звонкий гомон свадебного поезда… да тут и мертвый поднимется! Ведь веселая свадьба — вызов всем горестям человеческим, торжество из торжеств, вопреки серости жизни и даже печали невесты и жениха. Потому так и веселятся на свадьбах — кто во что горазд. Все население станицы, кроме тех, кто гнул спину, страдуя на дальних хуторских полях, высыпало из дворов. Бегут, вспугивая кур, петухов, долговязых индюшат, сорванцы — мальчишки и девчонки, плетутся старушки и казаки, помнящие еще азиатские походы губернатора Перовского[6] и жестокие порки его.
Поп в облачении ждет со всем причтом невесту и жениха. Певчие на клиросе кашляют — прочищают горло. Только нищих нет на паперти. Тут не город, не иногороднее село: хлеба и в голодную годину на старых и убогих хватает.
Точно магнитом стянуло станичников под церковные своды. Все таращат глаза на молодых, жадно любуются нарядами, светом лампад и сотен свечей, забывая креститься, ревниво следят за обрядной службой.
— Исайя, ликуй!
«Кто такой этот Исайя?» — думала Фрося, не представляя собственного великолепия под золотыми венцами, которые несли над нею и над Нестором шафера. Она стеснялась смотреть по сторонам и потому с трепетно-острым вниманием слушала певчих и возглашения церковного клира. Забыть все ради мужа? Она и так забыла. Бояться его? Не может она бояться, в самом деле всей душой «прилепясь» к нему. Истощив накопившиеся слезы, она тихо радовалась теперь и только радости ожидала от будущей жизни.
Снова зашумело веселье в доме жениха. Все, что связано по обряду с домом невесты, отпало, поэтому и родители у Фроси здесь не родные, а посаженые — Демид и Алевтина Ведякины.
Дружка со свахами выглядывает из кухни, на лоснящемся лице его вроде испуг:
— Гусь из печи не лезет.
Под общий смех тянут невестиной «матери» Алевтине веревочку. Она добывает из рукава приготовленный заранее узелок — платок с деньгами — и привязывает его к бечевке. После того пошел из печи на стол румяно зажаренный гусь, а за ним другой, третий, индейка, убранная зеленью, аппетитные поросята с подгорелыми ушами и хвостиками, бараний бок с гречневой кашей, свиные окорока, заливные судаки и осетры, доставленные из Уральска [7]. Пошли по кругу бутылки с белой водкой, наливка, брага-кислушка, пьяный мед.
В доме пьют и едят, и во дворе столы накрыты, будто скатерти-самобранки раскинулись.
«Господи, сколько еды, и какой хорошей еды! — думает Фрося, пораженная таким изобилием, и снова тоска обжигает ее сердце. — Вот бы отнести отсюда гостинцев маманьке и Пашке с Митей. Поросеночка, хоть бы самого маленького. Бате с Харитоном и дедушке. Почему они нас так обидели? Приехали бы… Я бы спела песню, когда меня к венцу обряжали:
А то проплакала и о песнях забыла».
Нестор прижался плечом:
— О своих заскучала?
Печальное раздумье на лице Фроси сгоняется грустной, но ясной улыбкой:
— Маманю жалко!
Подвыпившие сваха и дружка уже опять вьются около молодых. Женщины снимают с Фроси цветы и фату, девушки поют:
Красивая, разрумяненная вином Алевтина берет поднесенный на тарелке волосник — сшитый из атласа женский чепчик, вышитый бисером, — и, закрутив волосы новобрачной в огромную шишку «кулек», туго покрывает ее голову.
Вывели Фросю и Нестора из красного угла, поставили на кошму. С одной стороны позицию занял дружка с водкой и чаркой в руках, с другой — сваха с закуской. Началось подношение даров, или, как говорят на Илеке, стали класть, кидать на «сыр».
Дружка, горластый и, словно цыган, беззастенчивый (как только у него язык не заболит!), выкликал по очереди родных и знакомых, начиная с родителей.
— Григорий Прохорыч, вас вызывает молодой князь с княгиней — рюмку выпить, донышко позолотить: не рублем, не полтиной, а золотой гривной. Кидайте на «сыр»: от кобылы жеребеночка, от коровы теленочка, от свиньи поросеночка, все примем, чем ваша милость одарит.
Отец Шеломинцев подошел важно, выпил не спеша, утерся большим клетчатым платком.
— Жалую молодым четыре пары добрых быков, жеребца адайского — трехлетка гнедого с белыми бабками, двух кобылиц с жеребятами, — подумал, глядя, как бойко записывал на стене поднесенный «сыр» Николай Ведякин, и добавил: — Ишо гурт овец в сто голов.
Фрося и Нестор, подтолкнутые дружкой, опустились на кошму, поклонились родителю в ноги.
Домна Лукьяновна, похожая на городскую башню, во множестве навздеванных одна на другую юбок и в кофте, расширенной пыжами сборчатых рукавов, подплыла козырем, положила детушкам на «сыр» шесть дойных коров и два тулупа. Брат Михаил поднес пять свиней (одну с поросятами), Аглаида корову с телком да трех пуховых оренбургских коз. Даже скряга Семен Тихоныч Караульников расщедрился на двухлетнего жеребенка. И пошло, поехало! Молодые едва успевали кланяться всем в ноги. И Фрося, равнодушная к обрастанию хозяйством, но поначалу развлекавшаяся новым для нее обрядом одаривания, и Нестор, охотно покорявшийся свадебным причудам, раскраснелись, как в бане. А их еще обступили, сомкнув тесный круг, заглядывая им в лица. Кто обещал гусей и кур, кто индюшку с выводком. Вещи клали сразу на кошму: юбки байковые, суконные поддевки, сюртуки, ботинки. Дорофея бросила скатерть, расшитую цветными нитками, рывком взяла чарку, пригубила, посмотрела сверху, кривя рот, на широкие плечи и ровно подбритый затылок тонкого в поясе Нестора, на гибкую спину Фроси и высокий узел ее прически, выпиравший под волосником. А Харитина, вместо того, чтобы выпить водки, расцеловала обоих и подарила невестке кольцо с бирюзой в цвет платья, которое было на ней в день запоя, и сережки такие же. Кидали и сита, и нарядные туеса из бересты. Сваха приношения принимала весело. Денег тоже много набросали на тарелку, приговаривая:
— На шило и мыло, на пеленку и сосок.
Потом измученных молодых посадили опять в красный угол, немножко покормили, дали по чарке меду и оставили наконец в покое, занявшись едой, питьем да песнями. Девчата и парни плясали во дворе, а дружка со свахой все изощрялись, потешая людей.
— Что мы теперь будем делать со всем этим хозяйством, которое нам насулили? — спросила Нестора Фрося, по-девчоночьи засматривая в его лицо.
— А ты как думаешь?
— Ничего не думаю, это уж ты решай.
— Будем пока жить с родителями, как Мишаня с Аглаидой. Тебя все у нас полюбили, а время такое трудное, что надо сейчас держаться вместе.
— Верно! — сказала Фрося и вздохнула.
— Ты не тревожься зря, все равно мы потом помиримся с ними… с твоими.
— Опять ты угадал, об чем я подумала!
— Сердцем чувствую.
— А ты чувствуешь, что мне немножко страшно?
— Да, и мне тоже.
Она взглянула пытливо. Нестор понял, покраснел:
— Не потому. Боюсь: вдруг что-нибудь не так, и ты разлюбишь меня.
— Нет. Нет. Все будет хорошо, — не сумев на этот раз вникнуть в смысл его слов и потому смело обещала она. — Я никогда не разлюблю! Ты заметил, подвенечные свечи погасли разом, значит, нам вместе жить и вместе умереть.
Он промолчал, засмотревшись на нее, особенно миловидную в забавном чепчике, не закрывавшем ни лба, ни ушей, но так плотно сидевшем на волосах, что если бы не мерцание бисерного узора, то спереди она казалась бы стриженой.
Фрося перехватила взгляд мужа, потрогала непривычно гладкие виски, стесненно засмеялась:
— Как лысая, да?
— Горька-а! — спохватываясь, зычно заорал дружка.
Уже рассветало, порозовел восточный край неба, а в пойме проснулись птицы, когда пьяные гости, устав от веселья, повели молодых под шуточки и песни в клеть амбара, празднично убранную цветами и зеленью. Наконец-то они остались совсем одни.
Фрося стояла возле приготовленной свахой и матерями высокой постели, не в силах двинуться с места от нахлынувшей робости, не смея посмотреть на Нестора. Он подошел, тоже волнуясь, обеими руками осторожно снял смущавший ее чепчик. Освободясь из плена, скользя по белым переливам тяжелого атласного платья, тесно облегавшего девичий прелестный стан, радостно устремилась в его ладони буйная масса шелковистых волос. Он опустил их за теплые плечи Фроси, обнял ее.
— У меня отчего-то кружится голова, — сказала она, с пугливым обожанием глядя на него.
— Дома братья Кирилл и Мефодий?
Лиза Коростелева перестала крутить ручку швейной машинки, подобрала шитье и, поправив бант в косе, выскочила в прихожую. Со двора, минуя парадное, входили Левашов, Кобозев и еще двое приезжих. Одного, смуглого, легкого на ногу, Лиза узнала — Алибий Джангильдин из Тургая, второй, невысокого роста, с цепким взглядом широких серых глаз на горбоносом лице, был совсем незнаком.
Мать, Наталья Кондратьевна, крупная, русая женщина, вышла из кухоньки, засветилась приветливой улыбкой.
— Проходите! Георгий Алексеич дома, а Саня в комитет побежал, скоро должен вернуться. Сейчас самоварчик, арбуз тяжеленный в погребе, окрошка будет — как раз все поспеет.
Георгий вышел из своей комнатушки, загородив собой дверь, радостно смотрел, как гости в тесной прихожей снимали фуражки, а заодно и пиджаки. На улице нестерпимо палило солнце, и в доме, несмотря на раскрытые окна, стояла духота.
— Хотите шипучки холодной? — предложила Лиза.
У Георгия было больное сердце, а работал он медником по десять часов в горячем цехе. Поэтому Наталья Кондратьевна и Лиза всегда держали на льду воду, которую Георгий, приходя домой, пил с содой и лимонной кислотой.
«Кого это еще дядя Андриан привел к нам?» — гадала Лиза, пробегая мимо окон хозяйского нижнего этажа и по издавна въевшейся привычке сразу отмечая: дома ли хозяева, нет ли во дворе и возле ворот кого из посторонних?
Ей, длиннокосой девушке с легкими бровками и хорошеньким прямым носиком, грамотной и умеющей поговорить, гулять бы с кавалерами да танцевать до упаду на благотворительных вечерах, до которых так охочи оренбургские дамы, а она всегда в работе.
Может быть, оттого такая тяга к труду, желание сберечь копейку на черный день, что навсегда запомнилось, как после смерти отца, самарского извозчика, билась мать, чтобы поставить на ноги шестерых детей. Аресты и безработица любимых братьев тоже заставили девушку строго смотреть на жизнь. Дружно, но не очень радостно жила семья.
Громадный город Самара… Особняки и доходные дома богачей, как и в Оренбурге, украшали улицы центра, а по окраинам сплошь серела деревянная рухлядь. Набережная Волги, заваленная грудами мешков под выгоревшими брезентами, штабелями ящиков, бочками, была заполнена днем и ночью суматохой большого порта. Оглушающе гудели пароходы, кричали грузчики, грохотали извозные телеги, запряженные парами, а то и тройками ломовых лошадей. И по всему пыльному, замусоренному берегу глазом не окинуть — те же навалы грузов, почерневшие тесовые помещения складов, бесконечные поленницы дров. Везде оборванные донельзя босяки, ватажки гологрудых, часто пьяных портовых рабочих, мимо которых, отворачиваясь, мчались на рысаках нарядные дамы и господа с разодетыми, как куклы, детьми.
Набережная запомнилась Лизе потому, что отец изредка возил туда всю свою ораву прокатиться. Дети любили его. Прижимая носы к стеклам окон, малыши жадно следили за тем, как лихо осаживал он у ворот пару лошадей. Зимой в санках с меховой полостью, летом в коляске, сиденье которой качалось, будто люлька, над булыжной мостовой, отец приезжал пообедать, выпить чайку, приласкать ребятишек, льнувших к нему. Затем он снова, важный и красивый, с расчесанной бородой и собранными в протянутых руках струнами вожжей, уносился в город.
И вдруг его не стало: умер. А дети малы, и некому было вместо него ехать на биржу, промышлять извозом.
Тогда мать продала экипажи и сбрую; увели со двора — плачь не плачь — красавцев коней, а вместо них появились две коровы, постоянно что-то жевавшие. Чтобы прожить с пятью детьми (одна дочка тоже умерла), Коростелиха стала молочницей. Но, видно, мало платили за молоко обыватели, и подростка Георгия отдали в ученики к меднику. Горьким пьяницей был хозяин лудильной мастерской, запоем пила его жена, не отставали и мастера. С утра до темной ночи умного, работящего мальчика гоняли то за водкой и солеными огурцами, то за пивом. В грязи, во вшах, впроголодь жил он вместе с другими подмастерьями, получая на каждом шагу щелчки да подзатыльники.
Приходя домой по субботам, Георгий плакал, плакала и мать, а все-таки надо было ему возвращаться к меднику. До этого, когда Гора еще учился в начальной школе вместе с Александром, учитель вызывал Наталью Коростелеву и советовал учить мальчиков дальше, обещал выхлопотать бесплатное обучение.
— Что вы! — пугалась она. — А кто же будет их одевать, обувать? Ведь я только и жду, когда они подрастут и станут мне помощниками.
Вот и отмывала в субботу своего старшего, делала набеги на мастерскую, где по возможности наводила чистоту, выливала свиньям прокисший суп со всяким мусором, а то и с мочалкой, которую пьяница хозяйка упускала в кастрюлю.
У Саши оказался замечательный дискант, и он пел солистом в хоре Кафедрального собора. Регент любил мальчика, иногда давал ему двугривенный на извозчика в особо суровые морозы.
— Скорей домой, не простудись!
Саша завязывал вокруг шеи концы башлыка, потуже запахивал курточку и мчался домой бегом, чтобы вручить матери полученную «серебрушку»:
— Добавишь еще копейку — и нам на целый день семь фунтов хлеба.
Может быть, он простудился, когда вот так бежал домой после церковной службы, хватая морозный воздух: голос у него пропал, и он не смог больше петь.
— Только не отдавай его в ученики к мастеру, — упрашивал Наталью Кондратьевну Георгий, поступивший медником на литейный завод после того, как писарь за рубль прибавил ему год возраста. — Пусть хоть один из нас выучится.
Однако пришло время, и муж старшей сестры Анны — Василий, пьяница и хулиган, но отменный мастер литейного дела, определил Сашу учеником токаря на завод, где работал сам и куда устроил Георгия.
Так Александр и Георгий стали рабочими. А едва повзрослели, оба попали на заметку к жандармам, и началась долгая жуткая игра: выслеживания, обыски, аресты. То Георгий сидит в тюрьме, то Александра высылают. А там — черные списки, безработица, нужда, пока они не перебрались в Оренбург, в главные железнодорожные мастерские.
«Хорошие у меня братья!» — с гордостью думала Лиза, выбираясь из погреба с отпотевшим сразу кувшином. — Но с девушками им гулять некогда. Женился бы Саша на Марии Стрельниковой… Она глаз с него не сводит, а он только об одной революции думает… Ленину-то революция не помешала жениться…
Александр, легкий на помине, вошел в калитку. Высокий-то какой! Возле братьев Лиза чувствовала себя совсем маленькой, да и многие мужчины не выдерживали сравнения (иной так и проваливался между ними).
— Я тебе рубашку закончила! — сообщила Лиза, шагая рядом с ним по двору, и улыбнулась: Георгию, что ни сошьешь, все ладно, а этот начнет вертеться, ощипываться. — Я даже не думала, что ты такой франт! — ласково добавила она, одобрительно посматривая на его опрятный костюм, ладно сидевший на стройной фигуре.
— Неряхой выглядеть мне нельзя: я сейчас целый день среди народа.
— У нас гости!.. — спохватилась Лиза.
— Кто?
— Кобозев, дядя Андриан, тургайский Джангильдин да еще из Челябинска — Цвиллинг…
Александр взбежал по лестнице.
В столовой оживленно звучали мужские голоса, раньше при встречах шептались, а сейчас говорят и смеются громко.
Приход Александра еще усилил оживление. Пожимая руку Цвиллинга, он сказал:
— Перебрались бы к нам в Оренбург, Самуил Моисеевич!
Цвиллинг, душевно-открытый, подвижный, посмотрел на него с нескрываемой симпатией:
— Пока не смогу, но нас, челябинцев, очень встревожил прошедший у вас в июне железнодорожный съезд.
Кобозев возмущенно сверкнул глазами:
— Эсеры и меньшевики представили меня на нем чуть ли не провокатором (все из-за тех же юровских денег!), каркали в Тополевом саду, как воронье. У инженера Поплавского от злости вылетели вставные зубы, когда он доказывал непригодность моей кандидатуры. Ко даже это мне не помогло, хотя и наделало смеху: провалили.
— Демагоги у них подобрались ярые, — подтвердил Александр. — Да еще черти принесли из ссылки Барановского с большой группой эсеров. Они сразу по старым следам восстановили связь с рабочими. Еще бы: «мученики за народ, за идею!», — повторил он с досадой слова Ефима Наследова, который приходил в партком поделиться своим горем — исчезновением дочери. Из разговора с ним Александр уяснил только одно, что Фросю с ее согласия умыкнул тот самый казак, с которым она встречалась в Форштадте. Значит, и думать нечего о том, чтобы вернуть ее обратно.
Здоровый и сильный, любитель кулачных боев в юности, Александр и в политике иногда шел напролом, неловко чувствуя себя в сфере политических интриг, на которые так горазды были меньшевики.
— Я просто не узнал на съезде рабочих наших мастерских, — продолжал Кобозев. — Они, как и орлесовцы, стали эсерствующими. Это потому, что наших активистов все время угоняли на фронт, а вместо них пришли сынки кулаков и городской буржуазии, которые уклонились от мобилизации и внесли на предприятия обывательский душок. Кроме того, в Оренбурге вообще засилье обывателей и очень мощные организации меньшевиков, а особенно эсеров.
— Ничего! Сколько бы ни ратовала «бабушка русской революции» Брешко-Брешковская за доверие к Керенскому, войну до победы и за Учредительное собрание, не эти, а наши идеи начинают овладевать массами, — убежденно возразил Цвиллинг.
— Это да! Глубоких корней в рабочей среде у эсеров нет, — заверил Левашов, хотя тратил немало пороху на споры и серьезные схватки с такими, как Ефим Наследов. — Есть среди нас темные, что заблудились, много этаких, но разговоры, чтобы спасать родину войной вместе с союзниками, им тоже осточертели. Теперь, после Кронштадта да июльских выборов в городскую думу, начинают и у них проясняться мозги.
— Но все-таки, когда я вчера выступал с докладом на собрании в Каргинских мастерских и бросил там лозунг Ленина о мире, большинство рабочих меня освистало, — сообщил Кобозев. — Они кричали, что Ленин провокатор, подкупленный на немецкое золото. Правда, там настоящих пролетариев маловато, работают кустари. Среди них эсерам раздолье.
На тонком подвижном лице Цвиллинга ироническая усмешка.
— Чувствуя нашу растущую силу, реакция мобилизует против нас даже церковников.
— Это да! За примером далеко ходить не надо: епископ Мефодий — активнейший представитель святейшей контрреволюции, — сказал Кобозев. — Нынче он вместо «Епархиальных ведомостей» начал издавать газету «Оренбургский церковный вестник». Яд, а не газета! Сам пишет для нее передовые, проповеди своего сочинения произносит с амвона и тоже публикует. Бешено активный поп: и слогом владеет, и говорить мастак. Кадило до небес раздул во время выборов в городскую думу! Так и рвется к гражданской деятельности, торопит расправу с большевиками. Открыто заявляет: «Теперь или никогда».
— По решению нашей партийной группы я на днях еду в Петроград, — сказал Александр, обращаясь к Цвиллингу и Джангильдину. — Надо ознакомить товарищей в ЦК с состоянием партийной работы в Оренбурге. После решений Шестого съезда о подготовке к вооруженному восстанию нам надо поскорее избавиться от разных ненадежных попутчиков. Мы крепко потрудились, разоблачая их, но во многом еще не дотянули, а события развиваются стремительно, и нам надо очистить свои ряды для решительного наступления.
— Правильно, — одобрил Цвиллинг, а Джангильдин сказал:
— Мы в Тургае тоже времени зря не теряли. Но, разоблачая эсеров, подорвали доверие и к Советам. Пора отколоться на виду у народа от этой лживой братии. А потом драться за настоящие народные Советы. Это хорошо, что вы едете в ЦК.
Александр улыбнулся, не скрывая радости:
— Надеемся, ЦК нас поддержит. Надо нам установить тесные, прочные связи с Центром. Да, вот еще что… Слушай, Андриан! Был у меня Ефим Наследов, жаловался, что дочка его сбежала с казаком. Поговорил я с подружкой ее — нашей наборщицей Виринеей. Говорит: точно, дочку Наследова увез казак. И еще сказала, что Мефодий приглашал Фросю в церковный хор. Значит, знает ее, а она несовершеннолетняя. Ей пятнадцать лет! И если тот казак женится на ней, то должен взять разрешение от епископа. Скажи Фросиной матери, пусть придет ко мне, я научу, как навести справку.
Андриан Левашов в замешательстве погладил и без того разглаженную скатерть и, не заметив Лизы, вошедшей с кастрюлей вкусно пахнувшей окрошки, сказал:
— Все равно пропала наша Фрося!
Лиза так взволновалась, что чуть не разбила тарелку, ставя на стол тяжелую кастрюлю:
— Почему? Как пропала?
— Да ровно в воду канула. Что б там ни случилось, а домой ее теперь не возвернешь. Она только с виду тихая, а характер у нее есть — упрямая. Вся в отца… Знаю: приезжал казачий офицеришка сватать ее. Разговор у Наследовых получился шумный: конечно, отказали жениху. И с тех пор исчезла девчонка. Вирка в тот вечер прибежала из города без ума, сказала, что казаки умыкнули Фросю и был с ними, дескать, хусаиновский Бахтияр. Но этим только подлила масла в огонь. Ефим вовсе тогда обозлился: у них, мол, по условию сделано. Наследиха — сразу к Бахтияру, известное дело — мать. А татарин только ощеряется…
Лиза сказала с горячностью:
— Да как он смеет?! Искать надо. Может быть, ее затащили куда-нибудь и убили. А Харитон с Митей о чем думают? Хороши, нечего сказать!
— Харитон? Он, как и Ефим, одно твердит: изменила, мол, рабочему классу, с казаком спуталась. Митя и Фросин ухажер, Костя, тоже наш парнишка, растерялись. Ефим-то, видно, спохватился теперь, коли приходил к Александру Алексеичу. Родная кровь — куда денешься! Странное дело: почему драка там затеялась? Вирка приметила: вроде было двое сначала — казак да татарин, и вдруг еще казак появился. Ежели они заодно были, то почему схватились? Но больше в Нахаловку офицеришка тот не приезжал. Он ведь заявил Наследовым, что Фросю у них все равно не оставит. Так и сказал: «Увезу с собой».
— Скажите на милость! — Покраснев от возмущения, Лиза стукнула кулачком по спинке стула.
Георгий обернулся, завладев маленькой рукой сестры, заставил сесть рядом.
— Тут не через епископа узнавать надо, а в милицию заявить.
— Я сейчас же пойду в Нахаловку. Я им все выскажу, — не могла успокоиться Лиза. — Пропал, исчез свой, родной человек, а они, как дворяне, оскорбленные за честь рода, даже не потрудились узнать, что произошло!
После обеда Алибий Джангильдин снова стал просить Коростелева дать ему партийных агитаторов.
— Трудно моему другу Амангельды Иманову работать в Тургае. В аулах баи давят на Советы, где засели меньшевики, и в помощь им своих людей везде подставляют. Они самых отъявленных националистов и фанатиков протаскивают, которым все равно, что кадеты, что большевики. Политика у них одна: поднести бы эмиру бухарскому русские головы на пиках. А народ наш неграмотный, темный и после казачьих карательных экспедиций запуган.
Александр Коростелев начал было отговариваться собственными трудностями, но устыдился своего местничества и обещал Алибию необходимую помощь.
Потом, сдвинувшись в тесный круг, стали обсуждать общие задачи.
Из приглушенных речей нет-нет да и вырывались слова: «юнкера», «отряды», «военный руководитель», и Наталья Кондратьевна, подававшая чай, хмурила брови, щурилась настороженно: видно, опять что-то грозное надвигается, да и можно ли ожидать хорошего после июльского расстрела в Петрограде?
Лиза убежала в Нахаловку. История с Фросей больно царапнула и сердце много пережившей Натальи Кондратьевны: конечно, права Лиза — давно надо было Наследовым поднять шумиху.
Зашла Соня Бажанова, статная, яркая. Весело поздоровалась с Натальей Кондратьевной, с мужчинами, зорким, запоминающим взглядом окинула Цвиллинга.
— Девушки, цветочки наши лазоревые, — пошутил Левашов. — Вы на нас, грешных, только так и смотрите: этот в доску свой, а того еще в трех водах мыть, в четырех щелоках кипятить.
— На том воспитаны, — в тон ему ответила Соня. — Берем пример с нашего руководства.
«Руководство» — председатель Совета Александр Коростелев одобрительно смотрел на нее, но такое спокойное дружелюбие выражало его энергичное лицо, что мать невольно вздохнула: «Видно, не скоро дождусь я внуков и от Сашеньки! Девушки-то какие славные приходят, а у него одно на уме — собрания да споры с разными горлопанами. И Горушка сколько бился из-за рабочей потребиловки, последнее здоровье тратил. Раньше мы понятия не имели, чтобы всякие бумаги да газетки прятать, с государством бороться. А их за это то и дело, как разбойников, в тюрьму».
Георгия, своего старшего, мать особенно уважала, советовалась с ним по всем делам и… жалела: «Рассудительный, лицом пригож, росту хорошего, но вот сердечко мучает…»
Собрав пустые стаканы, она ушла на кухню, но, заслышав шаги Сони, выглянула в прихожую:
— Уже нагостилась?
— Иду в Нахаловку, к Заварухину.
— Может, Лизоньку встретишь. У Нас ледовых она. Вместе в город вернулись бы. Чего по пустырям в одиночку бегать? Умыкнули ведь дочку-то у Ефима Наследова! Ямы возле кирпичных заводов такие — днем проходишь — душа замирает.
— Не беспокойтесь: я зайду за ней.
Голос у Сони напевный, ласковый. Со своим открытым, чисто русским лицом и здоровым румянцем, она особенно по душе Наталье Кондратьевне. С радостью приняла бы ее в дом. Но что будешь делать, если помешалась молодежь на одной политике!
— Вся эта шушера обвиняет нас в стремлении захватить власть против воли народа, — говорил в столовой Кобозев. — Но кто для них народ? Кулаки, созданные благословляемой ими столыпинской реформой, лавочники, идущие с хоругвями громить евреев. Трудящиеся люди интересуют их только как быдло, с которого можно семь шкур содрать. Сегодня Барановский и Семенов-Булкин ратуют за Учредительное собрание, а завтра на этом собрании заодно с монархистами потребуют возродить Думу. Потребуют обязательно! Скажи, Алибий, что хочет твой народ?
— Он хочет мира и сытой жизни. О большем пока не помышляет, потому что понятия не имеет даже о таких простых вещах, как баня, белье, светлое жилище. Чабаны в степях живут при байских отарах наравне с собаками, только урывают кости пожирнее. — В голосе Алибия прозвучала горечь. — Сытый живот — вот пока предел стремлений киргиза. Единственное, что украшает его жизнь, — привязанность к родным степям да еще песни — все то, что было и тысячу лет назад. Только тогда наших степняков грабили и убивали враждебные племена, а теперь целые аулы сжигают и сравнивают с землей карательные казачьи отряды. Угоняют скот, забирают одежду. Казаки, возвращаясь в станицы, нагружаются так, что их на лошадях не видно.
— Не бунтуй! — тоже с горькой усмешкой сказал Левашов.
— Но разве это бунт, когда пастухи отказываются строить военные укрепления? Зачем война с немцем народу, который находится в первобытном состоянии?
— Война, ясно, не нужна. Но вот либералы спрашивают, зачем ему революция, — хитро прищурясь, поддел Цвиллинг.
— Ты думаешь, либералы сами не знают зачем? Пролетарская революция, о которой мой народ имеет совсем слабое представление, необходима ему, как вольный воздух родившемуся в тюрьме. Он может и не знать, что такое воля. Но если я, не спрашивая его согласия, распахну окно и разломаю двери тюрьмы… Нет, ты сам ответь: что он мне скажет тогда?
Цвиллинг, в свои двадцать шесть лет не раз побывавший в лапах жандармов и вдоволь насидевшийся в тюрьмах, крепко обнял худощавого Джангильдина:
— Народ, выпущенный на волю, скажет тебе: спасибо, дорогой друг Алибий! Да, товарищи, нет иной силы, кроме партии большевиков, которая могла бы вывести страну из тупика. Все противоречия предельно обострены, а решения никто не дает. На первой очереди вопрос о мире. Максим Горький называет войну самоубийством Европы. Он пишет: «Когда подумаешь об этом, холодное отчаяние сжимает сердце и хочется бешено крикнуть людям: несчастные, пожалейте себя!» А враги нашей партии требуют продолжения войны, не считаясь ни с чем. Они будто не замечают того, что народ смертельно устал, что наш лозунг «Долой войну!» находит все больше откликов в сердцах. Когда они спохватятся, будет поздно: мы их выкинем на свалку истории с Временным правительством.
Костя Туранин молча отвернулся. Пальцы его смуглых рук, лежавших на коленях, задрожали, и он, почувствовав это, сжал их в кулаки, но вид у него был далеко не воинственный.
— Что же можно сделать? — тревожно-вопрошающие глаза Мити, удивительно похожие на глаза пропавшей сестренки, уставились в сердито нахмуренное лицо Лизы. — Ведь он так и сказал нашим: «Все равно я увезу ее с собой». Значит, они заранее договорились. Разве он пришел бы к нам без ее согласия? Татарин хотел и Вирку увезти, но, видно, этот… Фросин ухажер, а может, дружок его, все-таки из порядочных: прямо из зубов у Бахтияра ее вырвал.
Митя, по сравнению с Костей выглядевший богатырем, сидел босой и, стесняясь Лизы, старался спрятать под скамейку большие ноги в затрепанных штанинах.
Наблюдая исподтишка за его стараниями, Лиза с трудом подавила улыбку и строго свела брови:
— Вы — кадровые рабочие, а ведете себя, как… как обыватели, одержимые буржуазными предрассудками. — Она снова покосилась на босые ноги Мити и кулаки Кости. — Вы меня извините, но я не могу относиться равнодушно… Фрося так хотела работать, Александр Алексеевич говорил, что она очень трудолюбива. Мы решили записать ее в отряд красных сестер, как только получим задание… — Вспыхнув оттого, что проговорилась, Лиза добавила еще строже: — Ведь вы не знаете, вышла ли она замуж за этого казака. Александр Алексеевич просил, чтобы ваша маманя зашла к нему в Совет. Может быть, по церковным книгам узнают. Но если офицер на ней не женился? Тогда где ее искать?
Лиза недавно прочла в газете статью Брешко-Брешковекой о белых рабынях, но не могла же она говорить о публичных домах с молодыми ребятами! А они, — хотя и имели некоторое представление о подспудной, разнузданной жизни города, — и не думали искать свою Фросю в бардаках: чистой и гордой осталась она для них.
— Да вот Вирка… Виринея! — обрадованно позвал Митя и чуть не вскочил, но вовремя взглянул на скромненько и хорошо одетую Лизу, досадуя на себя, снова спрятал под скамейку босые ноги. — Подойди на минутку!
Вирка подошла нарочито широким шагом в ботинках со вставленными по бокам резинками, в ситцевом платье, худая, угловатая.
— Слушай, кто выкрал Фросю? — без обиняков спросила Лиза. — Ты уверена, что это казаки? Фрося говорила, из какой станицы ее кавалер?
— Где там! Она скрытнюща оказалась! Знаю только, что зовут его Нестором.
— Шеломинцев он. — Митя улыбнулся Вирке, но лицо его сразу стало напряженно-серьезным: заметил багровый подтек на руке девушки. — Опять отец буянит?
Вирка презрительно оттопырила маленькую губу, но в глазах ее голубым ледком сверкнули слезы:
— Как вечор заложил, так и пошло… Всех ребятишек по землянке раскидал. Я увела их к соседям. Вот иду хлебушка купить.
Она хрипло вздохнула и отвернулась, не желая казаться жалкой в своей неизбывной лютой беде.
— Что же вы терпите тут такое безобразие? — снова упрекнула ребят Лиза. — Неужели все вместе не можете справиться с одним негодяем?
Парни молча смотрели на Вирку, удрученные ее горем и смущенные словами Лизы, а Вирка, сморгнув слезы, бросила с ожесточением:
— Хоть бы его черти умыкнули куда! Да, видно, этаких и в ад не берут. Пойду в Совет к Александру Алексеичу. Буду требовать выдела из семьи. Девкам ведь тоже теперь полагается паспорт иметь! И чтобы ребятишек мне отдали, под мою опеку. А насчет Нестора спросите в казармах казачьих, найдете след. — И пошла своей дорогой, высоко держа непокорную голову.
— От такого отца с ума сойдешь! — сказал Митя. — Но как их от него уберечь, ежели они живут вместе? Был бы я постарше, так женился бы на ней и всех ее сестренок и братишек забрал к себе.
— Он их добром не отдаст и Вирке — над кем тогда ему изгаляться? — возразил Костя. — У него родительские права, хотя известно, что жена от его побоев померла. Разве Совет поможет? Вот дураки мы! Надо нам вместе с Виркой пойти туда и рассказать об его зверстве.
Лиза внимательно присматривалась к ребятам. До нынешнего лета ее братья тоже работали в главных мастерских, и хотя жили на частной квартире в привокзальном районе, однако в Нахаловке бывали часто, поэтому она с особой симпатией относилась к нахаловцам.
«Как Митя хорошо сказал о Вирке и ее ребятишках! У нее еще хуже, чем у нашей Анны: никакой помощи от родных. Значит, надо нагл заступиться — сегодня же попрошу Сашу. В самом деле, куда ни сунешься — одни несчастья! А Костя-то какой расстроенный. Верно говорил Левашов…»
Лиза снова посмотрела на Костю. Черный блестящий зачес его свалился набок, на впалой щеке под тонкой кожей перекатывались желваки.
— Когда пойдете узнавать о Фросе?
— Айда в казармы! — предложил Митя товарищу.
— Пойдем, — согласился Костя. — Только, если она замуж вышла, я в станицу не поеду. Чего ради… Пускай… Но мне тут… Я в Нахаловке тоже не останусь.
— Ты грамотный? — спросила Лиза, будто собиралась дать ему партийное поручение, как это делали ее братья. — Читаешь что-нибудь? Книги? Газеты?
Костя опешил, покраснел, рассердился: в самом деле, чего он раскис? Переживает, как барышня кисейная.
— Книг у нас не водится, а газеты читаю вслух на рабочем кружке, когда Заварухин велит.
— В Тургай поедешь? Приехал председатель Тургайского Совета Джангильдин. Ему нужно взять отсюда грамотных товарищей в свои степи.
— Я не особо грамотный: всего четыре класса. И языка ихнего не знаю.
— Ему нельзя уехать, — вступился Митя. — У них в семье четверо. Отцу одному трудно будет.
— Всем трудно, — резонно возразила Лиза, желая во что бы то ни стало расшевелить Костю. — Сейчас нужны агитаторы. Ты и сам вырастешь на этой работе. Так я передам брату, — уже как о решенном деле сказала она и встала, издалека приметив Соню Бажанову, быстро идущую по пыльной улочке. — Узнаете о Фросе — сообщите: Александр Алексеевич через Совет депутатов окажет поддержку.
Костя проводил взглядом девушку, сказал:
— Маленькая такая, а сколько в ней строгости! Откуда она узнала о Фросе?
Митя не сразу очнулся от нелегкого раздумья:
— Отец вечор ходил к Александру Алексеевичу. Может, насчет политики разговору не вышло, так на домашние дела пожаловался? Видно, охота ему подружить с большевиками.
Известие о корниловском мятеже опять взбудоражило всех. Еще бы! Верховный главнокомандующий генерал Корнилов предъявил ультиматум Временному правительству о сдаче власти и двинулся с войсками на Петроград. Чего он хочет? О чем они не договорились с Керенским?
В учреждениях и на улицах, в казармах военных училищ и ресторанах оренбуржцы горячо обсуждали последние известия. И снова, как во время казачьего съезда, замелькало в прессе, появилось на устах имя председателя Всероссийского казачьего совета полковника Дутова, который отказался высказать от имени казачества осуждение Корнилову.
— В трудное положение попал Керенский!
— А что вы думаете: ведь не только Дутов сочувствует Корнилову.
— Еще бы! Вся контрреволюция поднимает голову.
— Помилуйте! Корнилов — сын простого казака, легендарный герой фронта. Взяли его австрийцы в плен, он и из плена вырвался.
— Говорят, Керенский в панике бежал неизвестно куда.
— Ничего подобного. Он с войсками ведет наступление на корниловцев.
— Хорошо ответил наш Дутов Керенскому на предложение выступить против Корнилова. Письмо его — документ эпохи. Недаром оно облетело все газеты.
— Казачья солидарность! Казачество — это, господа, исторически сложившаяся каста, с ним нельзя не считаться.
— Но и личное мужество Дутова…
— Само собой разумеется! Тоже ведь могли посадить под арест… Однако это фигура, с которой считаются и на Дону, и в Петрограде.
— Полноте, солдафон ваш Дутов и грубая скотина!
— Вы, вероятно, за Ленина? Нет уж, лучше за Корнилова, лучше монархия, чем диктатура партии, организованной на немецкие деньги!
— Совершенно верно. Куда только смотрят наши комитеты общественной безопасности!
«Политики» спорили, а жизнь в городе шла своим чередом: вывешивались рекламы о «грандиозных представлениях» в цирке Камухина. Магазин торгового дома Павла Ишкова с сыновьями, что на Гостинодворской улице, сообщал о большом ассортименте бакалейных, колониальных [8] и табачных товаров.
На «Дамочку с мухой», веселый фарс, заманивал кинотеатр «Палас» и давал анонс об «имевшей всюду сенсационный успех картине „Ревность“», «по знаменитой пьесе Арцыбашева, с участием любимца публики Мозжухина». Электротеатр «Аполло» соперничал с «Паласом» афишами о киноромане Льва Никулина «В лапах желтого дьявола».
— Сообщения с фронтов! Ригу заняли германские войска! В Рижский залив вошел германский флот! — кричали газетчики.
Другие вопили о том, что аптекарский магазин «Здоровье» на толчке получил одежные и половые веники и французские духи разных запахов. Бойкий инвалид, постукивая деревяшкой вместо ноги, громогласно зачитывал объявление комитета Всероссийского земского союза о найме рабочих в инженерно-строительные дружины на Западный и Кавказский фронты: плотников первой, второй и третьей руки, землекопов и чернорабочих. И все это перебивала еще одна новость:
— Катастрофа в Казани! Взрыв артсклада!
— Пожар на пороховом складе и пороховом заводе!
— Ужасающие взрывы пироксилиновых складов!
— Число жертв очень велико! В Казани паника!
— Кровавый кошмар не поддается описанию! — звонко голосили мальчишки, размахивая пачками свежих газет.
Играли шарманки, маня за собой толпы босоногих, мокроносых слушателей. Милицейские, те же городовые, вели в околоток буйную во хмелю, накрашенную проститутку, заслоняя прохожих от злобных и наглых покушений расходившейся девки. А в это время заседала городская дума и ее исполнительные комиссии, и повсюду рассылались приказы о запрещении выпечки сладкого хлеба.
Но все время, напоминая о событиях в Петрограде, скакали по улицам отряды казаков.
В клубе социал-демократов собрался, как обычно, актив большевиков, не было только Александра, уехавшего в Петроград.
— Сахарозаводчики обратились к министру земледелия с просьбой повысить на сорок процентов цены на сахар, — говорил Георгий Коростелев. — Им наплевать на свое любезное Временное правительство: оно уже выдохлось в красочных обещаниях. Разваливается и эта новая власть, а купцы торопятся снять шкуру и с правых и с левых.
— Всегда так было, — сказал Кобозев. — Хуже другое: побоявшись упустить бразды правления, Керенский выступил против Корнилова… Но аресты Корнилова и Каледина — очередной его маневр: ему нужно все внимание общественности сосредоточить на вождях казачества, и шумиха, поднятая вокруг письма Дутова, как барометр, предсказывает погоду. Для нас особенно, коль скоро мы заняли форпост среди земель войска оренбургского.
— Верно, барометр идет на бурю, — согласился Семен Кичигин, замещавший в Совете Александра и работавший партийным агитатором. Его очень беспокоило то, что Кобозеву тоже срочно потребовалось ехать в Петроград. — Тяжело нам отпускать вас, Петр Алексеевич, в такое трудное время. Но, надеемся, вернетесь. Я думаю, наш председатель не задержится там, но сейчас каждая неделя промедления за год покажется, раз дело дошло до генеральских путчей. Если бы знать заранее, что вас вызовут в Петроград, не отпустили бы мы Александра Алексеевича.
— Нет, это хорошо, что он поехал. Для партийной организации очень важное значение имеют связи с ЦК.
— Народу у нас наберется достаточно, чтобы дать отпор казакам, но плохо с оружием, — сказал фронтовик Илья Заварухин, слесарь паровозосборочного. Ему было под тридцать, но лицо его с крупным ртом и насупленными темными тяжелыми бровями казалось много старше. Только когда он изредка улыбался, показывая белые крепкие зубы, и вспыхивал синими искрами глаз, в нем проявлялось все обаяние доброй и сильной молодости. — Чем отбиваться будем от этих степных волков, ежели у нас винтовок нет? А им не привыкать рубить безоружных шашками.
— Увидите Владимира Ильича, доложите ему обо всем, если Александр не сможет сам с ним повидаться, — наказывал Георгий Коростелев, подсев к Кобозеву. — Насчет оружия выясните, пожалуйста. Фронтовиков мы стараемся вербовать в свои ряды с винтовками, но солдаты втыкают штыки в землю и прут домой с голыми руками. Нельзя ли сообразить насчет листовок, чтобы не разоружались совсем-то? Нет ли еще каких возможностей? Если явится сюда Дутов, он сразу свои казачьи полки затребует с фронта вместе с пушками и пулеметами.
Кобозев понимал и разделял тревогу оренбургских большевиков. Смелость смелостью, но отсутствие оружия могло загубить дело партии.
— Конечно, Дутов теперь в Петрограде не останется, — сказал он уверенно. — Керенский ведет двойную игру: демократия перед народом и сговор с монархистами за спиной народа. Безусловно, они рассчитывают на уральское и оренбургское казачество как на оплот контрреволюции. Поэтому Керенский вот-вот пошлет своего тезку Дутова в Оренбург, чтобы подготовить плацдарм для наступления на рабочий класс.
— А мы начнем готовиться к своему наступлению, — заявил Георгий. — Тут может образоваться настоящая казачья Вандея при самом активном участии эсеров и меньшевиков. Надо нам заранее наметить расстановку сил. Александр Коростелев, Семен Кичигин, Саликов, Мискинов, Глауберман, Лобов и другие займутся делами партийной организации; Левашов, Котов и Заварухин — подготовкой боевых отрядов. Мы с Мартыновым, как старые кооператоры, начнем думать о военной потребиловке. Снабжение и обозы немалую роль играют в таких делах.
Заварухин, насупив густые брови, вполголоса читал в газете очередную телеграмму Керенского:
— «Принимаю срочные меры для спасения революции. Приказываю генералу Корнилову сдать должность верховного главнокомандующего. Объявляю Петроград на военном положении». А вот еще… «Попытка Корнилова обособлена. Главнокомандующие фронтов, за исключением Деникина на Юго-Западном фронте, верны Временному правительству. Генерал Деникин и его штаб подвергнуты в своей ставке личному задержанию и тоже будут привлечены к суду. Эшелоны Корнилова, двинутые к Петрограду, остановлены». Да, вот еще Деникин!..
— Что ты там нашел, Илья? — спросил Кичигин.
— Насчет Деникина… Он тоже входит в эту казачью обойму. Тридцатого августа сообщили об аресте на Дону, на станции Чир, войскового атамана Каледина. Корниловский мятеж будто прекращен… А когда Дутов послал Керенскому письмо, о котором жужжат газеты?
— Тридцать первого августа.
— Выходит, очень смело действует полковник Дутов. Рисково, можно сказать! А что за этим риском кроется?
Георгий Коростелев кивнул Левашову:
— Ну-ка, Андриан, голос у тебя громкий, прочитай нам это послание вслух.
Левашов взял газету:
— «Сегодня, 31 августа, в 17 часов прибыл в Зимний дворец и выслушал ваши требования „дать немедленные и жесткие осуждения генералам Корнилову и Каледину и назвать их мятежниками и изменниками родины“», — начал зычно Левашов.
— Стоп! — прервал его Кобозев. — Заметьте, товарищи, Керенский требует осуждения изменников, а Дутов ответил ему отказом, о котором разблаговестили на всю Россию. Почему потребовалось широко раскрыть это столкновение между представителями власти?
— Так он тут пишет, что предлагал Керенскому раньше свое посредничество…
— Ну и что?
— Керенский обещал послать делегацию казачьего совета, а потом отменил это решение… Нет уж, лучше я все прочитаю, а после разберем. Вот слушайте: «Теперь же, когда на Дону начались неурядицы и это грозит голодом и отсутствием угля, вы вновь обращаетесь к нам за помощью, но уже в резкой ультимативной форме, почти с угрозой. Совет не может уяснить себе тактики Временного правительства по отношению к нему».
— Тактика самая простая, — не выдержал Семен Кичигин. — Демократы избегали афишировать перед народом свои якшания с карателями до кронштадтских событий, а после июльского расстрела снова ищут у них поддержку и прямую защиту.
— Мало того, они хотят, создав популярность Дутову, оправдать его письмом корниловщину, а заодно и себя, — добавил Кобозев. — Дескать, Керенский потачки казачеству не давал… С дальним прицелом выдано это письмо!..
— А я его расценила как искреннюю защиту Корнилова и, честно говоря, даже восхитилась мужеством Дутова, — призналась Мария Стрельникова, которая до этого сидела в сторонке и что-то торопливо записывала в толстую тетрадь. — Он, прямой враг, показался мне гораздо симпатичнее наших иудушек!
Георгий Коростелев укоризненно взглянул в скуластое красивое лицо девушки, в ее горячие диковатые глаза.
— Дутов враг номер один, он любых иудушек перещеголяет. Для него все средства борьбы хороши: и дипломатическое иезуитство, и кровавая резня.
— Читать, что ли? — нетерпеливо спросил Андриан, спеша еще раз проверить собственные впечатления. — «Совет сам упорно добивался участия в государственной жизни страны, когда забывались интересы казачества».
— И добился, участвуя в событиях пятого июля! — ввернул Константин Котов.
— «Последнее земское положение окончательно указало на невозможность сохранения казачьих особенностей жизни».
— Когда речь идет об этом пресловутом образе казачьей жизни, Дутов вполне искренен, тут он готов лезть на рожон, ни с чем не считаясь, — снова перебил чтение письма Кобозев. — И впрямь: крестьянская община, в которую так веровали народники, не оправдала себя, но и казачья, с ее войсковым кругом и переложным земледелием, — архаика.
— Дайте дочитать до конца! — взмолился Левашов. — Вот самое-то главное: «Теперь от нас требуют заявления и как бы суда над генералами Корниловым и Калединым. Мы не судьи, а представители двенадцати казачьих войск, в списках коих состоят генерал Корнилов и генерал Каледин, а потому осуждать их мы не можем, не узнав всех подробностей. Как вы, господин министр, так и бывший управляющий военным министерством Савинков неоднократно утверждали, что генерал Корнилов — боевой генерал, любящий родину, но вовлеченный в авантюру неизвестными выскочками».
— Какие подробности им нужны, когда уже говорилось об этой авантюре неоднократно! — заметил Кобозев с иронией. — В ультиматуме Корнилова Временному правительству написано черным по белому: хватит, поиграли в революцию! Дутов тоже обеими руками подпишется под этим ультиматумом.
— Само собой! — согласился Левашов и снова уткнулся в газету: — «Так как же мы, казаки, можем заклеймить боевых сынов казачества столь позорным именем без суда и следствия? Разве вам недостаточно, господин министр-председатель, заявления в нашем воззвании о полном подчинении Временному правительству? Большего мы сейчас не можем дать, и если вы будете настаивать, угрожать и оказывать давление на нас, то мы, совет, будем вынуждены просить свои войска сложить с нас полномочия, считая дальнейшую работу под давлением несовместимой с достоинством выборного органа всероссийского казачества…»
— Да, теперь он, братцы, и правда может к нам в Оренбург нагрянуть! — заключил Левашов.
— Дошло? — спросил Кобозев.
— А ты говоришь — герой! — опять укорил Стрельникову Георгий Коростелев.
Первые дни сентября. Золотые возы плывут, качаясь, к «обрывам» гумен возле поселков и станиц — хлеб идет с полей. Медленно шагают по степным дорогам скованные парным ярмом могучие круторогие быки. Скрипят колесами большие телеги-фурманки, запряженные верблюдами, важно несущими чубатые головы на лебяжьи изогнутых шеях; из-под широких двупалых ступней с тупыми коготками-копытцами бьет фонтанчиками пыль: на всю мозолистую подошву ступает покоритель пустыни, а копытца только против скольжения. В фурманках навалом арбузы, дыни, нарядные тыквы с прокаленных солнцем бахчей.
За глубокими рвами — «обрывами», берегущими хлеб от потрав и пожаров, растут скирды, сложенные плотно, как исполинские сундуки. Некоторые хозяева, еще не перевозив все с полей, сразу приступили к молотьбе: урожай так богат, что не хватит места в «обрывах», да и время беспокойное, ненадежное… Не верится, глядя на обилие даров здешней осени, что по всей России, по взбаламученным ее городам пухнут с голоду люди! Станичники знают о народной беде, многие видели голодающих, но только чаще твердят:
— Кто с хлебом в тяжелый год, тот кум королю, государю дядя.
Сердце — на замок, деньги — в кубышку. Пусть голодают рабочие в Ташкенте, пусть в Москве и Петрограде работницы и солдатки осаждают хлебные магазины. Не привыкли казаки заботиться о далеких чужих краях: Россия большая, там хоть трава не расти. Свои поля, свои родные курени, своя река рыбная под боком — вот что дорого и мило.
Фрося и Харитина помогали работникам на молотилке. В рыжих облаках летящей половы, укутанные платками до глаз, обе тоненькие и ловкие, они подавали снопы, пока не появился Нестор, приехавший с поля на сытом мерине, заложенном в легкую бричку.
— Справятся тут и без вас. Я одного батрака привез — за троих сойдет, — сказал он, везде оберегавший Фросю от непривычной, тяжелой для нее работы. — Лучше нам в степи обед приготовите.
Пока они забирали свою одежонку, спрятанную между скирдами, он постоял на высокой земляной насыпи, наблюдая, как Демид Ведякин с братьями — колченогим Прохором и младшим, румяным, узкоглазым Николаем — разгружали очередной воз.
Сбив набок фуражку, из-под которой до черных сросшихся бровей висел по-казачьи отпущенный «висок», Николай играючи подбрасывал снопы на верх клади, посматривая на статную Дорофею; она заправляла молотьбой на току в этом же «обрыве».
— Как дела, станичник? Что там ишо о Корнилове слышно? — спросил Демид Нестора. Его мучило желание покурить, но это в «обрывах» было строжайше запрещено, и он совсем загонял братьев.
— Судить грозятся. Но верно, нет ли — проходит слух, будто казаки на Дону волнуются, не хотят отдавать своих атаманов. Все казачество за Каледина горой! Зато не тянут пока на германскую, хотя уже поговаривают об отправке нескольких полков из Оренбурга.
— Подвезло тебе в запасе быть.
— Да и тебе, сосед, видать, неплохо. Еще не гонят обратно в строй?
— Так я освобожденный. Работать, конечно, могу. И на коне с шашкой… ежели по доброй воле. Но нету ее, доброй-то воли! По мне, лучше сделать бы это самое замиренье — и всем домой. Три года кровь проливал — за смертью гонялся, а смысла-то какая? Покуда чужи земли добывали, свои здесь чуть не упустили.
Дорофея, рослая, как гвардеец, щуря нежно-голубые глаза, сама отгребала обмолоченное зерно, с мужской силой и сноровкой бросала новые снопы под ноги лошадям, волочившим по кругу «магазинные» камни — вертевшиеся в рамах тяжелые желобчатые катки из гальки с цементом, которые разминали колосья. На лошадях сидели добровольцы из станичных мальчишек и сыны Демида и Алевтины (один — еще малолеток — привязан к седлу, чтобы не свалился под ноги коня).
— Богатая у тебя команда! — пошутил Нестор.
Белый круглый подбородок девушки, плотно охваченный сдвинутым от духоты платком, стал совсем меловым, и еще ярче выделились на этой белизне, сбереженной от загара, плотно сомкнутые алые губы. Ничего не ответив, она отвернулась, сердито кинула тяжеленный навильник соломы.
— Мы теперь с вами не разговариваем! — поддал жару Николай, готовый дурачиться и с Дорофеей, как с задорной Харитинкой, и даже с Алевтиной, не боясь крепких, хотя и незлобных тумаков брата Демида.
— Трепач ты! — укорил его Нестор, зная о ревности влюбленной Харитины.
— Быват и не с трепачами! — огрызнулся тот, сдабривая ехидные слова солнечной улыбкой.
Демид, оставив вилы на возу, спрыгнул вниз, перемахнул через «обрыв» к соседям, подошел к Нестору, обдавая его теплом разгоряченного потного тела.
— Слух прошел, будто Керенского по шеям теперь? Дутов ладно отчистил его в своем письме. Поделом! Мы Дутова председателем совета на Всероссийском казачьем съезде выбрали, а Временное правительство его в щель загнало! Значит, казаков вперед только тогда, когда нужно наводить порядки!
Теперь, после женитьбы Нестора, солидный казачина Демид Ведякин начал разговаривать с ним как с равным. Это льстило Нестору: до сих пор его, как и других молодых парней, не допускали ни к заседаниям казачьего круга, ни к серьезным беседам.
Ответил он не торопясь:
— Батя слыхал в станичном правлении, будто обещали выпустить и Корнилова и Каледина. Если, говорит, таких героев будем променивать на министров, которые шашки в руках не держивали, то пробросаемся. Нам, дескать, казакам, от этих Керенских толку мало.
— Эдак! Я тоже говорю: как поход либо усмирение — сейчас казаков. Почему наше самоуправленье не утвердят по новому закону?
— А Советы казачьих депутатов? — неуверенно напомнил Нестор, плохо разбиравшийся в политике и не очень интересовавшийся ею.
— Советы?.. — Словно топором вырубленное, отягощенное густыми усами лицо Демида Ведякина осветилось лукавой, но приятной усмешкой. — Советы — это всероссийска контора. Ежели мы ее заведем у себя в станицах, то будем такими же хлеборобами, как просты крестьяне, и такими же гражданами, как рабочие. При чем тогда наша вольность казачья останется? Что будут делать станичный круг, войсково правленье, атаманы? Выходит, побоку все казачье?
Нестор задумался. Поглощенный сердечными делами и службой в полку, он мало обращал внимания на события в стране.
— Царя не стало? Ну и что из того! — сказал он однажды Фросе. — Значит, достукался Николай Романов до ручки; столько охраны, войска, министров, а даже не вступился никто. Выходит, не нужен стал, отжил свое. Старые казаки жалеют, правда… Но они всегда жалеют о том, что было. Да и не об этом Николае Романове они скучают, а хотят такого царя, чтобы стукнул кулаком в Питере, и вся Россия тряслась бы от страха… Но где его взять? Теперь против Керенского ополчились… Пожалуй, хорошо было бы, если бы власть взяли казачьи атаманы. Тогда Корнилов сидел бы в Петрограде, а мы тут сами по себе.
Поэтому Нестор сказал Демиду:
— Раз мы за вольность свою, а революция сделана, чтобы народу волю дать, так почему побоку все казачье?
Демид, тоже недоумевая, пожал плечищами, азартно шевельнул губами — должно быть, ругнулся, слова потонули в шуме, неумолчно стоявшем над «обрывами».
На току у Караульникова шумели сразу две молотилки. Нынче он, как никогда, спешил с уборкой и нанял новую артель, чтобы обмолотить даже те клади, что стояли с довоенных лет.
— Торопится, видно, до покрова подчистую управиться, — сказал Нестор, считая разговор о политике исчерпанным и намекая на сватовство старого вдовца к Дорофее.
Лицо Демида опять осветилось приятной улыбкой, зажигавшей карие его глаза тепло-золотистым блеском:
— Боится красного петуха! Кабы не подпалили большевики. Монастыри-то и усадьбы они палят!
— Какой им расчет? Городским и так есть нечего. — Неуместная улыбка Демида удивила Нестора больше жестких его слов по адресу станичного богача. — Что ж ты накликаешь беду на будущего зятя?
— Это мы еще посмотрим. Насчет зятя-то! Алевтина Дорофеюшкой знашь как дорожит? Боится, не ушла бы от нас, да еще к старому вдовцу, у которого ко двору смерть дорожку проторила: двух ведь жен схоронил! Мы бы ее лучше за своего отдали… Старые порядки пошатнулись — можно, пожалуй, деверям на свояченях жениться: не родна ведь кровь. Только у нашего Николая тоже ветер в голове. — Демид прямо взглянул на Нестора и, не желая обидеть его, добавил: — Как и у его тезки, царя Николая, свистит, говорю, сквознячок у братана в голове.
— Что опять стряслось в Питере? — спросила Фрося, заглядывая в лицо Нестора, прилегшего головой на ее колени.
Он молчал, растянувшись на старой попоне, брошенной на колкое жнивье, влюбленно следил, как шевелились нацелованные им припухшие губы жены, как влажно блестели ее глаза под черной сенью ресниц — темные, даже зрачков не видать!..
Вскинув руки, он сцепил пальцы за спиной Фроси, заставил ее нагнуться и, осыпая поцелуями, прошептал:
— Стряслось такое, что я с ума сойду, если хоть на один день разлучусь с тобой.
— Погоди, ведь люди кругом, смотрят…
— Пусть смотрят. Отчего нельзя целовать? Я теперь ночи жду, словно сокол взлета с руки охотника, и, чтобы мне белый свет не возненавидеть, ты должна меня и днем хоть немножко приласкать. Хотя бы, как котенка, погладить.
— Хорош котенок! — смеясь, сказала Фрося. — Ты меня держишь, будто тигр!
— Так я рад своей добыче. — И Нестор поцеловал ее в губы, крепко, пьяняще.
«Нашли время миловаться!» — подумал Григорий Прохорович, вывернувшись из-за составленных бабкой снопов, но помешать молодым не решился, то ли осознав скрытую в душе зависть к этой безрассудной любви, то ли пожалев о ненадежности свитого сыном гнезда: вот-вот обрушится и на станицу Изобильную бурный ураган грозно надвигавшихся событий, и все может пойти прахом.
Довольно испытал на своем веку старый казак Григорий Шеломинцев, встречаясь со смертью и в Закавказье, на войне с турками, и на сопках Маньчжурии. Ранен был. В плен попадал к «желтолицым чертям». Из плена ушел со своими казаками, прихватив «языка» да пулю в бедро на придачу.
Но что значит для казака рисковать собою в бою? Об этом раздумывать не приходится. Дадут команду, и с богом — марш, марш вперед. Рубил истово, словно молился, не успевала кровь сбегать по шашке. Находясь в запасе, в чине и при всех Георгиевских крестах, обучал теперь Шеломинцев рубке молодых казаков. И однажды до того увлекся, что в присутствии генерала из штаба сказал:
— Эти нарядны генеральски сабли с эфесом вокруг руки — г…, а вот простой клинок с кровоточинами исключительно хорошо берет. Если ударить им противника на скаку с потягом, так и развалишь по коню. Даже бурка — она ведь будто валенок — не задержит клинка.
Генерал не обиделся только потому, что был восхищен образным выражением есаула, и, уезжая из лагеря, все повторял:
— «Развалишь по коню»… Как точно сказано! Значит, седок в седле распластан надвое.
А командир полка сказал потом Григорию Шеломинцеву:
— Моли своего бога, что генерал с умственными наклонностями, а то припаял бы тебе за генеральское «г…».
Какие наклонности имел в виду полковник, Григорий Прохорович понял только тогда, когда случайно узнал, что генерал пишет книжку под заглавием «Мемуары».
— Вроде не военно названье-то, — сказал Шеломинцев дружкам-однополчанам. — Значит, он писатель таковский… Вот, я слыхал, есть книга «Война и мир». Это, чувствуется, крепко завернуто. А то — «мемуары»!
Не получив образования, Григорий Прохорович был зато слепо предан престолу и родине. Правда, понятие «родина» связано для него прежде всего с той местностью, где он родился и «возрос»: с вольною землицею Оренбургского казачьего войска. Она-то, единственная, и вызывала самые трепетные его переживания и самые острые страхи. То пожар всполошит станичников, то падеж накинется на отары и табуны. Сибирская язва в одночасье сваливала лучших быков и лошадей. А пахоты — сравнить нельзя с тем, что у иногородних мужиков, царапавших сохой арендованные полоски!
Пашни у станичников Изобильной неоглядные. Зато и недороды и градобои — для хозяев великий урон. Но как ни велики потери, а прибыли больше того. И можно ли не любить родную эту землицу? Вот она раскинулась без конца и края под блекло-голубым куполом осеннего неба, покрытая золотой щетиной жнивья и кучами сложенных снопов.
А там все убрано, свезено на «обрывы», и уже сворачивают набок черноземные пласты зяби лемеха плугов, серебром сверкающие на поворотах. Ведут привычно борозды неторопливые быки, по три и по четыре пары в упряжке (а упряжек-то у Шеломинцева по степи больше десятка!), и все шире раздаются черные перебоины в желтеющих полях.
«Хлеб растим для людей. Всю Расею кормим. Да ишо защищал ее. Самая опора власти — постоянной ли, временной ли — казачество. Как же можно наших атаманов за решетку?! Уму непостижимо. Большевики против власти и порядку. Не глянется мне ихняя воля — для кого она? Отрезать бы им языки-то да сослать… Только не в Сибирь (туда поселенцы охотой едут — отбою нет!), а в тундру бы упечь, на острова бы в Ледовитом море, где, почитай, круглый год ночь стоит.
Однако, что же творится? Ну смутьяны разны сроду были, а теперь ведь и Керенский, главнокомандующий, на ту же линию тянет со своими министрами. Но ежели казачества не будет, рухнет Расея. С голоду все передохнут. Что это за министры без головы? Чего стоит такой главнокомандующий?»
Отступив незаметно от того места, где Нестор целовался с Фросей, Шеломинцев прошел к табору и шумно обрушился на Харитину и Аглаиду, сидевших в тени возле фурманки. Распряженные волы, лениво помахивая хвостами, доедали поблизости остатки снопов, трясли их, громко шурша колосьями. Костерчик под котлом с густой похлебкой из свинины, заправленной знаменитым оренбургским пшеном, еле дымился.
— Вы чего сели, поприжали ж…! Как старшего рядом нет, так будто малые ребята — одни поигрунки да побасенки на уме!
— Мы работаем не покладая рук с утра… Вот только-только присели, папаня! — вскочив, словно девочка, несмотря на дородность, начала оправдываться Аглаида.
— Обед на целу артель сготовили, — похвалилась Харитина, привычно робея перед отцом.
— Вижу. Работа ваша — огонь, и работу вашу — в огонь! — Шеломинцев глянул на еще не вывезенные снопы, подосадовал за кинутые на ветер слова, чего не терпел, как и ругани «чертом», поддал ногой новенькую пустую цибарку, увидел разом сделанную вмятину на боку ведра и еще пуще распалился: жалко стало. — Чего вы быкам хлеб травите, не могли соломы прихватить с молотилки? Транжирите отцовско добро! Зовите Нестора, кулеш-то уж пригорел, поди. В этаком довольстве живете, а благодарности никакой. Достукаетесь с новыми-то властями, что и самих упекут на север…
Тут он вспомнил, как целовались Нестор и Фрося, отмяк, усмехнулся, но пробормотал все еще сердито:
— Небось в тундре ледяной не стали бы миловаться на каждом шагу!
— Господи Исусе, неужели это все мое? — Вирка, не веря глазам, обошла каменную каморку — пристройку во дворе редакции газеты.
Пять шагов от порога до единственного окна да поперек почти четыре… Столик настоящий, табуретки — две. Коечка железная, кадка с водой и печурка в углу, сложенная из кирпичей.
Всплеснув руками от радостного потрясения, девушка обернулась к целой ораве ребятишек мал мала меньше, несмело толпившихся посреди своего нового жилья, к Мите и Косте, стоявшим у двери с узлами.
— Чего вы стоите, товарищи? Присаживайтесь, устали, чай, покуда наше барахло несли!
Нюшка, старшая, одиннадцати лет, востроносенькая, смуглая, косичка тонкая до пояса, заторопилась подвинуть парням табуреты.
— Кладитя узлы-то на койку, — сказала она, как взрослая, по-казачьи напевно. — Зойка, Мотька, чего вы застыли? Рядом во дворе полешки сложены… Дворник сказывал — нам привезли. Растопочки бы сыскать. Таганчик тута нельзя: ишо пожар наделам. Как нам чай-то скипятить, чтоб дров поменьше?
Младших, Зойку с Мотькой, белобрысеньких, запуганных, и еще меньших, Яшку со Степкой, будто ветром выдуло из каморки: мальчишки побежали взять во дворе щепочек да обрывков бумаги.
— Дворника спросите, оглашенны, не то погонит взашей! — крикнула вслед Вирка, все еще не совладевшая с внезапной радостной растерянностью: пустая была утром вычищенная, вымытая ею каморка!.. А сейчас — мебель! И стоит среди чистоты вместо убежавшей оравы один трехлетний Илюша, худющий, глазастый, обеими руками держит банку, в которой что-то живое шевелится, пищит.
— Что там у тебя? — спросил Митя с чувством вины перед маленьким печальным человечком: жили почти по соседству и допустили, чтобы загнал в гроб многодетную мать пьяный самодур.
— Цыплят ему подарила бабка Зыряниха, сказала: на новоселье. Самоволкой высидела в бурьянах парунья, на зиму глядя, — ответила за малыша Вирка.
Она развязала узелок поменьше, достала стаканы, сделанные из обрезанных бутылок, две тарелки с отбитой эмалью, погнутую кружку (не жила и металлическая посуда в землянке Сивожелезова — все крушил отец!). Проведя для порядка тряпицей по столу, Вирка поставила посуду, снова оглянулась на малыша.
— Подойди к дяде Мите, покажи цыплятков.
Мальчик, сильно прихрамывая, послушно направился к парням и, приоткрыв банку, показал три желтеньких пушка с черными бусинками глаз.
— Чего он чикилять стал? — тихонько спросил Костя, расстроенный вчерашней поездкой в Изобильную и страшным скандалом у Сивожелезовых перед уходом детей.
— Ножка-то? Все тятенька, — ответила Вирка, снова вспыхнув от злости. — Пнул его весной, когда мы на шерстомойке работали, да каку-то косточку сломал.
— К доктору надо бы, в больницу, — сказал Митя, лаская ребенка, который, прислонясь к нему, разглядывал своих «цыплятков».
Вирка возразила сердито:
— Чудишь, однако! Чем платить-то? Лечил наш нахаловский рабочий Никита Мутнов. Спасибо, все ж таки поставил пацанчика на ноги (на войне-то Мутнов ротным фершалом был). — Она налила воды в банку с проволочной ручкой, ставя ее на печурку, уже растопленную Нюшкой, подумала о кривобоком чайнике, который забрал отец.
Если бы и отдавал его — не взяла: на всю жизнь запомнилось, как швырнул он им, полным кипятка, в мать, обварив ей руки и ноги. Страшнее всего показалось тогда Вирке то, что не заплакала маманя, даже не вскрикнула, а только посмотрела на детей огромными — в пол-лица глазами, и так задрожали, задергались раньше морщины возле ее рта, будто улыбнуться она хотела, да не смогла.
— Чтоб тебя громом убило, ирод! — сказала Вирка отцу, захлебываясь от обуявшего ее гнева. — Душегуб проклятый, что ты с нами делаешь?!
Рассвирепевший пьяный «душегуб» накинулся на нее сначала с кулаками, а потом схватил шашку… Не чуя под собой ног, девушка выскочила на крылечко, но убежать не успела: длинной рукой поймал ее родитель за косу и рванул к себе изо всей силы. Падая на ступени, Вирка зажмурилась под блеснувшим лезвием, а когда грохнуло мимо, взвилась стрелой и помчалась, пугаясь того, что странно легкой, вроде пустой стала ее голова. Показалось, что отрубил ей затылок папаня и летит она через двор, как обезглавленная курица. Обмирая, холодея, Вирка взялась ладонями за макушку, но не было крови, цела голова, только вместо тугой светлой косы торчали коротко обрубленные пряди волос, будто встали дыбом от ужаса.
А недели через две хоронили мать, и только Вирка да притерпевшаяся к людским бедам Зыряниха знали, какие черные кровоподтеки были на ее теле.
— Пикнешь — убью! — пригрозил Вирке папаня, а она, вся опухшая от слез, одуревшая от горя, от мысли, что теперь на одни ее плечи свалилась вся тяжесть жизни, только целовала лицо матери да трогала, прикрывала ее обваренные руки, покрытые болячками.
Если бы можно, легла бы с нею в могилу, да жалость к малышам, врываясь в сердце болью, отрезвляла сознание, приказывала: живи!
— Из какого ада вырвались, дай бог здоровья Александру Алексеичу! Порадел он о нас. Перед самым отъездом в Петроград, при таких больших хлопотах, не забыл распорядиться, чтоб отремонтировали тут, — сказала Вирка Мите. — Но кабы не вы да не работники Совета, не отпустил бы нас Сивожелезов, захлестнул бы чем попало… Ты куда, Костя? — остановила она Туранина, который вскочил с места.
— Сбегаю хлеба куплю да чаю немножко.
— И не думай! У вас самих шесть ртов дома.
— Ну и что? Все меньше, чем у тебя, а работников двое. Раз новоселье, то и мы с Митей участвуем не хуже бабки Зырянихи…
— Ездили к Фросе? — спросила Вирка Митю, едва Костя скрылся за дверью.
Митя кивнул и не сразу глухо сказал:
— Ездили. Нашли…
Вирка так и загорелась жарким любопытством:
— Как она там?
Митя только рукой махнул.
— Неужто не взял он ее за себя?
— Взял.
— Плохо живут, что ли?
— Богато живут и, похоже, дружно.
— Тогда чем ты недовольный? Чего хмуришься?
— Чего?! Маленькая разве, не понимаешь? В богатом доме живет теперь наша Фрося. Муж офицер, хоть и низшего звания. А свекор эдакий бородач-держиморда. Сразу видно — в карателях ходил. Чему тут радоваться? Об Косте говорить нечего. А мне, думаешь, легко было Коростелеву рассказывать, а после с папаней толковать?
— Все ж таки про Нахаловку-то она спрашивала? Неужто и поклона нам не послала?
— Гостинцы матери навязывала, я не взял.
Вирка развеселилась:
— Взял бы да нам отдал. Не вроде платы за невесту, а как военну дань. С врага-то можно брать? Берут всегда!
Когда Костя вернулся, Виркина орава была снова в сборе и вода в котелке кипела: хозяйственная Нюшка сообразила сунуть сначала в топочку два кирпича, и огонь горел под самой плитой.
Отрезали каждому хлеба, дали крошек и цыплятам.
— Надо за ними смотреть, а то кошка их утащит, — сказал Костя.
— Да теперь уш они вше равно не выраштут, — ответила восьмилетняя шепелявая Мотька.
И всем стало смешно, улыбнулся даже Илюша, который прилежно следил за тем, как Яшка и Степка устраивали на низеньком широком подоконнике гнездо для цыплят.
— Об этом нечего печалиться, — вздохнув, сказала Вирка. — Надо думать, как пробиться, покуда я настоящим наборщиком стану. Я уж так стараюсь, так стараюсь, чтобы ни одной буквочки не пропустить, не напутать чего. Глаза у меня востры, руки быстры, да вот грамота подкачала. В школе еще учиться надо.
— Ну и учись себе. Дома без тебя управимся, на своей-то воле, — заявила Нюшка, преданно глядя на старшую сестру. — Зойка и Мотька теперь помощницы…
— И мы поможем, — пообещал Митя, желая рассеять тревогу всегда задорной, смелой девушки.
— Я вам из Тургая баранчика пришлю, — сказал Костя, мысленно уже переселившийся в киргизские степи.
Нюшка ахнула:
— Живого?
— На что он вам, живой! Мяса пришлю.
Ребятишки притихли, представив такой богатый гостинец, а Мотька даже облизнулась. В это мгновение и раздался тяжкий удар в дверь, затем она распахнулась, и кто-то лохматый, большой, сопя и склоняясь под низким потолком, ввалился в каморку.
— А-ба! — взревел он диким голосом, растопырив жилистые руки, будто собирался задушить всех. — Чаи распиваете, а отец рыщет, как собака, голодный? Детушки родны — черт вас надавал! Целу жизню свет мне застили со своей маманей. Вирка, тварь, собирай манатки, марш домой!.. Чего смо-отришь? Ну, дерзка, последни космы вырву.
— Не вырвешь. Хватит тебе. Проваливай.
Вирка не растерялась, не опустила глаз, а стояла, гордо выпрямясь, прикрывая собою малышей.
В Нахаловке были большие нары; из-под них родитель, как людоед, выволакивал детей для избиения то за ноги, то за волосы. Но если успеешь забраться подальше — все-таки какое-то убежище, а тут спрятаться негде.
— Никуда мы с тобой не пойдем!
— Врешь — пойдешь! Отцовска воля главней ваших Советов! — злорадно изрек Сивожелезов. И, отшвырнув метнувшегося навстречу Костю, размахнулся, делясь в дочь полупустой бутылкой денатурата.
Митя, никогда не участвовавший в драках, подстегнутый криком детей, бросился на помощь Косте. Вдвоем они держали его за руки, а он, будто обрадованный возможностью побуйствовать, выкрикивал матерные слова, заполнив чистенькую каморку винным перегаром, плевался и пинался.
— Что тут происходит?! — Резкий окрик вошедшего Александра Коростелева заставил всех обернуться к двери. — Гражданин Сивожелезов, за свои безобразия вы будете задержаны и арестованы.
— Да я ничего, — неожиданно сникнув, трусливо забормотал буян. — Я вот к дочке… Вирке своей. На новоселье… Детишков-то навестить надо.
Вирка чуть не разрыдалась при виде Коростелева, только что приехавшего с вокзала, мертвенно-бледная, подошла вплотную к отцу, посмотрела в упор, дыша непримиримой ненавистью:
— Ты нам никто. Понял? И не ходи сюда больше. Не смерди! Я тебя на порог не пущу.
— Ведите его, ребята, к постовому, а я позвоню в Совет, чтобы дали ему суток двадцать для прохлаждения и раздумья.
— А я не желаю к постовому! — попытался еще покуражиться Сивожелезов.
— Тогда именем Советской власти заявляю вам: вы арестованы, и извольте подчиняться.
— Плевал я на нее!
— На кого, гражданин арестованный?
Сивожелезов нагло ухмыльнулся:
— Да вот на дочерю свою — Вирку… — И, выходя, подталкиваемый с обоих боков, бросил от двери угрожающе: — Я тебе припомню «именем Советской власти», комиссарска потаскуха!
— Что же это, Александр Алексеич?! — ломким голосом сказала Вирка. — Радости-то у нас сколько было сегодня! Вроде праздник светлый. И вот явился, наплевал в душу.
— Держись, дорогой товарищ! Самое страшное теперь у вас миновало. — Александр Коростелев взял на руки Илюшу, легонько потормошил его и поцеловал. — Все будет хорошо, ребятишки! Отличнейшим образом все наладится при нашей будущей Советской власти. — Глаза Александра сияли: он был доволен поездкой и откровенно радовался. — Такие безобразники, как ваш отец, скоро подожмут хвосты. А ты, Вира, помни всегда о том, что ты теперь в рабочий класс вошла. Наборщик газеты — это самая почетная профессия. Подумай, сколько мозолистых рук будут держать газету, набранную тобой и твоими товарищами по работе. А мы, коллектив редакции, защитим тебя от любых бед. Помогать станем, словно многодетной матери.
— У меня и правда, как у детной матери, вся забота сейчас — ребятишек вырастить, — сказала Вирка, снова воспрянув духом.
— Вырастем, раз тятенька нам мешать не станет, — пообещала Нюшка. — Испужался он Советской-то власти. Небо-ось заюлил!
Александр Коростелев посмотрел на заплаканную девочку, и его глаза тоже вдруг увлажнились слезами.
Часть вторая
Караван-Сарай — гордость оренбуржцев — стал теперь центром заседательской суетни.
В большом зале, на втором этаже левого крыла, и в комнатах, расположенных вдоль коридора, проходящего через все здание, круглосуточно проводились заседания комитетов разных партий и Советов. На совместных собраниях нередко вспыхивали перебранки, а страсти с каждым днем разгорались сильнее.
— Горлом берут краснобаи! Скопом наваливаются, — сказал Александру Коростелеву Кичигин, наблюдая за тем, как, оживленно разговаривая, выходили заседавшие. Он, Коростелев и Мария Стрельникова стояли во дворе у распахнутых дверей, ждали запропастившегося в толчее Георгия.
— Просто в тупик становишься, когда слушаешь этих ораторов! Неужели они не сознают, что сами помогают врагам революции? — нервно потеребливая концы пояса, обвившего ее тонкий стан, говорила Мария Стрельникова.
— Отлично сознают, но продолжают носить маску друзей народа, — ответил Коростелев. — Барановский утверждает, что только эсеры могут повести рабочий класс к социализму… Но он размахивает красным флажком для виду. Заладил одно: «Солдаты — в окопы, рабочие — к станкам», будто не знает, что рабочим есть нечего! И меньшевики туда же.
Александр был удивительно спокоен на этот раз, несмотря на явное превосходство противников. Его воодушевляло то, что в ЦК партии, где он познакомился с Яковом Свердловым, ему посоветовали как можно скорее порвать с меньшевиками, еще усилив борьбу с ними в Советах.
Теперь число оренбургских большевиков увеличилось во много раз и значение их в политической жизни губернии очень возросло.
Десятого сентября они постановили ликвидировать объединенную организацию, войти в состав единой партии и считать своим руководящим органом ЦК РСДРП(б). Был создан городской комитет, председателем избрали Александра Коростелева.
— И все-таки Барановский и Семенов-Булкин не чувствуют себя побежденными, — напомнила Стрельникова, невольно раздражаясь от самодовольного, как ей казалось, спокойствия Александра.
Она сердилась на него, с трудом скрывая свои чувства. Если бы она совсем не нравилась ему, тогда другой вопрос. Но, как чуткая и страстная натура, Мария давно заметила, что он неравнодушен к ней. Об этом говорили при встречах вспыхивавший румянец на его щеках, ласковый блеск в глазах. Но, словно досадуя на себя, он сразу становился чопорно-холодным, что удивительно шло к его безукоризненно начищенному, наглаженному костюму и белоснежным рубашкам, но совершенно не вязалось с порывистой быстротой стройного, сильного, большого тела.
«Что ты за человек!» — мысленно корила его Мария, с невольной отрадой отмечая, что к другим девчатам, если они оказывали ему внимание, он относился с еще большей сдержанностью.
Поддетый ее колким, справедливым замечанием, Александр Коростелев угрюмо нахохлился, а она, почувствовав, как сильно задела его, вдруг развеселилась от мысли, что он целиком предан только делу партии и ничто другое не стоит между ними.
Выступление его было, как всегда, умно и логично, но ему не хватало той непринужденно-виртуозной красоты речи, которой в совершенстве владели противники большевиков, покорявшие краснобайством политически неразвитую и обывательски настроенную массу слушателей.
— Беда в том, что многие приходят сюда не от потребности разобраться в идейных течениях, а будто в театр, — сказал он с досадой.
— Кроме того, Барановский и Семенов-Булкин умеют льстить аудитории, а себя возвышают, напоминая о своих революционных заслугах, — добавил Кичигин.
— Без спекуляции они не могут? — Александр язвительно усмехнулся, нетерпеливым взглядом ища в людском потоке Георгия. — Игра на низменных чувствах, как и умение лавировать, у них на первом плане.
— Вот и я! — возвестил запыхавшийся Георгий, подойдя совсем с другой стороны. — Это телеграмма от Кобозева. Он сообщает, что в Оренбург приедет работать Самуил Цвиллинг. Договоренность уже есть. Он избран делегатом от Челябинской организации на нашу губернскую партийную конференцию, а потом останется у нас.
— Совсем? — спросила Мария, глядя на Александра, но он уткнулся в телеграфный бланк, а затем, подхватив под локоть Кичигина и даже не оглянувшись, что-то наговаривая товарищу, зашагал со двора.
Георгий тоже поспешил за ними, совсем забыв о ней, как будто она посторонний делу человек.
Ну и пусть. Сейчас не до тонкостей и личных переживаний! Гораздо важнее наладить издание новой большевистской газеты вместо «Зари», захваченной меньшевиками. Хорошо, что Самуил Цвиллинг, владеющий пером и даром оратора, тоже будет сотрудничать в ней. Название уже придумали: «Пролетарий». Редактором назначен Александр Коростелев.
Стрельникова знала, что рабочие сразу приступили к сбору денег для выпуска своей газеты, и видела, как довольны они были размежеванием с меньшевиками.
Задумавшись, она стояла посреди двора, возле мечети, похожая на красивую узбечку, только что сбросившую чадру, и самые противоречивые чувства одолевали ее.
«Ну что я гоняюсь за Коростелевым? Он даже не просто сухарь, а партийный буквоед, ничего не смыслящий ни в искусстве, ни в истории культуры! Неглубокий, скучный человек, отсюда и его отношение к женщине».
Вот прекрасное здание Караван-Сарая, вызывающее восхищение всех приезжих людей. Раньше оно было для него только скопищем чиновников в канцеляриях командующего башкирским войском и губернатора, а теперь место боев на идейном фронте, и все. Недавно, пройдя по комнатам, Александр сказал с изумлением:
— Одни чиновники — с кресел, а другие тут как тут, набилось — пушкой не прошибешь. Когда возьмем власть в свои руки, надо сократить эту бюрократию! Иначе она нас захлестнет.
«Ведь сам можешь превратиться в бюрократа!» — казнила его мысленно Мария.
Для нее Караван-Сарай прежде всего замечательный памятник архитектуры, заложенный еще при губернаторе Перовском, у которого гостил Пушкин во время работы над книгой о Пугачеве. И «Капитанскую дочку» Мария знает почти наизусть: ведь там описан ее родной край.
Странно и радостно думать ей, что великий поэт в те далекие времена приезжал сюда из сказочного Петербурга и, как она, ходил по этим улицам вместе с хозяином города и губернии Перовским, культурным светским человеком и жестоким, незадачливым генералом.
Перовский хотел показать, что русский император не намерен обращать магометан в христианство насильно, о чем трубили фанатики. Поэтому в прямоугольном дворе, образованном крыльями двухэтажного дома, что построен по типу азиатских караван-сараев, воздвигли большую мечеть с каменным минаретом, облицованным белыми изразцами. Равной ей нет в крае. Всем начальникам башкирских кантонов объявили, что в Караван-Сарае будут останавливаться башкиры, приезжавшие в город по своим делам. Польщенные начальники собрали среди верующих до тридцати тысяч рублей для отделки новой мечети, но в здании Караван-Сарая уселся губернатор.
Все это в прошлом.
«Очень хорошо, — подумала Мария, — что здесь не постоялый двор для торговцев, а здание, похожее на музей, украшающее центр города».
Она прошла по двору, вышла в городской сад, уже тронутый золотинкой осеннего увядания, будто проблески седины в зеленых кудрях деревьев. Солнце ярко светило, и в воздухе плыли сверкающие нити паутины бабьего лета.
— Теперь я больше не сержусь на тебя, — надменно сказала Мария на другой день Александру Коростелеву. — Мне кажется, я все поняла.
Он ничуть не удивился неожиданному признанию.
— Я на тебя тоже не сержусь.
— Вот как! — Она сначала растерялась, потом резко встряхнула коротко остриженными волосами, капризно изогнутые темные брови сошлись почти вплотную: «Все иронизирует, сверхчеловек!»
— Ой, наконец-то я вас догнал! — Лешка Хлуденев забежал вперед, пятясь и заглядывая снизу в лицо Коростелева, выпалил: — Самуил Цвиллинг приехал! Меня из клуба послали за вами.
Александр просиял:
— Замечательно! Значит, в цирке Камухина мы выступим с новыми силами. Сегодня будет многолюдное собрание, солдаты придут…
Лешка, явно не желая омрачать настроения Коростелева, нерешительно перебил:
— Цвиллинг вроде… не совсем здоров. С дороги, может быть…
— Как нездоров? Что с ним?
— В больницу положили.
— То-варищ Хлуденев! Лешка! Чего же ты сразу-то не сказал?
А Мария, уже сочувственно глядя на Александра, думала: «Нет, я была не права! Хорошо, что он понял мое состояние и по-дружески отшутился. Он просто умеет владеть собой, поэтому и кажется иногда холодным, даже черствым. Вот сейчас все чувства написаны на лице. И правда, такое огорчение!»
Но Александр Коростелев спросил уже деловито:
— В какой больнице? — Марии кинул ласково, хотя и озабоченно: — Значит, до шести!
Коростелев и Лешка быстро шли по солнечной улице. Дыни всех сортов лежали возле лавок, желтея от зависти к успеху самодовольных арбузов, целые горы которых разбирались прохожими с ходу, несмотря на запреты и ограничения: власти боялись эпидемий — где-то в Средней Азии появились холера, тиф… Хорошо, что летний зной сменился ласковым теплом осени. Скоро вместо черных мух полетят белые, меньше грязи, меньше заразы. Проходили по улицам верблюды, раскачивая тяжелые вьюки, проплывали, заслоняя городской пейзаж, серо-зеленые возы душистого сена. Лошади, странно маленькие перед такой поклажей, вытягивались, напрягаясь на ухабах, но еще более странно выглядели рядом с сеном заложенные рысаками ошинованные коляски с разодетыми дамами и господами.
«Эти тоже нагрянут на собрание, как в театр», — думал Александр Коростелев, провожая неприязненным взглядом богатых, праздных людей.
Красавица Софья Кондрашова, что прокатила мимо в элегантном наряде, еще больше усилила его неприязнь.
«Чувствуют себя при этой „революционной“ власти как рыбы в воде… А Цвиллинг заболел, наверное, потому, что переутомился. Не бережет себя, да и здоровье у него некрепкое… Жаль. Здешние болтуны, конечно, репетируют сейчас перед зеркалами свои выступления».
Коростелев презрительно усмехнулся, зашагав еще быстрее. Занимала его мысли и невольно обиженная им Мария, ее неловкое признание. Ну как можно сейчас стремиться к личному счастью? Любовь, свадьба, дети… Лицо Коростелева приняло то самое выражение застенчивой нежности, о котором мечтала Мария Стрельникова. Улыбка вспыхнула в глазах и… погасла.
В редкие свободные минуты он заглядывал к детишкам Вирки Сивожелезовой, относил им пакетики с сахарином и хлеб, забывая тревоги-заботы, играл с маленьким Илюшей, а о Марии старался не думать.
— Что с Цвиллингом-то?
— Кичигин тоже в больницу побежал, — вместо ответа сообщил Лешка, очень гордившийся своими обязанностями связного.
Несколько минут Александр шагал молча, только морщился, предчувствуя торжество в стане врагов, которые, конечно, боялись приезда и выступлений Цвиллинга.
— А что слышно в Нахаловке о Фросе Наследовой?
— Были ребята в войсковом правлении, узнали, откуда казачий офицер Шеломинцев, потом ездили в Илецкую Защиту и на Илек, в станицу Изобильную, — тетка Евдокия настояла. Видели они Фросю: замужем теперь за Шеломинцевым. В церкви венчались. Только Митя в ихнем доме гостить не стал, тут же вернулся обратно, даже подарки для матери не взял. Теперь, говорит, наша Фрося офицерша, богачка. Костя Туранин с горя уехал в Тургай к Джангильдину. Хочет изучить киргизский язык, чтобы помогать киргизам бороться с местной буржуазией.
«И тут любовь! — почти с ожесточением подумал Коростелев, сам рекомендовавший Костю Джангильдину по просьбе Лизы. — Как будто нельзя подождать, пока не добьемся полной победы в революционной борьбе. Ну, чего ради сунулась Фрося в чужую среду? Не будет она счастливой, если у нее есть совесть».
Александр подумал о Семене Кичигине, который был избран вместо него председателем Совета: женат, любит семью, и это не мешает ему в работе. Или взять Петра Алексеевича Кобозева с его Алевтиной Ивановной и кучей малых детей…
«Но это семьи, уже давно сложившиеся, проверенные жизнью, так сказать, поставленные на рельсы… — В душе Коростелева снова зажглось упорное нежелание одобрить стремление людей брать от жизни все радости, ничего не откладывая на завтрашний день. — Вот Фрося Наследова не только с родными порвала, а из своей социальной среды ушла, не осознав, какую ошибку совершает. Неужели стерпит, если казаки ее братьев и отца с матерью порубят?»
«Мария-то к тебе тянется — не в чужую среду, — мелькнула коварная мыслишка. Но он отбросил ее: — Не любишь ты, вот и рассуждаешь, а попадет дивчина, которая заберет твое сердце…»
— Живы будем — посмотрим, — вслух сказал он, оборвал свои размышления, недовольный тем, что, будучи теперь руководителем городского комитета партии, так и не смог найти правильного решения по личным вопросам. — А ведь надобно найти, и чтобы было бесспорное.
При виде окутанной бинтами головы Цвиллинга, сиротливо белевшей на больничной подушке, Коростелев сразу остановился, пораженный его беспомощностью. Забавно, будто нарочно раскрашенные, пламенели красной бабочкой нос и щеки.
— Что это ты, Самуил?..
— Да вот, рожа привязалась, — сказал Цвиллинг с досадой и даже виноватостью, и в то же время смешливые искорки вспыхнули в его больших серых глазах, вызванные укоризной товарища и необходимостью оправдываться. — Напряженная борьба идет, выступать надо, а тут шею намазали ихтиоловой мазью, шлем из марли соорудили, еще метлу в руки — и на огород ворон пугать… Зло берет! Температура тридцать девять. Врачи приказали вылеживаться. И слово-то какое придумали — «вылеживаться»! Яблоко я антоновское, что ли?
— Опасная болезнь рожа?
— Черт ее знает! Как будто заразная.
— Если бы она досталась Барановскому или Семенову-Булкину, то революция не пострадала бы, — сказал Александр, подсаживаясь поближе.
— Все-таки вы не очень…
— Ничего, меня никакая лихоманка не берет.
— Я этим похвалиться не могу. А вы, кажется, в самом деле отменного здоровья.
— Не кажется, а точно: здоров. Раньше в кулачных боях заводилой был на своей улице, а теперь приходится драться с этими поганцами в словесных поединках.
— Что, мастера выступать? — Глаза Цвиллинга зажглись задором.
— У-у! Иногда заслушаешься: до чего же красно говорит человек! Если своего твердого убеждения нет, то и на поводу пойти не мудрено. Нам-то, конечно, вся суть ясна: улыбочки, подковырочки, зачастую будто шутейные, а за ними злоба кипит.
— Логика борьбы, — заметил Цвиллинг. — Есть такая русская поговорка: отступи от правды на пядень, а она от тебя — уже на сажень.
— Хоть и русский, а что такое пядень, не знаю.
— Четверть с кувырком… Пядь — вот… — Цвиллинг поднял тонкую руку, развел большой и указательный пальцы. — Четверть это, да? А пядень… — Он шагнул разок пальцами по одеялу и загнул еще два сустава. — Вот вам добавка — «с кувырком». Ровно пять вершков…
Александр рассмеялся, отмерил пядь и пядень на своей ноге, заложенной на ногу.
— Вершков двенадцать от бедра до колена будет? — не поворачивая головы, поинтересовался Цвиллинг.
— Да, пожалуй, побольше…
— Длинноногий!
Цирк Камухина сооружен по стандарту: снизу обшит досками, купол из листового железа. Сегодня не любители острых ощущений, не ценители сказочно яркого, веселого и смелого искусства артистов арены, а горожане-«политики» спешили заполнить ряды гигантского амфитеатра. Броское объявление у входа гласило: «Билеты по двадцать копеек, а солдаты бесплатно», и саженный плакат: «Сегодня митинг-лекция на тему „Социалистическая революция“». Буквами поменьше: «Война до победного конца или мир?»
Как тут пройдешь мимо? Произошла ведь она, революция-то! А какая она? Кто говорит — буржуазная. Кто просто называет Февральская или вот еще — социалистическая! Почему такое?
Стоит перед афишей, уйдя целиком в созерцание таинственного слова, ражий детина в суконной поддевке и смазных сапогах, за десять шагов разит от него густым запахом дегтя. Стоит он — думает.
Приказчик — сухопарый франт в фланелевом пиджаке при жилетке, в клетчатых брюках и лакированных штиблетах на жидких ногах — тоже остановился у афиши. Нафиксатуаренный зачес уложен волосок к волоску, нафабрены чернявые усишки. Он, конечно, не упустит возможности пополнить за двадцать копеек скудный запас своих мыслей, чтобы потом щеголять модными словечками, учуяв запах дегтя, брезгливо поморщился, покосившись на соседа, брякнул:
— В город ведь приехал, а воняешь, ровно квач из дегтярницы. Вся мушкара около тебя сдохнет!
Широкие плечи в поддевке угрожающе шевельнулись, и голос будто из бочки:
— И то: зудишь, как муха.
Солдаты, толпившиеся у входа, взорвались дружным хохотом, а сконфуженный франт, будто чертик, дернутый за ниточку, исчез в темной утробе широко распахнутых дверей.
Идет «чистая публика»… Дамы в шляпах, украшенных целыми клумбами цветов, в платьях, отделанных рюшами, кружевами, шелковой тесьмой, щебечут, легко опираясь на тросточки цветных зонтиков, крепко опираясь на локоть выхоленных, отлично одетых спутников. И те и другие с любопытством присматриваются к солдатне и к рабочим — всем этим вечно недовольным пекарям, кожевникам, орлесовцам, железнодорожникам. Спешит суетливая чиновная мелкота, вышагивают щеголеватые офицеры, бредут в одиночку помещики-степняки, этакие тяжеловесные собакевичи в пропыленных плащах, идут заезжие торговцы скотом и рыбой, озабоченно торопятся священники в будничном одеянии.
— Аудиторийка! — многозначительно заметил Георгий Коростелев, окидывая взглядом быстро заполнявшиеся ряды высокого амфитеатра. — Но рабочие и солдаты в большинстве. — Увидев Лизу в светлом ситцевом платье в группе так же скромно одетых девушек, он ласково улыбнулся ей.
Кичигин осматривался молча, только подтолкнул Александра Коростелева, когда мадам Семенова-Булкина важно заняла место в первом ряду, надменная, самоуверенная, убежденная в святой правоте партии меньшевиков и своего супруга. Сам Семенов-Булкин проследовал к столу президиума. Явился и Барановский, осклабясь, приветствовал публику изящным, усталым полупоклоном артиста, пресыщенного славой, овациями, цветами, помахал пальцами, прекращая плеск аплодисментов.
Александр Коростелев еще раз бегло читал конспект заготовленной речи и волновался, предвидя, что выступать перед этой пестрой аудиторией будет нелегко. Не мог он так вольно разглагольствовать, как его соперники, не умел лавировать в полемике — не удавалось ему напускать на себя сознание своего превосходства над толпой, которая, казалось, только и ждала, чтобы ею руководили, чтобы ее просвещали и даже распекали «друзья народа».
Петра Кобозева нет, и Цвиллинг занемог, а тут вопрос поставлен ребром: «Война до победного конца или мир?», и надо снова разъяснять массам, что такое социалистическая революция.
Семенов-Булкин уже завладел трибуной: Александр слушал и кипел негодованием: конечно, Февральская революция преподносилась как величайшее народное завоевание. Ну еще бы: в жизнь всего общества вошла святая свобода. Теперь каждый будет творцом нового порядка в процветающей России.
Семенов-Булкин говорил, то разводя руками, то поднимая их над головой и потрясая ладонями, припадал к трибуне грудью, широко и вольготно облокачивался, а слушатели внимали и таяли. Оказывается, никаких особых усилий от них и не требовалось: они всем своим поведением подготовили «социальные преобразования». «Чистая публика» в передних рядах бурно рукоплескала. Семенов-Булкин спокойно и важно вытирал белоснежным платком блестевшее от пота лицо. Две молоденькие девушки, приседая в реверансах, преподнесли оратору букеты из астр, георгинов и хризантем.
Когда Коростелев вошел в раковину трибуны, у него в глазах потемнело от волнения.
— Сейчас нам нарисовали картину полного благополучия в стране, — заговорил он слегка охрипшим голосом. — Выходит, социал-демократам не о чем тревожиться. Так ли на самом деле? — Александр нечаянно зацепил локтем листы своего конспекта, и они соскользнули с трибуны, но он даже не попытался поймать их.
Публика сразу насторожилась.
— Давай, господин хороший, излагай свою точку! — крикнул богатырь в поддевке, сидевший одиноко в раздавшемся кругу изысканно одетых горожан (по-видимому, предсказание приказчика насчет смазных его сапог и «мушкары» исполнилось).
— В феврале у нас произошла революция буржуазная, хотя совершили ее питерские рабочие. Поэтому никаких социальных изменений она не внесла. Царизм свергли — это точно, но весь уклад жизни остался старый. Ни один наболевший вопрос не разрешен: по-прежнему солдаты гниют в окопах, а рабочие выматывают из себя жилы на заводах по десяти и двенадцати часов в сутки. По-прежнему у крестьян безземелье, а помещики, монастыри и церковники владеют миллионами десятин лучших земель. Где же тут справедливость? Где же тут социальные преобразования? Нет, если мы не хотим совсем угробить революцию, надо всю власть передать трудящимся. И не формально, а на деле, как писал об этом Ульянов-Ленин. Тогда Советы выполнят свой долг и проведут в жизнь социальные мероприятия, нужные народу.
— Вы полагаете, народ состоит только из солдат, крестьян и рабочих? — крикнул известный всему городу пайщик «Орлеса», гласный городской думы Кондрашов, отец красавицы Софьи.
И цирк забушевал:
— Большевики всех остальных выселят на Камчатку или Сахалин!
— Власть Советам, а Советами будет управлять Ленин!
— Пороху не нюхали и требуют мира!
— Мы воевали, а дань с Германии — нашим союзникам!
— Кайзер послал Ленина разваливать русский фронт!
— Не зря стараются! Немецкие денежки получили!
— Три года воевали, а теперь вместо победы — шиш!
Эти выкрики шли уже из рядов, занятых рабочими.
Только солдатская масса безмолвствовала. Коростелев стоял, неестественно выпрямясь, сжав кулаки.
«Вот она — мелкобуржуазная стихия! А рабочие поддались на удочку и тоже глушат нас ревом. Вон Ефим Наследов опять бузотерит — смеется. Обидно, стыдно за своих железнодорожников…»
Прежде чем уступить место на трибуне Барановскому, которого встретили бурей оваций, Александр Коростелев подобрал листы своего ненужного теперь конспекта. «Возьму еще раз слово после Барановского и разнесу его, пусть они потом кричат сколько угодно».
Александр повернулся к столу президиума и увидел… Цвиллинга. Тот сидел рядом с Кичигиным, внимательно разглядывая аудиторию, словно выставленную напоказ. Бинты, что опутывали его голову и шею, сейчас выглядели совсем иначе, чем на больничной койке: он походил на выздоравливающего фронтовика. Только ярко рдели щеки и нос, но и это при такой внушительной повязке было естественно.
— Почему ты удрал из больницы? Разве можно?
— Раз удрал — значит, можно. Вам ведь тут нелегко.
— Нелегко — точно!
Барановский тем временем разошелся, доказывая, что наболевшие вопросы, на которые указывал Коростелев, разрешит только Всероссийское учредительное собрание, а не Совет, и что разговоры о мире теперь, когда победа так близка, — предательство.
— Нельзя допустить, чтобы слава ее и законная добыча (он так и сказал для ясности: не контрибуция, а «добыча»), за которые уже пролито море русской крови и перенесены столь ужасные лишения, достались лишь нашим союзникам. Они в этом случае семимильными шагами пойдут к прогрессу, а Россия, принесшая в жертву десятки миллионов людей, будет отброшена вспять и станет, как во времена татарского ига, отсталой, нищей страной. Ведь большевики хотят вместо сияния победы добиться для нашей родины мира на самых кабальных условиях.
Аплодировали Барановскому шумно и долго. Только когда на трибуне появился Цвиллинг, наступила тишина. Потом в первых рядах возникло какое-то оживленное шушуканье, завертелись дамы, улыбаясь и прикрываясь веерами, и не успел Цвиллинг произнести слова, как некто в сером фланелевом костюме громко и нагло спросил:
— Правда ли, что вы, евреи, едите христианских мальчиков?
Цирк замер. Лицо Цвиллинга побледнело. Чего только не плели против него провокаторы: и продажная он душа, и судился за кражи и грабежи, и кто-то по его приказу украл мальчика. Но мысли об этом проскочили в голове Цвиллинга мгновенно — медлить с ответом было нельзя, и он сказал серьезно:
— Да. Безусловно, правда. Я за каждым завтраком съедаю по мальчику.
Напряженная тишина взорвалась хохотом, будто очищающий ураган пронесся под грандиозным куполом.
— Как видите, клевета — первое оружие наших противников, — сказал Цвиллинг, когда все утихомирились. — Говорят, что мы государственные изменники, бандиты, а если большевик — еврей, то обязательно людоед, хотя моим единоверцам — евреям-меньшевикам и евреям-эсерам обвинения в такой кровожадности никто не предъявляет. Почему? Да потому, что они сами и придумали эти обвинения.
Отчего же здесь опять звучат речи против большевиков? — просто и даже весело спросил он, словно не замечая протестующих возгласов Барановского и Семенова-Булкина. — В чем заключается наша попытка «навязать народу власть маленькой партийной группы Ленина»? Неужели у вас так коротка память, граждане, что вы уже забыли, как четырнадцатого февраля Петроградский комитет большевиков выпустил листовку с призывом «Настало время открытой борьбы!» и после того забастовал крупнейший в стране Путиловский завод? Разве вы забыли, что двадцать четвертого февраля в Питере под лозунгами большевиков бастовало уже больше двухсот тысяч человек? Двадцать пятого февраля эта забастовка перешла во всеобщую политическую стачку под теми же лозунгами: «Долой войну!», «Долой царя!», «Хлеба!». А чтобы не было расстрела демонстрации, большевистские агитаторы шли в казармы и проводили митинги, а потом солдаты братались с рабочими. Разве вы забыли, товарищи рабочие, как в Международный женский день работницы Петрограда вышли на демонстрацию с требованием вернуть их сыновей и мужей с фронта?
Отчего же теперь наши дорогие друзья… — Цвиллинг кивнул на Барановского и Семенова-Булкина, — отчего они теперь, присвоив себе победу Февральской революции, изображают большевиков такими страшилищами?
Александр Коростелев был наслышан о выступлениях Цвиллинга, но только теперь оценил его. Это была не та вольность, с которой выступали избалованные вниманием Барановский и Семенов-Булкин, уверенные в своем превосходстве над простым народом. Нет, Цвиллинг говорил как человек, чувствовавший себя сыном народа. И аудитория, чутко уловив эту разницу, слушала его всей затаившейся громадой с жадным вниманием. Слушали с любопытством даже дамы и господа, изучающе внимали вожди соглашателей и их единомышленники.
«Хорошо получается! — радовался Александр, наблюдая, как сокрушал — уже под смех и аплодисменты слушателей — тяжелобольной, хрупкий с виду Самуил Цвиллинг хитроумные построения Барановского и Семенова-Булкина о „необходимости войны“, о якобы совершившихся в стране „сдвигах“. Все — одно внимание, а ведь говорит он… — Александр мельком взглянул на часы и поразился: — Говорит он уже полтора часа, и никто не замечает, что прошло столько времени. Даже враги молчат…»
— Ну, молодец! — с восторгом сказал Александр Цвиллингу, когда тот, совсем измотанный, с проступившей испариной над густыми, сросшимися бровями, но так и светясь воодушевлением, отошел от трибуны, провожаемый почти всеобщей бурной овацией.
— Смотрите, даже враги аплодируют! — говорил Кичигин. — А дамы… Ей-богу, они начнут сейчас бросать на арену свои шляпы, потому что букеты отдали уже Барановскому и Семенову-Булкину.
— Обойдемся без букетов, а из всех шляп я предпочел бы сейчас старушечий капор, чтобы надеть его поверх этой дурацкой повязки. Неохота возвращаться в больницу, но поваляться еще придется.
Несмотря на то, что Барановский и Семенов-Булкин поспешили уйти, масса народу в амфитеатре — особенно в самых верхних рядах — продолжала сидеть.
Солдаты, рабочие, городские обыватели, смеясь и переговариваясь, наблюдали за группой большевиков, замедливших у стола президиума.
— Смотри ты, даже не хотят расходиться! — сказал Георгий Коростелев, тоже обрадованный исходом дела. — А сначала недоумевали: кто, мол, такой явился — забинтованный?
«Казак по крови, казак по службе, казак по духу, — захлебываясь от восторга, писали оренбургские правые газеты. — Несмотря на угрозы, он не уронил казачьего достоинства, и войско оренбургское, видя деятельность своего казака Александра Ильича Дутова, крепко задумалось и вызвало его к себе на войсковой круг».
— Вот этого мы и ожидали, прочитав его письмо Керенскому по поводу корниловского мятежа, — сказал Александр Коростелев Цвиллингу на первом заседании редколлегии газеты «Пролетарий». — Теперь борьба у нас пойдет в открытую.
Цвиллинг, как только вырвался из больницы, сразу «въелся» во все местные дела. Жена его, Софья Львовна, и маленький сынишка, Лелька, еще находились в Челябинске, а он с легкостью веселого, задорного человека уже прижился в городе.
— Когда столкнутся казаки и рабочий класс, настоящий взрыв получится. Тут вражда исконная, — сказал он задумчиво. — То, что пишут в газетах, будто Дутова вызывает сюда казачий круг, — полуправда. Вчерашнее сообщение в новостях, что Керенский назначил его уполномоченным по продовольственным делам в Оренбурге, — настоящее вранье.
— Вот и мы здесь толковали… Выходит, стакнулся Керенский с казачьими атаманами и сообща решили подготовить еще один военный плацдарм. — Александр Коростелев с чувством хозяина, заполучившего ценного работника, посмотрел на Цвиллинга. — Хорошо, что тебя отпустили к нам. Петр Алексеевич задержался, а испытание нашей партийной организации предстоит труднейшее. Как ты думаешь, куда теперь потянут эсеры и меньшевики?
— Беря пример со столичных организаций, конечно, в сторону реакции. Значит, к Дутову.
— Да уж скорее бы они разоблачили себя до конца. Ведь столько времени морочили всех. Смычку с монархистами-казаками рабочие им не простят! — И Александр Коростелев зло усмехнулся при мысли об окончательном падении своих противников.
Цвиллинг, уже имея опыт редакционной работы, сразу вошел в редколлегию новорожденной газеты. Теперь, когда не осталось и следа от болезни, он казался Александру красивым со своими почти сросшимися, густыми бровями, орлиным носом и острыми серыми глазами. Нравился и широкий лоб его с намеченными залысинами под пышными волосами.
— Тебе двадцать шесть? Намного моложе меня.
— Зато здоровьем не так богат, по тюрьмам и ссылкам с четырнадцати лет.
— Стаж порядочный. Мы с Георгием сидели в Самаре, а ссылку по очереди отбывали в Усть-Сысольске. А потом не удавалось создать против нас серьезное дело: сестры оберегали. Сначала старшая — Анна, потом младшая, совсем еще девочка, Лиза. Придешь домой, обыщут не хуже жандармов и все попрячут. Один раз принес я домой список членов организации (подписку собирали на газету. Сунул за божницу сверток — и спать: после работы-то мертвецки усталые), а они тут как тут. Стучат. Мать растерялась, не успела меня разбудить и отперла. Ввалились. Начался обыск. Стою. Ноги свинцом налились — никогда такого страха не испытывал. Полезли за божницу… Ну, думаю, все! А там нет ничего. Чуть не перекрестился, честное слово. Оказывается, Лиза вспомнила, что я возле божницы чего-то крутился, и, пока мать открывала им дверь, вскочила и спрятала эти бумаги в свой валенок. Подошла она потом ко мне и спросила: «А что тебе за них было бы?» Пришлось бы самому пустить себе пулю в лоб либо в петлю головой. Ведь всю организацию мог выдать!
— Да, собственная совесть для честного человека — строжайший судья, — сказал Цвиллинг. — Только тупоголовые чиновники боятся больше всего общественного мнения да гнева начальников. Помню, познакомился я на этапе с революционером-латышом, и он с юморком и сарказмом рассказал, как у них в рижской тюрьме был однажды объявлен общий протест потому, что рисовую кашу стали давать без масла. Администрация, испугавшись забастовки, разрешила вопрос положительно.
— Действительно победа: каша-то с маслом! — сказал Александр, и оба расхохотались. — Какая-то видимость гуманности все-таки была. А как ты думаешь, если теперь… если дело дойдет до настоящих схваток…
— Если опять в тюрьмах сидеть придется? — уточнил Цвиллинг и задумался. — Н-не знаю, — сказал он с несвойственной ему нерешительностью. — Но товарищ Ленин скрылся после июльских событий не зря.
Цвиллинг и Коростелев, как и весь партийный актив, готовились к своей первой губернской конференции: ждали делегатов, проводили беседы на предприятиях.
— Центральный Комитет теперь внимательно следит за деятельностью нашей организации, — не без гордости сказал Александр, вскрыв конверт, принесенный Лешкой Хлуденевым.
Окинув взглядом лица товарищей, окруживших его, развернул бережно письмо.
— От Якова Михайловича Свердлова. — Александр помедлил, уважительно разглядывая подпись: — «Ждем сообщений о результатах собрания седьмого сентября (а мы провели его десятого сентября, — это голос Кичигина), — полагаем, что теперь всем колебавшимся ясна необходимость разрыва с оборонцами и идущими с ними… Сообщите нам о своих планах».
— Наши планы, — перебил Цвиллинг, — разогнать воронье, каркающее над линией фронта, и повернуть политику лицом к народу.
Заседание чрезвычайного казачьего войскового круга было назначено в большом зале епархиального училища на Форштадтской площади.
Съехалось сто одиннадцать делегатов, «справных» казаков, известных своим богатством, храбростью, степенным образом жизни. Отбирали станичники «достойнейших» потому, что на войсковом круге — с участием войскового и наказного атаманов — решались главные вопросы казачьей жизни. Был здесь и делегат станицы Изобильной — Григорий Шеломинцев…
Полевые работы в основном закончились. Пшеничка убрана. Рожь казаки не сеяли, озимыми не увлекались. Теперь работники и сыновья поднимали зябь, а главы семей могли пожить в городе, верша почетные и ответственные дела, доверенные им «обществом».
Поначалу, до появления Дутова, в зале стоял сплошной гомон — обменивались мнениями.
— Силен сам-то?
— Гож председатель.
— Да ведь совет-то казачий теперь не действует.
— Ништо! Александр Ильич все одно при своем чине останется. И нам такому вручить атаманску булаву дельно было бы.
— Верна-а! Пускай служил бы одному оренбургскому войску. Да и общего казачьего интересу не забывал бы.
— А каков он из себя-то? Как выглядыват?
— Выглядыват важно. Осанистый. Только чуток росту прибавить бы. Да вот еще личность ничем не убрана: ни бороды то есть, ни усов настоящих.
— Бреется, стало быть…
— Вот его папаша был генерал-майор… Эполеты имел, как у самого государя, золотые, круглые, с кистями. Через всю грудь аксельбант. Борода на две волны расчесана, и опять же усы — все под одно. Как глянет, аж подбросит тебя.
Конечно, членам круга хотелось, чтобы известный теперь повсюду оренбургский казачий полковник Дутов выглядел посолиднее.
— Зато голос на всю Расею, — утешил кто-то.
— Голосом он тоже не вышел. Ежели на параде, так не услышишь. Вот был у нас… — И опять приводился в пример какой-то громовержец.
Григорий Шеломинцев, в парадном казачьем мундире, сидел смирно — мотал разговоры на ус.
«Хорошо бы Дутова атаманом войска! Перегодили бы чуток, покуда уймутся все эти крикуны: меньшевики да большевики (на кой пес они нам!), а после, глядишь, и царя нового выбрали бы. Такого, чтобы все забрал в ежовы рукавицы и баловства боле не допускал».
Что Дутов невелик ростом, Шеломинцева не смущало.
«Разве в том суть? Ишь распелись: не взял, дескать, ни волосом, ни голосом. Под венец идти и то краса не требуется. — Вспомнил, как выглядели на свадьбе Нестор и Фрося, но отмахнулся, настроенный на деловой лад. — Тут особа статья, из ряду выходяща».
Когда в дверях появился Дутов в сопровождении войскового начальства, бородачи-делегаты повскакали с мест, как школьники, и дружно гаркнули приветствие, ловя глазами каждое движение полковника. Поздоровавшись с ними, он, сразу окруженный тесной толпой станичников, порасспросил о житье-бытье, пошутил в меру, поулыбался. Но, узнав о столкновениях стариков с фронтовиками, о настроении молодых казаков «держаться нейтралитету», а то и о случаях прямого перехода в «ленинский лагерь», помрачнел, сердито поширкал большим пальцем под нагрудным ремнем портупеи. На сжатом кулаке побелели от напряжения суставы.
— Куда только смотрело бывшее жандармское управление? — сказал он с откровенной досадой. — Боялись народников, террора одиночек, а большевиков, самых злостных изменников родины, расплодили по всей стране.
— И меньшевиков да эсеров, — напомнили бородачи, с почтением глядя на дорогого гостя — своего, коренного казака Оренбургской станицы.
— Эти неопасны. Когда я ознакомился сразу по приезде с делами в войсковом управлении и в Оренбургском крае вообще, то увидел, что социал-демократы меньшевики и эсеры полезны для нас, поскольку, как и в центральных городах, они в раздоре с большевиками. Их поощрять следует.
Когда он взошел на кафедру для доклада, в зале стихло, и сразу отчетливо стало слышно, как, громко колотясь о стекло, жужжала большая оса, порываясь улететь в нежно-голубое сентябрьское небо, замутненное снизу городской пылью. Невольно все головы повернулись на этот звук. Посмотрел туда и Дутов, сказал неожиданно кротко:
— Выпустите ее!
Несколько казаков разом бросились к окну, но так как рама не открывалась, то один из них придавил «надоедного насекомого» широким пальцем, заскорузлым от грубой сельской работы.
«Оса ему помешала! — отметил про себя Григорий Шеломинцев. — Знать, аккуратист. Однако не сказал „прихлопните“, а „выпустите“. Это как понимать? Есть ли в нем само-то главное для атамана — строгость настояща? А то сегодня — осу на волю, завтра тем же большевикам поблажку даст. Покуда настроен против них. Зачем же других-то крикунов поощрять? Всех их к ногтю, чтобы духу не было».
Дутов спокойно, ожидая, возвышался над делегатами круга, коренастый, плотный, крупноголовый, внимательно оглядывал всех, заложив за ремень портупеи большой палец сжатой в кулак руки. Он искал поддержки матерого казачества и надеялся получить ее. Перед ним была кровно своя стихия…
События последних дней настроили его на приподнятый лад. Разговор с Керенским перед отъездом в Оренбург о будущем России еще раз показал Дутову слабость этого союзника и необходимость самому брать в руки борьбу против большевиков. Пока он пристально следил за ними: чем держалась и отчего стремительно усиливалась эта, вначале малочисленная группа людей? Их садили в тюрьмы, расстреливали открыто и за углом, но число их становилось все больше. Пугало то, что активное, жертвенное участие в деле, которое называлось пролетарским, принимали интеллигенты, казалось бы, далекие от нужд рабочих. Поэтому Дутов высоко оценивал роль меньшевиков и эсеров, активно боровшихся против ленинцев.
Больше всего его тревожила сейчас растущая разладица между зажиточным и бедным казачеством, которую он объяснял себе «разболтанностью» фронтовиков. Судя по донесениям из станиц, они, возвращаясь домой, переворачивали все понятия, установившиеся веками, поэтому фронтовиков надо было обуздать во что бы то ни стало.
Перед казачьим кругом в Оренбурге Дутов предстал в полной боевой готовности, с продуманным планом действий. И все в нем, предельно собранном, пришлось по душе делегатам: солидность, уверенность, большелобое, щекастое, тяжелого склада лицо с бабочкой темных усов над крупным ртом с плотно сжатыми, твердыми губами.
«И возраст подходящий — тридцать восемь годов — самый расцвет. И не такой уж приземистый. Прямо сказать, видный мужчина, — удовлетворенно отметил Григорий Шеломинцев, вместе со всеми хлопая в ладоши, сколько хватало сил. — А что голос не громовой, так это еще лучше: не будет нас, казаков, зря оглушать».
Дутов поприветствовал собравшихся от имени двенадцати казачьих войск, потом рассказал, как члены совета оказались в Петрограде заложниками казачества, как Керенский, вызвав его к себе, чуть не под угрозой тюрьмы требовал подписать бумагу, в которой Корнилов и Каледин назывались изменниками.
— Я ответил: можете послать меня на виселицу, но такой бумаги я не подпишу!..
Переждав бурю аплодисментов, Дутов доложил о положении на Дону в войске Каледина, об извинении министра за оскорбление, нанесенное казачеству.
— Нас спрашивают о наших отношениях с демократами. Нет, мы не с демократией, не с аристократией, не с той или иной партией. Мы, казаки, сами — единая партия. И мы с теми, кто любит родину. На московском совещании послы союзных стран заявили: союзники не бросят Россию до тех пор, пока казаки не бросят идею спасения родины. Пора, станичники! Пора спасать родину, как спасали ее казаки триста лет назад!
Под громкие рукоплескания Дутова избрали почетным председателем круга. Когда он занимал место в президиуме, Григорий Шеломинцев не стерпел — обернулся к соседям:
— По всему видно, быть ему у нас атаманом войска. Крепко рубанул: не с партиями разными нам связываться надо, а действовать, как триста лет назад, когда Михаила Романова в смутно время сажали на царство. С той поры и повелись прочно казачьи курени на Яике. За верну службу пожаловал нам Михаил Романов эту реку от Уральских гор до Каспия в вечно пользованье. Хотя еще ране селились здесь казаки с Дону, но права получили только из царских рук. Вот и смекайте, с какой мы партией!
— Здорово расписали Дутова в нашем «Казачьем вестнике», жалко, что нельзя поставить его царем вместо Николая. — Нестор, озоруя, заслонил газетой задумчиво-серьезно слушавшую Фросю и крепко поцеловал.
— Как у тебя губы не заболят! — добродушно сказала Аглаида. Она сидела рядом с ним на лавочке возле летней кухни и быстро перебирала вязальными спицами. — Ты ее совсем замучил.
— А что? Хорошо! — Харитина опустила на колени свое вязанье. — Когда я выйду замуж, тоже буду много целоваться.
— Отдадим тебя за соседа Прохора: не беда, что колченогий, зато губастый — нацелуешься всласть, — поддразнила Аглаида, знавшая о неравнодушии золовки к младшему брату Ведякиных — Николаю.
— Не надо мне страшного, сосватайте с молоденьким да хорошеньким.
— Высматривай жениха скорей, пока нас из станиц не угнали, — Нестор еще крепче обнял Фросю. — Большевики с меньшевиками бесперечь грызутся — делят невесть что. Керенский и с рабочими и с генералами не ладит. Одно казачество дружней всех стоит себе в сторонке. Но ежели наши бородачи поставят Дутова атаманом, он непременно погонит нас на фронт. Старикам победу над немцами хоть у черта из зубов вырвать! А Мишаня толкует: дохнут солдаты и казаки в окопах от голода-холода. И, самое главное, победу добывать нечем: на десять человек одна винтовка. Ни патронов, ни снарядов. Японцев шапками собирались закидать в девятьсот четвертом году. Маленькая страна, и то не закидали, сами еле живы остались, а тут вовсе опрофанились.
— Не пущу я тебя воевать! — шепнула Фрося, теснее прижимаясь к его плечу.
— Я сам сроду бы отсюда не уезжал! Благодать-то у нас какая, а главное, с тобой расстаться нет сил.
— А если вместе? Я бы сестрой милосердия…
— Еще того не хватало! — возмутилась Аглаида. — Немцы тебя сразу в окопы утащат. Мишаня мне прямо со слезьми рассказывал про женский этот самый…
— Батальон, — напомнила Харитина, присмирев.
— Да, смертный батальон. Будто сидели на одной линии с ними бабы с ружьями. И вот немцы прознали да повадились кажду ночь на ихни окопы нападать. Бабенки тоже сообразили: только мелькнет в чернота фонарик, они сейчас на брус какой-то там и ждут гостей. Те по канавам ползут, фонариками посвечивают, а бабы их сверху стреляют. Нащелкают за ночь полно. Днем — жара, вонь от мертвяков, ан сиди или лежи на них до потемок. Но немцы все равно с пустыми руками не уходили. А после разденут этих фронтовичек донага, выбросят и кричат: гляди, рус, какой твой солдат! Была бы я царь — сроду бы таку погану войну не затеяла!
— Мне сдается, раньше люди лучше жили. — Голос Харитины задрожал, и она вдруг заплакала. — Разве было столько убийства?
В это время, широко распахнув калитку, впопыхах вбежал Николай Ведякин:
— Что вы тут пристыли на лавочке. Айда к Баклуше — там по-над берегом гулянье!
Аглаида сердито:
— Ох, инда сердце захватило: под такой разговор ворвался. Чай, на гулянье звать — не на пожар!
— А у них, может быть, и пожар, — вступился Нестор, взглянув на просиявшую сквозь слезы, неузнаваемо преображенную Харитину. — Идите потанцуйте. Отчего не погулять неженатым, а нам и дома хорошо. Ты ведь сестренку отпросить с собой хочешь?
— Ну ясно, не меня он сманивать прибежал, не вас, медовых нелюдимов. Иди, Харитинка, возьми мой праздничный полушалок, что Мишаня привез. Очень тебе этот цвет к лицу пристает. Выдадим тебя замуж — положу его на «сыр».
Харитина сверкнула радостно задорной улыбкой — и на крыльцо, вильнув подолом юбки.
Николай, прицеливаясь ей вслед узкими хищными глазами, весело смеялся.
«Как будто пошло у них на лад», — подумал Нестор.
— Дорофея как? Не привечат Семен Тихоныча? — спросила Аглаида. — Мне таки не любо его сватанье. Девка — королевна, и на работу — поискать, а он хоть стар, но, однако, ядрен, переживет ишо и молодушку, перепилит молодой век. Больно уж скареден да привередлив.
— Дорофея ради богатства жениха искать не станет. Разве только последних холостых казаков на фронт ушлют… — оказал Николай.
— Демид тоже о мобилизации поговаривает? — с живостью спросил Нестор.
— Все одну жвачку жуют. Понятно. Куда тянет на станичном кругу Семен Тихоныч? Туда же, куда ваш батя на войсковом: тверду власть требуют. В перву очередь боевитого войскового атамана, благо искать нечего — сам как с неба свалился.
Николай нетерпеливо шагнул к крыльцу, загоревшимся взглядом окинул летевшую из сеней разнаряженную, в легком пальтушке Харитину. И побежали оба, озорные, веселые, за ворота и направо к Баклуше, на звук удалявшейся гармони.
— Где же они там плясать будут? — прикинула раздумчиво Аглаида. — Весь берег скотом вытолчен да гусями-утками ушлепан, учиркан. Видно, пойдут по перебоине на ту сторону, где прежде киргизцы казачек умыкали. Нет, все равно и раньше неспокойно жил народ. Видно, никогда того не будет, чтобы люди за себя не боялись, не дрожали бы перед мором, пожаром да ворогом-лиходеем. — Она вздохнула и неторопливо встала: в доме заплакал проснувшийся ребенок. — Кормить пора, ишь распелся казак. Вот ишо меду наварим — и айда зимовать на хутор. Только бы не стали всполох бить — последних казаков на войну скликать.
— Пойдем поглядим на Баклушу, как там заря играет, — предложила Нестору Фрося. — У меня от этих разговоров будто холодная змея легла на сердце.
— Погоди печалиться. Сегодня нам хорошо, а что загадывать на завтра, когда время такое неустойчивое?
Но, шагая по двору, к калитке, Нестор негромко запел в лад Фросиному да и своему настроению:
Заглянув в глаза Фросе, встряхнул ее легонько:
— Держись, казачка! Вся наша жизнь — одни встречи да провожания.
Сентябрь одел деревья в пышные золотые уборы, воздух был свеж, первозданно чист и при вдохе ощущался как холодная ключевая вода. Солнце окатывалось за Баклушу, охватив полнеба винно-прозрачной краснотой, на которой резко выделялись бледно-серые верхушки старых тополей в пойме, вздымавшихся над возвышенностью, отлого уходившей в дикие степи. Водное зеркало Баклуши, окаймленное рыжей опушью камышей и залитое вдали кровавым отсветом, призывно голубело за черным краем ближнего берега, усыпанного стаями гусей. Звонко пела на той стороне гармонь, стройно подпевали ей молодые голоса.
— Я никогда не был таким счастливым! — тихо сказал Нестор.
— А помнишь, когда мы приехали сюда?.. Птицы на озере кричали, кругом прибрано, чисто, а у меня все внутри дрожало. Ты мне, будто подарок дорогой, достался, любуюсь, но боюсь потерять. Ночью проснусь от страха, потрогаю — лежишь рядом, дышишь. Я подобьюсь тихонько тебе под бочок и думаю: господи, оставь его мне, не отнимай. Ведь столько людей на войне. И думки об отце и братьях одолевают. Если опять на фронт начнут посылать, наши нахаловцы будут не согласны. Не помирятся они с вашим атаманом. — Фрося пытливо посмотрела в глаза Нестору. — А мы с тобой разве согласны, чтобы кто-то за нас решал так плохо?
— Давай не будем об этом, — попросил он, поправляя кисти полушалка над бористым рукавом ее жакетки, забрал вязанье из маленьких рук (училась женскому милому мастерству у Аглаиды), воткнул спицы в клубок и опустил все в карман своего пиджака. — Не надо портить себе, может быть, последние денечки. Садись поближе. У тебя лицо ярче зорьки светится.
Губернская конференция открылась 26 сентября. Приехали на нее делегаты от партийных организаций Челябинска, Таналыка, Баймака, Белорецка. Для братьев Коростелевых и Цвиллинга настали дни, с утра до поздней ночи заполненные заботами о приехавших товарищах, волнениями, связанными с ходом заседаний, со своими выступлениями на трибуне.
«Шутка сказать — за лето наша организация выросла в семь-восемь раз. Теперь нам надо еще быстрее укреплять свои ряды, принимая в партию лучших людей, — думал Александр Коростелев, бессонный полуночник, подперев ладонью впалую от худобы щеку. — Шестой съезд партии, выдвинув нашим очередным лозунгом свержение диктатуры буржуазии, нацелил нас на вооруженное восстание. Пора. Иначе дутовы опередят нас и уничтожат наш актив. Крестьянам нужна земля, рабочим нужен хлеб, и всем нужен мир. За эти реальные, насущные нужды мы и выскажемся на конференции. Вся тактика теперь будет иной: в ответ на репрессии контрреволюционного Временного правительства, подчинившегося империалистам, призовем пролетариат и беднейшее крестьянство вооружаться для свершения пролетарской революции. Пришло время установить в России диктатуру пролетариата».
Александр Коростелев разгибал усталые плечи, прислушивался к ночной тишине и снова сутулился над столом, шурша страницами деловых бумаг, писем и заявлений: готовиться к докладу на конференции не легко, но и на все запросы населения в партийный комитет, на личные нужды членов партии и их затруднения в работе тоже требовалось уделять время и внимание, а в сутках как было так и осталось только 24 часа!
Первого октября 1917 года оренбургские казаки выбирали войскового атамана. Заседание чрезвычайного круга в большом зале епархиального училища проходило очень торжественно. Высокопарно звучали речи с призывами спасать мать-отчизну. На все лады хвалили, превозносили храброго и достойного казака Оренбургской станицы Александра Дутова. Зал был убран коврами, цветами, и самые почетные горожане присутствовали на собрании.
А какие значительные лица были у делегатов круга, когда они несли свои «записки» и опускали их в урну! Чего стоил горделиво-самодовольный вид Григория Шеломинцева, выполнившего «долг» патриота. Оглаживая широкую бороду, он заранее торжествовал, уверенный в исходе голосования, и ожидания его оправдались: Дутова единогласно выбрали войсковым атаманом.
На выборах он не присутствовал, и за ним послали нарочных.
Пока почетный эскорт мчался к дому, где богоданный атаман ожидал как на иголках решения казачьего круга, пока он скакал к Форштадту по улицам города, где не придется ему, подобно его предшественникам, ломать шапку перед вышестоящим губернатором, казачьи патриотические чувства в зале заседания накалились до предела. Корреспонденты газет, представители городской думы и разных партий (не пришли только большевики) тоже с нетерпением ожидали приезда Дутова, встреченного гулом «ура» и громом рукоплесканий.
Твердым шагом он поднялся на кафедру, окинул собравшихся признательным взглядом: вот единственно надежная опора, с ними он пойдет против врагов и победит. У него даже в горле запершило от волнения.
Однако атаман солидно прокашлялся и, багровея, произнес негромко, но внятно:
— Дорогие станичники, я глубоко тронут честью, оказанной мне. Говорить ничего не буду, ибо перед кругом я уже высказался. Клянусь, положу все силы, здоровье, а если понадобится, и жизнь, чтобы защитить нашу казачью волю, не дать померкнуть казачьей славе.
Он умолк, как бы подавленный величием момента. Депутаты круга и гости встали.
— Бери власть крепко, батько атаман! Повелевай на общу пользу, чтобы искоренить разную смуту! — оглушительно хлопая, не слыша возгласов других депутатов, кричал Григорий Шеломинцев. Индо слезы навернулись у него от восторженной готовности служить атаману.
— А это кто такие? — спросил он знакомого форштадтца, увидев среди гостей, приносивших Дутову свои поздравления, представительного Семенова-Булкина, а за его плечом вдохновенное лицо Барановского.
— Да эти, как их… социальны демократы. Самые ихни первейши ораторы.
Медвежьи глазки Шеломинцева расширились:
— Мы их искоренить должны, а они к нам со всем почтением? Ишь, распинаются!
— Да это не большевики, а те, о которых Александр Ильич толковал при первой встрече. Дескать, привечать их надо. Дескать, полезны нам: вносят раздор промежду смутьянов. У них все наоборот. Потому и зовутся меньшевиками. Тот, что посытей выглядыват, — Семенов-Булкин, главный ихний, а за ним эсер Барановский, говорят, на всю Расею знатный человек, потому как при царе-то по тюрьмам таскался.
— Скажи ты, на божью милость! Что за народ пошел, паралик их расшиби! Что дурно, то им и потешно! Каторжника в знатны люди произвели!.. Да ведь я читал, вспомнил, шибко об этом шумели: они вместе с большевиками путались!
— Кажись, распутались: горшок об горшок, да врозь, и канцелярию в ино место перенесли. Которы с Лениным свою линию гнут, у нас, казаков, своя политика, а энтим, посередке, промеж стульев сидеть неловко — зад отстает. Вот они к нам.
Шеломинцев недоверчиво покачал головой:
— Ишо разов двадцать повернутся туда-сюда! — И он тоже стал проталкиваться вперед — принести поздравления Дутову от станичников Изобильной.
Проходя мимо Барановского, есаул замешкался (как раз зачитывали телеграмму-приветствие донских казаков), повел носом, и широкие ноздри его затрепетали: от вождя эсеров, как от «душки-щеголя», пахло духами. Щеголей Григорий Шеломинцев, в офицерство зачисленный не по сословному признаку, не за военное образование, а за заслуги на фронтах, не то что не любил — терпеть не мог.
«Дешевые вы люди, одна колготня от вас», — подумал он. Однако, посмотрев на желанного атамана, который всем приветливо улыбался, успокоил себя: «Ладно, пес с ними! Может, как лазутчики пригодятся. Это тоже в нашем деле дорого стоит…»
…Назавтра состоялся обряд торжественного вручения булавы, или, как ее называли в старину, насеки, вновь избранному атаману.
День голубизной и прохладой был похож на апрельский, о чем, как о наступившей весне казачества, тотчас не преминул сказать местный поэт в сочиненных им бойких стишонках.
Под звуки музыки депутаты разместились полукругом перед знаменной избой. Вновь избранный войсковой атаман вместе с председателем круга и членами войскового правительства вошел в знаменную избу, и вскоре старые боевые знамена казачьего войска взметнулись, поплыли над толпой, вызвав восторженные крики «ура».
Процессия двигалась по улице среди толпившихся у домов и заборов обывателей к Форштадтскому войсковому собору. Гремел марш. Солнце сверкало на остриях копий и древков попарно скрещенных знамен, на Георгиевских крестах и медалях, горело в начищенных бляхах и нагрудных червонках конской сбруи. Позади конницы тяжело громыхали колеса походных артиллерийских лафетов.
— Ух ты, пушки-то! — Засмотревшись на орудия, Пашка Наследов налетел на Игната Хлуденева, стоявшего в цепи милицейских.
Бывший жандарм нарядился в новую форму, но на лице его то же самодовольно-кичливое выражение, с каким он раньше стоял на губернаторских парадах.
— Дивись, пащенок! — процедил он сквозь зубы. — Теперь мы вашу нахаловскую породу образумим.
Пашка в ответ скорчил рожу, схватил Гераську за руку и улизнул с ним на другую сторону улицы, проскочив под стволами пушек в брезентовых чехлах.
— А, чтоб вас язвило! — Игнат Хлуденев схватился было за свисток, но притих, заметив в толпе Вирку Сивожелезову, братишку Лешку, Митю и Харитона Наследовых.
Оказывается, все его юные неприятели пришли на торжественное чествование атамана Дутова.
Червонным золотом горел за излучиной Урала осенний лес. Соперничая с золотом листвы, блестели купола войскового собора в Форштадте, в широко распахнутые двери которого медленно втягивались хоругви, знамена и крестившиеся и кланявшиеся на ходу члены казачьего правительства, тесным роем облепившие своего атамана. Казаки мусульманской части круга, толпы зевак и воинские части, которым не нашлось места в соборе, остались на улице.
После молебна, отслуженного соборне при участии епископа Мефодия, который принял появление Дутова в Оренбурге, «как восхождение сияющей звезды на омраченном небе истории», и благословил его на подвиг, все вернулись на Форштадтскую площадь.
Снова перед знаменной избой выстроились шеренгой знаменосцы. Впереди войсковое знамя и два флага по обеим сторонам его: русский — справа, мусульманский — слева. Лицом к знаменам подковой встали депутаты круга, в середине — атаман Дутов и несколько стариков. Опять загремела музыка, скомандовали: «Слушай, на караул!», раздались орудийные выстрелы, и под их грохот председатель круга стал читать грамоту:
— «Войсковому старшине Александру Ильичу Дутову. Первый свободный войсковой круг избрал тебя нашим войсковым атаманом на трехлетие и приказывает тебе, народному избраннику, править войском совместно с избранным нами войсковым правительством на славу и процветание родного оренбургского казачества и свободной Руси, в знак чего вручает тебе булаву — символ атаманской власти».
Старый седобородый казак взял из рук начальника военной части булаву и подал атаману; Дутов с обнаженной головой благоговейно принял ее.
— Нашему войсковому атаману — ура! — трижды провозгласил председатель круга. И трижды гул людских голосов вспугивал голубей и галок с пожарной каланчи, вознесенной в светло-синее осеннее небо над приземистой «пожаркой», что широко распласталась рядом с юнкерскими казармами.
Потом ответное слово держал атаман.
— Кланяюсь войсковому кругу, — сказал он, напрягая голос, не доходивший даже до средних рядов. — Кланяюсь в лице его всему родному войску. Клянусь охранять нашу вольную волюшку, ни в чем не расходясь в действиях своих с войсковым правительством.
Опять грянуло «ура». Потом под звуки «Марсельезы» (небывалое новшество на таком торжестве!) Дутов и представители казачьего правительства обходили с приветствиями воинские части. А в толпе на площади шушукались:
— Что? Что он сказал?
И каждый на свой лад толковал слова атамана.
— Велел нам кланяться и еще пообещал: готовьтесь — скоро шкуру с вас спущу, — с самым серьезным видом объяснял Заварухин рабочим-железнодорожникам.
— Да, братцы, дожили! — сказал Ефим Наследов, совершенно расстроенный тем, что его кумир Барановский, как последний холуй, распинался теперь перед атаманом.
— Тебе-то не больно страшно: заступа в станице есть — дочка, — посмеялся Левашов, не рассчитав убийственной силы своей шутки.
Такая судорога прошла по лицу Наследова, по его горлу с острым кадыком (будто он орех каленый проглотил!), что Левашов смутился, ласково обнял старого друга за плечи.
— Не серчай. Однако тебе давно уже пора отмежеваться от этих предателей.
— Невероятно! Врага революции приветствуют под звуки «Марсельезы»! — горячился Цвиллинг, окруженный группой товарищей.
— Ломают комедию по старинке, а стремятся установить военную диктатуру Дутова, — сказал Александр Коростелев, явившийся на церемонию прямо с митинга в полку гарнизона.
— Решения съезда партии и нашей конференции помешают восторжествовать дутовщине, — возразил Георгий, — хотя подстегивают ее на отчаянную борьбу. Вот уже и атаман с булавой появился! Но эта буржуазная марионетка революционных событий не остановит…
— Чего же вам еще надо? — раздраженно огрызнулась Мария Стрельникова, готовая на любые крайности, вплоть до убийства Дутова. — Барановский и Семенов-Булкин сразу побежали бить челом перед ним.
— Ну, им пресмыкаться перед властями не впервой.
— Айда домой, товарищи! — предложил Федор Туранин. Ему тошно было смотреть на Дутова, который сел на подведенного коня — принимать парад перед поднесением хлеба-соли от жителей Форштадта.
— Хватит, насмотрелись на дурацкую канитель! — Левашов махнул рукой. — Пошли! А то еще попадем в газеты, напишут под снимком: приветствовали атамана, «ура» кричали. Пойди тогда доказывай!..
В помещении электротеатра «Палас» толчея: собирались депутаты Советов.
— Эсеры и меньшевики, объединившись с генеральско-кадетской бандой, торопят созыв Учредительного собрания. Период двоевластия кончился, и они стремятся к тому, чтобы создать какой-нибудь парламент, — говорил Александр Коростелев в ожидании предстоящего боя. — Теперь Советы, захваченные ими, не имеют никакой силы и полностью подчинились Временному правительству. Вот увидите: скоро и в Оренбурге Дутов будет присутствовать на заседаниях исполкома.
Цвиллинг, примостив портфель на коленях, размашистым почерком вносил поправки в конспект своей статьи, но разговоры товарищей отвлекали его от работы.
— Размежевание пошло по всему фронту, и противоречия нарастают с каждым днем. Дутов отправляет сейчас по домам солдат гарнизона, вызывает в Оренбург преданные ему казачьи части и по примеру социал-демократов, обвиняет нас в междоусобице и возникшей анархии!.. — Цвиллинг вскинул голову, оглядывая заполнявшийся зал, и добавил: — Все определилось: или дутовы — и в перспективе возрождение монархии, — или большевики во главе пролетарской революции.
— Понятно, отчего мещанство кидается в объятия «сильной личности», — иронически заметил Георгий Коростелев, побывавший накануне в городском театре. — Как в пьесе Арцыбашева «Война». Кругом жгучее горе, а у него на первом плане мужчина-самец и женщина-самка, которая не может устоять перед законом природы.
— А вы осуждаете этот закон? — спросила Мария Стрельникова, зябко кутая плечи пуховой шалью.
— Не могу осуждать потому, что он источник жизни. Но нельзя же его на первый план! Любовь — страсть, любовь — порыв, но человек не может подчиняться всецело одной физиологии. А сознание?..
— Да, безусловно!.. — Румянец на лице Марии стал багровым, даже шея и ключицы, робко выступавшие из-под белого воротничка, порозовели.
Однако это «безусловно» она признавала только для Георгия Коростелева, у которого при его больном сердце, изнурительной работе в горячем цехе и партийных нагрузках не хватало ни сил, ни времени устроить семейную жизнь, а для Александра ей хотелось иного.
Заседание открылось при численном перевесе эсеров и меньшевиков, и первый же вопрос — о посылке делегатов на Всероссийский съезд Советов — вызвал бесконечные пререкания.
Семенов-Булкин заявил, что при обсуждении наказа делегатам не следует касаться вопросов реорганизации власти. Семен Кичигин резко возразил, сказав, что надо не просто «коснуться» этого вопроса, а дать о нем в наказе специальный раздел. И все-таки предложение большевиков отвергли.
Александр Коростелев, взяв слово, так ухватился за края трибуны, словно собирался унести ее со сцены, но сказал сдержанно:
— Я вношу особое мнение и прошу отметить его в протоколе…
— Не будем заскакивать, пусть они всю свою подлость обнаружат, — тишком, под общий гомон говорил Александру Георгий Коростелев, когда поднялась баталия по второму вопросу, — о посылке делегатом на Парижскую конференцию меньшевика Скобелева.
«Для затравки» от большевиков выступил Левашов, заявив, что не к чему посылать в Париж делегата.
— Кто его там слушать станет, если он от революционной России?
Казаки, солдаты-эсеры и крестьянские депутаты-кулаки начали вносить свои проекты наказа Скобелеву. Опять поднялся гам. Председатель Барановский, кое-как наведя тишину в зале, уже хотел утвердить наказ, но Александр Коростелев снова стал испытывать прочность трибуны, предлагая прежде разрешить вопрос, поставленный Левашовым: следует ли посылать делегата на конференцию, которую созывают империалисты.
— Мы проголосуем ваше предложение в порядке поступления, — попробовал уклониться Барановский.
— Нет, мы настаиваем обсудить его в первую очередь! — крикнул Кичигин с места.
— Нечего слушать большевистских смутьянов! Они везде только раздор сеют! — перебил Кичигина депутат из деревни Грачевки.
— Матерый кулачина! Он у казаков по Сырту арендует сотни десятин земли. Зачем, спрашивается, пролез в Совет? — сказал Александр, наклонясь к Стрельниковой.
— Кто же будет за эсеров горло драть? — Мария понимала, что Александр Коростелев обратился к ней, как обратился бы к любому из товарищей. Но даже это выбивало ее сейчас из равновесия: уж лучше бы не заговаривал!.. Следя за новым его выходом к трибуне, она вдруг подумала с острым беспокойством: «Стукнут его когда-нибудь из-за угла».
— Считаю недопустимым такое отношение председателя к поставленному нами вопросу, — заявил Александр Коростелев. — В знак протеста предлагаю большевикам покинуть собрание.
Большевики стали демонстративно уходить, а вслед им понеслись возгласы:
— С богом!
— Скатертью дорога!
— Давно пора, только мешаете здесь!
Заварухин, озорничая, свистнул. Его поддержали Туранин, Левашов, грозно нахмуренный Кичигин и даже всегда сдержанный Георгий Коростелев. Не замедлили остальные, и получилось такое, будто конная сотня ворвалась в зал. В ответ поднялся шум еще сильнее: все повскакали с мест. Казачий депутат Зверяев по привычке сунулся с нагайкой, но его отбросили, еле на ногах устоял. Позеленевший Барановский, забыв заученные позы и жесты, так стучал стаканом, что разбил его, подержал в руке толстое донышко, с досадой бросил и начал стучать по столу графином.
— Потеха, да и только! — зло сказал Александр за дверью, прислушался и сделал знак своим — не расходиться. — Подождем Цвиллинга — его вызвали к телефону.
Довольные уходом большевиков, эсеры стали голосовать по пунктам наказ Скобелеву. В первом пункте говорилось: «Призываем бороться за мир. Давлением на свои правительства добиться прекращения братоубийственной войны». Второй пункт начисто отметал первый: «Употребить все усилия для защиты родины от германского империализма».
— Вот откалывают! Правая рука не ведает, что творит левая, — бормотал Александр Коростелев, наблюдая в приоткрытую дверь, с какой истовостью голосовали оставшиеся депутаты и как победоносно смотрел на них Барановский, довольный исходом дела.
Семенов-Булкин, пожевывая губастым ртом в предвкушении обильного словоизлияния, по-хозяйски располагался на трибуне: положил блокнот, часы, проверил в карманах носовые платки, пока не утвердился, широко растопырив локти.
Задохнувшийся от быстрой ходьбы Цвиллинг тоже заглянул в зал и засмеялся:
— Обратите внимание: Булкин стоит, как памятник себе: достиг революционных высот — поцеловал пятку атаману!.. — Затем Цвиллинг приник к уху Коростелева и шепотом сообщил: — Передано шифровкой сообщение из Петрограда: надо быстрее вооружаться… Значит, мы накануне вооруженного восстания.
— Наконец-то!
Пронизанный знобящим холодком, Александр сразу представил ответственность и серьезность задачи и готовность партийной организации к любым трудностям.
«Теперь лозунг „Вся власть Советам!“ снова войдет в силу. Но при полном разрыве их с буржуазией и с передачей власти большевикам», — подумал он, вслушиваясь в голоса противников.
— Считаем, что задачей съезда Советов является: организация сил революционной демократии для победы на выборах в Учредительное собрание и выработка мер, необходимых для борьбы за мир, с одной стороны, и обороны страны на фронте — с другой стороны, — говорил в зале Семенов-Булкин, явно наслаждаясь своим красноречием.
— Интересно, как они мыслят сочетать эти две стороны? — Цвиллинг обернулся к депутатам-большевикам, плотно обступившим вход в зал. — Пошли?..
Широко распахнув дверь, большевики ввалились дружной гурьбой, и Барановский, морщась от лютой досады, выслушал новый протест Александра Коростелева, заявившего, что большевистская фракция (сто человек), обсудив вопрос о посылке делегата на Парижскую конференцию, высказалась по этому вопросу отрицательно.
— Насчет принятого вами наказа Скобелеву возразить ничего нельзя: вторым пунктом вы сами совершенно зачеркнули первый, — подсыпал яду Цвиллинг.
— Я уже устал от ваших обструкций. Все собрание переутомилось… Поспорили, и хватит, пора и честь знать, — сказал Барановский, на самом деле устав от усилий казаться по-молодому бодрым и красивым.
— Вот я и говорю: вы переутомились и не заметили, как противоречиво звучат ваши постановления, — вежливо повторил Цвиллинг, отнюдь не вежливо глядя в упор на задрожавшие щечки председателя. — Но ведь мы здесь не в бирюльки играем, а должны выполнять волю избравшего нас народа, который не сделает нам скидки на усталость и прочие субъективные причины.
— Опять все спутали! — не выдержав, заорал депутат из Грачевки, ничего не поняв, кроме того, что в третьем часу ночи опять отодвинулась возможность блаженно расправить онемевшее тело и отправиться на отдых. — Будьте вы прокляты, антихристы! Чтоб вам провалиться!
Остальные депутаты тоже недовольно загудели.
Цвиллинг скользнул острым взглядом по широко раскрытому рту грачевца, по его жилетке, перечеркнутой над выпяченным животом золотой молнией часовой цепочки, и громко сказал:
— Если бы бог пастуха слушался, все бы коровы передохли!
Мгновенно наступило странное затишье, и вдруг хохот прокатился по рядам, и несколько минут все гоготали, наконец-то получив желанную разрядку после напряженного многочасового сидения.
— И у нас в Кардаиловской кажуть: коли б бох чередника слухав, уси корови б сдохли, — с удовольствием повторял, отирая слезу, выжатую смехом, важный с виду казак из левобережной уральской станицы.
— А теперь мы вам заявляем, что уходим от вас совсем, потому что позорить звание депутатов Совета больше не намерены! — объявил Александр Коростелев. — Дело идет к тому, что вы завтра Дутова к себе пригласите. Только доказывайте лучше свою любовь и преданность атаману по старинке — в городской думе. А Советы мы вам не уступим.
Каждую ночь теперь то у слесаря Константина Котова, то в землянке Ильи Заварухина собирались рабочие.
Жена Ильи — беленькая синеглазая Зина, с которой уже сошел летний загар, пуще всего заботилась о том, чтобы пятилетний сынишка Каська и трехлетняя Зойка не увидели хранившиеся в подполье разобранный пулемет, винтовки, наганы и охотничьи берданки — учебные пособия для красногвардейцев. Увидят — быть беде: не привяжешь болтливый детский язычок, а своим разумом еще не осилят ребятишки то, что могут погубить отца и дело, порученное ему партийным комитетом.
Вот и сегодня, когда стемнело, собрались у Ильи товарищи. Пришел и Харитон Наследов.
— У-у, какое кадило раздул богоданный атаман! Чуть не взбунтовались сегодня солдаты в казармах. Подтаскивает он отовсюду своих верных казачишек, а солдат, с которыми мы подружились, разоружает и гонит по домам. — Харитон встряхнул кепку, положил ее и ватник у порога на кучу одежды. На улице бушевала осенняя непогода, в рамы двух плотно завешенных изнутри окошек хлестал крупный дождь. — Погодка — вырви глаз, зато все стукачи сидят дома.
— Стукачей у атамана довольно, в любую погоду за нами следят. — Илья Заварухин накинул на дверь кованый крючок и вернулся к лампешке, светло горевшей на врытом в землю столе, вокруг которого тесно сидели железнодорожники.
Были тут и Лешка Хлуденев со старшим братом Кузьмой, и Федор Туранин — фронтовик-артиллерист, обучавший рабочих военному делу, пока втихомолку, теоретически: все приходилось объяснять по примитивным чертежам.
Народу набилось больше обычного, поэтому Зина поспешила пораньше уйти за положок, чтобы следить за ребятишками. Да и от тесноты забиралась она на койку.
Туранин толковал будущим артиллеристам об орудиях навесного и настильного огня, о прицелах, скоростях, траекториях полета снарядов, знакомил их с обязанностями орудийной прислуги. Впервые ему, не блиставшему грамотностью, пришлось заниматься преподаванием, и он обливался потом, вычерчивая на обрывках бумаги детали орудий. Карандаш в его грубых, узловатых пальцах выглядел соломинкой. Куда легче было махать молотом в жарком цехе, да и на фронте он нянчил тяжеленные снаряды с большей ловкостью. Хрупкий карандаш то и дело ломался.
У Ильи Заварухина, обучавшего другую группу обращаться с винтовкой и станковым пулеметом, дело шло куда веселее, потому что его ученики могли тут же ознакомиться с оружием. Недостатки обоих инструкторов и теснота возмещались жадным вниманием слушателей.
— Пушка, стало быть, предназначена для стрельбы по наземным, морским и воздушным целям при больших дальностях, — отвечал Харитон, уже зазубрив урок. — Поэтому у ней длинный ствол в отличие от гаубицы. Она бьет до семи верст (нам-то эдак, поди, не потребуется?) и может скорострельно выпаливать до десяти выстрелов в минуту… Это сколько же снарядов потребуется на одно орудие? Да у нас сроду столько не будет!
— Слушай, ты зря не трать время! — сердился Туранин. — Может, у нас и мортиры не будет, и гаубицы не будет. Но должон же ты, будущий артиллерист, отличать пушку от мортиры!
— От мортиры-то я ее отличу, раз та похожа на ступку: коротенькая да широкая, да без лафетного станка, а вот гаубицу… Ведь калибры-то тоже разные! Ежели гаубица мощная, а пушчонка так себе!.. Я раньше рассуждал: капиталисты — хичные гады, раз они всякие орудия для уничтожения людей придумали. А теперь все заполучить охота для своей Красной гвардии. Да побольше!
— Помолчи-ка ты, — посоветовал Митя, разбиравший по соседству винтовку. — Ты дядю Федора закружил. Чего ты сегодня треплешься?
— Вы себе занимайтесь, а я вам про машиниста Оглодкова расскажу, — предложил Лешка, ожидавший очереди к пулемету, водруженному на стол без станка и колес: они хранились отдельно в огородной яме у Хлуденевых. — Вы знаете, у него, Оглодкова-то, возле вокзала дом хороший и сад, и он вечор Кузьме заявил: не хочу, мол, вмешиваться в красные дела. Мне, мол, все одно, что городская дума, что Советы, что казачий круг. Был бы заработок. Это как вам нравится? А еще рабочий!
— Ну какой он рабочий? — с презрением сказал Кузьма. — Сам батраков нанимает. И в церковь ходит с супругой, ровно купец, в лакированных сапогах, при галстуке, на брюшке цепочка с брелоками.
— Все сегодня разболтались чего-то! Серьезней занимайтесь, — приструнил товарищей Константин Котов. — В красногвардейцы много народу записалось. Каждому надо поучиться военному делу.
Наступила тишина. Раздавалось только позвякивание, посапывание, негромкие объяснения и ответы.
И вдруг, точно луч света, возникло среди землянки беловолосое чудо — Каська в коротенькой рубашонке. Он вмиг пробрался к отцу, потерся заспанной рожицей о его щетинистый, колючий подбородок. Среди тишины звонко прозвучал хватающий за сердце детский голосишко:
— Чего-то сегодня не спите? Чего-то ладите?
— Самовар ремонтируем, сынок, — неловко соврал Илья Заварухин, забирая в грязные от смазки ладони нежное личико сына и стараясь отвернуть его от стола и от скамейки, где лежали две только что собранные винтовки.
Рабочие окружили постреленка тесным кругом, а Лешка Хлуденев прямо лег на стол, заслоняя собой пулемет.
— Спать тебе надо, — говорил Заварухин, унося мальчишку в угол, где за пологом сладко похрапывала Зина, умаявшаяся за день. — Вон мамка спит, и Зойка спит, и тебе, огольцу, дрема ворожит.
— Успел? Вылупился? — Зина вскочила, сконфуженно напустилась на сынишку. — Нате-ко! Умудрился — слез с койки! Айда на место!
Беленькая ручонка крепче обвилась вокруг смуглой шеи Заварухина.
— Не хочу на койку! Мне на улку надо. — Каська хитренько посматривал на отца, на застывших в неловком молчании взрослых людей: «Чего-то прячут, чего-то загораживают?» — Столько народу, и починить самовар не можете! Одна труба на столе лежит…
— Наладим, сынок! Иди на улку да спать ложись. А к утру самовар опять как новенький будет. — И Заварухин вздохнул всей грудью, когда жена с Каськой вышли в крытые сенцы. — Давайте скорей накинем на эти штуки ватники, а самовар вперед — на стол.
— Вот наделал малец переполоху, не лучше жандарма, — пробасил Федор Туранин, кладя самоварную трубу так, чтобы мальчишка, вернувшись, сразу ее увидел… — Не поздоровится нам, ежели атаман узнает про наши занятия! Только было почуяли волю и опять, как при царе, в подполье ушли.
Каську, за компанию и Зойку спровадили на время к бабке и деду в деревню. Заниматься у Заварухиных стало спокойнее. Но где брать оружие? Охотников записаться в подпольную Красную гвардию становилось больше и больше, а чем и как их вооружить? Хорошо, что многие фронтовики не успели сдать винтовки и приносили их Левашову — запрятать в надежные места.
— Не зря с собой прихватили! — говорили они, поняв еще на фронтовых митингах, что вопрос дальнейшей жизни будет решаться не на словах.
Через день после бурного заседания в кинотеатре «Палас» в Оренбурге открылся губернский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Большевики на этом съезде решили присутствовать, чтобы быть в курсе дел, и не прогадали. Сразу насторожило всех выступление представителя из степного города Троицка — третьего отдела Оренбургского казачьего войска. Оратор с простецким, грубо вырубленным лицом держался на трибуне с явным стеснением, но стремился выложить правду без прикрас. Он рассказывал о конфликтах революционной демократии с казачьим населением. Рассказывал и явно недоумевал, отчего так холодно относились деятели, сидевшие в президиуме и в первых рядах депутатских кресел, к тому, что волновало его. Отчего они сбивали его с толку пустыми вопросами?
Зато была устроена настоящая овация делегату Белорецкого заводского Совета, с виду рядовому рабочему. Особенно аплодировали ему, когда он сказал:
— У нас на заводе обсуждалось предложение… Чтобы, значит, объявить большевиков контрреволюционерами и нелегальной организацией. И чтобы, значит, выселить их из району. — Говорил он, тоже смущаясь многолюдством собрания, то и дело вытирал пот с лица скомканным в горсти платком.
Сообщение это вызвало самое веселое оживление среди буржуазно-эсеровских делегатов.
— Отчего же не объявили? — забыв осторожность, спросил Барановский.
— Так, значит, выступили другие… супротивники. Дескать, свобода и демократия.
— Жаль! — уронил кто-то с громким вздохом.
— Вот мы… тоже сожаление возымели. Надобно изъять большевистские идеи из рабочей массы.
— Да кто он такой? — нетерпеливо спрашивал Александр Коростелев, прослушавший фамилию делегата.
— Мастер с Белоредкого завода. — Семен Кичигин посмотрел записи в блокноте. — Состоит в партии эсеров. Их там — сила. На заводе у мастеров хорошее жалованье, дома — свое зажиточное хозяйство. А некоторые еще производственными секретами владеют и потому в чести у хозяев.
— Неприятно слушать, черт побери! — приглушенно ругнулся Александр. — Пятно на весь завод кладет…
Георгий Коростелев, ездивший весной по делам Совета в Челябинск, рассказывал во время короткого перерыва Джангильдину:
— Казачье там кондовое. Дома полутораэтажные, под железом, из таких бревен срублены — двести лет простоят. А меж домами — стены каменные: не только вору перелезть, горящая головня при любом ветре не перелетит. Чихать они хотели на демократию. Земля черноземная, сосняки мачтовые, озера от рыбы кипят. Да еще у казачьего войска золотоносные площади в Миасе и в Кочкаре под Челябинском. Руды всякие. В аренду сдают русским промышленникам и концессиям.
Алибий Джангильдин приехал из Тургая на съезд, но выступать не собирался, а слушал выступавших предателей так, будто в самом деле мотал на ус, и все его обветренно-загорелое лицо дышало открытой непримиримостью.
— О столкновениях в Троицке у нас в Тургае известно, а вот такие черносотенные настроения на заводах для меня новость. Это только на Белорецком? — удивлялся он.
— На Ижевском мастера орудуют еще крепче, и эсеров там полно.
— Рабочая аристократия, как на Западе. — Джангильдин едко усмехнулся и притих: пробравшись между рядами и вызвав недовольные нарекания делегатов, Лешка Хлуденев подал Александру Коростелеву газету.
Пока Александр развертывал ее, Лешка втиснулся меж кресел на полу. Когда он поглядел на Коростелева снизу добрыми глазами в больших белых ресницах, то на его еще мальчишеском лице выразилась такая отчаянная решимость, такая готовность к действию, что именно это выражение связного и привлекло внимание Алибия. Он протянул цепкую смуглую руку — первым перехватил от Александра газету. Выступления ораторов сразу отошли на задний план.
В «Свободном слове солдата» под заголовком «Чудовищные призывы» сообщалось о воззвании Ленина — «К делу». В истолковании московского «Социал-демократа» это выглядело так: «Под ружье, наши боевые товарищи!» — «Что это? — спрашивала оренбургская газета. — Призыв к восстанию? Надо думать — нет, и сами большевики будут отрицать это. Но именно так поймут Ленина и большевиков тысячи рабочих, хулиганы, погромщики — все темные силы. Мы призываем рабочих и солдат отнестись к этим призывам с осуждением. Не забывайте, что опыт, к которому зовет Ленин, обошелся французскому пролетариату в 1871 году в сто сорок тысяч жизней».
— Именно этот опыт нами будет учтен, — тихо сказал Кичигин, оторвавшись от газеты.
Очередной оратор на трибуне сообщил о наказе, принятом Временным правительством для делегата на Парижскую конференцию меньшевика М. И. Скобелева. «Непременное условие мира: вывод германских войск из областей России».
— Перед нами грозный призрак голода, — говорил оратор. — Всероссийское продовольственное совещание в Москве раскрыло ужасающую картину. Кроваво-огненный циклон, три года опустошавший все страны, надломил не только наше, но и мировое хозяйство. Недостаток питания в Германии так велик, что за последнее время там часто рождаются дети без волос, бровей и ногтей.
— Ребятишки, по-моему, всегда родятся без бровей и волос, — заметил Лешка.
— По-твоему? — Георгий ласково потрепал белые Лешкины вихры. — Сиди уж, не рыпайся!
— А будем? — Лешка кивнул на газету. — Будем?.. Рыпаться?..
— Всенепременно, — вспомнив словечко Ленина, заверил Александр. — Иначе нельзя. И пусть они не сваливают рабочих в одну кучу с хулиганами и погромщиками. Не пройдет у них этот номер.
По ночам уже схватывало землю крепкими заморозками, а днем раскисало. И такие серо-сизые тучи наплывали, громоздясь над городом, что горожан, выбитых из жизненной колеи, еще сильнее томило беспокойство. Вот одна почти черная громада, широко распластав крылья, снова надвинулась из степей, нависла, как хищная птица, над потемневшими улицами, заглядывая в каждый двор, в каждый дом.
— Не бывает в эту пору грозовых туч. Что это, господи? — говорили прохожие; верующие при этом крестились и прибавляли шагу, спеша укрыться от небесного знамения, предвещавшего недоброе.
Но азартные политики, чуждые суеверий, как всегда, собирались в скверах и на бойких перекрестках у афиш, обсуждали подробности новых событий. Разносчики, размахивая газетами, кричали о грандиозном скандале, устроенном большевиками на заседании Совета депутатов: «Такого скандала не было в Оренбурге с начала двадцатого века!»
— Мы тебя ждали всю ночь. Мама ужасно беспокоилась! — говорила брату Лиза Коростелева. Захватив сшитое для заказчицы платье, она забежала в партком и застала Александра, когда он крепко спал на большом канцелярском столе. — Ну, что ты лежишь так? Даже смотреть тяжело!
— Как покойник, да? — хрипловатым спросонья голосом спросил Александр, опустил ноги в аккуратных сапогах, потер ладонями лицо и, потянув за собой пальто (шапка была в изголовье), встал перед сестрой. — Понимаешь, заседание затянулось до четырех утра. Цвиллинга отпустили раньше закончить статью для газеты; он сегодня уезжает в Петроград. А я зашел сюда, чтобы передать ему еще кое-что по телефону, да так разморило в тепле — лег и сразу уснул. На столе потому, что тут, на Хлебной площади, крыс полно, заскакивают ночью и к нам.
— Что вы так долго обсуждали? — строго спросила Лиза. Она знала, что в купеческих подвалах всякой нечисти довольно, и слова о крысах пропустила мимо ушей. — Сегодня по всему городу расклеили приказы… Запрещаются митинги, собрания, а заодно орлянка. Это у них называется «групповые развлечения».
— Кем подписано? — быстро спросил Александр, расправляя на плечах надетое пальто и счищая с полы приставшие соринки.
— Губернским комиссаром…
— Эсер Архангельский!
— Да, потом городским головой Барановским, председателем комитета общественной безопасности, а еще — подумать только! — атаманом Дутовым!
— Что же тут думать? Приказ прямо от его имени, остальные — сбоку припека.
— Никто не принимал этого всерьез. Пока я бежала сюда, чего только не наслушалась. Сборища образуются везде. Больше всего говорят о том, что казаки захватили власть и установили диктатуру атамана Дутова. По приказу-то похоже на правду!..
— Я провожу тебя по пути в редакцию, а оттуда зайду к Цвиллингу. Нам обязательно надо увидеться перед его отъездом.
— Жалко, что уезжает. Да?
— Не то слово! После съезда Советов он должен вернуться обратно, но время такое — могут послать и в другой город.
— Виринею Сивожелезову вы тоже в «Пролетарий» взяли?
— Нет, она пока в «Заре» работает, там у нее квартирка. У нас-то еще ничего нет.
На слегка побеленных снегом грязных улицах, затемненных нависшими тучами, метались горожане, то и дело собирались в группы и вдруг разбегались в стороны.
— Слушаются все-таки приказа-то, боятся! — заметил Александр, наклонясь к розовому от холода уху сестры и взяв ее под руку.
Они втерлись в большую толпу у магазина, рассматривая витрину, прислушались к невнятному говору:
— Начинается!
— Что начинается? Где?
— По всем городам России, от Петрограда до нашего Челябинска идет резня.
— Но в газетах не пишут о резне, и в Оренбурге спокойно. Столкновений нет.
— Потому что у нас мало большевиков и много… э-э… много казаков.
Лиза и Александр переглянулись.
— Порядок будет наведен повсюду. Мы не позволим большевикам самовольничать.
— Правильно. Поэтому всю полноту власти Временное правительство уже передало генералам — Багратуни, Кишкину, Пальчинскому, Ротенбергу…
— Боже мой! Один русский, и тот Кишкин! Несчастная Россия! Недаром писали, что при награждении адмирала Макарова, когда государь спросил его: «Что я могу еще для вас сделать?», он будто бы ответил: «Сделайте меня немцем, ваше величество…»
— Ротенберг — патриот России и ненавидит немцев.
— Но ведь теперь столкнулись большевики и Временное правительство. Это уж пахнет гражданской войной.
— Мы тоже выступим на защиту отечества. У нас, слава богу, есть казаки и атаман Дутов.
Лиза, забывшись, крепко сжала пакет с платьем, которое так старательно отутюжила дома, и подтолкнула брата локтем: дескать, чувствуй, большевик! (Она и сама на днях вступила в партию).
— Вы слышали, в редакции «Рабочей зари» собрался комитет меньшевиков.
— Что толку?
— Прения шли по вопросу: бороться ли против большевистской власти слева или с возможностью контрреволюции справа — со стороны монархистов?
— Да это возмутительно — «слева или справа?». Любое посягательство на власть Временного правительства и созыв Учредительного собрания — контрреволюция!
— Возмущаются, а сами для революции — гроб с музыкой! — сказал Александр, когда толпа обывателей вдруг засуетилась и растаяла: ехал казачий патруль.
Но, несмотря на запрет собираться, оренбуржцы, еще не привыкшие к таким строгостям, скучивались на каждом шагу. Какой-то запыхавшийся господин взмахнул развернутой газетой у афишной тумбы, и его сразу окружили прохожие, охваченные беспокойством, страхом, любопытством:
— Что там еще?
— «Комитет постановил… — захлебываясь от спешки, начал читать господин, — препятствовать всеми мерами попыткам большевиков захватить местную власть… Для чего объявляет в городе военное положение…»
— Ох, Мария Петровна!.. Никак не разберусь я в политике! — посетовала полная дама в пенсне, с седыми буклями из-под меховой шапочки. — Везде комитеты и комитеты. На каждом шагу комитеты! И все партии называют себя революционными.
— Не говорите, Лидия Павловна!.. — посочувствовала другая — сухопарая брюнетка с золотыми зубами, скрестила узенькие лапки в замше, собрав на груди складки свободного от худобы беличьего манто, блеснул на тоненьком запястье между мехом и замшей дорогой браслет. — Как жили светло и благостно! Был царский двор, один-единственный император на всю страну, и каждый дворник знал, за кого ставить свечу в день тезоименитства. Теперь же ничего не разберешь. Да еще военное положение!.. Ведь это кошмар, если здесь, как на фронте, загремят пушки!
— Что вы, душечка Мария Петровна, военное положение — это иносказательно! Оренбург и фронт! Ха-ха… Неужели вы допускаете, что комитеты будут дискутировать с помощью пушек? — И обе, сразу умолкнув, проводили взглядами проходившую мимо Лизу.
— Такие они теперь большевички. Какое крамольное выражение! Не то курсистка, не то учительница. И хорошенькая ведь! Чего им надобно? Непонятно.
— Граждане! Прошу разойтись! — Представительный милиционер Игнат Хлуденев с ходу врезался боком в толпу. — Объявления вывешены: никаких собраний!
Другие милиционеры подоспевшего наряда оттесняли граждан с противоположной стороны:
— Газетки надо дома читать!..
Кузьма Хлуденев, высокий, худой, но плечистый, столкнулся с братцем Игнатом. С минуту он молча смотрел в его маленькие, широко расставленные глаза. Шея брата, багровая от полнокровия, щеки, готовые лопнуть, мясистый нос — все было ненавистно Кузьме.
— Усердствуешь? — задыхаясь от злости, он вплотную придвинулся сероватым, не по возрасту морщинистым лицом, словно хотел сквозь пустые Игнатовы гляделки увидеть, что там творилось внутри, под форменной фуражкой.
— Вас, идиотов, не спасать, так вы средь зимы в прорубь полезете за своим Лениным либо башкой в костер сунетесь, да и других туда же потянете, вроде самых бешеных кулугуров. Те хоть за веру, за божественное пострадать норовят, а вы за чего?
— «За чего», — передразнил Кузьма. — Не видишь, что у народа только жилы натруженные остались? Все беды на большевиков валите, а кто страну разорил? У наших ребятишек одни косточки, на бабах юбки не держатся. Заживо хоронить прикажете? Чего доброго, и впрямь, как кулугуры, в огонь кидаться начнем.
Серая наволочь совсем затянула небо, колкая крупа посыпалась, зашуршала по тесовым и железным крышам.
— Зима подкатывает? — Цвиллинг, весело щурясь, подставлял лицо под бодрящие ледяные иголочки. — Не заметили, как проскочило лето, и осень уже проходит.
Он уезжал в Петроград. Его избрали делегатом на II съезд Советов.
— Пока здесь хозяйничают дутовцы и соглашатели. Но скоро, дружище Александр, мы начнем настоящие бои с ними.
— Вот посмотрим, как сегодня Булкин, Барановский и Архангельский примут на исполкоме Совета наш протест против передачи ими местной власти в руки казаков, — с подчеркнуто будничной озабоченностью отозвался Коростелев.
Он беспокоился, хотя старался держаться твердо: «Всю рефлексию побоку». Но поневоле шевелилась в душе боязнь новой утраты: уехал и до сих пор не вернулся Кобозев, а теперь Цвиллинг уезжает. Кто знает, куда бросит его буря революционной борьбы? Вдруг он тоже не вернется?
Потому и приглушал Коростелев праздничное настроение товарища.
— Как примут протест? — веселое оживление на лице Цвиллинга сменилось язвительной усмешкой. — Эсеры и меньшевики слишком заинтересованы в том, чтобы мероприятия атамана по охране города не проводились без их участия. А от кого они хотят обороняться? От рабочих — ясно! И ради этого они станут плясать под дудку атамана. Дутовскую дудку!.. — Это сочетание слов на мгновенье позабавило его, но смешинка угасла, и, сурово нахмуренный, сверкая глазами из-под разлетистых бровей, он воскликнул:
— Горький замечательно сказал: «Пусть сильнее грянет буря!..» В девятьсот пятом она разразилась с недостаточной силой. Сейчас мы должны завершить начатое.
— Тебе надо было родиться поэтом, — мягко укорил Александр. — А революция — тяжкий труд, требующий огромных жертв и страданий.
— Новое всегда рождается в муках, но даже эти муки — животворящий источник поэзии.
— Ты настроен возвышенно!..
— Как всегда перед боем. У нас объявился еще один враг — Комитет спасения родины и революции. Ты успел прочитать мою статью для «Пролетария»? Посмотри еще верстку, пожалуйста. Я называю их «Комитетом спасения родины от революции».
Казачий разъезд промчался по Николаевской к вокзалу. Стволы карабинов поблескивали за плечами, шашки вздрагивали, готовно прилегая сбоку. Цвиллинг посмотрел вслед казакам, но лицо его приняло то мягкое выражение, с каким он вспоминал о жене и сынишке.
— Может быть, ты и прав, отдаваясь целиком только делу революции, — сказал он негромко, приспосабливаясь к широким шагам Коростелева. — Но все-таки хорошо, когда есть уголок в сердце, где живут самые добрые чувства.
— Казачьи разъезды и караулы уже начали занимать главные здания города, — нарочито сухо напомнил Александр. — Правда, Дутов после первого объяснения на исполкоме Совета распорядился, чтобы казаки не претендовали на подчинение им армейской пехоты. Исполком, конечно, считает вопрос исчерпанным, но пехоты-то Оренбургского гарнизона уже нет — ликвидирована. А делегаты казаков заявили, что всю военную власть, переданную Дутову губкомиссаром Архангельским, они используют для подавления неугодных им группировок.
— Я не закрываю глаза на сложность обстановки, — возразил Цвиллинг. — Но Барановский и Семенов-Булкин напрасно рассчитывают, что, высказываясь против передачи власти казакам, они снимут с себя ответственность, передав ее Дутову через Архангельского.
— Вряд ли они беспокоятся сейчас об этом, — не согласился Коростелев. — Ведь в новую, так называемую «революционную власть» вошли не только казаки и губкомиссар — эсер Архангельский, лебезящий перед Дутовым, но и представители местных Советов всех партий, кроме большевиков. Город фактически уже на военном положении. Нет, хорошо, что ты едешь в Петроград… Найди сразу Кобозева и все расскажи ему. Может, вместе приедете с Петром Алексеевичем. Ну, лады… Ждем. Доберешься один до вокзала?
— А чего? — Цвиллинг с виду беззаботно тряхнул своим чемоданчиком. — Можно сказать, налегке…
Они посмотрели друг другу в глаза и крепко обнялись.
Здание городской думы с высокими колоннами и широким подъездом красовалось на бывшей Центральной площади, где разбиты два садика: Александровский и… Собачий, разделенные Неплюевской улицей, напротив, за голыми деревьями, высились здания реального училища и городской театр, перестроенный из манежа, слева стояли казармы, еще левее гостиный двор. Место было людное.
В группе депутатов, уже собравшихся в просторном вестибюле думы, громко разглагольствовал плотный, подкрашенный брюнет с седой, нарочно оставленной прядью:
— Мы своей резолюцией отказали в доверии и поддержке образовавшейся в Петрограде самочинной власти.
— Казаки тоже голосовали?
— Само собой разумеется. Второй резолюцией мы поддержали наш революционный комитет — ему и вручена вся власть в Оренбурге и окрестностях. В Петрограде тоже организован Комитет спасения родины и революции — он принимает меры к восстановлению деятельности правительства. Версия об аресте Керенского — выдумка большевиков.
— Внимание! — предупредил один из слушателей, заметив Александра Коростелева, Джангильдина, Кичигина и Краснощекова — большевика из Орска, которые быстро прошли по вестибюлю и поднялись на галерею, где находились места для гостей.
Только что получено известие о большевистском перевороте в Петрограде, о низложении Временного правительства, и страсти сразу накалились до предела.
В сдержанном гомоне голосов на галерее выделялись отдельные, с нажимом произнесенные фразы:
— Помилуйте, князь Николай Николаевич — герой Кавказского фронта…
— На бирже дела аховые…
И самоуверенный баритон какого-то «политика»:
— Образовано новое министерство: председатель — министр Ленин, министр иностранных дел — Троцкий, министр внутренних дел — Луначарский. Но им предъявлено категорическое требование: немедленно остановить гражданскую войну и образовать революционную власть с участием всех партий.
— Какая чушь! — возмутился Александр Коростелев. — Упрекают большевиков в том, что они вызывают гражданскую войну, а сами дают полную волю вождям казачества для кровавых расправ с народом.
— Но теперь, кажуть, объявилась нова политическа власть — Комитет спасения, — с лукавой усмешкой сказал Краснощеков. — Вывеска атаману подходяща.
Небольшой, но высокий зал думы был переполнен. Галерея ломилась от нахлынувшей публики, желавшей послушать прения. Все хозяйственные дела, обсуждавшиеся здесь в течение нескольких месяцев почти ежедневно, были отодвинуты на задний план жгучим вопросом об отношении думы к большевикам.
Председатель — бойкий журналист Корчагин произнес скорбную речь:
— Нашу родину постигло несчастье: в Петрограде большевики захватили власть, и всюду воцарилась анархия. На улицах городов стрельба. Теперь уже имеются точные сведения об аресте Временного правительства. Для нашей страны бьет двенадцатый час. Но родина принимает вызов, и авантюра Ленина будет ликвидирована.
— Мы выслушаем все их наскоки, а ответим на них в своем «Пролетарии», — сказал Александр Коростелев товарищам.
Слово было предоставлено губернскому комиссару, эсеру Архангельскому. Он заговорил с трагическим пафосом:
— В тот момент, когда Временное правительство на пороге Учредительного собрания решало наболевший вопрос о земле, большевики вознамерились захватить власть в стране.
— И захватили!.. — дерзкий голос с галерки (похоже, Харитона Наследова).
Зал колыхнулся, насторожился. Архангельский, будто не обратив внимания на выкрик, но сразу забыв о риторике, продолжал уже в ином стиле — вот-вот сорвется на брань.
— Самара, Уфа, Москва, Петроград заняты большевиками… Фронт и общество требуют восстановить Временное правительство. Полумеры не помогут. Мы долго колебались, но выбора нет. В Оренбурге введено военное положение, и вся полнота власти передана атаману казачьего войска. Войсковой атаман Дутов категорически заявил, что здесь захват власти большевиками не будет иметь места.
— Это мы еще посмотрим! — уже в несколько голосов дружно ответили с галерки.
Городской голова Барановский объявил, что он пригласил на заседание Дутова, и попросил предоставить ему слово.
— Какие трогательные альянсы! — сказала Мария Стрельникова. — Об этом стоит написать мемуары, чтобы лет через полсотни, когда исчезнут предательство и лицемерие, люди имели представление о том, какая шла борьба.
Дутов уже стоял на трибуне, окидывая собрание властным взглядом.
— Мне приходится выступать здесь при очень тяжелых условиях, — заговорил он негромко, явно не заботясь о том, чтобы его услышали на галерке. — Мое имя произносится на всех перекрестках, поэтому я хочу открыто сказать, к чему я иду. Я заявляю, что мы, казачество, всеми мерами будем поддерживать Временное правительство. Я имею одобрительные по этому вопросу телеграммы от всех казачьих войск. А Дон пошел еще дальше: он пригласил Керенского в Новочеркасск, где гарантирует Временному правительству полную безопасность. — Дутов смолк, проверяя произведенное его словами впечатление, и снова оглядел зал.
Речь его была вознаграждена бурными овациями.
Городской голова Барановский предложил оказать атаману Оренбургского казачьего войска полное доверие. Гласные думы единодушно проголосовали. В заключение дума заклеймила «преступную авантюру большевиков», «которая открывает свободную дорогу армии Вильгельма и пролагает пути для контрреволюции в стране».
Утверждая этот пункт, многие из гласных оглянулись на большевиков, но увидели такие откровенно насмешливые презрительные и даже грозные лица, что сразу присмирели, тем более что их защитника, атамана, в зале уже не было. Чем черт не шутит: вдруг эти отчаянные, во многом загадочные люди устроят в Оренбурге такой же переворот, как в Петрограде!
Живы еще были в памяти вспышки дореволюционных восстаний, которые сотрясали губернию, шатая императорский трон всея Руси. Баррикады девятьсот пятого года. Вон сколько одних главарей, а за ними целая армия рукастых, горластых, бесстрашных рабочих, которые всем недовольны. Что им стоит запросто сцапать смелого, но коротконогого атамана? Как тогда быть?
Большевики молчали.
За свое долготерпение и выдержку они были вознаграждены откровенным выступлением гласного господина Смыслова:
— Вводя военное положение, мы берем под контроль бессознательные массы, которые сейчас издерганы и, поддаваясь большевистским лозунгам, готовы на любые эксцессы. Таким образом, угрожая голодным и обездоленным, мы защищаем классы обеспеченные, — без обиняков заявил он.
— Не часто можно услышать от них столь откровенные слова, — сказал Кичигин. — Все болтали, и никто не брал на себя суровой ответственности, а теперь отношения определились.
— Завтра нас начнут вешать и расстреливать, если мы не примем нужные меры, — ответил Александр Коростелев.
Теперь город считался на военном положении, и всюду стояли казачьи караулы, всюду рыскали казачьи разъезды.
Александр Коростелев сам видел по пути домой, как были заняты казаками здания телеграфа, банка, вокзала, как выставлялась усиленная стража возле арсенала и депо.
Только что осенняя ночь сверкала щедро разбросанными в густой синеве крупными звездами, но небо опять заволоклось невидимо надвинувшейся завесой. Мерзлый снег, колкий, как просеянное сквозь тучи звездное стекло, зашуршал по крышам мятежного города, посыпался на слабо освещенные и совсем темные улицы, по которым скакали гонцы Дутова. Впервые жутковато показалось Александру Коростелеву шагать в одиночку на городскую окраину: стукнут прямо с седла, никто и не увидит.
«Атаман распоясался вовсю, но теперь, после вооруженного восстания в Петрограде, когда центральная власть действительно перешла в руки народа, этот белый волк нам не страшен. Второй Всероссийский съезд Советов сразу утвердил декреты о земле и мире. Вот самое могучее наше оружие против врагов революции. — Александр оттолкнулся от стола и с минуту сидел неподвижно, сосредоточенно глядя на стену, оклеенную чистенькими дешевыми обоями. — Нет, Дутов и его прихвостни даже не представляют, как мы их тряхнем. Только что организованные подпольно красногвардейские отряды уже большая сила. Никто не выбьет добытое оружие из наших рук. И очень хорошо, что у нас есть своя газета».
Взяв принесенный им оттиск «Пролетария», Александр, радуясь, вдохнул запах типографской краски. Статью «Их позор» написал для этого номера он сам и, просматривая ее, опять улыбнулся:
«Корреспонденты — рабочие, и я — еще и редактор газеты поневоле, — тоже стал писучим человеком». С тревожным чувством, будто ощущая на себе тысячи взыскательных взглядов, Коростелев прочитал вслух:
— «Когда у всех истинно революционных солдат и рабочих вырвался вздох облегчения при переходе власти в руки Советов, главари оренбургской партии социалистов-революционеров передали местную власть атаману Дутову. Свершилось неслыханное предательство. Вопреки воле солдат, рабочих, крестьян эти изменники венчали Дутова на военную диктатуру». «Нет, все верно! Именно так прямо и резко мы должны говорить на страницах нашей печати».
Александр подтянул к себе бумагу, обмакнул в чернильницу перо, крепко сжимая в сильных пальцах тонкую ученическую ручку…
Наскоро позавтракав, не успев даже поговорить с сестрой и матерью, он еще раз прочитал законченную перед рассветом новую статью и помчался в типографию.
Около знакомых дверей стоял взвод спешившихся вооруженных казаков. Они держались вольно, посмеиваясь и дымя цигарками, как будто ожидали кого-то.
«Обыск идет! — промелькнула у Коростелева обжигающая холодом мысль, и он еще ускорил шаги. — С либерализмом покончено. Диктатура казачьего вождя показывает свои волчьи зубы».
Усатый казак, вскинув на руку винтовку, преградил штыком дорогу Александру:
— Стой! Стой! Не велено никого пущать.
— Скажи, что пришел редактор газеты.
Казак посмотрел озадаченно и ушел. Ушел и пропал. Потом выглянул немолодой урядник, неприветливо оглядев редактора, нехотя буркнул:
— Ну, входитя, что ли!
Войдя в типографию и увидев рассыпанный набор газеты, Александр чуть не выронил из рук туго набитый портфель. Много раз волновался он, вынужденный молчком переносить обыски, когда жандармы, вломившись в квартиру, переворачивали в ней все вверх дном, но то были переживания отдельной личности, идущей наперекор течению, а тут произошел разгром газеты — детища целого коллектива рабочих, их надежды и гордости и, самое главное, их боевой трибуны.
На огромном столе для подготовки печатных форм темнели литеры рассыпанного набора, валялись смятые гранки, а на полу виднелись разорванные полосы и оттиски газеты со статьей «Их позор», затоптанные грязными сапогами погромщиков. Сильнее обычного ощущалась — так и лезла в горло — висевшая в спертом воздухе только что поднятая свинцовая пыль.
От этой ли пыли, от чувства ли бессильной ярости и острого сожаления у Александра Коростелева запершило в горле: сколько хлопот, беготни, переговоров с владельцами типографий, сколько трудовых денег, оторванных рабочими от своего семейного стола!..
— Кто устроил это безобразие? — с возмущением спросил он появившегося владельца типографии — типичного, заплывшего жирком буржуа, заметно обеспокоенного.
— Распоряжение свыше не может быть безобразием, — самоуверенно возразил вынырнувший из двери печатного цеха щеголеватый офицер. — Газета закрыта по приказу войскового атамана. А вас приказано задержать.
Не успел Коростелев собраться с мыслями, как у подъезда загудел автомобиль, и в наборный цех ввалилась группа казаков, возглавляемая адъютантом Дутова.
— Я должен доставить вас в войсковой штаб, — заявил тот, не без любопытства оглядев арестованного, который был известен дутовцам не как редактор газеты, а как один из главных большевистских бузотеров и председатель их городского комитета.
Для охраны в автомобиль вместе с ним село несколько казаков, кроме того, человек двадцать конников помчались следом.
«Почет-то какой! — со злой усмешкой подумал Александр. — Неужели они такие трусы — за одним человеком чуть не сотню стражников послали? Или боятся, чтобы рабочие не отбили меня?»
Первое, что он увидел, войдя в штаб атамана, — это свежеотпечатанный экземпляр запрещенного номера «Пролетария», лежавший на столе дежурного офицера.
«Успели-таки — тиснули для себя!» — Редактор посмотрел на газетный лист, точно на дорогого, безвременно погибшего друга.
Тут же у входа его обыскали, вывернув все карманы, булавку и то не удалось бы скрыть.
«Боитесь, чтобы я не прикончил вашего батьку, язви его в душу!» Хотя это пылкое пожелание не было высказано вслух, однако вид Коростелева, стоявшего с поднятыми руками среди обшаривавших его с ног до головы казаков, не понравился адъютанту: обыск походил на какой-то мелкий грабеж, но пострадавший человек смотрел на обступивших его «воришек» не только с полным самообладанием, но и откровенным презрением.
Поэтому, когда в комнату вошел полковник, знакомый теперь всему Оренбургу, адъютант встал поближе к арестованному редактору, зорко следя за каждым его движеньем.
— По какому праву вы закрыли нашу газету? — спросил Коростелев, шагнув навстречу Дутову.
Тот властным жестом осадил адъютанта, ринувшегося было заслонить его, приказал:
— Пошлите за губкомиссаром Архангельским! Я распорядился закрыть вашу газету, потому что вы допустили в ней оскорбительные выпады по моему адресу, — с надменным видом пояснил он, обращаясь к Александру. — С Комитетом спасения родины и гласными городской думы вы тоже не церемонитесь. А вам давно бы пора прекратить свою преступную деятельность разобщения сил русского народа.
Он вскинул голову, и в широких глазах его вспыхнули настороженно-злые огоньки. Почему этот безоружный, беспомощно-одинокий сейчас человек на боится его? На что он надеется? Губы атамана плотно сжались, отвислые щеки подобрались. Отставив ногу, заложив по привычке большой палец стиснутой в кулак руки за ремень портупеи, он смотрел в упор на взятого им под стражу Коростелева и думал:
«Чего ты корчишь из себя вождя? В любую минуту я могу тебя уничтожить! И всю твою большевистскую шайку разгоню. Никто не помешает мне теперь осуществить мой суд, скорый и правый».
Александр понимал сложность и опасность положения, но видел перед собой только самоуверенного и недалекого господского холуя, хотя и не мог отказать ему в храбрости и деловой сметке.
«Говорит о русском народе и в то же время собирается выступать против всей революционной России! Ведь образованный — кадетский корпус в Оренбурге закончил, два училища: кавалерийское да инженерное, учебу в академии генерального штаба прошел по первому разряду, а норовит стену лбом прошибить! Зря стараетесь, ваше высокоблагородие! Не мешало бы вам окончить еще наши курсы по марксизму».
То, что атаман послал за Архангельским, еще раз показало, как он поднаторел в каверзных делах, как изворотлив в политике. Значит, несмотря на свою надменную осанку жестокого сатрапа, побаивается самочинной расправы с одним из вожаков оренбургских рабочих.
— Вы хотите казнить меня, а потом заявите, что Коростелева осудили свои революционеры, — с усмешкой сказал Александр. — Но рабочие не такие простаки, чтобы попасть на вашу удочку: этих революционеров, которые прислужничают вам, мы давно разоблачили.
Ставленник Временного правительства губернский комиссар эсер Архангельский не замедлил с прибытием и, усевшись за стол вместе с Дутовым, приказал арестованному, стоя перед ними, отвечать на вопросы. Но Коростелев сам потребовал от них ответа.
— Где ваша хваленая свобода печати? На каком основании вы натравили своих громил на типографию «Пролетария»?
— Ваша газета призывала к восстанию, — резким, не допускающим возражения тоном сказал Дутов.
— Да, призывала. Но вооруженное восстание в Петрограде уже произошло…
— Мы не хотим, чтобы подобное безобразие произошло и в Оренбурге.
— Это произойдет помимо вашего желания.
Дутову захотелось ударить дерзкого большевика, но он сдержался.
— Кто писал передовицу для последнего, запрещенного номера?
— Я. Разгромив типографию и взяв меня под арест, вы вызовете бурю гнева в рабочей среде: газета принадлежала рабочим.
— Мы ничего не будем иметь против вашей газеты и вас освободим, если вы выбросите лозунг «Да здравствует власть Советов!», — вкрадчиво заговорил Архангельский. — И поменьше о вооружении и диктатуре пролетариата.
— Это наши боевые лозунги. Выбросить их мы не можем. Вам пора знать, что в принципиальных вопросах большевики не торгуются.
— Посадим вас в тюрьму и будем судить со всей строгостью закона военного времени, — мрачно объявил Дутов и, хлопнув дверью, вышел из комнаты.
— Какие вы мелкие людишки! — сказал Коростелев Архангельскому, сразу поблекшему без своего покровителя.
В казачьих станицах возвышение атамана Дутова было встречено одобрительно: это укрепляло значение войска в губернии, хотя объявленное военное положение в Оренбурге многих заставило насторожиться.
— Не-ет, язви тя! Покуда мир стоять будет, в чести и славе должно находиться казачество! — говорил, не попадая ногой через высокую подворотню, крепко подгулявший на радостях Тихон Захарович Караульников.
Спотыкался еще не дряхлый дед, но на ногах держался упорно, пиная препятствие, возникшее на пути, пока не приметил его из окна сам хозяин Григорий Прохорович Шеломинцев, только что приехавший из Оренбурга через Илецкую Защиту.
— Харитина! Духом лети, помоги гостю войти во двор. — Шеломинцев хотел сказать «в дом», да вовремя сообразил, что крутые ступеньки крыльца вовсе не осилить пьяному бородачу; надел папаху, шинель внакидку и сам вышел навстречу.
Харитина уже вынула подворотню, подвела старика к лавочке у летней кухни и, пряча озорной смешок, предлагала:
— Может, рассольцу огурешного принести али браги-кислушки?
Дед Караульников охотно присел, почуяв под собою твердую опору, приосанился, но от напитков, зряшных по его мнению, отказался.
— Это уж моему папане по состоянию их здоровья. А я ишо могу и самогону стаканчик за здравие нашего атамана…
Григорий Прохорович движением тяжелых бровей отослал Харитину и присел рядом с отцом своего однолетка, войскового старшины Караульникова, ускакавшего вчера в Оренбург с отрядом мобилизованных казаков нести службу при войсковом штабе.
Закурили. Помолчали. В припухших глазах старого воина мелькнули искры задора.
— Со старших, стало быть, возрастов начинают!
— Оно надежнее, — словно отрубил Шеломинцев. — Ежели взять спервоначалу фронтовиков либо таких сектантов, как ваш Антошка… Недоразумение может произойти. А войсковому атаману наивернейши люди нужны, духом крепкие, чтобы ни свата, ни брата не убоялись рубануть. Костяк войска должен быть прочный. Опять же лична охрана. Отмобилизуемся, всех приведем в православную веру.
Ища возможности потолковать по душам, узнать новости из первых уст, торкнулись в калитку соседа Ведякины — Демид да хромой Прохор, за ними справные хозяева — казаки Конобеев, Недорезов и Нечеухин, отцы сослуживцев Нестора. Зашел даже лавочник Одноглазов, хотя до сих пор сердился из-за своей Неонилы. От всех на сажень несло запахом спиртного, и Григорий Прохорович сразу вспомнил торопливо-сбивчивый рассказ жены о том, как отмечалось в станице боевое возрождение войска.
Лавочник Одноглазов в строй, конечно, не собирался, но сынов у него — целый взвод.
— Помер нынче мой старшой в лазарете, — сообщил он, морщась от сердечной боли. — Двое средних убиты на фронте. Но, коли потребуется, все положу на алтарь отечества, чтобы огнем и железом изничтожить красную заразу.
Казаки сняли на минуту папахи из уважения к утратам станичника, призадумались. Подставил осенней прохладе широколобую голову и Григорий Прохорович, произнося мысленно:
«Смерть, как жена, богом суждена».
— Ну рассказывай, Прохорыч, каков он, наш атаман, с виду? Как ведет себя?
— Вид имеет авантажный, выглядыват лет на сорок. Ежели что, так енеральски эполеты ему очень даже пристанут. Вел себя, как и подобает батьке-атаману: лишнего не говорил, не хвалился попусту.
— Значит, можно положиться на него? — желая увериться, Одноглазов сверлил взглядом станичного депутата, переминаясь с ноги на ногу.
— А то! Боевой казак. Трезвой жизни. Грамотой кого хочешь за пояс заткнет: кадетский корпус и академию генерального штаба закончил.
— Скажи ты! Академию!
— И в электрической технике дока, потому как любитель. Специально учился в инженерном. Все превзошел: хоть по части телефонов, хоть на телеграфном деле.
— Ишь ты! На все руки, стало быть.
— У хлеба с голоду не помрет, — оживленно заговорили станичники.
— С таким не пропадем: в любое дело вникает. — Шеломинцев самодовольно приосанился; проголосовав за Дутова, он будто породнился с ним и ревниво желал всеобщего признания его достоинств. — Пригляделись к человеку, промеж себя на круге обсудили. Видим — подходяща для войска фигура. Вот и… избрали.
— Ежели не потянет, через три года сместить можно, — сказал Недорезов, сухопарый, долговязый, сутулый, точно береза в хвойном лесу.
— Это раньше смещали, а теперь ему, атаману-то, всю полноту власти в губернии вручили, пожалуй, не подступишься, — возразил Демид Ведякин. — Теперь будем дрожать перед ним, как перед царем.
— Полно, станичники! Не для того мы его выбирали, чтобы заране порочить, — упрекнул Шеломинцев, с трудом подавив досаду. — Полноту власти ему эти перевертни — меньшевики да эсеры — вручили, потому что сами никуда не годятся. Да ишо большевики на них страху нагнали… Зато наш атаман бразды правленья будет держать твердо. Всех трепачей — в бараний рог.
— Благолепие снизошло на землю войска оренбургского! — сказал умиленно Одноглазов.
Большеголовый, широкоплечий, но узкий в бедрах, он походил на белую редьку, наряженную в папаху, курточку, отороченную мехом, и глубокие фетровые калоши; маленькие ручки с пухлыми пальцами казались в шутку приделанными к его коротконогому, клиновидному туловищу.
«Вот ведь нескладный какой! Зато сыны у него уродились на диво. Да кабы один или два, а то целый десяток. Не иначе, помощника он имел в мужском деле, — подумал Шеломинцев, поглядывая на богатого лавочника, светлые глазки которого блестели в узких прорезях над мясистыми щеками, как стальные лезвия. — Неонилка точно его работа: така же нескладна, а парни — сомнительно. Но загребать денежки мастак, этого не отымешь».
Дед Караульников стукнул кулаком по скамейке, хотел встать для пущей важности, но размякшие ноги оказались куда ненадежнее головы. Раскачиваясь корпусом, он только поерзал на месте и, вздохнув, легко покорился пьяно-горькой своей участи. «Сидеть лучше, чем стоять, а и свалишься — не страшная мука!»
— Видать, крепко хватил ты, Тихон Захарыч, за здоровье атамана, — сочувственно следя за его напрасными усилиями, сказал подстриженный по-кержацки Конобеев, с ярко-рыжей бородой, лежавшей на груди, словно банный веник.
— Мы тоже не отстали: косушку в кадушку, да ковшом хлебали. Три дня в лежку, — похвастался Нечеухин, самый седой из пришедших бородачей, поддразнивая старообрядца Конобеева, который не только вина, но и чашки воды в компании других станичников сроду не выпил. — Брага, когда сдобрена самогоном, особенно в ноги ударят, шибат и в голову. Да ведь зачем и пить, коли пьяну не быть?! Кто толку в выпивке не понимат, тот в рай не попадет.
— Это почему же? — поинтересовался молчун Прохор Ведякин.
— Потому, что апостол Петр проспиртованных казаков в свой караульный гарнизон берет. Когда богом проклятый сатана, испуская смрад серный, подходит к райской ограде, наши выпивалы единым духом спиртным опрокидывают его обратно в преисподню.
— Мудрено чего-то врешь! Грешны твои речи, — одернул Нечеухина дед Караульников, подозрительно щуря осоловелые глазки. — Борода-то седа, побоялся бы бога.
— Он, батюшка, давно уж рукой махнул на нас, окаянных. Иначе чего попам делать, кого отмаливать? Однако все прегрешения сами начисто скостим, коли с большевиками — чтобы их язвило! — разделамся. Вот я что хотел… — Нечеухин зыркнул взглядом по двору, оглянулся на притворенную калитку, под которую, торопясь воспользоваться лазейкой, убегали со двора куры. Петух, поджав ногу, задумчиво смотрел им вслед, пока не раздался за воротами раскатисто-веселый крик соседского забияки. Миг, и на ходу по-бойцовски распуская крылья, Петька помчался за своими ветреницами! — Порядок блюдет, хоть сроду своих мокрохвосток не обижат, — одобрительно бормотнул бородач и — к станичникам: — Посоветоваться надо бы… У тебя, Григорь Прохорыч, где молоды-то?
— В пойму уехали спозаранку на рубку талов.
— Я сынов тоже отправил. Да со всех дворов молодежь поехала: рвутся в леса, как на праздник. Вот без них нам и собраться бы на станичный круг да поговорить по душам. По молодежному, так сказать, вопросу.
— Это верно, — важно одобрил Шеломинцев. — Вопрос, связанный с фронтовиками, просится на повестку…
— И то! — оживился старик Караульников. — Бывалоча, чуть что — молодежь вперед. Только дадут команду: «Пики к бою!» али «Шашки вон!» — и понеслись… Крута была молодежь, вертка. А ноне казаки с фронту убегли да под бабий подол схоронились. Такой срамоты свет не видал, чтобы казаки от боя бегали.
— Правда твоя, Захарыч. Даже уральско войско крепкое старой верой осрамилось. — Конобеев покосился на хромого холостяка Прохора Ведякина и, хотя тот был уже немолод, приказал ему: — Иди-ка ты, парень, домой, неча тут слушать!
Прохор побагровел, неловко, но споро заковылял к воротам, а бородачи тесно сдвинулись возле скамейки и начали азартно шушукаться.
Антошка Караульников отправился рубить лес с целой ватажкой батраков. В пойме он, завзятый рыбак и охотник, чувствовал себя куда лучше, чем дома, и старшие могли быть спокойны: делянку Антон после вырубки сдаст в лучшем виде.
— Был бы ты добрым казаком и настоящим хозяином, кабы не валял дурака, — ворчал, выпроваживая его со двора, злой с похмелья дед Тихон Захарович.
Антон молчал, укладывая на телеге пилы и топоры, принимая от работников старую, прожженную у костров кошму, брезент на случай непогоды, мешки с караваями хлеба, салом, пшеном, крупной картошкой. В поле всегда брали с собой туеса и горшки в плетенках с жирным сладким каймаком, моченым терном и кислым молоком. Напоследок Антон сунул в другую телегу еще два мешка с бреднем и сетью.
— Рыбу ловить? — сердито спросил дед Тихон, услышав глухой стук грузил и шуршание балберок, но подумал о душистой, наваристой ушице и отмяк. — Судачков домой прихвати и, ежели карасей на озере зацепишь, выбери десяточка два запечь в сметане.
Фрося на своем дворе, помогая Нестору укладывать в дрожки всякую всячину, опять удивлялась обилию доброй еды. Рабочие-то в городе и в большие праздники не видят такого…
Приглядываясь к жизни в станице, она поражалась тому, как свободно, ни в чем себя не стесняя, живут казаки. Пока не прозвучит сигнал трубача на сбор, числятся они в воинских списках, но занимаются охотой, рыбалкой, водочку пьют, а черную, тяжелую работу в хозяйстве выполняют женщины да батраки.
То-то казаки так и распинаются за свою «волюшку»: дома и амбары — полные чаши, и все вокруг, что можно охватить взглядом, навечно казачеству отписано: и леса, и земля, и реки, и небо.
Нестор с кудрявым «виском» из-под папахи набекрень, одетый в простое полупальто поверх поношенного мундира и брюки без лампасов, заправленные в добротные сапоги, прыгнул на тележку и, разобрав вожжи, помог сесть Фросе. Лошади побежали рысцой…
Уже начался ноябрь, а погода стояла чудесная. Бодрило и радовало наступающее розово-холодное утро с белой изморозью на кустарниках и тонких от сухости осенних травах. Над станицей в быстро светлевшем небе курились ранние дымки. Кресты на могилах, кованные из железа, казалось, хватали распростертыми черными руками близкую над косогором красную полосу зари, слушая несущиеся от кузни звонкие удары молотов.
Что там ковали? Мало ли нужд у конников-земледельцев; одних из полка встречают, других провожают, а может, и новые кресты ладят на погост…
— Уходят фронтовики из лазаретов домой, а не всякую рану дома вылечат, — сказал Нестор, нахлестывая вожжами крутые бока лошади и тоже вслушиваясь в печально-мелодичный перезвон наковален.
Фрося, в старом пальтишке Харитины, сидела, свесив ноги и подобрав подол юбки так, чтобы не захлестнулся в колесо. Прислонясь к Нестору, она тихо радовалась, поглядывая на густую урему под яром.
Как хорошо было здесь в осеннее разноцветье! Но и сейчас тянули, приковывали взгляд эти леса шелковым отливом голых вершин, таких густых и тонких, что отдельные рощи походили на бурые, соловые, светло-серые и розоватые меха. Понизу темнела кайма кустарников, почти черных на блекло-зеленой и желтой осыпи листьев, и синели в золотой оправе речного песка гладкие зеркала воды — старицы да озера.
«Неужели все это наше… и мое? — думала Фрося, снова удивляясь. — У нас, в Нахаловке, тысячи людей, а ни одного деревца!»
— Смотри, — сказала она, теребя Нестора, — это ни на что не похоже!
И он сам удивился неожиданной новизне картины, возникшей на косогоре: золотые скирды цепочкой на сине-черном крыле леса.
— Что за лес такой?
— Ольха растет в степи по мочажинам. Негодное дерево, мозглое — ни в постройку, — ни на дрова.
— Спасибо, что так растет: голо ведь в степи. Летом тень, зелень и от ветра защита, а сейчас просто хорошо. Я деревья плохо знаю, но ежели растут — значит, надо.
Нестор засмеялся, погнал лошадь быстрее, чтобы, сделав круг, показать Фросе этот лес, никчемный и некрасивый, по его мнению.
Однако он сам удивился тому, как фантастично выглядели красно-бурые и темно-коричневые вблизи заросли ольхи, макушками похожие на засохший сосняк. Стволы обнаженных деревьев стояли вкривь и вкось, теснясь вдоль узкой лощины. За кривым их частоколом повсюду блестела вода.
Работники, подъехав на своей телеге, с недоумением поглядывали на молодого хозяина. Нестор спохватился, повел рукой в сторону поймы:
— Айда на делянку!
Снова спускались с бугра окружной дорогой. Где еще было такое утро? И резвый бег сытой лошади, и бодрящий студеный воздух, и разлив зари над лесами, над текучей и неподвижно стоявшей водой, уже схваченной у берегов тонкой коркой льда, — все подарок душе. А главное, Нестор рядом, родной и близкий.
Прихотливо изгибается в берегах веселая светло-струйная река Илек, напомнившая Фросе мутноватую, правда, красавицу Сакмару в Оренбурге, за Маячной горой, куда бегала она с подружками. «Вирка-то как там теперь? Мается от своей доброты: не видит просвета в жизни из-за папани-изверга. Покуда ребятишек вырастит, согнется в дугу!»
— Левый берег — киргизская сторона! — Нестор, не заметив раздумья Фроси, показал сложенной нагайкой на почти голую возвышенность, отлого уходившую в выжженные солнцем степи. — Правый — наш, казачьи земли.
Свернули с тряской, наезженной по корням и кочкам дороги и остановились на широкой поляне с некошеной, высушенной заморозками высокой травой, где уже стояли немудрящие шалаши, а возле телег дымили костры и паслись выпряженные, стреноженные лошади. Работники, взяв пилы и топоры, сразу пошли на делянку, отведенную Шеломинцевым, а Нестор и Фрося остались в лагере: вместе собирали сухой хворост, подтаскивали валежник, разводя костер, и ходили на Илек за водой.
День наступал ослепительно яркий, солнечный. Фрося кухарничала, и Нестор то помогал ей, то наведывался на делянку — посмотреть, как вырубают талы, чтобы не оставалось «торчин», чтобы старые, перестойные ветлы и тополя снимались до земли без пней.
— Если деляна вырублена дочиста, только корни в земле оставлены, то через три года на ней поднимается непролазная чаща из таловых прутьев, — серьезно пояснял он Фросе.
— У вас все талы: и прутья, и деревья необхватные! — посмеивалась Фрося, опьянев от счастья и доброй красоты леса. — На каком же славном месте вы устроились!
Притихшие в свете погожего дня, так и блестели под солнцем колючие заросли чилижника и терна. Ветлы перемежались бурыми островами черемухи и будто маслом смазанного гибкого краснотала. Летом все зеленело сплошь, а к зиме резко отмежевывались обнаженные лесные чащи — и голыми стволами, и словно расчесанными вершинами: там белесые тополя, за ними — кремовые осокори, голубоватые осины, соловые макушки красноветвистых ветел.
— Вот как их рубят! — Фрося прислушалась к хищно-въедливому стуку топоров, к шуму с хрустом падавших больших деревьев, обламывавших свои и чужие сучья. — У каждого дома навалены дрова и хворост, а все мало!
— Розги растим, — беспечно бросил Нестор, шуруя палкой в костре под закоптелым котлом, в котором варился неизменный кулеш.
Фрося насторожилась:
— Зачем?
— Да так… В ходу они у нас, а время такое…
— Какое?
— Пропаганда требуется.
— При чем же тут розги?
— Наши старики без них не могут. Они все умственные понятия стараются вложить человеку в голову с противоположного конца.
Фрося вспомнила рассказы деда Арефия о том, как пороли казаки забастовщиков. Насупилась.
— Ведь среди такой красоты живете!..
— За эту красоту дорого платить приходится.
Неизвестно, до чего договорились бы молодые, но тут, похожий на цыгана из табора, явился Антошка Караульников, вымазанный сажей и землей, весело возбужденный:
— Айда на озеро за карасями!
— Поедем? — Нестор заглянул в лицо Фросе. — Ну, чего ты? Мы все тут под страхом ходим. Ты думаешь, только с вашими схватывались казаки? Они и свою молодежь пороли на круге казачьем… Да еще неизвестно, что дальше будет. Вон Антошкины дружки в Краснохолмске хотят нейтралитет держать: против большевиков не выступать. А старики, думаешь, довольны этим останутся? Черта с два! Они все свои привилегии, которые были дарованы войску еще при царе Горохе, вспомянут. И как пить дать за розги возьмутся…
— А мы их наготавливаем… — недобро усмехнулась Фрося.
— Да разве мы первые? — вступился Антошка, ласково глядя на нее. — Казаки испокон веку свои леса так рубят, чтобы в них не переводились ни тополь, ни розга — таловый прут. Из прутьев и плетни заплетаются, без которых скотоводам в степи не прожить: заборов-то тесовых у нас нету.
Нестор тоже попытался развеселить жену:
— Сейчас я тебе гнезда сорочьи покажу. Тут, по старице, везде сороки гнездятся. У них настоящие избушки: свиты крепко, глиной умазаны, коровьей шерстью, будто кошмой, выстланы, а сверху навесы. И все на деревьях, впору рукой достать.
Фрося сама видела эти гнезда в пойме Сакмары, но уж если Нестор обходится с ней точно с маленькой девочкой, то и она решила сделать ему приятное и, пересилив душевное беспокойство, улыбнулась.
— Запрягать, что ли? — спросил Нестор Антошку, сразу просияв, но тот так засмотрелся на Фросю, что не ответил. — Ты оглох разве?
— Давай запрягай! — весело заторопился Антошка. — У меня уж все приготовлено, и Сивка у дороги привязан. Лесорубы в работу втянулись — без нас управятся, а одного я с собой беру. Сети вдвоем ставить сподручнее.
— Ой, какое море!
— А ты видела море? — спросил Антошка.
— Где бы это я его видела? — рассеянно ответила Фрося, не отводя взгляда от широкого водоема.
Лениво плеща, перекатывались по нему маленькие синие волны, ластились к тонким трубкам безлистного камыша, стоявшего далеко от берега в студеной воде. Беззвучно покачивались на камышинках мелкие крестики реденьких колосьев, ближе сухо шелестели, шумно шуршали высокие пожелтевшие тростинки.
— Против моря это лужа, которую кот наплакал, — поддразнил Антошка.
— Ну и пусть! — Фрося перевела на него сосредоточенно-серьезный взгляд, строго сдвинула брови в ответ на задорную улыбку. — Я еще не видела столько воды… Такой, чтобы никуда не текла. А вон кочка чернеет и плывет прямо на нас. Почему она плывет, раз вода стоит на месте?
— Почему? — Недоумение на смуглом лице Антона сменилось опять веселой улыбкой. — Так волны же… ветер. Торф отрывается от берега, а по волне гонит его.
Нестор тоже всмотрелся, щуря светлые глаза:
— Это не кочка, а, похоже, гагара убитая. Подранок, наверно. Отстал от стаи, и охотники добили его.
Поскрипывая уключинами, шурша острыми листьями тростника, украшенного пушистыми рыжими метелками, батрак Караульниковых, Максим, подогнал к берегу лодку, которая была спрятана рыбаками в топком заливчике. Антон принес сети, вынутые из мешка, брякнув грузилами, завалил их в лодку.
— Мы с Максимом будем ставить, а вы с Фросей разводите костерчик. Чайник и котелок под сеном, в передке лежат.
— Нет уж, давай я сам буду грести, а ты разжигай костер, — неожиданно холодно возразил Нестор и, не ожидая согласия, даже не взглянув на Фросю, прыгнул в лодку, качнув ее так, что затрещала за бортом, ломая легкий ледок, шумливая тростниковая стенка.
— Легше! — предупредил Максим, уже разбиравший сеть. — Этак и опрокинуться недолго.
— Постойте! Зачерпните с лодки водички. Тут, у берега, взбаламученная! — крикнула Фрося и побежала за ведром к телеге Караульникова, возле которой тяжело взбрыкивал стреноженный Сивка.
— Красивая у тебя хозяйка! — сказал Нестору Максим.
— Ничего… — Нестор, выжидая, даже не обернулся на жену.
Молчком они пересекли озеро и начали ставить сеть, огибая, загораживая вход в залив, затянутый по дну водорослями. Сквозь прозрачно просвечивающую толщу студеной, густой на вид воды немо глядели бурые заросли опутанных тиной трав, мелкие рыбешки, как искры, мелькали в них. Прошел низом, лениво изгибаясь черной спиной, крупный сазан. И еще какие-то большие рыбины спокойно бродили в глубине, пошевеливая хвостами и плавниками. Нестор греб без рывков, легко ведя лодку, как будто весь сосредоточенный на том, чтоб ровно соскальзывала сеть, падавшая с борта из-под больших рук работника.
Звонкий смех Фроси на берегу спутал ладную работу; лодка дернулась, сеть зацепилась.
— Сдай назад! Куда же ты двинул! — с жаркой досадой скомандовал Максим.
— Не шуми, я тебе не наемник! — зло огрызнулся Нестор.
— Мы оба тут не наемные! — Лицо Максима, крупного, сильного парня, залилось румянцем, но, перехватив бечеву верхнего края сети и этим подав лодку назад, он добавил уже добродушно: — На охоте да на рыбалке хозяев нету. А ежели ты атаман ватаги, так с тебя спрос двойной.
Голоса их звучно раздавались над разливом. А когда они умолкли, стало слышно, как Антон говорил на берегу, там, где уже поднимался за тростниками бледно-голубой дымок костра:
— В Тургайских степях озера!.. Посмотришь: действительно море! И мелких полно: вся степь будто блюдами уставлена. На большие во время перелетов птица точно из трубы валит. Я там был на озере Жеты-Коль и в поселке Ак-Кудук еще мальчонкой. Дед Тихон возил туда на тройках приезжих господ на лебедей посмотреть. А оттуда гоняли на озеро Айке — тоже целое море. Степь-то — везде дорога, когда нет дождя. Волков там, лис, сайгаков! Дудаки ходят — пасутся стадами. А потом понесло наших еще на соленые озера, на Шалкар-Ега-Кара. Глазом его не окинешь, а по берегам соль. И там среди полной весны забуранило, враз холод, и снегу по колено. Кабы не дед Тихон, пропали бы! Птицы погибло страсть. Перо-то на ней обледенело…
— А как птицы на соленой воде живут?
— Со временем понемножку засаливаются.
— Вправду?!
— Ей-богу! Вот селедка в море — соленая?
— Соленая. — В грудном голосе Фроси простодушное удивление.
Антон громко захохотал, а Фрося сказала обиженно:
— Зачем врешь? А еще божишься! — И сама вдруг рассмеялась.
— Веселая она у тебя! — с мальчишески откровенной завистью сказал Максим.
Нестор промолчал, отворачиваясь. На лице — мучительная борьба чувств: впервые в жизни он испытывал жестокие уколы ревности.
«Зачем сбежал? — упрекал он себя, настороженно прислушиваясь, о чем говорили на берегу, и досадуя на порывы ветра, подымавшего яростные шумы в зарослях тростника. — Не зря говорится: жену и ружье чужому доверять нельзя».
И в то же время непонятно злое чувство нашептывало:
«Но если я в поход уйду? Многие казаки по три года в семьях не бывали. Не бросались же их жены на первого встречного. Ждали. А может, среди рабочих положено, чтобы свободно? Они против собственности. Не зря, видно, идет болтовня насчет общих жен. И Антошка тоже хорош, дружок!»
Фрося тем временем чистила для ухи картофель. Тонкая, почти прозрачная кожура падала с ножа.
— Экономно чистишь — мужу капитал накопишь, — язвительно заметил Антошка.
— Мы всегда так. Привыкли. У нас дома этакого довольства и до войны никогда даже по праздникам не было. А впроголодь частенько. — Непривычная складочка обозначилась между бровями Фроси. — Мученики ведь мы, рабочие.
— Ты до сих пор себя рабочей считаешь? — осторожно спросил Антон, подсовывая в пламень костра уже обгорелый комель, раздобытый им где-то на берегу.
— Казачкой пока не могу назваться.
— А если атаман Дутов против ваших в драку пойдет?
Фрося зажмурилась, будто от вспышки огня, покачала головой, повязанной цветным полушалком:
— Об этом даже думать боюсь. Ночью увижу своих во сне — плачу. Проснусь — обеими руками за Нестора, сама молюсь: господи, помилуй, господи, пронеси беду!
Фрося не знала, отчего так легко и вольно, словно с подружкой Виркой, говорила она с Антоном. Казаки часто называли его порченым, блажным, презрительно посмеивались, когда он в одежде батрака, а еще хуже того — похожий на бродяжку-цыгана, гнал на водопой скотину или ехал на быках по сено, вместо того чтобы гарцевать на лихом скакуне.
— «Висок» казачий, да нрав телячий, — сказал о нем как-то свекор Григорий Прохорович.
Однако Фросе казалось, что Антошка куда умнее и добрее казаков, которые смеялись над ним: он никогда не орал на батраков-киргизцев, любил играть с ребятишками и вот сейчас запросто, совсем как брат Митя, разговаривал с ней.
Караси лежали в лодке навалом, словно опрокинутые золотые тарелки: живучие, торопливо дышали круглыми ртами.
— Сколько их!.. — Фрося хватала обеими руками прохладных рыб, выбирая которые потяжелее, но они все были крупные как на подбор, и она снова с грустью подумала о родной Нахаловке: «Тут кругом еда, там дрожат над каждой горстью мучицы. Подумать только: полная лодка рыбы! Вот сазаны толстолобые!.. И щука попалась…»
— Ты ей пальцы в рот не клади: она хоть с виду смиренная, а может еще так тяпнуть — свету невзвидишь, — говорил Антон, вместе с Максимом бросая рыбу в мешки и перекладывая ее мокрой жесткой осокой.
Нестор с несчастным, почти больным видом стоял спиной к ним у костра, грелся, не в силах отделаться от опутавшего его гнетущего чувства недоверия и тоски.
— Вот она, твоя кочка! — сказал вдруг Фросе Антошка, пошарил багром возле тростников и выловил черный меховой треух, какие и летом носили киргизцы.
С минуту молодые люди рассматривали странную находку. С одного края треух оказался рассечен наискось, отвернувшаяся изнанка меха в этом месте была красно-бурого, отдающего в ржавчину цвета.
— С затылка его рубанули, — задумчиво промолвил Максим.
— Кого? Кто рубанул? — изумилась Фрося.
— Кого — неведомо. Киргизская шапка… А «работа» казачья — шашкой рубанули. Вот кровь-то запеклась. Значит, его сюда мотанули — в озеро.
Фрося побледнела, испуганно обернулась к воде. Солнце еще ярко светило над степным озером. Стеклянно поблескивая, перекатывались синие волны, раскачивая далеко забредшие в воду редкие камышинки, плескали в накрененную корму лодки. Что-то невидимое перемещалось и в воздухе, отчего заросли тростника у берега то и дело начинали громко шептаться.
— Нестор, — позвала Фрося, озираясь кругом, но его нигде не было видно. — Не-ес-то-ор! — звонко закричала она.
— Ну, чего ты переполохнулась! — ласково пожурил ее Антошка. — Сейчас по всей Расее друг дружку убивают и в бою и из-за угла. У нас-то пока еще тихо. Лиха беда — одного убили!
— Максим сказал: в озеро бросили! А вы тут рыбу… Могли и мертвеца выловить.
— Вот чудная. Да в любой речке может утопленник быть, разве от этого живая рыба опоганится? Она, поди, во все стороны в тот момент брызнула! Вон сколько воды… Но правду, видно, говорят: в тихом озере… Нет, я в станице всю жизнь торчать не стану!..
— Куда же денешься? — спросила Фрося, ища Нестора беспокойным взглядом.
— Уйду от казаков. Я их, погромщиков, ненавижу! — вдруг прорываясь ожесточением, бросил Антон, не стесняясь батрака Максима, который с явным одобрением слушал его.
Фрося отшатнулась, замахала на него маленькими руками, страшась разворошить боль в душе.
— Господи, где же Нестор? — И, побежав навстречу мужу, вышедшему из-за косогора, с разбегу повисла на его шее. — Где запропал, родненький мой?
Он посмотрел странно пустым взглядом, не замечая ее необычной бледности, неподатливо-своенравным движением вывернулся из сомкнутых рук.
— Несенька! — растерянно вскрикнула Фрося. — Что с тобой? Ты ли это?
Он не ответил, шагая вдоль ерика, заросшего саблевидными листьями рогоза. Заостренные стебли, навылет пронзившие коричнево-бархатные початки, торчали как пики, будто здесь, среди чуждой сейчас Фросе природы, затаилось казачье войско.
— Почему молчишь? Чем я тебя прогневала?
Нестор опять не ответил, и она заплакала навзрыд.
Это сразу обезоружило его, пронзив раскаянием и жалостью, напомнив о ее слезах в подвенечном уборе. Такая нежная, такая чистая, а он поддался вздорным подозрениям!
— Не надо! Я совсем не хотел обидеть тебя…
Слезы еще сильнее потекли по лицу юной женщины:
— Я не в обиде, а испугалась, подумала…
— Что подумала? — Прижав Фросю к груди, Нестор концом полушалка вытер ее щеки. — Чего испугалась, моя хорошая?
— Мне показалось… будто ты ума лишился.
Совсем пристыженный, Нестор даже не посмел признаться в том, какая лихоманка его обуяла, а только любовался на свое вновь обретенное сокровище. Примирение было таким радостным, что обоим не хотелось вспоминать о нечаянной размолвке.
Готовый на все, чтобы развлечь, успокоить жену, которой на днях исполнилось шестнадцать лет, Нестор сказал:
— Поедем в Оренбург. Повидаешься с матерью. Придем в Нахаловку днем, когда отец и братья на работе, вот и поговорите. Она-то не прогонит нас?
А Максим с Антошкой спорили у костра о том, где лучше рыба.
— Вкуснее илекской нигде нет, — говорил Антон.
— Зато у нас в Урале сомы попадаются по пяти пудов, сазаны по двадцати фунтов. А ниже Уральска осетры, севрюги, белуги! — вспоминал Максим, уроженец Илекского городка, на устье Илека, где была граница владений Уральского и Оренбургского казачьих войск. — Лучше наших-то мест поискать. У вас тут скот — богатство, а у нас — рыба. С тех пор как повелось яицкое казачество, перегорожена река Урал возле города Уральска. Осетры и белуга нерестятся ниже той изгороди, и все это рыболовство в руках уральцев. Весной, летом и осенью — сетями, зимой — багренье. Подбагривали казаки иной раз осетров пудов по восемь, а белуги попадаются и по тридцать.
— Значит, зря говорится: «Кто охотится и удит, у того ничего не будет!» — поддразнил Антошка.
— Это про тех, кто с удочками. Но и на богатом лове, бывает, не повезет. У меня папаня были горячий. Не дождавшись команды во время багрения, вырвались вперед из ряда, и атаман ловли приказал порубить у них снасти и сбрую. А папаня со стыда стали пить горькую, и начало наше хозяйство рушиться…
Домой собрались засветло, с тем чтобы по пути заехать на делянки посмотреть, как идет работа, и оставить батракам свежей рыбы.
Ночь наступила лунная: месяц еще был молодой, зато вызвездило по-осеннему крупно и ярко. Угревшись возле Нестора, Фрося смотрела в синее небо, подернутое легкой дымкой, за которой так и подрагивали звезды. Она вдыхала ядреный воздух, пахнувший кизячным дымком, и думала о том, что при всех огорчениях нет человека на свете счастливее ее.
В черной тени плетневых оград в пойме шевелились стада и табуны, днем уходившие на тебеневку. Станица на высоком береговом мысу притихла, лишь кое-где в окнах желтели огоньки. Серые плетни держали окруженные ими в степи дома и саманушки, как держит речной «чегень» присмиревших в ловушке толстых рыб. Серебристый сумрак, пронизанный лунным светом, цедился сквозь эти плетни, словно прозрачная вода. Далеко слышались в тишине колдовской ночи те же, что и днем, шумы: звон кузнечных молотков, сдержанный рокот мельниц над оврагом Джеренксай и на Илеке, да сонные переговоры гусей.
Кругом мирно, безмятежно.
Но тревожный разговор с Антошкой и окровавленная шапка, выловленная в озере, нет-нет и вспоминались Фросе, спугивая душевный покой.
То, что Дутов властно вошел в роль диктатора, большевики почувствовали быстро. После того как он конфисковал очередной номер их газеты «Пролетарий», закрыл редакцию и посадил в тюрьму Коростелева, были арестованы члены партийного комитета: Мартынов, Кичигин, Лобов, Мискинов и Макарова. Но активисты, избежавшие ареста, собрались на заседание и решили начать широкую кампанию протеста. Рабочие-железнодорожники, возмущенные самоуправством атамана, сразу откликнулись на этот призыв и не вышли на работу.
— Этак Дутов скоро и до нас с Малишевским доберется и других наших орских большевиков похватает, — сказал в новом помещении комитета Михаил Краснощеков, похожий на Тараса Бульбу. — Коростелев мне партбилет и мандат вручил, когда я после фронта в Орске ехал. Он мне вроде крестный отец, хоть и моложе. Надо нам вызволять товарищей.
Цвиллинг только что вернулся из Петрограда. На Втором Всероссийском съезде Советов, где было создано рабоче-крестьянское правительство — Совет Народных Комиссаров, — он был избран кандидатом в члены ВЦИКа. А после съезда Совнарком направил его в Оренбург правительственным комиссаром губернии. Рассказав товарищам о встречах в Петрограде, о речи Ленина на съезде и торжественном принятии декретов Советской власти о земле и мире, Цвиллинг сразу направил связных в Нахаловку, позвонил в союз пекарей и на «Орлес».
— Как у вас в Орске идет организация Красной гвардии? — спросил он Краснощекова, перестав на минуту крутить ручку телефона. — Что Малишевский? Оружие достали?
Краснощеков, похожий на запорожца не только внешностью, но и характером, и выраженным украинским акцентом, с завидным самообладанием сообщил о том, что творилось у орчан.
— Орск — первейший оплот революции в Оренбуржье. Наш рабочий класс весь встает в ряды Красной гвардии. Что касается начальника уездной конторы связи Аркадия Николаевича Малишевского, то он служил в армии старшим унтер-офицером, а теперь будет бесстрашным красным командиром. Все ладно. Одна беда — стрелять в гадов не из чего!
— Так-таки совсем не из чего? — сердито спросил Цвиллинг, уловив беглые огоньки хитрой усмешки в глазах Михаила Миновича.
Краснощеков, по привычке не спеша с ответом, пожал могучими, литыми плечами, погладил длинный ус.
— Воробьев попугать хватить, бо у нас в Орске их сила! А чтобы с регулярным войском сразиться — пушки треба. Сейчас власть у прапорщика Брица. Весь местный гарнизон ему подчинен. Но мы с Малишевским возьмем тот гарнизон голыми руками, раз пушек не имеем, и будеть у нас в новом году своя, Советская власть.
— Может, через Бузулук удастся получить оружие? — прикидывал Цвиллинг. — Теперь там будет верховодить Кобозев. Ленин назначил его правительственным комиссаром по борьбе с дутовщиной. Мандат подписан Дзержинским…
— Я ж сказал: возьмем гарнизон. Аркадий Николаевич Малишевский — душа человек. Красавец писаный, и голос у него мертвого поднимет, потому что не просто гремить, а за сердце береть.
— Агитатор хороший?
— Лучше не бываеть. Совсем, як я. — И снова искорки смеха сверкнули под приспущенными бровями Краснощекова.
— Ты из хохлов, значит? — спросил его Левашов, глядя, как хлопотал у телефона Цвиллинг. — Вот Самуил — порох, а ты вроде спокойный…
— Та я ж мельник. А мельник что жернов-бегун: муку мелеть, людскую громаду кормить, день и ночь вертится на поставе, шумить на всю округу, а с места не сойдеть.
— Шутишь? Ведь я почему спрашиваю: слышал, характер у тебя…
— Кто без характера живеть? У кого за душой нема ничего. А я и на свет народився богато, як в сказке кажуть… Жил это у Херсонской губернии батрак Савелий с молодой жинкой. Послал управляющий Савелия на мельницу молоть пшеницу. А плотина-то рухнула. Утонул батрак. Вскоре родила его жинка сынишку. За кусок хлеба нанялась в карьер — копать глину. Обвалился борт — и погибла молодайка. Остався пацанчик один. Жили там же дед да баба — Мина Маркович без трех годов восьмидесяти лет, Ефросинья его по седьмому десятку, и, як в сказке, детей у них не було. Взяли они сироту, назвали Михаилом и растили до одиннадцати лет. Потом он опять осиротел и стал у помещика свинопасом.
— Надо осадить атамана! — кричал Цвиллинг в трубку, и люди, сидевшие в комнате, невольно оглядывались на дверь и окна. — Сейчас готовятся выборы в Учредительное собрание, а Дутов решил нас сразу разгромить. Завтра я буду выступать на митинге в цирке Камухина с докладом о петроградских событиях. Передайте товарищам. Вы тоже объявите всем, — положив трубку телефона, сказал Цвиллинг Стрельниковой.
— Насчет объявлений у нас сейчас плохо, — ответила Мария. — Черная сотня крутые меры приняла. Хозяева типографий, чтобы наборщики не напечатали наш предвыборный список, вызывают наряды казаков.
Голос Марии после ареста Коростелева стал глуше, и, словно ножом прорезанные, пролегли тонкие морщинки по углам ее рта и меж бровями.
— Ничего не печатают, — подтвердил Заварухин. — Приходится писать лозунги и воззвания прямо на стенах домов.
— Ну и что с тобой, свинопасом, потом было? Во дворец к царю попал? — спросил Левашов, подсаживаясь поближе к Краснощекову.
— Нет, привела меня судьба опять до мельницы. Работал семь лет. Оттуда в армию призвали. Там я приглянувся гвардейской своей выправкой да смышленостью. — Краснощеков опять хитренько заулыбался, приосанясь, вспушил и разгладил усы. — Удостоили. Послали в школу ефрейторов. В девятьсот пятом году началось самое интересное. Возвращався с японской войны. Везде забастовки. До Самары доехав на паровозе. А тут казаки в одном доме собрание разгоняли, и девушка убила из пистолета пешего казака: гнався он за ней. Я ее через забор пересадил. Взяв винтовку убитого, хотел тоже бежать. Да окружили конные казаки — и в арестантский вагон. После выслали сюда, в Тургайские степи. И опять я стал мельником до самого германского фронта. — Краснощеков оглядел всех собравшихся в полуподвальной комнате и уже серьезно добавил: — Во дворец я все же попав, як в сказке полагаеться, но только не к царю, а к Владимиру Ильичу Ленину, с делегацией от двух сибирских полков. Чем Смольный хуже дворца? Вон куда взлетел Михайла Краснощеков! Самого Ленина видел!
— Так сколько же у тебя народу в отряде? — деловито осведомился Цвиллинг, не склонный сейчас выслушивать разные истории.
— В октябре было пятьдесят. Сейчас перевалило за полторы сотни. Мало. Слезы! Да и тех вооружить нечем, а могли бы хоть тысячу набрать. Но я уже тебе сказав и Коростелеву раньше обещав, что мы с Малишевским Орский гарнизон возьмем, а этого прапорщика Брица наладим ко всем чертям.
На лестнице раздались шаги, дверь в полуподвал открылась. Вошел, широко улыбаясь, молодой красногвардеец — связной, за ним еще трое…
— Вот и я! — весело объявил как с неба свалившийся Петр Алексеевич Кобозев. — Конспиративно. Это моя Алевтина Ивановна, извольте любить да жаловать. — Он слегка подтолкнул вперед миловидную молодую женщину, которую, впрочем, все знали отлично. — С нами сцепщик вагонов товарищ Петров. Он меня, как говорится, информировал насчет обстановки здесь и вызвал Алевтину Ивановну. Сообщаю, что назначен чрезвычайным комиссаром Оренбургского края по борьбе с дутовщиной. — Сияя ослепительной улыбкой, он поздоровался с каждым, Цвиллинга и Левашова крепко обнял. — Получил мандат в Петрограде на право воевать с дутовскими белогвардейцами. А? Как вы думаете, не осрамимся?
— За людей ручаемся, — сказал Левашов. — Но вот!.. — Он сделал выразительный жест, азартно прицелясь глазом. — Нету!.. Плохо. Мало.
— Возможности вооружать наши военные отряды очень ограничены. И на Самару рассчитывать трудно… Куйбышев сказал, что они сами накануне восстания; кругом кишит белогвардейщина, сил еле-еле хватит для себя. Но обещал все-таки выделить для нас тысячи две винтовок и восемь орудий. Поеду еще в Кинель, Сызрань и снова в Самару… А здесь я должен сделать доклад на совещании большевиков-активистов о революционных событиях в стране и рекомендовать вам немедленно организовать военно-революционный комитет для борьбы с Дутовым.
— Подпольно придется собраться, — сказал Константин Котов. — Опять сподобились по милости атамана!
— Алибий где? — спросил Цвиллинг, от души радуясь появлению Петра Алексеевича.
— Он побывал в Петрограде, встречался с Лениным и назначен чрезвычайным военным комиссаром Тургайской области. Мы с ним вместе приехали в Бузулук, чтобы создавать красногвардейские отряды. Воевать за Тургай он начнет под Оренбургом: блестящий агитатор среди националов!..
— Хорошо, что у нас два комиссара, посланных Ильичем. Значит, найдется и оружие. — Цвиллинг помедлил, задумчиво щурясь, словно всматриваясь в картины будущей борьбы. — Надо предъявить Дутову ультиматум о передаче власти ревкому, который мы создадим, а прежде всего потребовать от имени рабочих освобождения арестованных товарищей. Залог успеха в сплоченности наших рядов. Главные мастерские уже забастовали. Остальные заводы и предприятия поддержат бастующих. Немедленно созовем собрание Совета рабочих и солдатских депутатов без меньшевиков и эсеров, с участием командиров преданных нам воинских частей. Организуем Военно-революционный комитет и передадим ему всю власть в городе и гарнизоне… В том, что осталось от гарнизона.
— Дельно! — Кобозев слушал и посматривал на свою Алевтину Ивановну, увлеченно шептавшуюся со Стрельниковой. О чем они? Женщинам особенно тяжело во время забастовки: дети ведь останутся без хлеба! Подхлестнутый этой мыслью, он заявил решительно: — Как только забастуют все, Дутова надо сразу арестовать!
— Вот бы! — Лицо Цвиллинга так и вспыхнуло. — Но очень хитер и осторожен атаман. Да и охрана у него надежная.
Кобозев задумался.
— Сегодня же в ночь, после совещания, я уезжаю обратно. Семью оставлю в Бузулуке. Надо активно мобилизовать местные силы, но без помощи Центра не обойдемся.
Целую неделю на громадных митингах в цирке Камухина Цвиллинг вместе с другими большевиками открыто выступал против власти Дутова. Атаман рвал и метал. Казачьи патрули и отряды гарцевали по всему городу, но очень уж грозно выглядел безоружный, дружно ощетинившийся рабочий народ. Число забастовщиков быстро увеличивалось, и Дутов вынужден был уступить: арестованных выпустили.
— Вот что значит сплоченность, — сказал Александр, встретясь с товарищами. — Нас еще мало по сравнению с количеством наших врагов. Но мы оказались сильнее. Когда мы все выступим, как один, за правое дело, победа будет за нами. — Щеки Александра впали, но глаза светились радостью.
— Был там с нами в тюрьме хлюпик один — терзал Лермонтова и плакал. Похоже, провокатор.
— Что значит «терзал Лермонтова»? — поинтересовался Цвиллинг.
— Стихи читал. На память. Даже надоел всем… Хотя стихи замечательные! «Печально я гляжу на наше поколенье…» Помните, как там дальше? Прямо бьет по морде барановских и прочую сволочь:
Я слушал, слушал и говорю этому хлюпику: «Вот за равнодушие мы вас будем бить, а то вы вечно плачете, каетесь да опять перед властями лебезите».
Четырнадцатого ноября в Караван-Сарае собрался Совет рабочих и солдатских депутатов, созванный партийным комитетом.
Заседали в большом зале, когда в окна уже смотрела черная ночь. Несмотря на поздний час, народу пришло много. Семенов-Булкин и Барановский со своими приверженцами тоже явились, надеясь разрушить единство рабочих, дружно перешедших на сторону большевиков.
— Похоже, они проведали о нашем решении создать Военно-революционный комитет и хотят сорвать заседание. Неужели рассчитывают, что и мы пойдем на поклон к Дутову? — сказал Александр Коростелев Цвиллингу. — Но как они брызнут отсюда, когда услышат наш ультиматум атаману!..
— Ты прав: сразу сбегут, когда услышат, что мы готовимся драться с ним. Страшно ведь идти на смерть…
— А тебе не страшно? — спросил Александр, заглянув в глаза Самуила.
— У нас выбора нет: уступка Дутову хуже смерти.
— В том-то и дело!..
Александр умолк, ласково улыбнулся: оживленная группа девушек занимала места в креслах. Рослая Соня Бажанова, держа под локоть Лизу, совсем тоненькую в черном, строгом жакете, что-то шептала ей на ухо. Мария Стрельникова, на ходу переговариваясь со знакомыми, пробиралась вперед и, может быть, от сознания важности момента казалась неприступно-гордой. Виринея Сивожелезова прошла между рядами сидевших депутатов, тоже заносчиво вскинув голову, но это для того, чтобы скрыть смущение, заняла свободное кресло и с преувеличенным старанием стала поправлять концы темненького полушалка.
Переглянувшись с товарищами, Александр Коростелев направился к президиуму: надо было утвердить ультиматум Дутову и первым приказом ревкома сразу взять власть в свои руки. Цвиллинг уже сидел за столом, положив рядом шлем, связанный из верблюжьей шерсти.
— Надо спешить, — сказал он Коростелеву. — Казаки могут напасть на нас в любую минуту. Открытую мобилизацию наших сил они дольше терпеть не станут.
Текст ультиматума атаману был принят с воодушевлением. Когда депутаты дружно проголосовали за создание Временно-революционного комитета, а потом за его приказ, предлагающий Дутову немедленно сдать власть, Александр вскочил с места.
— Чего ты?.. — Самуил оглядел зал, держа проект резолюции по следующему вопросу — о военной мобилизации, увидел, как заторопились к выходу Барановский и Семенов-Булкин, и насмешливо улыбнулся: — Уносят свои грязные хвосты! Доносить побежали?
— Я бы их арестовал сейчас и хотя бы до утра продержал в кутузке, — сказал Александр.
— Следовало бы, — согласился Цвиллинг. — Но вроде неудобно с этого начинать. Все равно завтра предъявим ультиматум и приказ ревкома.
— Ультиматум силен неожиданностью. Да еще и дожить надо до завтра…
— Чего ты волнуешься? — Андриан Левашов с чувством торжества, как и многие в зале, посмотрел вслед уходившим соглашателям. — Теперь наша взяла.
— Вы беспечны, словно дети!.. — Коростелев покачал головой и передал ему проект резолюции о мобилизации красногвардейцев. — Зачитывай!
Послушав, как энергично зазвучало в зале решительное слово ревкома, он подумал: «Ход истории сам диктует тактику своим движущим силам. В конце-то концов черт с ними, с этими подонками!»
Долго гремели аплодисменты. Рабочие и солдаты не жалели ладоней, довольные тем, что наступило время переходить к настоящему делу. Но за окнами вдруг послышался топот скачущих конников.
— Нас окружают казаки! Не меньше сотни! И школа прапорщиков! — крикнул, вбегая в зал, Харитон Наследов. — С винтовками, с клинками! А у нас? Только вот!.. — Он протянул к столу президиума тяжелые пустые руки. — Ну хоть бы берданки разрешили прихватить! Хоть бы дробью полоснуть гадов!..
У входа уже началась свалка: вооруженные казаки, отбрасывая рабочих, стоявших на страже, врывались в зал.
— Вот этого я тоже боялся!.. — почти спокойно сказал Цвиллинг, натягивая свой шлем и рассовывая по карманам бумаги из папки.
Депутатов вытеснили в полуосвещенный уличным фонарем двор Караван-Сарая. Метавшаяся из стороны в сторону, но не впавшая в панику толпа, выдерживая наскоки вооруженных дутовцев, плотно сбивалась, пряча вожаков. Тогда началась расправа: казаки стали избивать нагайками депутатов, выхваченных наугад, угрожая расстрелом. Чтобы прекратить эти истязания, Александр Коростелев, Цвиллинг и член Совета Мария Макарова сами вышли вперед.
Подсвечивая себе фонариками, казаки обыскали их. Найдя в кармане Цвиллинга приказ о назначении его комиссаром, они ударили его рукояткой револьвера по голове, потом стали бить куда попало, а войдя в раж, принялись избивать всех подряд.
Когда под нагайкой упала Макарова, Коростелев кинулся в защиту, как хаживал раньше в кулачные бои, и сразу потеснил нескольких казаков, но два дюжих бородача повисли на нем, точно волкодавы, третий взялся охаживать его нагайкой.
Рабочие старались держаться теснее, чтобы не дать затоптать лошадьми тех, кого сбивали с ног. Так казаки и вытолкали всех слитной толпой со двора Караван-Сарая, а там, выстроив по четыре в ряд, погнали по Николаевской улице, едва освещенной фонарями. По бокам — конвойные казаки с шашками наголо, офицеры с револьверами, чуть поодаль — верховые, а позади, на автомобиле, пулемет.
Холодный ветер бросал мерзлой крупой в разгоряченные лица, лаяли за высокими заборами охрипшие от злости собаки, и голоса конвойных звучали дико, хрипло. С Николаевской повернули на Неплюевскую и повели всех к дому хозяйственного управления Оренбургского казачьего войска, с большим залом на втором этаже.
«Девчат наших не видно. Значит, убежали… Неужели и Лизу били эти мерзавцы? — думал Александр, в темноте и суматохе потерявший сестру из виду. — Вот опять им с мамой тяжелые переживания!..»
— Я все жалею, что мы упустили с собрания Барановского и Семенова-Булкина, — сказал он Цвиллингу, шедшему в соседнем ряду. — Продержались бы денек, тогда сила была бы на нашей стороне.
— Ма-алчать!.. — Казак, покачивавшийся в седле с краю колонны, угрожающе взмахнул нагайкой. — Горячих захотелось?..
…А Лиза Коростелева и Соня Бажанова бежали в это время домой мимо наглухо закрытых ставнями окон в домишках предместья. Шавки и барбосы бесновались у подворотен, заслышав дробный стук каблучков.
— Сашу-то опять в тюрьму… — говорила запыхавшаяся Лиза. — Мучить ведь будут… Хорошо, Георгий успел уехать в Сибирь от губпродкома, а то с его больным сердцем… и мама… какой удар для нее!
— Не один Александр Алексеевич… — сказала Соня, чтобы успокоить подругу. И сама ужаснулась: — Все погибло!..
— Дело революции не погибнет! — с горячностью возразила Лиза. — Есть Петроград! Ленин! И мы!..
Соня подхватила ее под руку.
— Я понимаю…
Мать, Наталья Кондратьевна, заслыша стук в дверь, открыла сразу: видно, ждала, томясь беспокойством. По звуку шагов, по прерывистому дыханию девчат поняла: опять стряслась беда. Но спросить на могла: удушье сжало горло. Только смотрела широко раскрытыми глазами, полными горестной тревоги.
«Догадалась!..» — мелькнуло у Лизы, и она сказала с деланной беспечностью:
— Всех наших заграбастали! Так и повели целой толпой.
— Били?
— Нет, что ты! — Лиза поймала взгляд матери, устремленный на порванную жакетку Софьи, прикрыла рукой горящий след нагайки на своей шее, будто поправляла косу. — Это мы в саду… Об кусты, когда убегали от казаков…
— А Саша?
— Сашу увели… — И, сразу представив себе смертельную опасность, угрожавшую брату и его товарищам, Лиза обняла мать и заплакала.
Короткая передышка кончилась, и снова надо отчаянно бороться за лучшее. Мать была первым товарищем детей в этой жестокой борьбе. Никогда ни одного упрека не бросила она им за беспокойную долю, за трудную старость, и Лиза, вытерев слезы, нежно потерлась щекой о ее плечо, обтянутое бумазейной кофтой, прислушалась, как сильно билось ее растревоженное сердце.
Пока оно бьется рядом, любое горе можно перенести.
Соня, прислонясь к косяку двери, молча смотрела на Коростелевых, которые были для нее ближе всякой родни.
В квартире тихо, только тикали на кухне часы-ходики. Пахло свежеиспеченным хлебом, щами и картошкой, томленной в печи.
Может, обойдется по-доброму?
Грохот лошадиных подков и бешеный стук в дверь вспугнули женщин. Бросившись к окнам, они увидели: дом окружили конные казаки. Наталья Кондратьевна, отстранив девчат, открыла дверь сама, и сразу ввалились бородачи в папахах, грубо затопали по тесным комнаткам, перевертывая все вверх дном: искали Георгия. Пока шел этот погром, мать успела собрать для Лизы узелок с едой: мягкий калач, бутылку молока, шаньги с картошкой.
— Узнай, как там Саша? Да пишите, пишите мне хоть изредка!
Соню казаки не взяли…
Утром начальник милиции — меньшевик Гомпашидзе, — увидев Лизу среди арестованных, удивленно поднял чернущие брови: он принял ее перед этим на службу в канцелярию уголовного отдела.
— Вы зачем здесь?
— Ночью забрали.
— Идите домой. Мы своих не преследуем.
— Я хочу узнать, что с братом. Александр Алексеевич Коростелев мой брат.
— Ай-яй-яй!.. Такая миленькая девушка — и такой брат! Не думал, не предполагал!
— Куда его поместили? Надолго ли? Я должна о нем хлопотать.
— Пусть сам сатана о нем хлопочет. Вам с ним общаться нельзя: он политический преступник. Надо порвать с ним. Иначе мы доверять вам не будем.
— Я не могу оставить брата в беде.
Гомпашидзе нетерпеливо поморщился, с досадой стукнул по барьеру кулаком, туго обтянутым перчаткой:
— Неразумная девушка! С должности увольняю. Хочешь помочь ему, иди к полковнику Дутову, вот с ними вместе. — Он кивнул сизовыбритым подбородком на женщин, теснившихся за барьером. — Одного поля ягодки.
Небольшую открытую машину, которую женщины выпросили в губпродкоме, подбрасывало на застывших ухабах дороги. Непривычная к такому способу передвижения Лиза держалась обеими руками за облупленный борт, отворачиваясь от резкого ветра, думала о братьях и матери, о разговоре с Дутовым.
Он принял просительниц неожиданно быстро, коротко поговорил, прямо ответил на вопросы об арестованных:
— Ваши в Сакмарской.
Разрешил передачу и выпроводил, холодно кивнув на выход крупной большелобой головой. Запомнились его серые выпуклые глаза, короткая шея и крепко поджатые губы.
— Настоящий бугай! — сказала сердито одна из женщин, выйдя за дверь.
— Молчи-ка! Спасибо, разрешил свидание, — испуганно оглядываясь, одернула ее другая, постарше.
А Лизе показалось, что быстрый доступ к атаману, и сухая деловитость его, и разрешение это — все от уверенности в успехе, от желания показать свою силу.
«Пожалуй, нам правда нелегко будет справиться с ним! И почему он отправил наших в Сакмарскую? Неужели хочет, чтобы казаки растерзали их самосудом? Там же все богатеи, да еще старой веры держатся. А других большевиков в такие же станицы по Уралу?..»
Потрепанный «форд» шел по безлюдной осенней степи, пересчитывал бревна на тряском мосту через Сакмару у села Татарская Каргала, катился по лесистой сакмарской пойме. И вот показались добротные дома на широких улицах, белые стаи гусей во дворах, цепные собаки за частоколами и плетнями. Зажиточно, неприступно жили казаки Сакмарской станицы.
Неприветливо глянули на приезжих бородатые старики, сидевшие на лавках вдоль стен в станичном правлении.
— Чево вам? — Узнав, злобно оскалились, завозились, точно лохматые псы: — Большевички!.. Носит вас!.. Комиссарши советски! Прижали вам хвосты, а туда же, на автонабиле раскатывают. Спихнуть бы с моста в Сакмару с вонючей этой коляской…
Однако бумагу Дутова станичники приняли с уважением, долго рассматривали, задевая бородами, — почти все были неграмотные. Прочитал ее вслух писарь. Старики пошушукались, вызвали двух молодых казаков и наказали проводить женщин в кутузку к арестованным.
— Нужно добиться, чтобы нас перевели в городскую тюрьму, — говорил Лизе обрадованный Александр, согревая ее озябшие руки в своих ладонях. — Дутовцы (и меньшевики, конечно!) рассчитывают на то, что нас тут убьют. И могла быть сразу самочинная расправа. У-у, как нас приняли! Сбежалась вся станица, бабы и те с дрючками, а одна православная старуха икону притащила!.. Лезет вперед, вопит: «Глядите, у них хвосты и рога! Антихристово племя!» Спасибо, рассмешила народ. Сначала-то все шарахнулись. Вот дикость, вот темнота! А живут богато, настоящие помещики.
— Ну какие они помещики! — Лизу поразили кудлатые старики в станичном правлении, то, как беспомощно они вертели в заскорузлых руках приказ Дутова. — Просто оседлые скотоводы.
— Ишь ты, экономистка! Ну, давайте попьем чайку со всей компанией. Отдохнете, согреетесь.
Сложенный из дикого камня амбар, где сидели большевики, стоял во дворе возле высокого, как в остроге, частокола. В маленькое оконце виднелись большой пятистенный под железом дом и копны сена, наметанные на крышах скотных базов.
Выйдя раньше других, Лиза увидела у коновязи пару лошадей, запряженных в рессорный тарантас, и красавицу казачку в нарядной шубе и белом пуховом платке, стоявшую в повозке. Собака, бесновавшаяся на цепи у амбара, исчезла, но где-то близко за плетнями слышалось ее грозное рычание. Что-то знакомое померещилось Лизе в лице степнячки. Всмотрелась и, ахнув, торопливо пошла к ней.
— Наследова? Фрося?
Фрося вздрогнула, спрыгнула с повозки, порывисто шагнула навстречу, залившись алым румянцем.
— Лизавета Алексеевна!
— Ну зачем так?.. Зови меня просто по фамилии. Это ты совсем другая стала, а я все та же.
— Не попрекайте меня! Не ради богатства польстилась я на замужество.
— Любовь? — строго спросила Лиза.
Глаза Фроси еще ярче заблестели, еще сильнее зарделись щеки, но только вздохнула легонько: видно, стеснило грудь волнение.
— Значит, счастлива?
— Почти.
— Чего же не хватает?
— Со своими помириться хочу. С маманей, братьями.
— Братья у тебя стоящие люди, — уважительно сказала Лиза. — Но с казаками нам сейчас не по пути: они с Дутовым против Ленина и рабочих пошли…
— А при чем тут я?
— Ты?.. Выбирать тебе, наверно, не придется, выбрала уже.
— Нестор не пойдет против рабочих, — шепнула Фрося и обернулась: из ворот база выплыла вторая невестка Шеломинцевых — Аглаида в богатой шубе, из-под которой выпирал, колыхаясь на ходу, целый ворох сбористых юбок. Кашемировая шаль, подбулавленная под жирным подбородком, туго обтягивала щекастое улыбчивое лицо.
— Сичас работники Верного на нову цепь посодют. Чуток своих не разорвал, проклит. Редко бывам у моих папани с маманей, вот он и отвык. Мишаню, поди-ка, вовсе бы не признал. А ты чаво тут с комиссаршей бобы разводишь? — насмешливо спросила она Фросю. — Они на машине прикатили к своим арестованным. — Подошла к Лизе, уперев руки в боки, пышная, большая, румянощекая, оглядела ее победоносно: — Чаво вы с нами боритесь? У нас пушки да полки конны, а у вас, рабочих, одни штаны драны, и жрать вам нечего.
— Не надо так! — попросила Фрося, заливаясь снова жгучим румянцем, но уже от стыда за грубость старшей снохи, которую Нестор нарочно сразу завез из Оренбурга погостить к родителям, чтобы без помехи заглянуть потом в Нахаловку. — Разве рабочие виноваты в том, что им есть нечего?
— Пили бы поменьше! — бросила Аглаида.
— У нас никто не пьет, — с досадой ответила Фрося.
— Ну и того хуже, коли ни пожрать, ни выпить… Ты не заступайся за свою бузотерску родню! Погостили бы у моих в Сакмарской. Все равно твои братья вас с Нестором опять турнут, хотя этак-то лучше будет: по крайности, перестанешь, как волчонок кормленый, в лес глядеть.
Когда машина снова завиляла по улице села, Лиза оглянулась на двор родителей Аглаиды, где дюжий работник распрягал взмыленных лошадей. Суетились у тарантаса женщины, доставая узлы и свертки, передавали с рук на руки, как сноп, укутанного в одеяло горланящего малыша. Появился откуда-то красавец хорунжий, зашагал к дому рядом с Фросей, прильнувшей к его плечу. Это невольно задело сердце Лизы, и она на миг оправдала дочь Наследова: сразу видно, как счастливы молодые!
Но наивные слова Фроси о казачьем атамане вызывали досаду.
«При чем здесь я?» Вот здорово!.. Братья — революционеры, отец хоть и прихрамывал за эсерами, но тоже настоящий пролетарий, а она будто с другой планеты свалилась. Кем ей теперь доводится эта толстомордая? «У нас пушки! У нас полки конны!» Надо же!..
Подростки-казачата, подкараулив машину на выезде из станицы, стали бросать в нее камни. Одной женщине пробили голову. Бывалый шофер прибавил скорость и остановился только в пойме, когда крыши Сакмарской скрылись за чащами голых белокорых осокорей с пепельно-русыми верхушками. Все понимали, что возвращаться и жаловаться бессмысленно. Глядя, как Лиза перевязывала раненую женщину разодранными платками, шофер сердито сказал:
— Казачье, точно крысы, осатанели бы, кабы эту кровь увидели. Набросились бы на нас — терзать. А что вы думаете?.. Крысы — самые хищные животные. Летом мы видели на фронте, как они через окопы перли с германской голодной стороны — вся земля кругом шевелилась, кошек, собак моментально сжирали. Лошадь была привязана, и ту слупили.
Лиза, хлопоча возле раненой, вспомнила ночь ареста в Караван-Сарае, когда казаки избивали всех подряд. Тогда в темном дворе, тесном от многолюдства, они походили не на крыс, а на волков. И теперь мысли о Фросе, сияющими глазами смотревшей на своего мужа, одетого в форму казачьего офицера, вызывали у Лизы только жаркое негодование: Подумаешь, любовь! Будто нельзя было взять себя в руки! Правильно сделают Наследовы, если не пойдут на мировую…
В Оренбурге, едва въехали в пригород, сразу узнали, что объявлена всеобщая забастовка. Напуганные лица обывателей, торопливо шнырявших по улицам, усиленные казачьи разъезды, разгонявшие толпы рабочих, собиравшихся в группы, — все наполнило Лизу тревожным и гордым предчувствием бури. «Свободу нашим братьям рабочим!», «Позор атаману Дутову!», «Всеобщая забастовка — ответ палачам!» — грозно заявляли броские надписи, выведенные на стенах и на заборах.
— Видно, товарищи не дремали! — говорил шофер, одобрительно посматривая по сторонам. — Вот смелость!.. Смотри ты: пекари и колбасники тоже забастовали? А что господа будут кушать?
Дома Лизу ждала тревожная радость: вернулся Георгий. Обнимая брата, она с трудом удержалась от слез после пережитых волнений.
— Значит, уволили тебя за неблагонадежность? — полушутя спросил Георгий и добавил уже серьезно: — Ничего, сестренка, сейчас весь рабочий класс Оренбурга сам увольняется.
— Чем жить-то будем? — сокрушенно, но покорно сказала мать.
— Ничего. У многих дома — шаром покати, и детишки малые, а смотри, как дружно забастовали! Завтра идем к Дутову с ультиматумом. Первое: выпустить наших из-под ареста.
— Саша сказал: надо требовать, чтобы их немедленно перевели в городскую тюрьму. — Лиза прильнула к голландке, греясь после злого ноябрьского ветра. — Их нарочно рассовали по разным станицам: надеялись, что казаки сами учинят суд и расправу. Ну и злоба там против рабочих!.. Даже мальчишки…
— Наши мальчишки тоже маху не дадут. — Георгий улыбнулся, и его смугловатое лицо выразило застенчивую доброту, выдававшую всякий раз, когда он говорил о детях, скрытую тоску по семейной жизни. — Только что у меня связные были из Нахаловки: Ефима Наследова сынишка, Павлик, со своим дружком. Такие самострелы сделали себе — держись! Ежели драка будет, разве их удержишь?
— Вот как обернулось! — Нестор остановил лошадей, озадаченно посмотрел на Фросю, поправил на ней, словно на маленькой, завернувшийся край шали.
Она и выглядела подростком: так посвежело на степном раздолье смуглое ее лицо, оттененное белым пуховым платком.
И хотя обстановка в Оренбурге складывалась трудная, проходившие мимо «кавалеры» с веселым любопытством рассматривали молодушку Шеломинцева. Военные крутили усы, звякали шпорами, иные, поразвязнее, подкашливали. Но ни Фросе, ни озабоченному Нестору не было дело до этих лестных, а то и оскорбительных знаков внимания.
— Ну сама посуди, как мы теперь явимся в Нахаловку? Да нас там булыжниками закидают! — Нестору снова вспомнился разговор в землянке Наследовых. — Твои родители меня в прошлый раз чуть на кулаках не вынесли, не мог же я против них оружием обороняться!.. А сейчас вовсе гиблый момент…
— В такую даль ехали!.. — В голосе Фроси жалоба, на глазах — слезы.
— Я думал: приедем, когда мать с дедом будут одни. А тут забастовка. Значит, все дома.
Фрося молча склонила голову — слезы брызнули в белый пух шали. Она столько готовилась! Напекли с Харитиной сдобных лепешек, в сумах кругло сжатые комки желтого масла, битые утки, даже поросенок жареный… И вдруг она засмеялась:
— Ты думаешь, когда бастуют, дома сидят? — Лицо ее озарилось почти вдохновением. — Во время забастовки — митинги. Пикеты ставят у заводских ворот… Нестор, миленький, ну ведь не убьют нас!..
Не чувствуя за собой вины, Нестор только говорил, что забросают булыжниками, в глубине души в эту возможность не верил. С какой стати?! Другое дело, что родные Фроси недовольны ее уходом.
Был у них, оказывается, свой рабочий парень на примете — Костя Туранин… Чутко-ревнивый Нестор, поймав однажды Фросю на слове, сразу уверил и себя и ее, что в этом-то и заключалась сущность домашнего конфликта. Иначе отчего так взъярились Наследовы против него, сына зажиточных, уважаемых родителей?
Унижаться еще раз ему, конечно, не хотелось. Не зря он постарался (хотя и не по пути было) избавиться от такого ехидного соглядатая, как Аглаида. Но все равно не пошел бы он сам в Нахаловку. Чего эти рабочие ершатся, зачем прут на рожон? Ведь с голоду сдохнут без работы, а вот, поди ж ты, объявили забастовку, требования войсковому атаману предъявили. Дескать, наших не тронь. Но атамана забастовкой вряд ли испугаешь!
— Заедем? — упрашивала Фрося, ласково заглядывая в лицо мужа. — Чего нам бояться, ведь не маленькие, не подневольные. Если что… повернемся да ходу!
— Ну ладно. Только, чур, не плакать, если выволочку дадут! — Нестор поправил упряжь, сел в тарантас, разобрав вожжи, притянул к себе обрадованную Фросю. — Гляди, Шеломинчиха, не поддавайся ни на окрики, ни на улещивания. Вздумаешь остаться — и тебя и себя жизни решу.
— Тьфу тебе, глупый! Разве можно такими словами шутить?
— Шутя люди мед пьют. Живем шутя, а помираем взаправду.
— Не надо о страшном… — Фрося просунула руку под локоть Нестора, изо всех сил тряхнула его, но он только усмехнулся, кося на нее из-под чуба повеселевшим глазом.
В Нахаловке было многолюдно, несмотря на будний день. По ухабистым улицам, припорошенным снежком, то и дело проскакивали разъезды казаков, обдавая нахаловцев горячим дыханием лошадей и ошметками мерзлой земли.
Повозка пересчитывала уличные колдобины, Фрося смотрела по сторонам, и сердце ее тоже прыгало по каким-то своим ухабам. Сколько времени не была она в Нахаловке? Пять месяцев или целую вечность?
Вот здесь она с Лешкой наскочила ночью на бывшего жандарма Хлуденева. У этой землянки играла с подружками. По той улочке бегала с Виркой в пойму Сакмары за цветущим жимолозником — убрать землянки к троицыну дню. А здесь… Все прошлое, словно перечеркнутое встречей с Нестором, вдруг ожило… Потом она заметила отчужденные взгляды непривычно праздных рабочих и женщин, сразу умолкавших при виде богатого выезда. Булыжниками кидаться никто не собирался, но смотрели сурово, даже с ненавистью, на отличную повозку, запряженную парой выхоленных лошадей, с бравым кучером — казачьим офицером и на нее — бывшую босоногую девчонку, не ко времени, не к месту нарядную и оживленную.
Лица все были строгие, с впалыми щеками и глазами, окруженными въевшейся копотью. Не цвела улица пестрыми полушалками, низко над землей лежали кровли жилья, поросшие мхом да щетинистой бурой полынью. И Фрося вдруг заробела: как-то примут ее с Нестором дома, может, и на порог не пустят? Шутка сказать, общая забастовка! Значит, решили с голоду умереть, но настоять на своем: освободить из тюрьмы товарищей. Снова, опаляя тревогой, возникла мысль, что, может быть, и из родных кто-нибудь сидит в атаманском застенке. Вон они какие ершистые: отец, братья (Харитон особенно!), Туранины, Левашов, рабочие Хлуденевы и муж беленькой Зины — Заварухин. Сидят они, наверное, за решеткой, и порют их там розгами, оттого и лица у встречных темные, как у святых на иконах.
От таких мыслей Фрося совсем сникла. Но вот завиднелась землянка родителей с новыми окнами, с гладко умазанной земляной крышей, и Нестор, от напряжения и неловкости заносчивый с виду, круто осадил лошадей у ворот, сколоченных из тонких тесинок.
Заслышав шум экипажа, выглянул из сеней сам Ефим Наследов и словно пристыл на порожке. Сутулясь под низкой притолокой, он молча сверлил светлыми глазами бледное лицо дочери, подходившей к нему неровной от волнения походкой.
— Папаня! — вскрикнула Фрося и, не выдержав холодности встречи, точно вихрем подхваченная, с плачем бросилась перед ним на колени.
Нестор нехотя подошел к Наследову и тоже опустился рядом с Фросей, приневоленный ее бурным порывом.
— Папанька, чего они просят? Кто это? — изумленно спросил вывернувшийся из-под руки отца Пашка, веснушчатый, с торчащими рыжими вихрами, но догадался, смутился и от неожиданности заорал во все горло: — Мамань, Харитоша, дедушка, гляньте: Фрося!..
— Брось ты!.. — отогнал его Ефим и, сутулясь сильнее обычного, вышагнул из сеней: — Зачем пожаловали?
— Прощенья просить… Маманьку… — задыхаясь от рыданий, заговорила Фрося.
— Я не поп. Грехи не отпускаю.
Нестор глянул снизу смело, даже дерзко.
— Какие же у нас грехи? Мы перед богом и людьми муж да жена, честно обвенчанные. Фрося вам кланяется, чтобы до матери допустили — повидаться.
— Так чего же вы передо мной, ровно перед архиереем, по земле елозите? — спокойно, но потому и жестко спросил Ефим. — Я не киргизский бай, жену за занавеской не прячу. Пусть повидаются.
— А вы, папаня, с нами и поговорить не хотите? — Фрося медленно поднялась, вытерла ладонью заплаканное лицо.
— Об чем нам разговаривать?! Мы теперь люди вовсе чужие, можно сказать, из разных лагерей.
— Вовремя, гостеньки дорогие! — поддал жару Харитон, вразвалочку вышедший из сеней.
Он стал возле отца, вольно развернув мощные плечи, сунул кулаки в бока, задиристый, непреклонный. На широком лице кровоподтеки и ссадины, один глаз заплыл синей опухолью — еле светится из щелочки.
Дед Арефий протолкнулся вперед, расцвел в детской улыбке, но улыбку как сдунуло при виде Нестора. Неловко замявшись, подался старый обратно в сени.
Фрося растерянно вскрикнула:
— Харитоша!.. Дедушка!..
Мать выбежала, на ходу поправляя завязки чистого фартука, густые пряди рыжих волос упрямо вылезали из-под наспех повязанного нового ситцевого платка, взглянула на застопоривших у двери мужчин, на дочку, такую нарядную среди крохотного бедного дворика.
На миг будто обожгло испугом: на какие деньги смогла приобрести Фрося белую пуховую шаль с кружевной каймой, кто ей купил богатую шубу, крытую тонким сукном, отороченную дорогим мехом? Да и вся шуба, сразу видно, не на рыбьем меху! А сама-то Фросенька еще лучше стала: выровнялась, расцвела, знать, в холе живет!
И зачем тут оказался молодой казачий офицер, оттесненный от столпившейся семьи широко растопыренными локтями Харитона? Однако по тому, как он тянулся к Фросе преданным взглядом, по колечку, блестевшему на ее руке, Наследиха сразу поняла: зять это.
«Значит, не ради утешенья говорили мне ребята, что Фрося за богатого казака вышла. И с виду молодец хоть куда…»
Гордость ворохнулась было в материнском сердце, подтолкнула к беглянке, но, снова взглянув на враждебно холодные лица своих домочадцев, Наследиха подумала о Мите. Лежал милый сын, после казачьего налета, почернев, захлебываясь кровью, со следами конских подков на окровавленной разодранной рубахе. Словно щенка растоптали, и ни с кого спросу нет!
Протянутые было руки опустились, и уже с острой неприязнью мать посмотрела на сытых лошадей в добротной повозке, пряча глаза от Фроси, сказала сдержанно, сухо, даже жестко:
— Что ж ты? Пропала вовсе…
— Маманя! — Фрося с мольбой придвинулась к матери. — Не пропащая я. Вот, с мужем приехали. Все по закону выполнили, маманя!
— Господи, да разве о том разговор? Только нету нам радости от твоего замужества. Какая же это родня, когда они, станичники твои, наших смертным боем бьют? Лучше бы ты в подоле принесла… Мы бы тебя, по крайности, жалели.
Наследиха закрыла лицо фартуком, словно горячий чугун ухватила, и не то застонала, не то зарычала от нестерпимой душевной боли.
Фрося ошеломленно слушала мать: какие страшные слова говорит!
— Митя-то лежит, кровью плюется. — Пашка, точно затравленный волчок, сверкнул глазами на сестру и Нестора. — Помяли его ваши лампасники… Эх, ты-ы, променяла нас на жирный кусок!
— Не смеешь так со мной! Мал еще, — тоже ожесточись, крикнула Фрося и опять заплакала. — Почему Митю-то?.. Он лучше всех! Он самый добрый…
— За то и искалечили его казаки. Хуже зверья накинулись на рабочих, когда разгоняли собранье… Лежачих лошадьми топтали, — сказал отец, не повышая тона, но такое прозвучало в его голосе, что Нестор, еще не опомнившийся от оскорбления, вздрогнул, увидев глубину пропасти между собой и этими людьми, и впервые устыдился своего казачьего звания.
«Чего наши все лезут в чужие дела! Себе воли требуем, а других в бараний рог гнем!»
Фрося, потрясенная семейным горем, кинулась к повозке, выдернула баул с гостинцами и, потеснив родных, направилась в землянку.
— Это еще зачем? Кому привезла? — зло спросил Харитон, загораживая ей путь.
— Мите. Его нельзя сейчас морить голодом. Плохо, когда кровь горлом… Ведь не мы с Нестором виноваты. Почему вы нас так встречаете? Меня его родные, хоть и богачи, по-людски приняли.
— Они тебя, донюшка, как перебежчицу взяли, а ты и поверила… — скорбно отозвался из сеней дед Арефий.
А Харитон грубо вырвал из ее рук тяжелый баул и разом вытряхнул все, что в нем было, за ограду.
— Не нужны нам ваши подачки! — мрачно проговорил он, глядя, как покатились желтые комки масла, тяжело шлепнулись потрошеные утки, мешок с кокурками и в развернувшейся бумаге настоящее чудо — зажаренный поросенок.
Раскрыв рот, Пашка смотрел ошалело на выкинутые богатства. Мосластый, заморенный пес вывернулся неизвестно откуда на своих широко раскоряченных лапах, схватил поросенка вместе с промасленной бумагой.
— Ах ты!.. — крикнул мальчик, кинувшись вслед, но спохватился, смущенно сказал: — К кирпичным ямам потащил. Бездомовый…
Словно чем-то отравленный ходил в эти дни Ефим Наследов, прислушивался к хриплому дыханию Мити, поправлял немудрящие подушки под его головой, вытирал кровь, сочившуюся тонкими струйками изо рта при каждом движении, а то подолгу стоял во дворе, на холодном ветру, глядя в мутное ночное небо.
— Иди-ка ты домой, отец, не блажи! — сердито загоняла его в землянку Наследиха. — Застудишься да свалишься — двойная беда мне будет!
— Сердце я застудил, Евдокия, — сказал он однажды. — Будто крыга ледяная в груди.
— Сичас чайку с сушеной малинкой, — не поняв, засуетилась она.
— Да не в малинке дело. Жизня у меня на перекос пошла. Одно хуже другого: сына изувечили, дочь в волчью стаю сбежала…
Наследиха смотрела, грустно помаргивая, ждала, что он скажет еще: ее ли саму не ударили эти беды?! Но Ефим замыкался, пряча непривычную печаль. Все понятия перевернулись в нем, когда вместе с Левашовым и братьями Хлуденевыми нес он домой по темным пустырям еле живого Митю. Глядя на иссеченное нагайками лицо сына, измятого копытами казачьих лошадей, Ефим Наследов слушал разговоры рабочих о предательстве эсеров и задыхался от горя и стыда. А на рассвете в землянку ворвался Харитон и крикнул:
— Может, ишо побежишь своего Барановского на ручках к атаману доставить? Они с Семеновым-Булкиным мозоли набили, бедняжки, покуда шмыгали с доносами — казаков вызывали. Мало того, ночью заодно с Дутовым над арестованными куражились.
— Неужто до того дошло, будто социалисты помогали Дутову при допросах? — спросил Ефим слесаря Константина Котова, которого теперь избрали помощником начальника штаба Красной гвардии (начальником стал Левашов).
Человеком нелегкой, трудовой жизни был Котов и слов на ветер никогда зря не кидал.
— Точно, — ответил он на вопрос Ефима. — Ребята, которых отпустили после ареста, в один голос говорят: вместе с Дутовым сидел за столом твой Барановский, когда рабочих допрашивали.
— Мой? Кой черт его мне всучил?
— Никто не всучал, сам ты ухватился. Не зря говорят: гнилой товар — на слепого покупателя.
— Да я руки себе отрубил бы теперь за то, что его, поганца, под зад поддерживал.
Котов улыбнулся:
— Лучше этими руками дать ему, а заодно и атаману хорошую взбучку.
— Пиши меня в гвардию. Я этот позор с себя ихней гадючьей кровью смою.
В один из маетно-длинных дней забастовки Ефим Наследов, сам не зная зачем, забрел в паровозосборочный цех. Там стояла непривычная тишина. Только перелетали, чирикали под крышей голодные чумазые воробьи, смело прыгали по паровозам, стоявшим в ожидании ремонта по обе стороны приемного моста.
Сколько раз, приняв вместе с товарищами очередной паровоз, приступал здесь Ефим к своей работе слесаря!.. Гулко отдавались в вышине под закопченными сводами удары молотков по металлу, скрежет и лязг железа.
В нагаре и ржавчине, грязные от натеков смазочных масел, с котлами, забитыми накипью, приходили сюда, как в стойла, больные паровозы. Многие тысячи верст пробежали их колеса, бессчетное количество грузов и людей перевезли они! Грубые, но чуткие руки железнодорожных мастеров ощупывали их, простукивали пядь за пядью бока и остывшие утробы, чтобы затем, снова дыша несокрушимой мощью, сверкая чистыми, обновленными деталями, мчались по дорогам страны стальные кони…
Много их прошло через руки Ефима Наследова!..
Недвижно стояли теперь «раздетые» и «разутые» паровозы, и около них не хлопотали, как обычно, рабочие в промасленных до черноты, лоснящихся спецовках: токари, клепальщики, слесари, сборщики. Не вспыхивали огни автогенной сварки, не звенели оглушительно молотки.
Ефим Наследов посмотрел на свои заскорузлые большие руки:
«Нет, шалишь, друг любезный, такие отрубать! Ну, была промашка… прах ее возьми! Да ладно во время драки, а не опосля, все вышло на видноту…»
Он хозяйским глазом осмотрел замерший цех, ряды терпеливо ждавших паровозов.
«Ничего, мы вас выпустим… для Советского государства».
Еще раз вдохнул запах стынущего железа, застарелой масляной гари и зашагал домой: поспать, по крайней мере, коли есть нечего.
Возле самой землянки ему встретилась Вирка Сивожелезова. Сначала он и не признал ее: повзрослела, худая, бледная, повязанная по-старушечьи темным платком.
— Это я, дядя Ефим, — сказала она просто. — Не угадал? Разве так изменилась?
Мелкие морщинки в углах рта и на лбу, черные тени вокруг ввалившихся светлых глаз — сама забота и горе глядели на Ефима Наследова.
— Вирка!.. — удивился он и даже неловкость ощутил оттого, что так назвал ее. — Здорово живешь, Виринея!
— Не больно здорово.
— Говорили, в газете работаешь… Или не ко двору пришлась?
— Да нет. Держусь. Хоть и придираются — комиссаршей кличут, но покуда хватает у них бараньей совести, чтобы не отнять у ребят последний кусок хлеба.
— Достается тебе! — уважительно и с сожалением сказал Наследов. — К нам пришла или папаню наведывала?
— Чужого бы такого топором изрубила, а на своего рука не поднимается: не могу ребятишек от себя отпугнуть. С тем и пришла, дядя Ефим! — Она с отчаянием подергала, потеребила концы платка, торчавшие над впалой грудью. — Забрали Александра Алексеича, теперича у меня заступы нету. А тятенька родимый рад-радехонек, что атаман волю взял. Говорит: я вас, беспачпортных, в любой момент домой возверну и с тебя шкуру на лыки спущу. Вот ведь оно как! Сроду не думала, что какой-то казачий атаман поперек моей жизни станет!
— Мы сами того не думали, дочка… — В голосе Ефима опять дрогнуло что-то жалкое, а не этого она ждала.
Уж не испугался ли он, что Вирка Сивожелезова в нахлебницы к нему хочет проситься?
— Я к Мите и к Харитону пришла, чтоб пригрозили они Сивожелезову, приструнили бы его опять: стыда-то он не имеет. Ежели по молодости им вступиться нельзя, так есть же у вас, рабочих, общественная связь — защита.
— Митя теперича не ходок ни за себя, ни за других: чуть совсем не растерзали парня…
Виринея не поняла и этой отговорки. О Мите она узнала сразу, едва вошла в Нахаловку. Хотела вызвать Харитона, но встретила самого Наследова и все ему сгоряча высказала. Отчего же он вроде отталкивает ее от своих дверей? Ведь мог бы вместе с Харитоном пойти к ее отцу-извергу. Ну хоть что-нибудь посоветовал бы! Чего он стоит, будто мешком из-за угла оглушенный?
А Ефим и правда был оглушен вдруг возникшей мыслью о сходстве своей к Виркиной судьбы: обоим плохо без Александра Коростелева и его товарищей — большевиков, для обоих жизненной помехой стал атаман Дутов, победа которого так радовала и эсеров, и Виркиного отца — отпетого негодяя.
Только увидев, что девушка собралась уходить, Наследов опомнился:
— Куда же ты? Айда к председателю статочного комитета — он тебя должон знать: свой, нахаловский человек. Я с ним и к Сивожелезову схожу. Надо его тюрьмой за убийство вашей матери пугнуть. Мы в свидетели пойдем. А для ребятишек выделим сиротскую долю из рабочей взаимной помощи — все-таки легче тебе будет. Не вешай, девка, нос — найдем управу и защиту.
Деловито-участливый тон Наследова не ободрил, а еще сильнее расстроил Вирку, у нее задрожали губы, подобие румянца появилось на лице, и, словно торопясь смыть эти розовые пятнышки, хлынули слезы.
Только теперь понял Ефим, как наболела душа у девушки, еще подростка, как тяжко и страшно ей быть ответчицей за шестерых малышей.
— Чего же ты, дурочка, к нам не приходишь? Мы с Евдокией рады тебе были бы.
— Когда мне?! — с огромным усилием овладев собою, сказала Вирка. — На работе — пока в глазах не зарябит. Прибегу домой — от черноты не отмоюсь: и постряпать, и починить, и дровец раздобыть надо. И это бы ничего: Нюшка у меня — настоящая выручалка. Да вот беда, стал к ней привязываться сынок купца, такой боров откормленный. Дрожу — душа стынет. Девчонке проходу нет. Что тут делать, дядя Ефим?
— Морду ему своротим набок, вот что!
— Ну и засудят вас, а они правы будут. Отец-то у него — сила. В первой гильдии числится.
— Эка задача! — Ефим поневоле полез пятерней в заросший затылок. — Ладно! Морду сворачивать купчишке подождем. Харитон будет запросто заходить к тебе. Пройдися с ним под ручку раз-другой перед купеческим домом. Пусть с Нюшкой походит по улице. Небось сам отстанет тот стервец, когда Харитоновы кувалды разглядит.
Длинное одноэтажное здание тюрьмы с высоким дощатым забором прохожие обходили стороной. Темные зарешеченные окна, полосатые будки по углам, мерные шаги часовых — все нагоняло тоску. Но Александру Коростелеву после станичной кутузки, окруженной лютой ненавистью казачьего населения, тюрьма показалась чуть не домом родным. Главное, она в Оренбурге, где столько своих, и арестованные товарищи соберутся под одну крышу.
«Вместе мы даже в тюрьме сила», — подумал он, переступая порог камеры, в которую поместили теперь всех большевиков, взятых дутовцами в Караван-Сарае.
— Общая дружная забастовка — новая наша победа, — сказал Цвиллинг, радостно приветствуя Коростелева. — Заставили мы Дутова забрать нас от станичников. Хотя могу похвастаться: я своих сторожей в Павловской обработал. Да и не только сторожей: каждый день ко мне собирались казаки. Стали чаем поить, с разными вопросами обращаться, и наконец я начал им газеты читать, статьи растолковывать.
— Мы тоже время даром не теряли, но Сакмарская — кержачина дубовая, — с сожалением о днях, проведенных в такую горячую пору в кутузке, отозвался Александр Коростелев.
— Скорее бы связаться с рабочими! — сказал Семен Кичигин. — Как там наша подпольная Красная гвардия? Не разгромлен ли штаб, удалось ли достать оружие?
— Со штабом и остальным нашим активом свяжемся обязательно и сами на волю уйдем, — пообещал Цвиллинг, сразу увлеченный осенившей его идеей.
— Каким образом?
— Убежим. Все вместе побег устроим.
— Тридцать-то два человека? — Александр Коростелев засмеялся, потом серьезно посмотрел на Цвиллинга: — У тебя температура не повышена?
— Думаешь, брежу? Напрасно. В одиночку устроить побег труднее. Я теперь убедился: можно добиться чего угодно, если стремление к цели помножить на точный расчет.
— На что же тут рассчитывать?
Цвиллинг потеребил пуговицы на аккуратно заштопанной гимнастерке, которая была разорвана при аресте и допросах, когда его избивали, спросил озорновато:
— А чем поощрите инициативу?
Сбежим — новый френч тебе добудем. Можно и галифе, как у атамана, — полушутя расщедрился Мартынов, член комитета большевиков, занимавшийся делами продовольствия.
— Уж этот атаман!.. Булавой бы его по загривку! Так вот: предлагаю поощрить меня чем-нибудь сладким из первой же передачи. Нечего откладывать до победы! А расчет такой: надо расположить охрану в нашу пользу, проведя политическую агитацию против Дутова и прочей нечисти. Потом вызвать на свидание наших славных девушек и поручить им связать нас со штабом Красной гвардии, чтобы доставили нам оружие. Нас здесь целый отряд, и следует действовать быстрее, пока не спохватились да не рассадили по разным камерам. Разоружим охрану, запрем ее в чулан, а сами во двор. Красногвардейцы наши будут принимать нас прямо с забора и развозить по городу, по заранее приготовленным квартирам. На всю операцию не больше часа. Иначе гибель… И без побега — гибель.
— Бежать отсюда многолюдной партийной группой? Это была бы сокрушительная пощечина атаману! — Александр Коростелев обвел вспыхнувшим взглядом некрашеные щелястые стены большой камеры. — Экий клоповник! Но решетки на окнах — не вывернешь и ломом… План хорош.
— Действуем не откладывая.
«Лиза уже, конечно, хлопочет о передаче. Сумели ведь прорваться в Сакмарскую, — с нежностью и тревогой подумал Александр о сестре. — Здесь задача потруднее, но есть у нас на воле товарищи-большевики и красногвардейцы».
Соня Бажанова и Лиза Коростелева пришли в Нахаловку дня через три после того, как пара резвых лошадей умчала (под улюлюканье мальчишек и смех набежавших женщин) Нестора и Фросю.
— Скатертью дорога, — приговаривал вслед Харитон, зорко следивший, чтобы ни Пашка, ни мать (эти бабы за копейку удушатся!) не позарились на выброшенные казачьи гостинцы.
Зато соседи подобрали с великой охотой и после, смеясь, похвалялись, что таких утиных щей и такого свежего масла сроду не едали. Наследиха сокрушенно вздыхала, а дед Арефий, услышав вздохи дочери, сказал:
— Правильно сделал Харитон. Поросенком этим Митина здоровья не вернешь. Главное, честь рабочих людей не уронили.
— Я не об гостинцах жалею. — Наследиха сухо всхлипнула, будто слова прилипали у нее в горле. — Мои думки о Фросе. Плохо мы сделали, папаня, что прогнали ее… что не помирились… Видно, с горя ум за разум заходит. Конечно, полютовали опять казаки: зверство оказали. Однако не пристало нам равняться по ним да на своих кровных зло срывать.
— Полно, Дуняша! — Арефий сам не выдержал — прослезился, но, пряча глаза, добавил строго: — Молодые, конечно, не повинны перед нами. Ино время и порадовались бы мы на ихню любовь. А ныне вражда пуще любви. Кабы этот офицерик совсем к нам перешел — другой разговор. А то он, как барин с дарами, в коляске припожаловал да опять же в свой богатый курень укатил. А из того куреня вся его родня нам смертью грозит. Советскую власть разгромили? Разгромили. Комиссаров наших похватали? Похватали. Столько народу покалечили да в тюрьму засадили. Нет уж, раз бастовать, так бастовать! Ведь не только супротив одного атамана мы настроились!
Митя, и раньше молчаливый, вовсе притих, тяжело дышал, кашлял, лихорадочно блестя такими же, как у Фроси, черными глазами, рассматривал кровь на тряпице и думал: «Дурной Харитон. Если Нестор поберег Фросю, если они с покорностью явились, даже на колени перед отцом встали, то разве можно прогонять? Верно маманя говорила деду: за то, что меня покалечили, нельзя зло срывать на Фросе. Хорошо, что рабочие против атамана дружно выступили, но надо и среди казаков своих людей иметь».
Однако спорить и рассуждать теперь было бесполезно. Да и говорить Мите трудно. Только когда из города пришли девчата, он оживился. Принесенные ими вести обрадовали всех нахаловцев.
— Перевели наших товарищей из станиц в оренбургскую тюрьму, — сообщила Лиза. — Мы с Соней будем носить им передачи.
Зина Заварухина заявила с готовностью:
— И я могу в любое время. Ребятишки наши пока в деревне у деда с бабкой. Только где мы возьмем эти передачи? — и усмехнулась, вспомнив уток и комки масла, валявшиеся недавно у наследовского двора.
— Насчет продуктов партийный комитет позаботится, — строго сказала Соня, истолковав усмешку Зины как недоверие к затеянному делу.
— Тогда другой вопрос. Будет чего носить в тюрьму, так можно еще Вирку Сивожелезову приспособить. Девчонка ловкая, верткая. При своей отчаянности к самому атаману пройдет — не устрашится.
Соня и Лиза долго шушукались о чем-то с Левашовым, Тураниным и Харитоном, а Пашка с Гераськой маячили вокруг землянки, носились по улицам, вроде играли, а на самом деле сторожили, потому что приходилось остерегаться казачьих патрулей.
То, что девчата пришли в Нахаловку будто бы проведать Митю Наследова, не ввело мальчиков в заблуждение.
— Наверно, посыльные от арестованного парткома в наш статочный комитет, — говорил Пашка, зябко подпрыгивая в растоптанных опорках и болтая длинными рукавами отцовской латаной-перелатаной стеганки. — Какой-то дурак ишо эту зиму придумал: холодище, ветрище, дров не напасешься. Летом бы забастовать — шутя: на улке теплынь, и насчет еды вольготней. Где на огородах промыслишь, где рыбку в реке выловишь. А сейчас…
Кроткое лицо Гераськи озабоченно, словно у старичка, и говорит он ворчливо, по-взрослому:
— Нам-то ладно. Да вот сестренки мои… Они разве понимают чего? Хлеба им подавай, и только! Пока картошка выручка, но разве надолго ее хватит? Керосину не дают. Говорят, начальство отказало нам и насчет дров. Все этот атаман нажимает.
— Везде революция, а у нас — бац — атамана выбрали! — негодовал Пашка. — Сначала-то он вроде ничего был, а теперь утвердился, будто царь. Вечор нашего Харитона плетью учистил в Форштадте. Еще после Караван-Сарая синяки не сошли, и опять через всю щеку рубец. А за что — братан так мне и не сказал. С твоим папанькой чего-то шептались, да не разобрал я об чем.
Гераське тоже не по душе скрытность взрослых. Небось чуть что — к мальчишкам: то передай, это принеси, там посторожи. Зачем же скрытничать?
— Ты его встречал, атамана-то?
— На вот?! На коронации вместе с тобой были. Неужто запамятовал?
— На какой коронации? Это только у царей бывает. Атаман парад себе устроил, когда булаву получал. — Гераська потуже запахнулся в материну кофту, прислушался, не орет ли маленькая Кланька. — Антонида, слава богу, большая стала — четвертый год. Скоро можно ее в няньки приспособить. Тогда я сразу на работу пойду.
— На работу? Может, скорей в Красную гвардию попадем…
— А записывают таких, как мы?
— Нас-то запишут… раз проверенные. Левашов ведет обученье — он допустит.
— Дядя Андриан настоящий военный, как мой папанька. Я его шибко уважаю. — Гераська доверительно прислонился к плечу друга, неожиданно спросил: — А Фросю тебе жалко?
Пашка, застигнутый врасплох, сердито ощетинился.
— Мне Митю жалко, а ее чего жалеть? Она небось в достатке теперь живет. Поросенка привозили зажаренного. Сроду не едал… Надо было того барбоса поленом. Пускай бы разговоры с казачишкой вели, а еда тут ни при чем. Поросенка зря выбросили собаке.
— Ну тебя! — отозвался Гераська. — Нашел о чем… Я тоже не едал и… и не загадываю.
— Да это я так… Маманька шибко плачет: бабка растревожила.
— Какая бабка?
— Зыряниха. Она Мите припарки на грудь делает. У него, дескать, дыхало завалено, потому что конем его топтали, когда с ног сбили. Сначала она Митю льдом кормила, а теперь горячими опилками обкладывает. Говорит: ежели не помрет — поправится…
Харитон, выглянув из ворот, позвал братишку:
— Дойди до Константина Назарыча Котова, пускай сейчас же сюда идет. Да, слышь, тишком передай!..
— Это я мигом, — пообещал Пашка, преданно посмотрев на брата. А на языке так и вертелось, так и чесалось: «Дали бы нам с Гераськой серьезное порученье!..».
Пашка и Гераська везли широкие салазки по застывшей Сакмаре, одетой поверх льда снегом. Серые облака ходили над голыми чащами поймы, темневшими вдоль берегов, и лица у мальчишек были тоже сизовато-серые: не с чего разыграться румянцу — голодно и холодно жилось степным воробьям. Дома вода в бочонках замерзает, на полках хоть шаром покати.
В салазках привязанные веревкой хворост и две толстые коряги, выброшенные половодьем (выполнили свою угрозу железнодорожные начальники и по сговору с Дутовым отказали забастовщикам в выдаче дров и кизяка), — приходится промышлять самим, не надеясь на взрослых.
Тянутся возле санной дороги аккуратные лисьи следы, нанизанные на бороздку, сделанную большим хвостом, там зайцы напетляли, намусорив корой ивняка. Наверно, и из лисицы получилось бы неплохое варево, чем она хуже зайца? Бродит по зимнему лесу разная живность, а как ее возьмешь? Сверху, от подножия Маячной горы, что лежит между Нахаловкой и левым берегом Сакмары, застроенным дачами богатеев, доносится вкусный на морозе дымок, и пахнет чем-то сдобным, жирным.
— Блины пекут. — Пашка шевелит ноздрями, в глазенках злоба и голодная тоска. — Монахи здесь тоже ладно живут. До самых Берд ихние земли — Богодухова монастыря. Небось не молитвами святыми питаются.
— Тише ты! Еще услышат да отберут дровишки, как летом казачата рыбу отобрали. Смекай, где ловчей проехать.
Пашка насупил брови.
— Нам ловчей там, где ни проходу, ни проезду. Сторож здешний тоже не дурак лезть по такому броду за охапкой хворосту, а стрелять, поди-ка, не станет…
Санные дороги уже накатаны повсюду, но пустынны: не мчатся по ним бешеные тройки с пьяными военными либо купцами и визгливыми гулящими девками, не видно и господских выездов. Притих Оренбург. Умолкли заводские гудки. Сурово выглядят рабочие окраины. Забастовка!
— Всего-то две недели не выходят наши в цеха, а уже пора зубы класть на полку, — говорит Пашка, сворачивая первым на целину по нагорью, где темнеют кустарники и навалы породы возле каменоломен. — Теперь отец с маманей решили продавать вещи, а какие у нас вещи? Ложки деревянные да миска оловянная — одна на шесть человек. Дедушка говорит: «На шесть персон».
— Шутит он, твой дедушка! — Гераська потише характером, но зато грамотнее Пашки и, когда «пасет» своих сестренок, умудряется читать все, что подвернется под руку. Есть у него какой-то придворный календарь о непостижимо далекой от разумения простых людей жизнью царя и самых главных чиновников. Гераська и теперь, когда царя уже нет, частенько заглядывает в свой календарь и не перестает удивляться, как много всего было нужно для одной семьи Романовых. Поэтому насчет персон и коронации он кое-что соображает.
— Давай отдохнем маленько, — просит он Пашку, запыхавшись, — вроде вспотел, а ноги застыли.
Ребята подтаскивают возишко к заснеженному навалу у каменоломни, присаживаются на туго увязанный хворост. Ноги у Пашки тоже закоченели.
— В таких обутках твои царевичи небось не хаживали! — говорит он, с тревогой поглядывая на худенькое лицо Гераськи. — Держись, старик! Довезем дровишки — печку расшуруем. Пускай эти начальники дорожные подавятся своими кизяками. Давай этот возик к вам доставим. У вас ребятишки маленькие, а мы-то ничего — потерпим.
— Мите тоже не годится в холоде лежать, — напомнил Гераська, тронутый великодушием друга.
— Митя да… он уже подниматься начинает. Бабка Зыряниха сама диву дается, что не помер. Крепка, говорит, ваша наследовская порода.
И снова поплелись мальчишки с салазками от куста к кусту, от бугорка к плетню белопустынного огорода: по-заячьи запутанные следы, воз, издали похожий на гроб, и две тщедушные фигурки на предательской белизне.
— Вечор формовщик из литейного… хотел вывезти хворост из поймы… тоже на салазках. — Пашка крепко налегает на лямку — он коренник, — натуживаясь, слова кидает отрывисто: — Возле кадетских лагерей… наскочил на казачий разъезд…
— Ну?
— Ничего… Дровишки отобрали. В формовщика-то стреляли, да не попали. Может, в воздух палили. А когда поймали, плетюгов вложили как за воровство.
Гераська, часто дыша, покосился на друга неодобрительно:
— Что ж ты мне до сей поры не сказывал?
— Для бодрости.
— А теперь?
— Теперь, чтоб не расстраивался в случае чего…
— Чего?..
— Стрелять вряд ли станут: мы ишо не доросли… А выпороть могут запросто.
Гераська почти равнодушно от усталости пробормотал:
— Черт с ним!
Еще немного протащились, вот и Нахаловка. Поселок будто мертвый: не курятся дымки над крышами землянок. Слепыми бельмами глядят застывшие окошки.
— Что-то народу не видно, — сказал Гераська.
— Митинг сегодня в паровозосборочном. Это я тебе говорил?
— Говорил.
— Наверно, все ушли туда.
— Может, и мы успеем…
Топот лошадиных копыт на соседней улочке раздался в ребячьих ушах, точно гром. Мальчишки засуетились, потянули лямку из последних сил, толкнули чью-то ветхую калитку… Хорошо, что у нахаловцев собак нет и замков не водится: живут себе как у Христа за пазухой, не боясь воров, не опасаясь соседей.
Ближе и ближе резвое скаканье сытых, играющих на бегу лошадей. Распахнув чужой, совсем пустой сарайчик, ребята удернули туда тяжело нагруженные салазки, прикрыли скрипучую в пятке дверь и затаились за нею, словно ежики.
На скрип у сарайчика, конский топот и говор мужских голосов за оградой выглянула из сеней пожилая хозяйка. А может быть, только казалась она пожилой, удрученная заботами и нуждою.
— Чего тут во двор доставили? — спросил, не сходя с лошади, матерый урядник с шашкой и с карабином за плечами.
— Да чего же нам доставлять, ваше благородие? — Хозяйка мигом заметила свежий след полозьев к сараю. — Только воду с колодца возим в бочатах.
— Отчего же воду зимой в сарай?
— Салазки в сарай, а воду домой. — В голосе женщины ожесточение. — Может, и воду пить нам запретите?
— Гляди у меня, старая ведьма! — Урядник не то поленился сделать обыск, не то поостерегся, чтобы не попасть впросак, тем более что из ближних изб и землянок уже сбегались соседки, — для острастки бросил начальственным тоном: — Распустились! — Тронул коня нагайкой, и враз ударили о промерзшую землю десятки кованых копыт.
— Провалиться бы вам в тартарары! — Совсем нестарая и не ведьма, кутая плечи в драную шаль и вытянув тонкую шею, нежно забелевшую, поглядела на удалявшихся казаков, потом на соседок, тоже с ненавистью смотревших вслед погромщикам. — Носит их нечистая сила!
А в сарае тихо-тихо прозвучал продрогший голосишко:
— Кажись, пронесло…
— Когда же этому конец придет? Скоро ли ваших главарей-то отпустят? — спрашивала своего Ефима Наследиха. — Подохнем ведь с голоду, отец!
— Друг за друга стоять надо, не то совсем в кулак зажмут. Как ты думаешь?
— Да как вы, так и я. — Женщина в замешательстве провела ладонью по выскобленному добела столу, глаза на поблекшем лице, подернутые слезами, засветились ласковой синевой. — Мы-то, бабы, двужильные, да ребят жалко: отощали вовсе. Хлеба нету, а теперь ишо ни дров, ни керосину.
— Статочный комитет написал рабочим в другие города. Помогут обязательно. Одним-то, конечно, трудно. Управленье дороги лебезит перед Дутовым, все делает по его указке, и городские буржуи тоже. Для казаков, сказывают, большие деньги они собрали. А хозяева кожевенных заводов сапоги им пошили. Бесплатно.
— Сапоги!.. — Наследиха вспомнила ноги Пашки, расклеванные цыпками, посмотрела на Митю, который, сгорбясь, словно старик, сидел на нарах, укутанный всяким тряпьем. — Видно, нашим ребятам век ходить в опорках.
— Не тужи, Евдокея! — Дед Арефий бросил у печки охапку нарубленного хвороста, бодрясь, выпрямился. — Наши ребята — орелики! Дай-ка срок, выправятся — полетят! Вот только бы Дутову морду набить…
— Набил один такой! Где дровами-то разжился?
— Пашка с Гераськой из поймы возик на санках приволокли.
— Сегодня в паровозосборочном будем обсуждать наказ ходокам к Ленину, — сказал Ефим. — Помощи просить будем оружьем, войском. И денег…
— Дай бог! — Наследиха истово перекрестилась, выглянула в сенцы. — Пашка-то где? Чай, обморозился, пострел.
— К Тураниным побег…
Ефим Наследов причесался, расправил усы. Строго смотрели на него из маленького зеркала бледно-голубые льдинки — глаза, горбатый нос заострился от худобы.
«Отощал ты, кум! — мысленно сказал себе слесарь. — Это вражинам нашим шутя борьба достается. Наели рожи, и впрок у них всего напасено… У Фросиного свекра амбары, поди-ка, от хлеба ломятся, и скота — не счесть! При мысли о слезах дочери снова шевельнулось, заныло в сердце сожаление о слишком крутом разговоре с нею. Но Ефим поборол слабость, твердо подумав: — Теперь вопрос родства теряет значение. Теперь главное — за кого ты…»
Народу в паровозосборочном набилось — не протолкнуться.
Мальчишки — Пашка и Гераська — с трудом протиснулись вперед, поближе к мосту «тележки» Дина, подающей на ремонт паровозы. Она служила и трибуной для ораторов, а во время праздничных молебнов — амвоном для церковной службы.
— Кам-форт, как в английском клубе! — сказал Харитон, присев на край моста.
— Чего это? — заинтересовался Гераська, беззастенчиво рассматривая новый красный рубец на щеке Харитона. «Крепко урезал его атаман!»
— Клуб-то? — Харитон весело кивнул на слесаря, бывшего официанта, высланного в Оренбуржье в девятьсот пятом, после восстания на Пресне. — Вот он говорит: есть такой дом в Москве, где собираются только графья да князья. Баб туда не пущают. Прислуживают господам лакеи в белых перчатках, подают им шампанское и улиток живых.
У Гераськи забавно раскрылся рот, а Пашка шепнул ему сквозь смех:
— Чего в твоем календаре об этом брешут?
— Про улиток там не сказано. А в перчатках господа и военные начальники цельный день ходют. И дома тоже. Видно, брезговают всем.
— Брезговали бы, так улиток не жрали!
— Верно. — Харитон легонько поддел пальцем и без того вздернутый нос братишки. — Богатый врет — никто его не уймет. А где вы трепались целый день, неразлучные?
Пашка не успел похвалиться дровами: какой-то тип, вскочив на платформу поста, крикнул:
— Давайте кончать забастовку, братцы! Дутов через газету обратился к нам: выходите на работу — сразу получите хлеб, деньги, дрова.
На подстрекателя зашикали, раздался свист, громкие возгласы:
— Пускай атамана раздует горой от хлеба!
— Выдюжим без подачек!
— Уральцы и волжане нам помогут!
Только когда стали читать наказ будущим делегатам к Ленину, в громадном цехе водворилась полная тишина. Кому посчастливится увидеть Ленина? Кто пройдет через территорию, занятую почти до Бузулука дутовцами, где на каждом шагу заставы? Как скрыть при обыске исторически важный документ? Кузнец Иван Ильич Андреев предложил послать с делегацией от стачечного комитета строгальщика токарного цеха Панарина, своих делегатов должен был выделить и советский Бузулук.
«Вот я бы прошел! Меня бы да Гераську — мы бы проскочили. И передать письмо Ленину смогли бы не хуже стариков», — думал Пашка, но предложить свою кандидатуру не посмел. Очень уж торжественно настроены рабочие: как раз дадут по ушам!
— Зря я все-таки постеснялся попроситься в делегаты, — сказал он Гераське после митинга. — Не договорились мы с тобой, а тут сразу даже голова вскружилась.
— Был бы наш Костя дома — он за нас замолвил бы словечко.
Гераська очень скучал по брату. После Костиного отъезда в Тургайские степи, похожего на бегство, он рассердился на Фросю: с Дутовым надо бороться, а ее, видите ли, любовь одолела! Из-за этого Костя сбежал из дома в киргизские аулы. Он, конечно, и там будет драться с казаками, но куда как хорошо было бы вступить с его помощью в Красную гвардию.
В это время Дутов тяжелыми шагами ходил по своему кабинету; насупив брови, зло бубнил:
— Требуют… Требуют!.. Тре-бу-ют!
С силой оторвал набрякшие пальцы от ремня портупеи и, словно пробуя, бросил ладонь на эфес шашки.
«Рубить беспощадно! Неведомо когда успели стакнуться, голодранцы. Но одно дело круговая порука, чтобы выжать высокую оплату, а теперь забастовали, требуя выпустить из тюрьмы политических преступников. По самому больному месту бьют — по транспорту! Железную дорогу остановить — удар по всем военным мероприятиям, однако уступить и выпустить арестованных — подрыв власти атамана и доброй славы его».
Посмотрев на себя как бы чужими глазами, Дутов окончательно утвердился в решении — не уступать ни в коем случае.
«Ну, в самом деле. С одной стороны, цвет России и ее опора — казаки, с другой — разный сброд. А ставится вопрос: кто кого? Смешно! Да, смешно и дико, если бы не победа такой же голытьбы в Питере и Москве, почти по всей империи Российской. И верховодит у них штатский, ничем, кроме каторжного прошлого, не знаменитый человек — Ленин…»
Дутов вспомнил митинги в Петрограде, невысокого, большерукого и большелобого оратора на трибуне, покоряющие интонации и мягкую картавинку в его необычном голосе и снова ощутил озноб лютой ненависти.
В последнее время атаман опять отдалился от семьи, дни и ночи проводил в штабе. Дочери-гимназистки и шестилетний сын находились всецело на попечении матери, образованной, домовитой женщины. Девочки ездят в гимназию на машине, отношение к ним всюду самое предупредительное, но сына он хотел бы воспитать сурово, по-спартански, чтобы вырос настоящий казак. Только некогда заняться им, а женское воспитание, как известно, изнеживает мальчиков.
Дутов нахмурился, резко нажал кнопку звонка.
Адъютант явился мгновенно. Глядя на него, Дутов спросил с брюзгливо недовольной миной:
— Письмо мое на Дон отправили?
— Так точно.
— Хорошо, идите. — Дутов взял со стола копию отправленного письма, еще раз перечитал.
Он просил Каледина отправлять в Оренбург здешних демобилизованных и дезертировавших казаков вместе с лошадьми и оружием.
«Пожалуй, насчет дезертиров я зря упомянул. Многие из них тоже обработаны большевиками. Придется по прибытии сразу отправлять их в станицы, чтобы снова прониклись настоящим казачьим духом».
Адъютант, постучав, возник на пороге.
— Епископ Мефодий пожаловали. Прикажете просить?
— Да, да, конечно. И распорядитесь там… Закусочку и все, что полагается.
Адъютант, щеголевато-подтянутый и ловкий, как бес, точно сквозь землю провалился, но сразу зашуршали чем-то в соседней комнате. Мефодий вошел по-молодому скорым и легким шагом, представительный, в черной на меху мантии с пелериной и нагрудным образком — панагией, массивная золотая цепь которой придавала особую значительность облику высокопоставленного служителя церкви.
— Ваше здравие, отче? — дружески спросил Дутов, приложившись твердыми губами к руке епископа.
— Отличное здоровье мое благодаря господу. — Мефодий сел не разоблачаясь. — Собираюсь ехать в Москву на вселенский собор. Будем избирать патриарха всея Руси.
— Доброе дело. Очень даже нужное в наши трудные времена! — Лицо Дутова оживилось, как бы посвежело: повезло ему, что в его владениях оказался такой умный, энергичный деятель церкви. — Но сразу я вас не отпущу. Вы со мной отужинаете.
Не слушая возражений, он приказал адъютанту принять от отца Мефодия верхнее платье.
— День у меня забит до предела. Однако нужен и просвет для отдыха. Милости прошу. Я тут расположился, как видите, попросту, по-военному. По ресторанам мне некогда ездить.
— Будто уж совсем от светской жизни отошли? Вам монашеский уклад соблюдать не пристало. — Мефодий, хорошо осведомленный о грешках атамана, проницательно взглянул на него.
Дутов улыбнулся, с видом заговорщика придвинулся к епископу.
— Бывает, конечно. Я человек компанейский. Мне с обществом тесные контакты нужны. И я не сухарь. Отнюдь! Ничто человеческое, как говорится… Надеюсь, вашими молитвами будут отпущены мои прегрешения. Ну, за вашу поездку! За великое святое дело.
Выпили по стопке шустовского коньяку, закусили балыком и черной икрой.
— Не переводится сия благодать! — умиленно сказал Мефодий.
— До малого багренья обеспечены. Раньше казаки уральского войска отправляли первый кус презентом ко двору, а теперь наилучшая икра и рыба для себя остаются. Ну и наш Оренбург уральцы не обделят. Покуда течет Урал в Каспийское море, будут радовать нас деликатесные его дары.
Пропустили еще по одной.
Поглаживая выхоленной рукой образок панагии, епископ словно забылся. Снова встала перед ним волнующим видением Фрося. Снова ощутил он, как билась она в его руках… Но упустил свою жар-птицу отец Мефодий, растерявшись от боли и конфуза, не ожидал, что осмелится обмануть его преданный служка Алексий и не по договоренности, а силком приведет Фросю на свидание, — поэтому и не кликнул стражу, не послал погоню за беглянкой. На другой день был отлучен им от архиерейского дома Алексий за свое непомерное усердие и отдан под епитимью строгого настоятеля отдаленного степного монастыря. Служка молил о прощении, но уязвленный в гордыне высокого сана епископ остался непреклонным. Будет теперь Алексий под строгим духовным надзором нести церковное наказание, отбивать земные поклоны, сидючи на воде и хлебе.
«И поделом! Знает про то игумен — который звонок бубен!..» — уже беззлобно думал Мефодий, которому все-таки не хватало общества преданного слуги.
Дутов стоял у окна, не решаясь нарушить размышления пастыря. Ретивый военный служака тоже вспоминал свое.
Угар пьяного разгула захватил в это лето город, и прежде не отличавшийся степенностью нравов. В Зауральной роще по ночам стон стоял. Выехавшие в дачные помещения бордели и рестораны наполняли свежий речной воздух звоном гитар, ревом граммофонов, надрывно звучащими песнями. Там же под шумок орудовали грабители, и пьяные гуляки, заплутавшиеся в пойменном лесу, то и дело взывали о помощи.
После избрания в атаманы Дутов решил побывать в степных лагерях — бараках. В сопровождении конной охраны он промчался на резвом скакуне через рощу, одетую в золотой осенний убор. Под деревьями на берегах Урала и возле дороги от лагерей гарнизона до Менового двора — всюду виднелись убогие шатры — ералашно-пестрые стоянки цыган. Встречались цыганские таборы и в степи, по пути к баракам, где проходило сбор молодое казачье пополнение.
Возвращаясь обратно в Оренбург, Дутов остановился в избе занятой этапным комендантом, и тот привел молоденькую цыганку в цветной кашемировой шали, небрежно накинутой через плечо, в ярких бусах на смуглой высокой шее. Всех офицеров дутовской свиты поразил резкий контраст ее светло-русых с золотым отливом кудрей — целой гривы, подобранной с боков алой лентой, — и бронзово-загорелого лица с черными глазами.
Она подошла, слегка пошевеливая нежно округленными бедрами, поймала на лету брошенную плитку шоколада и по-детски радостно засмеялась, сверкая ослепительной белизной зубов.
— Что вы ей, как собаке, бросаете? — резко одернул офицера Дутов — и к коменданту: — Твоя?
— Ни боже мой, ваше высокоблагородие! Недотрога. Вроде цыганской королевы. Тут уже многие ходят с перевязанными физиономиями: бьет и руками и ногами, будто необъезженная лошадь. Похоже, и не цыганка она, а приблудилась к табору. Может, краденая, но говорит по-ихнему лучше, чем по-русски. Только песни заучивает назубок.
— Хорошо поет?
— Отменный голос. Рогнеда!
Красотка с редким в этих местах именем взяла гитару, склонив волны кудрей и притушив блеск глаз тяжелыми ресницами, вслушалась в ее певучий звон.
— Спеть атаману я могу. Модные знаю.
Голос у нее был грудной, могуче и нежно звучавший. Все в избе замерли.
Яркая прелесть ее поющего рта, трепещущие розоватые на свету ноздри гордого носа, даже то, как, далеко отставляя от себя, держала она гитару, словно не хотела закрывать ею необыкновенно тонкого стана, — все взволновало Дутова. Скрестив на груди руки, он сидел и неотрывно смотрел на Рогнеду, а она постепенно приближалась к нему маленькими, будто приневоленными шажками. Он не выдержал, подавшись вперед, обхватил ладонями талию цыганки, сильно потянул к себе.
— Нет! Нет! — Добрая улыбка ее была очаровательной. — Я не гулящая! Я петь вам хочу.
Но Дутов не отпускал девушку.
— Иди в «Декаданс». Только петь будешь. На эстраде выступать как артистка. Королевой красоты выберут, и я сам тебе презент поднесу. Много денег получишь, табору выкуп дашь.
— Артисткой? — Рогнеда, все так же ясно улыбаясь, старалась высвободиться. — Я и плясать могу. Я хорошо пляшу.
— Ты — душенька! Договорились? — И Дутов, улещивая и млея, погладил ее обжигающе-гладкие руки.
— Не знаю. Я сама за себя решить не смею. Это уж цыгане решат — табор.
Однако Рогнеда действительно выступила в «Декадансе» и покорила его посетителей.
Но на домогательства атамана ответ был один, как и другим воздыхателям:
— Нет. Я птица вольная. Гнезда уж не совью. Никакого. Приставать не надо. Лучше петь вам буду.
«Вот бы ее сейчас сюда! Что сказал бы отец Мефодий?» — мелькнула у Дутова озорная, но и тоскливая мысль. Подойдя к столу, он налил еще по стопке.
— Кого же предполагаете в сан патриарха избрать?
— Святейшего митрополита московского Тихона.
— О, достойнейший человек! Вместе с государем всячески содействовал росту и влиянию «Союза русского народа».
Мефодий воздел руки, благоговея:
— Светило церкви православной! Достойнейший для принятия высокого сана наместника бога на земле. Ныне разрушены все основы, и нет у нас царя. Сама жизнь диктует необходимость избрания верховного владыки церкви, способного противостоять осквернению земли русской.
«Ишь ты! — изумился про себя атаман. — Далеко нас обскакали святые отцы, пекутся не только о спасении душ православных!..»
— Золотые слова, отец Мефодий. Ваш успех — наш успех.
— Стачка охватила все предприятия. Требования освободить арестованных стали грозными, но атаман и ухом не ведет. Что ж, будем действовать по-иному!
Мария Стрельникова уложила на дно корзины завернутые в бумагу два пистолета, коробку патронов, а сверху узлы и пакеты с печеным картофелем, ржаными коржиками, вареными яйцами и ломтями хлеба.
— В час добрый!
Внести эту новую передачу в камеру арестантов должна была Соня Бажанова, уже успевшая под видом торговки продуктами расположить охрану своей миловидностью и жизнерадостностью.
Вирка Сивожелезова и Лиза Коростелева, получившие пропуск на свидание с заключенными, взялись помочь «торговке» нести другую корзину и тоже завязать знакомство с охранниками, чтобы отвлекать их разговорами.
— В степях бело, а на улицах лед и тот в крошку, — заметила Лиза, сидя на краю короба кошевки и цепко держась за кучерское сиденье. — Столько снегу навалило, а весь ископытили, перемешали с землей…
О пистолетах, лежавших в Софьиной корзине, она старалась не думать. Не должны их найти надзиратели. С какой радости придет им в голову, что девчата решатся на такой отчаянный поступок? И зачем? Поднять стрельбу в тюрьме — все равно что выстрелить себе в висок. Но вдруг какой-нибудь ретивый страж запустит лапу на дно корзины?.. Нет, нет, надо смеяться, шутить, всячески отвлекать их. У Сони это особенно хорошо получается.
Лиза смотрит сбоку в румяное лицо подруги с чуть припухлой каемочкой вокруг улыбчивых губ. Вот она рассмеялась: Вирка, надутая от важности и волнения, что-то шепчет ей на ухо… Неужели они не боятся? Лучше уж совсем не смотреть на эту корзину, обвязанную чистым столешником из сурового полотна.
Щурясь от ветра и колкой снежной крупы, Лиза думает о Фросе Наследовой и ее муже. Большая у них любовь. Говорят, Шеломинцевы богачи, но ради Фроси Нестор пришел в землянку и стал на колени перед слесарем Ефимом Наследовым. Значит ли это, что он будет на стороне рабочих? Не зря ли погорячился Харитон, выкинув за ворота гостинцы и жестоко оскорбив молодых?
Кошеву тряхнуло на ухабе, и Лиза чуть не вылетела.
— Никак, ты уснула? — Соня потянулась к ней с такой сердечной улыбкой, что Лиза тоже улыбнулась.
— Не уснула, а задумалась…
— Ну думай, думай! — ласково разрешила Соня, покрепче ухватывая корзину большой рукой в вязаной, старательно заштопанной перчатке. — Глядите, девоньки, снежок опять посыпал, да крупный какой! Это к счастью.
— Снежку-то надо бы, — сразу отозвался извозчик, выказав настороженное внимание к девичьему чириканью. — Теперича бы в кошевке-то рысью да рысью, чем бултыхаться по колдобинам.
Вирка сделала страшные глаза и подмигнула Лизе: вот, мол, какой дядечка у нас оказался, держи язык за зубами!
Тюремные надзиратели, наскучив бездельем, встретили девчат благосклонно:
— Этакие милашки! И охота вам с горлопанами связываться? Надрываетесь, продукты таскаете на целую ораву!
Софья только посмеивалась:
— Мое дело — торговля. Купить, продать, денежки получить. А девчата и не связывались бы, да ихние родители с ними не договорились — вот и наградили беспокойным братцем да вертоголовым женихом. Теперь приходится хлопотать. Отцы посылают, а сам господь бог велел: чти отца своего. Маманьку тоже не ослушаешься: слезьми со свету сживет.
Бажанова говорила весело, громко, поворачивая то к одному, то к другому надзирателю темнобровое, густо рдевшее лицо. Единственная обнова на ней — кашемировый полушалок, пальто дешевенькое, но ловко пригнанное по статной фигуре, бористая юбка, хромовые на шерстяной чулок полусапожки. Настоящая маркитантка, сверкающая молодостью и весельем. Разве перед такой устоишь? Лиза и Вирка прикрывали ее с тыла еще большей корзиной, но языки у них присохли от волнения, и улыбки получались вымученные. Не за себя они волновались — боялись провалить серьезное дело. А Софья словно играла с опасностью.
— Ржаных коржиков не хотите ли, а может, пирогов с капустой? — Она напирала корзиной прямо в живот надзирателя. — Есть и картошечка печеная. Еще бы сюда бутылку водки…
— А может, припасла для арестантиков? — Надзиратель, тоже заигрывая, багровея налитым затылком, взялся за край корзины.
У Лизы холодным ветром пахнуло в груди, у Вирки заострился побелевший нос, а Софья хоть бы что:
— Для вас принесла бы… А этим бузотерам целого бочонка мало будет, да шуму на всю округу! Тогда войсковой атаман отберет у меня разрешение на торговлю.
Надзиратель еще помедлил, притягивая к себе вместе с корзиной красотку, пышущую здоровьем, потом опомнился, отошел, покручивая ус:
— Ладно уж, несите, да попроворней!
Вирка нервничала, в душе бранила себя за это: «Бита, бита, луплена, как дедова коза, а изворотливости не научена…» Заспешив, она споткнулась в дверях камеры, чуть не сбила с ног Софью, обмерла от страха, представив, что могло бы получиться, но только еще выше задрала нос: ничего, мол, привыкну и я шутить с опасностью.
Заключенные сразу окружили Софью тесной толпой, из рук в руки передавали продукты. А кое-что, пригнувшись, прятали за пазуху, рассовывали по карманам.
Цвиллинг благодарил девушек сияющим взглядом:
— В другой раз захватите большую цельную вареную свеклу…
— Спасибо, родные! — Александр обнял сестру, передавая узелок с бельем, движением губ подсказал: «Ищи тут письмо», а вслух громко — Цвиллингу — свеклу, он сладкое любит, а нам принесите еще коржиков да сухарей. Давайте чего посущественнее, чтобы надолго хватило.
«Какие простофили эти надзиратели! — с удивлением подумала Лиза, когда пожилой Евдокимов, ведавший отделением, будто не замечая ничего, отошел в сторонку. — Ведь мы в тюрьму оружие принесли!»
Городок Бузулук, уютно расположенный при одноименной станции на берегах рек Бузулука и Самары, противостоял белоказачьему правительству Оренбурга: здесь власть была Советская. Руководили общественно-политической жизнью рабочие привокзального депо, которых поддерживали трудящиеся остальных предприятий. Городок захолустный, а станция и депо — боевой центр на линии Московско-Ташкентской железной дороги.
С виду все, как полагается в провинциальных городках: улицы сплошь из деревянных, щедро украшенных резьбой домиков; за длинными заборами — сады, огороды, амбарчики. В центре, возле Соборной площади, каменные двух — и трехэтажные дома богатеев — купцов, помещиков, мукомолов, содержателей гостиниц. В летнее время на улицах грязь — не пролезешь, или пыль черноземная до небес, а зимой — белые сугробы, ослепительно сверкающие на солнце.
Петру Алексеевичу Кобозеву полюбился Бузулук с его речками, бегущими по окраинам, с горами синего Сырта, встающими с северной стороны, где в Иософатовой долине, поросшей дубняками и кленами, у «святого» источника, бьющего и в самые свирепые морозы, приютился мужской монастырь. На северо-запад — вдоль железной дороги к Самаре — превосходный бузулукский бор — гордость здешнего края; на юге — черноземные поля и ковыльная степная целина. За ними, верст через полтораста, крутая излучина реки Урала и второе гнездо контрреволюции — город Уральск, центр Уральского казачьего войска.
В штабе Петра Кобозева, поместившемся в вагоне на запасном пути станции, появились очередные посланцы из Оренбурга, пробравшиеся через пикеты дутовцев.
Рабочим нужно оружие… Кобозев придирчиво расспросил машиниста Кравченко и его помощника Толмачева о положении в Оренбурге.
— Как вы доставите туда пулеметы, патроны и винтовки?
— Вы только дайте. Без них мы возвращаться не можем: народ пишется в Красную гвардию, а в руки ему дать нечего. — Кравченко посмотрел на свои черные от угольной копоти широкие ладони, потом на здоровяка Толмачева. — Мы с ним так все сховаем, что при любом обыске дутовцы не сыщут.
Куда же на паровозе вы денете пулеметы?
— Найдется место: в уголь зароем либо в воду спустим… Тендер-то для чего?
— Ладно. Рискнем. Сейчас обсудим, что можно выделить.
Но Кобозев уже прикинул мысленно, зная наперечет оружие, собранное с таким трудом: «Дадим два пулемета, сто винтовок, ленты пулеметные… патронов несколько ящиков…»
Он просмотрел почту из Оренбурга: наказ делегатам к Ленину, составленный большевиками в тюрьме, копию протокола собрания, проведенного бастующими рабочими.
— Наш Бузулукский комитет тоже решил послать делегацию к Ленину — просить помощи. Давайте своих делегатов сюда — вместе отправятся. Помощь из Петрограда получим обязательно. Владимир Ильич борьбе с дутовщиной придает большое значение. — Кобозев задумался, вспоминая последнюю встречу с Лениным перед поездкой в Оренбуржье, рассказы Джангильдина и Краснощекова, тоже побывавших у Ильича.
— Есть у нас такие, что выступают за прекращение забастовки, — рассказывал Кравченко, — но рабочие решили держаться: стачка крепко бьет по Дутову. Хотя трудно нам. Сидим без хлеба, без дров. Жгем сараюшки, сенцы разбираем, по две, по три семьи сбиваемся в одну землянку ради тепла.
— Попросим у Владимира Ильича и денежной помощи, как вы тут пишете в наказе. Нелегко будет Совнаркому выделить сейчас полмиллиона рублей, однако без внимания нашу просьбу, конечно, не оставят. А пока пришлют эти деньги, обратимся к рабочим Самары, Челябинска, Екатеринбурга. Отступать нам нельзя.
Кобозев сам отлично знал тяжелое положение забастовщиков. Он очень любил детей и страдал при одной мысли о голодающих малышах. Но решался вопрос жизни и смерти революции, вопрос будущего всех детей страны. Ради этого надо было идти на любые лишения.
Федор Туранин примостился с краю на вагонной лавке, дремал сидя, но и в дреме ощущал пакет, запрятанный после Бузулука в потайной нагрудный карман. Делегатом к Ленину от главных мастерских был выбран строгальщик Панарин, но в самый последний момент у него что-то стряслось, и отправили Федора.
Бебин и Герман были посланцами Бузулука.
Переполненный, промерзший насквозь поезд еле тащился. Ехали впроголодь, и огромный Федор Туранин худел с каждым днем. Большой его нос еще увеличился, «самолучшая» рубаха и взятый напрокат пиджак болтались на широченных плечах, как на вешалке. Кузнец выглядел бы страшно, если бы не задумчиво-счастливое выражение лица:
— К Ленину ведь едем, братцы!..
«Братцы» тоже волновались и старались по возможности подкормить товарища. Когда он отказывался, пряча голодный взгляд, Герман сердито говорил:
— Нечего отворачивать свою чекушку. Конечно, забастовка крепко вас тряхнула, однако вид у делегата должон быть соответствующий, а то ты Ленина напугаешь…
Федор, конфузливо улыбаясь, трогал впалые щеки и нос-чекушку, но отвечал с гордостью:
— Ленина ничем не напугаешь! А у меня дома дети малые, каждую корку им.
Около Петрограда, когда показались трубы заводов и дома рабочих окраин, всех троих начала трепать настоящая лихорадка.
— Вылетели из головы затверженные слова, — сокрушенно говорил Герман. — Хорошо, что письменный наказ имеется. Подумать только, к такому человеку наяву подойти! Он теперь первое лицо в Советской стране, председатель, как его…
— Совнаркома, — подсказал Бебин. — А вдруг мы не попадем к нему?
— Не может того быть! — решительно опроверг опасения бузулучан Федор Туранин. — Раз добрались до Петрограда — должны выполнить поручение.
С вокзала делегаты, очень разные по виду, но удивительно похожие (может быть, потому, что одним чувством были проникнуты), зашагали прямо в Смольный по заваленным снегом, замусоренным улицам с вывороченными кое-где фонарными столбами и разбитыми стеклами витрин.
«Конечно, Оренбургу далеко до столицы! Очень даже замечательный город Петроград, — думал Федор Туранин, посматривая по сторонам. — Главное дело, все дома большие и красивые. Церквей полно, и сады везде».
Народ на тротуарах — толпой. Много солдат. Есть у кого спрашивать дорогу к штабу революции. И снова погружался Туранин в свои мысли: «Такая страна большая. Такие города громадные. А Ленин один… Что же это за человек, если его — не царя, не богача толстосума, даже не генерала — по всей стране знают? Любят, конечно, не везде. Дутовцы — те его живьем бы в землю закопали. А мы? Вот приехали и трясемся, но не от страху, а сами не поймем отчего. В жар и холод кидает. Слова его знаем, дело знаем, а как подойти к нему?»
Забыл Федор Туранин о жене и малых детишках, идет по людной улице между высоко нагроможденными домами, а сердце колотится так, что даже одышка появилась.
Смольный поразил железнодорожников огромностью, непонятной простотой, даже строгостью. И не суетливая уличная толпа топала по коридорам навстречу, а сразу видно — свои люди: большерукие, серьезные рабочие, матросы, солдаты, как будто прямо из окопов выскочившие.
Герман рванулся к одному, к другому:
— Скажите, товарищи, где тут к Ленину?.. Делегаты мы из Оренбурга.
Крупно шагавший матрос остановился, посмотрел внимательно.
— Забастовщики?
— Бастуем.
— Вот в этой комнате Яков Михайлович Свердлов. Идите к нему, а он к Ленину проведет.
— Слышали о Свердлове!.. — Герман обрадованно полез в карман за документами (пакеты — это все затвердили намертво — «только в личные руки»).
Молодой человек, буйно кудрявый, в пенсне, с мальчишескими, чуть вывернутыми губами, выслушал матроса и обернулся к делегатам: кожаная куртка, в руках бумаги, в глазах озабоченность.
— Немного придется подождать. Занят Владимир Ильич. Посидите. Отдохните. — Особо задержался взглядом на изнуренном лице Туранина. — Как там сейчас?
— Обстановка тяжелая. Однако не сдаемся.
— Владимир Ильич очень интересуется положением в Оренбурге. И мы все тоже волнуемся за исход забастовки, за судьбу товарищей, арестованных Дутовым.
И по тому, как Свердлов, отложив свои дела, начал расспрашивать о Кобозеве, о Цвиллинге и Джангильдине, оренбуржцы сразу почувствовали, какое большое значение придают в центральном штабе большевиков их борьбе с ненавистным атаманом Дутовым.
Едва шагнув через порог, Федор Туранин завертел головой, угадывая среди людей, находившихся в комнате, Владимира Ильича, и сразу облюбовал представительного товарища, запакованного в скрипучую блестящую кожу, перетянутую по-военному ремнями. Но Лениным оказался небольшой проворный человек, светлолобый, скуловатый, со слегка прищуренными острыми карими глазами. Так и сказал:
— Я — Ленин. Будем знакомы, товарищи железнодорожники! Рад приветствовать героев-оренбуржцев. Вы в самом деле герои! И ополчились по-настоящему, по-рабочему против этого ставленника Антанты Дутова.
— Во-во! Ополчились! — подтвердил Герман, добывая запрятанный в потайном кармане пакет Кобозева. — Однако с оружием, Владимир Ильич, у нас плохо. И военных, настоящих командиров, не хватает. Нету.
— Нету или не хватает? — потребовал уточнения Ленин, с озорновато-сочувственной улыбкой следя за усилиями Германа достать пакет.
Федор Туранин, едва осваиваясь с мыслью, что это вот и есть тот Владимир Ильич, в которого он поверил двенадцать лет назад и ради которого не пожалел бы жизни, тоже полез в карман за письмом стачечного комитета.
— Да вы садитесь, садитесь! — предложил Ленин. — Знаете что? Давайте-ка знакомства ради выпьем чайку горячего. С сахарином, между прочим, и хлеба по осьмушке. Я сегодня тоже еще не завтракал. Вот и кстати.
«Небогато завтракает председатель Совнаркома, — мелькнуло у Федора, — не так, как Гераська в придворном календаре вычитывал…»
— А вы где работаете? В депо? — спросил его Ленин.
— Нет, в главных железнодорожных мастерских. Кузнец я, — сдерживая ухающий бас, ответил Федор. — С фронту недавно. В артиллерии был.
— Громкие профессии, и… голос соответственный. — Ленин засмеялся, и Федор сразу почувствовал себя раскованно, легко. — Семья есть? Дети?
— Четверо. Старший у Джангильдина агитатором.
— Джангильдин очень яркая фигура — стойкий, мужественный революционер. Ваш сын у него хорошую школу пройдет.
Чай был горячий, хотя чаем и не пахло, а кусок черного хлеба, похожий на воробышка в руке кузнеца, исчез мгновенно, хотя Федор Туранин старался показать, что принял угощение только из вежливости. Владимир Ильич прочитал письма оренбуржцев, взял какой-то бланк, нахмурив густые, с рыжинкой брови, написал несколько строк и, держа в руке маленький листок бумаги, снова взглянул быстрыми глазами на Федора:
— Бастуем, значит, упорно? А что атаман?
— Всех мобилизовал против: и буржуев, и начальство из управления железной дороги. Меньшевики и эсеры тоже ему прислужничают, стараются, из кожи вон лезут.
Ленин склонил голову набок:
— Как же прислужничают?
— Ревком помогли арестовать. На допросах вместе с жандармами. Семенов-Булкин, которого к нам Мартов прислал, прямо землю носом роет от усердия.
— И успешно?
Федор вздернул угловатые плечи, поморщился:
— Прошли те времена. Народ теперь видит, что меньшевики и эсеры за буржуазию, у Дутова даже стукачами работают. Газеты ихние какой только грязью не поливают и нас и вас… — Федор стушевался было, заметив резкое движение Ленина, но добавил упрямо, чтоб услышать по этому поводу веское его слово: — Пишут, дескать, и шпион немецкий, и деньги у кайзера взял, и узурпатор.
— Скажи на милость! Даже деньги взял?
— Взял, говорят. Я Семенову-Булкину на собрании ответил: ежели Ленин получил у кайзера деньги, чтобы в Россию приехать, да ему же потом морду набить, так за это он молодчина. Революция у нас победит, и к ним, к немцам, перекинется!
— Правильно: кайзер недалекий политик, он заинтересован только в том, чтобы мы содействовали прекращению войны на Восточном фронте и развязали ему руки на западе. Что будет дальше, он, конечно, не представляет. Вот я не догадался насчет денег! — Ленин качнулся в кресле и расхохотался так, что, глядя на него, рассмеялись смутившиеся было Бебин и Герман, заулыбался и Свердлов, который, стоя у стола, читал наказ и письмо стачечного комитета.
— Победы кайзеру не добиться: слишком подорваны силы Германии, — сказал Ленин Туранину, вдоволь посмеявшись. — А Дутова мы разгромим непременно. Отольются этому белому волку слезы ваших жен и детей!
Выйдя снова в коридор, оренбуржцы уткнулись в записку, данную им Лениным, и прочитали вслух слова, выведенное стремительным почерком:
«26. XI. 1917 г.
В Штаб (Подвойскому или Антонову).
Податели — товарищи железнодорожники из Оренбурга. Требуется экстренная военная помощь против Дутова. Прошу обсудить и решить практически поскорее. А мне черкнуть, как решите. Ленин».
— Коротко и ясно! — Герман, радуясь и гордясь, подержал записку на ладони. — Самое нужное — «экстренная», «практически» — подчеркнуто… Вот так-то, «товарищи железнодорожники»! Чувствуете? Главное, что мы с ним товарищи.
— Еще бы возле него побыть, посмотреть, как он делами ворочает, — сказал Бебин.
— Идите в штаб, товарищи, — поторопил Свердлов, выйдя в коридор вместе с матросом. — Вот вам провожатый. Он вас потом в общежитие отведет и город покажет.
Трудно сохранить спокойствие в день, назначенный для побега из тюрьмы. Надо, чтобы никто из стражи не догадался о задуманном, не заметил и признака нервозности, а все тридцать два арестованных чувствовали себя как на иголках: не было еще случая, чтобы без открытого восстания удался такой массовый побег.
— Уж очень широко мы замахнулись! — прошептал Александр Коростелев, делая вид, что занят починкой куртки.
Цвиллинг, сгоравший от нетерпения, отозвался тихонько:
— Это и хорошо. Кому придет в голову, что собираемся вырваться всей громадой? Но что там на воле? Что принесет Соня — хлеб или табак? Я уже возненавидел само слово «табак».
— Будем надеяться, что Бажанова порадует нас караваем… — Коростелев вколол иголку под козырек ушанки, тщательно заматывая остаток нитки, добавил: — Я меньше, чем ты, сидел в тюрьмах, но не новичок в местах заключения. Однако ни разу так не волновался. Уж скорей бы!..
А время тянулось медленно. Большевики давно уточнили задание для каждой группы, и теперь одни мирно играли в подкидного, другие, путая слова, разучивали новую песню, третьи притворялись спящими и даже храпели, чтобы «убаюкать» надзирателей.
«Не вздумали бы опять обыскивать камеру» — подумал Коростелев, взглянув на печь: там в трубе, за вьюшкой, было спрятано оружие. Его успели затолкать туда перед последним обыском, когда надзиратель Евдокимов предупредил Коростелева и сам показал укромное местечко.
«Один за нас, и то спасибо. Жаль, что тюремное начальство пронюхало о сочувствии других надзирателей. Что с ними сталось после того, как их избили возле нашей камеры? А Евдокимов не устрашился даже этого…»
Побег назначен на десять вечера. Надо приготовиться самим и задержать в камере Макарову, которую попросили вызвать из женского отделения, чтобы состряпать беляши. Странно, что иногда выполнялись, казалось бы, самые «незаконные» требования и в то же время нельзя было добиться необходимой малости. Все зависело от того, с какой ноги встал утром главный надзиратель.
Вечером Соня Бажанова передала с воли мясной фарш и хлеб. Это значило, что подпольный отряд Красной гвардии готов к операции. Дружное приготовление беляшей превратилось в настоящее торжество. Точно наэлектризованный, Цвиллинг смешил без конца и своих и надзирателей, которым и в голову не приходило, что веселье узников — просто душевная разрядка перед смертельным риском.
Но едва закончился ужин, в камеру явился начальник тюремного караула и предложил Макаровой уйти в женское отделение. Коростелев в замешательстве посмотрел на дверь, открытую в коридор, где находились тюремщики и куда вышла часть арестованных. Отпустить Макарову? Тогда молоденькая женщина останется в руках дутовцев, которые, рассвирепев после побега большевиков, могут растерзать ее.
Не изобразить ли что-нибудь вроде сердечного приступа? Врача в тюрьме нет, посылать за ним не станут, а Макарова вполне сойдет за фельдшера: она вместе с другими девчатами готовилась быть сестрой милосердия. Коростелев уже подвинулся к Цвиллингу, тоже встревоженному, и в это время как нельзя более кстати в коридоре послышалась озорная плясовая частушка и дробный топот каблуков.
— Что такое? — Начальник охраны строго обернулся, но, увидев одобрительные улыбки на всех лицах, сам потянулся к кругу.
Плясал, лихо откалывая замысловатые коленца, весельчак Агарков.
«Выручил! — Коростелев радостно переглянулся с Цвиллингом. — Минут бы на двадцать этого представления! Только бы не запретили…»
Но истомившиеся от скуки тюремщики даже не подумали мешать неожиданно возникшему развлечению. Мигом образовался маленький хор; остальные и притопывали, и посвистывали, и гребешки в ход пустили вместо губных гармошек, и на ложках кто-то взялся отстукивать. Ровно в десять Цвиллинг громко запел «Отречемся от старого мира», и шум сразу оборвался. Благодушно настроившиеся тюремщики не успели опомниться, как большевики обступили их со всех сторон и, угрожая револьверами, обезоружили; сняли кобуру с наганом и с начальника караула. Каждая заранее подготовленная группа действовала быстро и точно: кто перерезал телефон, кто тащил зазевавшегося постового, который дежурил во дворе.
Через несколько минут стража отделения была загнана в темный чулан в глубине коридора. Затворяя дверь, Коростелев и Цвиллинг показали одураченным караульщикам «бомбу» внушительных размеров и предупредили, что при попытке открыть дверь эта адская машина взорвется. Потом все дружно ринулись во двор, чтобы перебраться через стену в условленном месте.
После духоты тюремной камеры морозный декабрьский ветер так и пробирал, так и подхлестывал разгоряченных людей, выскочивших на волю в чем попало. Подталкивая друг друга, они торопливо поднимались по лестнице, поставленной надзирателем Евдокимовым, переваливались через забор, а внизу их подхватывали красногвардейцы, давали каждому направление. По всей улице стояли рабочие пикеты: парни и девушки, притаившиеся в тени подъездов и ворот, принимали беглецов по составленному плану и мгновенно исчезали с ними в темноте ночи.
Дерзкий побег большевиков ошеломил белоказаков и поразил всех оренбургских обывателей. Как могли сбежать из-под усиленной стражи сразу тридцать два арестанта?
Дутов рвал и метал, устраивал обыски, делал настоящие налеты на кварталы голодной и холодной Нахаловки, но беглецы словно под землю провалились.
— На-кось, выкуси! — бормотал дед Арефий, подбирая разбросанные казаками по землянке немудрящие пожитки. — Думаешь, наши соколики под койками сидеть будут?
— Охота мне было тесануть урядника топором по жирной хребтине, когда он в голбец заглядывал, — сказал Харитон, который, разобрав на дрова сенцы, щепал для растопки лучину.
— Спаси Христос! Они нас самих на лучину расщепали бы! — испуганно сказала Наследиха, совсем приунывшая за последнее время.
И как не приуныть работящей, хлопотливой хозяйке, когда в жилье полно мужиков, а печь не топлена, еда не приготовлена, а надо прожить до вечера, пока не сморит сон, и завтра опять такой же долгий-предолгий голодный день. Особенно тяжело было матери смотреть на Пашку и Митю. Мальчишка совсем отощал, одни косточки, Митя же, только-только пошедший на поправку, опять свалился от слабости.
Конца не видно жестокой сваре с атаманом.
«Ему что? Живет в тепле и холе. Наел мурло — сровнялась шея с плечами. А тут ворота сожгли, заборчик тоже в печку ушел, теперь до сеней добрались. Дальше впору крышу разбирать да с этими дровишками к Тураниным на постой: им ведь тоже топить нечем».
Будут саманные стены огораживать до лучших времен печку, застывшую под открытым небом, но даже жилья своего, недавно так славно устроенного, не жаль Наследихе, такое зло на «богом проклятого атамана» разбирает ее.
«Спихнули царя. Советскую власть поставили. Казалось, чего бы лучше. Ан опять князек нашелся, какую-то свою линию повел, от которой всем одно мученье! Зима-то еще впереди. Морозы-то — рождественский да крещенский — ой как прижмут!»
О еде Наследиха старалась не думать…
— Чего, маманя, нос повесила? — неожиданно весело спросил Митя. — Убежали наши из дутовского застенка. Все враз убежали. Надо же так сообразить!
— Да уж сообразили! — Наследиха слабо улыбнулась, радуясь оживленности сына. — Зина Заварухина прибегала, плачет и смеется: убежал вместе со всеми из кутузки ее Илья, а домой не показался. Как ей, бедолаге, не плакать: померла в одночасье свекровь в деревне, и свекор следом глядит — на мякине ведь жили. Вернули Зине Каську и Зойку, а куда она с ними, малыми? Было бы тепло в землянке, закрыла бы да на поденку. А сейчас не оставишь и под крышей — замерзнут, ровно воробьи.
— Пускай переберутся к нам, — сказал дед Арефий. — Чего ей там маяться, плакаться на отшибе? Как-нибудь перегодим вместе тяжелую полосу.
Озябший, но сияющий Ефим, едва переступив порог, тоже заговорил о побеге:
— Взяли они свеклу, воткнули в нее гильзу пустую винтовочную, чтобы на бомбу походила. После завернули ее в портянку, надзирателям показали да под дверь подложили. Те и просидели тихохонько в чулане, покуда наши утекали. — Не снимая шапки и стеганки, Ефим подошел к жене, подал десять рублей. — Это Левашов просил тебе передать.
— Откуда он взял? У него своя семья голодает.
— Рабочие из Самары послали. Собрали по грошику — и нам. На всю-то нашу братву тысяч двадцать пять стачечный комитет получил. Другие города тоже обещали помощь.
Дед Арефий подержал в руках десятку, полюбовался:
— Дорогие денежки. Главное дело — со-ли-дар-ность, — торжественно произнес он. — Беги, Дуняша, к булочнику, а я — самоварчик в честь победы…
Пашка, пригревшийся, как котенок, под боком у Мити, выглянул, вялый спросонья, из-под лоскутного одеяла.
— В честь какой победы, дедуня?
— Побег из тюрьмы. Эта победа на всю Расею прогремит!
В маленькой комнатушке сцепщика вагонов Петрова было темновато — окошко выходило в стену сарая, — и Лиза забилась в самый угол, чтобы не мешать парикмахеру гримировать Александра и Цвиллинга.
Весело блестя серыми глазами, совсем светлыми на затертом сажей лице, в парике, с наклеенными усами и бородой, Цвиллинг повернулся к Лизе, хлопнул большими поношенными рукавицами:
— Ну, хорош маскарад?
— Здесь-то ладно, а как на паровозе?
Коростелев, еще подкрашивая усы и брови перед осколком зеркала, спросил:
— Ты думаешь, мы не умеем с лопатой обращаться? Настоящие то кочегары поедут в вагоне. А шеф у нас, вот он. Покажет, что надо.
Александр признательно взглянул на машиниста — хозяина дома — и замер: совсем близко послышался топот лошадей, громкие голоса.
У Лизы оледенели плечи и легкая тошнота подступила к горлу.
«Опять попались!» — мелькнула отчаянная мысль.
Заскрипела калитка, тяжелые шаги нескольких человек забухали по двору, по ступеням крылечка. Открылась дверь. Однако в дом никто не вошел…
Машинист прислушивался к разговору, побледнев и предостерегающе вскинув руку, хотя в комнате и так все затаились.
Снова шаги, стукнула калитка, и затопали кони.
— Адрес свояка спрашивали казаки у жены, — успокоил опасных гостей машинист, сам еще не опомнясь от потрясения. — Похоже, бывший жандарм Хлуденев с ними. Я с этим подлецом лажу для видимости: вожу его иной раз в трактир. — Машинист нахмурился: дошло наконец и другое: — Заграбастают они свояка, не иначе!..
В эти дни в Бузулуке открылся III съезд рабочих Ташкентской железной дороги. Председательствовал на нем Кобозев. Он приветствовал делегатов от имени Совнаркома и сразу предложил забрать управление железной дороги в свои руки.
— Вы помните, нынче летом на первом нашем съезде в Оренбурге меньшевики и эсеры провалили этот вопрос? — говорил он, окидывая взглядом красивый, но давно не отапливаемый зал, где в синеватой холодной дымке сидели железнодорожники в полушубках и ватниках, держа на коленях шапки. — Только в августе, когда в Ташкенте начались волнения рабочих и из Петрограда был направлен туда карательный отряд генерала Коровниченко, стало понятно, кому и для чего понадобилось отстранить большевиков от руководства и почему нас всячески чернили. Теперь, при атамане Дутове, положение еще более осложнилось. Пробка, созданная им в Оренбурге, не дает возможности связаться с Ташкентом. Предательство чиновников управления дороги парализует наши действия здесь, на северном участке…
Стояло на повестке дня съезда и сообщение Германа о поездке в Петроград к Ленину. Уже порасспросив машинистов о встречах в Смольном, Кобозев предоставил им слово вне очереди и сам снова с интересом стал слушать.
— Поначалу мы чего-то оробели, а потом не хотелось уходить из его кабинета. Но, понятно, утруждать разговорами не стали: дел-то у Владимира Ильича — мильон! Доложили о самом главном: насчет забастовки, об оружии тоже, — с подчеркнуто суровым видом рассказывал Герман, хотя хрипотца в голосе от волнения мешала ему и он сердито покашливал в кулак. — Великого ума человек наш Ленин: решает все твердо, быстро и ответа требует такого же. Побывали мы с его запиской в штабе у Подвойского, и уже на другой день Свердлов сообщил нам ответ.
В совершенной тишине Герман развернул листок бумаги, исподлобья посмотрел на делегатов и прочитал:
— «Завтра идет первый эшелон в составе балтийских матросов и семнадцатого стрелкового полка…» Командование поручили мичману Павлову Сергею Дмитриевичу. Он организовывал летом и осенью отряды Красной гвардии на крупнейших заводах Петрограда. По национальности чуваш и хоть молодой, всего двадцать лет ему, но это он вел матросов на штурм Зимнего дворца, — пояснил Герман и снова уткнулся в бумагу: — «Моряков отобрали с линкоров „Андрей Первозванный“, „Петропавловск“ и других кораблей». Сюда же вошли матросы, принимавшие под командой Павлова участие в освобождении Гатчины и ликвидации ставки генерала Духонина. Отряд называется «Первый Северный летучий отряд». Комиссаром в нем Щекин, а начальником штаба Михаил Павлов, брат Сергея Дмитриевича, — опять пояснил Герман. — Маршрут у них: Вологда — Вятка — Екатеринбург — Челябинск, а потом Оренбург.
— Долго придется ждать, покуда они до нас доберутся! — крикнул один из делегатов, когда затих гром аплодисментов. — Нам ведь отсюда на Дутова наступать надобно.
— И отсюда и из Челябинска, — поправил Кобозев. — Председателю Челябинского ревкома Блюхеру тоже нелегко: Дутов стремится во что бы то ни стало взять город. Троицк и Оренбург у него в руках, и он хочет, захватив Челябинск, ударить на Бузулук, чтобы потом объединиться с южным казачеством и вместе с Калединым и Корниловым двинуться на Москву. Надо обязательно раздробить силы Дутова, и тут Павлов со своим отрядом окажет нам неоценимую поддержку. Покуда они с Блюхером будут нажимать с востока, мы насядем на Оренбург с северо-запада. Из Петрограда даны указания Сызрани и Самаре поддержать нас, но сил там, к сожалению, маловато.
Кобозев радовался помощи, которую получали из Петрограда бузулучане и оренбуржцы, но заметно нервничал.
— Ты учти: когда начнете наступление, я тоже с вами отправлюсь! — мягко по тону, но решительно заявила ему дома Алевтина Ивановна, держа на руках грудного ребенка.
— А дети? — не принимая всерьез намерений жены, спросил Петр Алексеевич, с улыбкой глядя на младшего сына.
— Возьмем их с собой. Петя будет храбрее всех: он ведь ничего не понимает. Наташе и Коле покажется даже интересно. А старшеньких я подготовлю. Вы двинетесь на Оренбург бронепоездами… Я там себе уголок оборудую: матрасами загорожу детей. Если погибнем, так вместе, а если тебя ранят, я не допущу, чтобы ты умер от плохого ухода.
— Это невероятное легкомыслие! — возмутился Кобозев, с трудом дослушав жену.
— Мы договорились везде быть вместе, — возразила она. — Все равно живем на путях, в вагоне, а разве в этом нет риска? Ну как сюда прорвутся дутовцы?..
— Мы их не допустим в Бузулук. А детей брать на боевые позиции нельзя. Они не должны слушать пулеметную стрельбу и грохот пушек, видеть смерть на каждом шагу!
Однако переубедить Алевтину Ивановну Кобозев не смог и очень расстроился; представляя себя полководцем, окруженным горшочками и пеленками, досадовал и смущался. Какова будет его репутация главнокомандующего?! К тому же при всей своей кипучей энергии он не имел никакого опыта в военном деле.
На следующем, утреннем заседании, когда его утверждали начальником Ташкентской железной дороги, Кобозев был еще более озабочен, но вдруг веселый шум в зале привлек его внимание. Двое рабочих — наметанным взглядом он угадал в них паровозных кочегаров — шли к президиуму по центральному проходу меж кресел, улыбаясь и раскланиваясь направо и налево. Один из них на ходу стал отдирать усы, бороду, снял парик.
— Артисты, что ли?.. — спросил кто-то в президиуме, но делегаты в зале уже повскакали с мест, взлетали вверх шапки, раздавались возгласы: — Александр Коростелев!.. Цвиллинг!..
Кобозев тоже вскочил им навстречу.
— Освободили? Значит, побоялся атаман рабочих? — спрашивал он, обнимая товарищей.
— Такой, как Дутов, не образумится. Сами сбежали. Сразу все — тридцать два человека.
Прибывших усадили на почетные места. Они приветствовали съезд, рассказали о побеге, вызвав смех и взрывы аплодисментов. Особенно смеялись делегаты, когда Цвиллинг изобразил эпизод с «бомбой»-свеклой.
Коростелев с интересом разглядывал зал, где недавно проходили заседания земской управы: в креслах для господ гласных сидели машинисты, стрелочники, рабочие депо; были здесь и знакомые Александру делегаты-оренбуржцы.
«Какое счастье, что мы опять на свободе, среди своих! Это наша победа над атаманом, — думал Александр Коростелев. — Как смело держались девчата! Да, никто не струсил, и надзиратель Евдокимов оказался настоящим героем».
Делегаты проголосовали за Петра Алексеевича подавляющим большинством, внеся поправку, что он будет называться не начальником, а комиссаром дороги. Съезд принял резолюцию, в которой, приветствуя власть Совнаркома, постановил: вопросы разрешать, стоя на платформе «Вся власть Советам!», организовать Красную гвардию, забастовку в Оренбурге продолжать до полной победы над дутовцами.
— Теперь это не протест против ареста товарищей, а прямая борьба с контрреволюцией, — сказал в своем выступлении Александр Коростелев.
В вагоне, где жили Кобозевы, народу набралось порядочно, а дверь в тамбур то и дело продолжала открываться. И вдруг на пороге появился Алибий Джангильдин.
— Ура батыру Тургая! — закричал Цвиллинг, но вспомнил, что дети уже спят, и скомандовал: — Отставить!
— Они у нас привыкли к шуму, — сказала Алевтина Ивановна, поняв причину его замешательства.
— Услышал о вас на вокзале, едва ступил на перрон, — говорил Джангильдин, обнимая Самуила и Коростелева. — Крепкий удар нанесли вы атаману своим побегом. Удивительно, как его не хватил кондрашка от злости. А я обосновался пока в Бузулуке, но все время в разъездах по башкирским и татарским селам.
— Поезжай в Уфу и Стерлитамак, чтобы создать еще один отряд из башкир, — предложил Кобозев, расспросив Джангильдина о его поездке.
Алибий задумался. Бровастый и большеглазый, с коротко подстриженными густыми усами, он смахивал теперь на рабочего из депо, и только смуглость прокаленного солнцем лица да морщины от привычки прищуриваться, вглядываясь в степные дали, выдавали в нем бывшего чабана.
— Надо бы мне наведаться в Тургай.
— Да ведь задача-то у нас одна, и здесь ты сейчас нужнее, — настаивал Кобозев. — Поднимешь башкир, тогда двинешься в Тургай.
Джангильдин сам учитывал всю сложность и трудность обстановки, поэтому не заставил долго себя уговаривать.
— Раз нужно — отправлюсь в Уфу. Владимир Ильич тоже решал бы вопрос, учитывая местные условия.
— Хватит о делах! Давайте ужинать, — позвала к столу Алевтина Ивановна.
Кобозев взял Цвиллинга под руку, кивнул на жену:
— Рассуди нас с ней, пожалуйста. Она хочет со всей детворой сопровождать меня при наступлении на Дутова. Где это видано?
— Петр Алексеевич, мы ведь договорились!
— Ничего мы не договорились. Я категорически против.
— Это вдвойне опасно для детей: они могут заболеть от одного испуга. И свяжете вы Петра Алексеевича по рукам и ногам, — с обычной прямолинейностью вмешался Коростелев.
Алевтина Ивановна улыбнулась, снисходительно и тепло глядя на мужчин, как смотрела иногда на упрямившихся малышей. Сами, дескать, не военные люди, а ее урезонивают. Да разве может она оставить Петра в минуту опасности?
И то, что она не возражала, а только улыбалась, убежденная в своей правоте, явно сожалея о нечуткости мужчин, заставило их умолкнуть. Все двинулись к столу, где стояли тарелки с нарезанным хлебом и солеными огурцами, а ординарец Кобозева принес из столовой полный таз вареной картошки в мундире и ведро хоть и жидковатых, но мясных щей.
— Значит, банкет в честь нашей первой общей победы и хорошо прошедшего съезда. Отлично! Хотя вина и водки не будет, — сказал Коростелев, уже оценив скромность кобозевского житья на колесах.
После ужина Цвиллинг заглянул во вторую половину вагона. Там, при тусклом свете фонаря, спали тепло укутанные малыши. Виднелись только светлые и темные их головенки.
«Вот дети революции, сны которых спугнуты грохотом перестрелок». Но они все-таки в семье, — подумал Цвиллинг, и ему до боли стало жаль своего сынишку и жену: постоянно в разлуке!
В кармане его солдатской гимнастерки лежало неоконченное письмо: «Леля, мальчик мой славный! Как часто я зову тебя во сне! Протягиваю к тебе руки: приди! Нежной теплой щечкой прижмись к моему лицу, а я буду целовать крохотные твои пальчики и рассказывать твои любимые сказки. Нет, не нужно старых сказок. Они такие скучные, и ты все их знаешь. Я расскажу тебе новую сказку…»
— Нравятся они вам? — Алевтина Ивановна, шевельнув занавеской, встала рядом, цветущая, стройная, само олицетворение женственности и материнства.
«Такие матери, не ожидая приказа, посылали и посылают детей служить родине», — подумал Цвиллинг и тихо сказал:
— Очень нравятся. Я смотрел на них и думал о своем сыне. Ему четыре года. Он маленький, хрупкий и не по летам развитый. Видимо, сказывается то, что мы с женой заняты нелегкой партийной работой и он редко видит нас. Такой малыш, а понимает, что нам трудно живется, и при встречах трогательно хлопочет — заботится о матери и обо мне.
— Видите: вы тоже его втянули в наше святое дело! Разве это не похоже на то, что вы идете в бой, закрывая собой ребенка, который всюду следует за вами? Вы обрекли его на борьбу со злом с первого дня рождения. Попробуйте сказать «нет»!
— Я никогда не говорю неправды.
— Значит, вы согласны со мной?
— Согласие не исключает тревогу и желание предостеречь вас от ненужного риска.
— Может быть, я плохая мать, но я верю в будущее и ради него ничего не оставляю в залог.
Цвиллинг промолчал, чувствуя бесполезность спора: тут было нечто недоступное ни логике, ни эмоциям убеждения.
Окна вагона, приспособленного для постоянного жилья, были затянуты бело-синим искрящимся льдом, пронизанным светом близкого вокзального фонаря. Искры на морозном затейливого рисунка витраже навевали удивительные сказки, но сильнее всякой фантазии была для Цвиллинга окружающая действительность: и этот дом-вагон рядом с боевым штабом на колесах, и кочевая семья, и весь необыкновенный семнадцатый год, засверкавший в небе истории звездой первой величины.
А рядом буднично гудели, шипели, постукивали колесами паровозы, напоминая о ближайших задачах трудной и жестокой борьбы.
Справили свадьбу Харитины с Николаем Ведякиным. Шумная и богатая была свадьба. Зятя, полюбившегося Григорию Прохоровичу казачьей ухватистостью, сноровкой и рвением послужить войску, Шеломинцевы приняли к себе в дом.
— Все бегал вроде парнишка и вдруг открылся стоящим человеком. По мысли он мне ближе родных сыновей, — сказал старый казак жене, перед которой иногда по-своему изливал душу. — Мишка у нас хозяйственный, но в башке у него не разбери-поймешь. Ему каку-то отдельну республику нужно. Не большевиков, не царя, а конституцию. А что такое конституция? Она вроде и при царе была. Писали же чего-то в газетах… Однако ежели разобраться — баловство никчемно. У Нестора вовсе в голове пустота. Этому одна конституция нужна — с Ефросиньей обниматься. О казачьем войске, о круге у него заботы нету. А вот Николай совсем другой коленкор!
Григорий Прохорович прислушался к злобному посвисту ветра, к сухому шороху снега, будто лопатой его кидали в стекла окон.
— Само дело пить да опохмеляться: никуда ходу нет. Принеси-ка, мать, арбузиков соленых да рассольцу захвати.
Поглядел вслед жене: широкая, точно дверь, спина, с неохватных бедер струятся сборки тяжелой юбки. Кривя губы, посетовал про себя:
«Вот ходит, как ломова лошадь, и молчит. Не располагат к душевности. Только на народе бойка. И Харитинка в нее: при мне тихоня, а шасть за порог — откуда что берется!»
А Харитинка уже тут как тут — легка на помине, курносенькая, белозубая, светлые, как у Нестора, волосы младенчески пушатся на висках, губы полураскрыты, нацелованные, аж припухли, и шею кутает, но у подбородка синяк — след поцелуя все равно виден. Ничего не скажешь, молодожены!
Есаул вспомнил свою женитьбу: как, заплаканный, в кровоподтеках, стоял под венцом, вздохнул натужно, не выдохнув застарелую обиду. Упершись локтями в кухонный стол, покрытый клейкой еще новенькой клеенкой, он вытянул ноги, обтянутые поверх шаровар толстыми шерстяными чулками, ссутулился и так исподлобья зыркнул на Харитину, что она, пробегая через кухню, замерла.
— Чего ты носишься, инда сквозняк от тебя?
— Николаше побриться… водички горячей…
— Ну, бери. Чего стала? Ведь ждет, поди!.. — А у самого глаза подобрели: «Славный будет казак. Уже в поход ладится. В праздник подтянут, по форме одет, в будний день на работу лют и молодайку свою крепко приголубливат… Ишь укуталась, мила дочь!» — Нестора кликни. Где он?
— С Фросей на базу. Скотину поят из колодца. К прорубям-то на протоке не подступиться: метет, аж деревьев и плетней не видно. Пробился через сугробы кормельщик за хлебом, сказывал: если ишо дня три пробуранит эдак, то корма скоту в кардах не хватит.
— Сам знаю. Ужо утихнет буран — поедете на быках по сено. Иди к Николаю-то да Нестора позови.
Принесенный Домной Лукьяновной арбуз, холодный, приятно освежающий солоноватой сладостью, Шеломинцев ел жадно, вычерпывая деревянной ложкой красную мякоть. Крепко вытерев губы и усы скомканным полотенцем, он уже ласковее уставился на вошедшего Нестора, краснолицего от морозного ветра. Его послушно-почтительное выражение тронуло отцовское сердце. Нет, хорош сын! И собой пригожий, и джигит лихой. Войдет в разум — будет войсковому атаману опорой.
— Садись! Чай, запарился, таская бадью?
— Колодец вычерпали до дна. Пока наберется вода, мешками с сеном накрыли сруб, чтобы не застыла.
— Небось не застынет. Меня другое заботит: не вижу я что-то твоих сборов на войскову службу. Михайло уже уехал. Николай коня подковал, вечор всю казачью справу из сундука с Харитиной вынимали, просмотрели. Тоже, поди, неохота от молодой женушки в поход идти.
— На кого идти-то, папаня? — зачужавшим голосом спросил Нестор, отводя глаза в сторону.
— На кого следует. Когда трубач сбор протрубил, ты разве на плацу не был?
— Был.
— Речь станичного атамана слушал?
— Слушал.
— Бумагу-приказ по войску — при тебе читали?
— При мне.
— Так какого же черта!.. — Узловатый кулак папани грохнул по столу так, что слетели на пол мокрые арбузные корки. — Чего ты из себя строишь? Мне ли тебя агитировать? «На кого идти»! Будто не знаешь, с кем мы сегодня в разладе?
— Так неужели мы взаправду начнем воевать со своими, русскими?
— С какого боку они тебе свои? Да, по мне, они хуже всяких немцев, коли мать-Россию им продали! Я этих русских большевиков, как шашлык, на пику буду нанизывать да воронам кидать. А ты — мой сын, казак прирожденный, от меня отставать не должон. Не мы их, так они нас, казаков, с лица земли сотрут.
— Какой же им расчет уничтожать нас?
— Самый простой… Разве ты забыл, как Ефросиньины родственники тебя из своей землянки выбросили? Думать, я ничего не знаю, слепой промеж вас хожу? Да за одно подобно обращенье морду им надо бить. А ведь они ишо метят повыкидать нас из собственных казачьих куреней. За это их надо убивать, как бандитов. Теперь разъело им губу: захотели власть над страной забрать, казачье войско начисто ликвидировать. Тут уж один разговор — настоящая война не на живот, а на смерть. Все! Кончена моя лекция. И чтоб ты через день-два, только буран малость утихнет, был готов к походу, ровно штык навостренный. Иди, не зли меня боле, а то созову стариков на круг, и по законам военной поры вложим тебе розгами — ни сесть, ни встать не сможешь. Тогда Ефросинья твоя на тебя и глядеть не захочет. Они, бабы, до мужского позора чутки, стервы!
— Всех подряд так не обработаете! И не позорно ли будет казачьему войску воевать с поротым задом?
— Искони пороли, а войско казачье на весь мир славилось. Не зря в нашем третьем отделе под Троицком и под Челябой прозываются станицы и поселки то Лейпцигом, то Парижем: из походов названия вывезены. Подряд пороть не придется: казаки воинску честь соблюдают твердо. У нас на целу станицу один Антошка Караульников полоумный был, да вот ты ишо объявился… Пшел вон!
Нестор встал, побагровев, в глазах огонь злобы и непокорства, толчком открыл дверь в сени, следом потек запах винного перегара и горьковато-душный жарок печи, натопленной кизяком.
Отмахнувшись от участливого любопытства Харитины, Нестор выскочил на высокое крыльцо и с минуту, придерживаясь за резную дубовую балясину, обдаваемый снежными вихрями, жадно дышал — глотал студеный воздух.
Крыша амбара и копны сена над базами, где в тесноте стояла скотина, еле виднелись в крутящейся белой замяти — мело отовсюду. Вот оно, родное гнездо Нестора, которое он обязан по долгу родства и круговой общинной поруки защищать до последней капли крови… Опухшее с похмелья лицо разгневанного отца, тяжелые его угрозы отталкивали от признания такого долга. Но в то же время ясно представлялась возможность жестокого наказания за отступничество.
Только ли чувство к Фросе было причиной того, что Нестору не хотелось воевать с русскими рабочими? Нет, видно, не пропали даром разговоры с Антошкой Караульниковым. Почему его называют полоумным? Не примечал этого Нестор. Толково всегда рассуждал Антошка: одно дело усмирение при мятежах (хотя карательные экспедиции тоже позор), а тут, воюя с рабочими-большевиками, придется применять оружие и против старых и малых — на войне как на войне!.. Надо будет обстреливать свои, русские, города, свои села. А большевики начнут палить по казачьим гнездам?..
Нестор вообразил, как на этом дворе разорвутся снаряды, загорятся постройки и в клубах дыма будут биться кони, отчаянно упираясь перед распахнутыми воротами. Кони и коровы сгорят, но с места не сойдут, их можно вывести, только завязав им глаза. Но кто сделает это, если мать, Харитина и Фрося будут метаться под обстрелом в поисках убежища для себя?
— Да зачем нам такая булга кровавая?!
Нестор развел руками, будто взлететь хотел, сбежал по заметенным снегом ступеням крыльца и бросился к летней кухне.
У низко прорезанного окна, с нетерпением ожидая мужа, стояла Фрося. Нервно кутая плечи шалью, она тревожно-вопросительно и оттого, казалось, отчужденно посмотрела на него. Однако освещенное снизу скудным светом уходившего хмурого дня, необычайно бледное лицо ее с бровями, чуть приподнятыми туго затянутым чепчиком волосника, выражало столько любви и нежности, что у Нестора сразу отлегло от сердца. Он порывисто обнял ее, отчего широкие юбки на ней крутанулись колоколом, и, не выпуская из рук, присел на скамью.
— Снегу-то сколько! — Фрося стряхнула тающие снежинки с мягких волос мужа, провела ладонями по его щекам.
Он взглянул снизу, на ресницах его блеснула влага…
— Ты… Плачешь?
Нестор спрятал лицо в сборках ее кофточки, ощутив нежную теплоту строго упрятанных маленьких грудей, и голос его прозвучал глухо:
— Ты сама говоришь: снег… Вот и тает.
Она отстранилась, настойчиво приподняла его голову.
— Что он тебе сказал?
Нестор недобро усмехнулся, судорожно кривя губы:
— Обещал выпороть на круге, если стану уклоняться от мобилизации.
— Значит, решили в самом деле воевать?
— Выходит, так.
На минуту в кухне водворилось молчание, только буран бешено возился на крыше, свистел в трубе, выбрасывая искры и пепел из подтопка. Фрося полюбила уже бескрайний простор вокруг станицы, затянутый сейчас белесой мглой метели, расстилавшей в степи белые свои полотна, хлещущие по сугробам. Пусть бы дуло, мело так, чтобы до самой весны стояла между небом и землей эта обжигающая морозом завеса, отгородившая станицы от Оренбурга, где сидел атаман Дутов, готовый ради богачей столкнуть в смертельной схватке казаков и рабочих.
«Пусть бы он остался один и сбежал от страха на край света, — словно жаркое заклинание произнесла мысленно Фрося. — Без него при Советской власти городские буржуи и богатеи станичники вели бы себя смирно. Без него народ жил бы спокойно. Ведь большевики, о которых с такой злобой говорят здешние бородачи, не только за рабочих стоят да за крестьян, они и трудящихся казаков уважают.
Чего им теперь делить, простым казакам и рабочим? Землю? А зачем земля дедушке или отцу и Мите? Да тому же Харитону? Ведь они ни пахать, ни сеять не умеют и никогда заниматься этим не станут. Но если они начнут воевать с атаманом и его войском, то будут стрелять в Нестора, а Нестор помчится на них, выхватив шашку — не пойдет против рабочих, свои же пороть станут».
— Давай убежим отсюда! — шепнула Фрося, боязливо оглядываясь на дверь, в которую, как голодный бродяга, охая и завывая, ломился буран.
— Куда же мы убежим? — Нестор грустно улыбнулся. — Что делать-то будем?
— На Каспий подадимся, к рыбакам, либо в степи к киргизам. Киргизы, они добрые. Ты будешь коней пасти, я — кобылиц доить, кумыс делать. Ваших коров с телятами тяжельше доить, да и страшней они, когда рога уставляют.
То, что она сказала: «ваших коров», — больно укололо Нестора: он так хотел, чтобы она чувствовала себя дома в его родной станице. Хотел… Но теперь понял: чужой и он на своем подворье. Что, если в самом деле силком поведут, словно вора пойманного, да при всем честном народе оскорбят, опозорят?..
— Ну чего же ты молчишь, о чем думаешь?
Он ничего не успел ответить, как вбежали, смеясь и отряхиваясь, Харитина и Николай в новенькой казачьей форме с ярко-голубыми лампасами и погонами.
По вечерам Харитина накручивала на бумажки отпущенный «висок» мужа, смачивая густые глянцево-черные волосы сахарной водой, чтобы лучше держались завитки, и, когда Николай надевал форменную фуражку, любовалась лихим видом своего казака. Влюбленные молодожены были так беззаботны с виду, словно и не предстояла им скорая тяжелая разлука, будто не на войну, а на учения в летние бараки протрубили сбор. Обмениваясь шутками и поцелуями, они рассматривали новенькую шашку, забавляясь ею, как игрушкой. Харитина, следуя обольстительному примеру Нестора, готова была день-деньской висеть на шее у своего Николаши, и даже Аглаида, уже проводившая мужа, не попрекала ее за нескромность.
— Что, свояк, пора нам двигаться в Оренбург? — Николай подышал на зеркально блестевшее лезвие шашки, любовно потер ее рукавом мундира, играючи бросил в ножны и встал, красуясь под умиленным взглядом Харитины, почти задевая головой низкий потолок кухни. — Батя сказал: чуть поутихнет буран, выступят мобилизованные из станицы.
— Может быть, он еще неделю, а то и месяц пробушует…
— Все равно не будем сидеть у моря да ждать погоды. Этак дождемся, что нам башки посшибают.
— Не сами ли нарываемся?
Узкие глаза Николая весело сверкнули на пылавшем густым румянцем лице:
— Я в политику не лезу. На то есть атаман и войсковой круг. Они и в ответе. Мое дело приказ исполнить, да притом так наловчиться, чтобы живу остаться.
— Не рассуждая при царе жили.
— А разве плохо казакам жилось при царе? — простодушно спросил Николай. — Вот разделайся с большевиками, и опять все пойдет по-хорошему.
Харитина не стерпела — ввязалась в разговор:
— Как же ты, братушка, думашь обойти приказ? Или тебе Фросина родня ближе, чем свои кровны?
— Фросина родня тут значения не имеет. — Нестор насупился, чувствуя, что в прямом вопросе сестры есть немалая доля правды, которой он боялся. — Они нас с Фросей сами отшили — это факт. С большевиками мне не по пути. Но просто ни к чему нам воевать с Россией.
— Мирно все равно не отсидимся. — Николай задумался, однако долгие размышления были не в его характере, и он, улыбаясь, тряхнул «виском», повисшим плотной прядью до сросшихся бровей. — Получу чин хорунжего либо старшины, отвоюю — и скорей домой, к Харитинке. Чую, казачья служба мне по сердцу придется. А ты звание воинско уже имеешь, училище казачье окончил, в джигитовке многих превзошел. Я бы на твоем месте часу не раздумывал, только зря батю дразнишь.
— Больно ты легко задачи решаешь! — Фрося высвободила руку из ладони Нестора, шагнула к Николаю. — Ты пойми: чтобы выслужиться, надо людей убивать!..
Николай недоуменно воззрился на нее, вспыхнувшую лихорадочным волнением.
— На войне всегда врагов убивают.
— Какая же это война? Вот я здесь, а в Оренбурге мой отец и братья. Они рабочие люди, а не враги.
— Ты им и скажи, чтобы они супротив нас не лезли. А ежели не можешь, ежели ушла от них совсем, тогда нашу сторону держи.
— В церкви то же говорили, когда под венцом, — напомнила Харитина. — Забудь ради мужа и отца и мать…
— Это сейчас ни при чем, — отрезала Фрося.
— Как «ни при чем»? — изумилась Харитина. — Зачем же ты закон принимала?
— Чтобы нам с Нестором вместе быть. А теперь его от меня угнать хотят да на моих родных натравить.
— Значит, зря ты заявлять, что Фросина родня в нашем деле значения не имет, — упрекнул Нестора Николай. — Вон как твоя женушка за своих заступятся! Видно, правду говорят: котел горшку не товарищ. Гляди, не остались бы от тебя биты черепушки.
Буран бесновался еще сутки и вдруг угомонился, упала на землю торжественная белая тишина, а по наметенным сугробам пошли петлять тропки-дорожки. Прогнали станичники в пойму Илека табуны коней и коров на водопой; раскидали гуменными лопатами размятый ими снег, чтобы не заваливались коротконогие овцы; потянулись в степь обозы за сеном, и глядь — уже вихрем несется по улице резвая тройка…
— Несенька, родненький мой, как я без тебя останусь? — лепетала Фрося, бледная и похудевшая. — Я с ума сойду…
— Прижали добра молодца — нож к горлу: смерти или живота? — невесело пошутил Антошка, заглянув к молодоженам.
— А с тебя словно с гуся вода! — Нестор не удивился беспечности приятеля, отлично понимая, каким образом его папаня Семен Тихонович Караульников улаживает вопрос в войсковом правлении. — Опять в запасе останешься?
— От меня атаманы рады избавиться, потому что дух войска превыше всего. А мой дух им не по носу. Конечно, не каждому везет. Вон Демид Ведякин — этакий богатырь — паршой покрылся: Алевтина с Дорофеюшкой так его мазью усдобили, что не только в поход, а и за ворота не выглянешь.
Антошка присел на лавку, посмотрел, как Фрося укладывала белье в походный сундук, роняя слезы на рубашки и носки мужа, приметил, что Нестор, молча осматривавший запасную конскую сбрую, застопорился и — движения его стали вялыми — промолвил, будто вслух размышляя про себя:
— Паршу вызвать нетрудно…
— Я бы не хотел… женушка разлюбит. Тогда, спрашивается, ради чего стараться?
Антошка ответил не сразу: подтянув к себе конец теплого шарфа, боевого «приданого» Нестора, с преувеличенным вниманием разглядывал пушистые махры, потом процедил сквозь зубы:
— Мало ли… Бывают и чистые повреждения.
Фрося, не стесняясь Антошки, подошла к Нестору, прижалась к его груди:
— Уедем отсюда! Спрячемся где-нибудь. Есть ведь еще и Сибирь. Или на север… Я с тобой куда угодно с радостью.
Смущенный Нестор отстранил ее, но она схватила его за руки, стала целовать их припухшими горячими губами, торопливо шепча:
— Не встревай ты в это дело! Николай и Михаил пусть едут, раз они заодно с женами… раз им большевики поперек горла стали, а нам с тобой зачем? А меня за что казнить?
Антошка дипломатично отвернулся, даже напевать стал, постукивая по столу. Нестор обнял Фросю за плечи, крепко удерживая, вытер ей лицо ладонью, точно маленькой девочке:
— Я тебе сказал: бежать некуда. Ваших железнодорожников видеть не хочу, но и с казаками против них не пойду. Попрошу, чтобы меня при штабе оставили…
— Штабы теперь будут не знай где. Это тебе не фронтовые позиции, — заметил Антошка.
— Шел бы ты, знаешь, домой, и без тебя тошно! — с досадой бросил Нестор.
Вбежала Харитина, вся розовая, подскочила к Фросе, обняла ее:
— Опять плачешь! Брось ты Нестора травить-жалобить! Братушка, папаня велит тебе ехать с запиской от него в станично правленье в Буранном. Успокойся, Фросенька. Расправятся наши в один момент с кем надо и зараз домой возвернутся. И тогда будет на Урале-реке тишина, покой и полна согласия.
— Полная согласия и тишина только на кладбище, — меланхолично ввернул Антошка.
— Ах, штоб тебя! — Харитина будто только что заметила Антона, сердито подбоченилась: — Молчал бы уж, амбарна затычка! Сам не идешь и других с толку сбивать. Куда только станичный атаман смотрит? Думать, не знаем про тебя? Ведь ты не умом недовольный, а форменный притворщик! — Она умолкла: подступила к горлу не то злая горечь, не то слезы, с усилием поборов удушье, снова повернулась к Нестору: — Николаша с утра в Буранном. Чегой-то его так накачивают? Он и без того рвется в сраженье. Несторушка, ты бы прокатил нас с Фросей до Буранного. Напоследок.
— Пожалуй!.. — Нестор подошел к Фросе, с нежной шутливостью сжал ладонями ее лицо, будто прицениваясь, всмотрелся в изменившиеся черты. Свел упрямо брови, губы побледнели, а в голосе прозвучало незнакомое, жесткое: — Ну, добро! Сейчас я мигом заложу вороных.
Сытые лошади, черные как смоль на белизне сугробов, легко мчали расписную кошевку. Летела на седоков снежная ископыть, лихо звенели бубенчики, но лица молодых были серьезны и печальны. Молчком прильнула к плечу Нестора Фрося, держась за его локоть обеими руками.
Харитина сидела напротив. Она бодрилась по-прежнему, отодвигая, копя взрыв горя. Сейчас, посматривая на Нестора и Фросю, она впервые по-настоящему поняла, как им тяжело: ведь в Оренбурге, если начнутся бои, ему придется столкнуться с ее родными.
«Личико-то у нее совсем прозрачно стало, все краски сбежали, да еще шаль серу повязала, будто старуха, — мысленно ахнула Харитина, разглядывая невестку. — И Нестор похудел: на щеках желваки, а глазами зыркат вроде папаши. Видно, переступит через Фросино горе. Ужас, до чего решительный вид у братушки!»;
Скакали навстречу верховые, плелись бычьи упряжки с сеном. Дорога, вившаяся по буграм вдоль поймы Илека, где стояли серебряные в бахроме инея чащи, была уже наезжена до блеска на крутых раскатах. На повороте кошева шибко раскатилась, накренясь набок, но вместо того, чтобы сдержать коней, Нестор ослабил, распустил вожжи, а сам, перекинув ногу через край короба, стал тормозить… Не успев одернуть брата, Харитина увидела, как перекосилось его побелевшее сразу лицо, и — готова побожиться — хруст услышала. Мигом вскочив, она переняла вожжи и остановила коней, оглядываясь на Нестора, неловко опрокинувшегося на руки Фроси.
— Сломал ногу братушка-а-а! — закричала она подскакавшим казакам и (час от часу не легче!) заметила беглую улыбку — неудержимое испуганное сияние на лице Фроси.
И у Нестора, — хотя испарина на лбу выступила от боли, — брови разошлись, сгоняя хмурь. Полулежал он, прикусив чуть не до крови губу, но плясали в глазах чертики-огоньки, выдавая скрытое торжество, пока бывалый казак осторожно укладывал на сене его поврежденную ногу.
Сразу после съезда Кобозев вступил в управление северным участком пути от Кинели до станции Новосергиевка, и чиновники Ташкентской железной дороги, спевшиеся в Оренбурге с Дутовым, были изолированы от Поволжья.
— Интересно, отметят ли историки все значение кооперации в наше время? — весело сказал Кобозев, выслушав в штабе сообщение Цвиллинга, который разъезжал как агитатор по станциям участка, захлестнутым нарастающим потоком демобилизованных и дезертиров с фронта. — В Оренбурге потребиловка была у нас центром подпольной партийной работы, а в Бузулуке она подковывает финансами органы Советской власти и отряды Красной Армии. Ты в кооперативную лавку заходил? Видел, сколько товаров мы передали туда? Все «самодеятельность» нашего совета железнодорожных комиссаров: реквизировали у спекулянтов. Реализуя эти товары, мы уже получили около полутораста тысяч рублей. Армию-то содержать надо? Рабочим зарплату выдавать? Оренбургских забастовщиков поддерживать?
— Я гляжу, вы забрали даже красные ватные халаты, которые предназначались бухарскому эмиру.
— Да, несколько тысяч халатов. Очень теплые они оказались. Холода, а обмундирования для бойцов нет, и мы будем воевать против атаманских щеголей в красных халатах. Это даже символично, черт побери!
Кобозев взял трубку зазвонившего телефона, а Цвиллинг в ожидании стал расхаживать по вагону, нетерпеливо потопывая каблуками. В больших сапогах, надетых на теплые носки и портянки, в полушубке, перетянутом ремнями, и лохматой папахе, да еще с револьвером на боку, Цвиллинг выглядел весьма воинственно.
— Жалею, что я не взял в Сызрани тысячу солдат, которых мне отдавали после того, как там демобилизовали гарнизон. Винтовки для них мы добыли бы здесь, — снова озабоченно заговорил Кобозев, положив трубку. — «Комитеты спасения» разоружают гарнизоны, сочувствующие большевикам, сразу видно — готовят восстание: кругом ведь кишит белогвардейщина. В Самаре у Куйбышева сейчас получше, кое-чем обещали нам помочь в наступлении на Оренбург, и хорошо, что крестьяне нашей губернии охотно идут в Красную гвардию.
Цвиллинг слушал, внешне присмирев, но все в нем кипело от желания немедленно действовать. Он, как и Александр Коростелев, считал, что большевикам не пристало либеральничать сейчас с контрой и что нужны более резкие меры, когда воинские части, подстрекаемые офицерами, превращаются в толпы разнузданных анархистов.
Начальник штаба, оторвавшись от телефона и второпях опрокинув стул, подскочил к столу Кобозева.
— Перехвачена по прямому проводу телеграмма Дутова. Атаман предлагает казачьим войскам перерезать в Челябинске железнодорожную магистраль и сообщает о своем движении через Бузулук на Кинель. Станция Новосергиевка уже занята его разведчиками.
«Вот оно! — подумал взволнованный Цвиллинг. — Атаман упорно рвется к Волге в Казань! Он, конечно, мечтает не только о походе на Москву вместе с Корниловым и Калединым, но и о том, чтобы завладеть золотым запасом России, который хранится в подвалах казанского кремля. Теперь мы должны доказать на деле свою боевую готовность».
Кобозев наоборот остался почти спокоен, выслушав сообщение о начале военных действий, только хлопнул ладонью по газете «Речь», где была напечатана статья Милюкова о планах удушения революции.
— Это директива для монархистов. Теперь они приступили к ее выполнению. Нам надо преградить дорогу Дутову на Бузулук, решительно ответить на его вылазку. Но наше положение очень осложняется хлынувшим с фронта потоком казаков и солдат. Ты уже сталкивался с ними и имеешь представление об этой стихии. Их необходимо разоружать, потому что офицерье, надеясь оказать помощь Дутову, подстрекает всех требовать отправки в Оренбург. Получены телеграммы, что эшелоны подходят и подходят к Сызрани, где у нас передовой пост. Анархисты дебоширят на станциях, угрожают расправой начальникам и машинистам; справляться с ними красногвардейцам трудно, и часть демобилизованных, особенно казаков, прорывается с оружием.
— Я поеду туда, — предложил Цвиллинг, — буду агитировать солдат и казаков, чтобы они не рвались пока в Оренбург и, по крайней мере, соблюдали нейтралитет.
— Поезжай! — одобрил Кобозев. — Учти общую обстановку. Вчера ко мне приезжал председатель Троицкого Совета и рассказал, что настроение у тамошних казаков повышенное. Идут митинги, старики из местных станиц и казачьи офицеры требуют окружения Челябинска и немедленного изгнания большевиков. Повсюду они рассылают конных гонцов. У них хранится около двух с половиной миллионов пудов зерна, да еще не обмолочены скирды пшеницы урожая прошлых лет. И мяса там задержали сто пятьдесят тысяч пудов. Так что у дутовцев будет надежный тыл, обеспечивающий им движение к Волге. Я сообщил в Смольный, что Дутов назначил новую мобилизацию в Тургайской области. Хорошо, что Джангильдин и Амангельды Иманов успели там поработать среди киргизского населения: провели агитацию за Советы. Мобилизация вряд ли поможет атаману. Он спит и видит, как и все белые генералы, золотой запас страны, вывезенный царским правительством в Казань. Это сотни миллионов рублей в золотой монете и слитках. Магнит колоссальной силы.
— Помилуй бог, если его захватят белые! — сказал Цвиллинг. — Меня страх берет при одной мысли о такой возможности. Ведь тогда гражданская война затянется надолго. На эти миллионы капиталисты Антанты вооружат для контрреволюции громадные армии. Чтобы так не получилось, нам придется стоять насмерть. К тому и надо готовиться. — Цвиллинг потуже подтянул ремень, поглубже надвинул на брови папаху, перед тем как уйти, тихонько спросил — Алевтина Ивановна не отказалась от своего намерения?
Кобозев, не скрывая досады, покачал головой, но взгляд его потеплел и смягчился.
— Трудно спорить с моей комендантшей! Хотя кое в чем ты ее все-таки убедил.
Получив известие, что ускакавшие из Новосергиевки разведчики Дутова взорвали два моста, Кобозев сам отправился туда с ремонтным поездом и ротой солдат.
День был серый. Кругом лежали заваленные снегом поля, прорезанные балками, огороженные цепями невысоких голых гор.
Пока ремонтники заканчивали починку моста, Кобозев шутил с пулеметчиками на паровозе, поглядывал на конных солдат, взятых им для разведки. Те, спешившись возле моста, толпились у костра, курили, туже затягивали подпруги на отощавших конях. В пути они двигались рядом с железнодорожной насыпью, а там, где были заносы, прямо по шпалам.
Дав сигнал ехать дальше, Кобозев опять пристроился у окна машиниста и вскоре увидел вдали вооруженных всадников. То ли из-за глубокого снега, то ли от нерешительности, они приближались медленно, хотя гарцевали вовсю, поднимая скакунов на дыбы, метя сугробы их длинными хвостами.
— Казаки! — осипшим от страха голосом крикнул машинист, выглянув из-за плеча Кобозева. — Ей-богу, они!
— Ну-ка, товарищи, дайте для пробы в воздух две-три короткие очереди! — приказал Кобозев пулеметчикам, залегшим на тендере.
Поезд остановился. Стрельба пулеметов отдалась в паровозной будке оглушительным грохотом, и со стороны противника тоже затарахтело, гулко застучало. Необстрелянному Кобозеву показалось, что небо раскалывается. Ремонтные рабочие и рота бузулучан рассыпались в цепь и залегли вдоль насыпи.
Соскочив с паровоза, Кобозев тоже залег в снегу с новенькой винтовкой, приладился, прицелился, но от волнения никак не мог взять на мушку маленького издали, верткого врага. В кого лучше стрелять, в коня или всадника, он еще не решил, а тот все увеличивался, должно быть, скакал прямо на Кобозева. С ожесточением сдвинув назад шапку, смахнув с лица пот, выступивший несмотря на крепкий мороз, Петр Алексеевич снова стал ловить на мушку казака, решив непременно убить его прикладом, если он прорвется к линии.
Первая боевая стычка, хотя к ней заранее готовились, все равно оказалась ошеломительно-неожиданной. Вспомнив о своих обязанностях комиссара, Кобозев вскочил, но сосед, бывалый солдат, толкнул его обратно. Падая снова в сугроб и оберегая винтовку, как ребенка, Кобозев услышал посвист пуль. Близкие выстрелы красногвардейцев и громкий голос выборного командира почти успокоили его. Теперь он нашарил стволом винтовки двигавшуюся цель, выстрелил и промахнулся. Но это не обескуражило его: он находился в строю, а опытный товарищ принял команду боем, значит, все шло как надо.
Трудно было определить даже приблизительно, сколько людей у противника, но их казалось очень много и незаметно было, чтобы там кто-нибудь падал, хотя стрельба со стороны бузулучан велась уже не так беспорядочно, как в начале. Очевидно, потери в казачьих рядах скрадывались тем, что конники суетливо перескакивали с места на место. Во всяком случае, враг продолжал наступать, приближаясь к поезду.
«Хотя бы услышали выстрелы на Платовке и передали в Бузулук, что идет боевая схватка, и, наверное, там сообразят, что нужна помощь», — подумал Кобозев, заметив, как солдат, спасший его, сам ткнулся в снег, а на спине его, обтянутой шинелью, проступила, расплываясь, кровь. Тут Кобозев обнаружил, что успел расстрелять все патроны. Он взвалил на себя раненого, прихватил его и свое оружие и пополз к служебному вагону, уже превращенному в санитарный пункт.
— Плохо дело, Петр Алексеевич, патроны кончились! — кричали железнодорожники так, будто сообщали ему о нехватке костылей или шпал.
Тогда Кобозев с помощью рабочих отцепил паровоз от поезда и сам встал за регулятор вместо машиниста, который, струсив, забился в угол. Паровоз двинулся в атаку на казаков, крутившихся совсем близко. Пулеметы с тендера зачастили вовсю, расстроив казачьи ряды. Бузулучане, не отставая, бежали за паровозом, то и дело падали в снег и тоже стреляли.
Но вскоре один пулемет на тендере умолк, а раненый пулеметчик стал сползать по углю вниз. В том же состоянии отчаянной решимости Кобозев дал задний ход, прикрывая своих красногвардейцев.
В это время казаки ранили второго пулеметчика и помощника машиниста.
— Что же ты, гад, подводишь товарищей? — закричал Кобозев на машиниста, который по-прежнему сидел в углу. — Мы тебя судить будем!..
Однако ни ругань, ни угроза не вывели того из состояния тупого испуга. Кобозев приказал спешно сцеплять паровоз с вагонами, гудками созывал, собирал своих бойцов. Казаки, усиливая огонь, уже начинали окружать поезд. Только глубокий снег по обе стороны железной дороги мешал им маневрировать.
«Сейчас толкну состав назад, и на всех парах будем уходить», — подумал Кобозев и вдруг увидел вдали на холме военные повозки с красными флагами. Они двигались быстрее казаков, снег на нагорье был мельче, но неожиданно замедлили.
— Давайте скорее! Чего же вы?.. — взмолился Кобозев вслух.
Два дня назад Куйбышев сообщил ему телеграммой из Самары, что посылает артиллерийскую батарею с хорошим наводчиком Ходаковым.
«Но почему они остановились на косогоре? Не двигаются!.. Неужели завязли в сугробах?..»
Будто отвечая на тревожные вопросы, поблизости разорвались снаряды, и только тогда Кобозев сообразил: батарея встала на позицию — не могла же она подскакать вплотную!
Переполох среди казаков, а заодно и среди красногвардейцев, не успевших вскочить в вагоны, произошел невероятный: после неожиданных взрывов все вместе кинулись кто куда. Бог знает что произошло бы, но следующий снаряд попал прямо в дутовцев, сбившихся в большой отряд для нападения на паровоз.
— Действительно, мастер наводчик Ходаков! — торжествуя, сказал Кобозев, с лихорадочным волнением глядя на казаков, поскакавших обратно.
«Тоже, видно, еще не нюхали пороха», — подумал он и очень удивился, когда узнал от пленных, что действиями их руководил сам Дутов.
На ультиматум Кобозева Дутов не ответил, упорно не желая признавать Советскую власть, тогда из Бузулука началось наступление на Оренбург.
22 декабря красногвардейские отряды из солдат, крестьян и железнодорожников погрузились в эшелоны. Впереди пошел бронепоезд, на котором находился Кобозев, командующий отрядом.
— Хорошо, что Цвиллинг уговорил Алевтину Ивановну отказаться от участия в походе, — сказал он перед отправкой Александру Коростелеву. — Я исчерпал все доводы и отчаялся перед ее женским упрямством.
Коростелев видел в настойчивости Алевтины Ивановны больше, чем «женское упрямство», но, ценя ораторский талант Цвиллинга, не сомневался в том, что Самуил выполнит и миссию домашнего дипломата.
У Александра были свои заботы. В отряде Кобозева он стал командиром подразделения численностью до батальона и, приняв это как ответственное партийное задание, старался прежде всего завоевать авторитет у своих бойцов.
— А то они бунт устроят, когда узнают, что у меня нет военного опыта, — не шутя говорил он Кобозеву.
Но красногвардейцы сразу полюбили его за прямой и смелый характер, за уменье потолковать по душам и, когда начались первые стычки с дутовцами, бросались за ним в атаку без страха.
— Это потому, что в молодости я был заводилой в кулачных боях, — смеясь, говорил Александр.
Стояли суровые морозы, пробиравшие до костей полуголодных, плохо одетых красногвардейцев, но так силен был их боевой порыв, что они опрокидывали все вражеские заслоны и вскоре после дружной атаки заняли станцию Сырт. Подразделение Коростелева одним из первых прорвалось к станции, но, когда красные эшелоны готовились двинуться дальше, ему приказали остаться на Сырте.
— Это почему же? — побагровев от обиды, спросил Александр. — Разве мои ребята плохо дрались?
— Нет, вы дрались отлично, — сказал Кобозев. — Но нам надо обезопасить свой тыл перед последними решающими подступами к Оренбургу и иметь здесь пункт для связи.
Еле сдерживаясь, чтобы не спорить, Коростелев подчинился, хотя ему, как и всем красногвардейцам, хотелось первым войти в родной город.
Даже заботы о матери и сестре не так волновали его, как судьба Вирки Сивожелезовой. Ведь никто теперь не заступится за нее, если опять нагрянет пьяный родитель. А что, если Вирка, не выдержав его буйных скандалов, махнет рукой на свои добрые намерения и покатится по скользкой дорожке? Покалечит, забьет тогда насмерть ребятишек Сивожелезов.
«Трудно сейчас нахаловцам, а Вирке тошнее всех».
Попрощавшись с Цвиллингом, Александр с завистью глядел вслед уходившим эшелонам.
— Ну, товарищи, будем крепить здесь тыл наших боевых отрядов, — сказал он, отвернувшись от злых вихрей поземки, заметавших еще гудевшие рельсы. — Поставим дозор с пулеметом у водокачки, остальным как зеницу ока стеречь пути, мост и станцию.
— Чего ее стеречь, чай, она не убежит, — весело отозвался кто-то из бойцов.
— Еще как убежит, если казаки нас врасплох захватят и придется нам пешком драпать в чистое поле! — тоже усмехнувшись, ответил Коростелев.
— Казаки теперича возле Оренбурга. Готовятся, поди-ка, встречать наших, — промолвил один из пожилых красногвардейцев с повязкой на голове.
— Чай, не все они под Оренбургом. Им на лошадях-то ничего не стоит проскочить куда хошь. За ночь из станиц по Уралу сюда доскачут, — возразил другой.
— По таким сугробам не поскачешь! Можем отсыпаться до сочельника, а потом идти Христа славить — пышки собирать, — сказал третий, совсем юный, в киргизском лисьем треухе.
— Нет уж, братцы! — прервал их Коростелев. — Ни пышек, ни шишек ждать не будем. Мне эта тишина вокруг Сырта не нравится. В первую очередь обеспечим охрану телеграфа, чтобы иметь связь, когда наши займут Каргалу. Поезд будем держать в полной готовности: паровоз под парами. Воинских сил у Петра Алексеевича не так уж много, и он может в любую минуту затребовать нас из этого хитрого тыла. Одним словом, к делу!
Он еще не научился разговаривать по-командирски, но, может быть, так и следовало обращаться с солдатами, призванными под винтовку не по мобилизации, а по велению сердца. Вчерашние рабочие и хлеборобы, они сразу деловито, по-хозяйски принялись осваивать порученный им пункт.
В полночь молодой станционный телеграфист, сидевший у аппарата, стал улавливать тревожные сигналы и настораживающие обрывки разговоров. Коростелев терпеливо выслушивал его сбивчивые сообщения.
— Давно ты работаешь?
— Два года… Третий.
— А зовут тебя как?
— Василием Яковлевичем.
— Сразу уж Василием Яковлевичем?! А если Васютой?
Телеграфист стеснительно улыбнулся, пожал неширокими плечами:
— Пожалуйста… если вам так нравится.
— Стало быть, Дутов бросил под Каргалу новые казачьи полки? — придирчиво переспрашивал Коростелев. — А что там слышно о Донецкой станице? Шевелятся казаки?
— И в Переволоцком тоже… Вот сообщают в Оренбург, в штаб атамана Дутова: казачество поднимается. Уже послали из Переволоцкого гонцов на реку Урал: в обе Зубочистенки, в Татищево и Нижне-Озерную.
— Это точно? — Коростелев забрал в большую ладонь бумажную ленту, идущую с аппарата, покрытую непонятными черточками и точками. Как дорого он дал бы за то, чтобы самому разгадать, о чем говорили эти знаки! Но лицо Васюты с прозрачными глазами в пышных ресницах, еще без намека на усы над пухлыми ребячьими губами, так и подкупало простодушием и добротой.
Сомневаться в достоверности его сообщений долго не пришлось. На рассвете из степей на длинный косогор выскочило до сотни казаков с пулеметом. И пошли чесать, прочесывать — только зазвенели, посыпались стекла на станции. Однако красногвардейцы сохранили порядок и ответили ружейно-пулеметным огнем. Казаки подались назад, но быстро перестроились и снова бросились в атаку.
Сквозь клубы паровозного пара резво проскочило несколько бородачей, на скаку стреляя в окна пустого эшелона. Пожилой красногвардеец приложился к винтовке. Белый скакун взвился на дыбы, запрокидывая всадника, и, убитый, словно со снежной горки, соскользнул с конского крупа.
— Может, сесть нам в вагоны да дернуть на Бузулук, покуда они нас тут всех не порубили? — крикнул Коростелеву другой красногвардеец.
— Забудем, что ты сказал! А ежели струсил, дергай один, нам трусы не нужны.
Разглядев, что казаки потеснили его бойцов от водокачки и начали разбирать пути, подбираясь к мосту, проложенному через глубокий овраг, Коростелев оставил на станции пулеметчика, два взвода бойцов и бросился с остальными к оврагу, где засели красногвардейцы. Казаки, не очень решительные, когда дело касалось лобовых атак, пытались подобраться к мосту с флангов, но глубокий снег сковывал их продвижение. Затащив пулемет на высотку в голове оврага, они не давали красным носа высунуть под настильным огнем. Пластуны, подползая по сугробам, метали гранаты.
— Чего им так… этот мост? — прохрипел раненый командир роты, нянча перебитую руку и корчась от боли. — Наш эшелон они подорвали.
Ухающие взрывы на станции заглушили его слова.
«Значит, и станцию — гранатами…» — мелькнуло у Коростелева.
— Разрушают пути, чтобы не подошло подкрепление нашим из Бузулука, — сказал он громко, сам удивляясь своему незнакомому голосу.
«Покончили, значит, с ребятами на станции, — подумал он, словно дело шло о пикете забастовщиков. — Так и есть, — поймав себя на этом, заключил Коростелев. — Забастовали мы против мерзостей старого режима, и ежели погибнем здесь, то все равно другие не допустят его реставрации».
Обходным маневром удалось выбить вражеских пулеметчиков с высотки и самим занять ее, и в это время паренек в ушанке, быстро проскочив меж сугробов, кубарем свалился в овраг.
Это был телеграфист Васюта.
— Переданы сообщения, что ваших под Каргалой окружают, — задыхаясь, сказал он, подбежав к Коростелеву. — В штаб Дутова дана ответная телеграмма из Переволоцкого: с уральских станиц под Каргалу сегодня выступают запасные казачьи полки. Самые верные Дутову: старики. За мостом, на разъезде, стоит дрезина. Там еще тихо, местные восставшие казаки пока по эту сторону Сырта. Срочно шлите связных.
Коростелев слушал в лихорадочном смятении. Привычка не доверять посторонним людям, боязнь подорвать боевой дух кобозевского войска и помешать наступлению из-за возможной провокации боролись в нем с пониманием великой опасности окружения.
«Переволоцкое — ведь эта станица у нас в тылу, а оттуда телеграмма Дутову!»
Васюта поглубже нахлобучил шапку, поднял воротник пальто и заспешил вниз по оврагу. Никто его не задерживал: бойцы смотрели из-за снежного бруствера вдаль, на юго-запад, где, как черные змеи, выползали из степей новые казачьи лавины…
Известие о боях красногвардейцев с казаками сразу разнеслось по всей губернии. Ожили, повеселели оренбургские забастовщики, особенно после того, как услышали пушечную стрельбу на западе.
— Наши идут!
— Видно, большую силу собрал Петр Алексеич!
— Слабо атаману воевать с вооруженными рабочими. Это ему не карательный поход — баб с ребятишками расстреливать!
Пикеты забастовщиков у корпусов железнодорожных мастерских, в депо при вокзале, на пропахших древесной смолой лесопилках «Орлеса» усилились, а подпольная Красная гвардия начала спешно готовиться для удара по тылу армии Дутова.
Но пушки погремели и утихли, как желанная гроза, прошедшая стороной. День прошел, другой, третий, а громовых раскатов на западе больше не слыхать.
Дед Арефий то и дело выбирался на разгороженный теперь участок своего дворика, со страстной надеждой вслушивался, не грохочут ли опять выстрелы.
«Где же сейчас красные гвардейцы? Может, отступили в Переволоцкое либо в Новосергиевку?.. Ведь совсем близко шла на днях пальба из пушек, и вот… заглохло. Ежели бы наши одолели, теперича они дрались бы уже под Оренбургом за Сакмарой. Тут мы ввязались бы, вцепились атаману в загривок. А одним выступать никак нельзя».
Сердце у деда, ослабевшего от многодневных лишений, то тяжело стукало, то еле-еле билось, вызывая тошнотный холод в груди, но он, сдвинув шапчонку с кудлатой головы, упрямо ловил ухом близкие и далекие шумы.
Из других землянок тоже выходили нахаловские жители, негромко перекликались, прислушивались. Но ничего похожего на гул артиллерии не было слышно. Притих и Оренбург, заторможенный всеобщей забастовкой: молчали заводские и мельничные гудки, убавилось суетни у вокзала. Лишь изредка отходили от него воинские местные составы, ведомые машинистами-штрейкбрехерами до линии фронта, где-то за Каргалой.
«Не дорожат рабочим званием брехеры эти окаянные! Не казаков ведь обучили водить поезда! А мы, хоть вовсе замрем с голоду-холоду, атаману служить не станем, чтобы скорее одолели наши. Где вы, голубчики?» Дед Арефий приставлял к уху ковшик ладони, в глазах, глубоко светившихся под кустиками сивых бровей, мучительное нетерпение.
— Сколько можно ждать!
Соблазняло рабочих разными посулами управление Ташкентской железной дороги, выбитое из колеи и забастовкой, и переходом власти на северном участке к бузулукским комиссарам, угрожал расправой атаман. Приезжали хитро-льстивые Барановский, Архангельский, Семенов-Булкин и другие прихвостни Дутова. Их встречали упорным молчанием, насмешками, а то и прогоняли, хотя дорого обходилось забастовщикам это упорство…
— Ну что там? — спросил Митя, когда дед Арефий, продрогнув на ветру, вернулся в мозглую сырость землянки. — Слыхать выстрелы?
— Нету покуда. Опять ветер с полуночи… Знать, относит. Должны бы стрелять, раз идут с боем. — Дед Арефий сел рядом с внуком на нары — лезть на полати уже не хватало сил, да и незачем, все равно холодина, — погладил Митину исхудалую руку, выпростанную из-под дерюжного одеяла. — Ужо явятся наши, освободят нас из атамановой кабалы, тогда хлебца, надо быть, получим. Вот и окрепнешь, враз подымешься.
Митя улыбнулся, с трудом растягивая спекшиеся губы, в полутьме лихорадочно блестели его провалившиеся глаза.
— Я уже легче себя чувствую. То день и ночь об еде думал, а сейчас притерпелся, и отпали эти думки. Только все жду и жду, когда красногвардейцы возьмут город.
Наследиха хрипло вздохнула в своем углу, вроде засмеялась через силу:
— Веселая жизня у нас теперича. Лежим, как господа, прохлаждаемся. Торопиться некуда. Вставать незачем.
— А где батя, Пашка, Харитон?
— Ушли в город. В Караван-Сарае, где статочный комитет, не протолкнуться, говорят. А Заварухин с Котовым да Левашовым все с красными гвардейцами: прячутся в подпольях, оружие собирают. Готовятся встречать своих, чтоб отсель еще толкануть атамана.
— Зло меня берет, что я лежу. Ведь не болит уж ничего, а встал давеча — ноги подгибаются, будто ватные. — Митя подвинулся на постели, уступая деду место рядом, любовно прикрыл старого краем одеяла. И оба притихли: не хватало сил даже на разговоры.
«Вот уж правда, лежим, как господа. Хотел бы я, чтобы враги наши так нежились, когда пустой живот к спине присыхает», — подумал Митя.
Снова выпростав руку из-под одеяла, он начал сначала медленно, а потом с увлечением крутить в воздухе указательным пальцем, сосредоточенно поводя за ним и носом и глазами.
Дед Арефий очнулся от голодной дремы, испуганно щурясь, тоже последил за блуждавшей в воздухе рукой внука:
— Ты чего это, Митек, а? Чего ты выкомариваешь?
— Я пишу, деда.
— То исть в каком смысле?..
— Стишки пишу на потолке.
Дед Арефий затаился на миг, не зная, плакать ему или попытаться обратить все в шутку: неужто помрачился рассудком милый внук?
— Слушай, что получилось, — прошептал Митя с заметным стеснением.
— Складно ведь у тебя выходит! — с восхищением сказал дед Арефий, обрадованный тем, что внезапно возникшее его опасение рассеялось. — Складывать песни — дар божий. В бою ты и так побывал, когда наши в Караван-Сарае с казаками схватились. Жалеть об этом нечего. Впереди еще не знай чего будет. Казачишки-то вовсю ерепенятся!
— А как ты думаешь, деда, что теперь наша Фрося?
— Давно уж она не наша, Митек! В офицерском казачьем гнезде со своим хорунжим царствует. Поди-ка, подорожники ему стряпает, в поход против нас снаряжает.
— Не верю я, чтобы она его против нас снаряжала.
— Что поделаешь! Девка замуж — отрезан ломоть. А Фрося-то еще к нашим недругам подалась. — Дед Арефий помолчал, снова растревоженный, будто оправдываясь за горячую привязанность к внучке, с недоумением добавил: — Ведь душевная была, заботливая. И краше поискать.
— Ну и куда бы я ее такую упрятала? — Наследиха села на койке, суетливо стала закручивать, затягивать узлом волосы, угловато разводя тонкими руками. — Виновата я, что ли? Все кто-нибудь да приставал к ней. Попы и те зарились.
— Никто тебя не винит, Евдокия, — сказал Арефий, понимая горькое волнение дочери. — Одолела девку любовь-присуха, вот и упустили мы свою пташку.
В маленькой комнатке Караван-Сарая, где помещался стачечный комитет, в самом деле не протолкнуться. Левашов в сторонке вручает какие-то бумаги Харитону, который так внимательно слушает его, что надбровья набухли на гладком широком лбу.
Рядом с ними Георгий Коростелев и Лиза в зимнем пальто с воротником-горжеткой, свернутая золотистым жгутом коса светится из-под меховой шапочки.
— Вот еще от меня письмецо Александру Алексеевичу. Мама очень просила, — добавила Лиза, взглянув на высокого Георгия. — Ты же знаешь его горячий характер. — И вся в румянце до слез девушка торопливо пояснила: — Нет, нет, мы не уговариваем его сидеть в затишье! Он и не потерпел бы. Но тут советы ему на случай, если обморозится. И адрес в Бузулуке, где можно получить бинты, лекарства.
— Мы ждем, что красногвардейцы вот-вот подойдут к Оренбургу, а вы — адрес в Бузулуке! Саша сейчас, наверное, под Переволоцком, а то и в Каргале… — сказал Георгий с ласковым упреком, но, упомянув о Каргале, запнулся на полуслове.
«Если бы наши были там, связные давно бы пробрались в город, да и пальба из пушек слышалась бы. Но нет ничего… Что там происходит? В чем заминка?»
— Мама просила…
— Ну хорошо, хорошо!
Харитон в упор разглядывал блестящие глаза Лизы, прямой маленький ее носик. Она покосилась сердито, пушистые брови дрогнули, стремительно сдвинулись, но Харитон не отвел упрямый взгляд, а улыбнулся, и все его открытое, в золотистой россыпи веснушек лицо просияло таким добродушием, что обижаться было невозможно.
— Давайте уж! — сказал он, протягивая за письмом широкую ладонь. — Передам, где бы ни находился.
— Только смотри держись посмирнее, нос не задирай, когда будешь проходить через линию фронта! — сказал Георгий с возникшим вдруг сомнением: даже в потрепанной солдатской шинельке очень приметный парнюга, сразу видно — задира и смельчак. Что у него на уме, то и на физиономии.
— А я, как договорились, под солдата-дезертира… Будто с придурью, — сказал, не смущаясь придирчивого осмотра, Харитон. — Дезертиров в казачьих частях не жалуют: боятся дурных примеров и гонят поскорей дальше. Если дадут по затылку, стерплю. Дела ради… Патрулей обставлю в лучшем виде. Я этих дутовцев до того ненавижу, что страха не слышу. Пройду…
— Куда ты пройдешь? — неосторожно брякнул подскочивший к нему Пашка, взглянул на Георгия, на Лизу и умолк, зажав себе рот грязной ладонью.
Харитон, взяв братишку за озябшую руку, удивленно приподнял брови:
— Где так увозился?
— Мы с Гераськой афишки… листовки расклеивали по городу. Поручили нам от статочного комитета.
— А-а, — уважительно произнес Харитон. — Почему же ты в клею? Неужто руками мазали на морозе?
— Мазали кистью. Да клей был из муки. — Худенькое лицо Пашки так покраснело, что все веснушки растаяли. — Мы листовки расклеили, а ведерко облизали… когда вернулись.
— Правильно! — Георгий Коростелев рассмеялся, желая ободрить смущенного мальчика, сказал: Зачем добру пропадать? Ну, счастливо, Харитон.
— Будь осторожней! — напомнил Левашов.
Мальчишки увязались провожать.
Мороз стоял свирепый, как и полагается в ночь под рождество. Город сиял огнями. В окнах богатых домов светились разноцветьем нарядные елки. А запахи разносились такие, что не только у ребят, но и у Харитона набегала голодная слюна и живот подводило до головокружения.
Во всех церквах звонили к вечерне, обыватели катали на извозчиках, увешанные покупками, из кухонь вместе с волнующими запахами жареных окороков и печенья доносился стук поварских ножей.
— Готовятся к жратве, сволочи! — Харитон презрительным взглядом смерил толстого в тулупе дворника, что стоял у ворот каменного особняка, лучившего свет сквозь черную решетку голых деревьев.
— Чего же им не готовиться? — лениво-добродушно отозвался из лохматого воротника дворник. — Тут и праздник Христова рожденья, и победа над большевицким войском. Разбили наголову казачки ваших голодранцев.
— Бреши, Емеля. Пятый день в газетах трясете о своих победах. А наши-то уже под Каргалой.
— Это бабушка надвое сказала. Мне брехать не к чему. Сейчас казачий сотник проскакал со взводом, хозяину депешу передал.
— Эх ты-ы, подлипала! — Харитон грозно двинул плечом, но отвернулся и зашагал дальше.
— Неужели правда? — Пашка забежал вперед, заглянул в лицо брата. — Как же мы теперь?..
— Поживем — увидим. Да врут они!
Гераська, шмыгая опорками, молчком семенил рядом, горбился, пряча руки по локоть в рукава отцовского армяка. Завтра побегут ребятишки по домам славить Христа, собирать пироги и шанежки у богатеньких, обязательно заглянут к «благодетелю» — мельнику Зарывнову, который выйдет, словно царь, на высокое крыльцо и будет давать всем по копейке, а хорошим знакомым по целому пятаку. Бегали раньше «славить» и Гераська с Павликом, но завтра не пойдут: теперь вражда не на живот, а на смерть. Гераська вспомнил, как ели сегодня с Пашкой остатки клейстера.
— Мы теперь кто? Лизоведры?!
— Молчи, не то дам по сопатке! — ощерился Пашка и сам стушевался от своей неожиданной грубости.
Харитон искоса, но весело посмотрел на брата, круто повернулся, сгреб обоих мальчишек за плечи, чуть не стукнув лбами.
— Ступайте обратно! Жмите, покуда мороз не приголубил, а то останетесь без ушей. Теперь один пойду. Маманьке там… Ну, поцелуйте ее за меня, что ли. Айда!
Поезда ходили редко: ближние — до передовых казачьих позиций, дальние — из Ташкента в Самару или Москву, двигаясь через заносы со скоростью пешехода. Пассажиров в них было «навалом», как определил Харитон, прорвавшийся в переполненный тамбур через толпу демобилизованных и мешочников, осаждавших состав.
Набежавшие казаки вытаскивали кого-то обратно, силком отрывая от обжигавших на морозе железных поручней. Истошно голосили бабы, сыпалась отборная брань.
Харитон, не вникая в то, что там происходило, торопливо продирался вперед, в глубину вонючего вагона, и сразу нарвался на встречный патруль: армейский поручик, здоровенный урядник и пожилой казак в круто заломленной папахе загородили перед ним просвет в людской толчее.
— Куда прешь, ска-а-тина? — брезгливо ткнул его локтем поручик.
— До ветру я, слышь-ка… — придурковато-доверчиво забормотал Харитон, округлив глаза и распустив губы.
— Брешет он, вашескородь! Сразу видно, с морозу ввалился: вона и шапка и воротник в куржаке, — деловито опроверг казак.
— Та я ж в тамбуре ехал, всю дорогу на ногах, — заныл Харитон, — а теперича вот до ветру… до уборной, значитца, пролезаю. С той стороны и в энто место набился народ. На вокзале выйти боязно: обратно-то не попадешь. Ну и того… — Харитон глупо ухмыльнулся, напирая грудью и животом.
— Вот болван! Документы!
— Это мы мигом… — Харитон, сопя и вздыхая, полез глубоко за пазуху (бумаги, адресованные Кобозеву, и письмо Лизы к Александру Коростелеву были спрятаны под стельками солдатских башмаков, отчего будто иголками покалывало в пятки).
— Куда тебя несет, раз ты житель Ташкента?
— Тут прописано. — Харитон с тем же придурковатым видом ткнул пальцем в билет. — До Кинеля я. К тетке, значитца. Родители в Ташкенте тифом померли… То есть все сродственники в полном смысле.
— Черт с ним! — громко шепнул уряднику офицер. — Нахватаешься тут от него… По морде видно — дезертир, и не все у него дома «в полном смысле». Этакая дубина стоеросовая. Пусть катит…
Харитон вмялся в толпу пассажиров, охваченный лихорадочным возбуждением — смесью злобы и гордости: «Так и дальше буду переть, чтобы сторонились. Ишь как брезгуют нашим братом и тифа боятся!»
— Далеко ли едешь, дедушка? — спросил он замшелого старика с торбой, перекинутой через плечо.
— К хлебцу поближе. С тех пор как сделалась в Оренбурге эта пробка казачья, пухнут с голоду людишки в степи.
«Вишь ты какой грамотный — „пробка казачья“!» — прицепился мысленно Харитон.
— Какие людишки, дедушка?
— Железные дорожники на дальних станциях.
— Сам-то откуда?
— С-под Актюбинска. Землеробы мы, да разорила война. Трех сынов… Четвертый богом убитый — калека и недоумок. Остался в селе побираться. Изба сгорела. Скот от сибирки подох.
На глазах старика, похоже, блеснули слезы, а Харитон подумал: «Что-то уж очень густо завернуто!»
— А старуха куда девалась?
— И старуху бог прибрал…
«Ох, врешь! Ты, однако, такой же пескарь, как я». Харитон сочувственно поцокал языком, еще раз придирчиво, но осторожно осмотрел соседа, заметил, что тонкая шея его в лохмотьях воротника не по-старчески гладка, хотя всклокоченная бороденка и седоватые волосы, выползавшие из-под шапки на загривок, казались самыми настоящими.
«Может, я теперь каждого десятого подозревать стану?..»
Харитон хотел было протиснуться подальше, но в этот миг подметил, каким ловким, совсем не мужицким движением старик сунул себе в зубы цигарку. И руки у него были хотя крупные и грязные, но без узлов и вздутых жил, а ногти выпукло блестящие, без заусениц и обломанных краев, точно у офицера, делающего маникюр.
— Где же теперича хлебны-то места, дедушка? — снова сделав глупое лицо, спросил Харитон, подсовываясь к старику и ощущая холодок острого волнения, засквозивший меж лопаток.
— К Волге-матушке народ подается, — уклончиво ответил тот.
«Не называет станцию, куда едет. Хитер пескарь». Окончательно убежденный в своей догадке, Харитон достал из котомки кусок черствого хлеба, стал грызть его, стараясь не выдать себя ни единым движением.
Состав уже тащился, минуя пригороды Оренбурга. Кругом кишели враги, а в вагонах ехали их разведчики, направленные в районы, где действовала Красная гвардия. Так и есть: подозрительный старик вскоре исчез в теснотище, а вместо него объявился самый заправский солдат на костыле, с крестом на черном шнуре в расстегнутом вороте грязной рубахи. Тонким лицом и светлыми глазами он живо напомнил Харитону ненавистного Нестора Шеломинцева. И конечно, сразу с разговорами о фронте. Но тут уж Харитон, дальше Берд нигде не бывавший, прикинулся совсем идиотом. Про оружие еще болтал, а при расспросах о боевых позициях и городах, там лежащих, только испуганно мигал да оглядывался, будто боялся, чтобы не узнали соседи, из каких мест он так успешно «драпанул».
— Ну тюфяк! — с откровенной издевкой сказал солдат и, почти не хромая, отталкивая костылем тех, кто мешал ему пройти, легко пронес к выходу сильное тело.
Харитон, стараясь не глядеть ему вслед, стал зевать и почесываться, отчего соседи начали опасливо коситься на него и по возможности отодвигаться. Сообразив, что пересолил, он совсем присмирел и приткнулся у окошка, настороженно ловя обрывки разговоров.
— Мы за Илецкой Защитой узнали, наступают, мол. А вот уж Берды проехали — тихо.
— Ну где им против казаков! У атамана — сила.
— В святой Христов сочельник братоубийство — грех великий…
— Когда оно не грех!
Кто-то из уральских казаков, захвативших боковые полки, шипел безбоязненно и скорбно:
— «Не дури, — говорю. — Вашькя, шпаши Хриштош!» А он мне: «Уймишь шам, папаня, яжви тя!» Убил бы щенка, да мать помешала. Так и ушкакал к этим иродам.
— Кабы не обстреляли за Каргалой. С непривычки родимчик может приключиться.
— Вот у нас под Самарой пашаничка родилась…
— Сто семьдесят рублев. Спина — струна, шея — колесом.
— Нам такое без надобностев. Нам, чтоб пахать…
— Эх, надо было сойти в Оренбурге, захватить спиртику! Говорят, возле спиртозавода вино рекой текет. И со складов тожа.
— Это точно. Народ на даровщинку со всей округи к нам кинулся: с бутылями, ведрами, бочатами.
В вагоне сразу насторожились.
— Неужто задарма?
— Ясно дело, раз в сточные канавы пустили.
— Не шибко ясно. Чтоб спирт да по земле! Вроде не то время, когда молочны реки, кисельны берега…
— Сам атаман велел изничтожить зелено вино, ну и спирт, конечно, когда загорелся завод. Как потекло, народ набросился! Беспорядки начались от повального пьянства. Кто же устоит! Так теперича атаман велел золотарям со всего городу вываливать из бочек дерьмо в колодцы с вином, чтоб казаки заодно с народом не спивались.
— О-ох ты-ы! Жалость какая! — охнул кто-то хриплым басом под самым потолком вагона. — Ну и что?
— Ничего… Черпают и с приправой.
Вагон содрогнулся от хохота.
— Пусть хлебают на здоровье, анчихристы, — задыхаясь от смеха, прошамкала бойкая старушонка в поношенной борчатке.
— Чего изгиляются над божьим даром! — снова пробасил лежавший наверху, повернувшись так, что затрещала вагонная полка. — Знал бы, пеши бы попер от Илецкой Защиты, чем в заносях в степи сидеть.
— Да ты валяй теперь. Отселя ближе. Как раз подоспеешь самую гущу взять.
Снова грохнул хохот, дружный, добрый, сближающий людей.
За Бердами опять прошел патруль. Смотрели документы. Трясли мешки. Поезд стоял где-то в темном — ни зги — поле, а когда тронулся и потащился, пассажиров хуже хворобы одолел сон, и те, что стояли на ногах, начали соваться носами в спины соседей. Харитона дрема не брала, и он то и дело смотрел в глазок, сделанный на замерзшем стекле. Мрак ночи постепенно рассеивался, кое-где у насыпи развевались по ветру рыжие бороды костров, в неверном свете огня виднелись черные фигуры дозорных, отрытые в снегу пустые окопы. Людно было только у разъездов, где нагло высматривали нацеленные на дорогу стволы пушек. Распряженные лошади стояли у коновязей и кормушек с сеном, а казаки весело хлопотали, втаскивая в избы какие-то мешки и ящики, должно быть, с водкой.
Харитон вспомнил, как горел винный завод, как потом толпы людей осаждали злосчастный «святой» колодец. Дутов рассчитывал пьяным бунтом сорвать забастовку, но рабочие не побежали за спиртом, пили напропалую его казаки с обывателями города и предместий. Несколько человек утонули в колодце и цистернах со спиртом.
«Налетели, словно мухи на мед! Решается вопрос о жизни страны, а они за бутыль водки удавятся! Но неужто впрямь не удалось наступление? — с острой тревогой размышлял Харитон. — Ведь слышны были пушечные выстрелы! Сообщали, что наши уже по эту сторону Сырта…»
Как радовалась хорошим вестям Вирка Сивожелезова. Все они выполнили по наказу отца, чтобы припугнуть нахального купчика, и еще сверх того, круто поговорил с ним Харитон наедине, улучив удобную минуту… Сейчас Вирка, как праздника, ждала прихода Красной гвардии. И все забастовщики держались этим ожиданием.
«Теперь, им под властью атамана еще тяжелей покажется. Буржуи с казаками и во время войны рождество справляют, а рабочие с голоду мрут».
«Кто мы?» — прозвенел в ушах тоненький голос Гераськи, и такая волна ненависти подкатила к сердцу — не вздохнуть. А сестренка Коростелевых? Как она стояла, нахмурив брови, серьезная, будто пытала взглядом: справишься ли? Сама еще, наверно, не знает, какая в ней сила: поманит — и любой побежит. Только не Харитон Наследов. Его и Лиза не заставила бы свернуть в сторону. Потому и не может простить он Фросе ее ухода в казачью семью: разве не могла она служить революции? Пашка малолеток, и тот шагает в ногу со взрослыми.
И пошла разматываться в памяти кинолента суровой и бедной семейной хроники, как росли да последним куском делились… Обидно бывало Харитону, что сестренка больше дружила с Митей, хотя не раз приходилось ради нее рисковать своей шкурой: и от собак отбивал, и с мальчишками схватывался, а однажды на Сакмаре вытащил из воды, когда начала тонуть.
Доведись, он и теперь за Фросю в драку полезет. Значит, осталось для нее местечко в его сердце. Только при воспоминании о Несторе Шеломинцеве все оборачивается злобой и ядовитой горечью.
Поезд, сыпля красными искрами, с трудом тащил среди сугробов расхлябанное длинное тело. Проплывали в сумерках рассвета телеграфные столбы, шевелились сторожевые казаки у костров, снова обозначились в снегу пустые окопы. Нет боев под Каргалой, и на увалах Сырта тишина… Лишь гарцуют казачьи разъезды на тонконогих лошадях с длинными пышными хвостами. Стоят в поселках войсковые обозы дутовцев. Ездовые-артиллеристы хлопочут возле тяжеловозов-коней.
Где же Красная гвардия?
На очередной остановке в чистом поле в вагон втиснулось несколько казаков, пьяных, толстомордых, веселых.
— Знать, разговелись божьи всаднички! — с завистью заметил с верхней полки тот, что насмешил всех ночью. — А где красные гвардейцы? Куда подевались? Слух прошел: брали они Каргалу.
— Брали, да не взяли. — Станичник самодовольно усмехнулся, обирая сосульки с усов, нарочито громко пояснил: — Сырт они брали — точно, а Каргала им не по зубам пришлась: получили от ворот поворот. На Новосергиевке фронтовики затеяли бузу, а по Сырту и в Переволоцком — опять же в тылу у них — наши казаки поднялись. Вот Красна гвардия и драпанула обратно в Бузулук.
Харитон, стоявший спиной к казакам, сжал кулаки так, что по тугим мышцам прошла судорога. Кажется, одним ударом убил бы хвастуна.
«Однако похожи эти разговорчики на правду: не слышно боев. Вольготно, без опаски расположились везде казачьи войска. Значит, красные бойцы отошли назад: побоялись окружения, когда везде зашевелилось казачье. А наши-то в Оренбурге ждут. Наши-то надеются!..»
В Бузулуке Харитон вылетел из вагона без оглядки. Нырнул под платформу стоявшего на соседнем пути товарного поезда, потом еще одного, распрямился и увидел: возле состава, в тупике, отряд матросов окружил толпу солдат-уланов и офицеров, оттесняя их от вагона, в дверях которого стоял… Петр Алексеевич Кобозев. Харитон бросился к нему, но командир матросской братвы властным движением остановил его.
— Я из Оренбурга… к Петру Алексеевичу… с пакетом.
Придерживая Харитона за рукав, командир обратился к матросам:
— Разоружить изменников революции! Офицеров арестовать!
Офицеры с опухшими после пьянки лицами неохотно сдавали оружие морякам, которые сразу брали их под конвой. От вокзала, похожего острыми крышами на улочку сказочных теремов, и из железнодорожных бараков сбегались чумазые деповские рабочие с винтовками и охотничьими ружьями.
Смуглый стройный боец в шинели, разогнавшись, наскочил на Харитона, торкнулся в его широкую грудь.
— Костя! — Харитон сгреб его в охапку, крепко стиснул. — Ты ведь в Тургае должон быть…
— Был. А теперь тут с Джангильдином, вроде адъютанта! — Костя, улыбаясь и часто дыша, смотрел то на дружка, то на вагон, быстро обраставший тройным кольцом из матросов, солдат, красногвардейцев.
Напротив группы арестованных офицеров строились неровными цепочками уланы, тоже обезоруженные.
— Мундиры у них красивые, а нутро пустое, — с сожалением сказал Костя. — Ну чего они к штабной сволочи переметнулись?
— Не пойму я, что тут творится. Мы вас в Оренбурге ждем с часу на час, подготовились, чтобы взашей выпроводить дутовцев, а вы попятились аж до Бузулука!
— Сорвалось наступление. Уже к Каргале мы подходили, когда местные казаки подняли восстание. С той стороны атаман жмет, и с тыла ударили. Все богато вооруженные. Пришлось нам обратно, чтобы не взяли в клещи… В это время штаб наш, из Казани сюда присланный, пьянством занялся. Петр Алексеевич хотел арестовать их, так они — за оружие. Чуть его не убили. Хорошо, что мичман Павлов подоспел с отрядом матросов.
— Откуда он, Павлов-то?
Костя, гордясь осведомленностью, но уже торопливо пояснил:
— Из Петрограда. Ты к Петру Алексеевичу? Айда вместе!
В штабном вагоне тесно и шумно: собрался весь командный состав. Стремительно подвижный, возбужденный событиями Цвиллинг, угрюмо задумавшийся Александр Коростелев, Кобозев и черноусый загорелый Джангильдин сидели возле стола, остальные командиры примостились кто где сумел, а Костя и Харитон — возле самой двери. Мичман Павлов начал рассказывать о боях своего отряда с дутовцами в третьем отделе оренбургского войска:
— Группировка белоказаков в Троицке была сколочена крепко, с нею Дутов собирался захватить Челябинск. Председатель Челябинского военного ревкома Блюхер своевременно доложил обстановку Совнаркому, и наш первый северный летучий отряд балтийских моряков был направлен по маршруту Вятка — Екатеринбург — Челябинск — Оренбург.
Харитон глаз не сводил с открытого, смелого лица докладчика: «Лет двадцать ему, не больше, чуть постарше меня, а из Петрограда самим Лениным отправлен нам на подмогу. Значит, очень стоящий командир. И уже в таких боях участвовал. Мичман… Надо будет спросить Александра Алексеича, что это за должность».
Павлов был во френче с широкими нашивками на груди вроде застежек, которыми прикрывали пуговицы с царским орлом — форма, которую носили многие красные командиры. Харитон попытался вообразить его в матроске: «Бравый морячок, ничего не скажешь!» — И снова стал слушать, ловя каждое слово.
— Блюхер, отличный командир и умный стратег, решил дать бой дутовцам на дальних подступах к Челябинску, — продолжал Павлов, строго посматривая на слушателей: улыбка была, по-видимому, редкой гостьей на его лице. — Расчет Блюхера показался нам правильным: все товарищи с ним согласились. С казаками — хозяевами хуторов и городских домов, легче драться на их земле: защищаются и нападают зверски, но оглядываются назад. Так Троицк был взят красными под моим общим командованием. После этого нас спешно через Уфу перебросили с Кустанайского фронта сюда.
И снова Харитона поразила молодость Сергея Павлова: «У белых в таких командирах полковники пожилые да генералы».
Харитон уже достал маленький пакет для Кобозева и письмо Лизы Коростелеву и бережно держал их на ладони. Когда его попросили подойти к столу, он вышел, не робея: все волнения остались позади.
— Плохо у нас, Петр Алексеич, — сказал он. — Два месяца голодают рабочие. А у господ сейчас ликованье — обжорные дни: и рождество, и по случаю… — Харитон запнулся, но глаз под взглядом Кобозева не отвел. — По случаю победы, значит, И потому наши, которые ослабли от голода, на улице падать начинают. Запахи жареным да пареным тоже сбивают с ног.
— А с пути эти запахи не сбивают? — необидно улыбаясь, спросил Кобозев.
— Нет. Надеемся на вас. Когда ваши пушки постреляли возле Каргалы да затихли, собрался стачечный комитет. Посудили, порядили, с народом потолковали. Упорство в народе большое: долго, говорят, ждали, потерпим еще.
Цвиллинг нервно вскочил, но пробежаться по вагону ему не удалось, только крутнулся на месте:
— Я поеду в Челябинск. Выступлю там с докладом о положении дел на Оренбургском фронте и попрошу партийную организацию мобилизовать все, чтобы помочь рабочим, которые борются с дутовщиной. Потом пусть меня командируют в Екатеринбург — просить поддержки для них в Уральском обкоме.
— А я снова в Башкирию — призывать добровольцев в Красную гвардию, — заявил Джангильдин. — Насчет денег для оренбургских забастовщиков тоже буду разговаривать.
— Да, мы должны усилить помощь нашим героям, — горячо поддержал Кобозев. — И начнем собирать отряды для нового наступления на Оренбург. Общее командование войсками поручим Сергею Дмитриевичу Павлову. Теперь у нас будет свой, испытанный в боях командарм.
Находясь, как и все, под впечатлением знакомства с мичманом, Александр Коростелев, весело улыбаясь, вскрыл конверт Лизы. Однако первые же слова письма словно обожгли его, и он перестал слышать громкие разговоры в вагоне, отброшенный в события двух последних дней.
«Мы с мамой собирались встречать вас, — писала Лиза, — но что же делать, если сила пока на сторона атамана! Придется еще подождать. Мы верим и надеемся, и это уже хорошо».
«Нет, не очень-то хорошо! — мысленно возразил Коростелев, с трудом преодолевая волнение и даже стыд. — Конечно, нам был бы каюк, попади мы в окружение. Тогда и нашим забастовщикам пришлось бы совсем плохо. По все ли мы сделали, что могли?..»
Коротенькое письмецо сестры жгло ладони. В Оренбурге ждут. В Оренбурге голодают рабочие, заслыша пушечные выстрелы под Каргалой готовились броситься навстречу, а бузулучане отступили. Но хорошо еще, что успели отступить — вырвались из огневого кольца. Александр вспомнил телеграфиста Васюту. «Спасибо тебе, парнище! Скоро мы вернемся с новыми силами, Василий Яковлевич».
— Я тоже трудно жил это время. — Костя приподнялся, облокотился, всматриваясь в лицо Харитона.
Кругом на полу барака спали красногвардейцы, измотанные боями, назябшиеся в голой степи.
— Когда я уехал в Тургай, так тошно было и душно. Просто нечем дышать. Раньше не верил, что от любви умирают, а оказывается, это самая настоящая болезнь. Если бы не Джангильдин, закис бы и пропал. Мы с ним по всему Тургаю мотались. Сколько раз от облав байских уходили, от казачьих отрядов! В камышах скрывались, в аулах. Мы Советскую власть устанавливаем, они, паразиты, на нее налеты делают. Я агитирую просто: хочешь пустить бандита в кибитку, хочешь, чтобы нагайка по спине ходила, чтобы детишек казаки конями топтали, тогда держи сторону Дутова. Лижи баю пятки! Чабаны ведь у баев живут, как собаки, за брошенную кость. Лето и зиму в степи возле отар. Рубахи сопреют — с тела свалятся. Сам износится — на пепелище, куда золу со всего аула валят, с верблюжатами греться. Многие без семьи: жену купить не на что. И трахома. И оспа. Я перед ними себя чувствовал вроде в долгу, в ответе за все эти худые дела… — Костя помолчал, но не утерпел — спросил напрямик: — Как она?.. Пишет? Приезжала хоть раз?
Харитон лежал на спине, закинув руки за голову, и молчал, глядя в расплывчатую тьму под потолком.
— Чего ты молчишь? Я о Фросе…
— Понимаю, что не о бабке Зырянихе. Чудак ты, ей-богу! Уж мое дело — родня: брат я ей, и никуда от этого не уйдешь. А ты…
— А я привязан еще крепче, чем родня. Я за нее и сегодня жизни не пожалею.
— Ну и дурак! В партию ведь вступать хочешь. Какое же ты имеешь право бросаться жизнью ради крученой девчонки?
— Не знал я, что ты сухарь такой! Петр Алексеевич в наступление двинулся, а жена его хотела вместе с ним, и даже с детишками. Едва отговорили.
— Что же тут хорошего? Я бы нипочем не разрешил ей лезть в бой с малыми пацанятами. Помеха одна.
— Настоящая любовь не бывает помехой. Если бы Фрося пошла вместе с нами, я знаешь как дрался бы!
— Она теперь в бою вместе с нашими врагами будет, и тебе о том забывать не след.
— Ты, поди, ни по одной еще не сох?
— Когда бы это?.. У меня другое на уме. Я вот лежу и думаю, что, может, сразу двух шпионов дутовских упустил. Добрался до Бузулука, обрадовался сдуру — и скорее к своим. После уж спохватился, что надо было пройти по вагонам с патрулями.
— Теперь поздно горевать. Наше дело правое — все равно осилим.
— В бою-то осилим. Сломим. Но дальше-то как? По себе сужу насчет нашего разгильдяйства. Страшит легковерность, когда становишься слабак вроде ребенка малого. А революцию беречь надо пуще жизни.
— Никак я в толк не возьму… — В голосе Кости невольно плеснулась досада.
Харитон сел на соломенной подстилке, нашарил кисет, свернул цигарку.
— Помнишь, Петра Алексеича Кобозева травили меньшевики и эсеры? Какую клевету несли! Врали наперебой. И страшней всего было то, что они его на наших собраньях, на наших глазах грязнили, а рабочие в большинстве верили им и молчали. Потому и провалили его на первых выборах. Спрашивается: за кем шли наши рабочие? Мой отец, к примеру, тоже в то время окосел, я чуть не треснул его от злости после драки в Караван-Сарае. А ведь он честный, отец-то! Только какой прок от честности, ежели она слепая?
— Но надо же верить людям!
— Без этого нельзя, — со вздохом согласился Харитон. — Только научиться надо узнавать врага под любой личиной. Не то пойдет чехарда: мы будем строить, они — разваливать. И вечно будет наше дело под угрозой.
На улице хлопнул винтовочный выстрел; парни разом вскочили, но снова стало тихо. Вернувшись на свое место, Харитон сказал неожиданно мягко, даже стеснительно:
— Ты меня сухарем назвал… Я о себе по-другому думаю. Будь я сухарем, не болела бы моя душа за народное дело. И в партию мне вступать было бы незачем. Когда я в первый раз партийную программу прочитал, она мне сказкой показалась. После вдумался и вижу — все правда, заслужили мы своим горбом и трудом, чтобы жилось хорошо не мне одному или тебе, а всем! Того, кто не желает с нами вместе идти, надо к стенке, потому что никогда он не смирится быть наравне с простым народом.
— Злой ты стал. Но вдруг ошибешься да хорошего человека угробишь?
— В большом деле не без урону. Лучше ошибка, чем оставить такого, который тысячам навредит.
Костя беспокойно повернулся.
— А если Фросин муж тебе попадется?
— Рука не дрогнет, когда в бою встретимся. Да неужели ты его хорошим считаешь?
— Верчу и так и этак. Ведь мог он с Фросей плохо поступить? Вспомню, как она башмаки свои начищала, когда рассыльной работала в редакции, платьишко ситцевое, коса с бантиком — сразу видно, из бедной семьи. А офицеры да чиновники с простыми девушками не церемонятся.
— Значит, уважаешь казачишку за то, что он сманил, увел ее?
— Что поделаешь! Митя мне рассказывал, как этот Шеломинцев приходил свататься. Любят они друг друга.
— Еще бы! Сразу втюрилась! Красавец писаный при всем параде, да и казак богатый.
— Не трави, мне без того тошно.
— Тогда не вспоминай.
— Легко сказать!
— Нет, брат, иногда слова — гири пудовые. Ими убить можно, и себе на ногу уронишь — тоже не поздоровится. Оттого и молчу о Фроське, о том, что меня самого мучит.
— Измучишь тебя: дуб дубом.
— По виду не суди. Другой с виду хлипкий, однако душой — зверь. Если я настроился против Фросиного хахаля, то это к моей личности отношения не имеет. Враг он рабочему классу? Безусловный. И никакой благодарности за его любовь к моей сестренке я не чувствую. Так что ты со мной об нем больше не заговаривай.
— Не подведут нас эти добровольцы? — спросил Костя Туранин Джангильдина, когда они возвращались в теплушках из Башкирии, побывав в Стерлитамаке и Уфе.
— Что тебя смущает? — спросил, в свою очередь, Джангильдин, прислушиваясь к беседе смуглых, смольно-черноголовых ребят, тесно набившихся в вагон.
— Они толкуют только о лошадях, о кумысе да заработках.
— А ты хотел бы, чтобы они занимались вопросами мировой революции? — По сухощавому лицу Джангильдина скользнула добрая улыбка и спряталась под жесткими усами. Сощурив глаза, отчего резкие морщины на его висках еще углубились, он сказал: — Парни говорят о том, что доступно им только во сне. Ты видел, какая голодная, нищая жизнь в башкирских селах? Бедняки поголовно неграмотны, и за Советскую власть они будут бороться не красным словом, а жизнью.
— Тогда почему столько башкир у Дутова?
— У нас в Киргизии тоже есть басмачество. В каждом народе идет борьба классов, и множество людей мечется в поисках правды между добром и злом. — Джангильдин отодвинулся подальше от жаркой печурки, гудевшей посреди вагона, снова посмотрел на робевших при нем добровольцев: кто разбирал вещи в дорожном мешке, кто делился с соседом скудными подорожниками; несколько человек при тусклом свете фонаря изучали винтовку (занятия проводил русский командир роты). — Хорошо, что эти уже поняли: просить милости — значит проиграть все. Ты помнишь Бахтигорая Шафеева? Настоящий орленок. — Он ведет пропаганду среди татар и башкир и, несмотря на свою молодость, многим помог встать на путь борьбы за свободу.
Костя с первой встречи запомнил Бахтигорая, чернобровое лицо которого, нежное, как у девушки, но с резко очерченным ртом и прямым острым взглядом соколиных глаз, выражало непреклонно твердый характер, гордый и смелый. Однажды, поговорив с Шафеевым, Костя с удивлением почувствовал, что пошел бы с ним на любой риск. Что скрывать: ему хотелось быть похожим на Бахтигорая.
— Сейчас он уже известный в крае человек, — добавил Джангильдин.
— Меня не на это завидки берут: хочется сделать не меньше его.
— Сделаешь! Язык киргизский ты уже немного знаешь, а это прямая дорожка к сердцу наших людей. Их надо учить, как малых ребят. В древности культура Востока была на большой высоте, а потом пришли монголы, напоили пески кровью мирных чабанов, разрушили города и аулы, сожгли рукописи поэтов и философов. Вся история Средней Азии пошла вспять.
— Почему же говорят, что ее нельзя повернуть вспять? Да и вы, Алибий Тогжанович, нам так же объясняли: «Колесо истории ничто не остановит».
Джангильдин сидел на груде седел, положив руки на эфес шашки, широко расставив ноги в мягких меховых сапогах, и глядел на Костю усмешливыми глазами. Заметно возмужал парень: вытянулся, окреп, раздался в плечах, но в лице и рассуждениях его все еще проскальзывало мальчишеское. И поневоле задумался Алибий.
Громыхали колесами теплушки, стыли от бившего навстречу ветра, сваливавшего под откос черно-серую кошму дыма. Торопился, пыхтел паровоз, но состав еле тащился среди заснеженных полей и лесов, мимо деревушек, где жгли лучину и топтали снег лаптями, как тысячу лет назад. Но и в этих глухих местах решался теперь вопрос о дальнейшем пути страны.
— Остановить ход истории нельзя, — подтвердил Джангильдин, подумав о башкирах-красногвардейцах (неграмотные, а ведь тоже приближают завтрашний день!). — Остановить историю никому не удастся, но затормозить ее можно. Как? Принуждением, обманом народа. Чтобы оправдать несправедливость, буржуазные философы учат: человек — жестокий зверь и требует насилия над собой либо сам его совершает. То же говорили нам в мусульманском духовном училище…
— Неужто вы хотели стать муллой?!
— Нет, не стал бы. Мне только образование нужно было получить, а где мог учиться сын чабана-киргиза? Спасибо, добрый инспектор устроил в духовное училище, потом в семинарию. Но в девятьсот пятом году я оттуда вылетел. Потом либеральные интеллигенты помогли поступить в Московскую духовную академию на исторический факультет. И там не удержался: заметили неуваженье к религии, интерес к политике и исключили. Реакция тогда свирепствовала. Куда ни сунься — жандармы.
Костя примостился возле Джангильдина и, хотя Алибию было всего тридцать три года, с сыновним уважением посмотрел на него.
— Сейчас нам трудно, но нас много. Просто дух захватывает, когда подумаешь, какая силища пролетарьят. А как вы тогда в одиночку?
Джангильдин поправил ремень, на котором сверх шинели висел внушительный маузер, подтянул голенища сапог, но сделал это машинально, потому что, погруженный в мысли о прошлом, не спешил нарушить молчание.
— Мы тоже не чувствовали себя одиночками, общая идея была у нас: вера в будущее народа, — сказал он задумчиво. — Молодость, конечно, выручала в тяжелые времена. Когда мне пришлось совсем туго, я решил отправиться пешком в кругосветное путешествие. Хотелось попасть в Швейцарию, куда опять, после девятьсот седьмого года, эмигрировал Ленин по решению партийного Центра. Поговорить с ним, а потом двинуться в Турцию, Египет, Индию, Китай, Японию…
Возможность такого путешествия, да еще пешком, да еще без гроша в кармане, поразила Костю. Но не сказочные страны, где водятся слоны и львы, где растут пальмы с орехами в человеческую голову, где горы подпирают небо снеговыми вершинами, а в синих морях плавает чудо-юдо рыба-кит, — не все эти чудеса занимали Костю.
— Нашли вы Ленина? Какой он из себя?
— Какой? Быстрый на ногу. Ловкий. Мне он показался лучше всех. Тем более что на киргиза похож (татары уверяют — на татарина). Есть в нем наше, родное: скулы широкие, глаза карие, острые, как у чабана. А главное, я сразу ощутил, что это близкий мне человек. Будто долго бродил в глухой степи, натосковался по теплому дружескому слову — и вдруг такая счастливая встреча!
Джангильдин потеребил густые усы, опять помолчал, словно забыв о Косте, о том, куда ехал, окруженный молодежью.
— Швейцария мне не понравилась, хотя это красивая страна. Все прилизано. Люди вежливые… Очень вежливые, но столько мелочной расчетливости… В России баба в деревне вынесет крынку молока, краюху хлеба. Посмотришь — ноги у нее босые, черные от загара, руки огрубелые, а глаза будто окна в небо. Денег с прохожего ни за что не возьмет. За границей такой доброты, простоты нет. Нелегко прожить там русскому человеку целые годы… В Сибири куда лучше. Ты, наверное, думаешь, самое страшное для большевика тюрьма, жандармы, ссылки? Нет, Костя, самое страшное — идейные шатания в рядах партии, измены друзей. Ленин все это перенес, но он никогда не падал духом, и каждая его статья была ударом по врагам.
— А как он вас встретил?
— Сердечно. Когда я сказал, кто я и откуда, он посмотрел, прищурился, мне даже неловко стало, и вдруг громко позвал: «Надя, иди скорей! Здесь уникальный турист из России. Да еще из Средней Азии. Представь себе, пешком пришел!» Заинтересовался, как образовалась наша сухопутная тройка по газетному объявлению. Расспрашивал о положении в Киргизии. О восстаниях в аулах. О карательных экспедициях. И все обращался к Крупской: видишь, что делается! Предложил мне написать статью в газету, потом вскочил с места: «Черт побери! Прежде всего мы должны накормить товарища! Соловья баснями не кормят», — и, пока сидели за столом, все подшучивал: «Человек, который идет пешком вокруг света, голоден не как соловей, а как серый волк».
Теперь Джангильдин рассказывал охотно, весело, гордясь встречей с Лениным, а Костя жадно слушал, удивляясь и тому, что такой человек, который не раз встречался с Лениным и имеет мандат Совнаркома о назначении чрезвычайным военным комиссаром, так запросто беседует с ним, малограмотным заводским парнем.
— Когда я прочитал книгу Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», которая отстояла учение Маркса от наскоков враждебной критики, то подумал: «Жаль, что эта книга будет трудна для массового читателя! Такая в ней глубина философской мысли», — продолжал Джангильдин, а Косте стало стыдно за то, что он даже не слышал об этой книге.
— Ленину вы тоже сказали об этом?
— Да.
— Обиделся он?
— Нет. Улыбнулся лукаво и спросил: «А как вы думаете, товарищ Джангильдин, рядовой рабочий или крестьянин знают такое слово — „эмпириокритицизм“»? — «Пожалуй, не знают…» — «А я, когда писал, о них думал. Верю, что сразу после революции в России они станут грамотные и для них не будет непонятных слов. А вы сами-то как прочитали?» Я спохватился: «Понял все». Но в беседе выяснилось несколько иное, и тут я почувствовал, что такое бережное отношение к младшему товарищу и какой гигант мысли он, Ленин.
«Вот так и Джангильдин со мной», — обрадованно подумал Костя.
— Вы с ним еще виделись?
— После Февральской революции, когда на заседании фракции большевиков в Смольном я докладывал о положении в киргизской степи и зверствах генерала Лаврентьева. Потом встретился и разговаривал с Лениным уже после Октября, когда он направил меня сюда для борьбы против Дутова.
— Он сразу узнал вас?
— Узнал. Держит за руку и смотрит, смотрит: «Где это я вас видел?» — «В Швейцарии». — «A-а! Турист-пешеход. Где вы еще побывали тогда?»
— А сейчас Ленин помнит о нас? Знает, как здесь трудно?
— Все знает и помнит. Положение в Оренбургском крае очень тревожит его.
Да, было от чего тревожиться! Военных сил у Дутова раза в четыре больше, и конница, и вооружение. А молодых красногвардейцев надо было вооружать и спешно обучать тому, как обращаться с оружием. Так что Джангильдин, а с ним и Костя минуты не имели свободной.
В «Декадансе» выбирали королеву красоты. В зале, сверкавшем позолотой пышной лепки, бронзой и хрусталем люстр, тесно и шумно. Больше мужчины: какие-то линялые старички, тучные сановники с розовыми лысинами, умытые купцы, надушенные, затянутые офицеры. Среди подвыпившей компании за столом, уставленным бутылками и фруктами, Софья Кондрашова, которая пришла в этот дом в маске, как и другие порядочные дамы, не желая рисковать своей репутацией. На ней платье из цельного куска шелка, задрапированного и заколотого на плече бриллиантовой пряжкой так, что обнажилась стройная спина и нежные тонкие руки с гладкими обручами браслетов. Волосы взбиты, нагромождены затейливой башней, глаза ярко блестят в узких прорезях маски.
С Софьей любезничают, прикладываются к длинным ее пальцам с остро отточенными ногтями, но не она здесь в центре внимания и не те девушки, что похаживают среди гостей в вычурных, ярких платьях или в тугом трико и кружевных корсажах. Взгляды всех прикованы к ярко освещенной сцене, где стоит златокудрая смуглая Рогнеда — гордость «Декаданса». Только что ее сняли с пьедестала и пронесли полунагую через весь зал на громадном блюде вроде плоской раковины. Никто из красавиц, проходивших перед глазами строгих знатоков, не мог сравниться с нею, затмившей всех соперниц. И вот она, уже одетая для концерта, на эстраде. Сам Дутов, изрядно подвыпив, подносит ей букет роз, и Рогнеда с победоносной улыбкой глядит на властного атамана, который при всех заискивает перед нею.
В зале грохот аплодисментов, возгласы одобрения. К ногам вновь избранной королевы летят цветы и деньги.
— А епископ Мефодий стал архиепископом оренбургским, — говорит кто-то за соседним столом в компании солидных промышленников.
— Отметил его усердие патриарх Тихон…
— Да, Тихон теперь избран на вселенском соборе патриархом всея Руси.
— Заслуженно! Кто другой осмелился бы на Красной площади предать анафеме большевиков?
— Счастье русского народа, что у него такие мужественные отцы церкви, показавшие себя в годину смуты и как политики.
— Тише, господа!
Грудной голос Рогнеды, полный сердечного, живого чувства, сразу заворожил всех.
«Да, изумительно поет. И собой хороша необыкновенно», — думала Софья, хотя по-женски возревновала, когда впервые увидела эту «королеву» с золотой гривой высоко подобранных кудрей, с черной повязкой на нежно округленных бедрах. Как стояла босая на пьедестале, вольно поставив длинные, редкой стройности ноги, ровно дыша прелестной грудью, полуприкрытой черными, в блестках кружевами на еле приметных бретелях. Красива она была до безгрешности, как прекрасный ребенок. Поэтому и смотрели на нее, словно на чудо, без пошлых ухмылок, может быть, впервые поняв божественность настоящей женской красоты.
Придя сюда, Софья искала встречи с Нестором. Не могла она поверить тому, что ею и богатством ее пренебрегли ради какой-то замарашки из нахаловских трущоб, не допускала мысли, что молодой хорунжий сидит возле грубых юбок работницы. Конечно, он сейчас при штабе Дутова.
— Ах, душка атаман! Такой заслуженный и такой обаятельный, — шептались женщины, пробравшиеся сюда, как и Софья, под маской.
— Цветы преподнес королеве красоты!.. Интересно, знает ли об этом его почтенная супруга?
Рогнеда пела. Наэлектризованная толпа неистовствовала, выражая свой восторг. Рогнеда улыбалась, глядя в зал, кланялась, благодарила, с новой силой и чувством повторяла любимую песню атамана:
Потом начался разгул.
— Ты чудная, ты дивная! — Дутов целовал душистые ладони певицы, гладил ими свое пылающее лицо. — Сегодня ты поедешь со мной! Скажи: да!
— Нет, нет, нет! А то придется платить три тысячи за тройку лошадей. Я читала приказ, знаю: запретили вы катанье и пьянки.
— Ты научилась лукавить?
— Зачем учиться? Каждая женщина умеет лукавить. С пеленок умеет. Но сейчас я правду говорю.
— Чего ты боишься? Или ты еще не знаешь любви?
— Если бы не знала!
— Значит, другого любишь?
Рогнеда насупила узкие брови, но глаза ее смеялись.
— Не девушка я, но гордость имею. Вот звенят здесь золотые струны, — она приложила к груди руку, выгнув гибкую ладонь, — и я пою для народа, но жить с каждым, кто позовет, не хочу. Не стану!
— Разве я «каждый»? — Дутов снова налил шампанского себе и ей, надменно откинулся на стуле, обводя тяжелым взглядом кутил, сидевших с женщинами за соседними столиками. Он был обижен и раздосадован — «Пою для народа» — рассуждаешь, как социалистка!
— Этого я не понимаю, — она придвинулась к нему, бросив веер из белых страусовых перьев на перила ложи. — Я цыганка. Гадать — могу. Вижу, что впереди, и боюсь. Только подумаю о завтрашнем дне — даже плечи озябнут.
— Со мной ничего не бойся. Я сильнее всех.
Она улыбнулась сострадательно и, как маленького, нежно погладила его по плечу и затылку.
Дутов обнял ее, припал губами к юному рту, погасив его ослепительную улыбку, прижал к себе, ощущая трепет еще непокорного прекрасного тела, ища глазами ординарца:
— Лошадей! Шубы!
Сам внес желанную в кошевку на руках, и тройка звонко помчалась в ночь и мороз в снежной пыли под светлыми звездами. Следом рвали копытами снег и лед мостовой лошади бородачей личной охраны.
Резкий стук в дверь, тревожный уже своей бестактностью, спугнул ощущение сладостного покоя.
— Депеша особой важности из Переволоцкого!..
В дверную щель просунулась толстопалая рука заслуженного ординарца с телеграфным бланком, потом показалась обросшая физиономия, с собачьей преданностью глянули глубоко посаженные глаза.
— Да заходи, заходи! — с досадой, но и с явной мужской гордостью приказал атаман.
Рогнеда, подтянув к подбородку одеяло, тревожно искоса смотрела, как он, приподнявшись на локте, торопливо читал текст телеграммы.
«Кобозев снова перешел наступление, 20 000 войска, под общим командованием мичмана Павлова, прибывшего летучим отрядом Кустанайского фронта. Уже погрузились эшелоны, бронепоезда. Двинуть навстречу конницу нам мешает небывалая глубина снега. Подробности письмом, пакет посылаю нарочным. Полковник Акулинин».
Сна как не бывало. Дутов сел, спустив на пол ноги, очень белые, пухлые. Молодой адъютант помогал одеваться.
Рогнеда, сгорая от стыда и обиды, лежала как брошенная, забытая вещь. Ну тревога — люди военные. Ну надо скорее возвращаться из пригорода в Оренбург, но зачем же врываться в спальню? Ходить тут возле смятой постели…
— Ты спи! — ласково сказал уже одетый атаман, поправляя папаху и туго затянутые на меховой бекеше ремни. Заглянул в опустошенные глаза, погладил рукой в перчатке (чуть не уехал, не простясь!). — Я оставлю на страже казака.
— Не здесь, конечно… Не в этой комнате. — Голос ее сделался гортанным, клекочущим от гнева, а Дутов даже не заметил, как она сердится (шутка, двадцать тысяч войска, и опять этот мичман Павлов с его летучим отрядом!).
— Утром пришлю лошадей. Отдыхай, дорогая.
— Не очень дорогая! — Рогнеда вскочила, едва они вышли, заметалась по комнате, мотая тяжелой гривой волос, тонкая в прозрачной до пят рубашке. — Не хотела, а опять в грязь влезла. Почему? Жалко стало? Страшно стало? Убьют его! Ишь, степенный какой, а бабьи рубашки тут наготове. — Злобно рванула ленты, завязанные бантом на груди. — Других тоже возил сюда. Эх, атаман! «Я сильнее всех», а испугался, побежал сразу.
На заседании Военного совета Кобозев предложил новую тактику наступления: цепь эшелонов, которые будут поддерживать друг друга.
— Впереди пустим бронепоезд, за ним ремонтно-вспомогательный. Следом пойдут красногвардейские эшелоны и артиллерия, размещенная с таким расчетом, чтобы она могла бить с вагонных платформ, а в случае надобности быстро сгружаться для позиционного боя…
Петр Алексеевич на всю жизнь запомнил свое боевое крещение, когда так счастливо подоспела батарея наводчика Ходакова. А как выручала она, когда бузулучане вырывались из окружения после боев под Каргалой! Теперь Кобозев знал, что такое артиллерия, и продолжал уверенно:
— В середине пойдет санитарный поезд со штабным вагоном, замкнет всю цепь второй вспомогательный бронепоезд. С обеих сторон железнодорожного полотна мы будем защищены от казачьих конных атак сугробами снега. Снег нынче, к счастью, необыкновенно глубокий.
— Где же мы возьмем столько бронепоездов? — спросил Алибий Джангильдин, тоже избранный в Военный совет бузулукской группы.
— Друг Алибий! — Кобозев не сдержал озорной улыбки. — Неужели сердце не подсказывает тебе, что бронепоезда выросли на ваших хлопковых полях?
— Шуточки?
— Серьезнее быть не может. Паровозы у нас защищены настоящей броней, а платформы обложим в два-три ряда тюками спрессованного хлопка. Как ты думаешь, надежная это будет защита от пуль и осколков? — Про себя Кобозев отметил: «Идея Алевтины, которая собиралась так обезопасить детишек».
— Надежно, пожалуй… — В голосе Джангильдина раздумье, даже нерешительность. — Пули не пробьют тюки ваты. Но если ударит снаряд…
— Осколком тоже не пробьет.
Костя стоял у двери вагона, слушал, готовый ринуться с любым поручением куда угодно, гордость так и распирала его: он присутствовал на Военном совете.
Идет над степями злая зима, заваливает железную дорогу и проселки сугробами снега, но не задуть ей всеми студеными ветрами жаркую ненависть к врагам в душе Кости Туранина.
Вот на платформе зазвенели девичьи голоса и смех. Девчата спешили сюда, узнав, что заседание Совета окончилось. Однако, опередив их, в вагон вошел Бахтигорай Шафеев. Смугло-румяный под белой папахой, в белом полушубке, туго перехваченном ремнями портупеи, он приветливо взглянул на Костю и других ординарцев, скромно, даже застенчиво, поздоровался с членами Военного совета. Бахтигорай учился в Оренбургском мусульманском медресе, мог бы стать почетным человеком в городе — служителем аллаха, но за смелые речи против несправедливости был исключен. Потом учился в Казанском университете, и опять улыбалась ему жизнь среди богатых и сильных, но и в Казани больше волновали прямого, пылкого Бахтигорая жизнь народа, политика, борьба. Весной семнадцатого года он вернулся в Оренбург и со всей страстностью взялся вместе с большевиками за революционную работу.
«Верно назвал его Джангильдин — настоящий орленок!» — подумал Костя, глядя на Бахтигорая.
А Шафеев уже коротко доложил о своей работе: созданы башкирский и татарский красногвардейские отряды.
«Не выпячивает себя, — снова отметил Костя. — Я, наверно, хвастун: мне все хочется, чтобы меня похвалили, а у него получается так, будто поехал и принял готовые отряды».
— Где они? — спросил Кобозев, и по выражению его было видно, что он очень доволен Бахтигораем.
— Только что выгрузились из эшелонов, но оружия у нас совсем мало.
— По возможности обеспечим. Вы как командир и двинетесь в наступление с этими отрядами.
Девушки с повязками медицинских сестер!.. Бесстрашная Стеша Черкасова, участвовавшая в первых боях против Дутова, Мария Корецкая, веселая, неугомонная, с блестящими черными кудрями. Она так хороша, что даже Костя Туранин готов признать: красивее и милее ее нет девушки в Оренбуржье. Одна лишь Фрося… Маша Корецкая жила в пансионе благородных девиц, и хотя была там простой портнихой, преуспела в грамоте. Теперь она и политически развита, а держится так, что все те благородные в подметки ей не годятся.
«Тоже могла бы выскочить за богатенького, — не без горечи подумал Костя, когда ходил вместе с Джангильдином и Коростелевым осматривать будущие санитарные вагоны: медсестры осаждали штаб со своими просьбами и жалобами. — Нужда ей пришла идти на смерть с красногвардейцами!»
— Какие у нас замечательные медицинские кадры подобрались! — весело сказал Цвиллинг, входя в вагон и прежде всего здороваясь с девчатами.
Ответив на шумные приветствия товарищей, он принял нарочито важную позу, хотя на лице его так и пробивалась откровенно радостная улыбка.
— Явился из Екатеринбурга… Был в Челябинске. Принимайте отчет! Сегодня придет прекрасно сформированный отряд с Верх-Исетского завода под командованием Петра Ермакова. В нем есть и девушки-санитарки. Может быть, не такие красотки, как наши, но боевые. Сам я тоже прибыл сюда с отрядами красногвардейцев: приехали челябинские металлисты и копейские шахтеры. С уральских заводов будут доставлены завтра орудия, снаряды и винтовки.
— Вот здорово! Активно мобилизуют силы уральцы! Хорошее пополнение дает нам и мобилизация в сельских местностях губернии. Много добровольцев из батраков и беднейшего крестьянства, — говорил сияющий Кобозев. — Пора наступать, красногвардейцы рвутся в бой: все понимают, что каждый пропущенный день грозит расправой над рабочими Оренбурга. И просто от голода могут погибнуть они.
— Да, насчет оренбуржцев… Хорошо, что я побывал в Екатеринбурге: деньги получил для наших забастовщиков.
Ввалились в вагон и командиры прибывших с Цвиллингом отрядов. Морозный воздух ворвался вместе с ними из тамбура. Белый пар будто приподнял от пола девушек, и на этом облачке Маша Корецкая в белой повязке с красным крестом показалась Косте настоящим ангелом милосердия. Но сердце его оставалось спокойно, когда она, уходя, задорно махнула ему рукой. Он улыбнулся ей так же, как и Стеше Черкасовой.
— Начинают моего Костю девчата интриговать, — шутя заметил Джангильдин. — Был заморыш нескладный, вроде гадкого утенка, а теперь, смотрите, какой лебедь!
— Под твоим идейным руководством, — подтрунил Цвиллинг. — Но что-то этот лебедь больше смахивает на молодого грача. Черен и большенос.
— Будет вам изощряться! — заступился Кобозев. — Совсем смутили Туранина. Нос у него как и полагается мужчине (ты, Самуил, тоже этим не обделен). А насчет девушек, так молодость всегда словно шампанское игристое, о котором мы с вами давно забыли.
— Кто забыл, а кто и не пробовал. — Цвиллинг расстегнул полушубок и присел к столу. — Ты, Петр Алексеевич, когда жил в Риге до ссылки, наверно, пивом баловался? Говорят, у латышей пиво хорошее.
— У латышей вообще закваска хорошая… Революционная закваска, я имею в виду.
— Шампанское да пиво… Где уж нам! Надо товарищей хотя бы чайком побаловать, — сказал Коростелев.
И сразу засуетились у железной печки ординарцы.
— Чай — дело стоящее. С дороги особенно, — согласился Цвиллинг. — Но поскольку речь зашла о девушках, на которых мы, женатые рыцари, можем только любоваться, то разрешите мне, старому агитатору, одну минуту уделить поэзии. Как ты думаешь, Саша?
— Давай! Все с удовольствием послушают.
Но Цвиллинг задумался, потом заговорил серьезно:
— Когда я работал в троицкой революционно-демократической газете «Степь», то по должности читал стихи местных авторов, а для души классикой увлекался. Кроме доморощенных, у нас печатались произведения Горького, Бедного и других поэтов и писателей. Многое мне запомнилось наизусть.
Цвиллинг, как был в распахнутом полушубке, вышел на середину вагона, непривычно сурово взглянул на товарищей.
Костя Туранин так и замер со стаканами в руках: слушал, почти не дыша. То были обычные слова, которыми говорили каждый день, но отчего они звучали торжественно, бередили, обжигали душу?
«Надо списать да затвердить, чтобы всем пересказывать», — решил Костя.
— Еще? — спросил Цвиллинг, прерывисто дыша.
— Пожалуйста! — горячо попросил Коростелев. — То, что ты сейчас продекламировал, каждому красногвардейцу заповедь.
— Да, да! — восторженно поддержал Кобозев. — Превосходные стихи.
Джангильдин и Бахтигорай, схожие, словно отец и сын, тоже с оживлением смотрели на Цвиллинга. И Сергей Дмитриевич Павлов, которого при всей его молодости охотно именовали по отчеству, разогнулся, оторвался от карты, разложенной на другом столе, статный, во френче и галифе, стоял и слушал, склонив голову с гладким зачесом на косой пробор. Лицо его с юношески округлыми щеками, энергичным подбородком и крупным, с горбинкой носом светилось одобрением: хотя не до стихов сейчас, но они будто нарочно для данного момента написаны.
Голос Цвиллинга зазвучал снова, сперва приглушенно, потом все накаляясь и наполняясь звоном:
— Нам! — невольно вырвалось у Кости.
Все посмотрели на него, побагровевшего от неловкости, но на губах и в глазах у каждого можно было прочесть: «Да, нам».
«Если бы я раньше знал эти стихи!.. Мы сами виноваты, что не удержали Фросю в Нахаловке, не раскрыли ей красоту борьбы за свободу». Но эта мысль не огорчила, а только еще сильнее окрылила Костю.
Новое наступление началось в лютую январскую стужу. Синим вечером, когда над уютными бузулукскими домиками клубились дымы и звучно скрипел снег под полозьями и ногами прохожих, один за другим отходили со станции воинские эшелоны.
Костя набегался с поручениями по улицам постепенно пустевшего городка и, как присел в теплушке поближе к печке, так и заснул, прислонясь головой к винтовке, которую теперь не выпускал из рук.
Медленно шли по степям поезда, высылая вперед конную разведку, а там, где заносы и взорванные мосты, — ремонтных рабочих. Холодный ветер обжигал лица людей на открытых платформах, которые со своими плотно выложенными брустверами из тюков хлопка, слабо белевшими в темноте, походили на окопы, отрытые в снегу. Возле пушек и пулеметов потеснее, для тепла, сбились артиллеристы и пулеметчики.
Красными угольками мелькают огоньки цигарок, плывут над эшелонами клубы паровозного дыма с летящими искрами; длинные пучки света локомотивных фар, пробиваясь сквозь белесую поземку, шарят в снегу, нащупывая рельсы, помогая ремонтникам, расчищающим путь от снежных заносов.
Увидит враг?.. Пусть увидит. Пусть осмелится атаковать. Дежурят у орудий артиллеристы, не дремлют и пулеметчики… Только Костя спит, сидя у печки.
— Интересно, что ему снится? — посмеялся Цвиллинг, забежавший к башкирам во время очередной остановки… — Винтовку обнял, будто девушку милую…
— Милые наши одной надеждой живут, — с затаенной грустинкой сказал Джангильдин.
— Да, и они и дети. Я в Челябинске заскочил домой… Что было с сынишкой!.. Он тормошил, целовал меня, обнимал, прямо душил ручонками. А когда Соня упрекнула его: «Папа устал», он присмирел и только прижимался ко мне. Знаешь, Петр Алексеевич тоже беспокоится за своих: случись что у нас в тылу — в первую очередь семьи большевиков вырежут… Некоторые поговаривают: дескать, казаки — военная сила. А я им: мы сильнее, потому что стали военными ради справедливости, ради счастья детей…
Косте снилось, будто все кругом залито ослепительным солнечным светом, и само солнце, похожее на колесо штурвала, висит близехонько, стоит только протянуть руку — возьмешь его за золотые спицы. Костя так и сделал и, утвердясь не то на плотике, не то на облаке, начал, точно рулевой, легко поворачивать неожиданно послушное солнце. Правда, жарко ему было, как у пылающего костра, пот лил с него градом, но каждая маленькая капля, падая вниз, вспыхивала ярким блеском и катилась в синей пустыне неба, трепеща живыми золотыми лучиками.
— Вот так и делаются звезды, — сказал неведомо откуда взявшийся дед Арефий. — Потрудись, потрудись, сынок! Этакая красота образуется.
«Правда, сколько я их насыпал! — подумал Костя, ворочая солнце: хотелось ему осветить лучами, как прожектором, ту станицу, куда сбежала Фрося. — Если бы она увидела меня сейчас, небось задумалась бы».
Тут раздался страшный грохот… Костя больно стукнулся лбом о раскаленное светило, оказавшееся печкой, вскочил, сжимая в руках винтовку, очумело посмотрел на бросившихся к выходу бойцов. Джангильдин, высоко держа фонарь, светил им, будто овцам в кошаре, и громко кричал:
— От поезда не разбегаться! Залечь вдоль насыпи цепью! Без команды не стрелять! — И сам, взмахнув фонарем, соскочил вниз.
Костя, словно на крыльях, слетел следом. Опустевший эшелон подался в темноту, таща за собой косматые кусты взрывов, потом погасил огни, и только слышно было, как, тяжело лязгая, дергался он на путях, выходя из зоны обстрела.
Впереди шла артиллерийская канонада: стреляли с бронепоезда и с платформ остановившихся эшелонов, а кто-то со стороны отвечал ухающим утробным басом.
— Что там? — тревожно перекликались в цепи красногвардейцы.
— Казаки окопались у станции Новосергиевка. Пойдем в атаку, — отвечали командиры.
Опять те же места боев… Костя забыл, как выглядела эта Новосергиевка, когда с Бузулука шло первое наступление на Оренбург. Но тогда там тоже засели казаки, и мы их прогнали. А потом бузулучане быстро отступили из-за казачьих восстаний в тылу. Хорошо, что отряд Коростелева не дал белым разрушить мосты на железной дороге.
После сна у жаркой печки лежать на снегу было холодно, дуло за воротник, в рукава, ноги в изношенных сапогах быстро озябли, и Костя все время шевелил пальцами, чтобы они не отмерзли; хорошо, хоть на руках теплые варежки, мать прислала с оказией.
Он приподнялся, прислушался чутким ухом и пополз, оберегая винтовку, туда, откуда доносился голос Алибия.
— А я тебя потерял! — сказал тот обрадованно. — Давай к первому эшелону. Скажи Павлову, что мы ждем сигнала к атаке. Ребята уже озябли, пора бы и разогреться, а то обморозятся зря.
Пригнувшись, Костя побежал вдоль линии, мимо залегших красногвардейцев. Посвистывание пуль и взметнувшийся впереди огненный сноп взрыва согнали его с насыпи, но внизу он стал проваливаться в снег и пополз, уже различая стоявший впереди состав.
«Пока буду рыть носом сугробы, пристреляются казаки, разнесут вагоны в щепки, и ребята застынут на снегу. Эх, была не была!..» Он вскочил и, почти не пригибаясь, помчался по расчищенной насыпи.
У соседнего эшелона толчея: сгружали пулеметы и ящики с патронами. Значит, будет большой бой, и лишние составы отойдут назад, освободив место бронепоезду. Костя поднырнул под вагон и, побежав на другую сторону насыпи, увидел частые беглые огни в станционном поселке, а невдалеке черный кулак водонапорной башни, грозивший бузулукским эшелонам. Пули свистели беспрестанно, и связной, задыхаясь от бега, от леденящего ветра, сообразил, что огни в поселке — мельтешенье выстрелов, что стреляют беляки и каждая пуля может попасть в него, но он не лег, а еще наддал и, миновав разгружавшиеся платформы, проскочил на «свою» сторону насыпи у самого паровоза, уже погнавшего белые клубы пара.
Павлов словно поджидал его на бронепоезде — спрыгнул навстречу и дал письмо для Джангильдина.
— А этот пакет передай Цвиллингу, он в эшелоне, идущем впереди нашего. Лети, старик! На ноги надейся, но не стесняйся и приземляться. Где настильный огонь, на пузе ползи! Понял? Запомни на всякий случай: ударим из пушек, а потом сигнал к атаке — красная ракета.
Не успев перевести дыхание, Костя пустился обратно.
Теперь он считал себя уже обстрелянным бойцом. Но когда Джангильдин, приняв от него письмо, сунул ему еще одно для Павлова, Костя подумал: «Хорошо вам тут: лежите, постреливаете вместе и в атаку пойдете гуртом, а я бегай, как заяц!» В следующий миг он жгуче устыдился этой мысли и снова побежал вдоль насыпи в сторону головного бронепоезда, пригибаясь от посвиста пуль. «Как стрижи визжат, проклятые!..»
В памяти мгновенной вспышкой возник летний день, жара, высокий берег реки, изрытый норками, в которые, как черные молнии, с разгона ударялись стремительные птицы и каждая точно попадала в свою… Так, наверно, и Костя летел сейчас, пока взрыв снаряда, раскидавший впереди и шпалы, и рельсы, и мерзлую землю, не сбил его с ног могучим толчком воздуха.
«Это и есть взрывная волна!» — С трудом приподнявшись, Костя посмотрел на стиснутое в кулаке письмо Джангильдина и, сразу подскочив, придерживая винтовку, опять помчался вперед.
Но уже не оказалось на прежнем месте бронепоезда, как не было и эшелона, где находились матросы Павлова. За короткое время произошла передвижка на линии, и туда, где недавно гремел огневой шквал, устремилась, оторвавшись от железнодорожной насыпи, сплошная черная масса, подминая под себя сугробы. Выстрелов Костя почти не слышал, — хотя повсюду вспыхивали ружейные огни, только сплошное, грозное «а-а-а» раскатывалось окрест, и он, увлекаемый общим потоком, свернул с прямого пути, сбрасывая на бегу винтовку со штыком, колотившуюся за его спиной.
Столько людей в матросских бушлатах, тоже с винтовками наперевес, бежало впереди, и справа, и слева, что казалось почти невозможным, чтобы Костя смог встретить хоть одного казака. Стрелять и издали, и в упор ему уже приходилось, но, когда вылетел прямо перед ним плечистый, на черном коне казак с пикою, Костя не растерялся, а подумал с отчаянием: «Не достану штыком, а он пырнет…»
Винтовка сама взметнулась, выстрел ударил в крутую грудь вставшего на дыбы коня. Пика, выброшенная могутной дланью, пролетела мимо и нырнула вместе с рухнувшей лошадью в снег, а казак — борода лопатой, как медведь, попер на Костю, правой рукой шаря у себя на боку.
«Шашка? Черт!» — не то вскрикнул, не то подумал Костя и, подавшись вперед, прикладом, точно дубиной, ударил казака, свалил и сам, споткнувшись, упал. Кто-то набросился сверху — настоящая куча мала образовалась в сугробе…
Атака матросов решила исход дела. Несмотря на численный перевес, казаки отступили в заснеженные степи и двинулись в сторону Переволоцкого.
В жарко натопленном помещении станции Костя разыскал Павлова. Смущаясь перед бравым командующим за опоздание, протянул письмо Джангильдина.
Павлов, еще горячий после боя, в распахнутом бушлате, взял письмо, прочитал и рассмеялся молодо, задорно:
— Все разыграно как по нотам, товарищ адъютант! Можешь считать поручение выполненным. Тебе советую: в другой раз, орудуя прикладом, не горячись, не переламывайся вперед, чтобы устоять на ногах. А то всегда будешь пахать носом землю. — Он улыбнулся Косте почти нежно, но по плечу ударил тяжело: — Молодец, Туранин! Мы с тобой в атаке рядом оказались, и я видел, как ты действовал. Вот посмотри на своего крестника.
Петр Алексеевич Кобозев, тоже нараспашку стоявший посреди тесного помещения, махал зажатой в руке папахой, подзывая Костю к себе.
— Почему… крестника? — спросил Костя.
— Да не он крестник, а вот этот бородач: его ты крестил прикладом.
И только тогда Костя увидел подстриженного в кружок обрубом пожилого казака со связанными за спиной руками. Спутанные волосы его были в крови, кровь запеклась и на окладистой, вполгруди бороде.
— Командир сотни из Илекского городка, — отрекомендовал Павлов. — Поспешили они на помощь своим братцам оренбургским казакам, да поздновато спохватились. Много еще у вас войска снаряжается в поход?
Казак презрительно молчал, щуря пронзительные, злобно и молодо горевшие глаза, горбатый, покривленный в сторону нос придавал ему сходство с коршуном.
— Чего молчишь, дядя? — с легкой иронией спросил Кобозев.
— Я тебе скажу, племянничек: сроду мы с табашниками зазорну дружбу не важивали, а с вами, большевиками, у нас один разговор — шашка востра.
— Мы сами к вам с дружбой не напрашиваемся, — сказал Павлов строго. — Вы, царские прихвостни, только зря путаетесь поперек нашей дороги с атаманом Дутовым. Все равно раздавит вас колесо истории.
— Посмотрим, кто кого! — мрачно пригрозил казак, которого бесила молодость красного главкома. — Ты, матрос, сам путаешься поперек нашей пути. Мы свои земли, волю казачью, веру Христову отстаивам, а тебе у нас чего надобно? Зачем ты этих широкоштанных архаровцев к нам приволок? Толчитесь, бесы, да не в нашем лесе! Или вас завидки берут, на нашу жизню глядючи?
Допрос пленного грозил превратиться в дискуссию. Пользуясь передышкой, в маленькое, закопченное махрой, провонявшее керосином помещение станции набились озябшие красногвардейцы, и Павлову, как и Кобозеву, не хотелось, чтобы за контрреволюционером осталось последнее слово.
— Нам ваша жизнь позорной кажется, и завидовать вам мы не можем, — возразил Павлов. — О Христе толкуете, а живете по-волчьи. Не бог, а земля да скотина у вас самое главное, ради этого вы у царя опричниками были. А Ленин сказал: земля должна принадлежать всем трудящимся.
— Ле-енин! — перебил казак, лютуя и потому забыв об осторожности. — Зря гуторили, что все бешены давно перевешаны, самый-то вздорный остался.
— Ну, старик, раз ты такая зловредная контра, придется с тобой по-другому! Именем революции судить тебя будем.
Павлов с трудом подавил гнев и остановил красногвардейцев, готовых убить казачьего офицера.
«Вот гадюка, живучий какой! — подумал Костя. — Ведь я его со всей силой бил, а только вдавил в снег да раскровенил малость. Значит, это матросы на нас навалились…» Но, сколько он ни напрягал память, не мог вспомнить, как сам выбрался из сугроба.
— Теперь ты у нас герой, — серьезно объявил Кобозев. — Вот так все понемножку учимся воевать. Голова-то не болит?
— Нет! — Костя с простодушным удивлением посмотрел на него. — Чего ей болеть?
— Чего? — в глазах Кобозева засветились уже знакомые Косте искры смеха. — А шапка на тебе цела?
Костя схватился за голову: вместо его потертой шапки с красным бантом на нем, оказывается, была нахлобучена матросская ушанка.
— Это Сергей Дмитрия успел надеть, — сказал адъютант Павлова. — Он и казака уложил, который тебе отвесил за твоего крестника. На счастье плашмя отвесил, потому что его самого из седла высадили.
— Не помню я…
— Еще бы! Ты точно очумелый сидел в сугробе.
Час от часу не легче! Сидеть, словно заяц, в сугробе во время атаки. Позор! Гераське было бы простительно, а ему, старшему из детей Туранина, уже давно минуло шестнадцать.
— Ты что расстроился? — весело спросил Джангильдин.
— Хочу просить вас, чтобы я не просто бегал с записками. Не шнырял бы туда-сюда, а дайте мне настоящее, серьезное поручение.
— Разве мало шнырять под пулями? Это, друг Костя, совсем не просто! Я вот и рад бы, да не смогу теперь.
— Ну, пожалуйста! — с горячей мольбой настаивал Костя.
— Ладно. Много еще всего будет впереди.
Сырт, водораздел между реками Уралом и Самарой, далеко протянулся по Южному Приуралью. Сырт — по-киргизски «высокое место», хотя он не так уж и высок. По правобережью Урала отроги его круто обрывисты, там и красуются казачьи станицы, как бы нанизанные на линию тракта, по которому в давние времена проезжал в Оренбург Пушкин.
О путешествии Пушкина по Сырту Александр Коростелев знал не хуже Цвиллинга, но сейчас Сырт для него только название железнодорожной станции, крепко запомнившейся во время наступления в декабре. На этой станции работал телеграфист Васюта, «слухач», «драгоценный мальчик», как еще назвали его в штабе Кобозева, который пока был жив и здоров, о чем говорили его дела: именно на телеграфе две тысячи бойцов в отрядах, собранных Кобозевым, были приумножены в десять раз. Легенда о двадцатитысячном войске вызвала великую тревогу в стане Дутова.
Возле станции Сырт сильно укрепленные позиции дутовцев, туда же отступили уже потесненные красногвардейцами белоказаки. Поэтому бузулукские эшелоны подходили к Сырту осторожно, то и дело высылая разведчиков к передовой линии и в ближние тылы врага.
— Мороз проклятый жмет вовсю, да еще ветер северный, как ножом режет, — сетовал в штабном вагоне Цвиллинг.
Он уже осип от простуды, на обмороженных щеках темнеют пятна, похожие на ожоги, и забота старит лицо хмурью: мерзнут плохо одетые бойцы.
— Не спасают халаты, которые предназначались для бухарского эмира! Главное дело — обувь никудышная: валенки драные, лапти не греют.
— Мои ребята тоже пообморозились, — сказал Павлов.
Он сам ознобил руку, пролежав два часа в снегу под огнем казачьих пулеметов.
Коростелев, только что выпросивший для своего подразделения несколько пар валенок, сказал с сожалением:
— Писала мне сестра, чтобы я зашел в Бузулуке по одному адресу получить какую-то чудотворную мазь из гусиного сала. Я сдуру махнул рукой на это дело. Да и некогда было. А теперь как пригодилась бы!
— Гусиное сало действительно помогает при обмораживании, — отозвался Кобозев, разглядывая на карте поселки и разъезды, взятые на левом берегу Самары, по долине которой шли эшелоны. — Я тут у одной бабки видел целую стаю гусей, но к утру она, старая ведьма, куда-то смылась на сивке-бурке вместе со своим дедом. Соседи сказали, что поотрубали эти кулугуры всем птицам головы, покидали их на сани и подались к казакам. Во дворе и правда лежит колода, кровью залитая, пухом да пером облепленная.
— А может, это наши? — вдруг усомнился Джангильдин.
— Нет! — быстро возразил Павлов. — Не очень красивы с виду наши воинские части, и держим их впроголодь, но дисциплина на высоте. Мародерства никакого. В этом, конечно, большая заслуга командиров-политработников. Была бы возможность замены, я запретил бы вам идти в атаку в первых рядах. Но, с другой стороны, пример — зажигательное дело. Посмотрит какой-нибудь Акиндин или Савося на Цвиллинга, худющего, с болячками на лице, но боевого, и сам идет напролом. — Павлов помолчал, не по возрасту суровый, прислушиваясь к тому, как тяжело забухала вдали артиллерия. Гладкий лоб перечеркнула привычно ложившаяся морщина. — Сейчас запоют казаки: «По ко-оням!» На наше счастье, не могут они по-настоящему использовать конницу!
Скрежеща и лязгая железом, опять останавливались на путях составы, окутанные дымом и паром. Красногвардейцы, высыпав из широко распахнутых дверей теплушек, спешно рыли траншеи в глубоком снегу. Артиллеристы устанавливали орудия для позиционного боя, и все сильнее перекатывался над широким белым увалом басовый гул пушек. Ледяной ветер рвал поземку с сугробов, трепал, как злая собака, полы шинелей. Черно-красные кусты взрывов вздымались и падали по обеим сторонам насыпи, и такой же лес вставал и разлетался над огневыми всплесками вдали, где виднелись присевшие в снегах дома, чернели мертво скучившиеся на путях составы и высилась водонапорная башня.
Сражение за Сырт началось.
— Снова привелось столкнуться здесь с казачками, — сказал Коростелев, пытаясь разглядеть в бинокль, что происходило на станции; протирал стекла, злился на плохую видимость, потом спустился в траншею, куда то и дело и забрасывались комья мерзлой земли и тучи снега.
Едва закончилась артиллерийская дуэль, с обеих сторон бросились в атаку красногвардейцы и казаки. Теперь по всему увалу вспыхивали винтовочные выстрелы, а там, где стояли пулеметы, беспрерывно дрожали злобные огненные язычки.
«Пожалуй, разрежет очередью, как мы в цехе режем металл, — подумал Костя, с веселой яростью ломая и разваливая снежную целину. — „Где надо, на пузе ползи“, — припомнил он слова Павлова. — Что ж, поползем и на пузе, а все равно выбросим отсюда лампасников».
— Гусей мы для своей надобности держим. Тута тебе не базар. — Статная девка в борчатке — наверно, добытой отцом в карательной экспедиции, — в пуховой шали, пышно и легко прилегавшей к ее щекастому, румяно-наливному лицу, недоброжелательно оглядела Костю. — Ты не из тех ли лапотников, что с нашими казаками отражаются?
— Ни с кем я не «отражаюсь», Феклуша: дезертир я по доброй воле.
— Нашел чем хвастать! Наши ребята оборону держат от горлохватов разных, а вы бродите. Никакая я тебе не Феклуша! Проваливай!
— Я уплачу! Вот несговорчивая!
Ежась от ветра, особенно пронизывающего на юру, Костя показал деньги, зорким взглядом снова окинул пустынную улицу. Видно, все казаки ускакали на передовую, только на другом краю станицы, у складов, горланили обозники, доставившие мешки и ящики с грузом.
Лежа в сугробах за станицей, он насчитал до пятидесяти подвод.
— С кем ты там лясы точишь, Домашка? — Носатая старуха, близоруко щурясь, выглянула из сеней добротного шатрового дома.
— Да тут, бабуня, привязался родимец — гуся торгует.
— Вот ща! Турни его в шею.
— Нейдет он.
— Нейдет, так я Микиту кликну, Климентий-то не прибегал?
— Нету. Знать, не разгрузились шло.
— Грузят да грузят… Скоро всю станицу зарядами завалют. Не ровен час (везде табашники с огнем) разорвет нас на куски. Ушел, што ль, проходимец?
— Стоит ишо. Сичас я собак спущу.
— Спусти, умница! — Бабуня еще что-то проворчала и хлопнула дверью.
— Жалко вам! — Костя схватил на лету слова болтливой старухи, уставился на девушку жгучими глазами. — Неужто на кулачки из-за гуся пойдете? Вон их сколько у вас!
Она хотела ответить грубостью, но разглядела подтянутые щеки парня, худобу его крупной руки и только вздохнула, окутавшись тонким облачком пара.
— Давай уж деньги-то! Тебе живого или битого?
— Все равно.
На какой-то миг она замешкалась.
— Тут у нас один хроменький… чикиляет, но дюже справный. — С ловкостью волчицы она выхватила из шумно шарахнувшейся стаи гусей, бродивших по двору, одного — в самом деле очень справного — сунула его Косте. — На, проклят! — И, сильно, игриво наддав плечом, выставила «кавалера» за калитку.
Крепко держа скользкую, в гладком пере, тяжелую птицу, пригибая ее красноклювую голову, испускавшую прощальные пронзительные вопли, Костя не спеша пошел от двора.
Пройдя степью почти до ближнего разъезда, он круто свернул на другой, широко накатанный полозьями проселок, а потом, оглядевшись, полез оврагом, возле которого вилась дорога на Сырт.
Долго пробирался он в мерзлых кустарниках под рыжеглинистыми обрывами, проваливался в сугробы, наметенные на дне оврага, но упорно лез вперед, оберегая присмиревшего гусака, греясь его теплом, как прижатой к груди подушкой. Синие бусины птичьих глаз блестели у самого Костиного лица.
Надо было убить гуся, свернув ему голову так, чтобы не набрызгать кровью по следу, но Костя все не решался на это. Хотелось ему помочь обморозившимся командирам, и жалко было душить нарядную, в красных сапожках белую птицу. При своей доброте Костя никогда даже воробья не убил. Другое дело то, что происходило в боях с казаками, которых он, как и все рабочие, считал извергами.
После того как ему удалось высадить из седла и оглушить уральского сотника, он снова и снова бросался в атаки, стрелял, даже колол штыком в горячке боя, и его уже не лихорадило при виде крови и еще не остывших на снегу трупов. Это требовало предельного напряжения сил, но не легче была и отсидка в снежных окопах: кто засыпал по недосмотру товарищей, замерзал сразу.
Превозмогая усталость и смертный сон, бойцы старались побольше двигаться, а когда усаживались тесным кружком, то все время тормошили друг друга; поглядывая в пустоту неба, выстуженного до ледянисто блестевших звезд, вели разговоры о горячей каше, о щах, томленных в теплой доброй русской печи. Башкиры и татары толковали о пирогах, которые называли балишами, и Костя теперь уже не считал такие разговоры признаком слабости. Ведь не столько голод, сколько ненависть к богатым собрала и сдружила массу людей!
— Я тебя не ради щей добыл, — сказал Костя гусаку. — Мы, брат, забыли, как обедать садятся!
Весело было бы пустить этого краснолапого франта по окопам в минуту затишья, чикилял бы, смешил бойцов лопотаньем.
— Однако свернули бы тебе башку сразу, да в котел. А может, пожалели бы, самого накормили крошками. — Костя пошарил по карманам, достал сбереженную корку, но птица только мигнула круглым глазком. — Видать, с осени закормленный. Или брезгуешь пролетарской едой, кулугур ты окаянный?
В одном месте овраг, постепенно мелевший, петляя вдоль увала, снова прижимался к дороге. Поневоле и юному разведчику пришлось, утопая в снегу, сделать крюк. Поверху уже посвистывали пули, и Косте снова вспомнилось, как отряд матросов во время атаки был «накрыт» огнем казачьих пулеметов. Пока в тылу красногвардейцев развернулась подтянутая батарея и наводчик Ходаков смел пулеметные гнезда врага, матросы лежали в снегу при сорокаградусном морозе, и Павлов ознобил руку. А Джангильдин вчера обморозил лицо. Вот почему, увидев Домашкиных гусей, так загорелся Костя желанием добыть гусиного сала для чудотворной мази, о которой говорили его командиры.
Немного отдохнув, он уже хотел двинуться дальше, но со стороны дороги послышался топот идущих наметом лошадей и голоса всадников, далеко разносившиеся в студеном воздухе. В это время гусь, угревшийся в объятиях разведчика, будто выстрелил похожей на пистолет головой на длинной шее, загоготав так пронзительно-звонко, что разговоры на дороге сразу стихли.
Неожиданно ухватистым движением Костя свернул птице голову и полез под земляную ковригу, нависшую с берега оврага. Свесившиеся кусты и корни, вымытые бурным весенним половодьем, ловили его за шапку, за плечи, мерзлая земля осыпалась вокруг желтым крошевом. Уползая от мгновенно осознанной опасности, он остро пожалел о браунинге, подарке Джангильдина, оставленном в штабе перед уходом в разведку, развернулся в берлоге-ловушке и сразу услышал шум неподалеку в овраге; два казака, спешившись и увидев свежий след, пропахавший борозду в снежной целине, лихо спрыгнули вниз.
Джангильдин выбил пехотную казачью часть и юнкеров из окопов у станиц, но Стеша Черкасова и Мария Корецкая с группой девушек-санитарок едва успевали подбирать и перевязывать раненых. Потом опять двинулись матросы, держа курс на водокачку, километрах в трех от станции, и девчата за ними. Но за водокачку дутовцы, хотя и не привыкли к рукопашной схватке в пешем строю, дрались отчаянно и отбросили матросов обратно. Введя в бой подоспевший пластунский полк, оттеснили назад и отряд Джангильдина.
Вечером в трескучий мороз матросы и красногвардейцы снова бросились вперед так быстро и дружно, что после ожесточенной стычки выбили белоказаков из снежных траншей. А заняв их, обнаружили сотни трупов замерзших кадетов, гимназистов, юнкеров, на них-то и топтались обозленные казаки.
— Не зря нагнали сюда этих необстрелянных поклонников Дутова: значит, отказали ему в настоящей поддержке казаки-фронтовики, — сказал Павлов, проходя со своими командирами по полю боя. — Правду говорили перебежчики, что многие из казаков и слышать не хотели о вооруженной борьбе с большевиками, когда Дутов пытался провести среди них мобилизацию. А Уральское казачье войско было пассивно. Там приходящие с фронта части так митинговали, что уральский войсковой атаман, генерал Мартынов, вынужден был уйти со своего поста. А нового уральцы уже не выбрали. Поэтому и на призывы Дутова о братской помощи против большевиков они не отозвались.
— Вот она, «жертвенная молодежь», о которой столько пишет белогвардейская печать, — сказал Коростелев, освещая дно окопа ручным фонариком. — Юнцы рвались на фронт, поверя, что Учредительное собрание решит все дела на благо страны, но не выдержали и первого испытания!
— А трупы не выбросили за бруствер, чтоб мы не узнали о потерях, — сказал Джангильдин. — Ведь хорошо одеты!.. Шарфы теплые, варежки… До чего же стойкими и морально и физически оказались наши ребята!
— Мы, девушки, не хуже, — строго заметила Мария Корецкая, глядя на дутовцев, лежавших и сидевших на дне траншеи.
Некоторые из них были ранены и не перевязаны, натеки застывшей крови стеклянно отсвечивали на одежде. Корецкая присела возле одного, попробовала приподнять его поникшую голову, но он, не разогнувшись, упал на бок, стукнув лицом о приклад винтовки Коростелева.
— Как кукла! — Корецкая отстранилась, охваченная неизъяснимо тяжелым чувством. — Что они наморозили их столько!.. А где ваш черномазик? — спросила она Джангильдина. — Ведь он возле вас точно пришитый.
— Костя отправился в разведку, и до сих пор его нет.
Коростелев повернулся, полоснув по мертвецам пучком света.
— Давно ушел?
— Вчера ночью.
— Значит, отпросился все-таки!
— Необходимость была. Мичман Павлов троих посылал. Один вернулся сегодня на рассвете, двое погибли, и Туранина нет… Не хочется думать! Но просто так замешкать он не мог: быстрый на ногу и смелый.
— Неужели попался им в лапы?.. — Александр Коростелев вспомнил землянку в Нахаловке, дружное семейство кузнеца литейного цеха. — Костя — старший сын Туранина, остальные — мелкота. Я все присматривался к нему, думал: выгоним Дутова из Оренбурга и пошлем Костю учиться. А потом на общественную работу…
— Получалось это у него, — подтвердил Алибий. — Заговаривал я с ним насчет учебы. Оказывается, он сам хотел… мечтал о том. Вот жду, и такая тоска на душе. Зря отпустил. Горячий он, неопытный.
Джангильдин умолк, взглянул вверх: над глубокой траншеей, вырытой дутовцами, прозрачно синел ледяной купол неба, будто растрескавшийся там, где стелился туманной полосой Млечный Путь. А по степи тянула злая поземка, — январь обжигал землю морозным дыханием, сковывал все живое.
На увале, где недавно шел бой, тихо. Потесненные казаки убрались в поселок. Отдыхают и красногвардейцы, отогреваясь у костров. Нестерпимо болят обмороженные руки и ноги, но мало находится охотников отправиться в санитарном поезде обратно в Бузулук: всем хочется бить и гнать врага.
— Надо действовать стремительнее, — сказал Павлов на заседании Военного совета. — В быстром продвижении залог победы, это единственное средство сохранить людей.
— Правильно, будем атаковать врага беспрерывно, — поддержал командующего Цвиллинг. Морозные ожоги на щеках, больно стягивая кожу, мешали ему говорить, улыбнуться было трудно, но глаза светились по-прежнему. — Лучше пасть в бою, чем застыть, как воробей под стрехой. Ведь только в стихах хорошо звучит: «Не плачьте над трупами павших бойцов». А душа все равно плачет. Вот был с нами Костя… С каким восторгом он стихи слушал!
— Не надо о нем! — попросил Коростелев, взглянув на Джангильдина. — Поэт прав: ни плакать, ни задерживаться мыслями на утратах нам нельзя.
— Отчего же! Думать об утратах необходимо, чтобы злее бить врага. — Павлов встал, властным взглядом военачальника окинул сидевших вокруг людей, которые были намного старше его, особо задержался на Кобозеве. — Значит, как договорились, Петр Алексеевич: сейчас артобстрел (там уж подкиньте снарядов с Ходаковым!) — и сразу в решительную атаку на станцию и водокачку. А ты, Самуил Моисеевич… шел бы лучше в санитарный вагон, отдохнул бы. Ведь в чем только душа держится.
— Потому и не могу отдыхать, что душа в теле не держится — рвется вперед. — И, уже спеша к своей воинской части, Цвиллинг, сердясь, подумал: «Решающая атака, а я буду у печки отсиживаться! Вот загнул! Молод, слишком молод ты, товарищ командующий, чтобы учить таких зубров, как я! — посмотрел на себя как бы со стороны, улыбнулся. — Хорош зубр! Скоро будет ветром шатать».
Продрало морозом по спине, и вся кровь будто застыла. Мир страшно сузился. Теперь Костя видел лишь двух смертельных врагов с винтовками наперевес, с казачьими кокардами на папахах. Идут, разваливая глубокий снег, громко переговариваются с кем-то на обрыве…
Подойдя поближе, закричали:
— Выходи!
— Где ты там, курощуп несчастный?
В руке одного появилась граната, и Костя мгновенно вообразил, как разнесет в клочья его живое, горячее тело эта штука. Никто не узнает, что он погиб здесь, в берлоге, которую завалит взрывом. И опять он пожалел о браунинге, оставленном в штабе, чтобы не схватили при первом же обыске, но вдруг его осенила надежда:
«Курощуп… Есть еще время как-нибудь выпутаться». Костя прижал к груди гуся с болтавшейся на длинной шее головой и вылез из укрытия.
Вид у разведчика был самый плачевный, и, увидя его, увоженного в снегу и желтой глине, с прямой уликой преступления, которую он даже не пытался скрыть, станичники разразились хохотом.
— От цыганско отродье! — утратив воинственный пыл, сказал тот, что, угрожая, поигрывал гранатой и снова прикрепил ее к поясу.
— Вора поймали, ваше благородье! — крикнул второй ожидавшим наверху.
Покосившись туда, Костя увидел на краю оврага морды взнузданных лошадей и мощного кривоногого вахмистра с нагайкой.
— Тащи его сюда! Разберемся, — без особого интереса ответили сверху.
Один из казаков повел перед носом Кости дулом винтовки.
— Ну, двигай, поганец!
У Кости чуточку отлегло на сердце. Пусть сочтут его за вора. Плетей, конечно, придется отведать. Без этого не выпустят. Но побои не так страшны для парня, который с детства привык к уличным дракам и потасовкам. Боль он вытерпит. Только бы вырваться на свободу.
— Где взял? — лениво процедил сквозь зубы вахмистр, но нагайка взвилась в привычной руке резво и разом выжгла багровый шрам на щеке Кости.
Обозленный болью Костя взглянул дерзко и прямо:
— На улице поймал.
— Ишь ты, ощерился, хорек! А ну марш вперед, в станице разберемся.
После этих слов Костя понял, что самое страшное ждет его, когда он встретится с Домашкой, у которой купил гусака.
Одно его спасение в звании вора. А если уплатил, зачем спрятался в овраге, вершина которого находится недалеко от позиций большевиков?
Подгоняемый ударами нагаек, Костя бежал рядом с лошадью урядника, держа под мышкой злополучного гуся — хотел было бросить его, но под угрозой выстрела поднял опять, — бежал и чуть не стонал от мучительного сознания совершенной и уже непоправимой глупости, непростительной для настоящего разведчика. А казаки вскоре будто забыли о нем и под дробный перестук лошадиных копыт по укатанной полозьями дороге громко говорили о последнем бое, о меткости Ходакова, командира красной батареи, слава о котором разносилась по фронту вместе с дымами его выстрелов.
— Бьет, вражина, в самую точку.
— Кладет снаряды, как патроны в обойму.
— Жарко было вчерась!
— Сегодня тоже трепанули наших. Долго ишо икаться будет.
— Атаман обещал подмогу выслать к Сырту.
— Щуплые они, эти юнкерья. А гимназистов и вовсе не посылать бы в окопы: хуже баб.
— У красных девчонки-сестры до чего отчаянные…
— А всего войска у Кобозева, говорят, двадцать тыщ…
— Насобирали! Солдаты — глядеть не на что: шваль да рвань, а так и прут на рожон.
Жгуче-морозный ветер бил в лицо, выжимая слезы, застывавшие на ресницах, но каким родным он казался теперь Косте, как и небо, слабо голубевшее между серыми зимними облаками. Может быть, уже сегодня все это исчезнет навсегда… Но на западе, где полыхает красная заря, то и дело бухают тяжелые выстрелы. Придут, придут сюда по следам Кости его товарищи. И Алибий Джангильдин, и Коростелев… Только станица-то уже надвигается кизячными дымками, мычаньем стад, идущих на водопой, и гуси (чтоб они сдохли!) звонко гогочут из края в край.
От первых домов погнались за конным взводом казачата, заскакивали вперед, заглядывая в лицо Кости, запаленного бегом, с детской веселой жестокостью бросали в него комьями мерзлого снега и шовяхами. И снова он думал, давя подступавшие рыдания: «Из-за своей дурости погибаю! Боец Красной гвардии, а, как мальчишка, попался!»
— Ну, сказывай, кто ты есть? — вперив сторожкий взгляд в Костю, спросил у избы правления станичный атаман — седобородый казак, окруженный такими же бородачами.
— Человек.
— Был бы человек, не прятался бы по оврагам, ровно волк голодный. Где птицу взял?
— Украл.
Собрание круга возмущенно загудело:
— Каков шельмец!
— Дерзкой, язви его! Знать, набил руку на воровстве…
— Чего с ним толковать! Пристрелить по законам военного время — и крышка!
— На што грех на душу брать по пустякам! Всыпать плетюгов — и айда.
— Убить гниду — в том греха нету.
— В каком дворе взял гуся?
— Не примечал в каком. Спросите, где недосчитались.
— Вона! У нас которы овцам счету не знают!
— Разобрались, господа старики? — Вахмистр, прискакавший со взводом, подъехал к кругу, ведя в поводу двух оседланных скакунов.
«Значит, за лошадьми пригнали», — машинально отметил Костя и насторожился, заслышав в улице девичий смех и говор.
Он не знал, что женщинам, как и молодым парням, самовольное появление на казачьем круге воспрещено, и отвернулся, чтобы не встретиться с любопытными взглядами девчат. Но вахмистр, сидевший на лошади, оглядев всю улицу и добротно одетых стариков, и Костю в тесном окружении их, и группу девушек, судачивших о чем-то у ближних ворот, сразу оценил обстановку, зычно гаркнул:
— Красавицы, не встречали ли вы сегодня в станице вот этого молодчика? Не слыхали, как серый волк гусей крал?
Девчата подошли поближе, а Костя ссутулился, опустив голову.
Вахмистр подъехал к нему, сунул сложенной нагайкой под подбородок:
— Гляди веселей, чего застеснялся? Боишься, хозяюшка за гусака глаза выцарапат? Не бойсь! Барышни у нас воспитанные, к порядку приученные: у себя на базу вора застанут — вилами запыряют, а когда он на круге — ручки в рукава. Смотрите, барышни наши дорогие, на этого вора!..
— Да он вовсе не вор! — сказала толстощекая Домашка, выступив вперед, и у Кости будто оборвалось сердце. — Он мне уплатил за гуся. Не торговался даже.
Костя выпрямился, пронизывающе-требовательно посмотрел в ярко-синие узкие глаза девушки:
— Не знаю я тебя, и никаких денег я тебе не давал.
Домашка опешила, наморщила гладкий низенький лоб, с усилием соображая: парня привели на круг, позорят, как вора, плетей ему не миновать, а он не хочет признаваться, что честно купил гуся, и ее же брехуньей выставляет перед людьми.
— Да ты, видать, умом тронутый! — вскипела она. — Поглядите, господа старики, у гуся одна лапка короче и крива. Хроменький он был…
Один из стариков взял гуся, растягивая, как гармошку, его крылья, высоко поднял. Со всех сторон потянулись к птице корявые руки землеробов, но и так уже было видно, что лапка у гуся действительно покалеченная.
Притихший было круг загремел от смеха:
— От Домашка добра хозяйка будет: всучила парню птицу с изъяном, а он и не торговался.
— Стой! Стой! — завопил вахмистр, хотя никто и не двигался с места. — Теперь понятно, почему этот молодчик с законной покупкой хоронился в овраге. К большевикам он пробирался, сучий сын. И никакой он не вор, господа старики, а самый настоящий большевицкий шпиен.
Костя еле на ногах устоял, но не произнес ни слова. И что можно было сказать?!
— Тогда другой разговор! — Станичный атаман кивнул своим старикам, которые мигом скрутили Косте руки и обыскали его. — Айдате все в избу!
Старики, подталкивая Костю, с азартным шумом устремились к дверям станичного правления. Привязав лошадей к воротним кольцам, взбежал на высокое крыльцо и вахмистр, грохая сапогами по ступеням, затасканным снегом.
Теплый пар, вырвавшийся из дома, был тут же развеян студеным ветром.
— Сказывай, зачем ты сюда явился? — спросил вахмистр, багровея лицом и обдавая Костю винным перегаром. — Кто тебя направил в наши тылы?
Молчит Костя, как воды в рот набрал. Все он тут высмотрел: склады фуража и мяса, клади хлеба, табуны лошадей, пригнанных для «ремонта», запасы «зарядов», из-за которых так беспокоилась «бабуня» Домашки, помнит все, о чем наказывали ему в штабе перед уходом, но молчит. И прямо в сомкнутый рот, по губам, брызнувшим кровью, по хрустнувшим зубам пришелся умелый удар, отбросивший его под лавку. Оттуда выбил его атаман пинком сапога. Костя вскочил, но удар в скулу опять сшиб его с ног: жестоко, сноровисто бил широкоплечий вахмистр.
— Это тебе задаток, — пояснил он, отдуваясь, — а теперь говори: кто тебя послал в Павловку?
Костя посмотрел в близко подсунувшуюся красную рожу. Убить можно было бы таким взглядом, но, неожиданно осененный, сказал со скрытой насмешкой, с трудом разомкнув окровавленные губы:
— Послал офицер бывшей царской армии… Теперь наш полковник… Захотел гусятины жареной. А как красный теперь командир, ворованного… или силком отобранного приносить не велел.
Какую-то минуту старики и вахмистр, сбитые с толку, помолчали.
— Ну не хитрюга ли?! — злорадно восхитился вахмистр, снова обретая дар речи. — Он, стало быть, и гуся-то купил для отвода глаз. Ну, большевицкий гаденыш (зелен ты одурачивать бывалого коренного казака!), сказывай, сколько войска у вашего Кобозева? Сколько орудиев и пулеметов?
— Я их не считал. Не умею считать.
— Зато я умею. Сымите-ка с него дерюжку! Рубаху я сам спущу вместе со шкурой…
Вскоре Костя будто под землю провалился, оглушенный, задавленный нестерпимой болью, но его окатили ледяной водой, и он очнулся, и вместе со смертной мукой в сознании его обжигающе остро возник разговор в штабном вагоне, когда Кобозев, смеясь, говорил, что «слухач» перехватил его телеграмму, добавил еще один нуль к числу бойцов отряда и так сделал войско в 20 000 человек. Дутовцы же этой цифре поверили…
Удар — взрыв дикой боли. Провал. Плеск студеной воды — и опять удар, разрывающий сердце. Крутятся в голове цифры: две тысячи, двадцать тысяч, сталкиваются круглые нули, высекая огненные брызги. И в этом полубреду кто-то говорит:
— Сейчас у нас три тысячи красногвардейцев. В отряде Джангильдина пятнадцать пулеметов. В отряде Павлова…
И так отчетливо возникли реальные цифры, что Косте показалось, будто он произнес их вслух, и от одного страха перед предательством он опять потерял сознание.
— Ничего… я не знаю, — прошептал он, когда к его заплывшим глазам снова наклонилось нечеловечески оскаленное лицо вахмистра, и уже не страх, а исступленная сумасшедшая радость завладела им, на минуту вытеснив ощущение боли: его еще истязали, значит, он ничего не сказал и ни за что не скажет.
— Ну ладно, — бросил наконец умаявшийся вахмистр старикам, сочувственно, с пониманием дела следившим за допросом. — Тощой, а силен, мерзавец! Умеет держать язык за зубами… Я на рассвете вернусь и тогда вырву ему язык вместе с горлом. А до той поры пускай померзнет в каталажке…
Жесткие руки подхватили Костю под мышки и волоком потащили через порог, вниз по ступеням, через двор, заполненный сумеречными тенями…
Брякнул засов. Громыхнул замок. Проскрипели звонко на снегу шаги уходивших палачей.
Долго лежал Костя в холодной темноте, потом пошевелил руками, ощупал липкий от крови каменный пол, с огромным усилием отодрал от него размочаленную спину, сел и, уронив голову в колени, снова уплыл в небытие.
Очнулся он от холода, проникшего в самое сердце, от странного шуршания за дверью. Поскрипывал снег. Тихонько что-то позвякивало, потрескивало. Костя сел прямее, уставился в непроглядную темноту: кто там? Проснувшаяся ненависть помогла ему подняться, ощупью нашарил он дверной косяк и вдруг попал рукой в пустоту — щель. Дверь медленно приоткрылась, а в морозном просвете звезды и темная сопящая фигура, точь-в-точь медведь, вставший на дыбы. Костя, не рассуждая, шагнул еще, и сразу откуда-то сбоку протянулась быстрая девичья рука, крепко сжала его запястье…
Где-то за плетнями, за навалами не то снега, не то соломы на крышах скотных базов, где сонно шевелилась, вздыхала, тяжело переступала скотина, двое накинули Косте на голые плечи и спину чистую рубаху, завязали рукава узлом под подбородком, напялили и застегнули полушубок, нахлобучили шапку.
— Это и есть наш Микита, — торопливо шептала Домашка. — Он у нас недоумок и немтырь, но добрый. Что скажешь ему, то и сделат. Вот ломиком замок выворотил. У меня с вечера до полуночи душа изныла. Дернул нечистый сунуться на круг! Теперича все перебесились: свои же друг дружку лупят! Вон кака кутерьма идет на Сырте… А тут за хромого гусака измолотили человека. Да шло убить грозятся. Дорогу помнишь? Силов-то хватит шагать? А то Микита проводит…
— Доберусь. А ты?
— Что я? Не узнают. Рази подумают на меня, а Микита не выдаст. А и узнают — не беда. Ежели батя отлупит, стерплю. Чай, уж не расстреляют!
Костя пошел было, но повернул обратно, взял руку Домашки, неловко пожал.
— Ну тебя! — тихо рассердилась она. — Уходи скорей!
В двенадцать ночи красногвардейцы с матросами ворвались на станцию Сырт. Взята была после ожесточенного боя и водокачка. Неровный свет от горевших на путях вагонов освещал скачущих сломя голову казаков с шашками наголо, отстреливавшихся на бегу юнкеров. Ускакали следом вражьи батарейцы и ездовые, обрубив гужи и постромки, побросав пушки, умчались штабные и обозники.
Красногвардейцы, в прожженных у костров шинелях, ватниках, бухарских халатах, одеялах, накинутых на плечи и припоясанных к чреслам, неудержимо растекались по перрону станции и поселку. Яростно шагали разгоряченные матросы, далеко приметные в своих бушлатах с перекрещенными на груди пулеметными лентами. На многих были повязки, олубеневшие от крови.
Павлов наскочил на Кобозева стремительно, потрясая наганом, бешено сверкая глазами:
— Ура! Наша берет!..
Кобозев, сам еще не остывший от азарта схватки, оглянулся на красногвардейцев, вместе с матросами прочесывавших перрон, поднял над головой винтовку.
— С победой, товарищи! Еще один бросок, и мы будем в Оренбурге.
Разноголосое «ура!» взмыло в ответ под пологом плывущего сизого дыма, расшитого червлеными искрами.
— Вот где тепло-то! — говорили пестро одетые юнцы и кудлатые бородачи, теснясь возле горевших вагонов, быстро превращавшихся в груды ярко тлевших досок.
Лица, прокопченные порохом и дымом, обожженные морозом, сияли: наконец-то отдых, и, может быть, до утра.
— Возьмем еще Каргалу — и дома.
— Щей бы горячих…
— Чайку бы!..
— Чаек с хлебом мы и здесь сварганим. Поди-ка, казаки не все стрескали.
— Эх, в баню бы с веничком!..
— Когда по-черному топится, еще лучше: у нас в деревне каменка так и стреляет паром.
— Ка-ак шарахнет рядом — наших деповских будто не бывало. Шесть человек…
— Что шесть! Тут большие сотни полегли.
— Мерзляков дутовских по всем окопам — не пролезешь…
— Рубанул он моего земляка — и голова слетела. А я его самого штыком достиг.
— Товарищи, подошли походные кухни! — крикнул Александр Коростелев. — Нашлись в складах у казаков крупа и сало. Кулеш будет богатый. И водки выдадим по доброй чарке.
Тут уж грянуло дружное «ура!». И пошло греметь отголосками по путям, перекинулось в поселок, где коченели от страха сторонники Дутова, ожидая на постой красных гвардейцев.
Вихрастый паренек с винтовкой за плечами, гревший босые ноги у огнища, скинув вконец разбитые лапти, так босиком и ударился плясать по притоптанному снегу, пока боец из своего подразделения не просунулся сквозь смеющуюся толпу и не поманил его разношенными, но еще целехонькими валенками.
В шуме и веселой толкотне у дымившихся кухонь стоял Джангильдин, в забывчивости держа пустой котелок и ложку. Все о Косте он думал, которого полюбил, как родного сына. Александр Коростелев подошел к нему, взял под локоть:
— О чем загрустил? Айда, покуда из котлов остатки не вычерпали. Твой Бахтигорай как настоящий этапный комендант действует в поселке, но, видно, не придется нам здесь нежиться на постое. Сейчас я разговаривал с Павловым и Кобозевым — через полчаса военный совет. Павлов предлагает немедленно двигаться дальше, пока казаки не опомнились от удара. Сырт у них был самым сильным укреплением, и они еще не подготовились для отпора на ближних подступах к Оренбургу. Павлов думает наступать дальше по трем направлениям: матросы по железной дороге, тебе с Бахтигораем идти к Павловской станице, мы, железнодорожники, выступим с другой стороны линии.
— На Павловку? Хорошо! Я за своего Костю тряхну казаков. Убили они его — факт!
— Что же теперь делать! Помнишь, говорили о здешнем телеграфисте Василии Яковлевиче, я его еще Васютой называл (очень уж он молодо выглядел). Так вот рабочие на станции сказали, будто уводили казаки с телеграфа одного паренька, арестованного ими. Конечно, это Васюта, тот «слухач», которого Петр Алексеевич назвал драгоценным мальчиком.
Подошел Павлов, заглянул в пустой котелок Джангильдина:
— Вы, товарищ Алибий, похоже, голодовку объявили? Скорее заправляйтесь. Вернулась с разъезда разведка. Говорят, закрепляются казаки впереди. Готовят нам жаркую встречу с трехдюймовыми пушками. Что вы на это скажете?
— Тут, на Сырте, пушек было более чем достаточно, однако сумели мы… Взяли.
Дутов с трудом читал телеграмму:
«Красные, не задерживаясь на Сырте, выступили по направлению к Оренбургу тремя отдельными отрядами: эшелонами по линии, трактом на станицу Павловскую и по другую сторону железной дороги. Продвинулись с жестокими боями и, сломив наше сопротивление, взяли Каргалу».
В глазах рябило, и так билось сердце, что руки тряслись, однако не от приступа страха: ярость душила Дутова.
Все эти дни он в спешном порядке формировал новые отряды и отправлял их на фронт, стремясь сдержать натиск противника, но его усилия ослаблялись непокорством казаков-фронтовиков, не хотевших воевать с Советской властью. Сковывало энергию атамана и упорство забастовщиков. Машинистов и кочегаров приводили на паровозы под конвоем, и все равно они умудрялись или сбежать, или устроить в пути какую-нибудь аварию. Штрейкбрехеров награждали, платили им бешеные деньги, но их тоже приходилось сопровождать вооруженным казакам, чтобы по дороге на вокзал с ними не расправились рабочие пикеты. Участились поломки вагонов, простои паровозов, неисправности явно поврежденных путей. Забастовщиков уговаривали, пороли, арестовывали, некоторых расстреляли для острастки, но рабочие не повиновались. Какие-то мальчишки и девчонки — оголтелые лазутчики — лезли из всех щелей, сообщая красным о каждом движении дутовцев.
«Не мудрено, что не удалось удержать Сырт!..» — Дутов оттолкнул тарелку, поставленную перед ним горничной, сорвал салфетку с груди и, смяв, швырнул на скатерть. Звякнула, обезножев, хрустальная рюмка, опрокинулась серебряная солонка. Жена посмотрела испуганно, незаметно перекрестила тонкими пальцами рассыпавшуюся соль. А Дутов, перекипев в короткой вспышке, со странным спокойствием уставился на нее тяжелым, невидящим взором:
— Взята Каргала. Придется сражаться в Оренбурге.
Мертвенно побледнев, женщина метнулась было в сторону детской, но покорно замерла, повинуясь властному окрику мужа:
— Детям ни слова!
Звонок телефона заставил вздрогнуть обоих.
Знакомый голос коменданта города, только обращение без всяких формальностей, без привычного подобострастия:
— Получено сообщение… Вооруженные отряды местных рабочих захватили станцию Оренбург… Казаки разбежались.
— Почему разбежались? Кто позволил? Где командиры?
В трубке тишина. Потом что-то пискнуло, и послышался тот же голос, но уже совсем растерянный:
— Нам тоже надо бежать!..
Дутов швырнул трубку и на мгновение остолбенел: торжествующе грозно заревели заводские гудки, так долго, так упорно молчавшие. Вдруг безмерно устав, атаман подошел к жене, сразу подавшейся к нему, погладил по плечу и со стыдом подумал: «Защиты ищет, а защитить не могу».
— Вы останетесь здесь. Что потребуется — к отцу Мефодию. Детей береги. И не бойся: они… большевики, вас не тронут. — Болезненно поморщился, подавляя судорогу в горле. — У них это… показной гуманизм. А мы скоро вернемся.
Бешено проскакал он со своей охраной к штабу по опустевшим улицам. Багрово светился закат, и на фоне тлевших над степью заревых пожарищ мрачно, чугун-но чернели большие доходные дома с редкими огоньками в окнах. Обреченно стояли особняки богачей. Жалко дребезжали колокола в церквах, напрасно призывая к вечерне: темно и слепо глядели на обезлюдевшие мостовые наглухо закрытые окна горожан. Никто еще не знал, что казачьи войска, оборонявшие подступы к городу, и гарнизон его получили приказ отступать на восток и на юг в степные форпосты оренбургского войска, но обыватели, присмиревшие после падения Сырта, вовсе затаились, заслышав перестрелку на вокзале и то, как вдруг победно, на всю округу затрубил мощный гудок главных мастерских, перекрывая голоса других заводов, мельниц и паровозов, поднялись, закипели рабочие окраины.
«Не удержались. Уронили казачью славу. Не оправдали доверия станичников, надежд всего народа христианского!» Тяжесть этих мыслей так и давила атамана, когда он входил в здание штаба.
Надо было забрать деньги из несгораемых шкафов… Деньги и секретные документы. Но, твердо помня об этом, Дутов двигался машинально, как автомат. Словно отходная молитва, звучали в его ушах слова отца Мефодия, теперь архиепископа оренбургского, к которому он заскочил по пути, чтобы вручить ему судьбу детей и жены. Мефодий, с поразительным самообладанием встретивший весть о разгроме на Сырте, остался верен себе и сейчас, узнав от атамана о поспешном отступлении казачьего войска, об эвакуации штаба.
— Примем, как наказание господне, тяжкие испытания, выпавшие на долю нашу. Верою святою укрепимся и выстоим там, где сила оружия земного поколеблена. — И уже просто, буднично и оттого еще более уничтожающе добавил: — О семействе вашем позаботимся. Ведомо и нам из верных источников, что не взыскивают с младенцев богом проклятые красные варвары.
— Не смогут они удержать власть, — вспыхнув, сказал атаман. — Народ восстанет против узурпаторов.
— Народ темен и дик, а десница власть имущего тяжела.
— Понимаю, отец Мефодий. Мы вернемся во всеоружии.
Тихо в штабе, пусто. Пусто и на душе.
Легко сказать: вернемся во всеоружии. Но как это сделать, когда казачье войско превратилось в стадо бегущих овец? Сдали вокзал городским оборванцам… Позор!
Дутов учинял в своем штабе настоящий разгром. Со звоном открывались замки несгораемых шкафов, летели на стол пачки секретных писем, документов, деньги. Разбирать было некогда. Торопясь и прислушиваясь, он рассовывал по карманам деньги, тискал в портфель бумаги, бросал драгоценные вещи в переметные кожаные сумы.
Так все копилось, будто между прочим: то дары купечества, то промышленники и фабриканты подкрепляли свои челобитные… Рука дающего не оскудевает…
Бросился в глаза листок настольного календаря: 17 января 1918 года.
На исходе этот зимний день. Последний день власти казачьего атамана.
— Последний сегодня. Но борьба еще впереди. Пусть испытают эти трусы, каково-то сладко живется при комиссарах! Мы придем и поистине железной десницей наведем порядок. — Большим, но уже рыхловатым кулаком Дутов погрозил в ту сторону, откуда входили в пригород отряды матросов и железнодорожников, по-волчьи повернувшись, посмотрел сухими ожесточенными глазами на икону, перекрестился, склонив в поклоне непокорную шею, потрогал туго набитые карманы, перекинутый через плечо планшет, хотел уже позвать ординарца — вынести тяжелые сумы, но невольно замедлил…
Серая крыса, шлепнув о пол мягким животом, свалилась из-за драпировки с подоконника, уставилась на атамана бусинками свирепых глаз и, важно волоча рубчатый волосатый хвост, направилась к шкафчику, где обычно ставили на ночь холодную закуску.
— Брысь, погань! — Дутов швырнул книгой, но крыса, обнаглевшая в последнее время, когда он часто уезжал, спокойно обнюхала ее, и в этой безбоязненности было тоже что-то зловещее…
Дутов резко отвернулся — позвал ординарца. Лошади были уже поданы, и, подходя к двери, он услышал, как, переминаясь, били у подъезда копытами нетерпеливые пристяжные.
Преданный ординарец заботливо окутал его колени медвежьей полостью, подоткнув ее снизу, и сам, цепко придерживая винтовку, сел рядом в широкую кошеву, ерзавшую от нетерпения резвых лошадей. Тронулись. Отряд охраны поскакал следом, и невольно пришло в голову: не все явились, и эти отстанут по дороге к Верхнеуральску в своих станицах, — что нужды казакам охранять погоревшего атамана?!
Не звенел колокольчик, не плясали, как бывало, валдайские бубенцы: молча покачивалась, подрагивала дуга, держа в траурном полуовале высоко вскинутую голову коренного.
Кругом уже раскинулась степь. Синели мертво сугробы в тусклом свете волчьего солнца — месяца, разбойно смотревшего из грязно-желтой мглы. Косо стелясь по наезженной дороге, бежали рядом с вороной тройкой живых коней их черные чудовищные тени.
Ветер дул с полуночи, но другое леденило кровь в жилах: позади, под белым саваном снегов, остались лучшие сыны казачьего войска. Ни огонька в голых лесах речных пойм, затаились в страхе казачьи станицы: что-то принесут им на остриях штыков красногвардейцы и их главари — комиссары? И снова со стыдом думал Дутов:
«Не устояли. Обманули общее доверие!»
В Неженке отряд начал таять, и стало известно, что тут был сход, на котором казаки-фронтовики кричали, что надобно задержать и арестовать атамана.
Гордый в своем властолюбии, Дутов еще обнадеживал себя мыслями о былой крепости казачества, о его врожденной воинственности, но в Верхне-Озерной узнал, что за его поимку будто бы обещана большевиками денежная награда, и уже многие казаки поколебались в своей верности войсковому правлению. Дутов рассвирепел, явился на круг, бросил папаху оземь и с гневом сказал:
— Что-то вы вроде отощали, станичники, смотрите на меня, как голодные волки. Неужели так бедно у вас, что не дает вам покоя большевистская награда? Ну что ж, заработайте на моей голове. Рубите ее и везите в мешке с повинной.
Обвел злобно сверкающим взглядом собравшихся. Молодые отвели глаза, а старики засуетились, поспешили накормить ужином, подать лучших перекладных, но и в этой торопливой услужливости сказывалось лишь желание поскорее избавиться от опасного теперь гостя, сквозил страх за свое благополучие.
Дальше тройка помчалась по берегу Урала к живописному Губерлинскому ущелью, по бывшей царской дороге, вдоль причудливо заиндевелого пойменного леса, где проезжал по пути в Японию, будучи еще наследником императорского престола, Николай Второй. Вся губерния сотрясалась тогда от грома салютов, от грохота копыт, от казачьих песен и лихого свиста. Смотры. Молебны. Подарки. Ордена. Балы. Какая веселая, какая полная жизнь шла в Оренбурге, пока тысячи каторжников и рабочих день и ночь дробили кувалдами камни по дну Губерлинского ущелья, чтобы проложить дорогу царскому поезду. Потом пышные проводы. Толпы народа в степных станицах, а здесь по сопкам, поросшим жесткой травой, скалящим черно-серые каменные зубы по обе стороны ущелья, гарцевали на всем пути до поселка Хабарного и дальше до города Орска лучшие джигиты казачьего войска.
«Ах, Россия-матушка, протянувшая руку Сибири через Уральский пояс, через хлебные, рыбные, богатые стадами и табунами оренбургские степи, прими поклон от сынов древнего Яика», — так начиналась одна из статей Дутова в «Оренбургском казачьем вестнике»… Все позади. Не приняла атамана Россия. И впереди одна зыбкая мгла.
«Как было не поклониться нам матери-России, которая породила двенадцать казачьих войск, каждое на своей привольной земле? Неужели смирится, сойдет на нет такая силища?»
В поселке Хабарном, в семнадцати километрах от Орска, вокруг которого уже стояли рабочие пикеты, Дутова ждало самое постыдное унижение: казаки на круге решили арестовать его, и он с ходу попал в недружелюбно настроенную толпу.
Насквозь прохваченный ознобом, стоял он в кошеве, вытянувшись во весь небогатый рост, будто не замечая казаков, державших под уздцы его лошадей, смотрел поверх толпы на добротные дома, на заснеженные голые предгорья у входа в Губерлинское ущелье, потом обернулся к Уралу, спавшему рядом в заваленных сугробами лесах, низко поклонился ему и сказал:
— Ну что ж! Арестовывайте!
Но казаки и здесь отступили, смущенные его необычным поведением, а один несмело промолвил:
— Мы не думали, что вы такой…
— Я всегда такой. Не моя вина в том, что дрогнуло перед вшивой ордой казачье войско.
Выехав из Хабарного только с самыми верными офицерами и ординарцем, он снова вспомнил сияющий осенний день в Оренбурге, когда ему торжественно вручали атаманскую булаву. Как хорошо все начиналось, суля славу спасителю России, делая доступными для него любые радости жизни! А Рогнеда? Ее огненные глаза, голос, мощный и нежный: «О, если бы никогда я вновь не просыпалась…»
Да, после такого падения, после такого страшного разочарования хотелось только одного: уснуть и не проснуться.
Дутов потрогал револьвер в нахолодавшей кобуре и гневно отдернул руку: «Не бывать тому! Мы еще вернемся. Мы заставим это хамье дорогой ценой расплатиться за все. Не будет России царской; но не быть ей и большевистской!»
Утром 18 января в Оренбург входили отряды бузулукской Красной гвардии…
Дедушка Арефий, без шапки, в развевавшейся на ветру рубахе, не чуя холода, бежал навстречу красногвардейцам. Слезы застилали ему глаза, и он спотыкался, падал и снова бежал, шаркая разбитыми пимами.
— Голубчики!.. Родимые!.. — смеясь, и плача, и не замечая своей слабости, твердил он, когда крепкие руки обхватили его ребрастые бока и тощие плечи. — Дожили… Дождались!..
Со всех сторон сбегались в рассветных сумерках к отряду женщины, старики, дети. Пашка и Гераська, при захвате вокзала исполнявшие обязанности разведчиков, вели себя как все их ровесники-мальчишки: врезались в самую гущу идущих с песнями бойцов, хватались за приклады винтовок, жевали скудные, но от души преподнесенные гостинцы.
недружно, но громко пели красногвардейцы.
Тетка Палага, держась за рукав Кости, шла рядом, смотрела на него и все не могла поверить, что этот вытянувшийся парень в полушубке с чужого плеча, с распухшим лицом, покрытым кровоподтеками, — ее «старшенькой».
— Как они тебя, Костенька!.. Ну ин жив остался!
Маленькая Антонида в полушалке и платке, туго стянутом узлом на спине, тоже семенила возле брата. Отстав от бойцов, идущих вольным строем по ухабистой дороге, Костя завернул с матерью к родным землянкам, а отряд вошел в распахнутые ворота завода, где собрались рабочие. Митинг возник почти стихийно.
— Мы ждали дня победы, как праздника. Но праздник этот не пришел к нам милостью божьей. Мы его завоевали. Кровью своих братьев. Напряжением всех сил рабочего класса и беднейшего крестьянства, — сказал неузнаваемо худой и обветренный Александр Коростелев, окидывая собравшихся мягко светившимся взглядом. — Земной поклон вам, товарищи, за железную стойкость в борьбе. Жаль только, что успел удрать Дутов, улизнул от справедливого суда народного.
— Дутова мы упустили, точно, но сейчас без войска он не страшный, — ответил на упрек Александра Андриан Левашов. — Пускай бежит, все равно никуда не денется. Покуда возле него стража стояла с пулеметами, зачем нам было своих людей на расстрел подсовывать? Мы казачишек знаем с их кулацкой душонкой: силен был Дутов — льнули к нему, проиграл — мигом отвалятся. Теперь они атамана сами нам выдадут… А чтобы не ожила опять эта контра, надо нам трудиться не покладая рук, но оставаться при оружии.
После митинга приступили к выдаче хлеба. Многие жители Нахаловки, принимая мерзлые караваи от красногвардейцев, крестились, но никто не одергивал их за это: каждый выражал свои чувства по-своему. Федор Туранин тоже нес домой хлеб и чуть было не прошел мимо Кости. Только радостно оживленное лицо жены подсказало Федору, кто перед ним. Передав ей хлеб, Федор обнял сына, но по тому, как тот дрогнул, понял: нагайками обработан. Однако кузнец даже усмехнулся, отвечая на вымученную улыбку изо всех сил бодрившегося Кости.
— Спасибо, сынок! Молодец!
Выбрался из землянки и Митя, вскинул большие руки на плечи Кости, которого узнал по голосу, и ахнул, увидев, как его отделали.
— Это ничего, — заверил Костя, — на спине хуже — тронуть нельзя, а все будто сговорились, тискают, аж до слез!
— Значит, и ты сподобился! — Дедушка Арефий, успевший малость приодеться, сочувственно покачал головой: — Пороть казачишки мастера. Ладно, что руки-ноги не повыдергивали, злодеи, а спина до свадьбы заживет. Теперь и наш Митек пойдет на поправ. Слава богу: все живы, и я, старый хрен, при такой голодухе выдюжил. Однако ж, как это ты, Костя, сумел вырваться из ихних лап? Знать, не все в ус да в рыло, ино и мимо.
— Помогли… Среди казаков есть и добрые люди. Но хорошо, что наши сразу пошли навстречу — в наступление — подобрали меня. Сам до Сырта не добрался бы — закоченел бы на дороге.
— Заходи к нам, кипяточком погреешься! Товарищев зови. Хоть не красна изба углами… не похвалимся и пирогами, конечно. Забыли уж думать о пирогах-то! Однако все-таки под крышей.
— Спасибо, дедушка, нас на постое в городе разместят… Мы на казарменном положении остаемся.
— Неужто ишо пойдете воевать?
Подошел Харитон, неся булку хлеба, узнав Костю, просиял:
— Здорово, дружище! Эк тебя угораздило… Будто на кулачки выходил! Хотя оно так и есть — драка шла смертная. Немного дней проскочило с нашей встречи в Бузулуке, а дел произошло — в год не уложишь.
Дедушка Арефий принял булку от внука, передал Наследихе, снова выбежавшей из землянки.
— Чего вы тут толчетесь на таком ветру? Айда домой! Самый злой мороз на рассвете. — Евдокия Арефьевна подняла хлеб на ладонях, засмеялась по-девичьи молодо: — Ну вот и с праздником! Дождалися!
После того как были расставлены караулы, а бойцы размещены на квартирах, командиры отрядов и местные руководители собрались в облюбованном для штаба пятиэтажном доме возле гостиного двора.
Цвиллинг с удовольствием расхаживал по просторной комнате богатого, теплого дома. Впервые за много дней он скинул полушубок, шапку, осточертевшие ремни военной «сбруи» и, освобожденно вертя тонкой шеей в белом подворотничке (когда только успел сменить!), усталый, но счастливый, возбужденно говорил:
— Задачи мирного строительства будут, пожалуй, не легче вооруженной борьбы с контрреволюцией. Все разрушено. Финансов нет. Кадров тоже не имеем.
— Наш актив почти сплошь рабочие, незнакомые с административной работой, а чиновники, самая образованная и обеспеченная здесь прослойка, относятся к нам враждебно, — напомнил Коростелев. — Нам предстоит теперь на практике доказывать то, что, взяв власть, пролетариат сможет овладеть культурой и наукой, чтобы управлять хозяйством страны.
— Первым делом надо создать отряды постоянной Красной гвардии и подобрать командный состав, — заявил Павлов, совсем не склонный к благодушию от ощущения тепла и покоя.
Он только что вместе с Александром Коростелевым ходил по комнатам пятого этажа, где устроили госпиталь для раненых матросов. На какую-то минуту они задержались там у окон, любуясь с высоты видом освобожденного ими Оренбурга. Взглянув на командарма, Коростелев — в который раз! — поразился его юности: «Вот они, двадцать лет!..» А тот широким жестом показал на город:
— Ворвались в гнездо буржуазии, и полный революционный порядок: никаких погромов. И этот дом для штаба — лучше не подберешь. Вы там, внизу, разместитесь свободно, а тут наши моряки. В тепле будут ребята, и медицинская помощь им обеспечена. Когда я уйду с отрядом, возьмите шефство над ними, чтобы поскорее вернулись в строй.
— Обязательно! — заверил Коростелев.
Сойдя вниз, они оба ощутили вдруг чувство томительного беспокойства, которое охватывает друзей перед разлукой. И теперь уже Павлов с особым вниманием присматривался к Коростелеву, вчерашнему рабочему, а сегодня хозяину города.
— Есть приказ, чтобы мы перед уходом нашего летучего отряда организовали здесь надежную охрану спокойствия, — обратился он к своим новым товарищам. — Надо создать настоящий красногвардейский гарнизон. Усилить работу штаба, подобрав опытных военных людей.
— Сообщил Ленину об освобождении Оренбурга, — сказал вошедший Кобозев, которого вызывали для разговора по прямому проводу. — Владимир Ильич передает благодарность ЦК и Совнаркома нашим командирам и красногвардейцам. Он рад победе. Советует смело выдвигать своих руководителей и в военном деле.
Джангильдин, отдыхавший в массивном кресле у письменного стола, широко и прочно стоявшего на блестящем паркете, вскинул руку, требуя внимания.
— Я знаю одного казака-фронтовика, правда, в армии он служил фельдшером, но в военком деле понимает. Предлагаю избрать его начальником нашего штаба.
Павлов задумался: «Фельдшер — и вдруг начальником штаба!» — однако посмотрел на Кобозева, Цвиллинга, Джангильдина, Александра Коростелева и улыбнулся: все они до этой осени не держали в руках винтовки, а стали командовать отрядами, которые разбили войска атамана, известного не только в России, но и за границей.
— Хорошо! Введем фельдшера в состав штаба, а начальником все-таки надо избрать не его, а красногвардейца — бывшего подпрапорщика Георгия Занузданова.
— По фамилии-то и он как будто из казаков? — заметил Александр Коростелев.
Кобозев быстро взглянул на него и сказал с необычной запальчивостью:
— «Лошадиная фамилия» не обязательно говорит о казачьем происхождении. Батраки тоже с лошадьми имеют дело, а Занузданов батрак потомственный. Перед войной забойщиком работал. На фронте произведен в младшие офицеры за боевые отличия. А ко мне прибыл с вооруженным отрядом в триста пятьдесят человек прямо с фронта и показал себя храбрецом и отличным командиром.
— Это и я могу подтвердить, — сказал Цвиллинг. — Страха он не знает.
— Значит, я не ошибся: Георгий Занузданов — самая подходящая кандидатура для начальника штаба, — заключил Павлов.
— Да ведь я тоже не возражал против Георгия, — с живостью вскинулся на товарищей Коростелев, желая пояснить свой нечаянный выпад. — Знаю — он в Самаре целую батарею Ходакову передал, мне об этом сам Ходаков рассказывал. Просто я насчет его биографии поинтересовался.
— Мы тоже знаем тебя, железноупрямого! — сказал Кобозев и со смехом добавил: — Ортодокс и аскет. Помнишь, вечеринка у нас была, когда тебя выбрали председателем первого Совета рабочих депутатов? Девчата тогда в клубе частушку про тебя спели?
Александр поощрительно махнул рукой:
— Давай высмеивай!
— Какую же частушку? — весело поинтересовался Павлов.
И что-то еще в этом роде.
Все захохотали, а Коростелев, слегка покраснев, сказал:
— Будет время, вы еще увидите, какой я озорной. А пока надо серьезными делами заниматься. Созовем немедля Совет депутатов, чтобы организовать Военно-революционный комитет. Во главе следовало бы поставить опять Цвиллинга.
— От имени ревкома обратимся к населению: укреплять Советскую власть в Оренбурге, создавать ее в уездах. Объявим и об организации новых отрядов Красной гвардии, — увлеченно заговорил Цвиллинг, представляя всю сложность работы и заранее радуясь возможности участвовать в ней.
— Учтите, товарищи: хотя Дутов и сбежал, но он еще покажет себя. Он не из тех, кто легко сдается, — напомнил Александр Коростелев.
Отряд красногвардейцев прошел под окнами. Над городом, посылавшим седые дымы в розовое утреннее небо, волнующе гремела песня:
Ветреной лунной ночью черная тень всадника заслонила окно, и резкий стук всполошил дом Шеломинцевых.
— Кого там черт принес? — осипшим спросонья голосом спросил из теплой духоты спаленки Григорий Прохорович. — Эй, бабы, вздуйте огня!
Легко шелестя по полу босыми ногами, Харитина пробежала через кухню к загнетке печи, зашуршала углями, добывая жар. Вспыхнувший на лучине огонек просветил ее прозрачно-порозовевшие ладони, порхнул под стекло лампы и сразу вытянулся широким ровным языком, бросив по углам черные тени, выделив из темноты лицо Домны Лукьяновны с оплывшими щеками и жирные плечи, обтянутые ночной бумазеевой кофтой.
Уже прошел слух о победах красных под Новосергиевкой, Покровкой, Переволоцком, о жестоких боях на Сырте, поговаривали о возможном наступлении рабочих отрядов на илецкие станицы, и сразу упало воинственное настроение в казачьем тылу. Ждали беды.
Григорий Прохорович, отпущенный недавно из Оренбурга «по случаю перелома ключицы булыжником», придерживал дрожащей рукой (другая подвязана в лубках и гипсе) накинутый прямо на исподнее полушубок и, не попадая босой ногой в валенок, нервничал, шипел на жену:
— Да глянь ты в окошко, колода! Что там, во дворе-то? Аглаиду разбуди. Надо же так дрыхнуть, как убита!
— Батя, наши! Михайло вернулся! — закричала обрадованная Харитина, в лифчике и нижней юбке вертевшаяся у окна. — Фрося калитку открыла, и Нестор там…
— Один Михайло-то? — чуя неладное, спросил Шеломинцев и сам полез к окну, отпихнул по пути ошалевшую Аглаиду.
Проснулись, захныкали дети, и все-таки ухо старого кавалериста услышало и через двойные рамы, как стукнула копытом о подворотню лошадь, как бодро спрыгнул с нее всадник.
— Видать, цел прискакал! А Николай? Чего они там рассусоливают? Бегите, кличьте их в горницу!
Харитина, кутая плечи пуховой шалью, стремглав бросилась к двери, рванула тяжелый засов в холодных сенях, где под крышей шуршали от сквозняка заготовленные веники, выскочила на крыльцо. Следом громко топала тоже полуодетая Аглаида.
Михаил, держа в поводу коня, вполголоса, горячо говорил что-то Нестору, все еще опиравшемуся на костыль. Фрося стояла возле мужа, отчужденная, пряменькая. Узкая тень ее косо и длинно чернела на утоптанном снегу рядом с головастыми в папахах тенями мужчин и огромной — лошади.
«И тут на особицу!..» — неприязненно подумала Харитина. Она втайне завидовала жгучему счастью Фроси, холившей и нежившей своего мужа, в то время как все молодые казаки стыли в окопах, а их жены, бодрясь на людях, роняли по ночам слезы в подушку.
— Мишаня… Здравствуй, муж дорогой! — Аглаида, отстранив Нестора с Фросей, поклонилась в пояс прибывшему, поклонилась и коню его (привез хозяина жива-невредима), забрала повод и недоуменно оглянулась на окно, в переплет рамы которого, презрев все казачьи обычаи, яростно садил кулаком Григорий Прохорович.
— Идите в горницу. Папаня сердятся — ждут. Они нынче раненые.
— Чего это? Когда его?
— В Оренбурге. Забастовщики булыжиной кинули.
— Мишаня!.. — Харитина порхнула к брату, обняв и целуя, спросила в упор: — Где Николаша?
Михаил замялся, отвел глаза.
— Куда он делся? — Она вцепилась в плечи брата, тряхнула его с неожиданной силой. — Раз ты возвернулся, стало быть, опять бросили фронт казаки? Будь она трижды проклята, война эта ваша! Где Николай?
— Погоди, сеструшка, дай оглядеться… Николай совсем в другой части служил. Я на Сырте, он — на шестнадцатом разъезде. Поди-ка, тоже скоро прискачет.
— Неужто сдали Оренбург? — спросил Григорий Прохорович, нетерпеливо шагнув через порог сеней и в сердцах отталкивая Домну Лукьяновну, порывавшуюся напялить ему на голову шапку.
— Сдали, батя.
— А где же атаман?
— Убег.
— Дожили! Такого позору, такого сраму не знало еще войско казачье!
— Не мы одни, батя, потеснены большевиками: вся Расея им покорилась.
— Расея нам не указ! Мало чего они там придумают! Им терять нечего: на кожану куртку стару рубаху променять не жалко.
Шеломинцев потеснился у двери, пропуская сыновей и невесток в дом, углядел Харитину, побежавшую в летнюю кухню, где жили молодожены:
— А ну, вернись! Чего заливашься? Или с Николаем неладно?
— Пропал он, батя! Мишаня помалкиват, скрыват беду, а я сердцем ее чую.
Григорий Прохорович дрогнул, заспешил, догнав Михаила за порогом, опустил на его плечо твердую руку, рывком повернул к себе:
— Сказывай, где Николай?
Михаил покосился на Харитину, застывшую в двери, словно подстегнутый выражением отчаяния на ее лице, разлепил непослушные, онемевшие губы:
— В Каргале… Я не видел. Станичники передали… — И, глядя, как замертво повалилась Харитина, подхваченная Фросей и матерью, добавил с ожесточением: — Снарядом его разорвало.
Всю ночь раздавались крики и рыдания в доме Шеломинцевых. Но не только в их двор вошло горе: вопили и у Ведякиных, особенно голосила Алевтина, исторгая слезы даже у сурового Демида. Сдержанно, но искренне оплакивала деверя Дорофея, после женитьбы Нестора замкнувшаяся, точно монашка.
Горевали и в других домах. Плач и причитания бились над взбудораженной станицей, летели в степь, залитую молочным светом, далеко разносились над черно-белыми кружевами, сплетенными луной в заваленной снегом пойме.
Лежа возле Нестора на кошме, в которую по здешнему обычаю была завернута перина, кутая плечи стеганым одеялом, Фрося вслушивалась в эти неугомонные вопли, холодящие сердце. И то ловила сонное дыхание мужа, то будто уплывала всеми мыслями и чувствами из жарко натопленной кухоньки в родную Нахаловку.
«Радости-то сколько там! Дождались-таки своих, вытерпели все — и голод, и утеснения. Бежали, поди, навстречу красным гвардейцам, смеялись и плакали от счастья. И от горя, наверно, многие плачут, нелегко ведь было разбить казаков, наторевших в военном деле. Может, и у нас кого убили?» При этой мысли у Фроси так сдавило горло, что дыхание остановилось и глаза затопило слезами.
«Господи! Только бы не отца! Только бы не Харитона! Митя-то все еще болеет, наверно. Да как же я отбилась от них? — Боясь шелохнуться, Фрося обеими руками тихонько вытерла глаза, а слезы все текли, щеки стали мокрыми, губы солеными. — Жила бы дома, вместе с Виркой раны бы своим рабочим перевязывали. А то сегодня Михаила встречали, а он оттуда прискакал, и кровь наших людей на нем. Господи, прости меня, проклятую! Не зря папаня с маманей нас не приняли и все наши гостинцы Харитоша за ворота выкинул. Ведь он добрый был раньше!»
Однажды в яркий летний день, она бегала с девчонками по глинистому сухому берегу Сакмары. Клевали по-птичьи ягоды ежевики, черно-сизые, завяленные знойным солнцем на колючих плетях, а потом, сами разморенные жарой, полезли в реку купаться.
Острые камни на дне ее были покрыты скользким илом, быстрые тугие струи так и тянули за подолы рубашонок, но купанье освежало и радовало. На другом берегу мальчишки из Нахаловки ловили рыбу, и девочки, тоненькие, точно камышинки, уже «соблюдали стыдливость» и, совсем как взрослые женщины, стягивали горстью воротники намокших станушек над крохотными бугорками грудей.
И вдруг Фрося, не умевшая плавать, убегая по течению мелкой реки от расшалившейся Вирки, ухнула в черную глубину. Будто ударили по глазам, сжалось горло, и все оборвалось. Очнулась она на берегу: неловко висела подхваченная под живот, раскинув руки, уткнувшись лицом в траву, а тот, кто держал ее на весу, все время встряхивал и сильно бил по спине. Она увидела около себя множество ребячьих босых ног и сразу схватилась за подол рубашонки (слава богу, длинной!) и еще потянула его книзу. А хриплый от слез голос Харитона (это он так бил и тряс ее!) произнес над нею:
— Наконец-то очухалась!
И все вокруг запрыгали, закричали наперебой:
— Живая Фроська! Живая!
— Харитону ура!
Потом они сидели рядком возле своих ворот: Харитон, Фрося, Митя — и молчали, да и не требовалось никаких слов: так хорошо им было вместе. Только один Пашка дурил, прыгал, как козленок, потому что мать, сгоряча надававшая всем подзатыльников, а Фросю дернувшая за волосы (не совалась бы в воду, коли плавает как топор), варила на радостях праздничный кулеш.
А еще раз — Харитон, уже будучи подростком, отогнал от Фроси лютого пса и стоял залитый кровью с палкой в руке, целясь в ощеренную по-волчьи клыкастую морду бешено рычавшей собаки, готовой к новому прыжку. Храбрый он и неуступчивый.
А отец? Он никогда не бил и не ругал ребятишек… Разве можно сравнить его с батей Нестора, который всех угнетает своим тяжелым норовом. После того, как Фрося тонула в Сакмаре, Ефим Наследов взял ее на руки, посмотрел близко-близко добрыми голубыми, как небо, глазами:
— Одна ты у нас, дочка. То-то горевали бы мы с матерью!
И дал всем по копейке на китайские липучки, хрупкие, но тянучие и очень сладкие.
От этих воспоминаний и мысли о возможных ранениях, а то и смерти дорогих сердцу людей Фрося вся задрожала от рыданий и отодвинулась от Нестора, чтобы не разбудить его. Впервые она не искала его сочувствия и не рассчитывала на него, потому что это было ее отдельное, может быть, недоступное ему горе.
Вдоволь наплакавшись, она прислушалась к стонам Харитины.
Трудно было представить мертвым веселого, красивого Николая. «Разорвало»… Значит, на куски разнесло? Но, жалея его и обезумевшую Харитину, Фрося не могла не радоваться тому, что окончилась жестокая междоусобица.
«Теперь Оренбург наш. А казаки пошумят, посердятся, да и смирятся. Теперь маманька не будет голодать: все забастовщики хлеб получат. Слава тебе, господи!»
Фрося мелкими движениями перекрестила нежную луночку между грудями, вспомнила, как Нестор целует ее, и снова на душе потеплело от любви к нему и благодарности за то, что он не ушел в дутовское ополчение, не стал драться против рабочих.
На другой день в доме было тихо и печально, точно на кладбище. Домна Лукьяновна, с распухшим от слез лицом, неслышно ступая в толсто связанных шерстяных чулках, то и дело заходила в боковую светелку. Там, припав лицом к сбитой подушке, выставив углом из гривы спутанных волос острое плечо, неподвижно, будто подстреленная птица, лежала Харитина. У нее был жар, и она то молча, бессмысленно смотрела на подходивших, то вдруг начинала биться, выкрикивая невесть что.
Как грозовая туча, чреватая громом и огненными всплесками молний, бродил Григорий Прохорович, но домашние так старательно избегали столкновений с ним, что он только кряхтел да хмыкал, охваченный душевной сумятицей. Подумать только! Отступил атаман перед голодранцами, которые, кроме беспорядков, сроду ничего не устраивали, только и наловчились швыряться булыжниками, и вдруг разбили регулярное войско! Да какое! Не рязанских или тамбовских новобранцев-лапотников, которые и винтовку-то держат, будто вилы, а гордость и славу империи Российской — казаков. Снова и снова вспоминал депутат круга есаул Шеломинцев кавалерийские атаки, боевые казачьи полки на маршах и на парадах, припоминал и карательные экспедиции. Железной рукой, опорой государства были казаки. А теперь что получается? Покориться большевикам? Передать разному сброду земли, кровью предков добытые. Лишиться стад, табунов, дарованных привилегий на реки, луга, леса — возможности свободно жить в родной среде?
«Не будет того! Уж если голяки бунтовали против самого батюшки-царя, то мы, военны люди, подавно никому не уступим. Нам-то бог велел защищать свои исконны права».
Острая боль в плече от резкого движения опять напомнила о гибели Николая, всколыхнула злую горесть. Как бугай, бросился бы вперед, сокрушая все на пути, ан связывают незримые путы: «На кого надеяться-то? С кем переть на врага?..»
Теперь Дутов, развенчанный поражением, казался совсем ненадежным полководцем. Снова неприятно задевала невзрачность его, отмеченная с первого взгляда: и рост не тот, и голос не тот. Теперь, пожалуй, не рискнул бы опереться на него осторожный кулак, с каждым часом утеснявший в душе Григория Прохоровича боевого есаула! «Все ж таки не зря народ говорит: „Своя рубашка ближе!“ Вот Николая ухлопали, а какой бесценный был бы человек в доме! — И чем больше думал Шеломинцев, тем сильнее поднималась в нем сумятица чувств и мыслей. — Что делается!.. Что делается! А?..»
Дивился он и поведению Фроси — она даже Нестора забросила в эти дни, просиживая часами возле Харитины. «За Нестором, когда он покалечился, ровно за малым дитем ходила. Так то муж, богом данный, а тут золовка-колотовка. Ведь прямо дышит над ней. Чувствует, стало быть, в какие хоромы залетела, дорожит нашим расположением…»
Однако не о расположении родных Нестора думала Фрося, заботливо ухаживая за Харитиной, метавшейся в горячке, а старалась от полноты сердечной, так велико было ее затаенное торжество. Жалко Николая, но и рабочие тоже ведь рисковали своей жизнью, чтобы прогнать атамана. И хотя неизвестно, кто там уцелел, в Нахаловке, после такой отчаянной борьбы, зато рухнула власть, возле которой плодилось столько всякой нечисти…
В начале февраля, когда солнце разгулялось над станицей, пронизывая ослепительным, пока еще холодным светом сугробы и плотные навалы снега на крышах, Харитина в первый раз встала на ноги… Пошатываясь от слабости, она прошлась по дому, вызвав слезы на глазах матери, и, снова войдя в свою комнатку, где Фрося перестилала постель, присела на подоконник.
— Продует. Отойди от окна! — сказала ей Фрося, стаскивая наволочку с большой, туго набитой пухом подушки.
— Не продует, — тихо, не сразу ответила Харитина, подставляя солнечным лучам исхудалую ладонь и машинально шевеля тонкими пальцами. — Тут тепло-о!.. — Слезы хлынули по обостренному, бледному до прозрачности лицу. Не вытирая их, она смотрела на Фросю расширенными, черными, в густых тенях, глазами. Просвеченные с затылка, спутанные светлые волосы с завитками на висках и над низеньким лбом скорбным облачком окружали голову, и жалостно было глядеть, как двигались в круглом вырезе рубахи косточки ключиц от рвущих грудь неслышных рыданий.
Сунув на кровать подушку, Фрося подбежала к золовке, боясь, что та упадет, подхватила ее под локти, но Харитина, близко посмотрев остановившимся взглядом, сама неожиданно сильно, цепко обняла плечи невольно оробевшей Фроси.
— Ты знаешь, об чем я все думаю? — шепотом спросила она и, не ожидая ответа, заговорила в самое ухо невестки: — Умница ты, что не отпустила Нестора! Я же знаю: он нарочно тогда сломал ногу. Не бойся, я никому не скажу… Правда, завидки меня брали глядеть, как он возле тебя нежился, когда мой Николаша… — лицо ее опять задрожало, но глаза блестели уже сухо, — мой бедный казачок мерз там в этих проклятых окопах. А теперь рассудила: правильно вы сделали. Слобода, слава казачья — все это брехня одна. Где она, слобода? Затрубят в трубы, ударят в набат, и скачи, хошь не хоть, куда начальство велит. Всю жизню так мотают. А слава?.. Атаман-то убежал, не убоялся позору, лишь бы уцелеть. Не захотел, чтоб его разорвало снарядом! Мы, как ребятишки глупые, оружьем любовались, награды собирались получать… А зачем они? «Земля, коровы…» — передразнила она кого-то, судорожно вздыхая. — Да на черта они мне нужны теперь?! Пусть бы лишились этого добра, ну и жили бы, как все люди живут. Только бы он был со мной.
После бегства атамана многие станицы стали посылать в Оренбург делегатов и печатать в новой губернской газете «Известия» письма с клятвенными обещаниями верности Советской власти. Дескать, не по доброй воле выступали казаки против красногвардейцев, а были силком, по решению круга войскового, мобилизованы! Нутром же своим, как трудящиеся землеробы, всегда были заодно с пролетариатом.
— Вот брешут, кобели, и зубы не падают! — Григорий Прохорович остервенело смял газету, бросил на пол, затем, малость поостыв, произнес нехотя: — Конечно, с волками жить… Оно, само собой, делать придется по-ихнему. Но ври, да знай меру! Чего ради так распинаться: «Заодно с пролетарьятом!» Надо же!..
Аглаида подобрала газету, расправив, разгладив, стала по складам читать напечатанные письма станичников.
— Вот еще одна агитаторша завелась! — язвительно сказал Григорий Прохорович и недобро усмехнулся тому, как неумело держала невестка газету в широко разведенных руках, как шевелила ядреными красными губами. — Может, сама выступишь с покаянием? Большевики страсть любят, когда бабы в политику суются. Да и нам, казакам, сподручней под бабьей юбкой отсидеться, чем душой кривить.
— Тут, батя, наши сакмарски тоже пишут свой «призыв». Это наши-то дубовы староверы? До чего пужливы оказались! Вот и свояк братушкин тут свое фамилие подмахнул. А баял: мы-то, казаки-то, у нас, мол, пушки, полки у нас!
— Цыц, дура! — гаркнул Григорий Прохорович и, ударив по столу кулаком так, что рюмки в шкафу звякнули, скривился от боли. — Не твоего куриного ума это дело!
— Молчу, батя. Но ведь у нас тоже станут искать этих, как их… лояльных?
— Эк завернула!.. — Есаул сердито глянул на старшего сына, что-то мудровавшего с подпругой седельной подушки, но искоса усмешливо следившего за своей самоуверенной женкой. — Ты, что ли, ее просвещать, себе на шею ярмо ладишь?
— Теперича везде так говорят, — не смущаясь, сказала Аглаида. — Слыхала я, будто писарь станичный на нашего Нестора целится. Дескать, ему легче в лояльных ходить, раз он супротив Красной Армии не выступал.
— Мерин сивый тебе на ухо шепнул, что ли? — побагровев от досады и неловкости, промолвил Григорий Прохорович.
— Да ей-богу! Соседка Марья баяла, что ее свекровка своими ушами слыхала.
— Вот-вот! Марья — Дарье, Дарья — борову, а боров — всему городу.
— Полно вам, батя! Не имейте супротив меня сердца. Уж ежели наши сакмарски струхнули да на попят пошли, значит, верно: плетью обуха не перешибешь. Придется и нам кориться.
— Востра ты больно стала! Видно, не зря слухом земля полнится, будто при Советской власти придется нам с бабами на равных правах землю пахать и под винтовку становиться.
«Будто мы, бабы, при царе не пахали? — чуть не брякнула Аглаида, но вовремя спохватилась, бросилась к печи, где черный на багровых углях бело-розовой шапкой пены накрылся чугун с похлебкой. — И под винтовку баб царски енералы ставили, — упрямо, но уже про себя продолжала перекоряться со свекром дородная молодайка, орудуя в печи ухватом. — Чтой-то, право, как всем не нравятся разговоры начистоту! Только бы повадны речи слушали!»
Нестор укладывал в солдатский подсумок охотничьи припасы, собираясь с Фросей и работниками в степь по сено, неприятно задетый и встревоженный словами Аглаиды, угрюмо подумал: «Еще начнут упирать на то, что я женат на сестре красногвардейцев!»
Он посмотрел на Фросю, по-особому миловидную в старозаветном волоснике, полюбовался, как пряменько сидела она, шевеля спицами — чулок вязала, — и на душе стало легко. Полгода пролетело после свадьбы, точно первый день семейной жизни. Нет, даже лучше теперь, когда так пришлись по душе друг другу каждой чертой уже изведанного характера, любовной близостью, радостной и желанной.
Нечаянно ли сломал ногу? Да мог ли он, лихой джигитовщик, запросто подсунуться под отводья кошевы на раскате? Все рассчитал заранее, потому что не мог пойти рубить рабочих ради набитых доверху своих амбаров, как не мог пойти с кистенем на большую дорогу. Не на такой войне готовился он показать удаль. И разлука с Фросей ради выполнения преступных приказов атамана была бы великим несчастьем, потому что не сулила примирения с ней.
А он и часу теперь не мог провести без нее. Так и ходили везде вдвоем, вызывая усмешливо-завистливые взгляды. Вместе по воду, вместе на речку полоскать белье. И Фрося от него не отставала — в лес ли, на рыбалку ли. Антошка Караульников вначале обижался, а потом понял: любовь сильнее дружбы.
— Ты Ефросинье и в нужник не дашь сходить одной! — укоряла сына Домна Лукьяновна и снова перебирала, ворошила в памяти свою жизнь с нелюбимым, неласковым мужем: как в воду безрадостно канули молодые годочки.
— Знать, ревнуешь — на шаг от себя не отпускаешь, — посмеивался Михаил.
— Просто жалею, когда время проходит без нее. До чужих разговоров мне нужды нет, — огрызался Нестор.
«Моя!» — сказал он мысленно, исподлобья посматривая на Фросю, наслаждаясь даже этой игрой издали, и ее маленькие руки сразу послушно замедлили со спицами.
Приподняв своевольно выступающий подбородок, она ответила взглядом, ради которого Нестор пошел бы на полный разрыв с тем, что окружало сейчас их обоих.
«Может быть, уже не двоих?» — разгадал он ее умиротворенное выражение и еще теплее, светлее стало у него на душе.
— Чем ты теперь думаешь заняться? — спросил он, глядя, как ловко ссучивал Антошка толстую леску для перемета.
Натягивая струны нитей из конского волоса, Антон с привычной ловкостью свивал их в одну, завязывал узлы лесы, приплетал поводки для крючков-кованцев и молчал, будто испытывал терпение Нестора. Все он умел, этот «цыганский князь — носом в грязь» (так дразнили его в детстве), но в главном не нашел себя в казачьей среде, потому и слыл в ней чужаком. А сейчас и Нестор почувствовал себя вроде недорослем, обеспокоенный мыслями о том, как жить дальше, чтобы не стыдно было перед женой и будущими детьми?
— Ты сам-то что надумал? — спросил наконец Антон, поплевав на смуглые пальцы, чтобы ловчее стянуть жесткий узел.
— Вот решаю… Буду говорить с отцом, чтобы выделиться.
— Своим хозяйством начнешь обрастать?
— Надо определяться в жизни. Службу казачью теперь побоку: Советы другие порядки установят.
— Пожалуй, — неопределенно пробормотал Антошка. — Ты вроде не очень ретив к ней, службе-то…
— Смотря какой! К военной я крепко готовился. Сам знаешь… А потом пошла заваруха: выступили всем войском против своих. Фрося — это одно, а другое — нельзя у себя в государстве уничтожать трудящийся народ.
— Дошло-таки до тебя! — обрадовался Антошка и сильно от избытка чувств ударил Нестора по плечу, но даже не пошатнул. — Здоров ты стал, покуда болел! — добродушно съязвил он.
— Я всегда здоров, но тревога одолевает, что дальше-то будет? Упразднят казачество или нет?
— Жалеешь?
— Конечно, жалко. Привыкли к этому званию: родились с ним. Но проливать кровь только ради звания я не согласен. Порядки домашние тоже в тягость стали. Отец и раньше был с характером, а теперь всё время кулаками стучит. Поэтому-то и хочу устроиться отдельно, пахать да косить не хуже кого другого сумею. Трудно будет нам с Фросей сначала вести свое хозяйство, но зато на воле. Пахарь да казак — других профессий у меня нет.
— Насчет профессий у меня еще хуже: не казак и не пахарь теперь: отец ничего не даст на выдел. Разве только побоится держать все в одних руках: прибедниться вздумает. Я у него ничего просить не стану, пусть лучше дружки в Краснохолмской мне помогут, может, на курсы куда отправлюсь. Грамотный ведь я и не перестарок, поучиться еще хочется.
— Гляди, в комиссары выйдешь! — подтрунил Нестор, наконец-то раскумекав, какие «дружки» у Антошки в Краснохолмской, к кому он там «прислоняется». — Значит, ты с большевиками водишься? — прямо спросил он.
— С большевиками нет, а был там хороший человек, учитель Шибрин Николай Андреевич… Горуня у него учился. С ним я разговаривал не раз. И с первого раза понял, отчего тамошние ребята от него без ума. Мог он любого за душу взять доходчивым словом! И из себя такой светлолицый был, красивый…
— Почему «был»? Разве он умер?
— Убрали его за распространение среди учеников запрещенных книжек. Он под надзором находился, как ссыльный, а тут снова проследили и сцапали года четыре назад.
— Раз ссыльный, значит, большевик, — насупясь, сказал Нестор. — Какие же книжки?
— Интересные. — Антошка опять посмеивался, озорновато встряхивая черными кудрями. — Не мешало бы и твоему папане почитать, чем кулаками попусту размахивать.
— Станет он!
— А ты?
— Я?.. Мне сейчас тоже не до того: и так голова кругом идет!
Вся станица, пользуясь установившейся тихой погодой, вывозила сено с дальних покосов.
— Быки для того сотворены, чтобы у конников душу выматывать. Скорости от них не жди и не требуй.
Вот и посылаю тебя не в очередь, потому что вам с Ефросиньей хоть на черепахах, абы в обнимку, — говорил Григорий Прохорович, выпроваживая молодых со двора.
Шутил он невесело, как бы через силу; слетел с него за последнее время казачий форс: оброс кудлатой бородищей, телом огрузнел, а с лица осунулся, и в глазах чертики беспокойные мечутся.
Дорога в киргизские степи шла через пойму. Над кардами клубились столбы сизого дыма: кормельщики-киргизы, не жалея кизяков, калили печурки в своих саманных кухнешках, и запах жилья перевивался с запахами свежего навоза и рубленных осенью талов. Вьюжный февраль сровнял русло Илека и его проток с берегами, пышно лежали кругом снега, а на нежной голубизне неба белела покрытая инеем хитрая путаница высоко поднятых тополевых ветвей.
— Нам и на быках славно! — сказала Фрося, представив себе мрачное лицо «папани» (пускай сердится!), и оглянулась на целый обоз бычьих упряжек: позади ехали работники. С ними Айша, — в меховом треухе и полушубке, не отличишь от мужчин. Трое детей Айши живут с отцом в кардах, помогают ему управляться со скотиной, не боясь ни острых рогов, ни литых конских копыт. Айша и Фрося будут кашеварить в степи, пока мужчины навьют сено на возы. Переночуют все в шалашах, покормят быков — и обратно.
— А если попросят тебя поехать в Оренбург, в казачий Совет? — неожиданно спросила Фрося Нестора, задумчиво щурившегося от слепящих лучей утреннего солнца.
— Попросят — поеду. В большевики записываться, конечно, не стану, а, как делегат станицы, сказать слово от казаков могу.
— Какое же слово? — Фрося подсела поближе.
— Вот какое… — Нестор сгреб ее разведенными полами тулупа и, смеясь, опрокинулся вместе с ней на солому, подстеленную в широких санях.
Лежа на его груди, Фрося зачарованно смотрела в светло-зеленые глаза, блестевшие перед нею, как два родничка.
— Моя навсегда?
— Навечно.
— Целуй! — Он властно подставил красивый рот, и она радостно приникла к нему губами.
Не прошло и двух суток, как станица переполошилась: прискакал нарочный с наказом атамана. В наказе говорилось, что он, Дутов, никуда от войска не сбежал, как треплют злые языки. Он-де явился в Верхнеуральск и там, торжественно встреченный, собирает силы для нового наступления. Отовсюду стекаются к нему славные партизаны, и уже арестовал он членов Верхнеуральского Совдепа и созывает казаков на заседание чрезвычайного войскового круга.
«К вам обращаюсь я в трудные минуты для всего казачества, верные сыны войска оренбургского и войска уральского. Ударьте в набат, чтобы звон его разнесся от верховья реки Урала до Каспийского моря. Подхватят этот призывный звон славные сыны Терека, Кубани и Тихого Дона, отзовется на него казачество сибирское, забайкальское, дальневосточное. Увидев верность казаков матушке-России, поддержат нас иностранные государства. Все бывшие союзники России объединятся у постели нашей смертельно больной родины и помогут нам уничтожить предателей веры и отечества — большевиков».
Оторопело, обрадованно, но и со страхом слушали матерые казаки призыв своего воскресшего атамана, зачитанный на секретно созванном круге в доме Караульникова. Антошка для соблюдения полной тайны был срочно отправлен в Илецкую Защиту закупить подарки к свадьбе: тешил себя надеждой Семен Тихонович, что удастся ему сломить упорное сопротивление не на шутку приглянувшейся Дорофеи.
— Чуяло мое сердце, что нельзя нам поддаваться на дьявольски улещивания, что рано начали справлять победу красны комиссары: мы ишо поборемся! — торжественно заявил воодушевленный Григорий Прохорович, возвратясь домой поздно ночью и немедленно разбудив сыновей.
Назябшийся в степях Нестор, протерев припухшие от сна глаза, тревожно слушал напыщенную речь отца. Михаил сосредоточенно колупал, корябал что-то на ладони, будто занозу нащупывал, а заноза-то в сердце заныла; чего там еще затеяли старики?
— Атаман снова объявился в войске. Созыват чрезвычайный круг в Верхнеуральске. Сейчас мы избрали своим делегатом туда старшину Семена Караульникова. Так что рановато кое-кто стал присягать большевикам. Мы этим торопыгам кровью пропишем ихние «призывы» на мягких местах, чтобы сидеть разучились сочинители!.. — грозился старый Шеломинцев.
— Выходит, на колу мочало, начинай сначала? — сказал с досадой Нестор.
— Выходит по-нашему, по-казачьи, как спокон веков водилось: выступим за волю свою, за славу отечества. А ежели у кого опять начнутся поломки, пороть будем нещадно и судить, как дезертиров! — Шеломинцев помолчал, поднял плохо гнувшийся толстый палец: — Поддержат нас иностранны государства! — Помедлив, он размахнулся здоровой рукой и осторожно, но гулко ударил себя в грудь: — На том присягу дадим атаману: до последнего дыхания биться с предателями казачества, красными комиссарами и рабочими-сквалыжниками. И вас, сынов своих, к тому же обязую!..
— Это мы еще посмотрим, — почти в один голос ответили молодые казаки.
— Нету у нас больше веры в атамана. Нету и охоты идти в чужеземну кабалу, — твердо заявил Михаил.
Костя и Лешка Хлуденев работали теперь рядом в паровозосборочном. Вскоре к ним присоединился Митя Наследов, круто пошедший на поправку после изгнания дутовцев. Дружная компания вместе с Харитоном записалась в красногвардейский отряд главных мастерских. В течение нескольких дней все коллективы крупных предприятий города стали одновременно воинскими отрядами.
— За что боролись? — подхватив ходкое в то время выражение, иронически воскликнул на заседании депутатов Совета Семенов-Булкин. — Пролетариат, завоевав власть, военизирует фабрики и заводы! Неужели и нам, служащим, встать теперь под ружье?
— Для вас это не обязательно: вы и так все время воюете против Советской власти, — сказал Александр Коростелев, избранный председателем Оренбургского Совета.
— Но военизация нервирует население. В конце концов, если вы призовете всех рабочих под ружье, мы будем добиваться, чтобы это оружие было обращено против вас — большевиков!
Александр Коростелев побледнел от возмущения:
— Спасибо за откровенность. Но вряд ли выйдет по-вашему.
Депутаты в зале зашумели.
— Пора этих семеновых вывезти на тачке!
— Хватит ему разглагольствовать!
— Судить Барановского! Он был городским головой при Дутове.
— Семенов-Булкин тоже вместе с атаманом садил рабочих в тюрьму.
— Я могу сложить с себя полномочия депутата, — потеряв апломб, пробормотал испуганный Семенов-Булкин.
— Давно пора! Нечего вам тут делать! — крикнул Федор Туранин. — Товарищи, надо тверже держаться. У буржуев шкапы от денег ломятся, а нашей Советской власти существовать не на что.
Коростелев с трудом навел порядок, размышляя о том, что Туранин верно сказал насчет денег: «Создали мы, к примеру, газету „Известия“ — орган Оренбургского Совета, а средств для нее нет».
Когда стало потише, Коростелев, назначенный и редактором этой газеты, поддержал предложение — судить Барановского, а Цвиллинг, снова под бурные аплодисменты зала, вызвался быть обвинителем.
— Надо контру прибрать к рукам. Ведь белоказаки верстах в сорока от города гарцуют, — говорил Коростелев. — Нет у нас силенок отогнать их подальше. Поэтому нужно экономически обезоружить буржуазию, снять с нее жирок для содержания наших учреждений и отрядов.
— Сегодня же на ревкоме вынесем решение наложить на нее десять миллионов контрибуции, — предложил Цвиллинг, действовавший, как всегда, быстро и энергично.
Коростелев знал, что горячность не мешает Самуилу трезво оценивать обстановку, и потому сразу одобрил такой размах.
— Действуйте! Если уж стричь, так по-настоящему.
Назавтра, в воскресенье, ничем не отличавшееся для партийного актива от обычных рабочих дней, Цвиллинг позвонил в исполком Совета и попросил Коростелева приехать в Биржевую гостиницу.
Шагая по площади, слабо освещенной редкими фонарями, Александр гадал, почему Самуил находится в бывшем гнезде белоказачьего офицерства. Ведь недавно он перебрался с ревкомом из пятиэтажного дома Панкратова, где помещались штаб и матросский госпиталь, на соседнюю улицу, в небольшой, удобный дом богача Зарывнова, бежавшего вслед за Дутовым. Что понадобилось Самуилу в гостинице?
Войдя в просторный вестибюль, Александр сразу понял, в чем дело: охрана из матросов пропускала в зал ресторана хорошо одетых горожан, а к подъезду подкатывали автомобили, откуда высаживались все новые «гости». В зале, где недавно шел безудержный пьяный разгул, уже было около полусотни местных богачей, которые или сидели как оглушенные, или, сбившись в тесные группы, о чем-то толковали, не скрывая кислого настроения. Бывший гласный думы Кондрашов, словно привязанный, явно не замечая того, ходил вокруг высокой захудалой пальмы.
Цвиллинг подошел к Александру энергичной, легкой походкой.
— Смотри, какой богатый улов! Неохота им откупаться, да деться некуда: придется тряхнуть мошной. Рушатся их кумиры: сбежал Дутов, в Новочеркасске застрелился Каледин… Да, да. Только что сообщили: казачье правительство Донской области сложило с себя полномочия и передало их городскому самоуправлению и Совету депутатов. После этого Каледин покончил с собой.
— Что же там теперь делается?
— Радоваться пока нечему: в тот же день станичники избрали походным атаманом генерала Назарова и постановили провести поголовную мобилизацию в области. Тут же на собрании всем выдавали винтовки и патроны.
— Они, наверное, еще не знают? — Александр кивнул на озабоченных толстосумов.
— Знают: «Казачья правда» уже разблаговестила. Но их сейчас одно печалит: денежки жалко!
— Может, сбавите, гражданин товарищ? — заискивающе обратился к Цвиллингу богатейший торговец Деев. — Миллион с меня заломили! Шутка сказать! За что, про что?! Я за этот миллион, может, всю жизнь крохоборствовал, ни себе, ни близким потачки не давал.
— Полно прибедняться, господин Деев! Торговаться не будем, — с холодной вежливостью возразил Цвиллинг. — «Крохоборство» ваше всему городу известно. А насчет «потачки» родственникам можно судить хотя бы по тому, что не одним домом владеете, а для своих близких устроили целую улицу домов — Деевскую линию. Мы вас не обидели: миллион рублей — Советской власти, а вам куда больше осталось!
Смело пройдя мимо охраны, в зал вошла Софья Кондрашова, одетая не в соболью шубу, а в «скромную» бархатную с воротничком и оторочкой из меха черного скунса, сверкающего густым ворсом. Лицо ее было бледнее обычного, но гонор остался все тот же. Овевая собравшихся запахом дорогих духов, она подошла к отцу, потормошила за рукав и передала объемистый портфель. Кондрашов взял, дрожа губами, направился к кассиру, сидевшему тут же. Потом с распиской в вытянутой руке приблизился к Цвиллингу и Коростелеву:
— Обобрали как липку! Без ножа зарезали! — В голосе его звучала бессильная ярость.
— Мы с вами еще очень гуманно поступаем, — сказал серьезно Цвиллинг, провожая его. — Попадись мы к вам — вы бы с нас шкуру с мясом содрали.
Софья взяла отца под руку, попыталась свысока посмотреть на председателя ревкома, но презрительного взгляда не получилось — боязливое любопытство преодолело.
— Спасибо, барышня, за ваши хлопоты, — весело бросил ей вдогонку Цвиллинг.
— Вот, полюбуйся! — Самуил обеими ладонями сгреб ворох писем, подбросил их. Распечатанные конверты, розовые, белые, голубые, с шорохом упали на стол.
— Что это? — Коростелев стоял в новой квартире Цвиллинга, не раздеваясь, растирал шапкой лицо, нахлестанное морозным ветром. — Любовные записки получаешь?
— Кой черт! Анонимные угрозы. Третий день как из рога изобилия.
— Не от гостей ли, которых ты собирал в ресторане гостиницы?
— Похоже на то. Мне даже кажется, вот это послание благоухает духами дочки Кондрашова.
Александр взял за уголок атласный конверт, повертел, брезгливо понюхал: действительно, запах надушенной женщины.
Цвиллинг смотрел, улыбался, но брови его нервно подергивались.
— Ты хоть раз в жизни получал любовные письма?
— Н-нет. Не приходилось. — Александр стушевался, но добавил сердито: — Трупом гниющей буржуазии запахло здесь.
— Одни грозят из меня сделать отбивную котлету — так и пишут, стервецы, выплескивая свою злобу и забыв осторожность. Другие собираются повесить меня на фонаре напротив ревкома. Слушай! Сними-ка пальто, и пойдем посмотрим: тут рядом с моей квартиркой есть еще две подходящие комнаты. Переходи сюда. Второй этаж, светло, сравнительно тепло. Какой вопрос обсудить — ревком тут же. После съезда Советов исполком тоже сюда поместим. Бегать сейчас одному на край города опасно: стукнут в темном переулке — и как не жил на свете. А мы не можем зря рисковать людьми, не имеем права. Моя Соня грозится приехать с Лелькой, — не скрывая радости, добавил Цвиллинг. — Ох, и соскучился я по своему сынищу!
Разговаривая, он уже вел Александра смотреть комнаты. Они оказались небольшие, но, правда, хорошие: Коростелеву еще не приходилось жить в таких. В нижнем этаже помещался ревком, там хлопали дверями, наперебой трещали пишущие машинки, но сюда звуки доходили смутно: Зарывнов построил себе дом добротно — на века.
— Ну как? — Довольный произведенным впечатлением и возможностью поселить рядом боевого товарища, Цвиллинг совсем по-мальчишески заглянул ему в лицо. — Остаешься? Тут и редакция нашей газеты, и типография совсем близко. Да, все рядом. Одно слово — центр. Я знаю, ты на ногу проворный и шаг у тебя гвардейский, но обстановка не та, чтобы активнейшему члену ревкома — председателю губсовета жить на особицу, где-то на окраине города.
Александр, неохотно менявший свои привычки, да и семья у него все прибавлялась (взял к себе двух племянников-подростков: Леонида, сына умершей сестры Матрены, и Алексея, сына Анны), медля с ответом, еще раз прошелся по комнатам.
— Хорошо. Что и говорить! Такими домами владели… Да разве не имеем мы права передать народу богатство, нажитое его горбом?!
— Ты еще раздумываешь?
— Нет, решил уже. Для пользы дела тут будет удобней. Мои вряд ли согласятся на переезд: почти все взрослые люди, каждому свой хоть плохонький, но отдельный угол нужен. Поэтому я займу только одну комнату.
— А других перспектив у тебя нет?
— На что, собственно? — Александр взглянул в оживленное лицо Цвиллинга, понял и недовольно насупился. — Не понимаю… Отчего вам всем так хочется видеть меня женатым? Ты сам говоришь: обстановка, обстановка!.. И работы выше головы, прямо нахлестывают повседневные вопросы, заседания, комиссии. Кроме того, чтобы постоянно общаться с людьми, читать надо: и статьи, и газеты, и книги, пьесы даже приходится… для рабочего театра.
Цвиллинг терпеливо ждал, искоса, но тепло посматривая на Александра, и тот, почувствовав, что ни в чем не убедил товарища, добавил уже сердито:
— Ладно, может быть, это одни отговорки, но не могу я жениться не любя. Зачем мне такая жена, за которую я не смогу отвечать всей совестью мужчины, человека, большевика? Вот вынудил ты меня, и я тебе скажу, что для меня семья — святое дело. О жене, любимой женщине, я только мечтаю иногда, как о самом прекрасном в жизни. Не о красивой женщине мечтаю, а о такой, с которой буду связан самыми лучшими чувствами. Если бы я встретил ее сегодня, будь спокоен — постарался бы завоевать ее расположение! А вступить в брак по принципу — стерпится, и сойдет — не согласен. Не хочу. Не могу! Не буду!
— Дело твое. Поступай, как хочешь. Чего ты раскипятился? Значит, я просто счастливее тебя, нашел свою любовь совсем юношей. Правда, мы так редко, так мало видимся… Когда у нас родился Лелька, бабушка, которая его нянчила, посмеивалась: когда вы успели? Шутки шутками, но разлуки обостряют чувства невероятно, и оттого даже в сердце бывает тесно, если оно и радуется и болит.
— И эту боль ты не поменяешь ни на какое благополучие!
— Не поменяю. Но, конечно, хочется быть вместе! Вдвоем начинать рабочий день: спорить, советоваться, растить ребенка. Только сознание партийного долга — мысль, что Соня тоже выполняет общественные обязанности, заставляет забывать о личном неустройстве. Ведь совсем недавно я приехал в Оренбург, как будто вчера выступал забинтованный в цирке Камухина… — считая месяцы, Цвиллинг беззвучно зашевелил губами, пригнул пальцы, поглядел на сжатый кулак — у него и руки были выразительные: нервные, сильные — и удивился сам: — Полгода! И все кипим, точно в огне. Я начинаю понимать тебя, дружище!..
Александр не успел ничего ответить. Сильно постучав в дверь и не ожидая ответа, вошел с письмом председатель губкома партии Кичигин, также выбранный членом ревкома.
— Еще одна анонимка? — весело спросил Цвиллинг.
— Нет, дорогие товарищи, это не анонимка, а форменный ультиматум. — И тон, и выражение лица Кичигина согнали смешинку с губ Коростелева, а Цвиллинг сразу потянулся к письму.
— От кого? Неужели Дутов хочет наступать из Верхнеуральска? Ему, самому, предъявили там ультиматум.
— Какой-то отряд офицеров, а подписано полковником Корчаковым.
— Интересно! Значит, успели у нас под боком организовать тайный контрреволюционный союз! — Цвиллинг пробежал глазами по ровным строчкам и передал письмо Александру. — Предлагают немедленно сдать им власть в городе! В противном случае угрожают взять ее силой, а с нами расправиться беспощадно. Быстро обнаглели! И то сказать — дали мы им поблажку: куда ни сунься, везде эти наглые типы с отличной военной выправкой, которую никакой маскировкой не скроешь. Явно по указке Дутова действуют.
— Вчера в Биржевой гостинице был очередной кутеж со скандалом, — сказал Кичигин, — а сейчас получено сообщение, что с полсотни казаков налетели на разъезд за Меновым двором и разрушили железнодорожный путь.
— Тревоги на предприятиях тоже участились. Хорошо, что мы создали там красногвардейские отряды. — Александр еще раз прочитал ультиматум. — Не зря Семенов-Булкин заявил, что они обратят против нас винтовки! Кто они-то? Меньшевики и белое офицерье? Эсеры и казаки? Это для отвода глаз он добавил тогда: «Винтовки, которыми вы вооружили рабочих». Надо сейчас же, срочно созвать совещание ответственных партийных работников, вызвать всех членов ревкома, нашего губернского продкомиссара Мартынова, а также Бурчака-Абрамовича, Мутнова, Дмитрия Саликова. Хорошо-о, что эти самонадеянные вояки злобной вылазкой раскрыли свои планы! Надо немедленно вынести решение о массовом аресте офицеров. Будем держать их в качестве заложников, чтобы предупредить возможное нападение. А их ультиматум и наше ответное предупреждение опубликуем в «Известиях».
— Какое предупреждение? — спросил Кичигин.
— Объявим, что в случае попытки восстания за каждого убитого красногвардейца или советского работника будет расстреляно десять заложников, — предложил Цвиллинг.
— Да, только это, пожалуй, и отрезвит их хмельные головы, — согласился Кичигин. — Ненавистью они пьяны. Тут один ответ — удар на удар.
Город родной! Не очень-то ласково глядел ты на нас в дни босоногого детства и трудного отрочества! Но мы любили тебя, с твоими пыльными улицами, чахлыми скверами и убогими рабочими поселками.
На наших захламленных, изрытых окраинах стремительно текли в неведомую даль чистые и синие, как небо, реки — Урал и Сакмара, но эти реки принадлежали казачьему войску, и нас гнали с их свежих, зеленых берегов. Вольно шумели над нами деревья речных пойм в дни рабочих собраний, но налетали полиция и казаки, и, в кровь раздирая в зарослях колючего терна руки и ноги, в лохмотья — одежонку, мы спасались от свистевших нагаек.
Заглядывали мы и в центр города с красивыми домами, с белыми полотняными навесами над зеркальными окнами магазинов, переполненных товарами. Но лакомства, масса разной еды, меха, наряды были не по карману нам и нашим родителям. Цвели разноцветными огнями «Люксы», «Паласы», «Фуроры», пестрели возле них громадные заманчивые афиши. Опаленные летним солнцем, зимой ежась от мороза, всегда полуголодные, мы замирали перед этими чудесами и рассыпались в стороны, будто воробьи, от грубых окриков полицейских.
Не цветы в палисадниках, а полынь росла под окошками рабочих землянок, горькая, как слезы наших рано состарившихся матерей. Черные бури и снежные метели засыпали жилье то пылью, то снегом, отрывая жалкие калитки, заметая следы отцовских ног, растоптанные сапогами жандармов. Однако мы росли, несмотря на все невзгоды, и шли в заводские цеха, заменяя своих отцов.
За что же мы любили тебя, родной город? Может быть, за быстроту собственных ног, с которой уносились от преследований, за остроту глаз, отличавших в пригороде за несколько верст казачьих скакунов с хвостами, как у сказочных сивок-бурок, от короткохвостых армейских лошадей, или за силу кулаков в схватке со спесивыми казачатами, за торжество мальчишечьих побед?
Но только ли это ощущение крепкого роста в неласковом, хотя и родном городе привязывало нас к нему? Ведь так растут лишь тополя и осокори по берегам рек да серебряный ковыль на степных буграх. И разве наши отцы, приехавшие сюда по доброй воле или сосланные властями из разных краев страны, меньше нас любили хлебный и железнодорожный Оренбург? И опять не потому, что только у такого хлеба и могли они прокормиться с семьями на скудную плату за нужную свою и важную работу.
Ведь при всех утеснениях и нехватках мы жили лучше тех, кто имел власть и деньги: не мы их, а они нас боялись, захватив то, что должно было принадлежать нам. Вот они и окружали себя жандармами, полицией, солдатами, казаками, но отнять у нас гордое сознание того, что все в городе сделано руками наших отцов, не могли, как не могли отнять солнце.
И песни бунтарские были с нами, и воспоминания о Стеньке Разине, о Пугачеве, о девятьсот пятом годе. Мы гордились громогласными гудками своего паровозоремонтного, его вечно грохочущими цехами, гордились и дружбой нахаловцев с рабочими «Орлеса» и тружениками других больших и малых предприятий, порождавших не только богатство для буржуев, но и вечную угрозу им.
Потому не было счастливее нас, мальчишек, когда из ворот наших главных мастерских выходил возрожденный паровоз, дышавший огненной мощью. Если машинист позволял нам проехаться в его будке до вокзала, то с каким презрением смотрели мы на изнеженных барчуков, ходивших в панамах и коротких штанишках под надзором иностранных гувернеров. А собственное посвящение в ряды рабочего класса? А первая зарплата, принесенная матери? А пляски и игры в праздники с заводскими девчатами, боевыми, словно мальчишки, вроде Вирки Сивожелезовой, или принцессами-недотрогами, как Фрося Наследова.
Город, где все это происходило, стоил того, чтобы завоевать его, не щадя собственной жизни.
Поэтому, когда был опрокинут прогнивший трон Романовых, мы вместе с отцами огромными толпами спешили с окраин к запретному для нас центру и кричали:
— Революция!.. Революция!..
И те, кто раньше гнал, пинал, обирал нас, с удивлением и страхом смотрели на шагавшие рабочие колонны.
Революция!.. Революция!.. Ты несла свободу и избавление от вечной нужды, но не донесла, и нам самим пришлось пробивать тебе путь. Но вот снова угроза для тебя, и красногвардейские отряды охватывают ночью свой город, прочесывая улицы и дома.
На долю Кости и тройки Наследовых — Мити, Харитона и отца их, Ефима, — достались трущобы одной из привокзальных улиц.
Ну-ка где тут контрреволюция, предъявившая ультиматум Советской власти?
Заваленные снегом ограды мещанских владений… Возле погребов и сараюшек землянки «припущенников», снимавших в аренду места у дворовладельцев за три, за шесть рублей в год. Не пойдут же офицеры в такое жилье! В убогих домишках с крохотными окнами и дымящими печами, где в тесноте и холоде ютятся многочисленные семьи хозяев, тоже нечего делать «их благородиям».
— Вряд ли кого найдем, — безнадежно шепчет Ефим, однако старательно осматривает голбцы, полати, обязательное «зало» у более зажиточных с кривым зеркалом и захудалым фикусом в переднем углу. Ребята, стесняясь среди массы разного отрепья, поднимают домочадцев, спящих на койках и вповалку на деревянных нарах.
— Предъявите документы!.. Паспорта… — Глазастый и более грамотный Костя рассматривает виды на жительство. Харитон и Митя, не выпуская из рук винтовок, ждут у дверей.
Оказывается, ради революции тоже приходится делать обыски!
Во многих семьях в ночное, позднее время нет дома дочерей-подростков.
— Где?
— У тетки ночует.
— У какой тетки? — взрывается наконец Харитон. — Со всей улицы ушли к этой тетке? Что там у нее?
— Заведение… — бормочет напуганная хозяйка. — Чего хорошего дома-то? Вот спим вповалку, а там у каждой девицы отдельная комната с окном, платьев разных, кровать чистая и еды сколько хошь.
Ребята слушают, ошалев, уши у них от неловкости краснеют, как угли.
— Продаете дочерей?
— Да, господи! Мы, что ли, одни? Никто их не продавал. Своей охотой. Сами туда набиваются — у содержательниц отбою нет. А половина туда с мест идет.
— Как это — с мест? — несмело спрашивает Митя.
— Сначала в горничных. Деревенских-то еще больше, чем наших… Ведь на местах тоже плохо жить: плотют рубль, редко полтора в месяц, а проходу нет ни от хозяина, ни от сыновей.
— Ну и сволочи! — Харитон сердито плюнул, сходя с крылечка.
— Придется нам, ребята, заглянуть в эти заведения, — распорядился Ефим, кляня себя в душе, что пошел в наряд вместе с сыновьями. — Офицерье, они на распутство да с выпивкой — как мухи на падаль.
— Я туда не пойду, — сказал Митя с отвращением. — Куда хотите: хоть в собачьи ямы, хоть в ночлежку, а в такой помойке рыться не стану. Завтра же скажу Александру Алексеичу, какая «тетка» в этих местах промышляет.
— Он тебе и всыпет, если мы кого здесь упустим! — постращал Харитон. — Будете с Костей стоять на карауле, а мы с отцом войдем.
На счастье, их догнал в переулке взвод красногвардейцев из депо. Дальше двинулись вместе. И сразу же у большого приземистого дома с высокой оградой замедлили: играли там на гитаре, звучали девичий смех и мужские голоса. Потом раздались пьяная брань, топот, истошный визг…
Красногвардейцы окружили дом. Ефим и деповский командир взвода постучали в парадное. Шум в доме усилился, а на открытой галерее послышались торопливые шаги.
Дверь приоткрылась. Отбросив ошалевшего вышибалу, в нее устремились красногвардейцы. Митя с Костей остались у входа. Свет в окнах, выходивших во двор, замигал и погас, зазвенела разбитая посуда, заголосили испуганные девицы, и сразу захлопали выстрелы.
Устыдясь своей излишней щепетильности, ребята бросились в парадное и прямо в объятия приняли двух удиравших офицеров. Митя своего сгреб и подмял, а Костя упустил, упав от удара ногой в живот. Перевернувшись, он быстро вскочил, выстрелил из винтовки, и убегавший офицер споткнулся, рухнул на мостовую.
— Живой! — крикнул Костя, подбегая и ежась от боли под ложечкой. — Смотрит!
Из дома красногвардейцы выволокли еще трех обезоруженных офицеров. Остальные гуляки, уже опрошенные, трусливо выскакивали следом и, отрезвев после переполоха, бросались наутек. Сквозь скрип шагов на снегу слышно было, как громко плакала в доме девчонка, а другая пьяно хохотала и бранилась, точно грузчик. Потом с надрывным стоном ударилась обо что-то гитара, загудев, зазвенев струнами.
— Ловко мы их!.. — Харитон связал руки высокого тонконогого офицера в галифе и растерзанном кителе. — Вольготно там устроились их благородья!
Ефим Наследов, вынув из сумки припасенный санитарками пакет, накладывал тугой жгут раненому красногвардейцу прямо на рукав телогрейки, из которого текла кровь.
— Остановится беспременно, а в госпитале наложат повязку по всей форме, — приговаривал он.
Уже совсем рассвело, когда в Оренбурге закончились обыски и аресты. Без жертв не обошлось: были раненые и убитые с обеих сторон. Красногвардейцы доставили к зданию тюрьмы около сотни арестованных офицеров — среди них оказались капитаны, полковники и даже армейский генерал. С ненавистью посматривали они на новых хозяев города, однако поневоле помалкивали.
Усталые, но довольные ребята из Нахаловки отправились домой. Александр Коростелев пошел с ними до ревкома. Харитон и Костя наперебой рассказывали ему о ночной операции, о девчонках, которые «своей охотой» идут в позорные заведения.
— Такое, пожалуй, еще страшнее, чем вербовка обманом и насилием, — сказал Коростелев. — А сколько объявилось защитников этого «промысла», когда мы в Совете вынесли решение закрыть публичные дома! Подлость живуча, так и липнет, точно грязь на подошвы. — И он попросил ребят зайти с ним в редакцию газеты. — Расскажите, как вели себя офицеры во время ареста. Мы опубликуем в «Известиях» их ультиматум и свое предупреждение для тех, кто еще остался на свободе. С ваших слов и по рассказам других красногвардейцев дадим заметку о моральном облике врага, о его злостном сопротивлении. — В роскошном кабинете Коростелева, где все было как при старом издателе, Костя заволновался, а Митя точно пристыл у двери, и даже Харитон, почувствовав неловкость, начал одергивать пиджак и вертеть головой, будто ему снегу за воротник бросили. Коростелев, должно быть, по сродству душ питавший особую симпатию к Харитону, подвел ребят к большому столу в стороне от редакторского.
— Вот материал для сегодняшнего номера «Известий»! — сказал он, показав на листы бумаги с колонками текста. — Что? Непохоже на газету? Это гранки — оттиск с печатного набора. Читайте вот здесь!
Парни приткнулись у стола, и, пока Александр разговаривал по телефону с Цвиллингом, торопя его с какой-то статьей, Костя читал вполголоса:
— «6 марта 1918 года председатель ВРК тов. Цвиллинг получил по городской почте письмо:
„Милостивый государь господин председатель!
От имени партизанского отряда офицеров Оренбургского военного округа…“»
— Ишь ты: партизанского отряда! Где это они партизанили? — перебил Харитон.
— А с Дутовым-то! Слушай дальше!
— «…предлагаю вам и вашим единомышленникам в трехдневный срок оставить город Оренбург и сложить с себя всякие полномочия по управлению городом. В противном случае мы после вышеуказанного срока открываем военные действия против вас. Свое согласие на добровольную сдачу города вы можете передать мне объявлением хотя бы в своих „Известиях“, адресуя его на мое имя.
Начальник партизанского отряда офицеров Оренбургского военного округа полковник Корчаков».
— Придумали! — Веснушчатое лицо Харитона залилось румянцем, в глазах вспыхнули негодование и насмешка. — Видно, эти партизаны совсем не берут в расчет наши красногвардейские отряды? Отдать Оренбург?! Товарищ Коростелев, объявите им: если они забыли, как их лупили под Сыртом, так мы им о том с охотой напомним!
Костя согласно кивнул и стал читать ответ ревкома на ультиматум:
«1. При любом посягательстве на Советскую власть будут расстреляны арестованные офицеры, юнкера и белогвардейцы.
2. За каждого убитого красногвардейца ответят своей жизнью десять представителей оренбургской буржуазии.
3. Если станица окажет содействие контрреволюции, то будет беспощадно уничтожена артогнем.
4. Все станицы, которые добровольно в три дня не сдадут оружие, будут подвергаться артобстрелу».
— Крепко сказано! — прошептал Митя.
— И правильно, а то опять поднимется вся контра, — горячо одобрил Харитон. — Казаки от белогвардейцев не отстанут. Жен и детишков им вывезти из станиц на хутора — нет ничего! И скот угонют, чтоб сопротивленье без большого урона оказать. Пускай, мол, палят по пустым дворам. Потому и надо строгостью их оглушить, покуда они не успели сговориться меж собой.
— Довольны, граждане? — шутливо по тону, но с серьезным видом спросил Коростелев.
— Очень даже. Ежели их не постращать, они завтра резню устроят.
Коростелев задумался, в недоумении развел руками.
— Сколько раз уже обращались мы от имени Советской власти к «гражданам казакам»… Призывали их к мирной жизни, к совместному труду с рабочими, чтобы ликвидировать разруху в стране. А все подстрекают их против нас то богатая верхушка, то старики фанатичные, то господа офицеры. Ну ладно… Рассказывайте, как вели себя во время ареста эти «благородные» партизаны?
Костя и Харитон снова принялись вспоминать подробности ночной операции, а застенчивый, несловоохотливый Митя присел в кресло у порога. Но только он устроился на непривычно мягком сиденье, кто-то тихонько постучал в крашеную дверную филенку. Митя открыл дверь и точно пристыл у косяка, глядя в светло-синие глаза Вирки Сивожелезовой. Она бережно несла свертывавшиеся в трубки полосы бумаги с колонками газетного текста. На волосах ее блестели, как роса, тающие снежинки, а бумага была совсем сухая, видно, девушка бежала, пряча ее под своей байковой шалью, стянутой на плечи.
По тому, как сразу бросился навстречу ей Коростелев, Митя понял, что газета приготовила еще одну «бомбу» для белогвардейцев.
— Чего же ты так налегке? — упрекнул Коростелев.
— Да тут от типографии близко. Александр Алексеич, мне бы вас на два слова. — Вирка, умоляюще сложив худенькие руки, посмотрела на Коростелева, который, положив полосы, отошел с нею в сторону, оглянулась на ребят. — Вы всех винтовками вооружили… А мне бы хоть кольт какой-нибудь…
— Кольт? — Коростелев засмеялся. — Зачем тебе такую громоздкую штуку? Еще пулемет вздумаешь попросить!
— Но я вовсе безоружна! А меня уж давно убить посулились.
— Никто тебя теперь не посмеет тронуть, а оружие домой принесешь — твои же пацанята натворят беды.
— Не натворят. Илюши теперь нет… Не дожил он до вашего прихода, а остальные уж все понимают. И сестренка Мотька в руках их держит. — В глазах Вирки светилась такая надежда, что Коростелев не устоял: достал из своего портфеля браунинг в кожаном чехле и положил его в жадно протянутую ладонь наборщицы.
— На! Владей! Но осторожно — держи при себе. Стой, покажу, как им пользоваться, где тут предохранитель!
Митя удивленно и радостно смотрел на тонкие под легкой жакеткой плечи девушки, на светлый узел ее теперь уже заправской прически.
«Красивая она стала. Красивая и хорошая», — думал он.
— Что ты на меня воззрился, будто фотограф? — Глаза Вирки сияли нестерпимо, на губах заиграла усмешка… и погасла. — Поправился, думать забыл? Спасибо, Харитон да Павлик навещают.
Митя вышел за ней в коридор:
— Не забыл я тебя, а просто целые дни в работе и в красном нашем отряде разные поручения. Я ведь столько провалялся — вся душа изболела.
— Значит, наверстываешь, что упустил?
Он молча кивнул, продолжая неотрывно глядеть на нее:
— Давай будем дружить. Я тебя всегда жалел, а теперь…
— А теперь?.. — повторила она, еще настороженно ощетиненная. Но что-то дрогнуло в ее лице, мягче заблестели глаза, и вдруг, словно по волшебству спрятав свои колючки, она сказала с тихой улыбкой: — Ты со мной обращайся осторожно, будто со стеклянной вазочкой. Пустых слов мне говорить не надо, я ведь не привыкла радоваться. Когда плохо — терплю. Станет еще того хуже — в комок сожмусь, но выдержу. А хорошего мне помаленьку, как хлеба тому, кто помирал с голоду. Это я нынче очень поняла, когда наши в Оренбург входили. Бегу навстречу, а сердце в груди так и скачет. Вот-вот надорвусь и упаду замертво.
— Уничтожим гадов — тогда и радость придет. Не надо будет к ней привыкать, бояться, что она опять скроется, — сказал Митя, потрясенный не словами, а выражением лица девушки, по годам еще подростка, но с такой тяжелой судьбой, которая могла бы задавить и взрослую женщину.
— Мы думали, ты уже домой ушел! — весело сказал Харитон, выйдя следом за Костей из кабинета. — Хорошую статью дадут насчет суда над Барановским. Суд обратят против всей эсеровской партии… Я крепко запомнил, как этот плюгавый Барановский одурачивал наших рабочих. И такую крысу несли на руках по городу, будто икону! А он потом с Архангельским да с Семеновым-Булкиным в своем «Комитете спасения» требовал от Дутова рабочей крови. Атаман и без них горазд был ее проливать!
На улице ребят встретил неожиданно разыгравшийся буран. Совсем недавно светило солнце и словно летом голубело небо, а тут северный ветер стремительно нагнал тучи и пошел куролесить, дико завывать над городом.
— Вира! Вир! Подожди, я тебе свой полушубок дам! — кричал Митя.
Но Вирка, смеясь, завернулась потуже шаленкой и, тонкая, гибкая, сама похожая на вихрь, помчалась, развевая подолом широкой юбки, махнула свободной рукой — другою прижимала к груди шаль и браунинг — и мгновенно точно растаяла, исчезла за углом.
— Вот сумасшедшая! — восхищенно сказал Харитон.
— Не стрельнула бы в себя нечаянно, — обеспокоился Костя.
Митя молчал: не было таких слов, чтобы выразить то, что творилось у него на душе.
За вокзалом, на пустыре буран набросился на ребят с новой силой, толкал их обратно, швырял им в глаза пригоршни снега. В степи он гудел набатом, и сизая мгла катилась там клубами, как казачья конница.
— Ах, хорошо, ребята! — изо всей мочи от избытка чувств крикнул Харитон, подставляя ветру широкую грудь, и громко запел:
Костя подхватил звучным баритоном:
Митя обнял друзей большими руками за плечи, тоже подстроился к их шагам и к песне:
Буран злился, однако не мог заглушить молодые, дружно спевшиеся голоса, не мог остановить напористый шаг юных красногвардейцев, и все яснее вставали перед ними в белесой сумятице корпуса родного завода.
Оренбург — Николина гора 1966–1971
По следам Ермака
(из путевого блокнота писателя)
Поздняя была в тот год весна в Тюмени.
Уже шла вторая половина июля, а хлеба стояли еще как густо-зеленая щетка добрых озимых в осеннее время. Свежо и холодно голубело небо над полями, над шоссе, плоско лежавшим среди тучных черноземов.
Вот она — Сибирская низменность, дно великой нефтяной чаши! Но вышек здесь не видно. Это юг области — житница ее, издавна прославленная пшеницей.
Нефть шумит севернее — в Ханты-Мансийском округе, по берегам Оби. А еще севернее, к Ямалу и на северо-западе, где края низменности приподняты, открыты залежи природного газа: Березово, Тазовское, Уренгой…
— Погода у нас очень изменчива, — сказали нам тюменцы, на которых впервые было устроено такое нашествие… писателей. — Природа нас не очень балует: зимой — морозы, летом — комары, тучи гнуса да непроходимые болота. И наводнения… Нынче второе за три года. Заметало песком луга в поймах Оби и по Иртышу. Много скота погибло. Пришлось вывозить поголовье с животноводческих ферм в другие районы.
Тюмень — старый сибирский город на берегу Туры, притока Тобола, — бурно растет и в центре и на окраинах. Возле нашей скромно уютной гостиницы «Колос» на улице Мельникайте тоже зияют разрытые котлованы, из которых поднимаются, выпирают не по дням, а по часам кирпичные стены.
Этот веселый беспорядок радует: нефть и газ, открытые в Тюменской области, рождают среди тайги новые поселки и города и вдохнули жизнь в старые. Одна мысль о том, что мы все это увидим своими глазами, воодушевляет.
Наш писательский отряд из сорока восьми человек прибыл сюда на декаду советской литературы. Мы будем выступать перед народом со своим творческим отчетом и узнаем, в каких условиях живут и трудятся нефтяники Тюмени. Конечно, каждый из нас надеется найти тему для очерка или стихотворения, а может быть, первая разведка увлечет и на большие повести. Наши идеи и замыслы рождаются при встречах с людьми, от впечатлений, разговоров, от размышлений и сердечной взволнованности — всего, чем так богаты дальние пути-дороги.
Тюменцы тоже приняли наш приезд всерьез, и на встрече в обкоме КПСС второй секретарь Геннадий Павлович Богомяков, геолог по профессии, кандидат геолого-минералогических наук и лауреат Ленинской премии 1970 года, с увлечением рассказал нам о делах области. Прежде всего о ее гордости — нефти и газе.
Мы смотрели на секретаря обкома, совсем молодого, русоволосого, чернобрового, по-настоящему влюбленного в свое дело, и думали:
«Такие богатства открыты, а ведь очень многое еще не разведано на этой необжитой территории с ее суровым климатом!»
— До тысяча девятьсот шестьдесят четвертого года Госплан СССР сопротивлялся разработке наших месторождений: не верил в их перспективность из-за отдаленности от обжитых мест, — говорил Богомяков. — Но наша нефть идет главным образом самотеком и выгодна для страны. В последние годы открыто еще такое месторождение нефти, как Самотлор. Месторождение газа открыто в Уренгое.
Рассказал нам секретарь обкома и о лесных богатствах Тюмени, о рыбе, «которую мы еще не всю выловили и отравили» (как принято говорить о нефтяниках), об осетрах и красавице нельме, нежном муксуне и сосьвинской селедке, единственной в мире, о подземном теплом море Западно-Сибирского бассейна.
Нас просто заворожил этот красивый человек, а когда он заговорил о людях, мы поняли, что труд тюменцев — настоящий подвиг. Кого ни возьми: разведчиков (геологов и геофизиков), строителей, лесорубов, дорожников — смелость и трудолюбие прежде всего, и выносливость, порою превышающая меру человеческих сил, и — как железный закон для каждого — забота о товарище. Запомнились нам имена первооткрывателей. И это сразу, после разговора в обкоме, привело меня к организатору тюменских разведок Юрию Георгиевичу Эрвье, начальнику главка Тюменьнефтегеологии.
Вот он сидит передо мною, лауреат Ленинской премии, человек-легенда здешних мест. Еще молодой в свои 62 года, с щедрой проседью в вихрастых волосах и цепким взглядом широких глаз. Высокий лоб, изборожденный волнистыми морщинами, послушными движению густых черных бровей, крупный с горбинкой нос и твердая линия рта — все говорит о волевом характере, и небольшая фигура Эрвье кажется очень значительной. Сразу видно — вдумчивый и в то же время решительный товарищ.
Я вцепилась в него, словно репей. Кто он родом? Откуда? Какими путями пришел на Север? Как стал геологом?
Эрвье сам из породы пишущих людей (на прощание он подарил мне свою книгу «Сибирские горизонты») и мои расспросы, стремление вывернуть его наизнанку принял как должное, а когда стал вспоминать прошлое, то потеплел, мягкая лукавинка заблестела в темных глазах, и представился он моему воображению веселым озорником и забиякой.
— Наверно, в школе не одна девчонка из-за вас плакала?
— Нет, с девушками я был всегда предупредителен, можно даже сказать, галантен.
Похоже и на это: дед и бабка Эрвье приехали в Россию из Франции в семидесятых годах прошлого века. Отец родился в России. Работал механиком. В семье, кроме Юрия, было еще четверо детей. Жили в Тбилиси, который стал второй родиной для французских выходцев. До девятнадцати лет Юрий проработал на мыловаренном заводе подмастерьем у мыловара. Потом окончил рабфак и уехал в Среднюю Азию. На крыше вагона уехал. Любознательного и пылкого юношу влекли романтика, перемена мест и впечатлений.
— А может быть, бегство от несчастной любви?
Эрвье солнечно улыбается — все его лицо знойного, хотя и побеленного сединой южанина расцветает.
— Любовь была, но не несчастная, а просто безответная, даже без объяснения. Моя принцесса училась в Тбилисской балетной школе вместе с Чебукиани. Мы, мальчишки, наблюдали в окна, как они выплясывали (школа была на нашей улице). С этого и началось: волнение встреч, мечты о будущем. Детское увлечение. — Эрвье задумчиво шевелит черными бровищами, и легкая зыбь пробегает по морщинам лба, а губы улыбаются чуть грустно и примиренно. — Были в какой-то мере друзьями. Потом она уехала в Ленинград и там вышла замуж.
— Что же вы делали в Средней Азии?
— Работал в Ургенче, это в Узбекистане, грузчиком на хлопкоочистительном заводе…
— А геология?
— Она привлекала меня с детства. Мальчиком лазал по горам вокруг Тбилиси. Туризма тогда не было, просто ходил, потом еще и охотился, но всегда собирал камни. Смотрел, думал, как земной шар построен. У нас есть озерко Лиси (теперь там лодочная станция), я на этом озере пропадал каждый свободный час. Находил ракушки, черепки, окаменелое дерево, тащил домой. И вот после Ургенча поехал в Ленинград: хотел поступить в Горный институт. Но был ноябрь месяц, прием уже закончился…
Я смотрю на Эрвье и вижу, как стройный, чернобровый юноша, странно сочетавший в себе серьезную вдумчивость и резвость озорника, бродит по туманному Ленинграду под мокрыми хлопьями снега, ищет встречи с нею — золотым лучом своей юности.
— Мне таки повезло, я встретил… — Эрвье искоса взглядывает на меня, и в уголках его глаз и губ вспыхивает уже знакомая ласково-озорная и чуточку печальная усмешка. — Встретил прораба разведочной газовой партии из Мелитополя и, подружись с ним, поехал туда рабочим. С тех пор — все!
В истовости этого восклицания я ощущаю важность сделанного человеком открытия — нашел свое призвание.
— А что дали те разведки?
— Так, небольшой газочек…
И опять слова геолога выдают на-гора его глубинную духовную приверженность: «газочек», а значит, и «нефточка», как говаривали обожженные ветрами и морозами буровики Татарии.
— Так и началась она, кочевая жизнь разведчика, и даже женитьба (жена работала в геологической партии коллектором) не принесла оседлости. Искали нефть, бурый уголь и руду в Кривом Роге, Кировограде и Кременчуге.
В 1932–1933 годах Эрвье с отличием закончил высшие инженерные курсы, получив диплом инженера-геологоразведчика. И снова поиски нефти и газа на юге страны, но произошел конфликт с главным инженером треста…
— Первый мой деловой конфликт. Я — прямой, а мы не сошлись взглядами на разведку, на методику работы. Характеры у обоих оказались непримиримыми, но бороться с ним было трудно: он занимал пост выше, и я ушел. Несколько лет работал в коммунальном тресте: искали воду в Одессе, Николаеве, Тирасполе. Бурили артезианские колодцы, которые потом, во время войны, очень пригодились, когда немцы захватили Беляевский водопровод. Я эвакуировал сынишку и жену, отказался от брони и пошел в отдельный отряд глубокого бурения Южного фронта. Носили мы форму как гидросаперы, бурили скважины и раздавали воду по карточкам — полведра на человека. После отступления из Одессы я стал командиром этого отряда.
— Я не знала, что в армии были буровики…
— Ну, как же! Представьте себе обстановку, когда немцы прорвались к Моздоку, а мы отступили в Туапсе… Под Моздоком воды не было. Кто имел воду — держал фронт. Тут мы возили ее на передовые со своих артезианских скважин в резиновых баках. Потом наша армия пошла в наступление, и я командовал саперным батальоном. В конце тысяча девятьсот сорок четвертого года меня демобилизовали: получил назначение начальником геологической экспедиции в Молдавии. Условия там со здешними, конечно, не сравнить. Климат мягкий, масса фруктов. Всюду жилье. Дороги… Да что говорить! Разве нам, разведчикам, это главное?! Вышло постановление Совмина о развитии работ по нефти и газу в Сибири, и я поехал в Тюмень. Тут был уже трест «Тюменьнефтегеология», а нефть искали в районе Челябинска: считали, что там, в обжитых районах, больше перспектив. Три года и я там искал. Нефть была, но маленькая. В тысяча девятьсот пятьдесят пятом году меня назначили сюда главным инженером Тюменского треста, а еще через год, когда начальник треста пошел на пенсию, мне пришлось возглавить всю организацию разведок в Тюмени. Теперь уже совсем прижился тут. Старший сын, тоже геолог, работает в Томске. И дочь — геолог, а младший сын бурит в Горноправдинске.
— А как справляетесь с попутным газом? Собираете?
Эрвье вздыхает. Между бровями его ложится глубокая складка.
— До сих пор не справились. Факелы горят у всех действующих скважин.
— Кого из людей было бы интересно там встретить?
Юрий Георгиевич сразу оживляется:
— Если попадете в Горноправдинск, то поговорите с Фарманом Салмановым — начальником геологической экспедиции. Он Герой Труда, один из первооткрывателей обской нефти. И вообще… — Веселая улыбка досказывает остальное: видно, Фарман очень симпатичный и огневой, жизнерадостный человек. — В Нефтеюганске спросите Галяна, тоже начальника экспедиции. Он украинец. Еще надо бы поговорить вам с буровым мастером Мелик-Карамовым. Отличный бурмастер! В Мегионе — главный инженер Каталкин, скромный, с хорошим взглядом на дело, очень энергичный. И еще начальник экспедиции Абазаров — открыватель Самотлора, лауреат Ленинской премии. Этот из Краснодара. Очень колоритный. А в Сургуте молодой геолог Евграф Тепляков…
Нефтеюганск, Мегион, Самотлор, Сургут… Да ведь это все в Ханты-Мансийском округе. Какая необъятная земля лежит перед нами! Мы прилетели в Тюмень — «ворота в Сибирь» — за два с половиной часа, покрыв расстояние, которое первые сибирские землепроходцы, ссыльные и переселенцы одолевали месяцами, может быть, годами… Сюда из чусовских городков с боями пришла четыре века назад дружина Ермака, разбила войско князя Епанчи и 1 августа 1581 года заняла Чинги-Туру — крепостцу татарского ханства, где через пять лет была основана нынешняя Тюмень.
Из Чинги-Туры Ермак Тимофеевич с боями проплыл по Туре и Тоболу и стал лагерем на устье Тобола в Атинском городке — предтече Тобольска. Ему и не снилось тогда, что, по существу дела, он явился самым первым открывателем сибирской нефти. Простой казак, малограмотный, коренастый крепыш с упрямо-смелым взглядом, он после трехдневной битвы под Искером на Иртыше — центром Кучумова царства (верст на пятнадцать выше устья Тобола) — разгромил татар и занял Искер. Но татары покорились не сразу, и через три года в одной из стычек Ермак погиб, утонув возле устья реки Вагай. Наверное, не только тяжелая кольчуга была тому виной, но и прижимное течение у подмывных берегов крутого яра, который теперь называется Ермаковским, где Иртыш изгибается громадной стальной подковой.
Песня о гибели Ермака не зря живет одной из любимых в русском народе. Привольная, могучая, она гремит уже давно и будет греметь в веках заслуженной славой героя-землепроходца, умножившего богатство и силу нашей земли, самой смертью своей утвердившего победу над грозной Сибирью.
Нам, как и Ермаку, предстоит путь из Тюмени в Тобольск, но не по реке Туре — сто восемьдесят пять километров, да еще четыреста сорок километров по Тоболу до устья его на Иртыше, и не на воздушном корабле — немыслимой мечте пешего казачьего воинства, а — поднимай выше! — по железной дороге.
Я давно уже за недостатком времени отказалась от железнодорожного транспорта, но в поезд дороги, как стрела уходящей на север от Тюмени, ведущей через Тобольск на Сургут, еще не законченной, но уже давшей второе дыхание «стольному граду Сибири», в этот поезд я сяду с великой охотой и душевным трепетом.
Но прежде, — после торжественного открытия декады и выступлений на заводах в Тюмени, — мы побывали в Ялуторовске, бывшем уездном городе на Тоболе, где жили декабристы и где находится единственный в стране музей, им посвященный.
Двадцать второго июля в жаркий день (погоду мы с собой захватили московскую) наша большая бригада выехала туда на легковых машинах и автобусах. Мелькают по сторонам шоссе чудесные березовые рощи, сосняки, изумрудно-зеленые поля. Вдруг в просветах среди лесов на равнине голубеют разливы громадных озер.
И вот он, Ялуторовск, бывший когда-то крепостью, обнесенной острогом, сторожившей Тюмень от татарских набегов. Сейчас это оживленный, славный городок. От старого — добротные деревянные дома, из лиственницы, длинные заборы по-сибирски просторных оград; новое — гордость ялуторовцев — молочно-консервный комбинат, один из крупнейших в стране. После осмотра его отлично оборудованных цехов мы с удовольствием не то что попробовали выпускаемую продукцию, а, присев у длинных столов, по-настоящему воздали должное необыкновенным по вкусу свежим и нежным сыркам, кефирам и мороженому. Нашлись охотники и до сухого масла и молока в порошке.
Поговорив с рабочими, мы снова прошли по высоким, светлым цехам и поехали в Музей декабристов. Он помещается в одноэтажном деревянном доме, обшитом потемневшим от времени тесом, где с 1838 по 1856 год жил Матвей Иванович Муравьев-Апостол.
Странно и хорошо смотреть на этот дом, где протекала жизнь ссыльных дворян-революционеров. Как ходили Муравьев-Апостол и его друзья по немощеной, наверное, поросшей травкой улице с березками в палисадниках, с тучами надоедливых комаров? Как смотрели их жены, привыкшие к столичным выездам, балам, нарядам, в низенькие окна со ставнями и железными болтами…
С волнением входили мы на скромную веранду, пристроенную Муравьевым-Апостолом после покупки дома, где он сначала жил на квартире.
У порога нас встретил директор музея Николай Васильевич Зубарев, ветеран Великой Отечественной войны, майор с четырьмя рядами орденских колодок, местный уроженец, громкоголосый, огромного роста, длиннорукий и длинноногий человек. Блестя глубоко сидевшими, ярко-черными глазами и точно лакированным, плотно лежавшим зачесом волос, разордевшись всем смугло-пригожим лицом, он азартно и влюбленно, будто о своих лучших знакомых, рассказывал о Матвее Ивановиче и его друзьях, водил нас по комнатам, гордо хвалился экспонатами, которым позавидовал бы любой столичный исторический музей.
Ялуторовск служил местом ссылки — для декабристов, народовольцев, большевиков; много замечательных людей России прошли сюда наряду с уголовниками по таежному тракту, громыхая кандалами. Тайга безлюдная, на тысячи верст окрест, была для них самой строгой тюрьмой: сторожила зимой лютыми морозами, глубокими снегами, летом — болотами и тучами комаров да липкой, тоже кусачей мошкарой, которую народ наименовал коротко и метко — «гнус». Но, попривыкнув к жизни в отдаленных краях, ссыльные убедились, что Сибирь не так уж сурова: она баловала их рыбой, которой искони славились здешние реки, дичью, пушным зверем, кедровыми орехами, ягодами, грибами. Возникли добрые отношения с местными жителями.
Не имея надежды вырваться отсюда, Матвей Иванович написал письмо потомкам — «будущим археологам для пользы и удовольствия», — и оно, запечатанное в кургузой бутылке с длинным, как у гуся, горлом, девяносто три года пролежало под печью. В 1948 году во время ремонта дома, когда вынимали толстую плаху пола, нашли это письмо, поехали с ним в Москву и после того решили открыть в Ялуторовске краеведческий музей памяти декабристов.
Осматриваем гостиную, обставленную мебелью карельской березы: диван, кресло, стол с чернильным прибором и гусиными перьями — личные вещи Муравьева-Апостола. На камине — часы, принадлежавшие ему. И картины именные: декабристы в Ялуторовске, дом Пашкова в Москве — гравюра столетней давности. Люстра со свечами — тоже того времени, как и маленький черный клавесин с двумя подсвечниками. В доме всегда шумела молодежь: у Матвея Ивановича было четыре сына и шесть дочерей. В кабинете в старинных шкафах хранятся семьсот книг с автографами Муравьева-Апостола, и, конечно, очень досадно, что мы не смогли за недостатком времени хотя бы полистать их.
Девять человек, участников событий на Сенатской площади отбывали ссылку в Ялуторовске, не теряя духовной связи с центром. Тринадцать лет прожил Иван Иванович Пущин, получив здесь более пятисот писем. Иван Дмитриевич Якушкин (домик которого перенесен теперь во двор муравьевского дома, где строится новое каменное здание для музея декабристов) умудрялся получать через почтмейстера даже «Колокол» Герцена!
Декабристы устроили здесь парк, громадные березы которого сохранились до сих пор, окруженные молодой порослью, и многому научили местных жителей. Василий Карлович Тизенгаузен, проведший в Ялуторовске двадцать три года, первым посадил саженцы яблонь, Муравьев-Апостол разводил картофель, а Иван Дмитриевич Якушкин открыл первую в России школу для девушек.
— Пять районов нынешней области входили в Ялуторовский уезд и два Курганских, включая и город Курган.
— Жил здесь и Евгений Петрович Оболенский, бывший адъютант командующего всей пехотой России, и Николай Басаргин, который женился на старшей сестре Менделеева — уроженца Тобольска, — с увлечением говорил директор музея, и мы, понимая его радостную гордость, от души разделяли ее.
В тот же день отправились на рыбалку, на озеро Сингуль, неподалеку от Ялуторовска. Надобно сказать, что рыбу мы ловили… ложками в столовой замечательного пионерского лагеря, на огромной веранде, затененной зелеными завесами, сделанными ребятишками из гирлянд березовых листьев. Поразительна, особенно при вечерней заре, красота широко и далеко расхлестнувшегося водного зеркала. «Сингуль» по-татарски — «глубокое». У этого озера двойное дно: сверху светлая вода метров семь глубиною, потом во всю громаду ложа подстилка из торфа и водорослей, а под ней опять вода метров на пять и уже настоящее дно. В общем, хитрая ловушка для аквалангистов! Водится здесь во множестве небольшой, но очень вкусный золотистый карась.
На другой день наша литературная бригада выехала из Тюмени в Тобольск. Поезд шел медленно, как бы ощупывая новый путь, часто останавливался ни с того ни с сего среди дремучей тайги или болота, расцвеченного по залитым водою местам ярчайшими красками игравшего в небе заката. Мы радовались, как дети, этой необычной поездке: освоению впервые проложенной дороги, красной полосе зари в плоских берегах таежной речки, вдруг раздвигавшей черный лес, мохнатому кедрачу, взметнувшему в сизое небо свои издалека приметные густые макушки, белокорым и в сумраке березам.
Ночь стояла прозрачно-бледная, напоминая о близости Севера, и месяц светил, прячась за вершины деревьев. А к утру по дикой тайге поползли над болотами, над мокрыми лугами холодные белесые туманы, заклубились среди островерхих ельников. Зябко, неуютно стало и в вагонах. Сквозь запотевшие стекла окон уже по-иному, пугающе, глянул серый сумрак, рисуя в воображении бездонные топи, безлюдные дали, колдовские лешачьи урочища, грозящие гибелью одинокому человеку.
Но утро приветствовало нас на берегу Иртыша теплом и солнцем, разогнав невольно навеянную ночную жуть, а длинный ажурный мост — подарок Тобольску от тюменских строителей, приняв поезд в свои стальные объятия, напомнил о том, что дружный труд людей все может превозмочь.
Проехали Сузгун, где, по преданию, бросилась с обрыва в Иртыш одна из жен Кучума, красавица Сузги, когда казаки Ермака вступили на ханский двор. Щедро, смачно зеленеют тут могучие кедры, а ели, согретые солнцем, не так сердито щетинятся вдоль берегового ущелья. И уже выбегают навстречу с горы деревянные затейливые домики старинной постройки.
Тобольск, первый стольный град Сибири! Герб его — два соболя, стоящие на задних лапах, и стрела между ними — был и гербом сибирским, а воеводы правили землями вплоть до Якутска и пограничной черты по Амуру, включая берега Тихого океана. Вся пушнина, собираемая на гигантской территории, как ясак с покоренных племен, шла в Москву через Тобольск.
В октябре 1712 года сюда прибыл уже не воевода, а губернатор — князь Матвей Гагарин, которого называли сибирским Меншиковым. При нем на высоченной круче иртышского берега закончено строительство прекрасного белокаменного кремля.
Отсюда, с этой кручи, виден вверх по Иртышу тот Подчувашский мыс, где Ермак разбил войско Кучума, видны устье Тобола и все далекое низменное заречье, тонущее в голубой дымке. Иртыш идет внизу сплошной, широченный, как у Гоголя, — «не зашелохнет, не загремит». Могуче-полноводный, он еще намного превышает межень после недавнего бурного половодья, причинившего немало бед. Природа здесь — сила! И люди тоже. Много славных сынов породил Тобольск: поэта Ершова, автора сказки о Коньке-Горбунке, знаменитого химика Менделеева, художника Перова, композитора Алябьева.
Побывав в первом театре Сибири — деревянном, причудливой архитектуры здании девятнадцатого века, где так и представляется на каждом шагу Онегин и Татьяна Ларина, мы едем на городское кладбище. Оно называется Завальным — значит, находилось когда-то за крепостным валом. Ему двести лет, тут все дышит величавым покоем: колоссальные березы, кедры и тополя, не тесня друг друга, высоко вздымают отяжелевшие кроны над старыми могилами, заросшими пышными, нетронуто-чистыми травами, над крестами и памятниками. Солнце свободно гуляет по могучим стволам. Хорошо тут отдыхать после щедрой на горести жизни!
Среди буйной зелени возле ярко-белой церкви Семи отроков, под развесистым тополем две прямоугольные черные глыбы — могилы Вильгельма Кюхельбекера, умершего в 1846 году, и похороненного годом раньше декабриста князя Александра Барятинского, друга Павла Пестеля, повешенного царем в Петербурге.
Кюхля! Стоим, потрясенные внезапным взрывом чувств, мыслей, волнующих представлений: кипучая в своем росте Тюмень, разбуженный после застоя Тобольск, первый гудок поезда на Иртыше, наступление на Север могучей индустрии, а перед нами могила любимого товарища Пушкина…
Под этим тополем, приехав на поселение из Иркутска, уже совсем больной и слепой, стоял Кюхельбекер и плакал, слушая, как читали ему надпись на могиле Барятинского: «Друзья и товарищи изгнания проводили его тело до дверей вечности и вручили его душу вечной благости искупителя».
Вспоминаю ночную таежную жуть… Каким холодом обдавала она изгнанников русской столицы, ступавших впервые по сибирской земле после жестокой расправы твердолобого самодержца. Предчувствовали ли они, что их жизнь не пропадет даром, что их следы здесь никогда не сотрутся?!
Барятинский и Кюхля! А неподалеку, между кустами желтой акации, — могилы Ершова, автора неумирающей сказки о Коньке-Горбунке, и поэта-революционера Гаврилы Батенькова, уроженца Тобольска, пробывшего в дальней ссылке десять лет. Здесь же, на Завальном кладбище, похоронены Александр Михайлович Муравьев и выдающийся украинский писатель-революционер Павло Грабовский. Глубокий подтекст чувствуется в надписи на чугунном пьедестале надгробия Муравьева: «…сам спаситель в общее восстание воскресит твой прах». Эта вера оправдана, только не спаситель, а благородный народ воскресил память о героях.
Великой славой с древних времен овеян город Ермака, а заглох он потому, что в 1885 году была оборвана в Тюмени ветка железной дороги: царское правительство не хотело разрушать свою таежную тюрьму, куда ссыльные могли следовать лишь гужевым да пешим этапом.
Так явились декабристы, так прошли потом народовольцы, и Достоевский, и Короленко, и большевики-ленинцы. Пол-России можно было выслать сюда! Но ее стремились просто обезглавить, высылая революционеров в отдаленные места.
Самое большое впечатление произвели на меня в тобольском музее не отличный отдел этнографии с массой предметов домашнего обихода северных племен земли Югорской, как раньше называлось Приобье, не чудные вышивки на одежде и жертвенных покрывалах ханты и манси, не «стоимость топора» — пучки шкурок белки, горностая, норки, продетых через втулку железного колуна — нет, будто обожгли клейма, которыми метили арестантов. Большие буквы-трафареты, выведенные тремя рядами толстых коротких иголок: «Б» — бродяга, «А» — арестант, «В» — вор, «С. К.» — ссыльнокаторжный. Раскаливали эти клейма до белого каления, обмакивали в краску и припечатывали с маху на тело осужденного. Тут же плеть с железным кольцом на конце и копия колокола, сосланного сюда из Углича по приказу Бориса Годунова в 1591 году за то, что в него били в набат после убийства царевича Дмитрия. Колоколу оторвали язык и ухо, потом его били плетьми, как живого человека, и отправили в Тобольск. Обратно в Углич его возвратили через триста лет.
А в 1917 году по путям-дорогам, проторенным первопроходцами Сибири, переселенцами и ссыльнокаторжными, в Тобольск пожаловал развенчанный русский царь Николай Второй. Здесь он жид со своей семьей, прогуливался под охраной по улице бывшей столицы Сибири, молился в небольшой часовне, окруженной деревьями. Позднее его увезли в Екатеринбург. Странное историческое совпадение: первый Романов «венчался на царство» в Ипатьевском монастыре, последний был расстрелян через триста лет в доме Ипатьева.
Встречу писателей с тоболяками устроили во дворе кремля, густо заросшем изумрудно-зеленой травкой.
Чудесный солнечный день уже клонился к вечеру, в небе ни облачка. Ярко белели на синеве неба круглые башни, мощные стены и высокая колокольня собора Софии.
На просторном ковре природного газона среди белизны замкнутых мощных стен стояли тысячи тоболяков, празднично оживленных. Особенно врезалась в память совсем юная розовощекая девушка с роскошной косой, светящейся на солнце сплошным потоком золотых искр. Только бы парчовый сарафан на нее да кокошник. Ребятишки, как водится, набились в передние ряды у трибуны, покрытой коврами.
Стоило посмотреть, как слушали приезжих писателей, как смеялись, рукоплескали, сколько книг и открыток передавали для получения автографов, чтобы убедиться в любви к советской литературе, в необходимости таких встреч.
Ожидая своего выступления, я страшно волновалась. Мне хотелось передать привет этим людям, сказать, что одной половиной своего существа я сродни им, потому что мой отец, мещанин Дмитрий Степанович Коптяев, пришел на Дальний Восток отсюда, из Тобольска, и, когда я была маленькая, меня называли дома «упрямой белоглазой тоболячкой». Однако о моем творчестве неожиданно очень тепло высказался Григорий Коновалов, а так как нас приехало около сорока человек, то повторяться было невозможно.
Но когда мы сходили с трибуны, пожилая, просто одетая женщина пробралась ко мне сквозь толпу и сказала со слезами в голосе:
— Что же вы не выступили? Я пришла… Так ждала. Ведь прочитала все ваши книги. — И резко, даже гневно повернувшись, пошла обратно.
Я хотела пойти за ней, расспросить, успокоить, но наш заботник из бюро пропаганды, вездесущий Дмитрий Ефимович Ляшкевич, бывший уже начеку, подхватил меня под руку и, сильный, как трактор, потащил к выходу. Времени не было: под берегом Иртыша нас ожидал теплоход «Ленинский комсомол», на котором мы должны плыть в Ханты-Мансийский округ — центр добычи тюменской нефти. Другая группа улетала в Салехард и Уренгой, третья — в Березово, где тоже шумел газ, а четвертая прямо из Тюмени ехала на машинах к хлеборобам южных районов области.
Синим вечером наш теплоход отвалил от берега и вышел на вольный простор Иртыша. Писатели стояли на верхней палубе, смотрели на удалявшуюся кручу, увенчанную белой шапкой кремля, а у меня в душе саднила да саднила невысказанная печаль — волнующее предчувствие необходимости новой встречи с Тобольском.
Смотрела на берега и думала: здесь лет сто назад родился мой отец… У нас в семье никогда не говорили о нем: мать была сурово сдержанной в выражении своих чувств, а мы его не помнили… Что погнало его отсюда на амурские земли? Нужда? Избыток молодых сил? Жажда разбогатеть на золотых приисках? Словно наяву вижу в надвигающихся сумерках на древних улицах Тобольска, на пристанях его — веселого, крепкого, сероглазого сибиряка. Но как он ходил? Как говорил? Когда, с какою «ватагой» и каким путем прошел в верховья Амура, куда отовсюду пробирался сильный и смелый народ?
Что такое чувство родства? Отчего эта щемящая сердце печаль, ведь я совсем случайно попала в Тобольск…
Падает навстречу новый ажурный мост через Иртыш, движутся лесистые берега: плоский пойменный — слева, круто-обрывистый — справа. Бросалась ли в Иртыш красавица Сузги? Может быть, сказка?
Но отец мой, которого я видела только в младенчестве, и трагическая смерть его, которую он нашел вместо богатства на месте, где теперь будет дно Зейского моря, — это быль. И как бы мне хотелось теперь хоть что-нибудь узнать о нем, хотя бы год его рождения, канувший в глубину столетия!
Сейчас на палубе только вольный таежный ветер да я с грузом воспоминаний шестидесятилетнего человека, совсем не чувствующего своей старости, но поневоле ворочающего глыбами, горами временных наслоений.
Что там было в прошлом? Моя мать работала горничной у богачей Ворошиловых, живших на Зее-пристани, когда прошел слух, что у золотопромышленника Коптяева на прииске Полуденном зверски убиты беременная жена и малолетний сын. Смешливая в юности мать, услышав об этом в людской, отчего-то начала смеяться нервно, бурно.
«Как тебе не грех, Настенка!» — прикрикнула на нее старшая прислуга.
А потом Настенку увидел овдовевший Коптяев… Она пошла за него на троих осиротевших детей, и он увез ее с сестрой-подростком Анной в верховья Зеи, на тот Полуденный прииск, в тот дом, где были убиты его первая жена и сын.
«Вот натерпелись мы там страху, когда уезжал отец, — рассказывала мне однажды старушка-тетка. — В доме все было некрашеное и сколько ни мыли, ни скоблили, а на полу в передней проступали кровяные пятна, и на ставне, которым закрывали лаз в кухню, и на скобке двери, и на самой двери тоже… Убили-то Анну Ефимовну не сразу — пытали насчет золота. На глазах у ребятишек творилось такое. Старшенький Миша подбежал, и его тут же пробили ломом, которым и ее, после всех мучений, пронзили. Потом мы переехали на соседний прииск Южный, где ты родилась. Прииски-то по сравнению с нынешними — звание одно. Рядом, в тайге, ворошились мелкие артельки старателей. Рыли ямы, лотками мыли. А мы на стану жили. Дом на четыре комнаты с открытой верандой, кухня в стороне стояла под сопочкой — бегали туда по деревянному настилу. Стайка там, конюшня — в пристройку, качели для вас — ребят — под навесом. Да барачек, где жила семья рабочих. Вот и весь поселок. Был еще амбар (без окон), прирубленный к дому под одной крышей. Из этого амбара отец отпускал рабочим продукты, в нем его и убили».
Он работал раньше служащим в Верхне-Амурской компании, а после стал арендовать богом проклятые эти прииски. И как раз в тот год, когда ему на прииске Воскресенском попало богатое золотишко, случилась беда.
Характером он был веселый, гостей любил. Другой раз приедет один — заведет граммофон:
«Ну, Нюрча, давай плясать».
Пляшем. Мне коса мешает — тяжелая, светлая, как овсяный сноп, я ее оберну вокруг шеи, за пояс заткну и прыгаю, а он рядом чечетку бьет, покрикивает:
«Больше жару, Нюрча!»
Мать — домоседка — все с книжкой — она читать хорошо умела, — смотрит на нас, как на маленьких, да смеется. Но боялась она и на Южном и просила Дмитрия:
«Уедем отсюда. Убьют нас здесь».
Дмитрий Степанович говорил:
«Я один с десятком справлюсь. А ты ночи не бойся — дня бойся».
Они и явились днем, три китайца-хунхуза, и он пошел с ними в амбар — попросили продать крупы да лапши. А кроме него и матери, которая шила на веранде детское бельишко, из взрослых на стану никого не было (я в ту пору уже замуж вышла). Вы играли у кухни под навесом. И вдруг отец крикнул:
«Настя, спасайся!»
Она побежала, но не прятаться, а к нему. Китаец, стоявший на страже, догнал ее и рубанул топором в спину. Тогда она повернула к детям, и он ударил ее еще обухом по голове. Упала Настя среди двора… Старшие сестренки, которые видели смерть родной матери, бросились за рабочий барак, по мосту через ключ в пади, на дорогу к Дамбукинскому тракту и вас с собой утащили.
Ночью наехал народ, который вы всполошили, встретив на дороге возчиков. Отец лежал в амбаре мертвый. На нем было до двадцати ножевых ран — сопротивлялся шибко. А мать очнулась и уползла в тайгу. Ее искали. Она слышала голоса, видела свет фонарей, но отозваться боялась — думала, что это разбойники. Ей казалось, что у нее разрублена голова, она сняла с себя байковую юбку, разорвала (вот какую силищу имела!), завязала себе голову, забилась в чащу и легла на спину в мокрый мох у ключа. Мы в этот ключ за ягодой-моховкой бегали. Вроде крыжовника ягода: зеленая, сладкая, только кусточки, как травка, так и стелются в сырых местах, где тень густая…
Только на другой день принесли мать домой, а она сказала:
«Хочу видеть Дмитрия!»
Взяли под руки, повели. Распахнули дверь в амбар, Настя глянула и повалилась без памяти.
Несколько дней, пока не приехали следователи и полицейское начальство, лежал он в амбаре, на полу, ухлестанном кровью. За это время успел наведаться к сестре фельдшер, наложил ей швы на рану, которая была в целую ладонь. Ничего не стерилизовали, не кипятили, вокруг ходили мужики в сапогах и грязных телогрейках. Ваше сиротское счастье, что мать выдюжила. Хватила она потом горя с вами, но всех вырастила.
Конечно, нам посчастливилось! Но когда я вспоминаю о смерти отца, сразу возникает мысль о жестоком законе тайги того времени. Дома в семье отец был хорош. И еще не успел он стать тем хищником, какими, по существу, являлись золотопромышленники, сплошь да рядом сколачивавшие себе капитал обманом и беспощадной эксплуатацией горнорабочих.
То, что не успел, — к лучшему, но сама эта напрасно пролитая кровь (обычное явление в старой тайге), дважды запятнавшая наше детство, вместе с великим множеством других убийств, накладывает страшный отпечаток на прошлое, когда шло освоение богатств дальневосточного края: кровью и слезами омывались они.
Стоило прожить долгие трудные годы только ради того, чтобы увидеть, как осваиваются такие богатства в советское время. Давайте припомним освоение Алдана (после трех лет бешеной золотой лихорадки), золото Колымы, Чукотки, Каракумов, сказочные месторождения алмазов Якутии, нефть Башкирии, Татарии и вот теперь — Тюмень.
Не слезы, а радость и свет приносят они людям, потому что перестали быть объектом личной наживы, и в самых глухих дебрях, где происходят открытия, возникает кипучая веселая жизнь.
Двадцать четвертого июля, в жаркий солнечный день наш теплоход причалил к гористому берегу Иртыша. Направо от взвоза, на желто-глинистом обрыве лежат вповалку деревья, вывернутые с корнем не то ветром, не то оползнем. Слева, на низкой береговой террасе, деревянные склады и навалы грузов под открытым небом.
Садимся в автобусы… Навстречу — рукой подать — густо-зеленые пушистые кедры, в одиночку шагающие к берегу. В лощине — огороды и старые деревянные домики, окруженные веселым хвойным лесом, — бывший поселок Горнофилинск. Теперь здесь Горноправдинск — городок нефтеразведочной геологической экспедиции, где вершит делами Фарман Курбанович Салманов [9], о котором мне говорил Эрвье. Салманов — настоящий боевой командир в тайге Среднего Приобья, а комиссаром у него Анатолий Ермолаевич Наумов — секретарь правдинской партийной организации.
Мы встретились с ними у конторы экспедиции возле ярких цветочных клумб… Салманов, охотно-улыбчивый, быстроглазый, с легкой шапкой разлетающихся кудрей, тронутых ранней проседью, сразу привлекал внимание. Чувствовалось, что это решительный, горячий человек, способный и вспылить, и поговорить по душам, — не зря заслужил он такой большой авторитет у разведчиков, которые в часы отдыха добровольно превращаются в плотников, штукатуров, землекопов и слесарей на строительстве своего поселка.
Разведчики-строители? Виданное ли дело! Уже давно укоренилось мнение, что они чуть ли не всегда должны жить вроде кочевых цыган. Мне приходилось наблюдать в Башкирии и Татарии в пору освоения нефти (да и позднее, когда уже были построены чудные молодые города — Альметьевск, Лениногорск), как буровики ютились с семьями в холодных сарайчиках и сырых каменных кладовках во дворах деревенских жителей. Ни бани, ни пекарни. О клубе говорить нечего!
Но ведь бурение скважин — не полевые поиски, когда разведчики идут да идут по земле с молотком и рюкзаком за плечами, а за ними следует «обоз» — лошади с вьюками, где продукты, палатки-жилье и железная печка. У буровиков есть время не только обосноваться самим, но и подготовить жилую площадь для постоянных кадров нефтедобычи, если нефть ими уже обнаружена.
— Мы назвали свой поселок Горноправдинском в честь газеты «Правда»: она нам очень помогла в борьбе со скептиками и не верившими в наши перспективы экономистами, — сказал Салманов, когда мы шагали по новеньким деревянным тротуарам мимо двухэтажных, тоже новых, домов. — Сейчас в поселке живет две тысячи человек. Жильем обеспечены все. Есть Дом культуры, теплицы, столовые и, говорят, образцовый детский сад. Вот посмотрите сами!.. У нас очень много детей. Люди гордятся своим местожительством, полюбили его, а поэтому у нас нет милиции. Ей нечего тут делать.
— Значит, вы замещаете и начальника милиции?
Салманов смеется, встряхнув взвихренными кудрями, и дерзкий его профиль с коротким прямым носом становится еще задорнее. Глаза разведчика — широкие, цепкие, вдруг напоминают мне одного из прототипов моего Джабара Самедова из «Дара земли», азербайджанца-буровика, ставшего потом директором буртреста. Джабар, как и тот, кто был его прообразом, не терпел препятствий на своем пути и умел справляться с ними. А что писал о Салманове журналист Евгений Лученецкий в 1964 году в книге очерков «Подвиг совершается здесь»! Это в Сургутском районе, куда Салманов самовольно привез на баржах целую бригаду буровиков с семьями. Ему передали перед этим, что «начальство переиграло» и надо возвращаться обратно. «Фарман Курбанович сказал посыльному:
— Слушай, я тебя нэ видел, ты меня нэ видел! — Салманов погрозил пальцем. — Нэ видэлись! — и выскользнул из комнаты.
Сам закончил погрузку на баржу и уехал с людьми в Сургут».
Бурили там, а нефти не было. И хотя секретарь обкома А. К. Протозанов оказывал поддержку Фарману и главному геологу экспедиции Борису Власовичу Савельеву, начальство не отказалось от мысли ликвидировать разведку в Сургуте даже после того, как на Нижневартовской структуре «пробрызнул» один фонтан. В 1961 году окончательно подготовили ликвидацию Сургутской экспедиции, и тут ударил мощный фонтан на реке Меге, оправдавший сразу надежды геологов, их героическую строптивость в борьбе со злой природой и неверием в их поиски и всю горечь временных поражений. Фарман послал телеграмму в главк: «Двести сорок тонн, вы понимаете?»
В Сургутском районе Салманов был в числе основателей нового поселка Нефтеюганска рядом с Усть-Балыком, откуда в 1964 году пошли первые сотни тонн нефти в Омск на переработку. А теперь он ведет разведку в Правдинской экспедиции…
— Территории у нас громадные, высокопродуктивные, но изучены пока на пятьдесят процентов, не больше, — говорит Салманов, ведя нас по своим владениям. — Мы здесь бурим в радиусе до трехсот километров и уже открыли несколько нефтяных месторождений. Вахты улетают на вертолетах (нам без вертолетов нельзя — они наше спасение). Пятнадцать дней разведчики на буровых, потом отдыхают дома целую неделю и опять в тайгу. Плохо то, что многие ваши книги не доходят сюда, а в наших условиях они очень нужны. Представьте себе: буровики работают восемь часов, а шестнадцать часов комаров кормить не будешь. Читали бы книги, да нету их.
Стараемся создать все возможности для хорошей жизни в Горноправдинске. Тут у нас и Дом культуры, и библиотека. В квартирах паровое отопление, газовые плиты, водопровод. Сейчас заканчиваем однодневный дом отдыха — там будет и гостиница для приезжих. В строительстве принимают участие разведчики и их жены, которые трудятся как геологи, учителя, врачи, работники магазинов и столовых. Пока появятся здесь оседлые жители — нефтяники, мы еще лет пять пробудем в Горноправдинске. Потом двинемся дальше. Такова судьба разведчиков. Жена и сын всюду со мной. Я за восемнадцать лет в Сибири сменил десять мест, а мой заместитель Михаил Иванович Ветров работает уже на двадцатом.
В Горноправдинске действительно есть все «для хорошей жизни». Нарядно выглядят среди темнохвойного леса благоустроенные дома — на восемь и на двенадцать квартир. Особенно выделяются бело-голубые коттеджи детского сада. Цветы на клумбах прекрасно себя чувствуют по соседству с кедрами и пихтами, которые стоят на такой чистой земле, будто ее подметают и поливают каждый день.
— Столько неприятностей имели с пожарниками! — с неожиданным серьезным огорчением пожаловался Салманов. — Вырубайте, мол, все подряд — и точка. Никаких доводов не слушали. Два раза платил штраф… из своего кармана, но лес, как видите, мы отстояли. Разбили его на отдельные участки, вычистили. Тут от брошенного окурка не загорится, специально поджигать надо!
Заведующая детским садом смуглая украинка Наталья Андреевна Рябенко, тоже влюбленная в Сибирь, приветливо улыбается нам и сразу ведет осматривать живой уголок.
— Дети сейчас отдыхают, у них послеобеденный сон, — сообщает она, жмурясь от яркого солнца. — Они тут все сами: о птицах и зверьках заботятся, за цветами ухаживают и за грядками. Овощами, правда, мы обеспечены — теплицы у нас замечательные, но стараемся приучать детей к труду, хочется, чтобы они научились любить природу. У них тут есть домашние животные: лошадь, корова, разные птицы, зверюшки дикие и даже вот… — Рябенко подводит нас к железной сетке вольеры. — Это Машка.
Машка, молодая сытая медведица, демонстративно отворачивается от писателей, садится, наваливаясь круглым задом на решетку, и начинает чесать ухо задней лапой с длиннющими крючковатыми когтями и черной подушечкой подошвы. Жирно подрагивает спина зверя, одетая пышным серебристо-бурым мехом.
«Нате, выкусите!» — говорит вся нагловато-вызывающая поза Машки.
— Уж будто не можешь прилично почесаться, озорница! — весело укорила ее Рябенко. — Разведчики шутят: если вам надо, то Салманов и крокодила для садика достанет.
Наталья Александровна помолчала и добавила серьезно:
— Конечно, достанет.
Сразу видно, как она довольна своей работой в этом отличном детском саду и жизнью в Горноправдинске.
Тихонько, чтобы не беспокоить спящих детей, мы проходим по корпусам. В спальнях и столовой чистота и теплый уют, созданный любовными материнскими руками. А на вымытых недавно крылечках длинные ряды детских туфель и башмаков ожидают маленьких хозяев жизни, шагающих вместе с нефтяными вышками по земле Тюмени. Спят вихрастые, загорелые, растут и копят силы для своего трудового завтрашнего дня. Не страшны им ни дикие звери, ни злые люди. Даже угрюмая тайга улыбается им — будущим открывателям ее богатств.
Напротив Дома культуры, одетого, как рыбьей чешуей, деревянными пластинками, — домик-сказка из березовых с корою бревен — белый киоск для продажи минеральной воды и мороженого, тоже отличная выдумка! А на лесном взгорье строится замечательный профилакторий — однодневный дом отдыха с видом на поселок, на зеленые пышные кедры и ели.
— Теперь пойдемте в теплицы! — приглашает Салманов с улыбкой, не затененной черными его усами, и кивает инженеру-строителю Александру Николаевичу Устьянцеву, уже двадцать лет работающему в тайге Тюмени. — Зовите товарищей писателей!
И мы весело нагрянули в теплицы — хозяйство агронома Юлии Беловой, совсем молодой с виду, но имеющей большой опыт работы.
— Вы тут все удивительно хорошо выглядите, — говорим мы Юлии. — Значит, суровый здешний климат на пользу людям!
— Я после окончания Ашхабадского сельскохозяйственного института работала десять лет агрономом в Казахстане да столько же в Туркмении. Теперь тут акклиматизировалась. И не только я… вот сорт — ленинградский скороспелый — тоже привился. — Белова пропускает нас в теплицу, где, подвязанные шпагатами, тянутся к потолку чудо-помидоры, сплошь унизанные спеющими красными плодами. — Обеспечиваем своих жителей и… гостей неплохо. Пробуйте, пожалуйста!
После ужина в столовой мы возвращаемся «домой», на борт теплохода. Наш молодой бравый капитан Андрей Дмитриевич Сургутсков сообщает нам по секрету, что он местный уроженец и что по пути к Ханты-Мансийску мы пройдем мимо его родной деревни Реполово. Десятилетний сын капитана Леня ездит с отцом в рейс, сестренка дома, в яслях, а мать работает бухгалтером. Мальчик, наверное, будет потомственным речником. Надо видеть, с какой гордостью он смотрит на отца, когда тот стоит на капитанском мостике или в свободное время рисует этюды, бело-синие, яркие — Обь и теплоходы. Вся команда, и директор ресторана Александра Филипповна Филиппенко, и шеф-повар Евгений Михайлович относятся к нам с особенной теплотой. И уже сколько раз в пути при постоянных встречах с друзьями-читателями мы думали: «Как хорошо и как ответственно быть писателем! Сколько пытливых глаз и настороженных ушей обращается к нам. И чтобы оправдать это доверие, надо всегда держать сухим порох в своей пороховнице. Не отставать! Не зазнаваться! Ведь все, о чем пишем и чем живем, мы берем от нашего народа, самого трудолюбивого и самого доброго в мире».
Нынче, когда бесновался в половодье Иртыш, богатый суводями, — где и в межень прижимное течение раскачивает суда, — когда Обь разлилась неоглядно, многие деревни оказались затопленными, и матросы-речники повсюду оказывали помощь сельским жителям, вывозя их в города и поселки. Уже после отхода от Горноправдинска Салманов, поехавший с нами в Ханты-Мансийск, рассказал нам, что семья заведующей детсадом Натальи Рябенко приютила пятерых ребятишек да старушку, а предложили уплатить — обиделась. И все нефтяники также бескорыстно помогали пострадавшим.
Ханты-Мансийск — центр огромного национального округа — стоит на высоком лесистом мысу там, где Иртыш впадает в Обь, а ниже на правом берегу Иртыша привольно раскинулось бывшее село Самарово, основанное триста лет тому назад и ставшее теперь портом окружного города, находящегося «за горой», ближе к Оби.
В Самарово нас встретила председатель окрисполкома Антонина Георгиевна Григорьева, по отцу из племени ханты, моложавая миловидная женщина, вершащая делами семи районов. И каких легендарных районов: Кондинского, Сургутского, Нижневартовского, Ханты-Мансийского, Березовского, Октябрьского, Советского! Сколько «под ее рукой» таежных поселков, в которых живут нефтяники, охотники, рыбаки, оленеводы, лесозаготовители, геологи, строители!
— Территория у нас — пятьсот тридцать пять тысяч квадратных километров, — с гордостью говорит Григорьева. Свежее, без морщинки, продолговатое лицо ее, неожиданно голубоглазое, с тонкими чертами, светится умом и жизнерадостностью. — Богатств округа не счесть, но населения маловато. Сейчас строится железная дорога Тюмень — Сургут, потом она пойдет до Нижневартовска. Это оживит наши просторы, хотя у нас уже есть железные дороги: Ивдель — Обь — четыреста сорок километров — связывает Урал и станцию Сергино на Оби в Октябрьском районе; вторая, тоже с Урала, Тавда — Сотник. Все благодаря нефти. А то глушь была первобытная. Единственный путь — реки… Вам Иртыш показался могучим, а вот завтра вы по Оби поедете… После Ханты-Мансийска она безлюдна, величава, местами разливы на десятки километров. Связь с районами — самолеты да вертолеты, а раньше только на пароходах, а в тайгу — на оленях.
— Часто вам приходится выезжать в районы?
— Конечно. То в стада (это совхозы оленеводческие), то к лесорубам, то в юрты к охотникам. И ханты и манси теперь оседлые, имеют настоящие поселки, но и охотникам и оленеводам приходится кочевать по тайге. Зверь не сидит на месте, и оленям тоже нужны свежие пастбища. Дети охотников и рыбаков учатся в наших городских интернатах, живут на полном государственном обеспечении, пока не закончат школы, на лето уезжают к родителям. Так для всех хорошо. Но бывает и плохо… Народ к нам приезжает разный! Бывали недоразумения со скупщиками пушнины в районе Сургута. Пьяницы попадаются, жулики продувные из бывших подсудимых. А ханты и манси — народ гордый, они спорить не станут. Легко их обмануть и потому, что есть малограмотные, а из стариков охотников и вовсе неграмотные. Вот и приходится следить, оберегать от проходимцев.
— Надо своих людей посылать с соответствующим образованием — комсомольцев, партийцев, чтобы язык знали и уважали охотников.
— Готовим кадры, но молодежь с образованием рвется на другую работу. Нефть перетягивает к себе, городская обстановка тоже. Понятно: город есть город! Мы создаем в Сургуте, Нефтеюганске и Вартовске промышленно-строительные базы, где изготовляются керамзитовые плиты, будет и кирпич в Локосово (это село на Оби) — пусть растут в тайге города!
Недавно мы были исключительно богаты рыбой. Муксун, нельма, осетр, стерлядь. А нефть, что ни говори, — неожиданность. И уловы упали. Теперь восстанавливаем поголовье, да и нефтяники начинают понимать, что рыба и нефть — лучше, чем одна нефть, что радужная пленка на реке — рыбья смерть…
Разговор с Григорьевой идет на территории рыбоконсервного комбината, куда нас повезли в первую очередь и где на конвейере мы вдруг обнаружили своих уже давних московских знакомых: треску и морского окуня.
— Улов речной рыбы за последние годы снизился, местами на Оби ловля ее временно запрещена, а завод должен работать на полную мощность, — как будто спокойно поясняет Григорьева, но в выражении ее лица сказывается невольная грусть.
Григорьевой пятьдесят лет. Мать ее русская, а отец — ханты, погиб в гражданскую войну на Обском Севере, воюя в партизанском отряде. Был он рыбак и охотник, жил со своей семьей в деревне Кондинского района, населенной русскими и местными жителями. Там в Конде — нынешнем нефтяном районе — и родилась Антонина, так что любовь у нее к здешнему краю врожденная и не зря она всю жизнь находится на партийно-советской работе. Десять лет в Сургуте председателем райисполкома, а теперь здесь заправляет делами. Муж ее — кооператор, уже на пенсии. Сын — геофизик, техник геофизической партии, старшая дочь в Адлере, на юге, сопровождает экскурсии туристов — она хорошо владеет немецким языком. Младшая дочь Людмила — диспетчер в Сургутском аэропорту.
Смотрю на Григорьеву с возрастающим интересом: и мать хорошая, и очень женственна в свои пятьдесят лет, прекрасно одета, пышные светлые волосы причесаны просто и строго, сдержанно строга и в манерах. Чувствуется, что здешние руководители-мужчины относятся к ней с большим уважением, а иные и побаиваются.
Она здесь — Советская власть и сама — дочь Советской власти. Возвращаюсь мысленно в прошлое, на пятьдесят лет назад: глухая тайга на реке Конде, — о которой мы услышали только после открытия нефти в Шаиме, — заболоченная, непролазная пойма. Озера. Топи. Комары. Угнетенный лес на торфяниках и кочковатых моховищах — няр.
Почти до 1960 года — ни земных дорог, ни небесных, только вьюками на лошади да на оленях. Тропы лесные, никем не меренные, на сотни километров ни одного жилья. Но в редких таежных поселках и деревнях, по берегам рек, жили советские люди, сильные, смелые, закаленные борьбой с суровой природой, крепко привязанные к своему неласковому родному краю, словом, настоящие сибиряки.
Видно, так уж заложено в нас от рождения, что не ценим, не бережем мы то, что легко достается, но зато добытое в трудностях на всю жизнь для нас дорого и мило.
Не потому ли такими глубокими корнями врастают сибиряки в родные края, что здесь все берется с бою? И тот, кто приезжает сюда не просто как турист, не в погоне за длинным рублем, — остается здесь на долгие годы, навсегда, заколдованный и белыми северными ночами, и могучим течением рек, и шорохами неохотно отступающей тайги.
Прочитайте книгу Ю. Г. Эрвье «Сибирские горизонты» — обратите внимание на то, как он, уроженец Грузии, пишет о Тюменском Севере:
«Ни с чем не сравнить южанину июльскую ночь в низовьях Оби. Солнце давно село за горизонт, а чудесная яркая заря пламенеет на небе. Широкая, в несколько километров, Обь тихо катит воды. На реке ни рябинки — зеркало, в котором отражается небо, но уже не яркими, а мягкими, пастельными тонами…
Полночь, а светло, можно свободно читать…
Когда я бываю летом на Севере, ночь завораживает меня, вызывает внутри какое-то ликование, глубокую благодарность природе, создавшей такую красоту».
Неотразимо действует Север и космически величавые просторы тайги и тундры на многих людей. Пугают они только слабых, не приспособленных к жизни.
До сих пор вид бегущих на экране оленей, снежный дымок, вьющийся за нартами среди белых торосов таежной реки, или черная тонкая штриховка леса по склонам побеленных зимою каменных гольцов вызывают у меня стеснение в груди. Это беспредметная, но непрестанная сладостная тоска по Северу, подавляемая лишь повседневными заботами и горячкой работы в круговороте жизни.
Воспоминания о совместной работе на Севере подобны воспоминаниям фронтовых друзей. Куда же уйти от всего этого коренному северянину? Что для него бездорожье, комары и болота? Особенно если даны средства ополчиться против них.
Не мудрено, что Антонина Григорьева — уроженка Сибири и дочь красного партизана — стала председателем районного Совета в Сургуте на большой Оби. Однако не за прекрасные голубые глаза ее избрали. Надо было много учиться и работать, чтобы заслужить доверие людей.
Сейчас у нее — председателя окрисполкома — еще больше забот. Одна из них — благоустройство Ханты-Мансийска.
Город растянулся далеко, оседлав горный перевал, отделяющий центр на Оби от пристани древнего Самарова, дома которого и рыбоконсервный комбинат расположены под кручей на берегу Иртыша.
О росте своих окружных городов: Урая, Нефтеюганска, Сургута, Горноправдинска — Антонина Григорьева говорит со сложным чувством гордости и зависти.
— Что мешает так же бурно расти Ханты-Мансийску?
Председатель окрисполкома не удивляется наивности вопроса: не всем ведь известно, что городские бюджеты составляются из отчислений местной промышленности и за разработку природных богатств своего района. А окружной центр отдален от нефтяных площадей.
— Один из самых знатных наших людей буровой мастер Семен Никитович Урусов, — сказала Григорьева, как будто уклонившись от ответа. — Урусов пробурил скважину номер шесть у реки Конды на шаимской структуре, открытой геофизиками методом речной сейсморазведки (у нас геологи посуху не ходят!). Так вот эта шестая скважина дала в тысяча девятьсот шестидесятом году первую промышленную нефть, а Семен Урусов, Герой Социалистического Труда, навсегда вошел в историю нашего края. Помимо того, что он явился первооткрывателем, его бригада через два года добилась самой высокой в стране проходки в разведочном бурении.
А неподалеку от шаимских скважин-первооткрывательниц, на месте крохотной деревушки, где жили лесорубы, вырос за несколько лет город нефтяников Урай. В нем живет больше двадцати тысяч человек. Конечно, электричество, водопровод, многоэтажные дома с паровым отоплением, настоящие мостовые. Все, как полагается. И сколько других таких городов появилось в округе! Для нас это особенно наглядные перемены в биографиях людей и нашего края. Все благодаря открытию нефти. В самом Ханты-Мансийске нефти пока нет, значит, и отчислений за богатства недр мы не получаем. Кое-что строим. Неплохо, немало строим, но нужно очень многое.
Автобус мчится по улице, идущей по нагорью с уютно поставленными среди пихт и кедров деревянными домиками. Вон водовоз, окруженный хвостом очереди. Женщины, покачивая ведрами на коромыслах, шагают в гору. Бегут им навстречу, размахивая пустыми ведрами, ребятишки, семенят старики.
— Нет водопровода! — В голосе Григорьевой досада, на лице румянец смущения, будто она сама виновата в том, что сибирячки носят воду на своих плечах.
А впереди — далеко видный из окна автобуса, раскинулся Ханты-Мансийск, широко разбежались зеленые в центре улицы, светлеют стены новых каменных зданий, деревянные теснятся по окраинам и возле протоки, где горбится мост.
— Народ ханты раньше назывался остяками, а манси — вогулами. В Самарово ставился летний чум князя Самара. Наши охотники и сейчас зимой пушнуют, а летом по тропам на оленях — сюда, — говорила Григорьева, поминутно прерывая свои рассказы о крае, чтобы показать нам то новое здание кино, то универмаг, то педучилище, где готовятся для нужд округа восемьсот учителей.
На улице Мира административные здания окружены посадками берез. Весело толпятся березы и в городском парке. Как заведено, во всех здешних молодых городах отдельными кварталами красуются поселки геофизиков, на которые мы смотрим теперь с особым уважением, строителей, авиаторов. До прошлого года воздух принадлежал гидросамолетам; зимой они садились на луга, летом — на реки. В 1969 году появился настоящий аэродром круглогодового действия.
Ан-2 и Ли-2 — великие труженики тайги, как и все вертолеты от Ми-1 до гигантов Ми-6 и Ми-8, которые в здешних условиях, точно слоны в джунглях, тащат тяжести — оборудование вышек, машины, сбрасывают десанты рубщиков, топографов, геофизиков.
Смотрю на разгоревшееся миловидное лицо председателя окрисполкома, пытаюсь вообразить сложность, огромность и многообразие ее работы. Чудесно то, что этот председатель — женщина, принадлежащая половиной своего существа племени ханты, и то, что она не исключение, а одна из «ста тысяч других в России», но не «простая», а, как и остальные, замечательный работник, выращенный Советской властью.
После осмотра города и краеведческого музея Григорьева завезла нас в контору треста геофизиков. Она ими гордится, а мы очень заинтересованы: ведь все представление о работе геологов нарушено тем, что здесь они «посуху не ходят». Как же иначе? Я сама прошла пешком по таежным тропам не одну тысячу километров и в Якутии, и на северо-востоке, по Магаданскому краю, и в родной Дальневосточной тайге. Отлично знаю условия работы поисковых партий. Знаю и сейсмическую разведку в нефтяных районах Башкирии и Татарии. Но все это на твердой земле. На Нефтяных Камнях в Баку знакомилась с тружениками морской нефти: скважины на эстакадах, проявления нефти и газа среди морских волн… Но как идет разведка на реках, в таежных болотах и озерах, где даже признаков нефти нет?
Едем по нагорью, по светлой сухой дороге среди чудного чистого пышнолапого леса (это все в черте города), и вдруг прогал среди густющих островерхих елок, и взгляд тонет в далеко и широко разлитой сказочной сини, спорящей с голубизной яркого северного неба. Это не Обь, не Иртыш, а, как здесь говорят, заливные сора. Перед нами Самаровский сор — покрытые водой луга, на которых весной гуляет, жирует, нерестится рыба.
На юру, где вольный ветер разгоняет полчища комаров, стоит контора геофизического треста. Управляющий трестом инженер-геолог Виталий Степанович Щербинин, высокий, стройный красавец, из своих тридцати восьми лет пятнадцать провел на Севере и в Тюмени, за исключением одного года командировки в Сирию. Жена его — тоже геофизик здешнего треста. Двое сыновей (десяти и тринадцати лет) родились на тюменской земле.
— Наша основная задача? Изучение земных недр и подготовка структур к глубокому бурению, — говорит Щербинин, разместив писателей в своем большом кабинете, простом, чистом, прохладно-уютном, с затянутыми марлей форточками. — У нас двенадцать разведочных партий, в которых работает тысяча триста человек, причем триста из них инженеры и техники. Люди едут сюда, стремясь к первооткрытиям; многих привлекает природа здешних мест. Для охотника — лучших не может быть! Мы выходим в поле, как говорят геологи, в начале декабря, когда промерзают болота, позволяя ехать куда угодно. Это для нас лучшее время. И тайга в зимнем уборе очень хороша. Основной транспорт — трактора и вездеходы, которые везут оборудование, а также вагончики-балки, где живут рабочие. Бурим скважины до двадцати пяти метров глубиной без применения раствора.
— А речная сейсморазведка?
— Речная — летом. У нас работают четыре сейсмические партии… По предложению начальника геофизической партии Александра Ксенофонтовича Шмелева в Тюмени родился совершенно новый метод для выявления подземных структур. Раньше в летнее время вести работы было невозможно, и вот Шмелев решил использовать речные пути. Он предложил сделать длинный плавучий бон из бревен, разместить на нем сейсмическую косу, свитую из проводов, и сейсмоприемники, а вдоль бона пропустить стальной трос и передвигать его буксирным катером, на котором устроить сейсмостанцию. Бурить гидромонитором, опускать взрывчатку и взрывать. Просто, и результаты хорошие. У нас нет ни одной речки, где бы мы не провели такую разведку, а теперь этот метод принят всеми нефтяниками страны. Он помог нам открыть нефть Шаима и Мегиона, газ Тазовского и Пуровского районов.
Щербинин просто расцвел, как маков цвет, рассказывая о своей работе…
— Выявляем структуры, а потом на них буровики открывают три-четыре месторождения нефти. Если вы в детстве мечтали об открытии кладов, то легко поймете состояние разведчика, получившего свой первый нефтяной фонтан. Всю душу после того вложит в поиски.
— У нас освоен еще один оригинальный метод разведки — сейсмозондирование с помощью самолетов. «Доводил» этот метод в районе Тобольска и Ханты-Мансийска Евгений Васильевич Сутормин. Методика простая: зондаж, взрыв и запись.
Как это делалось? Выбирали по карте места посадки: для самолетов Ан-2 — озера, которых у нас предостаточно, для вертолетов настилали на болотах площадки вроде квадратных плотов. В самолете или вертолете монтировалась сейсмостанция, а на другом завозилась бригада, гидромонитор для бурения скважины, взрывчатка и надувные лодки. Мы первые предложили сбрасывание сейсмостанции на зонд с вертолета контейнерами. До этого взрывы были риском для жизни людей.
— Вы тут на каждом шагу взрывы устраиваете!..
— Приходится. Территории у нас громадные, и на карте надо отметить множество точек, чтобы без бурения была известна глубина до отражающего горизонта. И чтобы каждая точка была не дальше десяти километров от другой. Метод сейсмозондирования совершенствуется до сих пор, но мы уже выявили им на земле Тюмени Шухтунгортскую зону поднятий, Красноленинский, Сургутский, Нижневартовский, Салымский и Ляминский своды. Есть ли нефть или газ в каждом таком своде, покажет только глубокое бурение, но без наших поисков буровики работали бы вслепую. Так и было, когда здесь бурились наобум дорогостоящие и, как правило, пустые опорные скважины, создавшие вначале плохую славу Тюмени. А с развитием геофизических работ все пошло по-иному. Судите сами. Сейсмозондаж помог площадной сейсморазведке правильно ориентироваться в Сургутском и Мегионском районах, что дало возможность открыть Южно-Балыкские, Западно-Сургутские, Ватинские и Северо-Покурские месторождения нефти. Так мы создали фронт широкого наступления для буровой разведки в Тюменской тайге и в тундре.
Мы слушали Щербинина и думали о том, какие сильные, богатые тылы, сколько средств и техники нужно для такого наступления. Тут действительно нет условий для обычной поисковой партии, работающей в летнее время. Все упрятано на дне под тысячеметровой толщей осадочных горных пород, заросшей сверху дремучей хвойной тайгой, непролазной щеткой мелкого колкого леса, затянутой болотными зыбунами или покрытой неоглядными «сорами».
Лет десять назад по таежному зимнику сюда на помощь тракторам пришли вездеходы и тягачи. Их путь преграждали тысячи капризных таежных рек и речушек с коварными ловушками наледей, с купаньем поневоле в морозы, доходившие до пятидесяти градусов; дымящиеся густым паром полыньи и зыбкий лед возле них на Иртыше и Оби, богатых подводными ключами «живунами». А незамерзающие гнилые болота? А дремучая, кондовая тайга, где без топора шагу не ступить?
Потом на смену вездеходам пришли тяжеловозные вертолеты. Это было великое событие в условиях бездорожья. У буровиков сразу появилась дерзкая мысль — использовать вертолет Ми-6 для перевозок буровых установок, но конструктор Миль сказал, что вертолет берет на подвеске только восемь тонн. Пришлось спешно по конкурсу конструировать в 1958 году установку из блоков, весящих не более восьми тонн. Опытные перевозки проводились в районе Волгограда, где завод «Баррикады» делал эти блоки. Но только летом 1963 года впервые перебросили по воздуху буровую установку, в целом весившую сто шестьдесят тонн, и тысячу тонн материалов для бурения.
Пионер этого замечательного дела тюменский летчик И. Т. Хохлов, теперь Герой Социалистического Труда, человек, казалось, не ведавший страха и усталости. Да и все летчики, работающие в тюменской тайге, исключительно смелые люди, безотказно и отлично выполняющие любые поручения. Благодаря их работе были открыты месторождения нефти и газа. Вертолеты стали лучшими боевыми друзьями разведчиков. Они завозили бригады рабочих, сбрасывали в контейнерах все необходимое для подготовки взрывов, вплоть до сейсмических станций. Они же помогали потом ставить на разведанных точках буровые вышки. Сейчас авиагруппа стала самостоятельным управлением, задачи которого растут с каждым годом и по объемам, и по сложности.
Мы ушли от Щербинина с теплым чувством к этому сибиряку, образованному, интересному человеку, который уже полтора десятка лет отдал работе в тайге и стремится только к одному — сделать как можно больше.
По документальным фильмам и книгам мы уже познакомились со многими тружениками тюменской тайги. Замечательно то, что они не только открывают газ и нефть, но и пишут о своих поисках. Особенно интересен сборник очерков «Разбудившие землю», выпущенный Средне-Уральским книжным издательством в 1965 году. Общественный редактор и один из авторов его Ю. Г. Эрвье. Очерки написаны геологами, транспортниками, геофизиками, писателями и журналистами Тюмени.
Получилась живая, увлекательная книга, потому что создавали ее люди, влюбленные в свое дело. «На Тюменский Север идет новая жизнь, — пишет А. Г. Быстрицкий, теперь заместитель начальника Тюменского геологического управления. — Был бы жив академик И. М. Губкин! Это он еще в 1932 году на Уральской сессии Академии наук СССР утверждал, что на северо-восточных склонах Уральского хребта должна быть нефть. И вот свершилось!.. Березово. Тринадцать лет прошло с момента первого свидания с ним. А кажется, только вчера это было. Представляю себя на том далеком островке пережитого. Вижу лица товарищей, друзей, с кем было все сначала: и первая ночевка в не обжитом геологами сибирском углу, и первый рабочий запоздалый рассвет, и огорчения, и первый успех».
Это ему, Быстрицкому, прибывшему из Тюмени в райцентр Березово на Северной Сосьве с заданием организовать «первую березовскую партию глубокого бурения», мы обязаны случайным открытием газа на притоке Сосьвы, таежной речке Вогулке, когда грандиозный газовый фонтан, бушевавший потом неукротимым извержением огня около семи месяцев, тряхнул поселок, в котором закончил в ссылке свои дни Александр Меншиков.
В 1965 году в Березовском районе было открыто уже несколько месторождений газа. «На ладони вся жизнь. Вдали от столиц, от больших дорог… Жалею ли об этом? Нисколько… Я люблю свою профессию. Горжусь ею. Имей я в запасе еще жизнь, начал бы ее так же», — пишет Быстрицкий.
О том, как в 1960 году проторили дорогу в пятьсот километров от уральского городка Ивдель в мансийские поселки Шухтунгорт и Хангокурт, рассказывает в своем очерке начальник транспортного цеха В. С. Пономарев. Строительство железной дороги Ивдель — Обь тогда только начиналось, и надо было срочно проложить зимний путь — «трассу жизни» — для тракторных и вездеходных обозов, которые повезут в тайгу буровое оборудование и продукты для разведчиков. Просеки, покрытые пнями. Совсем нетронутая глухомань. Завалы. Полузамерзшие болота. Одна речка хуже другой. И названия у них каверзные: Эйтья в гористых берегах, Ух, Эсска, которую прозвали «эсэсовкой» после того, как восемнадцать часов вытаскивали из нее ушедшую под лед машину.
Нырял в воду и зацеплял трос за крюк при морозе тридцать градусов тюменский корреспондент Евгений Ананьев. Повторять эти моржовые нырки ему пришлось несколько раз, пока не удалось завести «легкость» как следует.
Ананьев уже выступал вместе с нами перед читателями, но мы не знали, что он так, можно сказать, геройски действовал, когда писал первую книгу о нефтеразведчиках Сибири, хотя со своей устрашающей кудрявой бородой и лохматой шевелюрой он выглядит настоящим таежником-землепроходчиком. Очень дорого узнать о собрате по перу что-нибудь хорошее!
«И опять лесные дебри и речки: Тах, Пурдан, Ем-Юган, — пишет Пономарев. — Лежневки из лапника. Мосты. Тяжелая работа — врубаться в лесную чащу. Километр за километром».
«Разбить лагерь» — до чего, казалось бы, просто. Впрочем… Представьте себе позднюю ночь. Темно, тощая луна едва проглядывает сквозь густой хвойный потолок. Заметно морозит, даже в меховых костюмах пробирает дрожь. За день непрестанного пути, усиленного «физзарядкой» на переправах, завалах и всяких прочих препятствиях, все изрядно устали. И надо еще… Ох, много еще надо сделать, чтобы впервые уголок нехоженой тайги приобрел обжитой вид!
Является автором сборника и Н. В. Мизинов — главный геолог Тюменской комплексной экспедиции. Он тоже вспоминает, как вездеходы проложили первую сухопутную дорогу в верховья бассейна реки Конды, где, по предложению Ю. Г. Эрвье, организовали группу поисковых партий. Это был героический рейс. Игримская разведка в ту зиму из-за недостатка оборудования стояла на грани прекращения работ. Но отряд пробил дорогу, и по его следам пошли колонны грузов.
Хорошо написаны очерки «Необыкновенное лето» и «Кресты на профилях» В. Н. Козлова — старшего инженера Тюменского геологического управления, «Человек в разведке» Киры Ткаченко, о буровом мастере Николае Григорьеве. Интересны очерковые письма ханты-мансийских журналистов Юрия Переплеткина и Юрия Кибардина, которые много лет живут среди нефтяников Тюмени. С удовольствием читается «Голубой огонь» журналиста Ю. Зимина, очерковая повесть «Княгницкие» тюменского писателя И. Ермакова, а также яркий очерк геолога Геннадия Сазонова «О чем молчит геологическая карта».
Трудно рассказать обо всех вещах, помещенных в сборнике, хотя все они заслуживают внимания читателя, потому что написаны участниками и очевидцами открытия нефти в Тюмени по горячим следам событий. Радует и то, что здесь пример хорошего содружества литераторов и нефтяников, отмеченных творческой жилкой в работе, новаторской смелостью, трудовым героизмом. Над книгой работали тюменские писатели и журналисты: Ананьев Е. Г., Бабаков Г. А., Бахтеев А. X., Михеева З. И., Николаев В. Н., Хмелев В. М., хочется сказать всем этим нашим товарищам — большое спасибо!
В очерке Б. В. Савельева говорится о воздействии рабочего коллектива на тех, кто недостойно вел себя. «Кадры на Севере были и пока остаются проблемой номер один, — пишет он. — Заманчивый огонек геологической романтики притягивает к себе многих. И поди разберись сразу, кто приходит к нему трудиться, а кто только руки погреть… Людей приходилось и учить и воспитывать одновременно».
Конечно, и сейчас есть здесь накипь людская, где ее не бывает! К тому же издавна установился обычай — направлять всех подонков на Север, как будто мало трудностей у его покорителей! И приходится еще заниматься воспитанием граждан, не желающих трудиться. Срывов из-за них предостаточно — и хулиганство, и пьянки, и убийства случаются. Но опять я сравниваю это с тем, что творилось в старой тайге и на бывших дико отсталых российских окраинах, где иногда шли на преступления от одной мертвящей скуки, от захлестывающего, в конце концов, до исступления ярости протеста против серого однообразия жизни, но чаще — от желания разбогатеть, раздавив чужую жизнь. Ели, пили, спали, копили деньги, притесняя, обворовывая, ненавидя друг друга, в замкнутом мертвом кругу застывшей в развитии дальней дали. Никакого просвета!
А вот мы посмотрим завтра, что делается в тех местах, где из разбуженных недр поднялась по скважинам и пошла по белу свету нефть Тюмени, о которой нам столько говорили разведчики, журналисты, партийные и советские работники.
Из Ханты-Мансийска мы отчалили уже под вечер. Молодой город уплывал в голубоватые сумерки, светлея домами на высоком мысу, а нас уже окружало приволье могучей водной глади на устье Иртыша, еще увеличенное заливными сорами левого берега, по которым бесстрашно брели, провожая нас, группы кустов и деревьев, и широко и редко шагали телеграфные столбы. Белый наш красавец теплоход описывал большую дугу, заходя навстречу течению Оби, отменно темному по сравнению с мутно-красными от торфа иртышскими водами. Обь сразу поразила нас неторопливой мощью, невиданной ширью. По правобережью ее далеко тянулась дремуче лесистая гряда — гора Полуденная, как бы сторожащая Ханты-Мансийск. За этой грядой на многие сотни километров сплошная тайга — медвежье царство — до полярных тундр. От такого представления становилось и жутковато и весело: сколько еще тут дел нашим Эрвье, Быстрицким, Савельевым, Урусовым и Григорьевым! А воздух-то какой первозданно чистый, все продувается насквозь.
Стоим на верхней палубе впереди капитанской рубки, и не надышимся, и не насмотримся. Одиннадцать часов вечера, а еще светло от раскрытого до дна неба, от массы воды, источающей розовое свечение на зеркальных плесах, переходящих в атласную черноту под крутизной правого берега. Как отсвет уже гаснущих белых ночей, теплится поздняя сизовато-румяная заря.
Сколько тысяч километров по безлюдным просторам пролетел ветер с северо-востока, чтобы дохнуть нам в лицо этой речной свежестью? Сколько пресной воды уносит в мировой океан с наших земель первобытно-могучая Обь? Редко-редко на ее низких берегах, где белоногие березы, задрав подолы, стоят по колено в воде, появится что-нибудь напоминающее о человеке: стог сена, подобие городьбы, — и снова только блеск плавно идущей воды да небо необжитое, где ни уток, ни ворон даже. Паводки в низменной этой равнине, затопляющие поймы на десятки километров, не дают птице гнездиться по берегам. Оторопь берет от этакого космически величавого безмолвия! Нигде ни огонька. И час, и два, и пять часов… Ну как можно было до сих пор жить, ни разу не побывав на Оби!
Где же юрты хантов, где манси? Ведь это коренное население здешних мест, и в лоцманских картах среди условных обозначений вроде: «бровка коренного берега», «осередок над водой», «яр обрезной и приглубый» (кстати, есть яры совсем низкие, заливаемые в половодье) — и названий татарских и русских поселков, которых очень много по рекам Туре, Тоболу, Иртышу и редко-редко на Оби — помечены юрты Медянские, Тугор-Пугорские, Лапорские, Проточные, Пугорские, Тегенские, Холдинские. Есть еще юрты Кармас-Поел, Илья-Горт, Ляксангорт, Акангорские и Шварские. Есть Илюшинские, юрты Ханы-Мужи и Нянь-Гортские и юрты Тут-Вож. Одни зимние, другие летние. Живут в них рыбаки, которые зимой превращаются в охотников. Но это население — несколько тысяч человек — разбросано на всем протяжении могучих сибирских рек, причем ханты в основном кочуют по притоку Оби — Васюгану, а манси живут на Конде и Сосьве.
Снова вспоминаются рассказы Григорьевой о суровом таежном быте, где все богатство — олень, где женщины — смелые охотницы в тайге и вечные труженицы дома, создавшие изумительные по красоте национального орнамента художественные вышивки на одеждах, — рожали и летом и зимой не в чуме, а под открытым небом в лесу или тундре. Рассказы ее о повальном пьянстве во время приезда скупщиков пушнины, о болезнях и поголовной неграмотности.
Пьют и сейчас. Но охотники, погуляв на полученные за пушнину деньги, снова уходят в таежные дебри, где нужны меткий глаз и твердая рука, так что выпивки у них носят как бы сезонный характер.
А дети появляются теперь на свет в родильных домах и растут в люльках, обтянутых мехом — зимой, берестой, украшенной национальным орнаментом, — летом, а потом через школы-интернаты без страха и сомнений вступают в большую жизнь.
Для школьника, студента, инженера, врача-национала поездка во время каникул или отпуска в родные юрты — возвращение к милой всегда колыбели детства, где другие крохи в замшевых вышитых сапожках, подрастая, нянчат городских кукол и носятся с яркими книжками.
В юртах рыбаков, в стадах оленьих, на кочевых стойбищах охотников есть и нынче приверженцы вольного житья лицом к лицу с суровой природой, к которой они прикипели сердцем. Что это такое, поймет только тот, кто чувствует ее красоту, кто знает и радость общения с нею, и победу над всеми препятствиями, которые она ставит на пути человека, и острое чувство преодоленной опасности, когда каждый мускул, каждый нерв дрожит от пережитого напряжения.
Не это ли гордое чувство влечет на Север смелых, сильных людей, для которых покой и старость — одинаковые понятия? Представьте себе длинные ряды тесно поставленных балков, будто два поезда из теплушек стоят на путях. Так выглядит улица Надежд в поселке Светлом, на Пунге в Березовском районе. Отсюда идет дальше газопровод Игрим-Серов. Молодые ребята с улицы Надежд тянут нитку Пунга-Надым в Ямало-Ненецкий округ. Тяжелая, грязная работа — рытье траншей в болотистой тайге. Пот заливает глаза, а отбрось сетку накомарника — умоешься собственной кровью, так облепят полчища комаров и крошечных, но свирепых мошек.
Ребята укладывают трубы и строят себе поселок Светлый…
Мы плывем вверх по Оби и не видим ни светлых, ни темных поселков. Вода. Небо. Далекие низкие берега. Ночь плывем — ни огонька. Утро — пустыня, только кое-где возникают знаки, отмеченные в лоцманской карте, как «береговая обстановка», да промелькнет несколько изб, где, по выражению помощника капитана, «в двух не живут, третья заколочена», — надоело людям житье на отшибе, ушли на нефть.
Ночью мы поднимались в капитанскую рубку, наблюдали по локатору, как идет наш теплоход, — светлое пятнышко в фарватере широченной реки. Изредка появлялось что-то движущееся навстречу: баржа-самоходка или буксир, толкающий бесконечную связку плотов. И еще новшество в судоходстве нас привлекло — глубина измеряется эхолотом: просто и быстро, не то что метать тяжелый шест в текучую глубину.
Теплоход шел уже не по Большой Оби, а по Оби Юганской мощной протоке с массой поворотов, излучин, островов, покрытых все еще высоко затопленным уремным лесом.
Когда мы окончательно пресытились безлюдьем реки, во взбаламученных глубинах которой, словно желтые облака, клубилась масса ила, вдруг откуда-то сбоку вывернулась моторка, а на ней, похоже, рыбак из отдыхающих, голый и черный как черт. Вся наша писательская галерка у капитанского мостика взорвалась криком:
— Ура! Человек!
Частенько нашу писательскую братию упрекают в излишней эмоциональности. Но мне кажется, что писатель без эмоций ненатурален. Олимпийское спокойствие более пристало некоторым философам или ученым, всецело занятым своими размышлениями, а мы, точно дети, общительны и непосредственны, когда находимся среди народа. Другое дело — умение владеть своими эмоциями, и это, как правило, диктуется не только сознанием собственного достоинства, но и уважением к другому человеку. И две крайности — монументальное величие возмечтавшего о себе холодного «гения» и необузданная распоясанность неврастеника или просто нахала — одинаково неприемлемы в нашем общежитии.
Способность живо чувствовать чужую боль и радость, острая, как в пору детства, наблюдательность, содействуют творческому перевоплощению в образы создаваемых героев, а отзывчивость на все явления общественной жизни — так же, как умение разбираться в них, — увеличивает политический кругозор, помогает создавать высокоидейные произведения. Когда присматриваешься к отдельным писателям, поэтам, художникам, то видишь, что почти каждый из них — многогранная, яркая личность, яркая и во время «малодушного» погружения «в заботы суетного света», потому что даже мелочи отражают в данном случае добротность сильного характера.
Я страшно сожалею о том, что бурно стремительный темп нашей жизни лишает нас не только драгоценной возможности тесного личного общения с широким кругом артистов, художников, скульпторов, но и с собратьями по перу. И как горестно бывает, когда после долгих обещаний «увидеться», почитать друг другу новые главы, новые стихи, поспорить в домашней обстановке, сходить вместе в театр, узнаешь, что уже поздно говорить о встрече…
В старину практиковались литературные среды, субботы, где встречался тот или иной круг писателей. У нас пользуются заслуженной популярностью литературные вечера в ЦДЛ, где вниманию широкого кворума рекомендуют молодого автора или новое произведение маститого. Мне, кроме того, нравятся такие вот поездки по стране с бригадами писателей: во-первых, очень познавательно; во-вторых, привлекает возникающая в пути дружественность, тут ведь подбор — как и в былые времена — невольно происходит с известной тенденцией: люди разных убеждений вряд ли отправятся вместе в дальнее путешествие.
— Могут ли быть у советских писателей разные убеждения? — попробует поймать меня на слове какой-нибудь ортодокс.
Безусловно. Совсем не обязательно, чтобы это были глубокоидейные расхождения. Достаточно разности вкусов для создания противоположных полюсов. Помню, как мы с Федором Ивановичем Панферовым пытались «на почве объединения сил» завязать дружеские отношения с некоторыми литераторами, и все шло отлично, пока не вспыхивали споры по произведению того или иного писателя, поэта, драматурга, и сразу возникала глухая стена.
В этой тюменской поездке мы не ощущали в своей бригаде никакой отчужденности. Наши вожаки — самобытный сибиряк, секретарь СП СССР, автор больших интересных романов о Сибири Георгий Марков и талантливый поэт, блестящий острослов Алим Кешоков владели нашей общей симпатией и, открывая встречи с читателями, сразу создавали теплую обстановку в аудитории. А среди нас было много известных в народе, появление которых отмечалось общими аплодисментами; стоит назвать имена Павла Нилина, нашего философа Григория Коновалова, С. С. Смирнова, поэтов: Григола Абашидзе, москвичей Виктора Бокова и молодой, одаренной Ларисы Васильевой, калмыка Михаила Хонинова, здешнего северянина Ювана Шесталова. Перечислить всех — полсотни фамилий — невозможно.
Конечно, мы, прозаики, не читали отрывки из своих произведений, а просто появлялись перед читателями, чтобы показаться им и заявить: живы, здоровы, трудимся над такими-то произведениями, зато поэты, декламируя стихи, пользовались успехом настоящих артистов эстрады. Я тоже люблю поэзию и с удовольствием слушала поэтов и, не уставая, аплодировала народным сказкам Василия Пухначева, и юмору башкирского писателя Анвера Бикчентаева, и выступлениям драматурга Александра Штейна, хотя он выступал так же, как мы, прозаики.
И вот — все такие разные — мы, словно малые дети, возликовали, увидев на широченной реке одинокого человека в моторной лодке. Это (как появление чаек в открытом океане, говорит о близости земли) показывало, что мы приближаемся к жилому району.
Действительно, вскоре удалось рассмотреть далеко над лесами равнинной поймы бледные силуэты редко стоявших елочек. Это были вышки Нефтеюганска, первые нефтяные вышки, которые мы увидели на Тюмени! Невольное волнение овладело нами: наш теплоход подходил к знаменитому Тюменскому меридиану.
Особенно взволновался обский уроженец — поэт и прозаик Алексей Смольников, которого мы называли просто Алеша, таким молодым казался он, хотя покинул здешние места по призыву на фронт Отечественной войны.
— С тех пор ни разу не сумел наведаться сюда, и теперь так радостно смотреть на все перемены в родных поселках.
Тюменцы приветствовали своего земляка-писателя горячо, и это тоже по-хорошему взбудораживало и волновало Алексея Степановича.
Запомнился его рассказ о том, как он еще подростком горел на катере во время бескрайнего обского половодья. Спас его старик, висевший за бортом на якорной цепи. Стащив опаленного пожаром мальчика в ледяную воду, он, сам закоченев, удерживал его, пока не подоспели спасители-речники.
Глядя на низкие берега, где добывали черное золото, на пламя гигантских факелов возле скважин, которое, высоко вздымаясь, стелилось нижним краем чуть не над поверхностью реки (горел попутный газ), мы вспомнили слова бывалых журналистов, сравнивавших огни поселков и факелов Тюменского нефте-газового меридиана с сиянием Млечного Пути. Среди черного безлюдья огромных северных пространств, огни в ночи почти от Тюмени до Салехарда и Новопортовского газового месторождения на Обской губе, от нефтяных городов Среднего Приобья до Уренгоя и Тазовского — в самом деле, должны выглядеть с борта реактивного самолета космическим зрелищем.
Завиднелись дома на улицах, далеко растянувшихся над желто-зеленой каймой глинистого берега, но наш теплоход, вместо того чтобы отправиться к пристани, остановился на рейде. Был День Военно-Морского флота, и команда «Ленинского комсомола» собиралась воспользоваться остановкой, чтобы провести праздничные соревнования между матросами палубы и машинного отделения. Нас пересадили на два катера, и мы понеслись в дальний угол большого затона, тоже окруженного улицами двухэтажных новых домов.
Городу всего два с половиной года. Возраст ясельный, а жителей уже около двадцати пяти тысяч.
Первыми на этот поглянувшийся им тогда безлюдно-дикий берег ступили геологи: Эрвье, Салманов, Ровнин и Виншток, приехавшие на катере из расположенного чуть выше по Юганской Оби рыбацкого стана в устье реки Балык. Они искали подходящее место для поселка, название которому подобрали, когда остановились на ночевку, приткнувшись к берегу. Но Эрвье и других товарищей назавтра ожидал самолет, и Фарман Салманов по их поручению осматривал детально всю площадку один.
Интересно, как этот отчаянно смелый человек, оставшись среди таежной чащобы, продирался сквозь колючие ветки и кустарники, упрямо сжимая твердые губы: он — открыватель нефти в Сургутском районе — прокладывал в будущем городе Нефтеюганске первую стежку-дорожку.
Сургутский исполком название одобрил. А в 1984 году организовалось нефтепромысловое управление «Юганскнефть».
Ветра не было в этот солнечный день, когда наши катера подходили к берегу, а недалеко от реки, выше домов, вздымались облака желтой пыли: на аэродроме принимали «на грунт» вертолеты и самолеты «Ли-2».
Нас встретило кипучее многолюдье. Но не ради нашего приезда пришли сюда нефтеюганцы; они отдыхали по случаю выходного. Масса горожан, загорелых, как в Крыму, сидела, лежала, занималась едой у скатертей-самобранок, разостланных среди пней. Желтый, обрывистый берег, с которого повсюду свешивались подмытые корни, был буквально усыпан народом: взрослые и дети, молодежь и пожилые в одних купальниках и трусах гоняли по воде мяч, плавали, брызгались, катались на лодках, оглашая местность криками, смехом, песнями. Полная белотелая женщина забрела по грудь в залив и неподвижно, словно русалка, стояла среди островка зеленых водорослей, раскинув руки.
— Вот это да! А что же думают комары?!
— Комары, должно быть, тоже выходные сегодня. Или их отпугивают запах нефти и горящие факелы?
— Все на гулянье, перед кем же мы будем выступать? — говорили писатели, глядя на необыкновенный пляж.
Но нас встретила целая группа представителей власти, администрации, общественности и повезла смотреть Нефтеюганск.
В самом деле настоящий город, где все, как и поразивший нас пляж, говорит о его молодости: недавно проложенные дороги с еще не убранными кучами корней и пней по обочинам, новехонькие двухэтажные дома, тоненькие, прозрачные березки, посаженные вдоль улиц прямо в желтую глину. Лес вырубили начисто, и стоят новорожденные кварталы, открытые всем ветрам, точно в тундре…
Один из встречавших сказал по этому поводу:
— Боялись, чтобы самолеты не задевали за верхушки деревьев.
Другой пояснил резоннее:
— Здесь тонкий и слабый растительный покров оттого, что близок уровень грунтовых вод и сам грунт болотистый. Лес не имеет развитой корневой системы. Если его оставить в городе и расчистить, то деревья, выросшие в тесноте, лишась опоры, будут падать. Посадки надежнее.
На этом краю Нефтеюганска поселок строителей и Усть-Балыкская контора бурения. Директор ее — бывший моряк Александр Николаевич Филимонов — человек могучего сложения и твердого, жизнерадостного характера, — не сожалеет о том, что перешел на нефть.
— У нас здесь свое бурное море — тайга-матушка! — говорит он с гордостью. — Наступаем на нее как морская пехота. Жилые дома строим и нефтепроводы, товарные парки и разные станции (насосные, для очистки нефти, перекачечные), прокладываем намывные дороги из грунта, крытые бетонными плитами. Скоро и поезда здесь зашумят. Только успевай разворачиваться, чтобы не упустить чего. Но в этом-то и заключается красота жизни! Технику разную нам подбрасывают со всех сторон, но много ее требуется из-за борьбы с болотами. И тут наша советская болотная техника оправдывает себя лучше канадской.
Видно, что Филимонов успевает «разворачиваться» и от культурной жизни тоже не отстает. По крайней мере, нас, писателей, он сразу взял под свое богатырское крыло, и надо было видеть, как сияли его глаза, когда он получил от нас книгу с автографами.
Раньше — до появления Савельева и Салманова с их разведчиками — на Усть-Балыке было стойбище хантов — несколько юрт, а теперь отсюда берет начало знаменитый нефтепровод Усть-Балык — Омск длиною в тысячу километров. Тут работают знатные люди, которыми гордится не только Нефтеюганск, но и вся область, а имена буровых мастеров Аллаярова и Сергеева, недавно установившего новый рекорд в бурении, известны далеко за пределами Тюменской области.
Чтобы посмотреть буровую Сергеева, поставленную на железнодорожные рельсы для бурения пяти наклонных скважин с одной точки, мы садимся в автобусы и отправляемся в тайгу. Лес тут, действительно, чахлый: слабые березы, низкие сосны, тонкие кедры. Вдоль шоссе, рядом с его намывной насыпью, будто ураган прошел: деревья лежат сплошным настилом вершинами в одну сторону. Всюду малиновые заросли цветущего иван-чая. Вода блестит и в лесу и на лугах, где разлив Оби в прошлом году был еще выше нынешнего почти на метр.
Буровая у Сергеева обычная (глубина скважин до 2200 метров), но стоит она на железнодорожной платформе. Когда закончат бурить скважину, подойдут несколько тракторов и гусеничных вездеходов и, разваливая черную грязь, перетащат вышку по рельсам на несколько метров вперед, чтобы бригада могла снова забуриваться с ноля. Получается огромная экономия времени и средств, потому что в Тюмени летом вышку не перетащишь на дальнюю точку, как это делается в Башкирии или Татарии. Здесь вышки перетаскивают в мае или июне по намороженным зимой ледовым дорогам или отдельными блоками на вертолетах. Болотистый грунт сковывает каждый шаг, и там, где плывун доходит до двенадцати метров, под постройки забивают сваи.
Строительство здесь идет действительно большое. Чего стоит одна дорога от Нефтеюганска до Сургута с железобетонным покрытием.
С буровой Сергеева Филимонов, управляющий трестом «Нефтеюганскгазстрой» Тригубенко Иван Иоаннович и начальник Усть-Балыкской экспедиции Леонид Николаевич Галян повезли нас на термохимическую установку, где делается очистка нефти.
Глядя на светящиеся серебрянкой аппараты и резервуары, опутанные сетью проводов и труб, на гудящие вертолеты, которые то и дело с ураганным гулом проносились в воздухе, испытываешь бодрящее ощущение перспективной молодости промыслов.
Тригубенко приехал сюда из Кременчуга — «всю жизнь строитель». Он с огоньком, с задором говорит о местных трудностях, любовно рассказывает о студентах, приезжающих каждое лето из Киева в Нефтеюганск, начиная с 1956 года.
— Распределение сделано по решению ЦК комсомола. Работают ребята, как звери.
— Где вы видели работающих зверей?
Иван Иоаннович смеется:
— Так уж принято говорить!
— А девчата!
— Девчата тоже работают… — Он замялся, видимо, не решаясь сказать «как звери». — Безотказно трудятся. И в клубе самодеятельностью занимаются наравне с ребятами. Все танцорки, певуньи. И модницы, конечно. От Москвы не отстают. На работу в ватниках и брюках, а на вечер с голыми коленками. Плачут, да бегут.
— От ваших комаров заплачешь!
— Нас еще мошка одолевает — москиты таежные. Глядеть не на что, а укусит другой раз — как током дернет. Так и подпрыгнешь. Но жизнь идет полным ходом. Клубы и кафе у нас хоть куда!
Заглядываем в Дом культуры нефтяников «Юность». В просторном фойе — мозаичное панно, с большим вкусом выполненное тюменскими художниками. Зрительный зал в стиле модерн на шестьсот мест. Освещение, цвет, отделка стен, потолка, сцены радуют глаз.
Укладываются перед Домом культуры на центральной площади бетонные плиты, строится кинотеатр на шестьсот мест, уже действует в городе больница на сто двадцать коек. В домах — газ, водопровод, центральное отопление.
Темпы строительства здесь стремительные, права Григорьева, когда завидует нефтяникам, — бюджеты и планы у них широкие.
Глядя на светлые окна домов, на витрины магазинов, снова думаю о том, что только в нашей стране силами наших людей, вооруженных всей мощью новейшей техники, можно было буквально перевернуть эти районы, не доступные для прежних искателей счастья в одиночку. А как заботятся о добытчиках нефти современные капиталисты? Да разве они подумали бы о том, чтобы создать людям хорошие условия жизни? Наоборот, выжали бы из них с лихвой все затраты и на трудности разведки, и на расходы по бездорожью.
За все про все ответил бы своей шкурой рабочий человек. Не забыли еще нефтяники Азербайджана, как жилось в старом Баку. Не зря в Англии и нынче не пускают туристов в угольные районы, хотя в этой стране, казалось бы, мало помех для добычи природных богатств. Не секрет и то, как живут нефтяники в англо-американских концессиях на Ближнем Востоке и в странах Латинской Америки. Кому там нужно заботиться о здоровье и культурных нуждах населения?! Всяк заботится только о себе, о своем кармане.
Смешно было бы даже подумать об устройстве там встречи писателей с жителями какого-нибудь «богом проклятого» рабочего поселка. Да и нашлись ли бы любители литературы — такие горячие поклонники стихов, какие у нас водятся на любом промысле, в тайге, в тундре, на островах Заполярья? По опыту дальних поездок по нашей стране мы убедились: чем отдаленнее от центра, тем живее интерес у людей к науке, культуре, литературе, ко всему, что творится в мире.
А здесь, в тюменской тайге? Не подавили ли азарт борьбы с причудами коварной природы, недостаток времени и физическая усталость тягу к чтению? Ладно уж, нечего волноваться и загадывать! Увидим…
Выступали мы в громадном клубе строителей, еще не совсем завершенном по внутренней отделке. В «Юности» встречу проводила другая половина нашей бригады во главе с Георгием Марковым. Народу, несмотря на выходной день и прекрасную погоду, набралось полно. Девчата, занявшие первые ряды, красовались модными прическами, яркими летними нарядами и, конечно, голыми коленками. Милые девчонки! Чего только не вытерпишь моды ради!
Сразу приметила я посредине зала большую группу киевских студентов, которые недавно, поблескивая на солнце буро-загорелыми спинами, рыли глубокую канаву, «работали, как звери». Сейчас они сидели смирно в синих комбинезонах с нашивками, отдыхали после яростного труда. И весь «нефтяной народ» сидел в зале так тихо, с таким напряженным вниманием слушал, что даже трудновато было говорить. Только по блеску глаз да по оглушительным дружным аплодисментам мы судили о доходчивости наших выступлений. Разведчики в Горноправдинске нам кричали: «Мало! Давайте еще!» А тут скованность, словно боятся проронить слово…
Наш председатель, поэт Алим Кешоков, веселый остряк и симпатичнейший человек, заметив эту скованность, начал шутить, то и дело вызывая улыбки на сосредоточенных лицах слушателей, давая понять, что мы приехали не поучать их, а просто поговорить по душам.
После того выступающий с тонким юмором башкирский прозаик Анвер Бикчентаев, автор превосходных повестей о юношестве, так расшевелил строителей своими забавными историями, что они стали смеяться, как дети. Да, это были настоящие поклонники литературы, любители книг и стихов, очень много ожидающие и требующие от нас, писателей.
Богатырь Филимонов горячо поблагодарил нас от имени нефтеюганцев, а после ужина вместе со своими товарищами проводил на катере до теплохода, и все время чувствовалось, что для них, книголюбов, наш приезд был праздником.
Мы отплыли из Нефтеюганска с сожалением: сюда надо приезжать, конечно, не на один день!
Миновав две-три деревеньки и несколько вышек, возле которых горели факелы, представляющие ночью фантастическое зрелище, мы подошли к Мегиону… Тут на устье речки Мега были когда-то юрты, а теперь большой поселок, где живут нефтяники. Мегионское месторождение находится немного в стороне от Оби. О нем писал в превосходном очерке Евгений Лучинецкий, горько сокрушавшийся о том, что мегионцы заливают своей нефтью реки и озера.
Многие утешаются тем, что иначе нельзя, что нефть при добыче расплескивается повсюду. Но это плохое утешение: утечка нефти — свидетельство низкой культуры производства. И когда нам рассказывали в Ханты-Мансийске об упадке рыбных промыслов на Оби, славной прежде именно деликатесной рыбой, и когда мы плыли по ее безлюдно-величавым просторам, всех удручала одна и та же мысль: оказывается, можно очень легко загубить из-за проклятой небрежности и беспечности даже такие громадные пространства. А ведь Мегион — это слава мужеству советских первопроходцев-разведчиков, наша гордость и богатство. Его база и перевалочная пристань уже перед нами — живописные группы белых зданий на правом берегу — серебряные резервуары баков, суда, теснящиеся у причалов: катера, буксиры, нефтеналивные баржи. Но вода в реке так и отсвечивает радужно-маслянистой пленкой. Вот она, упущенная нефть, — погибель всему живому в Оби.
— Тут, в Мегионе, наливают нефтью баржи, но делают это не чисто, — говорит старый обский рыбак, едущий по Оби, может быть, в тысячный рейс. — Еще водка «помогает»: то пьяные грузчики, то с похмела. А вода в реке глохнет, когда пленка сверху образуется, и рыба подыхает. — Он мрачно, почти ненавидяще смотрит на нефтебазу: баки и белые здания станции перекачки, расположенные на низком берегу, за которым свинцово отсвечивает «заливной сор», на вышки, виднеющиеся повсюду, горящие красные факелы и черный дым нефти, которую сжигают в ловушках. — Все равно половодье слизнет отсюда снова достаточное количество этого черного золота, чтобы до самого Салехарда, до Обской губы шел замор рыбы, да какой рыбы? Муксун — царская закуска. А где он теперь муксун-то? Не столько выловили, сколько потравили.
Грустно становится от слов старого ворчуна, но возразить нечего; осваивая одно богатство, мы варварски уничтожаем другое. Конечно, нельма и щекур, не говоря уже об осетрах и стерляди, становятся редкостью и в Тюмени, а о сосьвинской сельди мы, москвичи, и слыхом не слыхали, как и о муксуне в колодке, белое мясо которого, когда рыбу бросают в рассол живьем, делается таким нежным, что просто тает во рту. Почему скудеет рыбное хозяйство колоссального водного бассейна? Нельзя ли кое-что изменить в практике нефтедобычи, учитывая и низменность пойменных нефтеносных земель, и мощность половодий? Вначале обустраивать площади, а потом раскупоривать подземные кладовые. Разве мы недостаточно богаты для этого? И налив барж вести под строжайшим общественным контролем.
Вон что делает Обь, когда дурит в половодье; в большой деревне Луговая Суббота сплошь мертво желтеют загубленные пашни и луга, занесенные песком.
За Мегионом, выше по течению, то и дело, встречаются вышки и факелы с заревами вполнеба, колеблют ночью ширь реки кровавыми отсветами, а я торчу на палубе день и ночь и все думаю о нашей жизни, о работе, о дорого обходящихся промахах в ней, о людских судьбах, таких хрупких в отдельности, подвластных тысяче случайностей, но вместе образующих могучий жизненный поток, который не остановишь ничем.
Какое отношение имею я к этим местам? Что общего у меня, дальневосточницы, с этой рекой, расхлестнувшей свои воды в плоских берегах на десятки километров, разодранной на сотни лент-проток, которые влачатся рядом с коренным руслом среди островов, замшелых лесов и болотных трясин? То ли дело моя Зея, разрезавшая, как стальной клинок, горные отроги Станового хребта. А гордый, холодный Алдан, а чистая Колыма? Даже Амур — река желтого дьявола, даже Енисей с его бурным порожистым течением — как-то ближе моему сердцу. Но именно здесь, в пустынном еще бассейне Оби, — истоки моего рода: мать с Томи, отец с Тобола, хотя жизни их навсегда слились с верховьями далекого Амура.
Для меня же, как и многих людей моего поколения, вся страна дом родной, потому что мы до бесконечности расширили географию своей судьбы. Стирает ли это привязанность к отчим краям? Помню, мне встретилась женщина, которая никогда нигде не бывала, до старости прожила в одной избе и спала только на одной своей кровати. Казалось бы, ей дела нет до того, что творится за пределами ее двора, ее села. Но надо было видеть, с какой жадностью она слушала рассказы о Москве, о дальних краях. И радио в ее доме не выключалось даже тогда, когда все спали.
Какой же вывод? Мы, советские люди, при всей нашей разности, как зерна в колосе. Если одни проросли, упав возле родного корня, то другие, занесенные за тридевять земель, дадут точно такие же всходы. Поэтому, где бы мы ни находились, нам дорог каждый клочок родной земли, близки все ее дела, большие и малые.
День ветреный и пасмурный. Погода, на редкость баловавшая нас во время поездки, начинает портиться, но на теплоходе нашей большой дружной компании все равно хорошо. Ближе знакомимся друг с другом, делимся впечатлениями, говорим о планах работы. По роду своей профессии, когда мы разобщены письменным столом, нам часто приходится молчать целыми днями: рукопись, записные блокноты, тетради, книги, опять рукопись — и так иногда месяцами. Но вот мы собрались вместе, и разговорам нет конца. Я люблю и посмеяться, и серьезно поговорить. Поэтому после долгого сидения за работой, мне особенно нравится быть на людях. И как-то всегда складывается так, что мои друзья тоже любят шутку, и в свободные минуты хохочем порою до слез. Товарищи по бригаде спрашивают:
— Над чем вы так потешаетесь? Мы завидуем. Анекдоты?
— Нет, я их не люблю.
— Злословите?
— Тоже нет. Просто нам хорошо, когда мы встречаемся.
В такой дружной компании никакие рабочие нагрузки в поездках не страшны. Встречи с газетчиками и прототипами будущих литературных героев. Вертолеты. Самолеты. Автобусы. Катера. Путешествия пешком. Осмотры заводов, библиотек, музеев, выступления по нескольку раз в день — ничто не утомляет.
Приближаемся к Нижневартовску… Заранее волнуемся и радуемся: где-то здесь близко — Самотлор, который нам обещали показать. Это нефтяное месторождение, открытое совсем недавно в сплошных болотах. Слово Самотлор означает в переводе — «мертвое озеро», а некоторые переводят его как «ловушка». Оба названия не очень-то привлекательны.
Нижневартовск уже развертывается перед нами группами серебристых нефтяных баков и грудами стройматериалов на первобытно-голом глинистом берегу. Мешки под брезентом, кирпич, навалы красно-ржавых труб. Местами с обрыва невысокого берега свисают до самой воды, точно черные кошмы, тонкие пластины подмытого торфа.
За милыми сердцу складами новостроек — одноэтажные деревянные дома, дальше зеленеет лес. У пристани — масса судов — настоящий порт, а на пойменной стороне реки непролазно густая урема. Где-то здесь бурил неудачную скважину Фарман Салманов, а потом, не ожидая распутицы, самовольно перебрался в Мегион, на площадь, подготовленную геофизиками его экспедиции. И хлынула первая нефть Приобья.
Как и в Нефтеюганске, садимся на катера, чтобы попасть на аэродром. Первый маршрут — на Самотлор. От вахтенного причала возле торфяных пластин гурьбой двигаемся по тротуару из бетонных плит, уложенному прямо на торф. Сразу чувствуется, что в плохую погоду грязища тут жуткая. И вот перед нами «аэродром» — деревянный промазученный настил метров пятнадцать на пятнадцать из толстых досок, сколоченных железными скобами-скрепами. Для вертолетов и их пассажиров площадка достаточная. Кругом раздавленный колесами машин, распаханный тракторами тощий торфяник, сейчас сухой, упруго оседающий под подошвой. Из черной дернины торчат, словно белые кости, обглоданные стальными гусеницами вездеходов остатки кустов и деревьев.
Летим. Из окон вертолета видны шершавая кочковатая земля, покрытая чахлыми деревьями, голубовато-коричневые и желто-зеленые плеши — не то трясины, не то вода на торфяниках, и масса озер больших, малых, темных, светлых. Ни на что не похожая местность, как в легенде о сотворении земли; твердь, еще не отделенная от воды, и цвета неопределенные — тусклые, мутные мазки — каких нигде не увидишь, разве что в плохо заснятом фильме.
Основательно был запрятан от геологов Самотлор. И все-таки нашли его недавно! Значит, сейсморазведка на озерах, а потом бурили. Может быть, на железнодорожных платформах и рельсах с одного куста, или весной, в мае — июне, бурили на болотах, подтаскивая вышку по «ледовым дорогам». Дороги вроде погребов, набитых льдом… Осенью намечаются буровые точки на линиях. Когда начнутся морозы, на линиях счищают снег и мох и промораживают болото до полутора метров, все время убирая снег. В марте на эти полосы нагребают очень толстый слой мха, торфа, песку, укатывают, а весной везут по ним вышки на промороженные таким же способом квадратные площадки на рабочих точках.
Не мудрено, что именно в Тюмени родился совершенно фантастический метод — впервые в мире буровые вышки передвигаются на воздушной подушке. Такое диво посмотреть здесь не удалось, я даже представить его не могу, хотя много раз бывавший в Тюмени Иосиф Зиновьевич Осипов, очеркист и кинодраматург, продемонстрировал нам в ЦДЛ перед поездкой, а потом в Тюмени несколько интересно сделанных им документальных фильмов о здешних нефтяниках.
Видела, как передвигаются вышки через горы, как плавно и горделиво, точно королевы, идут они, окруженные тракторами, по полям Башкирии и Поволжья, как переплывают через широкие реки Татарии, но каким образом многотонная, сделанная из стальных блоков каланча сорока метров высотою пойдет по воздуху, нагнетаемому громадным вентилятором под ее основание, одетое хлорвиниловой «юбкой» — попробуйте вообразить сами. Это не бумажный фунтик сдунуть!
Внизу уже показался Самотлор — большое темное озеро. Почему его назвали мертвым, если местные жители уверяют, что в нем водятся окуни и щуки? Название «ловушка» лучше подходит: выбраться отсюда летом, раньше, наверное, было невозможно — вся окрестность продырявлена бесчисленным количеством больших и малых водоемов, и трясина вокруг главного озера ужасная. Вот факел пылает на кромке берега, отвоеванного у болот, откуда тянется к более сухим местам, к дороге в Нижневартовск лежневка — настил из бревен. Ехать по нему на машине — душу вытрясет, но других путей пока нет: бетонная автострада, которая сделает кольцо вокруг Самотлора с витком на промысел, только еще строится.
Промелькнул еще один факел, на высокой трубе, горевший в небольшом озерке, похожем на пруд — рядом клубился белый водяной бурун.
Приземляемся на такой же деревянный настил, что и в Нижневартовске. Пока выгружались, прилетел другой вертолет и, поскольку площадка была занята, «завис» над самой землей. Прибывшая смена рабочих спрыгивала на сырой торфяник.
В осушении местности здесь, оказывается, не очень заинтересованы, потому что вода предохраняет нефтепромыслы от свирепых лесных пожаров: торф кругом! Стоим на легендарной земле. Перед нами тротуар — доски, бревна, положенные прямо в черную грязь, местами залитую красноватой водой. На гривках тощие деревца, сколько глаз хватает — болота, вода, мох да кочки. Какое гиблое место! Как здесь жить? Как работать? Но патриоты Самотлора с гордостью говорят:
— У нас самое интересное месторождение. В Нижневартовске, где мы живем постоянно, большое жилое строительство, а сюда на вахту — вертолетами.
Вышки здесь на рельсах. Бурение кустовое, по пяти-шести наклонных скважин с одной точки. Так что забой уходит от устья на сотни метров в сторону, проходя и под дном озер.
Уже действуют кустовая насосная станция, берущая воду из скважин для закачки в пласт, газотурбинная установка, где используется попутный газ, дожимная насосная станция, куда стекается вся нефть Самотлора, которая идет потом на центральный товарный парк и в нефтепровод Усть-Балык — Омск.
В стороне от низких производственных зданий, от серебряных резервуаров строятся три новых дома — общежитие для промысловиков. Осенью и весной, в дни когда погода нелетная, вахта сможет оставаться здесь. Пока поселок временный: столовая в вагончиках, буровики и монтажники тоже живут в таких «балках».
— Как вам здесь нравится? — спрашиваем молодого оператора добычи Александра Мацкевича, недавно демобилизованного из армии.
— Хорошо живется, — говорит он. — В работе много нового и весело, потому что в основном у нас молодежь. Сутки на вахте, три дня свободен. Заработки достаточные. Снабжение хорошее. А трудности? Да мы к ним притерпелись!
Шагаем по тротуару в туфлях осторожно, а навстречу чуть не бежит молодая хорошенькая женщина с пробирками нефти в руках. Знакомимся. Илиза Ахметишина из татарского нефтяного города Альметьевска — научный работник, руководитель сектора. Она ездит сюда из Тюмени уже шесть лет и тоже очень довольна своей работой. Ведь это гиблое с виду место в самом деле ловушка, которая уловила и сберегла для нас богатства, создающие добрую славу тем, кто трудится здесь от всей души. Нам уже известны имена заслуженных буровых мастеров: Григория Норкина, получившего здесь первый фонтан нефти в мае 1965 года, Владимира Шидловского, бурильщика Сергея Феоктистова, награжденного орденом Ленина. А теперь здесь работает молодое поколение, и едут сюда люди со всего Советского Союза, но остаются только сильные, сдруженные работой, у которых, как говорят нефтяники, нефть в крови.
Водит нас от установки к установке главный инженер Нижневартовского нефтепромыслового управления Золин Борис Константинович, опытный нефтяник, приехавший сюда из Первомайска Куйбышевской области. Он рассказывает нам о чудесной железобетонной дороге, которая скоро опояшет жемчужину Сибири — Самотлор.
— Один километр ее стоит миллион рублей: каждая плита с доставкой обходится в пятьсот рублей, да насыпь в таких местах, где в жидком торфе дна не достанешь… Но зато потом мы оседлаем свою технику по-настоящему. А сейчас тягач вытаскивает вездеход, вездеход выручает из болота тягач, или оба садятся так, что у буксиров канаты лопаются. И такое происходит в уже обжитой нами зоне! В тайгу соваться не только летом, но и зимой из-за незамерзающих болот-«живунов» невозможно, пока топографы не составят карты и не прорубят просеки. Недалеко от центрального товарного парка будет у нас свой газо-бензиновый завод, будет мехколонна и рабочий поселок. Пока строится нитка нефтепровода с нашего товарного парка на Анджеро-Судженск, гоним нефть отсюда в Мегион на баржи, на танкеры — и в Омск.
Услышав, что Золин из Первомайска (где мы с Федором Панферевым бывали в 1957 году), я спросила, не знаком ли он со знатным буровым мастером Сабирзяновым, который является одним из прототипов моего Яруллы Низамова в романе «Дар земли»?
— Ну кто в Куйбышевнефти не знает Сабирзянова! Сейчас он уже на пенсии, живет в Первомайске. Старший сын его Володя работает главным инженером бурового треста в Сургуте, младший Александр — в Куйбышевском нефтепромысловом управлении в Нефтегорске.
Володя — Ахмадша! Так и опахнуло холодком волнения: вот они передо мной — плюшево-зеленые холмы и плодородные поля Татарии, ласково шумят ее березовые и липовые рощи, по колено утопающие в густых травах. А белокаменный, навсегда полонивший сердце Лениногорск! А город на живописном берегу красавицы Камы — Нижнекамск, которого тогда еще не было и который я «построила» раньше — в романе «Дар земли».
Так сливаются быль и небыль, когда дышишь одним воздухом с героями своих произведений! Но то уже в прошлом. Не обновленная нефтяными богатствами Татария, не прекрасная Башкирия, не нынешний красавец Баку, светящийся по ночам, как алмазное ожерелье на темно-смуглом горле Каспия, а вот эта с виду убогая и страшная земля зовет и волнует. Чем же зовет она? Новизной и богатством открытия? Героизмом таежников-первопроходцев или волнующими перспективами своего развития?
Как бы то ни было, но уже опалила ознобом и жаром та лихорадка, что предвещает новые и новые встречи, когда из массы впечатлений, жадных поисков, мучительно острых порою размышлений, возникает идея литературного произведения и начинает расти и оформляться очередной творческий замысел.
Едем на автобусе по Нижневартовску к клубу, где должны выступить перед читателями.
— Город нефтяников начал строиться с тысяча девятьсот шестьдесят пятого года, а раньше здесь было обычное сибирское село, — говорит инженер, приехавший сюда из Альметьевска. — У нас уже действует водопровод. Бытовой газ в дома даем пока в баллонах, но перспективы тут широкие. Строим больницу в Нововартовске на двести восемьдесят коек, а в старом Вартовске действует маленький стационар. Скорая помощь у нас курсирует на вездеходе. — На лице инженера играет усмешка, и не поймешь, шутит ли он или говорит всерьез. — Условия-то, а? Не то что в Альметьевске или Лениногорске! Бывали там морозы. Бураны бушевали, переметали пути-дороги, но ведь никакого сравнения со здешними морозищами! А мы ими не нахвалимся! Куда бы мы тут без морозов? Болото на болоте! И ничего, обустраиваемся. Зима у нас — самое хорошее время.
Автобус ныряет на ухабах. Улицы нет. Едем прямо на балок с беленькими занавесками на маленьких оконцах, круто поворачиваем и чуть не наезжаем на барачек с плоской крышей, возле которого полощется на ветру сохнущее белье. Вильнув в сторону, огибаем груды белесоглинистой земли, круто замешанной в колдобинах и клубящейся мельчайшей пылью на возвышенных местах. Останки деревьев, искореженных тракторами, похожи на растерзанные трупы на поле боя. Лес тут, как и в Нефтеюганске, уничтожили, а озеленения нового еще нет. По дну оврага, рядом с будущей улицей, суетясь, течет речушка-крохотушка, торопится отдать Оби свои красноватые от торфяного настоя воды.
Наконец наш автобус застрял в грязи намертво. Вытягивал его мощный грузовик «Урал». А мы смотрели в окна на другую нашу писательскую бригаду, которая под предводительством Георгия Маркова шла пешком по дороге и, заметив нас, явно злорадствовала: их автобус тоже буксовал в ямине.
И все это казалось веселым приключением, потому что люди, которые приедут сюда через два-три года, уже не поверят тому, что на улицах можно было вот так «сидеть» в грязи. Когда мы, двинувшись дальше, увидели в чудом сохранившемся лесочке избушки на курьих ножках, самовольно построенные жителями, а неподалеку большой клуб строителей с мозаичным панно на стене, с ярко освещенным фонарем сплошь застекленного фойе, нам наглядно представился контраст между вчерашним и завтрашним днем нефтяного города.
Провели встречи в клубах и уже подумывали об ужине, но вдруг нас с ходу перехватили и потащили выступать… на телевидении. Вот вам еще одна характерная деталь: в городе тысяч двадцать жителей и уже свой местный, как в Горноправдинске, телевизионный центр!
Когда я вижу на фоне нового для меня городского пейзажа ажурный контур телевизионной башни, сразу падает настроение. Тот, кто не сидел в ослепительном жарком свете прожекторов перед двумя камерами, то почти вплотную подъезжающими к тебе со своими загадочными смотровыми щелями, то сверлящими прицелом издалека, тот не поймет беспомощного состояния и даже страха пойманной в объектив «жертвы». Благо тому, кто привык! Ладно тому, кто читает по бумажке, не обращая внимания ни на камеры, ни на висящие над ним микрофоны!
У меня, честно признаюсь, возникает ощущение холода в груди, леденеют руки и возникает страшный соблазн — встать и уйти, пока еще не поздно. Какое усилие надо сделать, чтобы выглядеть хотя бы полуживым человеком, заставить себя вообразить, что за этим бьющим в лицо светом, за этими стенами и слепыми стеклами есть слушатели, в том числе твои друзья-читатели, которым интересно посмотреть на знакомого только по книгам автора. Но что смотреть, когда родная мать иной раз не узнает тебя на экране телевизора!
Однако, как говорится, «массы требуют», и ты нет-нет да и выступаешь; так, будто входишь в один дом, обращаешься к одной аудитории, стараясь не думать о том, что тебя слушают десятки миллионов людей, которым нужны не только замечательные артисты, но и хорошие ораторы.
Мы выступили в Нижневартовске перед телезрителями, как были с дороги, непричесанные, небритые. Но разве геологов, строителей и нефтяников удивишь этим? Город у них тоже еще не причесан, а зато каков завтрашний день! Как и в Нефтеюганске, здесь во всем сказывается кипение молодых сил, веяние больших дел, и наши новые встречи с читателями прошли на подъеме в очень теплой, дружеской атмосфере.
На другой день мы отправились в Сургут, откуда нам предстояло лететь в Тюмень самолетом.
Сургут на языке ханты значит — рыбное место. Основан он воеводой Барятинским по указу царя Федора Иоанновича в 1593 году.
Далеко развернутый над излучиной реки этот белый город предстал перед нами, смотревшими на него с борта подходившего теплохода, настоящим морским портом с массой судов на рейде у причалов, за которыми двигались гигантские портальные краны. Мы уже знали, что Сургуту предстоит большая роль в освоении Ханты-Мансийского округа и всего севера Тюмени. Здесь строится громадный речной порт, прокладывается нефтепровод, ударно сооружается ГРЭС мощностью 2 400 000 киловатт, которая впервые в стране будет работать на попутном газе, ведется через пойму Оби труднейший участок пути навстречу железной дороге Тобольск — Сургут. В целом этот Сургутский комплекс объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой.
Мне очень хотелось побывать на строительстве ГРЭС. Ведь это первая попытка широко использовать попутный газ, миллионы кубометров которого (да что там миллионы — миллиарды!) сгорели в факелах, десятки лет пылавших на нефтепромыслах Башкирии, Татарии и всего Поволжья, а теперь пылающих и в Западной Сибири.
Когда на фоне зарева вполнеба появится такой факел на пойменном берегу, то с теплохода кажется, будто пламя встает из воды. Факелы горят возле тюменских нефтяных скважин повсюду. И чем больше нефти дает скважина, тем сильнее бушует дико ревущее пламя над устьем невысокой черной трубы. Какие колоссальные богатства летят на ветер! Ведь это пластмассы, заменяющие лучшую сталь, сказочно прекрасные ткани, покрышки для автомобилей, чудесные ковры и шубки, корабельные — вечные по прочности — канаты и просто трубы, легкие, нержавеющие, которых хватило бы для проведения водопроводов и канализации во всех городах и селах нашей страны.
Преувеличение? Не думаю — небо там больше тридцати лет кровянится от зарева факелов. Когда прекратится это чудовищное транжирство в давно обжитых районах? Как избежать таких невозвратимых потерь на молодых промыслах Тюмени?
В Нефтеюганске я задала этот вопрос управляющему трестом «Нефтеюганскгазстрой» Ивану Иоанновичу Тригубенко.
— Мы готовимся принять попутный газ с Усть-Балыка на Сургутскую ГРЭС, первый блок которой будет готов в тысяча девятьсот семьдесят втором году, — сказал он. — Когда эта ГРЭС войдет в строй, многие факелы погаснут. Но для того, чтобы использовать весь тюменский попутный газ, надо построить добрый десяток таких станций.
А почему бы не построить? Почему, прежде чем приступить к бурению на площади будущего промысла, когда при подсчете запасов нефть разливается по всей земле, — не подготовиться по-настоящему к сбору и нефти и газа? Затраты? Но они окупятся сторицей. Промедление? Но недаром говорится: поспешишь — людей насмешишь. Хотя, прямо скажем, совсем не до смеха, когда видишь, как жгут нефть в ловушках или упускают ее в реки, а газ сжигают, чтобы уберечься от взрывов и отравлений. Кого винить? Кто должен отвечать? Сколь ни богаты мы, нельзя так хозяйничать! Или сегодняшний рубль дороже завтрашнего червонца?..
По скрипучим деревянным настилам на причале, по дощатым тротуарам торопимся к автобусам. Улицы Сургута — превосходное шоссе из бетонных плит, по обе стороны которого то кварталы новых многоэтажных домов, то потемневшие от времени добротные деревянные домики и избы старого села с палисадниками, где теснятся рябина и черемуха, с широкими по-сибирски дворами и ухоженными огородами. Кое-где красуются среди гряд невысокие пышные кедры, увешанные тяжелыми шишками. Трогательно зеленеют в пришкольных садах, расшитых белыми звездочками ромашек, молоденькие березки — тоненькие, как девочки. А мы едем туда, где строится речной порт, через который скоро пойдет на север мощный поток пассажиров и грузов.
В железобетон заковывается берег Оби: длина причальной стенки восемьсот метров, тут будет переваливаться около трех миллионов тонн грузов в год. Пассажирская стенка — сто метров, да еще причал ГРЭС на двести пятьдесят метров… Более двадцати кранов-тяжеловесов будут день и ночь разворачиваться на этой линии. Мы ходили по набережной, одетой в серую броню железобетона, удивлялись мощности кранов, размаху работы, гадали о будущем этого большого северного порта, а потом поехали на автобусах осматривать город.
Болота, поросшие чахлым от вечной сырости лесом, подступают к самым окраинам. Странно смотреть на сосновый «бор», деревья которого не выше человеческого роста. Тонкие стволы, реденькая хвоя. Занесло же их на эту мокрую кочковатую землю!
Зато на этой суровой неприветливой земле бурно растет новый город, стремительно раздвигая свои границы, отвоеванные у болотистой тайги: «поселок энергетиков», «поселок строителей», «поселок нефтяников». Но эти поселки представляют собою городские кварталы двух-, трех — и пятиэтажных домов с водопроводами, с центральным отоплением и телевизорами. В каждом таком микрорайоне свои кафе, клубы, магазины, автобусное сообщение.
А вон станция «Орбита», принимающая московские телевизионные передачи от спутника «Молния», проходящего четыре раза в неделю над неоглядными сибирскими просторами.
Едем мимо новых и старых домов, останавливаемся возле сосенок, посаженных вдоль набережной, среди которых стоит памятник сургутским партийцам и комсомольцам, погибшим во время кулацкого мятежа в феврале — мае 1921 года. На обелисках слова: «Первым комсомольцам Сургута от молодежи 60-х годов», и еще: «Они свершили прометеев подвиг, нас вырвав из невежества и тьмы». Памятник сделан студентами Львовского университета.
Мы постояли возле него на сухом песке. Ветер с Оби, сверкавшей тысячами солнц, тихо покачивал мягкие лапы задумчивых сосенок. Многим из нас вспомнилась своя неспокойная юность, и, может быть, поэтому приумолкла наша шумная ватага.
Заехали мы и к памятнику погибшим в Великую Отечественную войну. Длинный ряд вертикально поставленных белых плит. Тысяча имен. В центре — строгий обелиск. Помнят сибиряки о своих героях-земляках, полегших за землю Русскую и за неласковый, но любимый Сургутский край. Крепкими корнями вросли они в него. Чего стоит перечень фамилий! Одних Кузнецовых пятнадцать человек, Пельментиковых — шесть, Проводниковых — восемь, Силиных — четырнадцать, Кондаковых — двадцать два. Значит, уходили не только целыми семьями, ко и родами.
По деревянному мосту через Сайму, разлившуюся, как озеро, въезжаем в старый Сургут — типичное сибирское село, стоящее на возвышенности. В отличие от заливных соров на лугах, все речушки, впадающие в Обь во время половодья, а потом пересыхающие в своих оврагах, называются саймами.
По бетонной дороге попадаем на площадь Гагарина, где высится городской Дом культуры. Там скверик сосновый, вычищенный и обработанный студентами и местными комсомольцами. Там кафе в стиле модерн, — в каждом микрорайоне они оформлены тематически, чтобы было разнообразие. То и дело встречаются магазины (их в Сургуте до шестидесяти). Вон продовольственный напротив детского сада, все продукты есть, а наценка за дальность доставки за мясо, за сыр всего по десять копеек на килограмм. Отделка магазина под древнерусский стиль и надпись снаружи: «Сработан на 70-м году XX века строительных дел мастерами 22-й управы на добрую службу всем поселянам града Сургут». И ладья нарисована под красным парусом.
В поселке нефтяников возят торф для удобрения тощей земли в парковой зоне — здесь тоже сохранен соснячок. У нефтяников большое кафе «Орион». Входим, заинтересованные названием. Рельефно выступают стволы берез на четырехгранных колоннах, подпирающих потолок, — синее небо со светящимися звездами и месяцем. Даже бассейн есть с фонтаном и эстрада за декоративным леском.
Ну как не вспомнить наши собственные комсомольские годы на новостройках! Не ради умиления, а просто сравнить хочется. У нас такого доброго баловства не было. Жили на Севере в бараках, где мох торчал из пазов, а юркие бурундуки и горностаи, влезая в каждую щель, хозяйничали на полках. Жили при железных печах, земляных крышах и маленьких окнах, иногда вместо стекол затянутых ситцем. Но молодость, бившая ключом, находила свою отраду в дружбе, клубной работе, походах по тайге, задушевных беседах у костров, открытии новых мест и новых людей.
Страшное прошлое дореволюционной тайги уже в ту пору представлялось нам минувшим кошмаром. Мы радовались тому, что имели, но рвались в будущее, в сегодняшний, тоже наш день, как сегодня рвемся в завтра, и это не дает нам ни черстветь, ни стареть душой.
Подходим к «Орбите». Массивное одноэтажное здание с лестницей, идущей с открытой террасы на плоскую крышу. Наверху высоко поднятая на сложной подставке глубокая круглая чаша антенны, диаметром немного уступающая зданию-фундаменту. Все вместе издали напоминает гигантский граммофон. Это недреманное чудо чутко следит за тем, что делается в эфире, и сразу откликается на позывные спутника, летящего на высоте сорока тысяч метров, поворачивая к нему круглую раковину своего уха.
— Мы принимаем московские передачи со спутника по заданной программе. А здесь релейка работает, которая передает их для нашего телецентра. Нефтеюганск и Нижневартовск смотрят эти передачи через радиорелейные линии, — рассказывал нам работник аппаратного зала, находящегося в цокольном этаже здания. — Дорогостоящее сооружение «Орбиты» было хорошим подарком в год юбилея революции жителям нефтяных районов.
Выходим из здания «Орбиты» с чувством гордости. Колоссальные огромные пространства, где еще столько белых пятен, где медведи и рыси шастают по лесным урочищам, забредают и в хижины одиноких, отдаленных поселков, не стесняясь антенн, торчащих над крышами, и вдруг такое диво дивное даже для бурно растущих центров.
Снова едем по городу.
— С жильем у нас туговато, — говорит секретарь райкома Михаил Михайлович Конев, уроженец Ханты-Мансийска, типичный сибиряк, коренастый, зеленоглазый крепыш со слегка вздернутым носом и упрямым выражением обветренного лица. — Поэтому еще много балков и вагончиков, не очень приспособленных для здешних морозов. От этого возникает текучка. Но молодежь едет к нам отовсюду, и те, кто остается, становятся настоящими патриотами Сургута. Вот в тысяча девятьсот шестьдесят пятом году дороги у нас были совершенно раздавлены тяжелой техникой, и мы оказались в трудном положении — хлеб и Скорую помощь возили только на вездеходах, а сейчас уже имеем около шестидесяти километров мостовых с твердым покрытием. У нас пятьдесят строительных организаций, из них два треста. Дом Советов построили отличный, Дома культуры. Строим большой плавательный бассейн, хлебозавод, мясокомбинат с колбасной фабрикой, заводы по оборудованию и ремонту автотехники, чтобы обеспечить Среднее Приобье.
Да, тут все нужно, и плавательный бассейн для района с долгой суровой зимой — тоже большое дело.
Коневу тридцать шесть лет. Отец его погиб на фронте в 1943 году. Дед по матери был «башлыком» (бригадиром) рыболовецкой артели. Рыбачили на «песках» у купцов в Самарове. Дед по отцу «колотил лодки» из кедра. А сам Конев полжизни провел на комсомольской и партийной работе в родном Ханты-Мансийском округе.
— Интересная работа. На месте не засидишься, — говорит он с задумчивой улыбкой. — Наряду с нефтью мы с тысяча девятьсот шестьдесят шестого года начали заниматься сельским хозяйством, надо обеспечить продуктами свое население. При каждом нефтепромысловом управлении — совхоз. Теплицы, птичники. Стараемся сделать все возможное, чтобы людям жилось лучше.
Узнав о нашем желании побывать на строительстве ГРЭС, Конев быстро организует поездку.
И вот мы вместе с начальником ГРЭС Иосифом Наумовичем Каролинским катим в легковой машине по отличнейшей дороге…
Каролинский, закончив институт, работал на Новосибирской ГРЭС сначала прорабом, потом начальником участка перекрытия Оби. Затем на Карагандинской ГРЭС, Джамбульской и наконец перебрался сюда.
— Жена прилетела с детьми, посмотрела вокруг и заплакала: «Чего тебе здесь понадобилось? Уеду обратно». А сыновья — их у нас трое, старшему шестнадцать лет — все за меня: мы останемся с папой. Теперь ничего, обошлось. Жена привыкла к Северу, работает врачом-стоматологом и даже довольна, — рассказывает Каролинский, весело поблескивая глянцево-черными глазами. — Должно быть, родители заложили в нас это бродяжничество. Мой отец — заслуженный строитель Казахской республики, работает сейчас директором канала Иртыш — Караганда… А сколько других объектов он построил на своем веку! Вот и мы закончим строительство — и дальше. Ведь жить здесь самим опять не придется. Такая уж профессия! Сургутская ГРЭС будет работать на попутном газе, поэтому приходится заново решать вопрос насчет оборудования. Раньше попутный газ считался непостоянным источником сырья, но у нас в Тюмени в конце пятилетки его будет столько, что с избытком хватит не на одну ГРЭС.
Карликовые сосны на болотах, кедры на гривках, унизанные темно-сизыми шишками — урожай на орехи нынче небывалый, малиновые заросли иван-чая на порубках — все расступается перед смелым росчерком бетонки. Не просто было соорудить ее: вначале по бревенчатым настилам — лежневке, по непролазной грязи шли только тракторы да вездеходы.
— Лес мы стараемся сохранить всюду, где можно, — говорил Каролинский, когда мы проезжали мимо расчищенного среди зелени места под главный корпус. — А здесь у нас стройбаза. Сейчас мы ведем тут все вспомогательные работы, а главный корпус сделаем потом за один год.
Выходим из машины на бетонированную площадь, окруженную длинными корпусами. Пребольшое и очень аккуратное хозяйство.
— Тут будут подсобные мастерские и конторы наших субподрядчиков. Столовая еще не застеклена, но скоро начнет действовать. Все временные здания, на девяносто процентов разборные из армопенобетонных плит. Построим ГРЭС — они тут станут не нужны. Разобрал — и перевез туда, где снова потребуются…
Попав в свою стихию, Каролинский с радушием человека, увлеченного делом, старается показать нам все, что тут творится.
— Там у нас плотина. — Он показывает на водные зеркала в лесных окнах за стройбазой. — Водохранилище для станции. Но одна здешняя речка нас не устроит, поэтому тянем еще водопровод с Оби.
— А это что за домики? — спрашиваем, глядя на уютные постройки по углам площадки, срубленные из круглого желтого леса, под серым шифером, с голубыми наличниками окон.
Каролинский вдруг смущается, краснея до корней волос:
— Я не хотел говорить. Понимаете… Окружили меня однажды женщины-строители и жалуются: мучаемся, плохо нам. Ну, я остановил на день все работы, и вот — сделали уборные.
— Замечательно! Ведите, посмотрим!
Чистенькие помещения. Паровое отопление, канализация, на полу метлахская плитка. Роскошь для таежных мест? Да нет, необходимая забота о человеке, именно в суровых условиях — первостепенная. А краснеет Каролинский, видимо, потому, что получил нагоняй за остановку работ. Не привыкли у нас обращать внимание на такие «мелочи» быта. Мне приходилось видеть в Сибири новые школы, не отличающиеся от столичных, но без уборных, и бегают детишки в любую погоду в холодные нужники, поставленные в стороне от школ метров за сто.
Что важнее? Вспомнился разговор о моем старом знакомом Пикмане Григории Ильиче, замечательном строителе из Татарии, теперь управляющем трестом «Мегионгазстрой», как он, приостановив постройку пекарни, «отгрохал» танцплощадку в Нижневартовске. Об этом рассказывают, смеясь, а наверное, крепко проработали Григория Ильича! Но как же быть, если население города — сплошная молодежь? Была бы там бетонка, как в Сургуте, плясали бы на бетоне.
— Много у нас хороших людей, — сказал секретарь парторганизации ГРЭС инженер Михаил Алантьев. — Есть такие, которые приехали только построить станцию, но создаются и постоянные кадры. Жильем еще не все обеспечены по-настоящему, зато заработки большие: штукатур шестого разряда зарабатывает до четырехсот рублей в месяц, слесарь шестого разряда — триста пятьдесят рублей, шоферы — от трехсот до шестисот рублей.
У Алантьева тонкое, немножко лукавое лицо. Он легкий, подвижный, и сразу видно, что, как и Каролинский, «въелся» в строительство ГРЭС. У него тоже солидная строительная биография: три года на Томь-Усинской ГРЭС под Новосибирском, потом Ириклинская ГЭС севернее Орска. В этом году там введут в действие первый блок, а Ириклинскую ГЭС закроют. Такое сообщение радует: электроэнергии она дает мало, а ее водохранилище при знойном лете Оренбуржья — одна сухота для реки Урала. Ниже плотины, особенно в устье, он обмелел так, что рыбам негде укладываться на зимовку.
— Я хотел бы показать вам и то, как живут наши рабочие, — предлагает Каролинский.
— Обязательно посмотрим. — Я вспоминаю промелькнувшие перед нами в черте города «голубятники», покрытые толем.
— Что там у вас? Нахаловка?
— Это не у нас. И не Нахаловка, а Таратыновка. Живут нефтяники.
Мы смеемся. Очень любопытное название. Откуда оно взялось?
— Был начальником нефтепромыслового управления Таратынов. При нем возник этот микрорайон. Ну и назвали его именем.
Но что же делать, когда негде жить? Ведь люди в тайгу приезжают на голое место, а в таких «голубятниках» теплее, чем в палаточных «ситцевых городах», которые я отлично помню по Алдану и Колыме.
— У нас тоже есть своя Таратыновка, — перебивает мои размышления Алантьев. — Но наш министр Петр Степанович Непорожний по-иному решает вопрос временного жилья: домики собираются из двух половин по размеру вагона. Там все, вплоть до мебели. На крышах железные скобы, чтобы снимать краном с железнодорожных платформ на баржи. На месте дом устанавливается за полдня. Отопление змеевиком — паровое. Сорок квадратных метров на семью в пять человек. Даже верандочки готовые. Зимой, правда, при морозе в пятьдесят восемь градусов бывает в них холодно. И мы даем в них центральное отопление от общей котельной.
Поселок ГРЭС из сотни таких весело окрашенных домов, со столовой на сорок мест, собранной из шести половинок, напоминает дачный. Невысокие сосны, сохраненные от порубок в виде скверов, еще усиливают это впечатление.
Заезжаем в новый жилой район ГРЭС. Трехэтажная школа на девятьсот человек, благоустроенное общежитие для холостых в пятиэтажном доме, такое же для девушек. Строительство тут идет вовсю, хотя выросло уже немало домов на сто двадцать квартир каждый.
Гордость ГРЭС — ее постоянные кадры. Верхолазы, монтажники, сварщики, слесари работают, не щадя сил, не страшась ни летней жары и комаров, ни зимних морозов. Все грэсовцы хорошо понимают, какое значение имеет новостройка в Сургуте, как важно погасить факелы, на которых зря сгорает народное богатство. Их богатство.
Еще одно выступление перед сургутскими читателями — и мы вылетаем обратно в Тюмень.
Близ Сургута Обь разделяется на главную и Юганскую, по которой мы прошли сюда из Ханты-Мансийска. Ширина разливов во время весенне-летнего половодья достигает в этих местах тоже нескольких десятков километров. К нашему приезду в Сургут большая вода уже сошла, но вид с самолета был фантастический, когда ослепительно блестевший на солнце разлив вздыбился, встал, как огромное зеркало, заслоняя небо, и, казалось, скатывались с него, скользя, острова, покрытые зеленой тайгой. Но… самолет качнул крыльями, повернулся, набирая высоту, и водное зеркало опрокинулось, разбилось на тысячи сверкающих, голубых кусков. Под нами поплыла земля, разорванная зигзагами проток, испятнанная бурой желтизной болот, покрытая бесчисленным множеством озер, словно твердь еще не отделилась от воды, как при сотворении мира.
А через пойму Оби в этом месте возле Сургута сооружается труднейший участок железной дороги на Тобольск.
На что опирается тут стальное полотно, на чем держится среди водных хлябей и зыбких трясин? На сваях, или намывном, как у плотин, грунте, или на неслыханной твердости человеческих характеров?
Сегодня в Тюмени заключительный вечер декады. А завтра — Москва. Прошло только десять дней с тех пор, как мы вылетели со Внуковского аэродрома. Но сколько впечатлений, драгоценных для писателей, пробуждающих желание снова проехать по Иртышу и Оби, побывать в тайге у разведчиков, лесорубов, нефтяников! Какое чувство гордости за наших людей, за нашу великую необъятную землю и какие новые заботы и тревоги, без которых нельзя жить!
1970–1971