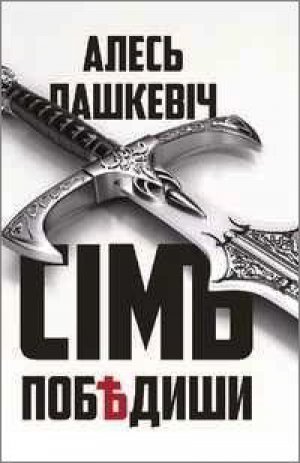
Все исчезает — ничего не меняется
0.
Август 2010 года.
«Если б страх спасал от смерти — зайцы жили б вечно», — подумал он и вызвал лифт.
Серебристые двери раскрылись беззвучно. «Цивилизация», — помотал головой Николай Заяц и нажал на нижнюю кнопку. Спустился в долгий тоннель подземного перехода, скатился, держась одной рукой за перила, по пандусу к стеклянным дверям, перед которыми «цивилизация» и закончилась: как их открыть? Наклонился, оттолкнул, но инвалидная коляска отъехала назад. Это заметила моложавая брюнетка в коротком черном платье с вертикальными волнами стразов на спине, придержав пружинистые двери. Но проем был мал, и колесо несколько раз цеплялось за металлический стояк. Наконец он выкатился и улыбнулся девушке.
— Спасибо, красавица. Дай бог тебе здоровья.
Та улыбнулась, углубив на щеках симпатичные ямочки:
— Вам тоже...
И зацокала блестящими каблуками к турникетам. А он только теперь понял, что не знает, как и где платить за жетон или карточку. Все, казалось, продумал, а вот это...
— Пожалуйста, проезжайте, — контролер отбросила цепочку. — Не бойтесь, в другой раз купите... Молодые люди! — остановила она долговязых парней. — Помогите дедуле на эскалаторе... Додумались же наверху льготы отменить...
Заяц остановился у края платформы, поближе к громадному зеркалу — чтобы попасть в первый вагон. Дохнуло прохладой и железнодорожной смазкой, после чего из тьмы настороженно блеснули фары электрички.
Между бетоном с желтой полосой и поездом — с полпяди пространства, одолеть которое помог усатый человек с затемненными очками в форме машиниста метрополитена.
— Осторожно, двери закрываются! Следующая остановка — станция «Ноябрьская», переход на Заречную линию, — прозвучало дикторское сообщение.
Поезд тронулся и начал набирать разгон. Усач подошел к дверям — не тем, на которых белела надпись «Не прислоняться!», а почти невидимым, в кабину машиниста, закрытым изнутри, вынул из кармана фиолетового пиджака специальный накидной ключ, крутанул несколько раз и, взглянув на инвалидную коляску, незаметно нажал на никелированную ручку. Дверь тихо закрылась за ним.
— Служба безопасности метрополитена! — выкрикнул усач оторопелому машинисту. — Поступила информация, что на линии — пьяный. Проверка. Пожалуйста, дыхните вот сюда, — вытянул из внутреннего кармана баллончик, наклонился над машинистом и неожиданно пшикнул в лицо. Машинист было вскочил, но мгновенно ополз, а усач открыл форточку, отодвинул безжизненное тело и толкнул рычаг скорости от себя — поезд замедлил движение.
В это же время Заяц достал из кожаного дипломата, привязанного к инвалидной коляске, включенный ноутбук, по электронной почте отослал небольшой текст и спрятал назад.
Поезд скрипнул колесами и остановился. Потухли лампы освещения и экономно вспыхнули запасные, по две на вагон. За стеклами окон затихла шероховатая стена тоннеля.
— Уважаемые пассажиры, просим не беспокоиться... — прозвучал в динамиках мягкий голос усача. — На линии сбой электронапряжения. Через несколько минут продолжим движение. Руководство метрополитена приносит свои извинения. — А затем тот же голос зазвучал в рации главного диспетчерского пульта: — Внимание! Состав № 8 первой линии захвачен террористами и, заминированный, находится между станциями «Вокзальная» и «Ноябрьская». Все требования нашей группы — на электронной почте администрации президента. Предупреждаем: с двух сторон электросостава выставлены сенсорные видеокамеры. При первом выявлении каких-либо движений спецслужб поезд с пассажирами будет взорван! Это не шутка! Конец связи...
І.
Июнь 1429 года от Рождества Христова.
Когда монах оставил пещеру, взошло солнце.
Всю ночь он молился, а над миром грохотала гроза. Молнии вспарывали небесные хляби и падали в морскую бездну. И тогда ревел гром, стонали земля и горы, страшное эхо катилось с высот — словно разом взрывались тысячи иерихонских труб или насмерть бились за пространство дохристианские Зевс и Ярило.
И опрокидывалось небо, и растекалось водой по горным кручам, и нельзя было понять, где низ и где верх, где тропа человеческая, а где богова, где воображение и где жизнь.
Затем все утихло. И было слышно, как слова сливались с шуршанием ручейков, по которым небо стекало в недалекое море.
А когда взошло солнце, монах-отшельник оставил пещеру.
Тут, на Афоне, он жил с солнцем и ветром, сытился земными дарами, крепился святым духом. И просил бога навсегда оставить его тут — однако недавний сон заставил прервать скит и спуститься в земные хлопоты...
Дорога отобрала все старческие силы, но он не чувствовал этого. Не ощущал ни сбитых ног, ни задубелой от грязи тоги, ни обжигающей жажды. Шел и шел, шаркая посохом, плелся и полз, когда открывался горный склон. Радовался дневному свету, а краткие ночи проводил в сонном мороке. И брел дальше — пока не увидел перед собой монастырские ворота.
Сил поднять железное кольцо и постучать уже не осталось. «Спасибо тебе, боже», — выговорил или подумал монах — и упал на жухлую траву.
Первыми его заметили рыбаки, которые привезли из Салоников муку и воск. Они занесли старика за монастырские стены, положили в тень кипариса и сообщили игумену Нилу. Когда тот пришел, монах уже очнулся и радостно смотрел на церковный крест.
— Брат Филофей?.. Приветствую тебя, боголюбивый друг! После нелегкой дороги окажи любезность — будь гостем в моей келье. — Игумен оглянулся на молодого келейника, чтобы тот помог, но старый монах неожиданно упал к их ногам.
— Евлогите![1] — прошептал он традиционное афонское приветствие, перекрестился и стал просить прощения, но слова утопали в пересохшей глотке.
— О Кириос[2], — смутился игумен.
Он послал келейника за водой и попробовал поднять старца Филофея, но тот опять лег на землю и одержимо зашептал:
— Жгут тело мое грехи непогасные, каменьями их руки и ноги мои отягощены, и нет мне прощения за то, что выпросил я у Бога скит высокий — и оставил его…
Слезы текли по худым щекам, по старческим морщинам и кровавым царапинам. В седую бороду вплелось несколько сухих листьев айвы и оливы: пещера Филофея была в Каруле, наисуровейшем афонском месте.
Игумен Нил присел к старцу и провел ладонью по его хитону, точнее — по тому, что осталось от него после долгого отшельничества. Филофей, предшественник Нила на игуменстве, двенадцать лет тому подался в скит — и явился словно из воспоминаний.
Прибежал келейник. Хоть Филофей и не пил уже трое суток, но воде не обрадовался — сделал три небольших глотка и отдал корец. И, став на колени, заговорил звучнее:
— Как учил отец Иоанн, Синайский игумен — оставив людской мир, не прикасайся более к нему, ибо страстям удобно сызнова возвращаться. Молитесь, братья мои во Христе, дабы те страсти меня опять не полонили…
Игумену и келейнику удалось поднять монаха и отвести в трапезную. Но и от скромной монастырской еды тот отказался:
— Не могу я сытить тело, не утолив сперва душу молитвою, а глаза — созерцанием святых икон. Оставьте, братья любые, меня в молитве, а потом я поведаю вам о причине прихода.
Филофей так и не вошел в церковь — встал на колени перед каменными ступенями и сам окаменел на весь день. Уста трепетно шептали слова к Всевышнему, а глаза, по-прежнему глубокие и молодые, искрились слезным очарованием и смотрели куда-то вперед — через церковные стены, через время и пространство...
Стук деревянной колотуши пробудил его. Была середина ночи, и монахов звали на службу. Афон начинал молитву за благостояние мира, и Филофей вместе со всеми, но последним, вошел в храм. Все окутывал сумрак, только мерцали под иконами несколько тусклых лампадок.
Отслужили утреннюю с полиелеем, и когда запели Херувимскую — настал рассвет.
— Кирие элейсон! — прозвучало справа от алтаря.
— Господи, помилуй! — повторил-подхватил низкий голос.
Ничто не способно передать ощущение вечности и возвышенности так, как греческие церковные песнопения.
После литургии монахи перешли в трапезную, где по поводу воскресного утра к чаю с хлебом добавили мед, халву и тахину. Неспешно расселись; игумен пригласил в голову стола старца Филофея, но тот опять отказался от еды и направился к возвышению читать: в монастыре во время трапезы звучали жития святых. А когда позавтракали и еще раз общей молитвой поблагодарили Создателя, Филофей попросил слова.
— Братья мои во Христе, — молвил он тихо, — хотел я окончить путь свой в пещере отшельника и там отдать дух свой милостивому Богу. Но сподобил Он меня, грешного, на другое: послал недостойным глазам моим сон неожиданный. Разбудила в нем меня доброславная афонская опекунша и Всесвятейшая рода нашего покровительница Матерь Божья и сказала: «Не спи, человече! Глянь, не рассвет на востоке разгорается, а пламя душегубное». И посмотрел я на восток, и сердце мое онемело. Увидел я стены Царьграда в огне дымном, а над храмом соборным — двух голубей. В клюве у белого — пшеничный колос. Черный же бьет его яростно, а из колоса не зерна выпадают, а слова Божии. И упала первая стена константинопольская… И опять сошлись голуби, и вторая стена обвалилась. И в третий раз ударились — и исчезла стена Верхнего города. И гром трубный зазвучал надо мной. И увидел я, как водой улицы заполняются, как рушится купол соборный, а на алтарь белый голубь падает. «Иди и расскажи», — говорила Опекунша Небесная, и увиделось мне, как в пламени слова Божии горят — книги Святого Писания... — По трапезной пробежал тревожный вздох, и старец возвысил голос: — «Иди и расскажи», — повторила Повелительница Целомудрия, и увидел я, как вошла Она в огонь и вышла неповрежденной, и положила на воду книгу, и сказала: «Вот тело Сына моего». И развернула книгу, и перст свой к строкам приложила, и сказала: «А это кровь Его»... — Старец помолчал и окончил: — После того сна и спустился я со скита своего. И не устану просить вас, братья мои, о молитвах к Богу милостивому, чтобы простил исход мой.
Он перекрестился и вознамерился было выходить из трапезной, но монахи бросились, перебивая друг друга, расспрашивать, что означают те небесные знаки.
— А то, что ожидают народ христианский новые испытания, — Филофей приблизился к игумену, положил ему на плечо свою тонкую руку, проникновенно посмотрел в глаза и подытожил: — Пройдет два раза по столько, как я оставил наш монастырь, и Царьград Константинополь захватят иноверцы. И ты, брат Нил, должен поехать к патриарху и предупредить его об опасности. Не воскреснуть тому, что не умерло. Но тело Божье от крови Его отделять нельзя. В Константинополе хранится наибогатейший скрипторий. Защитите слово Спасителя!
— Брат Филофей... — голос игумена задрожал. — Вместе и в молитвах, и в делах заботиться о том будем.
— Не суждено тому сбыться, — прочувствованно улыбнулся афонский старец. — Через семь дней Всевышний позовет меня на суд Свой строгий...
Сентябрь 1429 года.
Горело солнце над святой горой; чтобы не щуриться, игумен Нил надвинул на седые брови остроконечный куколь потертого схимнического хитона.
Берег отплывал дальше и дальше, а Нил не мог оторвать от него проясненного взора. Что было в его глазах, исполненных воды и неба, печали и надежды? Что, помимо молитвы, было в душе его?
Когда отошел к Богу старец Филофей, в монастырской церкви заплакала икона Божьей Матери «Троеручица», а наутро после похорон старца в келью игумена влетел белый голубь, сел на подоконник и не шевелился всю молитву.
И тогда игумен решил отправиться в Константинополь, к патриарху — поведать о Филофеевом сне да попросить святого совета.
Афон с корабля уже казался небольшой ладонью — только обручальный перстень тучки зависал над горой. Там, подумалось игумену, и сливалось небо с землей.
Еще в языческие времена на полуострове возвышалась позолоченная статуя Аполлона, а на горе стоял его храм. И само место называлось Аполлониадой. Позже там возвели храм Зевса, которого по-гречески называли Афос (Афон). Ныне же и до скончания мира тот край с небесным связывает имя Божьей Матери. Когда она плыла к Лазарю на Кипр, на море разразилась буря — и корабль прибило к скалистому афонскому берегу. Говорят, когда святая Мария ступила на него, статуя Аполлона упала...
— Будет ли у нас, отче, хороший улов? — спросил игумена старший рыбак (в конце пути собирались забрасывать невод, чтобы продать рыбу на константинопольском рынке).
Игумен Нил улыбнулся, провел ладонью по мягкой бороде и молвил:
— Я же не гадальщик, человече. Никому из смертных не дано знать о жизненной ловле. На то есть вечный ловец душ — Бог наш небесный. Попросите милости Его — и будет вам улов...
Еще три раза выныривало из морских глубин и гасло в порозовевшей воде сентябрьское солнце, пока их корабль сбросил якорь на дно бухты Золотой Рог.
Говорят, остров — ворота Босфора — напоминает голову орла. Орел о двух головах — герб Вселенской Константинопольской Патриархии и нынешней императорской династии Палеологов.
В давние времена греки-колонисты основали на острове город Византий в честь своего вождя Византа. Затем он стал новой столицей Римской империи и назвался Константинополем — в память о первом христианском императоре Константине Великом. Из Рима, Афин, Эфеса и других городов сюда свозили лучшие скульптуры, ценные рукописи и талантливых архитекторов.
С тех пор канула тысяча лет, а просоленный Мраморным морем и усушенный близким солнцем город выглядел молодым и бодрым. Как и раньше, стекались на форум, рыночную площадь, торговцы и купцы; возвышался над сонной зеленью Буколеон — императорский дворец, за ним вползали желтые каменные стены цирка, театра; пониже, вдоль пыльных улочек, теснились двух-трехэтажные домки с аркадами, общественные бани, которые едва ли не встык лепились к старой городской стене.
Теперь же город перелился и через ту, и через новую стену, его защищали уже три ряда каменной тверди с глубокими гнилыми рвами перед каждой и девяносто шесть сторожевых башен. И семь обшитых толстыми металлическими листами ворот.
Когда утомленный дорогой игумен с помощью келейника спускался в лодку, что-то блеснуло в его глазах.
— Хвала Тебе неизмеримая, Небесный Создатель, — прошептал Нил и перекрестился.
На опаленном горизонте вынырнул золоченый купол Святой Софии…
Только к концу третьей варты[3] афонский игумен попал в Верхний город.
— Его Величество Божественное Всесвятейшество Архиепископ Константинопольский, Нового Рима и Вселенский Патриарх, — сообщил патриарший распорядитель, — сможет принять вас после вечерни. — И пригласил в гостевую комнату, где монахи, Нил и его келейник, смогли умыться и отдохнуть с дороги.
Службу в Святой Софии они никак не могли пропустить, даже если бы раскрылись небеса над Вечным городом и зазвучали трубы иерихонские. Келейник был в храме впервые, а игумен Нил, хотя в свои молодые лета служил тут дьяконом, тоже почувствовал неописуемую окрыленность при созерцании величественных стен. Внутри они, как и пол, до самой мозаичной возвышенности покрыты природными росписями мрамора с белыми, бирюзовыми и огненно-коричневыми вертикальными разводами. Вот и харалагин, двери, через которые можно выйти на каменный пандус и добраться на верхнюю галерею, к золотым архангелам, и сверху вбирать в дрожащую душу храмное пространство.
Громадный купол, который, казалось снаружи, втискивал святыню в грешную землю, внутри на ладонях двух нефов выглядел легким и возвышенным. Быть может, из-за солнечного венца врезанных в него овальных окон или благодаря высоким позолоченным фрескам, или из-за стройных колонн, а может, от молитвенных слов, звучащих под тем куполом.
— Евлогитэ! — игумен упал на колени, когда патриарх вошел в свою тронную комнату — переодетый, в простом подряснике. На голове вместо сферического клобука была белая скуфия.
— Бог благословит, мой дорогой брат! — ответил патриарх и тоже стал на колени перед гостем. — Думал, уже и не повидаю твою мудрую седину.
Они обнялись и присели на скамью, стоящую вдоль стены с высоким арочным окном. Слева от них на покрытом дорогим ковром возвышении стоял золоченый патриарший трон с бархатной подушкой. Он никогда не пустовал: на нем находилась книга древнего рукописного Евангелия в золотом переплете. По обе стороны трона — глиняные вазы-горшки с длинными пальмовыми ветвями. Простой же деревянный столец патриарха был под возвышением, но владыка сел рядом с гостем.
— Хорошей ли была дорога? И как течет жизнь на Афоне?
— Слава богу, и дороги, и жизнь наша достойны суть… — начал Нил — и остановился, не зная, как подступиться в разговоре со своей заботой.
Но патриарх словно отгадал его мысли:
— Однако вижу тревогу в глазах твоих, сказывай.
— На двенадцатом году черного скита открылось нашему старшему брату Филофею видение небесное: Матерь Божья показала ему бой двух голубей, черного с белым. И увидел брат наш... смерть Константинополя и разрушение Святой Софии... — игумен испуганно перекрестился и отвел от патриарха глаза.
Через окно в зал заползали первые вечерние тени. Блеснула под низкими лучами остывшего светила золотая оправа Евангелия на патриаршем троне и отобразилась в светлых зрачках игумена.
— Глаголь дальше, — приказал-попросил патриарх.
Игумен вздохнул, нервно сжал зубы и продолжил:
— Опекунша Небесная спустилась в огонь высокий, в котором горели слова Божьи — книги Святого Писания... «Иди и расскажи», — приказала Повелительница Целомудрия старцу Филофею, и увидел он в том сне, как вышла Безгрешная из огня и положила на воду книгу, и сказала: «Вот тело Сына моего». И развернула книгу, и перст свой к строкам поднесла, и сказала: «А это кровь Его»...
Патриарх встал, прошел к трону, встал на колени перед Евангелием:
— Господь Бог наш! Ты поставил землю на твердых основах, не покачнется она вечно! — прошептал слова псалма и, не поворачиваясь к игумену, спросил: — И как брат Филофей объяснял видения свои?
— Велел отправляться к Вашему Всесвятейшеству и предупредить об опасности. «В Константинополе хранится самый богатый скрипторий, — молвил. — Спасайте и расширяйте слово Христово. Тело Божье от крови Его отделять нельзя»...
— И коим образом спасаться Святому граду? Мне, может, игумен, пойти к императору и попросить его новую столицу основать, когда этой вы смерть пророчествуете?! — в патриаршие слова вплетались нотки возмущения. — Константинополь теперь как никогда силен. Готовится Флорентийский собор и подписание церковной унии с Римом... И турки сейчас ослабли — Тимур-монгол на Анкаре из них надолго спесь выбил. Вспомни, как восемь лет назад Мурат Второй осмелился напасть на Константинополь — и что из того сталось?! — Патриарх напряженно помолчал, подошел и опять присел к игумену: — Ступай с Богом, брат Нил. Спасибо за рассказ. Отдохни, сколько надобно, да возвращайся крепить веру Христову в душах монашеских...
Они расцеловались и распрощались.
А ночью в патриарший сон вошла печальная Небесная Опекунша. В деснице она держала раскрытую огненную книгу, а левой рукой гладила константинопольского владыку и шептала: «Вот тело Сына моего». И книгу поближе подносила. «А это кровь Его», — и переставала гладить, и проводила перстом по строкам. И отошла в огненную сферу, откуда еще долго слышались Ее слова: «Делай, Иосиф, что надобно... Поутру явится тебе третий знак...»
Патриарх упал перед иконою Божьей Матери и долго молился, а когда поднялся на колени, солнечный свет уже заполнил храм. Там его и отыскал распорядитель — хотел сообщить о какой-то надобности, но потрясенно застыл, прикрыв рукою рот. Патриарх встал и недоуменно нахмурился, но слуга не шевелился — как прикипел глазами к иконостасу. Оглянулся патриарх — и его как пламенем окатило: впервые на его глазах мироточила древняя икона Божьей Матери.
Он снова пал перед ней на колени и умоляюще зашептал:
— Опекунша Небесная! Сжалься и помоги нам, грешным... Спаси и сохрани!.. — по его дрожащим щекам побежали слезы. Затем обратился к распорядителю и попросил как не своим голосом: — Позови афонского игумена.
Но тот, проведя ночь в молитве, как только прозвучала первая варта, направился со своим келейником к корабельной пристани. Там его и отыскал испуганный патриарший слуга. И вот игумен снова в тронном зале.
— Садись, брат, на мое место, — указал ему патриарх на трон, — а я, грешный и слепой, буду у ног твоих милости просить. — И встал на колени перед игуменом. Тот все понял и ополз, свял возле патриарха.
Они обнялись и плакали, не имея сил на слова. И слезы были их словами.
Так и сидели — друг напротив друга.
— Что еще поведал брат Филофей? Что сам о том мыслишь?
— Думаю, что храм — внутри каждого из нас, и когда есть вера — никакой враг его не разрушит. А в каждой душе должно быть слово Божье. Думаю, — игумен вдохновенно взглянул патриарху в глаза, — святую Константинопольскую библиотеку не в одном месте хранить надобно.
— Предлагаешь перевезти скрипторий?
— Да, частично. Разделить, скажем, на три трети — и в спокойные места, под опеку братьев праведных... «Почему солнце освещает всю землю? — сказывал брат Филофей. — Потому что странствует по всему миру. Так и святые книги должны освещать все земли Господние. Особенно те, где мало света».
Опять долго молчали.
— И еще... — очнулся игумен. — Надобно ширить Евангелие и слова апостолов, святых отцов Церкви Христовой. Некогда при патриархе Фотии процветала большая школа переписчиков. Деятельность его ученика, просветителя Константина-Кирилла, от болгар до русов воплотилась в буквах и словах. И уже близок час, когда святую книгу будет иметь каждая овца Христова.
Патриарх недоуменно опустил брови, а игумен пояснил:
— Свет веры Христовой ширится по всему миру, и переписчики уже не могут, не успевают удовлетворить книгами даже священников нововозведенных церквей. Не хватает пергамена, не говоря уже о тонком велене... — И глаза Нила вдруг засияли: — Мы должны дать книжному слову новую жизнь!
Брови патриарха опустились еще ниже.
— Да, новую! — Игумен Нил оглянулся вокруг, поднялся (за ним — и патриарх) и подошел к глиняной вазе, осторожно повернул ее, прищурился: — Да, вот... — он постучал пальцем по гончарной метке. — Вот знак оттиснутый, а не написанный. Это — новое рождение и знака, и слова.
Патриарх стоял около игумена, слушал, но, было видно, мало что понимал.
— Или еще... Ваше Святейшество, сколько раз вы прилагали на буллы и послания свою патриаршую печать?
— Так разве ж то сосчитаешь?
— Вот! — обрадовался игумен. — А теперь вообразите, что печать имеет размер книги — это же сколько страниц за одну варту сотворить можно! Тысяча писцов с тем не справится!
Патриарх сжал уста, пригладил аккуратно подрезанную бороду, а игумен продолжал:
— На то мне недавно молодой монах указал, брат Максим. Он пришел на Афон откуда-то из приморской Сербии и послушником выжимал маслинное масло. Однажды подложил под винт оливни глиняную доску и содеял на ней кресты Господние. Принес ко мне и сказал: «А на их месте могут буквы быть. А вместо глины — пергамен или бумага!»
После службы еще долгий вечер и бессонную ночь проговорили патриарх с игуменом. Решено было увеличить школу переписчиков скриптория и разделить древнюю библиотеку на три части. А вот куда отправлять… И кто будет охранять...
— Сколько в твоем монастыре монахов? — вдруг о чем-то вспомнил патриарх.
— Кроме тех, кто в скитах, тридцать два...
— С тобой, значит, тридцать три?
— Да… — Игумен еще не понимал причины вопросов.
— Даже и в этом — символ... — патриарх встал и положил на плечо игумена руку. На перстнях завеселились отблески свечей. Игумен тоже вознамерился встать, но патриаршая рука остановила его, и взоры обоих встретились. — С небесной помощью Господа нашего Иисуса Христа, со святым заступничеством Матери Его Вечнодевы Марии возвещаю о создании патриаршего монашеского братства, заботами коего отныне и навеки станут сохранение да умножение слова Евангельского и книг церковных. В них наше начало и конец, и возрождение. «Исконе бе слово, — учил святой апостол Иоанн, — и Слово было у Бога, и Слово было Бог»... — На мгновение воцарилось звенящее молчание. Патриарх перекрестился и окончил: — Верую в промысел Божий, сподобивший тебя, брат Нил. Быть тебе магистром братства, и называться ему отсель и навеки в честь любимого ученика Христова апостола Иоанна...
1453 год.
Гонец из Константинополя добрался к афонскому монастырю росной июньской ночью. Монах-привратник провел его к игумену, а когда услышал новость — выпустил из рук факел.
— У меня послание от патриарха, — прохрипел измученный гонец. Его лицо было покрыто грязью и потом, и в тусклых всполохах свечей казалось восковым. Длинные волосы, стянутые на лбу бечевкой, сбились в пряди. Глаза после долгой конной дороги — морской путь был перекрыт — потухли. — Город городов Византий умер... «И затмились солнце и воздух от дыма... И с дыма вышла саранча на землю, и дана ей была власть...»
Гонец не договорил — голова наклонилась, и он тяжело рухнул на каменный пол. Пока послушник и монах-привратник приводили его в чувство, игумен, щурясь, прочел послание патриарха Афанасия, три года назад взошедшего на святой престол.
«Брат мой во Христе, благословенный Ниле! Да будет вечно с тобою Божья благодать!.. В эти страшные дни, когда рушатся святые стены Константинополя, когда иноверцы захватывают наши храмы и забирают христианские животы, пишу тебе эти последние слова свои... Будем молить Спасителя укрепить веру нашу... Ведь у Бога не останется бессильным ни одно слово...
Дорогой брат, делай то, на что благословил тебя светлой памяти патриарх Иосиф! Можно уничтожить храм на земле, но слово Божье в душах наших останется! Напоминаю откровение апостола Петра: «Словно только что рожденные младенцы, полюбите чистое молоко слова, дабы от него возросли вы ради спасения». Верою Христовой спасемся!
Почти всю либерию вывезли мы до осады города и укрыли там, где умолвились с тобой. Византийская София рушится, но остаются еще три сестры ея, возведенные в честь и во славу Господа нашего Иисуса Христа в Киеве, Полоцке и Новгороде. Да поможет тебе и братьям-иоаннитам Небесная Опекунша свершить задуманное.
А я молю Божьего покровительства на паству нашу и остаюсь с ней и базилевсом...»
Очнулся гонец и стал алчно есть принесенный хлеб. Запивал квасом и виновато прятал голодные глаза. А затем заговорил:
— Татары обложили город в начале весны. Войско султана Мехмеда в сто раз превышало императорское. Султан потребовал сдать город — и взамен пообещал всем жизнь. Император отвечал его посыльным: «Отдать тебе город невозможно ни мне, ни кому другому. Духом единым все умрем по воле своей и не пожалеем живота своего...» Первую осаду мы отбили, но турецкий флот вошел в Золотой Рог. Был ужасный обстрел из бомбард... И вторую волну выдержал Константинополь, но враг пробил стену перед воротами Святого Романа. Ночью началась последняя атака, бесконечная, в несколько накатов. Фанатиков разжигали дервиши. Мехмед бросил в бой янычаров... Они захватили Ксилопорт — подземный ход замка. И как призраки Апокалипсиса набросились на нас сзади... Когда утром в столицу въехал султан и отдал приказ переделать собор Софии в мечеть, около ее стен еще добивали раненых и пленных...
Игумен и монахи перекрестились.
— Как звать тебя и кто родители твои? — спросил игумен.
— Максим из Спарты.
— Что ж, Господь испытывает веру нашу... — как о чем-то другом вслух подумал игумен и вздохнул: — Отдыхай с тяжелой дороги. А мы с братьями помолимся. Иди...
Через полмесяца до Афона доплыл корабль под флагом двуглавого орла Палеологов. Несколько защитников Константинополя, генуэзцев, добрались на лодке к берегу и поведали монахам о последних минутах императора, встретившего смерть с мечом на городской стене. Около сотни христиан с остатком императорской семьи — малолетняя племянница Зоя с тетками — смогли пробиться к пристани и выйти в море.
Генуэзцы повторили игумену Нилу последние слова патриарха: идите в народы византийской веры. Попросили продовольствия, воды — и возвратились на корабль. Их ожидал путь во Фракию.
Осенью тридцать монахов афонского братства иоаннитов после трехдневной молитвы отправились под предводительством отца-магистра Нила в свой первый миссионерский поход. Их охраняли генуэзцы, успевшие возвратиться на том же отбитом у янычар корабле к Святой горе. Преодолев морские волны и извилистые балканские дороги, они объединились со своими братьями-иоаннитами в гористом болгарском монастыре Белый, где размещался святой схрон, Константинопольская либерия-книжница, и уплыли к Крыму. Перезимовали в Судакской крепости и, когда с рек сошел лед, с помощью тамошнего десятника-проводника подались по Днепру к киевской Софии. Оттуда, оставив часть святых книг и несколько переписчиков, к следующей зиме добрались в Полоцк, где и окончились земные дни семидесятисемилетнего отца-магистра Нила. Перед походом, названным книжным путем из греков в варяги, Нил сложил с себя игуменские одеяния, но монахи отказались избирать на его место другого и молитвенно призвали стать монастырской опекуншей Матерь Божью.
Нил распрощался с братьями-иоаннитами на высоком берегу Двины, наложил на каждого крест Христов, поднял в небо свои светлые очи и прошептал:
— Крепите да умножайте наше дело, Богом данное.
А затем низко поклонился.
— Слышу колокола Божьи... — были его последние слова.
1.
1963, 1969 гг.
Николай Заяц видел такое лицо уже второй раз — словно его покрутили в стиральной машине, а затем, пересушенное, поутюжили. Ни одного мимического движения! Даже глаза — словно затянуты олифой, как маслины в уксусном рассоле.
И разговор начинался с одних и тех же слов. Вначале это было у заведующего кафедрой, через несколько дней после защиты кандидатской.
— Поручение, Николай Семенович, имеется... по теме вашей научной работы. — И зрачки-маслины вздрогнули. — Лекционную нагрузку перенесем на зиму, а тут надо постараться: сами понимаете — запрос сверху. Инструкции — на месте.
И вот он — впервые за стеной, в самом что ни на есть «сердце Родины». Вдоль Дворца съездов вся их группа, семь человек, идет молча и настороженно. Справа — Успенский собор, усыпальница митрополитов и патриархов, слева — звонница Ивана Великого с двумя луковицами-куполами. Самое высокое строение Кремля. Говорят, там колокол — в шестьдесят пять тонн.
Наконец и их цель, Архангельский собор. Встречает своей некогда белой симметрией. А воздух солено-терпкий... Может, от недалекой реки за стеной? И в голове — все, что можно было наскрести в исторических источниках.
Еще при брате Александра Невского Михаиле Ярославовиче на этом месте соорудили деревянную церковь в честь архангела Михаила. При Иване Калите вырос каменный храм, как свидетельствуют летописи — в знак благодарности за спасение Московии от голода. Калиту первым и похоронили под сводами еще не завершенной святыни, ставшей княжеской усыпальницей. А в начале XVI века храм перестроили. Начались реставрации, последняя из которых затевалась на их глазах.
Строительные леса обхватывали собор, который показался Зайцу развернутой книгой. Все вместе теперь выглядело как зарешеченный манускрипт. И прочесть его — непростая работа, порученная министерствами культуры и образования их сводному археологическому коллективу под руководством профессора Федорова.
Узкие щели окон, тяжелый, вытянутый с востока на запад прямоугольник стены. Какое-то необычное торжественно-траурное настроение (считалось, что опекун собора архангел Михаил был проводником душ в царство вечности). Ну а храм, подумалось Зайцу, контрольно-пропускной пункт на тот свет, из-за чего и доставалось его стенам во все времена. Как упоминается в летописях, в 1450 году во время грозы в храм попала молния, а через четверть столетия внутри града произошел пожар. В 1505-м князь Иван Васильевич приказал разобрать старую церковь и заложить новую. И умер. И стены собора, которые достояли до этих дней, воздвигали уже при его сыне Василии Третьем. Курировал стройку миланский архитектор Алевиз Фразин, следивший за сооружением всего каменного Кремля. В войну с Наполеоном французы приспособили храм под кухню и казарму. Разворовали золотые оклады, а из иконостасов сделали скамейки и кровати. Наново приходилось воссоздавать внутреннее убранство. А в 1917-м собор повредили при обстреле Кремля и через год закрыли. Теперь же, после открытия тут музея, началась очередная реставрация — уже внешнего вида памятника. Их же «наделом» был нижний ярус с похоронными криптами…
Необычайное ощущение возвышенности заполонило Зайца — чувство, пережить которое в последний раз сподобился в детстве, когда бабушка привела его в местную церквушку. Как все давно — и относительно близко...
Голодное детство в оккупированном городке — и он, длинноухий малец по фамилии Заяц, подался учиться в пронемецкую школу и записался в Союз свободной молодежи: хоть кормили два раза на день да одевали. А через семь лет приехал в столицу, сдал на отлично вступительные экзамены в университет — и та конопляная одежда чуть боком не вылезла: вызвали к особисту на «чистец», и спасло только то, что в автобиографии о Союзе сам искренне признался и... не отказался от сотрудничества.
Словом, поджал уши — и голову в траву. И был зачислен на исторический факультет, отучился, избегая неприятностей, пробился в аспирантуру. И вот он, уже кандидат исторических наук, вновь отрывался от реальности.
Только сумрачно, пусто — и хриплое эхо под ногами да за исцарапанными колоннами. Только ни единого всполоха восковой свечи, и пахнет застарелой плесенью, как в заброшенном подвале.
Главная святыня собора — икона архангела Михаила. Слева от Царских Ворот — икона Божьей Матери «Благодатное небо», во весь рост, в ярких огненных лучах, как иллюстрация к Откровению Иоанна: «И явилось на небе великое знамение: жена, облаченная в солнце; под ногами Ея луна... И родила Она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным...»
Жезлом железным — повторилось в нем, когда гуськом, один за другим, дошли к ранним фрескам с сюжетами притчи о богатом и Лазаре на стенах в дьяконнике нижнего яруса, где устроена усыпальница Ивана IV Васильевича, прозванного Грозным[4]. Усыпальница первого московского царя, расширившего государственную территорию. Его похоронили тут, под стертыми плитами пола, и останки его — средь сорока шести белокаменных плит в бронзовых футлярах с растительным орнаментом и надписями вязью.
Эксгумация останков Ивана Грозного и есть цель их необычной «экспедиции».
— Значит, так... Повторяю еще раз: особое внимание — на посторонние предметы. Отмечаем все, что похоже на книгу или не является фрагментом трупа... — напоминает «ученый в штатском», заместитель начальника управления КГБ.
Бронзовую крышку вскрыли легко, а вот плита поддаваться не хотела. Сломался один из домкратов, и на пол начала вытекать желтовато-ржавая жижа. Пришлось подымать поочередно края и подставлять деревянные клинья.
Шершавый скрип, словно кто-то идет по сухому мху или песку… Ощущение не из приятных в этом накачанном электрическим светом мертво-каменном пространстве. Как чьи-то шаги... Рассказывали, что к крипте Ивана Грозного приходил Сталин: постоит с незажженной трубкой, молчком покивает головой — и медленно назад. Одна рука за спиной, другая, с трубкой, спереди...
Наконец и сам гроб — как церковная рака, покрытая серебряными пластинами.
— Осторожно. Не выпустите джина... — игриво шепчет «ученый в штатском», когда опытные археологи мягко поднимают крышку.
Сероватые кости отделены от хребта... Возносятся-крепятся только шесть верхних ребер, почти пять столетий тому прикрывавшие властную грудь. Правая рука, вернее, то, что от нее осталось, словно надломлена и подсунута под спину. На ней, а также по вертикали скелета — фрагменты посеревшей ткани. Кости ступней обращены в одну сторону и упираются в стенку гроба.
Профессор Федоров монотонно диктует протокол-стенограмму эксгумационного осмотра. На очках суетятся электрические блики.
«Ученый в штатском» нежно постукивает ногтем по черепу (ассистент-археолог тупо смотрит на свою кисть) и резюмирует:
— А еще сильный...
Затем его лоб морщится:
— Что это?! — указывает пальцем на ржавую цепь с большим крестом.
— Перед смертью в марте 1584 года царь Иван IV принял схимонашеский постриг с именем Иона... — словно читая, выговорил Заяц и неожиданно почувствовал, как ноги начали становиться ватными. Спина похолодела. Закрыл глаза — а перед ним опять лампочки. Одна, две, три... — насчитал пятнадцать. Через мгновение они помутнели и перестали резать зрачки. Под тонким стеклом колб — почему-то не спирали, а... кости. Потолок задрожал, и лампочки начали падать-биться. Только почему-то не на стеклянные осколки, а в белую пыль. Как мука. Мука от смолотых костей...
— Ясно! — прерывает наваждение «ученый в штатском». — Кроме цепи и железного креста прочих предметов в гробу нет. Работайте дальше! — и уверенно подался к выходу.
Во время тех раскопок в Архангельском соборе под солеей и западной частью были выявлены фрагменты кладки еще XIII века. Новые же стены храма воздвигались из белокаменных блоков, пол — из кирпича и керамических плит с желтой и зеленой поливой.
В эксгумированных царских костях химическим анализом было выявлено аномальное содержание ртути — в двадцать четыре раза превышающее норму.
— В те времена она была лекарством. Ртутью от сифилиса лечились... — поговорили в лаборатории и сделали соответствующее заключение, оставшееся, как и все материалы работы эксгумационной комиссии, засекреченным.
То было в 1963-м. И вот через шесть лет перед ним, уже доктором наук, автором нашумевшей работы «Идея власти и народа в развитии русской государственности в XVI веке», опять то же выражение лица — перекрученного в стиральной машине, пересушенного и отутюженного, без какого-либо мимического движения. Только лицо уже не заведующего кафедрой, а проректора по науке. И зрачки-маслины словно выцвели.
— Имеем, Николай Семенович, приглашение на международную научную конференцию. Тема — близкая вашим штудиям. Решили вот командировать за границу. Только есть одно обстоятельство... — проректор повернул голову в сторону мужчины, молча сидевшего с краю стола. — Познакомьтесь — Субочев Виктор Александрович. Впрочем, вы с ним уже знакомы… Он поможет с некоторыми нюансами. Ну а я, простите, должен идти. Зачеты... принимаю. Желаю успехов.
В ту же минуту Заяц узнал человека за столом, «ученого в штатском».
— Николай Семенович, вы давно были на море? — интригующе начал Субочев.
— Давно. Еще студентом в стройотряде. На Черном...
— А теперь вот Адриатику повидаете! — радостно продолжил неожиданный собеседник. — Полетите в Югославию. В город Подгорица. Есть такой в Черногории... — Субочев положил руки на стол и осмотрел пальцы. — Помимо доклада и знакомства с мировой гуманитарной наукой просим вас... как бы это попроще сказать… — Он отклонился к спинке стула и внимательно посмотрел на Зайца. — Словом, такое дело. По информации наших архивистов, некогда в Москву из Константинополя от византийского императора была привезена часть древней библиотеки. Среди прочего — инкунабула... рукописная книга Евангелия от Иоанна. Уникальная историческая ценность. Имею в виду — не духовная там... церковная... Символическая ценность. Поговаривали, что она какую-то там чудодейственную силу имела... Дошла информация, что ее Ивану Грозному в гроб положили. Однако — сами видели… Оказывается, ту книгу еще при живом царе похитили и переправили из Москвы на остров Патмос, где якобы апостол Иоанн и писал то Евангелие. Но не довезли. Караван захватили турки, а книга... — Субочев мягко постучал ногтями по лакированной столешнице. — Книгу ту спасли монахи и спрятали в одном из черногорских монастырей. Отыскать ее след — ваша основная задача.
Пожалуй, лицо Зайца выявило редчайшее и неописуемое удивление, поскольку высокопоставленный представитель КГБ неловко кашлянул и улыбнулся:
— Понимаю, что неожиданно... Но причина всего нашего мероприятия на поверхности: Византия канула в Лету, а Москва стала вторым Константинополем. — В его голосе начали проявляться металлические нотки: — Это на другом уровне высвечивает нашу миссию в деле единения некогда христианских народов. Дает, так сказать, полномочия на первенство в славянском мире. Идеологический, так сказать, императив. А древняя книга, если хотите, своеобразная грамота на то.
В кабинете пафосно забили часы. Субочев встрепенулся и подытожил:
— Вот, в основном, и все. — Поднял с пола на стол чемодан-дипломат, с возвышенным настроением щелкнул замочками и выложил тонкую коленкоровую папку. — Тут кое-что из собранной информации. Однако, — он мягко улыбнулся, — убежден, что вы и так о многом знаете. Как о том схимонашеском постриге царя... — И после небольшой паузы завершил уже спешно и казенно: — Проявите всю надлежащую ответственность. А что о том ни одна посторонняя душа не должна знать — напоминать, думаю, не стоит. И еще... Когда понадобятся какие-либо консультации со стороны богословской, теологической — вот телефон помощника патриарха. Помогут в любое время…
Театральные движения стюардессы. С тигриным ревом турбины пожирают керосин. Нервные стыки плит на бетонной взлетке. Затяжной надрывный разбег. Хорошо, что не пожалел в аэропорте коньяка...
Непонятная далекая сила отрывает от земли — как некогда сделанные дедом качели, и все тревоги: что там? как там? — остаются позади, не успевают за самолетом. И вот — традиционная сосулька «Взлетная», неожиданная морозность в салоне, взбитые плантации хлопка в иллюминаторе. И по-детски сладкое пробуждение от незапланированного сна, когда под тобой — мутная оправа ржаво-бирюзовых гор, как через малый окуляр бинокля увиденные змейка-дорога, подосиновики домиков, разноцветные латки полей, укроп деревьев. Все вдруг суетливо начало увеличиваться и разбегаться. Надутая резина охает о разогретый бетон — и можно отстегнуть ремень.
Аэропорт «Белград». Паспортный контроль, дорога к железнодорожному вокзалу. Все же хорошо, что в Москве его устроили на самолет, а не бросили прорывать государственные границы в поезде — с пересадкой в Праге.
Однако на узком перроне в Подгорице его никто не встречал. Хотя и было оговорено. Суетились люди — кто с чемоданами, кто с цветами. Возвратился назад, к вагону, мешая пробираться к выходу другим пассажирам, тревожно встал сбоку и снова начал разглядывать прохожих. «Господар Зец — СССР», — прочитал на белом листке... Стоп, Зец... По-сербски — «Заяц»...
— Добар дан! Конференция в Подгорице?
— Да, добро дошли! Профессор Богдан Янкович, — знакомится рослый здоровяк в джинсовых шортах, апельсиновой майке и переходит на русский, изредка путая ударения: — Рад вас видеть. Пожалуйста, прошу к машине...
Белая отечественная «Застава», в багажник которой еле поместилась сумка, горделиво фыркает синим облаком, но бежит бодро. Через опущенные окна врывается солено-присушенный ветер и мягко гладит лицо.
— А я уже думал сам добираться, не сразу понял, что Зец — это я, Заяц...
— Ох... — чуть не притормозил чернявый великан Янкович, рукам и ногам которого явно не помешали бы лишние дециметры салона. — Прошу простить... Да, фамилии не переводятся! Эту бумажку мне дали в секретариате деканата. Не обижайтесь, пожалуйста.
— Ну что вы?! Напротив — чувствую себя своим! — Заяц улыбнулся и вдруг засмотрелся на сказочный пейзаж справа: гора (или скала?), привязанная-приштопанная к земле (или к небу?) деревьями, срывалась к фиолетово-бирюзовому озеру и озорно кружила вместе с дорогой. А в воде похотливо купалось солнце (или вода — в солнце?)...
— Красиво... — прошептал гость, на что шофер (на вид ему около сорока) радостно кивнул головой и поддал газа.
Его доклад был на пленарном заседании. Заяц и подготовился, и старался как никогда: неожиданный оборот в приветствии, чтобы захватить внимание зала, «антитеза — тезис», и так далее. Он говорил о роли книги в развитии человечества, о славянских первопечатниках Скорине и Федорове.
— Вот основные чудеса света… — Заяц уверенно поднял к аудитории ладонь и начал загибать пальцы. — Монотеизм, колесо, открытие атома, полет человека в космос и... книга! — Когда он задумывался, на открытом лбу с ранними залысинами проявлялась глубокая вертикальная борозда-морщина, а длинные брови возносились римской пятеркой — как у совы. Заяц положил руки на края трибуны и после небольшой паузы закончил: — А книга может стать и международным символом. Символом единения, братства, общественной визиткой. Такой, как скипетр, флаг... Вот, например, инкунабулы Византийской библиотеки. Некоторые из них после падения Константинополя были переданы Палеологами в Москву. Например — Евангелие от Иоанна. Как свидетельствовали представители черногорской княжеской династии Негошей, она затем хранилась в сербских монастырях. Так вот, вообразите себе, — Заяц отошел от трибуны и приблизился к первым рядам зала, — если бы историки и архивисты отыскали ее — она бы стала символом-флагом всего славянства от этих югославских гор до гор Урала!
Вопрос ему был задан только один: «Почему среди основных чудес духовно-интеллектуального развития человечества вы не назвали открытие Солнечной системы?»
— Гелиоцентризм, по моему мнению, не оказал существенного влияния на культуру. Ну, крутится Земля вокруг Солнца… или нет. Человек видел, как вечером солнце прячется, умирает, а утром снова рождается. Это оставило отпечаток в его психологии, отобразилось в мифологии и фольклоре.
В перерыве многие подходили к нему, хвалили за доклад, но не было ни единого, даже косвенного намека на книгу Евангелия. Пусть иностранцы, немцы или французы, понятия о том не имеющие... Но здешние — сербы, черногорцы...
Вечером было застолье. Море традиционной ракии, коньяка, ликера «Горький лист». Любил Заяц это дело, но сдерживался — кто его знает, как там обернется… Все же — зарубежье.
Назавтра работали отдельные секции, и он пошел на «Культуру и историю Балкан». Послушал добротный доклад профессора Янковича о роли национальной поэзии в становлении сербской государственности, еще с десяток выступлений — и после кофе-паузы отправился в гостиницу отдохнуть. Спозаранку были запланированы экскурсии: теплоходом в Бока-Которский залив, на Скадарское озеро и в Цетиньский монастырь. На выбор. Разумеется, он предпочел последнее — в монастыре хранилась древняя библиотека.
И вот полупустой «Икарус» быстро отмерил полусотню километров от Подгорицы и закряхтел по узким улицам Цетини.
Городок был залит солнцем и перезрелым запахом смоковниц. Старательно склеенные из камней сонные стены монастыря. До лоска натертые подошвами ступеньки. Прохлада и медовый блеск иконных окладов церкви.
— Не хотите, господар профессор, побыть около мощей святого Петра? — прервал задумчивость тихий голос Янковича.
— Да, конечно.
В небольшой комнате под белыми сводами стен перед овальным окном стояла рака. Над ней — три скромные иконы. Монах в черной рясе и две старушки в длинных платках стояли на коленях перед мраморным возвышением. Янкович перекрестился, за ним машинально и Заяц.
«Ну вот, — подумал, — советский ученый, коммунист… Видел бы кто из наших...»
Затем они сидели на каменной скамье под тенью неизвестного дерева с толстыми и продолговатыми, как рыбы, листьями и ждали остальных.
— А большая библиотека в монастыре? — как сквозь дремоту спросил Заяц.
— Да, — коллега загадочно ожег его искрящимися зрачками. — Но византийского Евангелия от Иоанна там нет.
В последний день конференции Янкович пригласил Зайца к себе на ужин — в красивый белый дом под красно-рыжеватой крышей. Вместе с ним жил старик-отец, профессор истории. Невысокий, сухой, седые брови и ресницы, но под ними — живые каштановые глаза. Обрадовался гостю, похвалил, что поклонились Петру Цетиньскому. Говорил по-русски почти без акцента, только изредка вставляя сербские слова:
— С ним, святым Петром, и вашей страной — целая история. Когда подкрепитесь и захотите послушать старика, могу поведать... — и с четверть часа в тенистой прохладе звучал его лавровый голос: — Святой Петар Цетиньский, наш чудотворец и созидатель государства, учился в вашем Петрограде, а потом уже как архимандрит отправился к царице Екатерине просить помощи своему православному народу. А царица его не приняла... Затем его рукоположили в Карловцах в сан архиерея Черногорского, на что было получено разрешение австрийского императора. И снова подался Петар к своим братьям по духу и вере — с просьбой о поддержке, но князь Потемкин приказал его выгнать из Петрограда. Бедолагу бросили в полицейский экипаж и гнали день и ночь без отдыха к самой границе — как ростовщика, а не архиерея. Мол, какой архиерей без разрешения русийского Синода… Вот как! Словно не все общее под Божьим небом и не одинаковой силы... — Старик сморщил лоб и часто заморгал глазами, кашлянул, глотнул остывшего чая и продолжил: — А когда возвращался Петар, на Черногору напали турки, скадарский визир Махмут-паша Буш[5]. Много людей истребили. Разграбили Цетиньский монастырь. И были голод и холод, и ели кору деревьев, и мололи на муку коренья и траву жученицу... И не было поддержки от русийского православного брата.
— Простите, а в каком это было году? — прервал Заяц.
— В 1785-м. В конце, словом, XVIII века. — Старик взглянул на напряженного сына и смягчил свой тон: — Вы же, я думаю, не будете обижаться на мою критику политики русийского царизма? Она же теперь по всей вашей истории разоблачается... — Взглянул внимательно, снова глотнул чаю. — Так вот, турки еще дважды за несколько лет нападали. И избранный митрополитом святой Петар у Бога покровительства просил. И победили Буша и его войско... — Старший Янкович помолчал и добавил как что-то наболевшее: — Не понимаю я европейскую и русийскую политику... Что есть наши Балканы? Это последний рубеж-бастион православия, славянства, если угодно. Земля, прижатая с юга неугомонным исламом, а с севера — утомленным католицизмом. Ослабеем мы — завтра воинствующий ислам войдет в надувену... тщеславную Европу! Покоримся мы — и кто из славянских народов поверит богатой и сильной Русии?
— Насколько я знаю, Россия и раньше не забывала о югославских народах. Царь Павел Первый даровал упомянутому митрополиту Петру орден Святого Александра Невского. И во времена войны с французами помощь была... — словно оправдываясь, уточнил Заяц.
— Да кто же оспаривает! «И раньше не забывала...» Не буду о недалеком — о споре Сталина и Тито. А тогда, при святом Петре, русийскую… русскую империю наполеоновский петао... петух клюнул! Вот и закрутились. А в то время Священный Синод Русской церкви признал митрополита Петра бездельником, учинившим «грехи тяжкие»: при нем, мол, монастыри опустели да паства уменьшилась. Словно не войны тому виной... А еще — присланные из Русии книги он, мол, не читал и, спасая свой народ от голода, заложил какие-то монастырские богатства купцу из Боки.
— Добар дан! Я вижу, у нас гости! — У стола появилась — пришла с работы — стройная загорелая молодица. — Богдан! Папа!.. Ну что это за угощение… Подождите, я сейчас приготовлю...
Пока что-то аппетитно жарилось и шкворчало, младший Янкович изменил тему:
— Профессор Заяц интересуется штампованием книг... книгопечатанием. И вообще — историей инкунабул. В частности, византийским Евангелием от Иоанна.
— А, Евангелле по Йовану?! — оживился старик Янкович и, сведя выцветшие брови, спросил: — А вы слышали о братстве иоаннитов?
— Не довелось...
— Его создали в XVI веке под патронажем византийского патриарха афонские монахи. Их целью было сохранение и распространение Божьего книжного слова. В наше время похожую миссию исполняют Гедеоновы братья. Иоанниты долгое время и хранили упомянутое Евангелие.
— А потом с племянницей Палеолога привезли в Москву, откуда оно попало на территорию Югославии? — не сдержался Заяц.
Глаза старшего Янковича сузились. Он задумчиво сжал, даже прикусил тонкие губы:
— Да, если быть более точным — сюда, в Черногору. — И старик, словно что-то вспомнив, заговорил о другом: — Так вот, архиереи русийского Синода и обвиняли митрополита Петра в том, что он то чудодейственное Евангелие продал купцу из Боки Которской. А если вырученные деньги пошли на еду голодным детям?!. Что может быть важнее здоровья души христианской?! Митрополит же не продал свою веру или слово Божье...
— Ну да... — поддержал его Заяц и неожиданно переспросил: — И все же он продал то Евангелие?
— А кто ж его сейчас знает… — через настороженную паузу пожал плечами старший Янкович и подытожил: — Не понимаю я суеты вокруг той книги. Евангелие и Евангелие. Вон их теперь сколько современной печатью размножено! И все они одинаковую силу имеют, ведь через одного Христа даны.
— Да, — опять согласился Заяц и, напряженно шевельнув головой, спросил: — А почему именно евангелиста Иоанна выбрали своим патроном афонские книжники?
— Потому что на него, — старший Янкович словно ждал этого вопроса, и лицо его радостно изменилось, — на него первого, хоть и был неграмотным, снизошел дар духа Святого: Иоанн провозгласил то, чему другие три евангелиста вначале не научили. Он говорил об утелесновении Слова: «И Слово стало плотью».
— А почему Иоанна называют любимым учеником Иисуса? — расспрашивал дальше Заяц.
Старший Янкович улыбнулся:
— Чудны деяния твои, Господи... Только не обижайтесь, пожалуйста... Я и представить не мог, что советский профессор, коммунист, проявит столь глубокий интерес к «опиуму народа», как называл религию Маркс. У Господа, дорогой друг, все чада паствы Его — любимые. Среди них — и святой евангелист Иоанн. Он, если хотите знать, родственник Христу... Его племянник. Да! Иосиф имел от первой жены семеро детей: четырех мальчиков и трех девочек: Марфу, Эсфирь и Саломею. Саломея родила Иоанна. А затем Иосиф помолвился с Марией, от которой с Божьей тайной и родился Христос. Ко всему, святой Иоанн, о котором вы спросили, упоминается во всех Евангелиях как один из самых приближенных к Господу апостолов. На тайной вечере он первым, прислонившись к груди Христа, спросил: «Господи, кто выдаст тебя?» А затем, после распятия Иисуса, он был выслан царем Трояном за провозглашение слова Господнего на остров Патмос, где и продиктовал святое Евангелие...
— Ну вот... — перед ними появилась чернявая хозяйка, а с ней — пахнувшее тимьяном, лавром, бибером и всевозможными восточными пряностями жаркое. — Ой, забыла... — Красавица метнулась и выставила на стол литровую бутыль коньяка местной марки «Рубин» с изображением на розово-фиолетовой этикетке едва ли не древней литовской «Погони» — всадника-витязя на коне перед развалинами будто бы Новогрудского замка, только в руке всадника вместо меча — наполненный бокал, чаша по-сербски.
— Прошу в честь нашего гостя испиты здравицу! — улыбнувшись жене, предложил младший Янкович.
— Простите, это много... — попробовал отказаться Заяц и отставить наполненную чашу, на что услышал от хозяйки озорное:
— Ну что вы, после этого даже за руль садиться можно!..
— Да-да! — поддержал старший Янкович. — Садиться можно, только… не ехать. Это я как водитель с большим стажем — и дорожным, и коньячным — свидетельствую.
Выпили, вкусно закусили.
— Да-да… — старший Янкович опять стал серьезным. — Вы не обижайтесь, профессор, если что-либо из моих рассказов не по душе пришлось.
— Нет, почему же…
— Разное, сами знаете, и сейчас, и раньше совершалось… — И через напряженную паузу: — Я вам на прощание одну притчу хочу напомнить — о большом столе, составленном из маленьких. Участники застолья через несколько стопок перестали слышать, а потом — и слушать своего тамаду. Так вот, у каждого стола должен быть свой тамада-правитель. Чего, по-видимому, дождутся и наша, и ваша страны… — Янкович остро-внимательно взглянул на гостя и снова поднял чашу: — Хочу предложить тост-здравицу в честь новых «водителей» наших земель, которых будут слышать!..
II.
1493—1547.
С падением Константинополя словно земля перевернулась под ногами афонских монахов. Они неутомимо молили Господа вразумить их и ниспослать святые знаки. Но… то ли не замечали, то ли знаков тех не было.
И монахи — кто не связал свою судьбу с иоаннитами — подавались в скиты. Афонские монастыри почти пустовали. Болела от этого у Максима Грека душа, и он благодарил Бога, что мог отдавать свои силы на распространение Его слова. Монах за несколько лет работы в Киевской лавре переписал семь книг и многие помог перевести. Он уже привык к своему новому месту, сжился с ним, как некогда — с Падуей и Флоренцией, где учился, и только в мягких снах, забываясь над книжными строками и страницами, изредка возвращался на родину — вот как в этом, с сочной травой, солнечным виноградником за спиной, дорогой... длинной дорогой... выбежавшей из воды в лес... старый кудесный лес с большими незнакомыми деревьями... белыми, холодными... и дорога белая, даже глаза заболели...
— Евлогите! — неожиданно послышалось за спиной, и он очнулся.
Еще неосознанно — между видением и явью — вскочил над залитым воском столиком, перекрестился и ответил:
— О Кириос... Господь благословит...
И смутился, увидев перед собой брата-иоаннита, земляка по Афону, своего тезку — Максима Спартанца, в черном хитоне, с наброшенной на плечи овечьей шкурой.
— Вот я и отыскал тебя. Собирайся...
Инок, который привел гостя в келью, поклонился и вышел.
А они долго не могли наговориться. Услышанное никак не успокаивало книжника Максима — мир и действительно переворачивался: в Риме господствует немецкая армия, Священная Империя спорит с Францией за светскую власть... И осколки династии Палеологов, после того как Венецианский сенат напомнил московскому властелину о его правах на наследство византийского титула, решили идти на восток. Между тем князь московский Иван ІІІ якобы принял императорского посла и условился на союз с Максимилианом против ислама, но развязал войну с ляшскими христианами. А теперь готовится к женитьбе на племяннице Константина Зое Палеолог и согласен принять герб Византийской империи — двуглавого орла. И вот он, брат Максим, явился сюда в сопровождении брата базилевса Фомы Палеолога и будущей императрицы Зои, а в посажном обозе — с полсотни древних манускриптов…
— А еще московиты желают умножения церковных книг византийской традиции, посему — собирайся и ты, брат Максим, в новое путешествие. Вот тебе и письмо от нашего наместника о том... — закончил гость.
Вот тебе и дорога... Белая, глаза колет. Снегу насыпало столько, что, казалось, он не растает и за всю весну. А еще — мороз и ветер, от которых не спасали овечьи шкуры и сбитые на санях шалаши-балаголы. Когда лошади выбивались из сил, обоз останавливался в более-менее тихом месте. Сани расставляли кругом, в центре раскладывали костер, грели в котле что-то поесть, затем, когда были не в степи, притягивали несколько сухостоин, обычно елей, и поджигали. Радовались теплу вместе с людьми и кони, сладко ржали, словно встревая в монотонные разговоры монахов.
— Так скоро ль она, та Московия? И правда ли, что тамошний базилевс, князь по-ихнему, не дождался патриаршей буллы и приказал называть себя императором, царем? — спрашивал, энергично потирая ладони, Максим Спартанец. — Не было ли то заявлением на византийское наследство?
— Увидим, — спокойно вздохнул Максим Грек и спрятал в накладной карман четки — келейные, не на сто «зерен», напоминаний о молитве Иисусовой, а на тысячу. Куколь монах опустил на спину и пригладил свои непокорно-курчавые, с русым оттенком, волосы. — В Киеве от монашества я много чего слышал. Он, московский князь Иван, присвоил себе титул властителя всей Руси, этим самым заявив свое право на Киев и Полоцк. Неизвестно, что будет со свободными городами Псковом и Новгородом. Но человеку — человечье, а Богу — Богово. — Монах поднял свою продолговатую голову, открыв острый кадык, и наблюдал, как от костра отрываются и кружат в поднебесье розовые бабочки-искры.
— Эх, раньше мы и не слыхали о той Московии, а теперь вот приходится снега к ней тереть, — вздохнул, ковыряясь палкой в углях, молодой и крепкий прислужник Зои Палеолог Силуан, сын константинопольского литейщика. И без того громадный, в шкурах он выглядел великаном. Только мелкий, чуть вздернутый нос свидетельствовал о его хорошем и мягком характере. Снова вздохнув, Силуан неожиданно вспомнил: — Я, когда в кузнице отцу помогал, в самый солнцепек, мечтал, бывало, чтобы во льду полежать, а тут вот...
— Краток век человеческий, как и всякого государства, помимо Небесного, — не отрывая глаз от огня, заговорил Максим Грек. Горячие языки пламени отображались в его васильковых зрачках и, казалось, вот-вот готовы были расплавить их. — Я прочитал несколько летописей и хроник о той стороне. Разных. Москва рождалась как колония, основанная русами в чужой финской земле. Еще два-три столетия тому Московия полыхала в войнах между потомками Владимира Мономаха. Юрий Долгорукий возглавил армию-колонию и подался на северный восток искать новые земли. Шел той же дорогой, по которой и мы: через леса, между долинами Днепра и Волги. Подчинял себе другие племена. И соорудил походный лагерь переселенцев, который и стал Москвой... Затем, словно Божье наказание за пролитую кровь — долгое нашествие Орды…
...Догорел костер. Яркие угли насыпали в котлы и глубокие железные мисы: еще с час-два будут греть в дороге. Впрягли коней — и санный караван снова двинулся заснеженной поймой реки.
Солнце — словно большой мандарин из афонского сада — зависло слева от них и не спешило заходить за ледяной горизонт, боясь обморозиться. А ведь как красиво некогда, думалось Максиму Греку, оно садилось в фиолетово-молочные волны — будто невтерпеж было, перегретому, нырнуть в морскую прохладу... «Почему солнце освещает всю землю? Потому что странствует по миру», — вспомнились слова преподобного старца Филофея. Так и святая книга должна освещать земли Господние…
Вдруг всполошились кони.
— Волки! Волки-ы-ы!!! — закричали сзади.
Максим Грек отпахнул кожаную штору и сразу же увидел их: длинная стая поджарых серо-черных зверей слетала со снежного утеса наперерез саням. Две запряженные лошади нервно захрапели, завиляли головами — и рванули в сторону, подальше от клыкастой смерти. Где-то под ними и снегом река неожиданно падала вниз. Водный незамерзший порог был невидим под снегом.
— Стой! Сто-о-ой! — ревел на лошадей возница, а на возницу — проводники. Взорвалось несколько пищальных выстрелов, и в тот момент полозья саней натолкнулись на твердое, сани резко шатнулись набок, что-то под ними хрустнуло — и Максима обдало морозным кипятком. Он хватил воздуха — и чуть не захлебнулся водой. Поднял руку, зацепился за сани и попробовал приподняться — и снова ввалился в ледяную купель. Затем чья-то сильная рука вытащила его на свет божий.
Испуганные лошади, поломав оглобли, крошили грудью лед, сани утопали в снегу и бурлящей воде, а над Максимом поднималось парное облако. Около него хлопотал палеоложский прислужник Силуан, спасший монаха из холодного вира.
Выстрелы напугали стаю, и волки внезапно, как и появились, исчезли. Как тени дьявольские.
Помолившись и привязав мокрых лошадей позади обоза (утонувшие сани уже не достать), двинулись дальше. Максима Грека Силуан пригласил к себе — сани его были большими, на них везли несколько ящиков книг.
— Слава Господу за то, что не они под лед ушли, — прошептал Максим и, тяжело дыша, лег. Однако и накрытый он не мог согреться.
А вечером его тело начало гореть. Монах бредил, глубокий хрип вырывался из груди. Бедолага силился поднять голову, но сил не было. Силуан оглянулся в темной кибитке, чтобы что-то найти, подложить монаху под голову. Нащупал за спиной ящик, достал тяжелую, оклеенную мягкой кожей книгу, осторожно придвинул под курчавые влажные волосы. Монах неожиданно затих, дыхание успокоилось. Показалось, уснул…
Через несколько часов он очнулся здоровым. Словно некто вдохнул в него необычную силу, спокойствие, уверенность. Была уже ночь — но светлая; луна отражалась в слежавшемся снегу. И он попросил остановиться, позвал погреться в кибитку возницу, а сам под недоуменно-удивленные взоры Силуана сжал вожжи — и до следующего пристанища, до глубокого утра и общей молитвы отказывался от замены. А затем — краснощекий, с поседевшими от морозного инея бородой, усами и бровями — помогал валить и тягать огромные сухостоины. И от еды отказался. «Слава Богу, сыт», — отошел к саням, вынул из кармана четки и начал новую молитву.
А когда опять двинулись, и монах заметил в санях, где совсем недавно лежал в больном бесчувствии, большую книгу в кожаных переплетах, спросил удивленно-испуганно:
— Что это?
— Я под голову подложил, чтобы повыше, чтобы дышать полегче тебе было... — ответил Силуан.
Максим провел ладонью по нежной коже переплета, отстегнул три медные пряжки и бережно открыл манускрипт.
— От Иоанна святое благовествование... — прошептали уста.
Воз шатало; он аккуратно закрыл книгу — и заплакал.
Силуан — сидел напротив — почесал усы (нос на его большом лице совсем осунулся), насторожился:
— Что-то не так?
— Все так. Все так... — улыбнулся сквозь слезы Максим Грек.
И когда через шесть новых дней пути Силуан прибежал от саней Палеологов со скверным известием: у племянницы императора Зои, не привыкшей к странствующей жизни, сильно заболел живот, монах опять достал из ящика кожаный манускрипт и, справляя молитву, книгой перекрестил девушку. И боль отступила.
Все удивлялись таинственной силе манускрипта, а он, монах братства иоаннитов, спокойно кивал головой и повторял:
— Да-да. Все так. И ничего удивительного. Мы склоняемся к иконам, рукотворным Божьим образам — и они исцеляют нас. А что необычного в том, когда нас спасает слово Божье?..
Книга осталась в санях Палеологов — как ценнейшая святыня их прежнего византийского наследия.
Начали попадаться небольшие поселения, где погреться можно было уже и в низких избах. А затем, после неказистой дорожной крепости-сторожки, пошла укатанная дорога, затуманился дымами пейзаж — и началась Москва. Деревянные заснеженные слободки сменяли одна другую: серые стены домов, скукоженные сады, обледеневшие срубы колодцев, монастырские купола церквей, каменный гостиный двор… И снова — слободы, сады, вплоть до горизонта, насколько хватало взора.
— И это — Третий Рим?! — недоуменно поглядывая по сторонам, повторял Силуан и чесал покрасневший нос. — Или я, напившись перед отъездом, упал и сильно ударился головой о ступени салоникского дворца?..
Они доехали до зубчатой стены Кремля с каменными башнями, за которыми находился княжеский дворец, дома приближенных бояр да несколько церквей с монастырем, и отправили послов с толмачами. Палеологов, Фому и его дочь Зою, в их санях, с императорским приданым, а также посольскую свиту и слуг провела за стену вооруженная охрана — рослые молодцы в длинных рыжих кожухах, подбитых и отороченных мехом, с широкими воротами пониже лопаток, в высоких шапках-мурмолках. Остальные же — поводыри, монахи — подались на постой в ближайшую слободу.
...Первым прописал идею освящения Москвы как Третьего Рима здешний митрополит Зосима. Он изложил ее в предисловии к новой рукописной «Пасхалии» — календарю церковных событий на следующее тысячелетие. Было ли ему откровение, сам ли он выдумал, что небеса благословили нового Константина, Ивана ІІІ, и новый Царьград, Москву, — осталось неизвестным. Через тринадцать лет после появления «Пасхалии» бог позвал Ивана ІІІ к себе на суд, а отцовские земли поделили между собой пятеро сыновей. Старшему, Василию, достались две трети княжества: шестьдесят шесть городов с Москвой-столицей. Неизвестно, благословили или нет Небеса нового «Константина» на очередное создание Царьграда, но наследников ему от венчанной жены, боярской дочери Соломониды, не дали.
— Бесплодную смоковницу выбрасывают из сада! — заговорила боярская дума, и женщину, невзирая на предостережения княжеских духовников и нового руководителя писчего приказа Максима Грека, заточили в монастырь.
Василий, даже для отвода глаз не устроив традиционного парада-смотрин невест, на западный манер сбрил бороду и повел к алтарю сироту Елену Васильевну Глинскую, которая и родила ему потомка. И рано овдовела. И, тоже не сумев возвести величественные стены нового Царьграда, рано оставила этот бренный мир, а в нем — своего восьмилетнего первенца Ивана...
Уже не один час его бил нервный озноб. Ночь поглотила княжеский дворец. Утихли пьяные крики боярской гулянки, а Иван не находил спасения: закутывался в одеяла, укрывался подушками — и никак не мог успокоиться, согреться. Болела сбитая о каменную стену рука, внутри пекло и трясло, в сомкнутых глазах вспыхивали огненные шары — и беспрерывно лихорадило.
А тут еще стук в дверь:
— Княжич, открой!
Он молчал.
— Открой, а не то выбью дверь!
Грохот усилился, ходуном заходил косяк, и он слез с кровати, отбросил засов.
Дверь раскрылась и ухнула о стену. В опочивальню впихнулся опекун Шуйский, а за ним робко выглядывала полураздетая молодица.
— Что, волчонок, замер? — дохнул на Ивана перегаром незваный гость и подтолкнул пониже спины подругу. — Боярыня Марфа соизволила проверить, не отвердело ли ложе царское.
Марфа потупилась, пряча глаза, и неяркий свет свечи выхватил в сумраке ее пухлые губы и раскрасневшееся лицо.
Ивану не хватало воздуха. Задыхаясь и дрожа, он начал неспешно отступать к противоположной стене, а Шуйский хмыкнул, передернув сухим кадыком, и сел на кровать.
— Что молчишь? Иль не рад гостям? Иль думаешь, что я, потомок по старшему колену Александра Невского, не ровня тебе, сопляку? — криво улыбнулся, исподлобья глянул на Ивана, кашлянул — и игриво выговорил молодице: — Марфу-у-ута! А ты что леденеешь? Ходь сюды! — и постучал ладонью по одеялу.
Марфа мелкими шагами приблизилась к кровати, и Шуйский, схватив ее за локоть, повалил на перину:
— Лебеда моя... Царица... — зашептал похотливо. — А какая горячая, а какая справная...
Он рванул на ее крутой груди сорочку, грубовато подмял подругу под себя и сладко засопел. Рыжая подрезанная борода поплыла по белесой ложбинке к животу, острые брови щекотнули набухшие соски — и вдруг голова оторвалась от девичьего лона.
— А что ты тут зиркаешь? — крикнул Шуйский на оробевшего Ивана. — Я, в отличие от вашей кости, не скупой. Хочешь — помогай, а нет — вон отсель!
Ивана, казалось, окатили варом. Больно застучало в висках, еще сильнее затряслись руки. Он, сжав кулаки, бросился было на Шуйского, но, ухватившись за спинку кровати, застонал-прокричал и выбежал из опочивальни.
Босой, в ночной сорочке, как лунатик-призрак, он поморочно спустился в тронный зал, прошел трапезную, добрался через колоннадный коридор к высоким ступеням дворцового крыльца.
Удивленные сторожевые раскрыли перед княжичем двери, а он, не замечая ничего вокруг, бессмысленно шагал по замерзшей земле двора, и его заплаканные глаза становились льдом.
Через некоторое время — ночь еще не минула, хотя надорванный маслянистый блин месяца уже зацепился за купола Успенского собора — он неуверенно постучал в окованные двери митрополитовой резиденции. Открыл заспанный послушник, провел в темную прихожую, накрыл кожухом.
— Обождите, ваша светлость, — проговорил дрожащим голосом, — я сейчас разбужу владыку, — и бегом бросился по скрипучим ступенях наверх.
Митрополит Макарий спустился в черном подряснике, приставил к столу посох и перекрестился:
— Господь милосердный! Что, княжич, случилось? Что с твоими руками?!
А Иван еще долго не мог промолвить и слова; продолговатая яйцевидная голова дрожала, глаза с редкими ресницами покрывали немытые русые пряди, кожух спадал с худых плеч. Митрополит, отправив послушника, попросил:
— А ты в рукава, в рукава руки... Отогрейся.
Иван смотрел в одну точку — то ли на кант столешницы, то ли на митрополитовый посох, — молчал и откидывал за лоб волосы; кровь с раненой руки растиралась по посиневшему лицу, и вид его был ужасный.
Княжича напоили малиновым отваром и предложили поспать, но он мотнул головой и зашептал наконец:
— Они поедом грызут меня да грабят собранное родителями моими!.. Они спят на ложе моем с гулящими суками и не снимают сапог!.. Они, эти шуйские, бельские и другие собаки бесовы, отравившие мать мою, готовят и мне кончину...
— Боже, что молвят уста эти ребячьи? Иван, ты — царский преемник, помазанник Господа. И боярские козни — твоя закалка. Моли неустанно Бога, дабы дал тебе мужества и веры выдержать эти испытания. И я о том беспрестанно Всевышнего вымаливать буду.
Иван неожиданно затих, перестал трястись, неспешно поднял голову, вытянув длинную шею, и насквозь пронизал Макария холодными серо-зелеными глазами:
— Говоришь, я царский преемник?
— Да. От людей и Бога. И недалек уже день венчания твоего на престол царский, ибо суждено тебе стать полноправным властителем земного царства православного. — Митрополит прислонил растроганного княжича к себе и обнял. — Готовься к этому...
Иван проспал в митрополитовых покоях остаток ночи, весь новый день и всю следующую ночь. Утром наспех подкрепился и оделся во все новое: на причесанных волосах — тафья из красной парчи с жемчугом, поверх нее — большая персидская тиара, подшитая черно-бурым лисом; длинная сорочка без ворота; долгий кафтан из вишневого бархата, перевязанный желтым поясом; остроносые, покрытые пурпурным атласом сапоги; легкая соболиная шуба на плечах.
Он оделся и, не попрощавшись с митрополитом, решительно двинулся к колоннадам дворца, прошел в главный зал, сел, не сбрасывая шубы, на трон, вызвал караульного и спросил:
— Как тебя зовут?
— Матей, княжич...
И вдруг Иван вскочил, подбежал и схватил караульного за ворот кафтана, зло прошипел:
— Я, холопская морда, будущий хозяин всей Московии и твой царь! Запомни!..
— Я... я и не забывал, ваша светлость, — недоуменно проговорил караульный.
И то понравилось, даже вдохновило Ивана, но вида он не подал.
— Хочу знать, где Шуйский…
— Да отдыхает еще...
— Где?!
— В... — караульный пожал широкими плечами. — В ваших царских комнатах...
Ивана скривило. Хотел что-то крикнуть, но голос сорвался.
Он возвратился к трону, сильно сжал раненой рукой высокую спинку и возбужденно приказал:
— Аспида Шуйского выгнать из дворца, вырвать ему жало свирепое и бросить в мою псарню! Собаке — собачья смерть! Ложе, им оскверненное, сжечь!
Ошеломленный караульный задом пятился к дверям, и княжич уже вдогонку бросил ему:
— А после того, как исполнишь все, быть тебе, Матей, моим главным постельничим и телохранителем!
Через несколько минут сонного Шуйского стрельцы стянули за волосы на хозяйственный двор. Он пробовал отбиваться и кричать, и Матей схватил его за горло — и не отпускал, пока не открыли двери псарни.
— Ну вот, — толкнули тело Шуйского несколько ног, — теперь тявкай.
Но задушенный Шуйский уже не мог кричать.
Купола Успенского собора сияли на январском морозе медовым золотом. Хрустела свежим снегом Кремлевская площадь — под сапогами и валенками. Весь служивый люд Москвы и даже отдаленных слобод съехался-пришел подивиться на это зрелище, «освящение на царя» молодого княжича Ивана Васильевича.
Они, уставшие от жизненной неопределенности, озлобленные на козни бояр, доведенные до нужды и голода высоким налогом-тяглом, ждали перемен. Ждали еще с 1543 года, когда после молебна в присутствии митрополита Макария княжич оповестил верховных бояр о своем намерении венчаться на царство. Венчаться не как великий князь, а как царь.
Простолюд особенно не разбирался в тех тонкостях. Он просто хотел порядка да покоя. Хотел хозяина — дабы навел тот, наконец, в державе порядок. Хотел, чтобы меньше чинили краж. Чтобы стало все понятным и определенным, как раньше.
На колокольнях Ивана Великого и Благовещенского собора, домовой церкви московских государей, которая напротив, за тысячу локтей, рвали глотки царские глашатаи:
— Московское государство и есть то шестое царство, упоминающееся в апокалипсисе. Еще в древнегреческих летописях написано: над родом Измаила воцарится род русых... Благодаря Богу милосердному и заботе царя нашего Ивана Васильевича Москва рождается как новый Константинополь, новый Царьград...
Народ нетерпеливо топтался на месте. Кое-кто пытался переспрашивать у соседа, что означает услышанное, но и остальные только пожимали плечами, а некоторые и горячо выкрикивали:
— Царя давай! Нашего царя-батюшку хотим видеть!..
И ударили над площадью церковные колокола, и зашевелилась в их возвышенном перезвоне окрестность. И сняли покрасневшие на холоде мужики шапки свои. И начали спешно креститься.
Раскрылись двери Успенского собора, и по площади волной прошел не то гул, не то стон. На белом с позолотой троне, который несли четверо рослых стрельцов, в праздничном убранстве сидел коронованный царь. С обеих сторон за ним тянулась свита епископов, священников, монахов. Все возносили к небу общую молитву с просьбой укрепить нового государя духом истины и справедливости. Позади, спрятанные в долгие шубы и высокие разноцветные шапки-камилавки, шагали бояре и осыпали трон дождем золотых и серебряных монет — трон нового потомка греческих и римских императоров.
О том, правда, не знали ни в Афинах, ни в Риме, ни даже в ближайшем Киеве. И на то не давали благословения ни патриарх Константинопольский, ни Римский[6]...
2.
1992 год.
Когда белая «Волга» лихо завернула в раскрытую калитку и смиренно пискнула-притормозила, Заяц уже спускался на первый этаж. Из машины вышли трое молодых мужчин. Первым с хозяином обнялся плечистый Иван Мороз, бывший студент Николая Семеновича, а сейчас — народный депутат и директор экспериментального института.
— Ну что ж, показывайте свою фазенду, — искренне улыбнулся и блеснул чесночинами зубов.
За ним, протянув громадную ладонь и с интересом оглядев зрачками-каштанами, поздоровался водитель, Сергей Сысанков, тучный председатель ухватского колхоза и тоже народный депутат.
Третий гость, Виктор Керзон, невысокий, не по годам поседевший человек с армейской выправкой, успел выложить из багажника три больших пакета с продуктами и выпивкой и здоровался сдержанно.
— Прошу в дом, — пригласил Николай Семенович, но приезжая тройка захотела «отдышаться» на улице.
— Мы лучше в ваш хваленый сад, на траву, — предложил Мороз, и все подались на задворки, где ровными рядами утопали в цвету яблони.
— И где тут ваш надел? — по-хозяйски поинтересовался Сысанков.
— Забора еще не поставил... — неловко пожал плечами Николай Семенович. — Но вместо него — кусты смородины и крыжовника. Хорошо поднялись, а?..
— А тут и речка под боком! — пробудился Сысанков. — Кто со мной пот столичный смыть?! — И бодро постучал по своему статному животу.
— Нет-нет, что вы... — смутился Николай Семенович. — Вода еще холодная.
— Какая холодная, когда весна заканчивается?! Мы худыми подшиванцами на Пасху купались! — не согласился Сысанков, но к реке, заботливо обнимающей своим берегом огород дачи, не пошел.
— Лучше давайте мангал разожжем, а то скоро бутылки закипят, — спокойно отозвался Керзон. — Может, поставим их в холодильник?..
Огонь вспыхнул сразу, и они пошли в дом — двухэтажный коттеджик из красного кирпича, возведенный около деревянного домика — родового гнезда. В прихожей-гостиной был музей: старые патефоны, гармошки, утюги, фотокарточки. На втором этаже — библиотека и кабинет, с которого свисал в сад, с видом на реку, железный балкон.
— По сути, десять лет моей профессорско-академической жизни отобрало строительство, — рассказывал хозяин. — С отоплением и газом еще не разобрался. Времени нет — жизнь деканская изводит...
— И так королевский дворец! Раскулачивать можно! — уверенно подытожил Мороз и первым вышел на балкон, пригладил над залысинами чернявые волосы и выдохнул в полную грудь:
— Ле-по-та!..
Вечернее солнце мягко розовело в яблоневых лепестках, улыбалось в сладко-дымных углях мангала и пряталось за разлапистой приречной ивой. Стол стоял у стены под балконом, покрытым садовыми повоями. Шашлык удался, и коньяк был его нежной оправой.
Прозвучали тосты за гостей и хозяина, и последний, подняв рюмку, понизил голос:
— Вспомнилась мне притча, некогда рассказанная черногорским профессором. Большой стол, жизнь-выпивка… А через несколько стопок-годов застольного тамаду перестали слышать, еще через несколько — и слушать…
— Не беспокойтесь, Николай Семенович! Мы вас, только скажите, всегда услышим! — хотел перевести услышанное в шутку повеселевший Сысанков, но Заяц покачал головой:
— Нет, друзья... Большое, думаю, дело ждет вас впереди. Империя, в которой я родился и прожил, рассыпалась. Теперь каждый за своим столом сидеть хочет. Страна наша — независимая и равная средь равных. И ей необходим тамада-президент.
— Так у нас же по конституции — парламентское государство... — после оторопелой паузы выговорил Мороз.
— До настоящего парламентаризма мы еще не доросли. А бывшие правители от компартии и спецслужб уже определились со своим ставленником. И когда он воссядет на престол — страна откатится в прошлое... — Заяц внимательно осмотрел гостей: казалось, слушают проникновенно, заинтересованно. — Так вот, предлагаю тост: выпьем за нового руководителя нашей страны! И хочу, чтобы им стал не выкормыш партийных чинуш, а... один из вас!
Выпили молча. И задумались, размякли. И разговоры начали казаться бесконечными, пока раскрасневшийся Сысанков не припомнил:
— Штой-то мы из-за этой политики о реке забыли. Пойду, пока не стемнело, морду обмою, — и, неуверенно расставляя ноги, побрел в конец огорода.
За ним, вздохнув, подался и Керзон.
А Мороз снова налил в рюмки, придвинулся к наставнику и, не мигая, спросил:
— Вы о том президентстве — серьезно?
— Как никогда раньше! — Заяц, подняв свои совиные брови, наполовину прикрывавшие стекляшки очков, тоже глубоко всмотрелся в своего бывшего студента. — Ты, Иван, имеешь все шансы победить. Готовь команду — и думай. Поверь мне: теперь или никогда! И да отсохнут мои ноги, если ты не станешь президентом!
Они почти по-гусарски встали и выпили. А затем обнялись и задумались.
— Пойду экскурсантов проведаю, — первым отозвался Мороз. — А то еще потонут, помощнички...
А те, раздевшись до трусов, плескали на себя коричневатую, настоянную на старых кореньях воду, и пыхтели от удовольствия.
— Эх, индюки, так ли охлаждаться надо? — подкузьмил Мороз и, пока подошел Николай Семенович, разделся догола и нырнул в воду.
На берегу все замерли, а затем радостно вскрикнули, увидев его голову над речной рябью. Два «экскурсанта» начали одеваться, а хозяин фазенды не успокаивался:
— Хватит, плыви назад! — и вдруг заметил (как-никак вырос на этой воде), что Мороз начал нервно выбрасывать руки, дыхание его сбилось. Пловец глотнул воды, кашлянул и, испуганно покрутив головой, прохрипел:
— Судорога... ноги свело!
Керзон бросился к нему, но в нескольких шагах до берега замедлился. Захмелевший Сысанков недоуменно смотрел на свои штаны, потом сунулся в воду, выполз и начал снимать ботинки.
— Держись, Ваня! — как можно спокойнее вытиснул Заяц. — Дыши ровно, сейчас что-нибудь бросим. — Напряженно забегали под очками близорукие глаза — по притоптанному берегу, по старой иве... Хватился отломить ветку, но передумал… и в то же мгновение увидел вожжи (еще в прошлом году соседские сорванцы собирались приделать качели).
Он по пояс вскочил в воду и, крикнув: «Хватайся!» — бросил веревку. Бросил удачно — Мороз цапнул ее еще на лету.
— А теперь — греться, греться да слушаться старших! — задыхаясь от волнения, просипел Николай Семенович и неакадемично выругался.
И они опять пили — уже без тостов. Только Мороз, откашлявшись и растерев водкой непослушные ноги, взглянул на своих оторопелых товарищей, встал и, чеканя каждое слово, выговорил на одном дыхании:
— За крестного, окрестившего меня в этой воде!
— Подвели вы меня, Николай Семенович, под монастырь! — Иван Мороз выглядел уставшим и подавленным.
Спозаранку он приехал на городскую квартиру к Зайцу и, не раздевшись, не обив с шапки и сапог снег, вытащил из внутреннего кармана сложенную в гармошку газету:
— Вот, с семи утра по киоскам лежит...
Прошли на кухню. Пока заваривался кофе, Заяц успел прочитать передовицу совминовской газеты с броским названием «Бревно в депутатском оке». О том, какой зубоскал и демагог народный избранник Мороз, об ужасном состоянии доверенного ему промышленного института, о том, как издевается над подчиненными. И какие-то экономические раскладки, и слова свидетелей...
Мороз сидел на небольшой профессорской кухне и нервно постукивал узловатыми пальцами по столу, а когда газета была отложена, выстрелил покрасневшими от бессонницы глазами:
— Ну, что скажете? Здорово размазали?! И как после этого?..
Николай Семенович снял очки, неожиданно улыбнулся и — глаза в глаза — промолвил твердо:
— Размазывают, мой дорогой, масло по булке или сопли по щекам. А за это ты еще редакции и заказчикам проставить должен!
Мороз набычился и недоуменно вперился в профессора. Тот подставил табурет поближе к гостю:
— А ты, вижу, сам уже с утра проставленный! Последний раз говорю: переставай пить. Или бросай все — и пей.
Минуту помолчали, и заговорил Мороз:
— Понимаете... Они кабинет мой опечатали, дела какие-то завели. Я… как волк — обложен... — и замолчал, смотрел на профессора и сопел.
Заяц вздохнул, достал из холодильника бутылку коньяка, налил:
— Значит, так... Это вместо валерьянки. Затем ляжешь и выспишься. А завтра соберем пресс-конференцию. И если ты волк — время показать зубы! Запомни и успокойся: теперь все, что идет сверху против тебя, работает в твою пользу. По крайней мере в глазах электората.
— Так у них же структуры...
— Создавай, пока есть время, и ты свои.
— Как создавать, когда ни кабинета, ни телефона…
— Садись в мой, деканский. Или… стой. Пустует у нас на факультете бывшая «ленинская комната», где заседал партком. Там и вход есть отдельный, запасной. Чем не временная штаб-квартира?
— Так и вас же погонят за это — и из кабинета, и с работы...
— Отгоняли меня уже, Ваня! — Николай Семенович опять проникновенно взглянул в глаза своему ученику и вздохнул: — Ноги уже не те, чтобы бегать. Да и доколь же мне зайцем быть?!
Мороз задумался, затем мотнул головой и выпил.
— Повторяю как на лекции: они должны защищаться, а инициатива — в твоих руках. И не дрейфь! Все будет хорошо! — Николай Семенович улыбнулся близорукими глазами и крепко обнял гостя.
...Он был искренним, слегка неуклюжим, чрезвычайно активным не только в новой деятельности, но и в поиске друзей. Мог подвезти на своей машине заклятого врага, участвовал в коллективных посещениях бани, с готовностью приглашал в свой кабинет или на квартиру интересных для него людей — выпить и поговорить.
Правда, гостей разделял по степени важности, значимости и своей к ним приверженности: кого угощал самогоном и салом, а кого магазинной водкой с колбасой.
«Дипломатия» давала плоды. Готовилась, например, на телевидении в живом эфире передача по проблемам окружающей среды — вместе с учеными из Академии наук приглашался и депутат Мороз. И говорил не только об экологии.
В начале каждого дела может быть случайность. Когда на случайность начинает работать закономерность — приходит победа. Закономерной было общественное сострадание и уважение к разоблачителю народных врагов. Закономерной стала и поддержка его группой молодых депутатов, которых история назовет «волчатами». Они — тоже закономерно — увидели в активном депутате силу, способную расшевелить старую цитадель руководителей и бюрократов.
То же, по профессии своей, не могли не увидеть и соответствующие службы безопасности: поддержали, подсказали, где надо — и помогли…
И «волчата», обучаясь и взрослея, бросились в бой. Объездили почти все регионы страны, организовывали встречи — в клубах, на вокзалах, на рынках, в магазинах. Говорили (в первую очередь он, Иван Мороз) просто и отвечали доходчиво — то, что хотел услышать уставший от инфляции и безысходности народ. Они показывали причину обесценивания денег. Причину традиционную — воры. Даже не один-два, а целая каста, названная еще недавно неизвестным простому уху словом «мафия». И оно, то слово, стало в народе наиболее употребляемым (еще не стерся из памяти телесериал об итальянских мафиози и борце с ними — комиссаре Катани). Мафией начали называть всех и все, что так или иначе ассоциировалось с успехом, богатством, с коррупцией, хотя многие даже не могли правильно выговорить это слово. Ну а на киношный образ борца с махвией органично лег свой — бесстрашного депутата Мороза.
Народ утопал в растерянности. Заработанные за месяц деньги через несколько дней съедала инфляция. Цены росли. Росли в столице и за ней княжеские дворцы. Первыми — чиновников от партии, Совмина и нефти. Следом — тех, кто имел возможности-связи: брал в банках кредит, переводил бумажки в валюту — и через полгода отдавал ссуду, а на остаток строил себе многоэтажные хоромы и убегал из городских хлевушков. А те, кто оставался в хрущевках, лютели от зависти и злобы.
Словом, как и предсказывал Заяц, ставший руководителем предвыборного штаба опального кандидата в президенты, события разворачивались очень благоприятно. Семя упало на благодатную почву, из которой пробивался закономерный ответ: чтобы разобраться со всеми ворами, правдорубу Морозу не хватает власти…
После пасхальных праздников опечатали и истфаковскую «ленинскую комнату», однако ее новый хозяин прорвался во временный штабной приют, спешно собрал журналистов и в университетском коридоре, заполненном удивленными студентами и преподавателями, дал пресс-конференцию.
— Было перевернуто все даже в холодильнике, — возмущался он. — И это в университете, храме науки. Какой пример молодежи?!. Искали на себя компромат, чтобы уничтожить... Но правду не спрятать и не украсть! А недавно мне сообщили, что Дума планирует лишить меня депутатского иммунитета. Однако пусть они запомнят: народного кандидата в президенты Мороза не устрашить!..
А тут — то машина с «правдорубом» с моста упадет, то в самолет не пустят… И новые слухи поползли по городам и весям: с ним воюют — значит, боятся.
Вместе с удостоверением кандидата в президенты Мороз и его команда получили возможность официальных встреч с избирателями — на стадионах, в залах, на заводах и фабриках. И когда доверчивый в своей любви и уважении электорат начал сотнями и тысячами становиться перед ним на колени, Мороз окончательно поверил в свою звезду, в свое мессианство, не жалея ни сил, ни времени, ни угроз, ни улыбок, ни обещаний. И — победил. И в своей новой роли выглядел уверенно и спокойно.
— Итоги выборов я расцениваю как вотум народного недоверия правительству и всей бюрократичной власти, разжиревшей на народном горе, — ответил он на первый журналистский телефонный звонок-поздравление в ночь подсчета голосов. — Теперь страна заживет по-другому. Мы отнимем все награбленное! Выбросим воров с заводов! Народ вздохнет свободно. Цензура в прессе будет отменена, как и монополия государства на средства массовой информации. Хватит, натерпелись вранья!..
Верховная Дума на своем очередном заседании торжественно объявила Ивана Владимировича Мороза первым президентом страны. Президент огласил присягу, а вечером все, даже прежние враги, были приглашены в резиденцию на торжественный прием.
В радостях и эйфории, казалось, Мороз сотоварищи не заметили, что на инаугурацию приехало совсем мало иностранных делегаций. Да и уровень их представительства был не из высших: два спикера парламентов стран-соседок, три вице-премьера, а в остальном — послы да нефтезаинтересованные общественные деятели…
ІІІ.
1547, 1549, 1551.
Медовый месяц (через две недели после венчания на царство Иван IV женился на боярской дочери Анастасии Захарьиной-Кошкиной) прошел для Кремля спокойно, как и два последующих месяца. Знать свыкалась с новыми правилами-законами и почти не ощущала перемен.
Не ощущали их и служивые, доведенные до нищеты и злобы. В Кремль с разных сторон потянулись ходоки-челобитчики. Если кому удавалось донести свою беду до царских ушей, то летели головы, кровь брызгала на лобное место — и все опять стихало.
И так — два года. Царь посылал в города своих наместников, а получал от них письма с жалобами на непослушание бояр. Засушливая весна предрекала жаркое лето и голод, а казна не полнела.
Когда надоедали хлопоты, женское тело и ночные гульбища, он подавался на охоту. Обычно, как и на этот раз, в недалекий от Москвы Островок. И дорога хорошая, и ложбины для загона удобные, и дубы-ольхи высокие — лицо не поцарапаешь.
Царская свита еще ехала полем, когда Матей, назначенный уже главным постельничим, поднял лошадь на дыбы и рванул вперед. За ним — с десяток охранников. И только тогда Иван заметил долгий, подвод в сорок, обоз: лошади паслись вдоль дороги, телеги составлены полукругом, над ними белел дымок костра.
Матей возвратился через несколько минут возбужденный:
— Ваше царское величество... Это из Пскова посольство. Подкараулили, собаки, на дороге. Хотят с вами говорить. На городского наместника у них жалоба.
— Опять?! — крикнул царь. — Я, наконец, отучу их брехать!
— Ваше царское... Не можно туда! У них пищали и сабли... — Матей не успел договорить, как царь пришпорил коня и рванул вперед. Догнав, главный постельничий повторял свои заклинания, но в ответ слышал одно:
— Отучу!
Псковичи, разношерстная дружина бояр и купцов, увидев царя, решительно вышли навстречу, встали на колени, некоторые — кто более беден родом и казной — поснимали шапки.
А царь не остановился. Стон, крик, вопль! Кровь на пожухлой траве...
— Я отучу вас плакаться, песье отродье! — Царь бил кнутом налево и направо, конь своенравно скакал и испуганно топтал бархатные сорочки, шерстяные кафтаны, шелковые однорядки, сафьяновые сапоги. И — белые кости.
— Выслушай, батюшка!.. — чья-то рука ухватила за шитую золотом попону, вторая — за седло. — Нет жизни люду нашему от наместника твоего...
Конь бросился в сторону, и проситель — молодой чернобородый мужчина — упал под копыта. По его спине загуляли кнуты царских охранников.
Иван отъехал и остановился. Учащенно дышал. Голова дрожала. Раскосые глаза — как в дымной поволоке. Высокие скулы заострились, под ними страшно шевелились натянутые желваки. Царь шептал, словно жевал:
— Отучу... отродье... наместник мной поставлен, это моя воля... Против нее пошли, с пищалями... отучу!..
— Ваша светлость, что прикажете? — это был голос Матея, тот подъехал к царю и преданно склонил голову.
— Всех головать! Всех!.. Без суда и правежу! — Лютые зрачки блеснули сквозь мутную поволоку и обожгли постельничего.
Царь вздохнул и рукавом стер со лба холодный пот.
Пока стягивали трупы, он гарцевал по сухому полю, только пыль коптила из-под копыт мокрого коня — как дым. Затем возвратился, пригладил взбитые волосы (шапку потерял) и приказал:
— Хватит, поохотились. Айда домой!
Повернули к Москве. В первой слободе с придорожным шинком остановились утолить жажду.
— Кажись, наконец, туча... — Матей вытянул низколобую голову и смотрел вперед. — Может, и дождь будет?
Серо-пепельное облако растекалось по горизонту, шевелилось, густело, и кто-то из ловчих, еще не успевший слезть с коня, испуганно прошептал:
— Боже, это ж пожар...
Москва сгорела.
Сгорели царские и боярские палаты Кремля, Успенский собор, казна, арсенал, два монастыря с церквями, девять ближайших слобод.
Сгорели почти две тысячи горожан. Мертвый пепел покрыл дороги и вонял жженой человечиной.
Царь спрятался в охотничьем домике на Воробьевых горах и никого к себе не подпускал. Не ел, не пил. Через дощатую стену был слышен его беспрестанный шепот: то молитвы, то бред. А потом приказал позвать к себе митрополита Макария.
— Государь, он весь немощный, — боясь попасть под гнев, мягко поведал Матей. — Чуть не сгорел в соборе. Теперь его в Дольнем монастыре выхаживают.
— Едем туда!..
Митрополит еще не ходил. Увидев царя, приподнялся на лежаке и прислонился к каменной стенке. В глазах — спокойствие и доброта.
— Прости, что не могу стоя приветствовать — ноги разбиты.
Но царь словно не слышал и не замечал ничего вокруг.
— Владыка! За что ад такой?! Что мне, окаянному, делать? — и он ополз на пол около митрополитового лежака. В келье более никого не было.
— От рождения жизнь человеческая — ад, если Богом не освящена. За грехи, за страсти наши наказание...
— Тысячи живыми сгорели — все грешники?!
— О том только Бог ведает.
— А ты... Ты, надевший на меня терновый венец царствования, что-нибудь знаешь?! — в голосе царя пробудилась злость.
— На царство венчал я тебя в Божьем доме с Божьими заповедями. Только они спасут и тебя, и царство твое... — голос митрополита осип, из груди вырвался кашель. Увидев, что гость приподнялся и насторожился, успокоил: — Ничего, это от огня... Пройдет.
Но царь, думающий о своем, словно не услышал:
— Так что же мне делать?
— Не приноси на алтарь власти своей смерти безвинные! — слова митрополита прозвучали уверенно и выразительно. — Выпусти из темниц безвинно осужденных. Почто в цепях старец Максим Грек? А дед твой Михайло Глинский? А сотни других?!.
Царь будто сам вдохнул пламя. Смотрел на Макария, на его густые обожженные брови, сросшиеся над переносицей, и одержимо моргал. А затем бросился к дверям:
— Молись за меня, владыка!
— Погодь... Постой минуту... — Макарий позвал послушника и попросил принести царю книгу. Иван присел на скамью и провел ладонью по деревянной шкатулке, раскрыл. В кожаном переплете с тремя сияющими пряжками была византийская рукопись Евангелия от Иоанна. — Это тебе подарок. Еще Максим Грек мне о ее чудодейственности рассказывал. А давеча сам в том сподобился убедиться: когда собор горел, оно на аналое стояло, раскрытым... Аналой в огне, обрушился — а на нем ни знака. Так пусть крепит дух и дела твои...
Еще там, у Макария, в темной келье, Иван прочитал первые строки Евангелия от Иоанна: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог...» Да, прочитал! Сам! Черные буквы рукописного полуустава с наклоном вправо наконец сложились в его глазах в слова... Слова — в предложение. На целую строку!.. Насколько хватило движения глаз и дыхания прошептать прочитанное...
Он с детства боялся написанного, книжного. Не мог читать. За него это делали нянька, постельничий, затем — писец, дьяк, духовник. Ему читали вслух: Библию, «Пчелу», Степенную книгу. И он, сжимая губы и веки, слету старался запоминать услышанное. Сам же... сам же не мог сложить-соединить буквы в слова. Знал их, мог писать и переписывать. А читать, сложить-спаять — нет!
Он боялся в том признаться, стеснялся о том говорить. И ужасно страдал. Как что-то отрезано было в глазах и голове. Как перегорело. Тыкал пальцем в слово — и запинался. Пытался по буквам. Озвучивал первую, а как доходил до второй — куда-то уплывала с глаз и памяти предыдущая. На них, оттеняя, наступала третья, наплывали, взбивая панику и внутреннюю дрожь, остальные... Он нервничал. Тряслась голова. Руками сжимал ее — и текст, даже самый небольшой, расплывался перед ним. Книга, а также стол и табурет начинали шататься. Становилось дурно, и он закрывал глаза и кричал...
Думали, у княжича ослабло зрение. Звали врачей, проверяли — все хорошо. Писали на бумаге те же самые буквы — называл-узнавал. Писали слово — и ничего! Подносили книгу — лихорадочно дрожал и либо прятался, либо убегал[7].
А тут — как глаза у него наново выросли. И в вечернем полумраке, и в сполохах свечей он читал и не мог утолиться: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришел ради свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали через него...» Перелистнул несколько страниц и продолжил: «Пилат сказал Ему: итак, ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что я Царь; я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает гласа моего...»
Он уснул, положив голову на книгу — как дитя, сладко и беззаботно. Догорала толстая свеча, и ее прозрачные слезы стекали на царскую ладонь с золотым перстнем-печатью.
В высоком окне кельи проклюнулось утро, затем августовское солнце разогнало по углам пропахшие деревянной смолой тени, а он тихо и спокойно сопел, улыбаясь сквозь сон, да изредка что-то шептал. И никто — ни Макарий, ни постельничий — не осмеливались будить его. А как только раскрыл веки — приказал неутомимому Матею:
— Разыскать и освободить Грека Максима да Михаила Глинского! Хочу видеть их гостями в доме моем.
Старейшина иоаннитов Максим Грек, разбитый болезнями, отказался от встречи с царем: «Отъездился я за свою жизнь... Быть мне до кончины монастырским затворником — там, куда Бог сподобил попасть». А князь Михаил Юрьевич Глинский, как оказалось, жил уже на свободе — с семьей во Ржеве. Подумал, пока гонец допивал квас, и начал собираться в дорогу.
Он, казалось, сам был дорогой. Или дорога — его духом и пульсом. И ее, свободной, живительной, ох, как не хватало ему в темнице. Темнице, куда бросила родная племянница, которую растил-няньчил, которую к браку с царем привел, которую на трон московский подсадил — и в ответ был одарен ржавыми оковами.
Но Глинский не имел обиды за то — ни на судьбу, ни на племянницу. Он был человеком, слепленным из горной глины и закаленным духом рыцарства. Ему бы со своими убеждениями родиться лет на триста раньше, но и на время он никогда не пенял. Это теперь он седой да истлевший, а некогда... Некогда с отпрысками Радзивиллов был отправлен из Великого Княжества Литовского, Русского и Жемойтского на учебу в Италию, постигал философию и архитектуру, богословие и астрономию. Военное дело не единожды приходилось учить на практике: участвовал в нескольких дворцовых заварухах, умудрился попасть в сподвижники к императору Максимилиану и Альберту Саксонскому. До беспамятства влюбился в Джулию Кастальди, дед которой, Памфилио из Фельдры, приобщил его к тайнам новой науки книгопечатания.
Не меч, а слово наконец завладеет миром! В этом был непоколебимо убежден литвин Михаил Глинский. Завладеет и победит! Легенда все то со сном пророческим Константина Великого: бог, якобы, показал ему перед битвой с тогдашним правителем Италии Максентием огненный меч-крест с надписью на древнегреческом: «Эв тоута вика!» — «Сімъ побъдиши!» — «Этим победишь![8]» Император, безусловно, заслужил почестей за то, что христианскую веру сделал государственной и защищал ее. И столицу в Византий перенес из Рима. И возвысил Константинополь. Но... Но мог ли вселюбящий Бог послать меч, посулить убийства, смерть? Ведь это всему Святому Писанию противоречит! Только любовь и слово Божье и спасти, и победить могут. А слово надо окрестить огнем, надо выковать, как и меч...
Сімъ побъдиши.
Михал Глинский даже было расплакался, когда увидел, как выплавлялись металлические буковки, волшебные в своих зеркально-неправильных очертаниях. Затем их складывали в кассы-строки, кассы — в соты-страницы. Проведя окрашенным валиком, выпуклой тягой оттискивали на бумаге.
Изобретение печатного станка приписывают немцу Иоганну Гуттенбергу. Первопечатники Иоанн Ментель из Страсбурга, имевший типографию уже в 1458 году, Пфистер из Бамберга и Франциск Скорина из Полоцка будут признаваться учениками Гуттенберга. Свое первенство отстаивали голландцы — и называли земляка-печатника Костера. Не отставали от них, понятное дело, и итальянцы, сородич которых, Памфилио Кастальди, дед госпожи сердца заплутавшего во времени рыцаря-литвина Михала Глинского Джулии, изобрел передвижные буквы. Как рассказывали его дети, Кастальди не увидел в том ничего необычного и уступил изобретение Фусту, основавшему с друзьями типографию в Майнце. Зять и продолжатель дела Фуста Петер Шеффер в «Институции Юстиниана» 1468 года и назвал первопечатниками Гуттенберга и Фуста. Был или не был им Фуст, повлияли на это определение родственные чувства или нет, первым ли увидел печатную книгу-инкунабулу на своем станке в Майнце Иоганн Бонемантан-Гуттенберг — кто знает… В это Михал Глинский особо не вникал. Какая разница для истории, кто первый оставил след-оттиск босой ноги на мокром берегу, кто приложил печать на бересту, пергамент или бумагу, кто отпечатал первую книгу, когда все — и ногу, и берег, и печать с пергаментом, как и саму книгу, создал Господь Бог? Важна, верил рыцарь-литвин, только победа — победа железного слова над железом меча.
На некоторое время молодые инкунабулы оторвали Глинского от Джулии, и однажды ее служанка передала краткую записку: «Прощай и прости! Плыву с капитаном Душаном за своим счастьем...»
Они не были венчаны, но православный Михал, готовясь к тому, принял католицизм. А измены — не принял. Он надумал себе, что его госпожу сердца похитил тот капитан с зетской шхуны и свез в свои сербские горы. Михал бросился в погоню и через восемь дней болтания на адриатических волнах добрался до черногорской Будвы. Оттуда верхом — в Бар, скрытый от моря чудесными горами и оливковыми садами, пропахший морским ветром и медовой смоковницей. В Баре, как рассказали ему рыбаки, и жил тот обидчик Душан.
Но из очарованного местными красотами сердца Михала неожиданно выпала Джулия... Он влюбился в Зету-Черногорию[9], которая хотя и была официально в то время под Османской империей, но не пускала врага в свои горы, к древним монастырям. В недавно основанном Иваном Черноевичем среди балканских хребтов Цетине, столице края, уже третье десятилетие действовал печатный дом, которым управлял сын Ивана Джурдже Черноевич. Тут Михал Глинский впервые увидел инкунабулы на кириллице, полистал книгу полочанина Франциска Скорины, коего разыскивал в Падуе и с кем так пока и не повидался.
Здесь, в православном Цетине, он впервые вычитал, что Константин Великий, византийский император и патрон Константинополя, родился в Сербии — на этой земле! Здесь услышал Глинский и о монахе Максиме Сербе, пришедшем из Афона и заложившем местное братство иоаннитов.
И литвин-мечтатель Михал Глинский не мог не слиться с ними. Одержимый рыцарским служением, он отправился на родину, посетил Полоцк, Вильно. Наконец познакомился и подружился со Скориной, и когда первопечатником были дотиснуты и переплетены новые книги Библии, а на московский престол взошла Елена, племянница Михала Глинского, предложил направить часть печатных Библий в Московию.
Кто же мог знать, чем то обернется, что книги, впервые доступные и языком, и количеством, будут названы еретическими и сожжены на кремлевской площади? А иоаннит Максим Грек, афонский инок, тоже прошедший учебу в Падуе и Флоренции, будет осужден на тамошнем церковном соборе за якобы неправильные переводы книг Божьих и выслан в Иосифо-Волоколамский монастырь.
Впрочем, никто не мог предсказать тогда и незавидную участь самого Михала Глинского...
И вот теперь он, стар и немощен, пред налитым молодостью, но тоже утомленным лихими временами двоюродным внуком и государем, царем и великим князем Иваном IV.
Он многократно представлял себе эту встречу — едва ли не с самого Иванова рождения. Вырисовывал ее в долгих грезах узника, первые фразы беседы придумывал, наизусть заучивал, даже когда и веру в свидание на этом свете потерял. И вот — свершилось...
Глинский, сухой и седой как лунь, торопливо осмотрел временное царское прибежище — небольшую комнату охотничьего дома, решительно ступил несколько шагов вперед (Иван сидел за столом лицом к нему), перекрестился, смотря на иконостас в простом бревенчатом углу, и поклонился ему. Прошел поближе и начал с давно приготовленного:
— Троице пресущественная и пребожественная, и преблагая праве верующим в тя истинным хрестьяном, дателю премудрости, преневедомый и пресветлый крайний верх! Направи нас на истину Твою и настави нас на повеления Твоя, да возглаголем о людех Твоих по воле Твоей…
Иван удивился и увеличил глаза:
— Михаил Юрьевич, ты ли это?
Гость улыбнулся, переступил с ноги на ногу:
— Я, кому ж быть-то... Бью челом моему добродетелю, — и слегка наклонил перед царем голову.
— Садись, перекуси с дороги.
— Благодарствую, великий князь, не естся уже в мои годы. И отвык, признаться. Оказывается, и хлеба с водой человеку вдоволь может быть.
Иван нахмурил высокий лоб, нагнал на лицо ранних морщин и пропек Глинского углями-зрачками:
— Обижаешься, значит? Как на волка, на царя смотришь?!
Гость улыбнулся, медленно отставил скамью и сел напротив Ивана; из-под старческих дрожащих бровей спокойно глянули голубые глаза:
— За что обижаться? Я и на мать твою, царство ей небесное, — ропотно перекрестился, — никогда скверного не подумал. Даже когда в темнице крысы пятки мои грызли. А теперь вот радость сердце мое переполняет, радость, искренне молвлю, что Бог позволил на склоне дней моих сына ее первородного повидать...
— Обиду имеешь, нутром чую, — перебил его Иван.
— Нет. Нет и нет! Побожиться даже могу.
— Не поверю!
— Твоя воля, — Глинский вздохнул, снова улыбнулся, взглянул в высокое овальное окно над Иваном, помолчал и добавил уже будто бы и не своим голосом: — Из своего долгого опыта вынес я главную истину, которая, надеюсь, и продолжает дни мои: жизнь есть тайна, а смерть — вещь обычная. И обида — помощница смерти. Обида — огонь злобы.
Иван удивленно откинулся на спинку. Смотрел внимательно и молчал.
— Да, обида и злоба — пособники смерти, ибо душу нашу, яко гусеницы цветок, грызут... И убеждают нас, что не все от Бога. А от Всевышнего все, помимо обиды и злобы. Посему нет их у меня… и не было. Все от Бога. И волоса с нас не упадет без Его воли! Кто знает, может, если б не моя темница — не говорить бы мне с тобой, великий князь…
Иван в ответ недоуменно вытянул шею.
— Да! Может, быть мне растоптанному озлобленной толпой на ступеньках Успенского собора, как и племяннику моему Юрию? Кто знает, может, и на меня бы лжесвидетельствовать стали, что пожар водой колдовской с ним на Москву навел?
Иван довольно хмыкнул и заговорил:
— Вижу правду в глазах и словах твоих. А посему верю тебе, как крови и телу родному верю. И позвал тебя, Михаил Юрьевич, дабы совета спросить и в годину тяжкую к плечу близкому прислониться.
— Слабое, к сожалению, теперь плечо то...
— Зато ум сильный! — Иван резко вскочил и сжал собеседнику руки. Взглянул узкими глазами просветленно, даже задрожали веки: — Будь гостем моим! Ежели от угощения отказался — приказываю быть пиру в твою честь! А пред тем, как подготовят все, приглашаю в баню — смыть пыль дорожную…
Трапезную, стены которой были обиты кожами, а посреди стоял длинный стол, наполняли запахи чеснока и зеленого лука, к ним примешивались дымные ароматы печеной рыбы и жареной дичи.
Иван и Михал вошли бодрыми, раскрасневшимися, в одинаковых длиннополых вишневых кафтанах — только телами отличались на полвека.
В продолговатых мисах были наготовлены печеный кабан, осыпанный зеленью, жареные перепела в перцовой подливе, головы щук с натертой репой, уха с шафраном, заячьи почки в сметане с имбирем. Дубовые чаши наполнены наливками. В большом серебряном жбане над чашами и корцами ожидало красное рейнское вино. С него и начал Иван угощение.
— Прошу отведать — «Петерсимона», наилучшее лекарство от усталости и лиха! Голландский купец в Москву привозит.
Они стоя пригубили — и присели. Глинский отломил от хлебного ломтя краюху и долго молча жевал. Иван внимательно наблюдал за ним и пил.
— Ты молвил, князь, что хотел у меня, грешного, совета спросить. Понимаю, услышать желаешь, как дальше жить-управлять. Если не передумал, могу кое-что подсказать...
— Давай! — царь отставил чашу и сплел на груди свои длинные руки.
— Что ж, слушай. Только не обижайся, коль что не по душе придется...
— Говори!
— Стольный град твой — под пеплом. Народ — в голоде. А что у тебя на столе? — Лицо Глинского внезапно стало грозным. Царь смотрел на него спокойно и молчал. — Что?! Подобной роскоши я не видывал и у Максимилиана! Сделай первый шаг — отдай все это простолюду московскому, который сейчас лебеду ест с горелой человечиной!
— Отдам, — вдруг спокойно сказал Иван. — И что дальше?
— А дальше созывай всех — и голытьбу, и бояр, и дьяков — на восстановление столицы. И сам то дело возглавь, дабы народ видел.
— Возглавлю... — Царь придвинулся поближе к столу. — А затем?
— Затем вече собирай, собор готовь, как некогда славные предки делали, — и в глаза люду смотри!
Через два года на Красной площади перед отстроенным заново Кремлем не было где упасть шапке. На Большой собор съехались служники, пашные, сотские и десятники, дьяки и дьяконы, сторожники и наместники из всех городов и уделов.
Царь стоял на возвышении посреди Соборной площади и говорил звучно, возбужденно. Говорил о начале новой жизни для державы, о воровстве бояр и лихоимстве купцов, обещал положить тому конец — во имя справедливости и любви. А напоследок, осмотрев потрясенную толпу, обратился к митрополиту:
— Молю тебя, святой владыка: будь моим помощником в деле этом! Ты знаешь, что я остался без отца в четыре года. Родичи не заботились обо мне... Еще мальчишкой я сел на царский трон. Бояре же только кровь пили — мою и вашу... — Иван вздохнул и провел рукой над площадью. — Мздоимцы и продажные судьи, чем ответите вы за пролитые слезы и кровь?! — Он поднял голову к небу, затем медленно поклонился на все четыре стороны и проникновенно окончил: — Молю и тебя, народ Христов, о прощении моих грехов, ведь только один я в первую очередь винен перед Богом и вами за все совершенное на этой земле. Прости и позабудь зло и несправедливости, узри во мне своего судию и покровителя!
Толпа застонала, загудела, зашевелилась и начала волнами падать на колени — от царского возвышения до последних рядов, возможно, мало что и слышавших из промолвленного...
3.
После выступления в университете он направился в загородную резиденцию Ворониха. Чувствовал себя разбитым и уставшим. Ко всему напала какая-то мерзкая тревога, неопределенность.
Встреча оказалась неподготовленной, не хочется думать — провокационной. Когда-то же и он был студентом, и тоже — не из медовых. Но чтобы так... И откуда у них столько бравады, политиканства, наглости даже? Государство им и стипендии, и общежития, а в ответ…
Отвечать, впрочем, сегодня вынужден был он, а студенты спрашивали. Вначале о будничном, личном, о том, наверняка, что кураторы подготовили. А потом и пошло: почему президент не выполнил свои обещания в том и том, где дела по казнокрадам и коррупционерам? Почему год назад на стипендию они могли двадцать раз пообедать в столовой, а теперь и на пять не хватает?.. И так далее… Все равно как не в государственном университете побывал, а на сходке оппозиционной партии! «Зря послушал Зайца, — подумал президент, — пусть бы сам и крутился на той встрече! Да и ректор — тот еще фрукт! И не погонишь же сразу...»
Он недовольно вздохнул и глянул в затемненное стекло машины. Величественное строение банка, остановка, часы перед входом в метро.
— А что это столько людей на улице? — недоуменно проговорил словно сам себе, а помощник Жокей уже достал свой мобильный и начал разузнавать. (Если бы помощник не имел такой фамилии, ее надо было бы придумать. Она служила и паспортной меткой, и кличкой. Причем — с двойным смыслом. Жокей — он и неутомимый всадник, из уст которого не сходило «галопомпоевропам»; он же, ко всему, и ненасытный кофеман. Никто не мог понять — как в человека вмещается столько кофе? Думали, что этот напиток уже и в его венах. А любимым сортом было, конечно же, кофе «Жокей».) «Молодец, на лету ловит», — промелькнуло удовлетворенное, и тотчас же созревшее воспоминание пояснило недавнюю тревогу. Да, эта девчушка, передававшая записки с вопросами… Чернявая, длинноногая, с пухлыми губами да ямками на щеках... Точь-в-точь как его прежняя студенческая зазноба Томка! Надо же...
Попробовал подумать о чем-либо другом, снова взглянул за стекло — машина промчалась по заполненному горожанами проспекту, повернула к кольцевой — и воспоминания неотступным ливнем хлынули на него.
Томка, Томка... Где ты, что ты?..
Они познакомились осенью «на картошке» и после учебы думали расписаться. Томка болела им, была словно очарована, ежедневно выготавливала какие-то лакомства-ужины. Молодость... Он же, чернявый удалец, за спиной которого была служба в армии, выбрал в конце учебы не преданную стройную Томку из далекой лесной деревни, а полноватую дочь министра архитектуры и строительства. И прописку получил, и с работой сложилось, и квартирой, когда дочь родилась, обзавелся. А свадьбу какую тогда тесть отбарабанил: в ресторане на берегу реки, с оркестром и чуть ли не сотней приглашенных! Правда, приглашенных со стороны невесты, ведь от его, жениха, стороны были только свидетель, однокурсник Володя Роликов (стал кандидатом филологических наук, а теперь ссучился и возглавил оппозиционную Народную лигу) да сват — руководитель дипломной, доцент Николай Заяц. Отец на то время уже семь лет был в земле, а мать-сельчанка беспробудно пила. Как такую за почетный стол?..
Так вот и пошло. С аспирантурой, как ни старался Заяц, у которого своих детей не было, так что он чуть ли не сына в нем видел, не получилось; ехать по распределению за далекие горы не позволил тесть — пристроил парторгом в Институт промышленности и сельского хозяйства. А когда партия развалилась, он уже сам о себе позаботился, из институтского парторга стал директором — и на всю округу прославился хозяйственником. Да и как было не прославиться — институт экспериментальный, сотни лабораторий и предприятий на него работали, из госбюджета поддерживался. Оставалось только за дисциплиной следить да высшее начальство не подводить. Баня хорошая появилась, где нужные люди отдыхали. Ну и свининки, помидорчиков-огурчиков никому не жалел, когда на магазинных прилавках опустело. И пошел дальше, избирался от своего округа народным депутатом.
А Томка... Ни разу о ней не поинтересовался — как отрезал от судьбы. И теперь чуть ли не ее копию встретил. И снова в универе!
Он очнулся, нервно постучал ладонями по кожаному подлокотнику и хотел было обратиться к помощнику, но тот отвел от уха трубку и залепетал:
— Иван Владимирович, это забастовка. Метрополитен встал, машинисты требуют повышения зарплаты. Вот народу на наземных остановках и собралось...
Президент отрешенно вперился в помощника, а тот ждал нового вопроса и, часто моргая, добавил:
— Я с мэром связался, а затем позвонил Керзон и подтвердил. У него собралось совещание министров-силовиков. Хочет вам лично доложить и санкционировать возможные действия.
Кортеж из трех громадных джипов, двух машин спецуправления ГАИ и бронированного «мерседеса» уже несся по пригороду, за окном — редкие хрущевки да июньская зелень, от которой было тяжело оторваться, как, впрочем, и от неожиданных воспоминаний, а тут — доложить, санкционировать…
Свое неудовольствие президент и высказал в трубку председателю Службы государственной безопасности Керзону:
— Виктор, какая забастовка? Какой метрополитен?!
— Иван Владимирович, ситуация неоднозначная... Машинисты утром отказались выходить на линию. Народ вынужден давиться по автобусам и троллейбусам. Мы вывели максимальное количество парка, но он не справляется. На остановках очереди и озлобленность. Даем информацию, что в метро сбой на линии. Одновременно отрабатываем службы метрополитена, — наконец в докладе появилась краткая пауза. Керзон глубоко вздохнул и завершил: — Машинистов поддержал профсоюз железнодорожников. Толпа недовольных количеством до тысячи митингует на площади и, по последним донесениям, собирается идти к Дому правительства...
— Работнички, мать вашу! — неизвестно на кого — то ли на бастующих, то ли на спецслужбы, то ли на всех вместе — крикнул президент и, приказав повернуть кортеж назад, забасил в трубку: — Всех аккуратно вытеснить с площади! Зачинщиков-активистов арестовать! Работу метро восстановить!
— Есть! — послышалось в трубке. — Все сделаем, только... с метро проблема. Нет машинистов и диспетчеров, да и начальник метрополитена на площади...
— Да хоть сам со своими охламонами, когда такое профукали, в поезда садитесь и катайтесь! Или ты мне это предложишь?
— Но-о...
— Кончай нокать! Работяг с пригородных электричек снимите, с других регионов перебросьте... Словом, чтобы через полчаса составы пошли. А нет — все пойдете. И... начальничка метро и других активистов, повторяю, упакуй!..
С приближением к центру столицы даже зрительно ощущалось напряжение: народ толпился на остановках-муравейниках, тротуары превратились в человеческие реки, на прилежащих к перекрытому проспекту улицах тянулись долгие заторы.
Кортеж остановился около станции «Центральная». Вместе с охранниками резво выпрыгнул из машины президент и, колко взглянув вокруг, по-медвежьи двинулся к остановке — загребая руками, разводя пятки и смыкая носы туфель, словно футболя что-то невидимое. Большая продолговатая голова в такт шагам качалась на широких плечах под дорогим долгополым пиджаком, скрывающим непропорциональное туловище: казалось, грудная клетка была прямо подогнана по объему и вставлена в таз; а может, все выглядело так из-за скрытого под одеждой бронежилета. Удивленные горожане не успели пооткрывать от удивления рты, а президент уже говорил:
— Дорогие мои, я вынужден просить у вас прощения за временные неудобства. Как вы уже знаете, произошла провокация в метро. Некоторым оппозиционным активистам, этим роликовым-шмоликовым, подкормленным заграничными фондами и разведками, надоело спокойно работать! Зарплатой, как мне доложили, они недовольны! Зарплатой — почти министерской! Многие из вас о ней еще только мечтают! — с каждым словом голос набирал силу и наполнялся стальными нотами. — Зажрались и пошли митинговать на площадь! Я им, видите ли, перестал нравиться! Ну пусть оно и так, я же не девка, чтобы всем нравиться, но при чем здесь вы?! Какое они имеют право останавливать работу метро — стратегического для нашей столицы объекта?! Почему вы должны из-за них страдать на жаре и давиться в автобусах?! Да и кто оплатит предприятиям и заводам потери от ваших опозданий? — Оратор кашлянул и закончил помягче: — Поверьте, мы поставили на линию весь наземный транспорт, но его не хватает... Еще несколько минут — и метро пойдет. Мы наведем порядок и разберемся с виновными.
Президент приказал посадить в машины своего кортежа, даже в гаишные, стариков, детей и женщин и развезти их по городу, а сам в сопровождении невидимых охранников заспешил к зданию администрации — под удивленными, восторженными и преданными взорами электората.
А когда через полчаса в кабинет вошел помощник Жокей и доложил о том, что звонит и просит о встрече заместитель руководителя администрации по гуманитарным вопросам Заяц, президент прикусил нижнюю губу и сказал раздраженно:
— Сообщи, пусть лучше завтра... Перескажи о моей встрече на остановке. Пусть там телевидение подключится, адекватно о забастовке расскажет. — Помощник мотнул головой и вознамерился уже идти, но президент ткнул в него пальцем и приостановил: — Я еще в машине хотел сказать... Там, в университете, девка одна мне записки с вопросами передавала. Длинноногая такая, брюнетка... — Его глаза враз покрупнели, а в зрачках появились огоньки. — Разведай, словом, кто и откуда… Ну и сам понимаешь, что...
ІV.
Лето-осень 1552 года.
Невиданный доселе человеческий паводок сливался к берегам Москвы. Меньшие ручьи окраинных воеводств текли к Волге и растягивались в разномастные запруды на десятки верст: всадники с саблями и луками, стрельцы с мушкетами и топорами, канониры с обозами пушек и пороха, зачинщики и гранатчики, деревянные гуляй-города, отряды пищальщиков в высоких шлемах-шишаках, пехота с пиками, мечами и щитами, рать-посошники, призванные в набор изо всех городов и весей, обозники и священники. Кто берегами или дорогами, когда те были, кто по воде, на лодках и плотах — все шевелилось, ухало, топало, скрипело, дребезжало, плюхало и приливало к высоким стенам Казани, дабы в едином наплыве смыть мусульманское иноверие и затушить на московской земле татарские пожары.
Это был уже третий за четыре года поход. Два предыдущих не достигли цели: выступали осенью, зима охлаждала воинственный пыл, пушки и люди утопали в воде и снегу. Кусая на теплых полатях от бессилия губы, царь давал приказ на отступление. Единственное завоевание — постройка городка-тверди Свияжска при слиянии Волги и Свияги недалеко от Казани. Но он стал бельмом на татарских глазах и мог в любое время быть уничтоженным.
Весной в Москве собрали большую боярскую раду, и она предложила отказаться от войны, совершить торжественный перенос святых мощей с Благовещенского собора в Успенский и послать в Свияжск освещенной над ними воды. Царь же прислушался к словам своих самых близких людей — Андрея Адашева и князя Ивана Курбского. Решается будущее всего Московского государства, убеждали те. Либо мы победим сейчас, либо никогда. А Эдигер-Магомет, если его не остановить, объединится с крымчаками — и будет угрожать новым игом. А посему — надобно спешить, царь, и самому тебе поход возглавить...
16 июня 1552 года Иван IV передал власть в Москве в руки беременной царицы Анастасии и выступил на Казань. Шесть полков: Передовой — под предводительством Адашева, Большой — Курбского, Правой и Левой руки, Сторожевой и Царский — должны были в конце августа встретиться у Свияжска.
Дорога выдалась тяжелой и жаркой. Она затянулась до осени, и только 11 сентября московские полки начали обступать казанские стены, надежно защищенные с трех сторон реками Булак и Казанка, а с Арского поля — глубочайшим рвом. И двойными дубовыми стенами в семь саженей толщины, засыпанными изнутри песком и каменьями.
Передовой московский отряд был начисто разбит еще на подступах к городу, а затем взлютовалась буря, разбросав шатры царского лагеря, разбив и потопив на Волге много лодок с провизией. Дождь лил непрестанно несколько дней, и канониры начали бояться за порох. А царь неутомимо молился, приказав обнести полки чудотворными иконами.
И дождь утих. Снова выглянуло солнце, и это придало московцам решительности. Зашевелился человеческий муравейник, заухали топоры, на поле поднялись гуляй-города — деревянные туры с высокими плотами. На рвы и реки легли мосты, а в реки да рвы — пронзенные стрелами тела.
Казанцы ответили на грамоту о сдаче города ярой вылазкой. Их удар принял на себя Большой полк Курбского. Бешеная лавина с диким криком и сабельным лязгом прошла до середины стана и захлебнулась в чужой и своей крови. Остатки ее отступили, с полусотни — в большинстве раненые — стали пленниками. Их выставили перед длинной стеной со стороны Арского поля и послали вторую грамоту: бите челом государю царю и Великому князю московскому — и будете жить, а нет — живот свой бесславно окончите. В ответ «неверным свиноедам» была направлена грязная ругань, и пленников на глазах защитников убили.
1 октября, в Покров Святой Богородицы, царь приказал служить пресвитерам и певчим утреннюю в честь Христа, а с осажденных стен в ответ зазвучали молебны к пророку Магомету с просьбами спасения от нечестивцев. Одни клялись отдать жизни за веру и царя, другие — за Аллаха и свой юрт.
А на второе туманное утро грозно затрубили сурны и забарабанили накры. В самую длинную стену со стороны Большого полка начали бить десятки пушек. Земля задрожала под ногами, и когда ветер раздувал по окрестности серно-седой дым, были видны на Казанке несколько водных туров — везли к стенам бочки пороха и отряд зачинщиков, чтобы по приказу воеводы Курбского сделать подкоп и взорвать северную стену. Пешие пищальщики, прячась за деревянными завесами, подступили к тверди и лили на защитников свинцовый град.
Ночью все утихло, а на рассвете Иван, набросив поверх калантира, на золоченые латы, долгий серый плащ, пришел вместе с неотлучным Матеем в шатер-церквушку, возведенную посреди Сторожевого и Царского полков. Шла литургия.
— Воеже покорити под нози его всякого врага и супостата!.. — возвышенно пел рослый желтоволосый дьякон с деревянным крестом на груди — и в тот момент стены и свечи вздрогнули, и показалось, что небо обвалилось на землю.
Все присутствующие упали на колени и начали креститься.
— Это в подкопе порох взорвали... — прошептал в царское ухо Матей.
— Пошли ангела своего победоноснаго, — возвысив голос, продолжал дьякон, — как некогда к Иисусу Навину помочь разрушить стены Иерихонские. Иерихон пал от звуков труб и криков войска. Пресвятая Богородица! Помоги и нам, грешным рабам твоим, и моли Владыку Христа, Бога нашего, да ниспошлет нам победу на противныя...
И земля во второй раз вздрогнула от взрыва — еще более могучего и страшного. И зазвучали на ней человеческие крики и кличи. Полки пошли в главное наступление, а в церквушке продолжался молебен.
Иван окаменело смотрел на дьякона и что-то неслышно шептал. Матей несколько раз мягко пытался обратить его внимание на возбужденного гонца:
— Государь, Ваше Величество!.. Подкоп удался. Стена упала... Передовой полк и полк Правой руки ворвались в город!
В царских глазах вспыхнула радость.
— И бе едино стадо и един пастырь, — прошептал он и снова отдался молитве.
— Государь, время ехать... Твои люди и твой полк ждут тебя.
— Нет силы крепче, чем слово Небесное, — ответил Иван, медленно приблизился к алтарю и прочитал молитву Господнюю. Все, кроме Матея и нескольких священников, вышли из церквушки.
Через полчаса явился второй гонец:
— Наступление слабеет. Татары не сдаются... Воеводы и войско зовут царя!
Иван глубоко вздохнул. В его глазах засветились горячие слезы:
— Христос Всемогущий, яви нам покровительство свое!
Но слова затерялись в пушечных взрывах и пищальных выстрелах.
Солнце уже висело над Арским лесом, но, словно ошеломленное адским действом под собой, выше подниматься не спешило. Медлил и царь. Он приложился к чудотворной иконе Сергия, выпил святой воды, съел просфоры, попросил у своего походного духовника благословения. Снова помолился — и тогда приказал Матею подать лошадь.
Когда Царский полк перешел мост через Булак и подступил к стене, над двумя башнями уже возносились московские флаги. Бой шел в городе, в узких улицах, тесных от наваленных трупов. После полудня битва начала затухать. Несколько сотен крымчаков, посланных на поддержку казанцев, смогли на лошадях вырваться к валу, перешли через брод Казанку, смели тылы полка Правой руки и исчезли в лесной гуще.
А Казань перешла к царским дружинам. Последней захватили мечеть и убили всех иереев. Не казнили только женщин и детей — собирали в полон.
Раскрасневшийся Андрюша Адашев, сбросив шлем и завязав мокрые рыжие пряди лентой, принес Ивану высокий крест — и царь установил его на том месте, где еще недавно реял флаг казанского хана.
— Быть тут церкви Христовой! — бодро вознося свой взгляд в вечернее небо, молвил Иван и призвал всех к молитве за живых и погибших, после которой помогали раненым, выставляли караулы и готовились к общей царской трапезе.
Назначив в городе своего наместника, уже назавтра Иван решил возвращаться в Москву. За ним выправлялось и войско — кроме Сторожевого полка, остававшегося на зимовку.
— А кто тот дьякон, под слова которого взрывались стены? Высокий такой, русый, с деревянным крестом? — неожиданно поинтересовался перед сном Иван.
Матей немо заморгал, шмыгнул носом и пробасил:
— Дозволь разведать, государь?
— Разведай-разведай... И пригласи его назавтра в мой обоз — хочу дорогой с ним поговорить.
Дьякона Иоанна разыскали только во время дороги, перед Владимиром, верхом доставили к очередной стоянке и привели в царский шатер. Его искренние глаза под черными, как смоль, бровями и долгими, как крыльцы бабочки, веками скрывали беспокойство. Оторопевший и смущенный, он перекрестился:
— Государь пожелал видеть меня, грешного...
Царь прижал ладонью тонкую бородку, склонил набок голову и пронзил гостя острым взглядом. Затем улыбнулся и призвал дьякона присесть.
— Кто ты и откуда, и сколько лет имеешь?
— Иоанн Федорович[10], дьякон кремлевской Никольско-Гостунской церкви.
— В коей стародавняя икона святого Николая?
— Да…
— Женат?
— Женатый, государь. Двое сыновей растут... А сам рожден тридцать три года тому в Литве. Учился в Италии богословию и печатному делу...
— А как в Москве очутился?
— Князь Глинский Михаил Юрьевич, царство ему небесное, — желтоволосый дьякон перекрестился, — из письма от своего падуанского друга Кастильди прослышал обо мне, земляке, и в Москву пригласил.
— Хм... — царь задумался. — Хорошим человеком Глинский был. Виделся я с ним, о соборе говорили, а два дня до него не дожил... — И перекинулся на другое: — Так, говоришь, книгопечатанию учился. А зачем?
Собеседник проглотил терпкий комок, и голос его зазвучал увереннее:
— Верю, государь, что в печатной книге большая сила сокрыта. Сила, которая изменит к лучшему наш грешный мир...
— К лучшему?
— Да, ведь сможет ко многому люду посполитому дойти. И Христову науку, и заповеди светлые ширить.
— Думаешь, как и Глинский с Максимом Греком, что тех книг на землях моих недостаточно?
— Слово Божьего, государь, никогда много не бывает, — мягко, чтобы ни разгневать, ответил дьякон Иоанн.
— Матей! — позвал царь своего постельничего и охранника. — Кликни ко мне Висковатого! — а затем еще раз внимательно взглянул на дьякона и снова спросил: — А там, перед падением казанской стены, отчего ты как раз схожие слова пел, о разрушении стен Иерихонских?
— Да само как-то... Я, по правде, уже и не помню, о чем пел... Какое-то горячее потрясение было, а о чем...
В шатер спешно вошел и низко поклонился дьяк Иван Висковатый, невысокий толстяк с нездоровой одышкой, пухлыми губами и глубокими глазами. Он возглавлял посольский приказ, управлял царским архивом и вел летопись.
— Расскажи нам, архивник, какими книгами мое царство богато?
Висковатый удивленно покосился на дьякона и затараторил:
— Разными, государь... Около полутысячи рукописей, из них — сто одна книга Библии, около полусотни богослужебных перешитых книг, сборники наставлений отцов церкви... Хроники Малалы и Амартола. Скрипт Космы Индикоплеста, весьма старинный... Скрипты «Пчелы» и Степенных книг — это что Макарий с переписчиками составляет.
— И все? — царь словно чего-то не понял.
— Да, государь... Большинство из либерии Троице-Сергиевой лавры. Кремлевские сборы, кроме чудодейственной книги Евангелия Святого Иоанна, уничтожены пожаром... — Висковатый внимательно зиркнул на царя, увидел его недовольство и поспешил оправдаться: — Как государь знает, прошедший московский собор признал необходимым основание большего количества переписчих школ при монастырях да предложил начать исправление допущенных ошибок и неточностей в старых книгах...
— А что это там за еретики-датчане около твоего посольского приказу маслятся? — Царь заложил руки за спину и приблизился к Висковатому.
От неожиданности тот начал кусать губы, пока, заикаясь, не вытиснул:
— Злые языки, боюсь... нехорошее государю нашептывают... — и отвел глаза на незнакомого дьякона.
— Ну-ну! — царь заметил это. — Не косись на дьякона! Он наш тезка… и человек, по всему вижу, свой. Говори о датчанах!
Видя такую озорную веселость царя, Висковатый вздохнул с облегчением:
— Король Христиан Третий прислал в Москву миссионера Ганса Богбиндера... С грамотой к Вашему Величеству... Ну и с соответствующими денежными суммами... Передал несколько книг... Я просил рассмотреть их митрополита и епископов. Богбиндер брался напечатать и доставить тысячу подобных книг по-московски, но... — Висковатый переступил с ноги на ногу. — Но большинство епископов не захотели тех лютеранских книг...
— Так что... датский король Христиан — не настоящий христианин?! — Царь прошел к легкому походному трону, сел и сильно обхватил подлокотник. Ответить никто не осмелился, и царь поднял свою тонкую руку и приказал:
— Поручаю заложить в Москве собственный печатный дом, дабы свои книги иметь, а не чужими сытиться! И собрать надлежащих печатников, бумажников да литейщиков буквенных. А главой дома быть дьякону Иоанну Федоровичу, тому делу обученному. — Царь откинулся на спинку трона и сощурил на ошеломленного гостя глаза, аж острые брови сошлись над переносицей. — Согласен, дьякон?
Иоанн Федорович стал перед царем на одно колено, склонил голову и звонко произнес:
— Сделаю все, великий государь, насколько сил и ума хватит!
— Что ж, увидим! А теперя отдыхайте...
Не успел по возвращении от царя Иван Вискиватый вписать своим разборчивым почерком на летописную страницу: «Сего убо Бога нашего, в Троице славимого, милостию и хотениемъ удъръжахомъ скипетръ царствия, мы, Великий государь, царь и великий князь Иван Васильевич, всея Руси самодержецъ, владимирский, московский, новгородский, иныхъ многихъ земель государь, а такожъ царь казанский, повелелъ устроити домъ отъ своея казны, идеже печатному делу строитися», — как на стоянку прискакал московский гонец с радостным известием — царица Анастасия разродилась сыном-наследником!
Царский обоз задержался во Владимире только на ночь — и спешно двинулся в Москву. В город въезжали через Фроловские ворота, у которых Ивана Васильевича встречали митрополит Макарий, архиепископы, епископы, архимандриты, игумены и старшее боярство.
Царь, хоть совсем еще молодой, выглядел величественно и торжественно. Под скупым предзимним солнцем сияли позолоченные и серебряные одежды, дорогие каменья царской порфиры, крупные жемчужины на золотом венце. И глаза — горящие глаза победителя...
Сорок дней гудели по Москве пиршества, до дна опустошившие царскую казну, и без того надорванную военными походами. А затем по городам, слободам и весям заголосили жены и дети — узнали, что никогда уже не дождутся своих мужей и отцов. Почти половина двадцатитысячной дружины сложила свои кости в неизвестной Казани. «Это же не враг-супоста-а-ат пришел резать родню нашу-у-ю... И что мой соколик позабыл в чужой земельке-е?!» — полнились плачем голодные голоса, и уже к кремлевским стенам покатились волны народного негодования, и нередко приказным служилым доводилось слышать россказни о царе-кровопийце.
Время и зимние морозы потушили непокорство, но для истории Иван Висковатый все же вынужден был оставить в летописи следующую цветистую запись, которую приказано было до Рождества читать глашатаям на всех собраниях и в церквях: «Мнози худоумные человецы или, прямо рещи, безумныя и тщедушныя, негодоваху и роптаху на самодержца своего, яко самому ему землю свою губящу и паче злее ратныхъ, и не щадящу, и не брегущу людей своихъ. Онъ же, предобрый в самодержцехъ, не похвалы тленные себе взыскуя, да славенъ будетъ в родехъ мужествомъ, якоже и Македонский Александръ, до край земли дошедъ и смерти не убежа, или прежде его бывый Ликиний царь, до четырехъ градовъ дошедъ и столпове тамо постави и свое имя в писанияхъ. Сей же не о такой славе подвизашеся, но о своемъ царствии тружашеся, думающаго ради составления мирскаго, о благостоянии святыхъ церквей и устроении земскомъ, и о тишине всего православного християнства, да не паки бы поработитися поганыя казанцы».
4.
Три дивизии воздушно-десантных войск в конце лета были спешно передислоцированы к границе Горно-Косовской автономной области. На усиление им перебрасывались одна танковая и две мотопехотные бригады. Время «Ч» было назначено на 04:00 1 сентября, а общее руководство сводной группировкой взял на себя президент, по конституции — главнокомандующий вооруженными силами страны. Словом, правитель, хоть какие-то недомерки и не хотят принять этого… Ничего, он заставит их слушать — и не только за столом!..
Это была уже третья боевая операция. Предыдущие не достигли нужного результата: сепаратисты и бандформирования обходили блокпосты и, нападая на армейские части и соединения, растворялись в горной «зеленке» по известным только им тропам — никакие «Грады» не могли их оттуда выбить. Вот и пришлось президенту отбросить все государственные заботы, покрыть на совещании генералов матами — и браться самому тушить горный пожар. Еще два года назад и в страшном сне он не мог представить подобного: автономная область, восемьдесят восемь процентов жителей которой на выборах проголосовали за него, а руководство на каждой встрече уверяло в верности, восстала против центра! Решила обособиться, поиграть в независимость!
Первый тревожный звонок прозвучал не от спецслужб. Позвонил сам руководитель Горно-Косовской области Гордынов и, между прочим, стал плакаться о внутренних трудностях, сепаратистских и протестных настроениях, малочисленности силовых и правоохранительных структур и бедности их технического обеспечения.
Что ж, надо так надо. Выделили ему и дополнительные бюджетные средства, и новейшую спецаппаратуру, оружие подбросили, налоговыми послаблениями наделили... Успокоилось все почти на год, а затем — как гром с горы: депутаты-областники не без подачи Гордынова провозглашают суверенитет и независимость своего края! Отъелись, словом, и голову подняли! И как не поднять, коль у них на деньги центра были открыты и разработаны богатые нефтяные месторождения… Дальше ума не требовалось — бери да продавай готовое!
В тот же день президент вызвал Гордынова к себе на разговор. Крутился тот как уж, но все же выехал, опоздав на аудиенцию на два часа и заявившись в шортах и бейсболке. Словно не только нутром, но и внешним видом утверждал свою независимость, а то и пренебрежение к высшему лицу. Да и ко всему государству, некогда вытащившему его из каменной глухомани, обучившему и одевшему в генеральскую форму. Он, видите ли, о национальной идентичности и чести предков вспомнил… Еще один мессия выискался!..
Президент, не пряча раздраженности, вместо приветствия кисло возмутился:
— Ты б еще ко мне в трусах приперся! Горный ветер из головы все понятия о субординации выдул? Я тебе президент или кто?!
Гордынов спокойно осмотрел собеседника — казалось, даже ироничные огоньки пробежали по зрачкам цвета венге — и заговорил однотонно, как по писаному:
— Со дня принятия Народным собранием Горно-Косовского края «Декларации о независимости» вы, Иван Владимирович, не являетесь для его граждан руководителем. Утратила для нас силу и прежняя конституция, навязанная вашим центром...
Он еще хотел что-то сказать, но крик перебил его:
— Во-о-он, сукин сын! Я с тебя не только трусы, но и кожу спущу!..
— Не забывайся, майор, с генералом говоришь, — снова спокойно, но с грозной уверенностью ответил Гордынов. — В любое время готов встретиться с тобой на дуэли. Если, конечно, найдешь мужество...
— Во-о-он!!!
— Я так и думал, что не найдешь...
Гордынова арестовали еще в здании администрации, но, видно, такой сюжет был просчитан, и его сторонники, контролировавшие вооруженные и правоохранительные силы автономии, в тот же день захватили около сотни жителей соседнего района, потребовав обмена. Ради наведения порядка были брошены части внутренних войск, но попали под шквальный огонь уже подготовленной обороны и отошли.
Спешно был созван Совет безопасности, члены которого разошлись поздней ночью с каменными лицами. А утром столица содрогнулась от страшного взрыва. Информагентства возбужденно транслировали ужасающую новость: террорист-смертник на автомобиле с регистрационными номерами Горно-Косовской области протаранил ворота Министерства внутренних дел и взорвал первый подъезд здания. Среди служащих есть жертвы. Государственному строю брошен вызов коррумпированными террористическими кланами, рвущимися к власти...
Вскоре на повстанческую столицу было организовано новое наступление, но и оно оказалось безрезультатным: танковая армада разрезала линии обороны бандформирований, но на городских улицах оказалась неповоротливой и вынуждена была отступить. Шокировали потери «централов» — урон нападавшим был нанесен современным оружием, еще недавно вагонами перевозимым в автономию из того же центра ради «стабилизации обстановки в регионе».
— Достабилизировались, мать вашу... — Мороза разрывала злость. Он ежедневно устраивал нагоняи армейскому командованию, однако Гордынова вынужден был обменять на заложников, возглавив третью попытку восстановления конституционного строя в Горно-Косовской области.
— Бог любит троицу, — словно сам себе пробурчал он и приказал начинать передислокацию...
Как только солнце первого осеннего дня выглянуло из-за шапок гор, два гвардейских полка мотопехоты перешли границу автономии. Не встретив сопротивления, они по главной магистрали двинулись к областной столице, но назначенный начальником оперативного штаба временной группировки Керзон упросил главнокомандующего их остановить.
— Не нравится мне это спокойствие... Как в ловушку затягивают! — Керзон выглядел напряженным и сосредоточенным. Казалось, близость пороха омолаживала и бодрила его. — Как бы не нарваться на засаду. Похожее в Афгане пережил — доселе не забыл...
Главнокомандующий хмыкнул и поддержал Керзона. А тут и солнце словно передумало подниматься — с севера надвинулись тучи, полил дождь.
В авангард отправилась десантная разведрота, которая добралась до Черанского ущелья, где вынуждена была вступить в неравный бой с противником и погибла.
Дождь и пасмурная погода не способствовали спутниковой разведке, и наступательные действия остановились. «Централы» по всем возможным каналам распространили обращение президента к мирным гражданам Горно-Косовской области с предложением к десяти часам утра оставить регион боевых действий, ради чего на границе с автономией открыты четыре пропускных пункта. Местным исполнительным властям приказывалось способствовать в том детям, инвалидам, женщинам и больным. В противном случае центр не гарантировал безопасность населению и слагал с себя ответственность за возможные потери во время восстановления конституционного строя.
Сутки прошли в тревожном ожидании. Снова на горы выкатилось солнце — и уже не пряталось за тучи. Не обращая внимания на небольшое количество беженцев и немноголюдность на пропускных пунктах, был дан приказ на новое наступление. Небо вспороли десятки боевых самолетов — и за полчаса столица автономии превратилась в руины. Точечную бомбардировку перенесли на ущелье, где, по донесениям спутниковой разведки, находились повстанческие базы. В то же время прямым ракетным ударом был уничтожен Гордынов — вместе с БТР, в котором находился. Повстанцы остались без своего командира-вдохновителя и после длительных атак десантных подразделений вынуждены были или погибать, или отступать.
Шестое утро «централы» встретили в отвоеванной столице автономии. На площади готовилось общее построение. Разбитый Дом правительства шаг за шагом обыскали саперы, после чего на его балконе в форме цвета хаки с несуществующими в армейских уставах погонами появился сам президент и перед десятком телекамер объявил об окончательном установлении мира и порядка. В тот момент за его спиной возникла молчаливая тучная фигура премьер-министра Сысанкова с аккуратно сложенным государственным флагом.
— Владимирович, — тяжело дыша, прошептал он еле слышно, — как последний штрих... может, почетно водрузишь над домом?
Президент попробовал улыбнуться; поиграв желваками, провел пальцем по губам, словно освобождая их от жестких усов (так делал, когда волновался), и, довольный, кивнул головой. Премьер бодро указал ему на ступеньки к флагштоку.
Вскоре на возвышении зареяло голубое полотнище с красной звездой посреди — с год тому утвержденная государственная символика. Прежняя, голубая, с солнечным кругом, после всенародного референдума была объявлена националистической и запрещена.
«Вот она, звезда нашей победы... — пафосом наполнялась душа президента. — Как и в прошедших войнах, она — сверху. И пусть теперь роликовы и их подпевалы долдонят о какой-то там символической абсурдности — мол, на небесной синеве должно быть солнце, а звезды видны только на фоне ночной темени... Побеждали и будем побеждать!..» — он взглянул на панораму разрушенного города и почувствовал какую-то предательскую тоску. Тревожные муравьи пробежали по телу, терпкая волна подкатила к груди, и он, проникновенно взглянув на Сысанкова, с дрожью в голосе промолвил:
— Тут соорудим музей! Музей национального траура и примирения. И обелиск — в память о погибших...
Через три часа вертолет доставил президента в Ворониху, где он, отходя от пережитого напряжения, долго, до изнеможения, плавал в бассейне, а потом во время легкого ужина включил телевизор. Главный заграничный информационный канал NBC надрывно освещал события в Горно-Косовской области. Мелькали кадры с ранеными, панорама руин, бронетехника, самолеты, взрывы... И голос диктора по-английски с синхронным переводом в титрах:
— Диктаторский режим Мороза, для которого чуждыми остаются принципы свободного общественного обустройства, демонстративно проявил свое деспотическое лицо. Прикрываясь демагогическими лозунгами о восстановлении конституционного порядка в стране, он начал новую войну и ради сохранения и усиления своей железной власти пошел на убийство тысяч людей, — и на экране замелькали кадры с окровавленными стариками и детьми.
Президент скрежетнул зубами и раздраженно бросил пульт на стол. Вдруг включился столичный телеканал, на экране щебетал моложавый желтоволосый журналист с кривым перебитым носом:
— «Век живи — век учись» — гласит народная мудрость. Учись жить и воевать. Раньше это давалось проще: обидел кто-то кого-то — кулаками или мечами постучали, разошлись. Теперь все страшнее. После войны обычной начинается война информационная. Она превращается в мировую и диктует, навязывает обществу свои принципы и своих победителей...
Президент сморщил лоб, прикусив вместе с усами губу, и откинулся на спинку кресла, чтобы послушать отечественного телекомментатора; артистично играя паузами и ударениями, тот уверенно жестикулировал тонкой ладонью с зажатой в ней ручкой, возвышая голос и вещая дальше:
— Все вы, уважаемые зрители, вчера-сегодня сами стали невольными участниками той очередной мировой информационной войны, войны без правил и человеческой логики. Нараспев голосят купленные газетенки, радиостанции и телеканалы (как, скажем, тот же NBC) о спецоперации наших войск в Горно-Косовской области. И войной против своих граждан, и геноцидом, и кровавой резней, и бешенством деспотического режима они называют все происходящее... Послушаешь — и остается только повеситься! И такие все правильные, гуманные, все такие сахарные человеколюбцы… Но о правде там некому заботиться. Главное — не знамя справедливости установить, а белое посыпать грязью и черное назвать белым... — Несколько секунд мигала нарезка с заграничных информсообщений, после чего снова продолжился комментарий. — Вот они, настоящие бомбовые удары по нашей психике и нервам! И те, кто давал команду на ту «бомбардировку», не видят бревен в глазах своих начальников и работодателей, не замечают настоящих захватнических войн, которые разожгли и разжигают в мире за сферы влияния их правительства! Недавно войска НАТО разбомбили бывшую Югославию. Уничтожили тысячи мирных жителей, тысячи домов... — Пошли кадры из хроники: разрушенные города и деревни, искалеченные дети, довольные толстолицые иностранные военнослужащие... — Так и не терпится спросить: что бы сделали руководители заграничных правдорубов на месте нашего правительства?.. Годами дотационная область монолитной страны, только и знающая, что сосать наши бюджетные средства, взяла и объявила себя самостоятельной! А ее князьки самоназвались царями! В каком заграничном свободном штате такое возможно?! Да им бы сразу головы скрутили! Спросим, что бы делали наши горе-учителя?.. Спросить можно, но вот услышат ли они правдивый голос? Разрешат ли им открыть глаза и уши правде, правде святой и страдальческой? Ответ, разумеется, отрицательный. Но главное, чтобы это услышали все мы — и объединились под общими знаменами! Думайте и анализируйте! Мира вам и спокойствия!
Президент довольно хмыкнул.
— Кто такой? — кивнув на экран, спросил он у Жокея.
— Иван Федоренкин, сын министра спорта.
— А нос кривой чего? Боксом занимался?
— Не знаю... — заморгал помощник. — Он недавно на ТВ. Кажется, неплохо получается... — Помощник насторожился и не отводил от президента глаз.
— Что значит «неплохо»?.. — Большие ладони хлопнули по кожаным подлокотникам пухлого кресла. — Отлично! — Президент встал, выпил бокал красного вина, помолчал и выпалил: — Поддержать этого Федоренкина! Поддержать от моего имени! Ну и денег ему, сценаристов лучших, операторов... Пусть срочно сделает несколько спецфильмов. Сам понимаешь, о чем именно.
— Понял! — Все тело помощника враз налилось бодростью и решимостью. — Вы правильно чувствуете — в телевизоре заключена громадная сила, превосходящая и бомбы, и танки! И если все грамотно обставить...
— Иди работай, стратег... — прервал его властный голос. — Все вы задним местом умны... И к торжествам по случаю победы над сепаратистами и террористами готовьтесь! А то снова уснете на лаврах...
В то время в кабинете Николая Зайца, где тоже мигали телекадры, зазвонил телефон (секретарша давно ушла домой).
— Алло... Алло! — тревожно послышалось в трубке. — Господар Заяц?
— Да... Слушаю вас.
— Янкович, Богдан Янкович. Помните, когда-то на конференции в Подгорице встречались?
— Да-да... — машинально ответил Заяц, скрывая удивление.
— Уже третьи сутки пытаюсь до вас дозвониться... Узнал, что занимаете высокую должность...
В ответ — недоуменное молчание.
— Так вот, как вы знаете, целый месяц мою страну бомбили новые волки евроальянса. И опять, как и во времена святого Петра Цетиньского, ваши цари позабыли о своих единоверных братьях. А вместо поддержки — сами влезли в войну с согражданами... Но я не о том... Нас истребляют современные визири, но мы с Божьим словом и верой выдержим! Я... — в трубке защелкало, и несколько фраз было не разобрать. — ...Интересовались Евангелием от Иоанна. Его сберег народу своему святой Петар... Не продал купцу из Боки, как наговаривали... — Снова щелчки-помехи. — ...Постановили книгу вам передать. Такое решение приняли братья-иоанниты... Отец мой, царство ему небесное, был их другом... Верим, что книга поддержит вашу страну и отведет от бездны... Словом, а не бомбами победим!.. — Что-то хрустнуло, и послышались краткие мерцающие гудки — словно озвученный медицинским аппаратом тревожный пульс хозяина кабинета.
V.
30 августа 1553 года он праздновал именины — в небольшой, еще отцом заложенной резиденции в Коломенском.
Не любил царь Москву, не любил ни стен белокаменных, ни бояр твердолобых. А здесь было все спокойно, даже по-детски забавно. Тут он успокаивался телом, чувствовал себя беззаботно и возвышенно.
Приглашенных на обед отвели вначале в царский гардероб и заменили их разноцветные кафтаны на белые мантии с горностаевой опушкой. Затем гости собрались в прохладной трапезной, перешептываясь и улыбаясь.
Царь вошел медленно, косолапо загребая ногами пестрый ковер, перекрестился, взял кусок вареного мяса и передал его круглолицему Адашеву, второй — долговязому Курбскому; покачался с ноги на ногу и раздал пахучие куски еще некоторым воеводам. Затем дал знак нарезавшему мясо кравчему, дабы тот угощал дальше — и смиренно наблюдал, как помощники произносят:
— Царь жалует тебе это.
В ответ гости вставали и кланялись.
Затем в серебряные чаши наливались романея, аликанте, мальвазия — любимые царские вина, в деревянных ковшах разносилась свежая медовуха — и начинался пир. К мясу подавали шафран, кислое молоко, огурцы в уксусе. Снова и снова поднимали чаши, а на стол выплывали жареные лебеди, журавли со специями.
Пили — и появлялись тетерева, глухари и рябчики в сметане, зайцы с рисом, лосиные мозги, пироги с мясом, подслащенные орехи.
И стучали чаши, и не смолкали тосты и речи, пока хмель не связал руки и не высушил языки...
А в Москве на Ивана навалилась болезнь. Вечером, после службы в Благовещенском соборе, стоявшем поближе к царскому дворцу, царь еле поднялся по ступенькам в опочивальню и упал около кровати. С полчаса его трясла падучая, глаза набухли кровью и выкатились над острым носом. Испуганный Матей бросился за врачом, но первой на крики отозвалась Анастасия. Она положила неспокойную голову Ивана себе на колени и, что-то проникновенно нашептывая, нежно гладила его мокрые от пота волосы. И царь успокоился, обмяк, но на перине опять встревожился, задышал часто и хрипло; вознамерился встать, но руки сделались ватными. Горячка накрыла его забвением, жутким и долгим.
Приходя в сознание, он недоуменно прилипал слезливыми глазами к ближнему углу с лампадами, к каменной стене с цветным изображением Соломонова суда, а из глубины, словно из-под туч, выскакивали призраки кроваво-красных коней и неслись по зеленой траве к кровати... Царь вздрагивал, хватался руками за голову, снова смотрел на картину — и бешеная лавина пряталась за углом арки.
На несколько минут он успокаивался, и ему давали попить, а затем голову опять терзала тревога, красная бешеная лошадь вновь появлялась из-под дрожащих лампад и неслась на кровать. Иван шатнулся вбок, увидел искры под громадными копытами, ржавую пряжку подседелка, мускулистый круп, огненный хвост — и неосознанно схватился за него, чтобы хоть так выбраться из своего холодного гроба-кровати. И услышал крик над собой. И очнулся...
Кричала жена, за косу которой в беспамятстве схватился Иван. Снова начала гладить и шептать что-то ласковое, услышав спокойное, выразительное:
— Что там, снизу?
Она поняла, но не ответила.
Снизу под опочивальней был тронный зал, в котором уже третий день собирали бояр, дабы те целовали крест царевичу Димитрию. Ощущая смертельное изнеможение, Иван назначил своего преемника — сына-младенца. И призвал подданных к присяге ему. Но неожиданно оповестил о своем праве на московский престол двоюродный брат Ивана Владимир Андреевич, поддержанный большинством бояр.
Молчание царицы не придало спокойствия Ивану.
— Позови Висковатого, — попросил он.
Глава посольского приказа и царский летописец отвечал путано и встревоженно:
— Измена, государь! Многие не целуют креста, иные поразъехались... Сильвестр и Адашевы отказались, лукавят-выжидают... Брата твоего по московским хоромам возят, шепчутся...
— А Курбский?
— Да не видать его как-то...
У Ивана гневом вспыхнули глаза. Он, гортанно простонав, поднялся с кровати и показал пальцем на скипетр. Опираясь на него, медленно поплелся из опочивальни. На ступенях постельничий Матей набросил на его плечи кафтан и хотел было поддержать за локоть, но царь оттолкнул слугу. Висковатый следил за обоими в приоткрытые двери, но пойти следом не решился.
С десяток бояр в тронном зале утихли. А Иван, собравшись с силами, улыбнулся, неспешно осмотрел всех и начал с вопроса:
— Что замолчали? Вижу, трон царский еще пустует... — уверенно подошел к нему, погладил золоченого византийского двуглавого орла над изголовьем спинки, постучал по широким костяным подлокотникам. — Оглохли, что ли? Спрашиваю, чего трон пустует?! Где Владимир, брат мой? — Царский голос насыщался злостью. — Что, руки свои алчные погреть решили?! Сын мой единокровный вам не по сердцу?! Как псы поганые рвать тело мое собрались?! — Он опять ехидно-плутовато улыбнулся и, хоть и уставший, с видом победителя сел на трон, продолжив уже спокойнее: — Сами запомните и стае своей передайте — великий царь Иван Васильевич умирать передумал и всех вас еще переживет. И в честь своего выздоровления приказывает в следующее воскресенье собрать царский обоз в богомолье к Белому озеру, в Кириллов монастырь. А теперь... — Иван встал и еще раз строго осмотрел присутствующих, — вон с глаз моих! А ты, Матей, — сказал, уже возвращаясь в опочивальню, — разыщи дружков моих, Адашева с Курбским, да о выправе поведай. Да караул в Кремле усиль, из самых преданных.
— Усилил, государь, третьего дня без приказа усилил.
По разным причинам царь уезжал из Москвы. В своих горьких молитвах он обещал в случае выздоровления пожертвовать монастырям земли и золота да податься в богомолье. Но было и другое, то, что поедало бессонными ночами и беспокойными днями: неверные бояре, измена близких друзей (потому и взял с собой Адашева с Курбским, к которым уже доверия не имел — хотел держать перед глазами). И змеями жалили невеселые известия гонцов: взбунтовалась Казань, погибла тысяча сторожевого полка, а непокорные казанцы начали даже возводить в сутках перехода от города новую крепость... Зашевелился Крым, Ливония нарушает границы...
В дороге, истомленный горькими думами, он проваливался в сон, и за ним, хрипя и пыхтя горячей пеной, неслись вскачь красные кони. И он уже вовсю гарцевал на них, и спросонья шептал молитвы, но слова их были тяжелыми, они не могли, как молвил при встрече седой как лунь Максим Грек, подняться к богу.
— Вижу, — произнес старый монах, — как злость и гнев тебя гложут. Всякий человек, учил еще апостол Иаков, да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией...
Однако могучий красный конь нес Ивана вперед — туда, где неспокойный горизонт утопал в дымах и неизвестности. А богомолье закончилось трагедией: погиб-утонул малыш-наследник Димитрий... И царь впал в новое предчувствие — предчувствие проклятия на его род. За грехи, возможно, отца, бросившего свою венчанную жену, «бесплодную смоковницу» Соломониду, в монастырь и с новой родившего его, Ивана.
Но царь гнал прочь тучи тревожных дум и яростно сеял семя свое в лоне Анастасьином, однако всходы были редкими и слабыми — рос неказистый сын Иван, третий, Федор, имел помутненный разум, а три дочери умерли младенцами.
И на ратном поле зрела гроза: казна обеднела, даже ливонцы не спешили пополнять ее своим серебром. Новое посольство от дерптского епископа приехало в морозную Москву просить об отсрочке выплаты, но Иван не принял его. Он приказал выгнать протестантских собак из города и поручил Адашеву готовить поход.
Опять полилась кровь. В этот раз ливонских христиан истребляли нанятые в царское войско татары под предводительством казанского хана Шах-Али. И снова застонали небеса, и жгли веси, и вырезали детей из лон материнских, и насиловали насмерть женщин, а на тех, кто еще силился убежать, охотились, как на волчиц...
И сдалась Нарва, и пал Дерпт, и было перемирие, и в глазах нового Александра Невского заплескались балтийские волны, к которым вот-вот выйдет его царство — но пробудились соседние Великое Княжество и Польша. Не прошло и года, как рыжий лис гроссмейстер Кетлер сговорился с королем Сигизмундом и был по-братски принят в Вильно. И в августе 1560 года виленский воевода Николай Радзивилл Черный с войском вошел в Ригу. Адашевские шпики доносили Ивану, что Кетлер намеревается соединить Ливонию с Великим Княжеством и передать Радзивиллу крест и орденскую мантию, однако московским полатям было не до них…
В жаркий август того же 1560 года от Рождества Христова умирала в тяжких муках царская жена. Его единственная человеческая радость и утешение. И на его потухших глазах отошла она к Господу.
— Вы все ответите за это! За все ответите... — шептал царь над мертвой Анастасией и гладил еще теплую чернявую прядь волос. Стонал и шептал: — Все-все...
5.
Очередное лето выдалось жарким и дымным. Горели леса, дома, хлеб. Адская удушливая паутина затягивала города, и он отчаянно носился по стране, проводил оперативки и совещания, раздавал нагоняи всем — от лесничих и губернаторов до премьера, сам работал с пожарными, а когда поднимался на вертолете — в глазах плыли красные круги.
— По сведениям спецслужб, красных петухов нам подбрасывают... — сказал уставший и постаревший Керзон, вытирая со штанов сажу. — Если не будет других установок, проведем показательные суды.
— Кого подбрасывают? — не понял президент.
— Поджоги, говорю, по донесениям — спланированы.
— А... Петухи красные... Да это уже кони, а не петухи! Тысячи домов ляснули! А леса сколько! Кто компенсирует, откуда деньги брать? Что людям... — он не смог договорить. Трап неожиданно прыгнул в сторону, перед глазами проплыл красный живот вертолета, стало тяжело дышать. Президент упал на руки испуганного председателя Службы госбезопасности и уже не помнил, как его обступили врачи и как вертолет направился к столице…
И вот он перед выбором, к которому шел не один месяц. Шутка ли — оставить страну на девять месяцев без присмотра! К медикам он тоже особого доверия не имел — не задавят ли пуповиной… Но сеанс, как окрестили ту процедуру-операцию, призван был придать ему силы и омолодить организм.
Начиналось же все казенно. Когда врачи поставили президента на ноги, утром в его кабинет, размерами похожий на хоккейное поле, только вместо льда лежал канадский паркет, постучал помощник Жокей, мягко приоткрыл дверь и нежно выговорил:
— Приветствую вас, господин президент... Разрешите зайти?..
— Что у тебя? — Мороз неохотно оторвался от чтива. — Ты что бумагу изводишь? Завалил меня этими записками... Глаза мои хоть пожалел бы!
— Простите, я бы не беспокоил, но тут без предупреждения Керзон просится...
— А ему чего?
— Не могу знать. Сказал, что по номеру ноль...
Так кодифицировали сверхсекретные переговоры, которые без свидетелей вели чиновники с президентом. Разумеется, те, кто имел доступ.
— Запускай.
Помятый жизнью, службой и природными катаклизмами, но в сияющей оправе из нескольких рядов орденов и в новеньком генеральском мундире, Керзон бросил на помощника ревнивый взгляд и, сам закрыв массивную дверь, процокал к столу, там выпалив:
— Здравия-желаю-товарищ-главно-коман-дующий!
— Да потише ты!.. Садись.
Керзон напряженно смотрел на президента и не шевелился, пока тот не отложил распечатанную страницу и не вздохнул:
— Глаза скоро вылезут… Давай, что у тебя?
Председатель Службы государственной безопасности вскочил и залепетал:
— Товарищ главнокомандующий! Я имею радость доложить вам, что в результате проведенной нами работы и соответствующих мероприятий… имеем в результате… хотим предложить вам… поскольку проверка проведена многопланово, проходила операция в сверхсекретном режиме… — он неожиданно для себя сбился и окаменел.
— Да не трынди ты, — снова вздохнул Мороз. — Толком можешь сказать?
— Так точно… — Керзон вытер о лампасы вспотевшие ладони. — В нашем секретном центре добились неслыханного! Имею в виду операцию «Плацента»… Проведена операция, после которой пациент помолодел на тридцать лет!
Он набрал воздуха и замолчал.
— Ну-у… — президент сложил на животе длинные руки. — И что — Госпремию тебе за это дать?
— Я не о том, не так поняли… Я с предложением… Только правильно меня поймите… Операция сверхсекретная. Помимо проверенного медперсонала о том знаем только я и мой зам. Я лично курировал… А потому имею честь предложить… Только правильно поймите…
— Да не тяни ты резину, чего хочешь?!
— Хочу, только правильно… ведь от всей преданности… Лишние ваши годы никому не помешают… Хочу предложить… омолодиться!
Президента как ошпарили:
— Что?! Ты это… Думаешь, что я уже не могу со своими старыми костями тут сидеть?! Да?!
— Никак нет… Я совсем не о том… Я просто как лучше… Денег же на это пошло… Потому как лучше хотел… — Керзон неожиданно обмяк и затих.
— Как лучше, говоришь? А что там за операция? Не подтяжку же ты мне предложишь сделать, а?
— Что-о вы… — оживился Керзон. — Медики это сеансом зовут… Там пуповину наращивают, а пациента, так сказать, в бароплаценту…
— В баро — чего?
— Плаценту... О том лучше сами медики пусть... Мы же в первую очередь за безопасность и секретность... Ну а результаты, я скажу-у-у! — Керзон невольно облизнулся. — Деда одного... полуслепой был, болезней букет... еле таскался… а через девять месяцев, прошу прощения, бабу попросил! И вот уже полгода джигитует...
— Бабу, говоришь?.. — президент впервые со дня неожиданной болезни улыбнулся. — Что ж, будем думать. Продолжайте работу...
Керзон вышел с видом победителя, чем насторожил помощника.
— Ты… это… галопом-по-европам, мне ничего не хочешь сказать?
— Не имею права, товарищ Жокей, номер ноль, сам понимаешь.
А через несколько минут помощника позвал к себе президент.
— Значит, так... Надоел он мне. Пусть отдохнет. Сделай так, чтобы Керзона я не видел. И срочно ко мне его зама. Как его там?
— Бадакин.
— Да хоть Сракин...
Ночью он снова не смог уснуть. Замучили воспоминания, а ко всему — разболелась голова, ломило суставы, измучила одышка... От таблеток да порошков уже на рвоту тянет...
Утром вызвал помощника. Тот, как и хозяин, тоже не спал, чашками глотал кофе, но выглядел бодрым.
— Готовь встречу. Поехали, хочу посмотреть, что там...
О визите президента в секретную лабораторию помимо его самого и охранников знали только два человека — Бадакин и Жокей. Вначале высоким посетителям показали две видеозаписи: скрюченный старик, до сеанса, и оживший мужчина лет под сорок — после.
— И что, это один и тот же хрен?! — не поверил увиденному Мороз.
— Да. Процесс сеанса контролировал лично я. Если честно, и сам до сих пор удивляюсь, — вскочил Бадакин.
— Расскажи, как такая байда получилась…
— К сеансу готовились девять лет. За медобеспечение отвечает профессор Скоркин. У него в подчинении три ассистентки. Все, как понимаете, проверенные и изолированные. Пациент был отобран в Лукском районе. 75 лет. По легенде — пропал без вести. Доставлен в лабораторию. С того времени — под нашим наблюдением. Самочувствие отличное, медпоказатели в норме, только… — Бадакин затих.
— Ну?
— Только женщин требует. Новых. А тут же секретный объект… Профессор жаловался, что его медичек дед уже заюзгал…
— Это не болезнь! — улыбнулся Мороз, разгладил усы и спросил серьезно: — А есть какие-то осложнения?
— Нет, товарищ президент, не выявлено.
— Так что же вы ему тут сделали? Не на клизмах же он помолодел?!
— Нет... Тут целая программа. Ему… это… пуповину восстановили… и в плаценту, как в материнский живот…
— Иван Владимирович, — мягко промурлыкал Жокей (любил в присутствии высоких лиц так назвать президента, подчеркивая свою близость к нему и козыряя тем), — я сильно извиняюсь, что перебиваю, но, может, стоит позвать самого профессора? Он бы поведал обо всем более детально…
— Да, правильно, давай!..
Старый профессор вначале чуть не обмер от неожиданности, но потом оклемался и выглядел уверенно:
— Опыты базируются на основе медико-физических, невропсихологических и биометральных факторов…
— Стоп-стоп, — замахал руками президент. — Не гони свою пургу! Ты можешь просто и по-человечески объяснить, как деда омолодил?
— Да-да, простите, сейчас… — профессор достал носовой платок, вытер вспотевший лоб и продолжил: — Человек начинает стареть с того времени, как рождается. Мир — это данная Всевышним и испорченная человечеством плацента… Вот мы и попробовали возвратиться к первичности, к материнскому, так сказать, лону. Создали искусственную плаценту и поместили в нее пожилого пациента. Все термальные и прочие жизненно необходимые процессы контролировали автоматически. Пациент спал, а за период сеанса тело очищалось и аккумулировало запасенную энергию. Омолаживалось…
— А как он дышал?
— Так же, как и в животе матери, только, разумеется, искусственно…
— А что ел в том вашем пузыре?
— Необходимые витамины и питание подавались в плаценту… или, по-вашему, пузырь, через…
— Да знаю я эту плаценту не меньше вашего! — перебил президент профессора. — Мы с ветеринарами их последами называли…
Все уставились на профессора, но тот был сбит сравнением. Он помолчал, собрался с духом и продолжил:
— Человеческий пуп есть тайна, своеобразное соединение с миром. Через него, после специальных операций, мы и подводим необходимые пути питания и отбора отходов. Повторюсь, метод очень простой и естественный. Он повторяет то же, что делается в материнском лоне с ребенком. И термин, как понимаете, мы запрограммировали тот же…
— Ну а потом, через девять месяцев… что? — президент оживился.
— Все… — не понял профессор. — Останавливаем сеанс.
— И пуповину режете?
— Ну да, можно и так сказать. Соответствующие пути хирургически удаляются...
Вопросов больше не было. Почмокав, Мороз неожиданно предложил:
— А давай, профессор, мы и тебя омолодим. Голова, вижу, умная, а то еще кевкнешься, и медицина наша обеднеет!
Профессор неловко улыбнулся, а Бадакин вскочил и залепетал:
— Товарищ президент, ваша воля — закон, но прошу простить и понять… Сеанс чрезвычайно затратный в плане финансирования… Я бы сказал — мегазатратный…
— Понял… — вздохнул Мороз, снова чмокнул и приказал: — Покажите мне уже своего деда!
Пациента привел сам Бадакин. Дедом назвать его мог разве что младенец: выглядел он подтянуто и бодро. Увидев президента, обрадовался и чуть не бросился обниматься:
— Ива-ан Влади-имирыч, здрасте, ты ли это?
— Ну-ну, остынь! — буркнул на него Бадакин, но Мороз только улыбнулся:
— Ничего-ничего... Так как, мужик, ты себя чувствуешь?
— Жаловаться не на что...
— А мне доложили, что к девкам не пускают.
— Ну... енто можно и поправить.
Президент приблизился к пациенту, заглянул в глаза, похлопал по плечу и подытожил:
— Хорош, мать твою! — И через паузу: — Мне сказали, что ты мой земеля. И правда, из-под Лук?
— Ну а откуда ж?..
— А чем занимаешься?
— Теперя ничем… В энтой санатории отдыхаю. Спасибо вам и дохторам — и накормлен, и одет, и заботы нет!
— А до «санатории»?
— Так это... конюхом. Пасу, кормлю, а летом за бабу на весовой сижу...
— А не тяжело в таких годах за лошадьми бегать?
— Что вы, Владимирыч! До санатории, не сбрешу, не мог уже, думал бросать. А теперя вылюднел так, что и галопом совладаю!..
— Слышал, Жокей? — Мороз повернулся к помощнику. — Еще один наездник в нашем эскадроне! — довольно улыбнулся и хлопнул в ладоши, что означало — кончай базар, айда домой...
И снова он ночь не спал. А может, и спал, но вместо снов в голове крутились лабораторные ролики: плацента с мутной жидкостью, человек в ней... Точь-в-точь малое дитя в утробе роженицы. Только наружу какие-то шланги тянутся, а над ними десятки аппаратов, мониторов, ламп...
Только на третий день, изможденный размышлениями и нездоровьем, президент решился:
— Ну что, конюхи мои верные, готовьте свои плаценты. Была не была — буду омолаживаться! — Он оглядел вытянувшихся Жокея и Бадакина, повернулся к последнему и, прибавляя в голос грозности, спросил:
— А ты что это ко мне без лампасов приперся?!
Бадакин тихо выдавил:
— Товарищ президент, полковнику лампасы... не положены.
— А почему — полковнику? Жокей, галопом тебя по европам! Готовь мой указ о присвоении ему генерала! И назначаю Бадакина председателем Службы государственной безопасности. Смотрите только, чтобы за девять месяцев тут херни какой не напороли, а то шкуру спущу!.. — Помолчал, снова придирчиво осмотрел подчиненных и окончил уже более ласково: — Подумайте, чтобы за это время я из телевизора не вылезал... Монтаж там какой сделайте, ну… как я принимаю одного, второго, документы подписываю, вас, лентяев, гоняю. Подключите Федоренкина, он знает, что и как. Ясно?
— Так точно! — в один голос гаркнули помощник и службист.
— Ну вот и славно… Не побейтесь только, кто моей повитухой будет, плацента-шмацента...
Народ затушил пожары, отстраивал сожженные лачуги, пил водку и смотрел телевизор.
Администрацию президента начал доставать премьер Сысанков, он рвался к президенту с какими-то неотложными заботами, пока его семиэтажно не обложил и не выгнал Жокей. Премьер надломился, засел на даче и тоже запил.
И вот — звонок председателя Службы госбезопасности:
— Товарищ Жокей, срок сеанса закончен. Будем останавливать?
— А какие другие предложения?
— Не понял...
— Понимаешь ты все не меньше моего, — обрезал его Жокей. Сладким было для него — по сути, руководителя государства — это время; разные кощунственные мысли в голову лезли, но боялся он их, отгонял: кто знает, чем они аукнутся... Да и, зная норов хозяина, не мог не думать о том, что без чьей-то подстраховки не полез бы тот в плаценту... — Конечно, заканчивай!
Жокей покосился на портрет президента, заказал себе кофе, выпил без удовольствия и заспешил в лабораторию.
Перед входом уже стоял лимузин, и Жокей испугался, что опоздал первым поприветствовать хозяина. Возле лифта его ждал окаменевший Бадакин, нервно схватил за рукав и потянул в глубь вестибюля.
— Слушай... вышел казус. Не знаю, как объяснить...
— Президент живой? — оборвал его Жокей.
— Да, да... Что ты! Все получилось, только...
— Что «только»?! Не тяни!
— Помолодевший, здоровый, только... в своем времени.
— Как это… в своем?
— Да пойдем, сам увидишь!
В ярко освещенной палате сидел выбритый и вымытый Мороз. Помолодевший… чуть ли не на половину возраста. Если бы не растиражированные фото времен молодости, его тяжело было бы узнать: ни мешков под глазами, ни морщин, ни обвислой челюсти...
— Господин президент, разрешите приветствовать вас! — начал Жокей, вобрав голову в плечи, но хозяин зло сплюнул и закричал:
— Еще одного придурка привели! Сам ты господин зачуханный, выфрантился тут мне. Что, с бодуна не просох?! — он помолчал и неожиданно кивнул на окно: — Чего машины простаивают? Где бригадиры и звеньевые?! Не посеете вовремя — будете экспериментальное поле своими слезами поливать!
— Сейчас, сейчас, все сделаем... — сам не зная, что обещает, Жокей потянул за лампас Бадакина и подался к выходу. Притворив дверь, он ослабил галстук и пробормотал: — Это, галопом-по-европам, что такое?!
— Президент...
— Да сам вижу! О каком поле кричит?..
— Профессор утверждает, что это синдром возвращения...
— А с конюхом что?.. Что с тем твоим синдромом?! Дед же — нормальный... — Жокей вздрогнул и поправился: — В смысле… нормально из того синдрома вышел.
— Ну да...
— Ты мне не дакай! Что делать будем? — Жокей покрутил жилистой шеей, еще больше ослабил галстук, и верхняя пуговица на сорочке не выдержала — оторвалась, поскакала по гранитному полу.
Вдруг что-то словно прояснилось в глазах помощника:
— Дай-ка мне личное дело того деда!
— Этажом ниже, в архивной...
Жокей смотрел на биографию первого пациента секретной лаборатории, мотал головой и не мог выговорить ни слова. В горле страшно пересохло.
— Может, кофе?
— Что?
— Может, кофе? — повторил председатель Службы госбезопасности.
— Нет, давай водку… и побольше... Как вы могли так с дедом лопухнуться?
— Никакого лопушения… Выход, как и профессор подтвердил, из сеанса был беспроблемным, без временной деформации.
— Да что ты бред несешь, генерал! У тебя мозги-то есть?!
— Я па-а-прошу! — надулся тот, вмиг покраснел, но успокоился и снова затараторил: — Ты же сам слышал, как тот рассказывал о своем последнем месте работы, о конях что-то там и весовой...
И помощник не выдержал:
— Я и говорю, что ты дурак! Да конюх этот и двадцать, и тридцать лет тому, как и перед сеансом вашим ляцким, коней пас! — Он поднял папку с личным делом деда и хлопнул по столу. — Зови своего профессора!..
На полную адаптацию президента понадобилось несколько недель. Все должно было пойти привычными кругами, однако помолодевшего руководителя отказался признать народ, досрочно выбиравший его, веривший и любивший. И стареющий. Вместе с народом старели и вера с любовью.
На остановках, в курилках и в соцсетях начались настороженные перешепты-намеки, вылившиеся в стихийные митинги. И с каждым публичным выходом правителя на люди народное негодование росло и угрожало вылиться во что-то большее.
— Нашего убили, а вместо него подсовывают двойника!
— Посмотрите, он нашему в сыновья годится...
Ничего не могли сделать ни телепропаганда, ни Служба безопасности. А тут поднял голову премьер:
— Правильно, народ, нас всех дурят! О-о-обман!
Президент был вынужден сам спасать ситуацию. Он выступил по всем телеканалам с чрезвычайным обращением к народу, подробно поведал о ранее спланированных врагами поджогах и своей болезни, во время которой зарвавшиеся высокопоставленные чиновники пытались захватить власть.
— Их уже вывели на чистую воду! — вещал руководитель государства. — Этих роликовых, керзонов и сысанковых... Они мечтали дорваться к власти еще с тех пор, как я возглавил страну. Обещаю вам — все получат по заслугам! Все! А к следующему году мы справимся с экономическими потерями и сможем повысить зарплаты и пенсии. Как и раньше, государство не оставит без помощи никого... — Президент еще долго говорил о распоясавшихся ворах и продажной оппозиции, золотовалютных запасах и международном положении — и народ находил в тех словах прежнюю простоту и сердечность, открытость и преданность, узнавал своего президента до каждой, хотя и разгладившейся, морщинки под просветленными глазами, до каждого жеста.
Вечером президент приехал на правительственную дачу, где обосновался впавший в горячечную оппозиционность Сысанков.
— Ты?.. — недоуменно поднялся из-за длинного стола премьер и, хмельно покачиваясь, пошел навстречу.
Мороз хмыкнул, схватил пустую бутылку — и двинул по нетрезвой голове премьера. Тот хватанул воздуха, лизнул пухлые губы — и обмяк.
Когда назавтра после телеобращения хозяина Жокей принес составленные спецслужбами и льющие бальзам на душу результаты общественных опросов, президент спокойно отодвинул бумаги на край стола и огорошил помощника:
— Помнишь, когда метро бастовало... я тогда в университете выступал. Там девка одна, чернявая такая, — он покрутил пальцами, — мне бумажки подносила. Я приказывал разузнать о ней...
— Да, Екатерина Александровна Белявская, студентка филфака нашего университета. Я докладывал...
— Ты заработался или прикидываешься?! — вскипел президент. — Что мне с тех докладов? Давай ее сюда! Ясно?..
VІ.
— Что ж, фами-илия твоя соотве-етствует нутру-у, — словно чужим голосом едва не пропел царь окольничему Федору Сукину, своему посланцу. Глаза того не могли остановиться на одной точке, зрачки суетились в глазницах испуганными жуками. Царь перебросил с одной руки в другую скипетр и кивнул верному Матею: — Отправь его делать гроб!
Когда стрельцы уже дотянули невысокое тело испуганного посланца к дверям, царь уточнил:
— Хороший, большой гроб! Чтобы издали виден был. — Посмотрел на перстень-печать, покрутил его туда-сюда и добавил: — А этому сукиному сыну и обычной ямы хватит...
В конце 1560 года, когда Радзивилл Черный укреплялся в землях Ливонии, а образ покойницы царицы Анастасии поглотили успокоительные оргии, Иван Грозный направил к Сигизмунду Августу громадное санное посольство, которое и приказано было возглавить Федору Сукину. Царь не поскупился на подарки, взамен надеясь получить не только дружбу короля-соседа, но и одну из его сестер в жены.
Сигизмунд же воспринял предложение сдержанно, а краковский сейм едва ли не единогласно решил выслать назад московское посольство. Однако Федор Сукин не сдался. Он подкупил королевскую горничную, тайно показавшую в костеле во время воскресной службы двух принцесс. Младшая, Екатерина, на миг поправила над бархатным чепцом кружевную вуаль — и царскому посланцу запали в душу ее черные брови, нежный носик, искушающие, налитые вишневой свежестью губы. Он незаметно понаблюдал за ее лебединой походкой и вкусно расписал обо всем своему хозяину. И не позабыл добавить, что Сигизмунд Август не имеет потомка, потому с помощью его сестры-красавицы Московия может снова соединиться со своей вотчиной — полоцкими и смоленскими землями.
Расписал — и на некоторое время успокоился.
А в беспокойные сны Ивана впервые пришла не Анастасия, а таинственная полька Екатерина. Он шагал за ней, пытался схватить за нежно-белесую руку... и уже срывал с нее розовый италийский хитон, и блеснули в улыбках свечей атласные исподние надраги, как та вдруг превратилась в белую лебедку и выпорхнула в раскрытое окно.
— Порви меня, мой государь, как эту сорочку… — неожиданно простонала под ним горячая дочь какого-то боярина, и он испуганно вскочил.
— Иди вон, шлюха подзаборная! — Царь сбросил женщину с кровати и позвал Висковатого.
— Пошли в Краков Сукину еще от меня подарков. Пускай поторапливает!
Но пока исполнялось новое царское поручение, принцессу Екатерину сосватали брату шведского короля Эрика XIV, герцогу Финляндскому Юхану...
Иван по-прежнему пил и утопал в блуде с молодой дочерью хана Кабарды черноокой княжной Кученей, которую, чтобы хоть этим успокоить царскую одурь, взялся окрестить сам митрополит Макарий и обвенчать с Иваном, уже как Марию. И угасли властные гульбища — пока до Москвы не докатилось известие о свадьбе Екатерины и Юхана. Тогда Иван послал Курбского жечь пограничные западные земли и позвал своего посланца Федора Сукина, приказав тому своими руками сбить огромный гроб...
— В него положу Катькиного брата Сигизмунда… или сам лягу! — молвил он в начале января 1562 года, во главе 60-тысячного войска отправившись на древнюю крепость Полоцкого княжества.
Митрополит Макарий попытался унять воинственный пыл царя, но не смог, предложив тогда взять с собой святыню, которая, как он надеялся, должна отвести несчастья и ненужные смерти.
— Некогда еще отец твой из Смоленска привез его — крест полоцкой игуменьи Евфросинии. Война его вывезла, а ты назад возврати. И пусть защитит он все войско Христово.
— В походы со своими крестами ходить надобно! — недоуменно бросил Иван постаревшему митрополиту.
А тот глубоко вздохнул, тревожно посмотрел в суженные царские глаза и спокойно уточнил:
— Кресты, Иван, не бывают свои или чужие. Все они — Божьи, все — Христовы. Ибо он, Иисус, один за нас, грешных, страдания принял.
Иван подозрительно глянул на Макария:
— Ты что, митрополит, мой поход праведный не благословляешь?!
Макарий напряженно помолчал и ответил вопросом:
— А ты как думаешь, государь: разве благословляет наш Создатель убийства?
— Ясно… — проскрежетал Иван и направился к дверям.
— Крест полоцкий в твоей казне. Возврати святыню в родной град, — уже в царскую сгорбленную спину молвил Макарий и перекрестил раскрытые двери. Ему неожиданно увиделось, как Ивану удалось прочесть строки Евангелия, привезенного от Палеологов. И он с тревогой вспомнил о рассказах Максима Грека о богатой Полоцкой библиотеке...
Полки велено было формировать под Луками. Затем ежедневно, «дабы воинским людем истомы и затору не быть», они поочередно вместе с фуражными обозами отправлялись в поход.
Как ни стереглись, литовская разведка дозналась о московской выправе и доложила гетману Николаю Радзивиллу. Тот спешно собрал войско и из Менска двинулся на подмогу Полоцку.
Однако первым к городу дошел московский царь. Он долго с поймы Двины осматривал древние стены, что-то неслышно шептал сам себе, а затем спрятался в шатре, позвал к себе Висковатого и приказал тому писать Макарию письмо, в котором уверял митрополита, что войну начинает «токмо ради бдения о святыхъ храмехъ да иконахъ священныхъ, иже безбожная Литва поклонение святымъ иконамъ отвергше, пощипаше ихъ да многая ругания учинише, а церкви православные разориша, веру христьянскую оставльше и лютеранство восприаша…»
Царские полководцы намеревались начать наступление с Задвинья — по льду, с той стороны, где Окольный город не имел оборонительных стен. Там разместились Передовой, Царский полки и полк Правой руки. Однако лед на Двине начал таять и трещать, и полки перешли в междуречье к опустевшему монастырю святого Георгия. От берегов Полоты московиты вынуждены были наступать уже на полоцкие укрепления.
И христианский город с древней Софией над Двиной, константинопольской сестрой, захлебнулся в огне и дыму. Дневные осады нападавших перемежались с ночными вылазками защитников. Потекла по заснеженным берегам на лед неукротимая кровь, а по высокому замку почти непрестанно лупили стенобитные пушки.
И выгорел Острог с посадами, и на крыльях дыма с привкусом человечины ворвались в город стрельцы, вкатили пушки поближе к замковым стенам — и обвалили их.
После седьмого приступа полоцкий воевода с епископом вышли к царскому войску просить милости.
— Сдавайтесь, пожалую вам свободу да имущество, — обещал обессилившим воинам Иван, а когда вошел в замок, приказал казнить всех, крестьян от Дисны до Дрисы полонил и бесконечными человеческими клиньями наказал гнать в Московию — в снег и мороз. Туда же санными обозами повезли и городскую казну, и сундуки купцов да зажиточной знати. А их прежних владельцев еще несколько дней секли сабли царских татар, топили подо льдом Двины и Воловьего озера.
И не было спасения ни иудею, ни католику, ни монаху-бернардинцу, никому, кто не покорился да не принял веру и волю московскую.
В первое победное утро Иван со своей свитой присутствовал на богослужении в Спасовом монастыре. Затем долго ходил по почерневшему от сажи и дыма снегу, косолапо кривя ноги, отчего носы сапог его, хоть и закрученные вверх, были стертыми и грязными.
Успокоившись прогулкой, Иван призвал к себе полоцкого епископа и, словно между прочим, спросил:
— А где ваша хваленая библиотека?
Священник проявил удивление и начал неуверенно:
— В этом пепле и людей не найти, не то что книги...
Но царь прервал:
— Не хитри, владыка. Мне донесли, что во время осады игумен с монахами книги через подземный ход к Двине перенесли, а затем в лодках сплавили. — Втянув шею, он криво посмотрел на исхудавшего епископа и подобрел: — А я тебе подарок подготовил... — поднял руку и шевельнул пальцем.
Матей бросился к царю, склонил голову и, разворачивая белый бархат, протянул крест.
— Вот, возвращаю на круги своя древнюю реликвию, еще отцом моим Василием спасенную...
— Господь всемогущий! — не удержался священник и упал на колени. — Святая Евфросиния! Спаси и сохрани!
— Ну вот, а вы от меня библиотеку прячете, — довольно вздохнул царь и уже вскочил в седло, но увидел, что епископ с двумя монахами не решаются приблизиться к нему, и остановился: — Что еще?
Епископ осторожно передал крест монаху и стал на колени возле покрытых инеем конских копыт.
— Вставай, владыка, не надо благодарности. Я сегодня добрый, — мягко бросил сверху Иван, а священник поднял на него соленые глаза и выговорил:
— Великий князь, давеча воины твои наших писцов полонили. Смилуйся и отпусти их!
Царь напрягся, скрежетнул зубами и взглянул на Матея. Тот преданно пожал плечами и застыл.
— Забери-ка ты и этого страстотерпца к тем писцам! — царь ткнул кнутом в епископа и больно ударил шпорами лошадь.
На том окончилась книгописчая школа полоцких братьев-иоаннитов, заложенная с полвека тому афонским игуменом Нилом и его сподвижниками. Только одному из них было суждено дойти пленником до Москвы и в новой волоколамской монастырской келье несколько раз переписать «Псалтырь», на каждом экземпляре оставляя следующее свидетельство: «Написана сия книга рукою многогрешнаго и недостойнаго раба Богова Ивана, полоняника полоцкаго, въ заключении и во двоихъ путахъ звязанаго. Слава Богу, совершившему сию книгу. Аминь»...
Узнав о захвате Полоцка, гетман Радзивилл повернул свое войско на Вильно — готовить новую оборону. А в московский лагерь прибыло посольство от Сигизмунда.
— Замерз я тут и подустал, — вместо приветствия сказал Иван. — Пускай король шлет назначенных людей в мою столицу, там объясняться будем! Так и сообщите своему хозяину… — Он помолчал, неподвижно глядя под ноги, и добавил: — А дабы вам не с пустыми руками возвращаться, от меня Сигизмунду подарок доставьте — гроб, нами для него приготовленный!
Он нервно поиграл желваками, хотел было упомянуть о королевской сестрице Екатерине Ягелонке, недавно обвенчавшейся в Вильно с финляндским герцогом Юханом Третьим, но почувствовал близкую трясучку и выгнал всех из шатра.
Оставив в разрушенном Полоцке три полка, Иван вскоре возвратился в Московию.
Весеннее солнце уже высоко выкатывалось над городом, но снегу было еще полно. Грязные ручейки стекали в ложбины, дороги размякли и превратились под лошадиными копытами в густую жижу.
Иоанн Федорович хотел ехать один, но Гринь, его молодой помощник по типографии, не отходил от саней, где намостил соломы, поверх вскинул дерюгу, а возвышение покрыл старой шубой. Он отказался передать вожжи, вскочил на запряженную лошадь и сказал как о давно решенном:
— Не подобает вам, как простому смерду, самому разъезжать. Что люди скажут?
— «Имейте веру в славу Господа нашего без оглядки на личности» — учил нас в своем соборном письме святой Яков. Сколько раз тебе повторять: «Не выбрал ли Бог бедных этого мира как богатых верою и как наследников Царствия обетованного?.. Когда же оглядываетесь на личности, то учиняете грех и будете осуждены».
— Оно-то так, но не принято тут самому за вожжи... — неловко потупился Гринь, и Иоанн вздохнул, махнул рукой и смиренно сел в подготовленные для него сани.
— Если бы не такая грязь, я бы лучше пехом пошел, — буркнул он и ласково посмотрел на повеселевшего Гриня: раскрасневшийся, рослый, русые волосы выбились из-под шапки и шевелятся на ветру.
Иоанн долго не мог свыкнуться со здешними порядками, когда на санях приходилось ездить и летом, а кучер при этом должен был сидеть верхом. «Хорошо, что хоть от этих дикарских перьев и лисьих хвостов его отговорил», — подумал он про Гриня, а вслух напомнил:
— Не забудь, что к Силуану-кузнецу едем.
Силуан, бывший слуга Зои Палеолог, пережил в Московии все властные перемены и сам преображался с ними. Жил он теперь в Ремесленной слободе, верстах в пятнадцати от Кремля, занимал должность царского пушечного мастера. Возле обитых железом ворот его нововозведенного дома и трыкнул Гринь на лошадь. Хотел въехать на подворье, но Иоанн остановил:
— Дойду, тут подожди.
На крыльце старательно обил сапоги, зашел в горницу, перекрестился на иконы, поклонился, коснувшись правой рукой пола, и заговорил с хозяином по здешнему обычаю:
— Бью челом моему благодетелю! Прости слабый ум мой... Жив-здоров ли, Силуан?
— Спасибо, с Божьей помощью, — ответил хозяин и предложил гостю присесть к печи. — Третий раз за сутки протапливаю вот... Старым, наверно, стал, мерзну... — На его морщинистом лице засветились огненные отблески. — Угостишься, чем бог послал?
— Спасибо, сыт. Я проведать тебя приехал. Мой парень сказал, что уже несколько дней тебя в кузнице не видел. А тут формы новые нужны...
Кипела работа в московской типографии. Еще не успели возвести стены печатни, а Иоанн думал о верстаке да обученных работниках. Через литовского посла Михала Галабурду, ходившего на службы в Гостуньскую церковь, где дьяконом был Иоанн, пригласили к работе мастера Петра из Мстиславля. Затем приехал новгородский литейщик букв Василий Никифоров. И работа пошла. Местные плотники сделали дубовую основу верстака — скрип. Выдвижная доска была мраморной. На нее ложились железные формы, куда строчками и выкладывали шрифты. Отдельные соты с буквами по алфавиту занимали левую от верстака стену. Форму надлежало смазать краской — бережно, чтобы не перестараться и не зачернить оттиск; дальше оставалось подкладывать бумагу и тискальщику (его звали медведем) крутить винт. Затем к делу приступал младший служник — он выхватывал готовую страницу, клал на форму чистую, а «отжатую» нес на полки правой стены. Когда все они заполнялись, наступала очередь переплетчиков.
Но вначале что-то не заладилось. Как ни устанавливали формы, оттиск получался неровным: сверху глубокий и зачерненный, а низ — недожатый, «слепой». Переворачивали форму — и слабочитаемым становился верх страницы.
День ворожил над верстаком Петр Мстиславец — мрамор на ровность выверял, глубину шрифтов; затем понял и, спокойно обтерев от краски свои широкие ладони, поведал:
— Формы неровные вылили. Разница в ноготь, а итог — сами видите.
Наилучшим литейщиком в округе был Силуан. К нему и направился Иоанн, благо давно были знакомы — через Максима Грека. Правда, Силуан выливал пушки, но, рассудил дьякон-печатник, в пушечном деле нужна не меньшая точность, потому вылить ровные формы под шрифты для пушкаря будет простым занятием.
— Что-то, Иоанн, надорвалось во мне после похода на Полоцк... — страдальчески взглянул на гостя Силуан, постаревший, с бороздками-морщинами на переносице, еще глубже спрятавшими его небольшой нос; с неожиданной плешью, какой-то высохший — и куда только девалась прежняя мощь... — Руки перед работою опускаются, а в душе, — он показал пальцем на огонь, — как в той печи... — Помолчал и продолжил: — Не буду я боле пушки царю лить! Это же из них стены полоцкого замка разбили. И столько крови единоверной пролилось — не доведи Господи кому еще повидать. А сколько пленников истреблено... Их сюда, повязанных, по морозу гуськом гнали. Тысячи навечно на дороге остались. Представляешь: везем мы на санях пушки назад, а замерзшие покойники под полозьями — ш-шырх, ш-шырх! Досель то в ушах стоит...
Оба перекрестились, и Силуан словно очнулся:
— Хотел в богомолье к Максиму Греку податься, в его монастырь, да разузнал, что забрал Господь душу его праведную к себе. Ты же знаешь, что когда-то мы с ним в эту землю с младшей княжной Зоей Палеолог приехали... Царство им всем небесное.
Они снова перекрестились, и Иоанн стал прощаться. Повторно, как и перед входом, поклонился иконам, поблагодарил хозяина за заботу и пожелал здоровья.
Силуан пожелал проводить гостя. Наспех набросил кафтан, покрутил в руках белую мантию с горностаевой опушкой — но не надел, а пренебрежительно бросил на лавку. И уже за дверями, загадочно нахмурив лоб, прошептал Иоанну:
— Христотерпец Максим, отходя, просил поведомить мне, чтоб опеку возложил я на книгу Евангелия от Иоанна. Некогда в дороге сюда она спасла самого Грека. А затем и в огне не горела, и людей целила, и царю пожалована была, и глаза ему открывала. В письме, переданном через надежного монаха, старец просил ту книгу на остров Патмос доставить, куда апостол Иоанн был выслан Трояном за провозглашение слова Господнего и где продиктовал свое Евангелие. «Очернили книгу чудодейственную грехи царские, — писал монах Максим. — Пусть очистится она вновь на месте страданий и подвига составителя своего».
Подошли к саням, обнялись-расцеловались. Силуан осторожно посмотрел на Гриня и добавил:
— Так как мне к той книге приблизиться? Может, у тебя как получится? — И уже громче: — А формы я тебе вылью. Будут ровные, не беспокойся...
И минуло подготовительное время, и настала пора московского печатания слова Божьего. Как и было заказано, готовили «Деяния святых Апостолов». Спозаранку отслужив молебен, трудились без остановки до полудня, оттиснув и разложив сохнуть на полки двенадцать первых страниц. А потом на действо приехал посмотреть царь, которому Иван Висковатый после полоцкого похода докладывал о делах типографии чуть ли не ежедневно.
Дверь испуганно раскрылась, в заполненную работниками печатню вбежало несколько служников и вооруженных саблями и топорами стрельцов, вошел царский охранник Матей, а за ним и сам Иван. В длинной, окаймленной мехом накидке, скрывавшей легкие кожаные сапожки и неуклюжую косолапость, он, казалось, проплыл к верстаку, взял с него несколько свежеоттиснутых страниц, склонил набок голову и ласково осмотрел окаменевших печатников; узнал Иоанна и, уже приближаясь к внесенному трону, пальцем позвал к себе. Взял еще страницу с полки — и протянул Матею:
— Читай.
— Прошу простить, ваше царское величество... — пал на колени оторопевший охранник. — Не обучен сему...
— Хм, — сощурил глаза царь. — Думаешь, токмо деньги, мечи да пушки царскую власть умножают? — И, оторвавшись от Матея, обратился к Иоанну: — И доселе, дьякон, веришь в то, что книга великую силу имеет?
— Да, государь! — Иоанн уверенно склонил перед царем голову, сделался неподвижным.
— Более великую, чем у денег и оружия? — переспросил царь.
— Истинно так. — Печатник словно очнулся; не отрываясь от царских глаз, искрящихся, покрасневших, договорил: — Наступит время, когда книга завладеет всем миром Божиим, ведь через Его слово призвано победить и деньги, и мечи, и пушки.
Царь довольно покивал головой; забрав у Матея книжную страницу, потрогал ее пальцами, осмотрел с обеих сторон, даже понюхал — и протянул Иоанну:
— Тогда ты читай!
— «Первое убо слово, — начал запевно дьякон-печатник, — сътворихъ о всехъ, Феофил. О нихъ же нача Иисусъ творити же и учити, до него же дне заповедавъ апостоломъ духомъ святымъ. Ихже избра, възнесеся предъ ними и постави себе жива пострадании своемъ въ многихъ истинныхъ знамениихъ»…
— А кто этот Феофил, к которому вначале обращение идет? — прервал царь и, подняв покрытую монаршей шапкой голову, зачарованно посмотрел на печатника.
— Как свидетельствуют ученые отцы церкви, — печатник перевел взгляд на иконостас и перекрестился, — Феофил был синклитиком и князем. Его называли властвующим средь правителей. Сам апостол Павел обращался к нему через евангелиста Луку из Антиохии: «Пришла мысль и мне... последовательно описать тебе, высокоуважаемый Феофил, дабы ты изведал твердую основу того учения, в котором был наставлен…» — Иоанн заметил, что царь слушал его, словно очарованный школяр, и продолжил: — И каждый человек, кому неподвластны страсти греховные, есть высокоуважаемый Феофил, по-нашему — боголюбец, достойный слушать Святое Евангелие.
Царь вздрогнул, мотнул одобрительно головой, вскочил и резко подался к двери, там задержался и снова спросил:
— А почему у тебя, дьякон, крест на груди деревянный, а не железный или серебряный, как у других церковников?
— Крест Христов одинаковую силу имеет — золотой ли, деревянный… А Господа нашего на деревянном и распяли... — Иоанн хотел еще о чем-то договорить, но царь прервал его:
— Вспомнил я похожий, деревянный... В Полоцк его по просьбе митрополита Макария возвратил. Кстати, иду теперь принимать полоцких посланцев. Посмотрим, что там надумали...
Как внезапно царь со свитой заявились, так вмиг и исчезли. А печатники продолжили свою работу аж до глубокого вечера, под сенью слеповатых свечей и светочей слов Божьих.
В тот же поздний вечер из московского Кремля выгнали посольство великого княжества. На переговорах бояре озвучили царское условие: Рига, Вильно и Киев должны признать его волю. Литвины же затребовали не только дать покой Ливонии-Инфляндии, но и возвратить Смоленск, Брянск и Псков, во времена Витовта Великого зависимые от Княжества.
— Гнать щенков Сигизмундовых собаками моей псарни двадцать верст от Москвы! — Иван не мог сдержать своего гнева. Он до хруста сжимал в кулаки длинные пальцы и дико кричал: — Гнать! Гнать!
Слуги долго боялись приближаться к царю, а когда отпоили-успокоили его хмельным отваром, услышали тихий шепот:
— Приказываю быть походу…
Он начался в январе нового 1564 года от Рождества Христова. Минувшей осенью отошел в вечность митрополит Макарий, и что-то тревожно-неопределенное затаилось в царском сердце. Всеми фибрами телесными он ждал новой беды — намного большей, чем смерть своего опекуна и покровителя Макария… или даже чем недавнее поражение Курбского в Ливонии. Дворовые чернокнижники и ворожеи советовали до следующей осени не начинать значительных дел, но царя не уговорили. Он был люто оскорблен Литвой, потому, ощущая свою во много раз превосходящую силу, загорелся местью.
Однако сердце тревожно ныло, и царь решил остаться в столице, а военную кампанию доверил возглавить полоцкому наместнику Шуйскому и опытному князю Петру Серебряному. Первому приказывалось выступить из завоеванного Полоцка с полками в двадцать тысяч, второму — из Смоленска, где соберутся около пятидесяти тысяч ратников. Войско должно соединиться под Оршей и дальше идти на Менск, Новаградок и Вильно.
Оскорбление за прошлое поражение жгло сердце и гетману Николаю Радзивиллу. Его воины, закаленные не одной кровавой баталией, шли с ним либо за смертью, либо за победой. У многих из них московиты забрали-убили родных.
Однако силы были неравными, и Николай Радзивилл, имея от разведки достоверные сведения о количестве и перемещении противника, решил не позволить слиться его двум отрядам. С небольшим загоном в несколько сотен лучших всадников он атаковал авангард Шуйского, но после напряженной сечи отступил. Одержимые успехом и желанием пленить литовского гетмана, получившего прозвище Рыжий, московиты бросились в погоню, оголив тем основную колонну. На реке Улла у Чашников на нее и обрушилась лавина литовского войска.
Сначала на стрельцов, не успевших выстроиться в боевые порядки, налетели крылатые гусары. Как небесные карающие ангелы, они срывались с противоположного берега и разрезали длинную колонну неприятеля. Затем из засады загрохотали пушки, в бой вступили пищальщики и другие пехотинцы. Московиты потеряли полководца и отступали в большой панике, спаслись только сдавшиеся в плен.
Но из-под Смоленска вышло еще большее войско, и Николай Радзивилл не полнился победной радостью.
— Не гоже лить кровь христианскую! — сказал он своим гетманам и тысячникам. И те предложили новую хитрость: послали по смоленскому пути своих гонцов, якобы в Вильно и Менск, с письмами о быстрой победе над Шуйским и решении войска Радзивилла немедля идти на полки князя Серебряного. Гонцов пленили московиты и нашли у них гетманские эпистолы. «Основные полки Сигизмундовы пусть тоже встречают неприятеля под Оршей, ибо с армией полоцкого наместника Шуйского навсегда покончено», — приказывалось в них, хоть под началом Радзивила уже не было ни основных полков, ни даже запасных.
Однако эпистолы сделали больше, чем пушки и мечи — они охладили боевой пыл врага. Князю Серебряному уже не с кем было соединяться под Оршей, потому он, чтобы сохранить силы и не оголять западные границы, вознамерился возвращаться назад. А тут — ночная атака, пушки, всадники с огненными пиками и крыльями-ветрилами за спиной... Наспех укрепляя оборону, основная часть московитов, бросив обозы, отступила в Смоленск.
Вильно приветствовало победителей и их гетмана Николая Радзивилла, который въехал в Острую Браму на белом коне князя Шуйского, снял узду — и бросил под ноги горожанам.
Москва же встретила горькое известие о поражении своих полков. Царь в тот вечерний час пировал с приближенными боярами в главной трапезной. Гонца выслушал спокойно, даже и бровью не повел — только лицо побелело. Выпил «Петерсимоны», обошел вокруг стола и налил из большого кувшина каждому, поломал хлеб и разложил на серебряной миске, долго смотрел на нее, а потом, диковато улыбнувшись, однотонно заговорил:
— Отдают иуды тело мое на заклание. Измена сквозь стены сочится. А посему, друзи мои немногие позванные, пейте кровь мою, ешьте тело мое, — он показал рукой на вино и хлеб. — И пусть сбудется, что суждено...
Присутствующие молчали, а в Ивановой груди начинала разгораться ярость. Он попытался притушить ее, заходил, мотая головой, вдоль стены, но глаз выхватил блеск копья в руках одного из стражников — и царь с минуту зачарованно гладил прохладное острие, а затем вырвал копье, поднял над столом и прошептал:
— А пока наша кровь на Голгофу потечет, посмотрим, какого цвета она у наших супостатов! На охоту!
Бояре вскочили и заспешили за царем — через тронный зал и коридор, ко входу в подземелье, в подвалах которого уже год гнили десятки литовцев.
— Режь отступников! — закричал царь и вогнал копье в чье-то почти безжизненное тело. Глянул на пособников, скривился: — Слышите, какое зловоние от них исходит?!
Пока бояре добивали пленников, царь через ржавую решетку смотрел в наполненные диким ужасом глаза очередной жертвы. Он покрутил копье, погладил — и бросил в узника, но тот неожиданно метнулся в сторону и перехватил копье. Бедолага настолько исхудал, что некогда тесные веревки легко сползли с костей, обтянутых кожей. Его сил еще хватило, чтобы направить острие в царя, но неотступный Матей выпрыгнул вперед — и копье пробило ему ладонь, войдя в сердце.
Узника посекли на куски и немного успокоились.
— А сейчас — наверх! Выпьем за будущие победы да оплачем друга нашего! — с дрожью в голосе молвил царь и, поцеловав еще теплый лоб Матея, сунулся к выходу.
6.
Ясным весенним утром она спешила в метро.
Из припаркованного возле подземного перехода черного джипа навстречу ей вышел улыбающийся Жокей:
— Екатерина Александровна?..
— Я... — удивилась девушка.
— Здравствуйте. Имею честь и радость сообщить, что вы выбраны лицом нашей столицы и приглашены... в центр красоты при Министерстве культуры, — Жокей снова нежно улыбнулся и, мягко взяв Екатерину под локоток, повел ее к машине, но она отвела его руку:
— Подождите... Я же никуда не подавала заявлений.
Лицо Жокея стало серьезным и ответственным:
— На то оно и государство, чтобы заботиться о самом дорогом, что в нем есть.
Этот пафос еще больше встревожил Екатерину.
— И что я должна делать в этом… центре красоты? — с недоверием, часто моргая, спросила она.
— Ну... Чисто представительские функции... Модельное агентство, телевидение, церемониальные торжества. Скажем, первым лицам страны подать кофе. Встретить кого с хлебом-солью... — Жокей напустил на лицо игривость. — Да что мы обо всем на улице говорим? Приглашаю в гости! — Он кивнул на машину. — Подъедем, сами увидите...
Екатерина внимательно изучила глаза Жокея и озорно ответила:
— Знаете, Центр Красотович... Простите, не представились... Не хочу показаться банальной, но с незнакомыми мужчинами на чужих машинах я не езжу.
— Простите, заговорился на радостях... Я — Виктор Викторович. Вот моя визитка. Там телефон и адрес. Ждем вас в любое удобное время. Только непременно сегодня или завтра! Договорились?
Екатерина пожала плечами.
— Не забудьте, пожалуйста. Жде-ем! — Жокей интеллигентно склонил голову и, еще раз улыбнувшись, быстро пошел к машине. Проследив, как Екатерина спряталась в подземном переходе, он сильно прикусил губу и завел двигатель.
Через два дня он сам позвонил девушке на мобильный:
— Екатерина Александровна, приветствую вас! Это Виктор Викторович... Что случилось? Почему не приехали?! У вас все хорошо?
— Спасибо, хорошо...
— И...
— Как бы попроще выразиться… Не заинтересовало меня ваше предложение.
Жокей отодвинул трубку, проглотил терпкий комок, вздохнул и заговорил как можно мягче:
— Я вас понимаю. Подобное предлагают не каждый год и не каждому... Но подумайте хорошо! Вот-вот окончите университет, и что — ехать в глухомань по распределению? А тут — столичная прописка, жилье, неплохой заработок… Популярность, влияние, слава... — в голос с каждым словом прибавлялось медового елея. — Повторяю, работа около первого лица страны. Тысячи тысяч на вашем месте не задумывались бы.
— Виктор Викторович, задумалась не только я, но и мой жених. В июне у меня свадьба.
Жокея как ошпарили. Он ощутил, как по спине побежал пот.
— Алло, вы меня слышите?
— Да-да… — с силой выдавил помощник.
— Скажите, а под первым лицом вы... имеете в виду президента? — было заметно, что Екатерина тоже волнуется.
— Вы правильно поняли.
Еще через несколько долгих секунд молчания в трубке послышался дрожащий девичий голос:
— Так вот... Простите, конечно, но этот человек мне очень… неприятен. И мне тяжело с ним даже в одной стране находиться… Прощайте!
К вечеру у него было полное досье на Екатерину Беловскую. Спецслужбы постарались, и Жокей не без интереса узнал, что ее воспитывала мать — учительница языка и литературы. Аттестаты, отметки… Характеристики, университет... Круг интересов... Поэзия, классическая музыка... Полмесяца тому подала в загс заявление с... Юхансоном, первым секретарем посольства Финляндии, известным своими симпатиями к оппозиционным структурам. По оперативным сведениям, через его руки ведется финансирование многих антигосударственных проектов. Разумеется, все прикрыто заботами о правах человека и свободном обществе.
Жокей глотнул давно остывший кофе и набрал номер Бадакина:
— На месте?
— Да, а что? — зевнул тот.
— Будь готов подскочить к хозяину. Тут попадалово на наши головы...
Терпеливо, как сквозь дремоту, президент выслушал доклад помощника и гневно треснул кулаком по столу — так, что даже ночная лампа дрогнула и погасла.
— Я их научу! Я им покажу и загсы, и права, и свободы! — скрежетнул он сильными зубами и приказал: — Утром с председателем госбезопасности — ко мне! С планом оперативных мероприятий! По полной программе!
Помощник понятливо кивнул и, предчувствуя нехорошее, медленно попятился к двери. Президент нервно пощелкал выключателем, а затем схватил лампу и, выдрав из розетки, швырнул в оторопевшего Жокея: — Долиберальничались! Теперь ноги о нас вытирают!..
К следующему вечеру были задержаны все активисты оппозиционной Народной лиги, в ее центральном и региональных офисах прошли обыски. На десятки партийцев, включая председателя Роликова, возбудили криминальные дела. Столичный изолятор заполнили «политическими». Указом правительства были лишены лицензий все частные типографии, конфискованы тиражи независимых газет — их и так было только две. Юхансона же обвинили в шпионской деятельности и попытке организовать в стране антиконституционный переворот. Дипломату вручили соответствующую ноту и обязали в течение суток покинуть страну.
Срочно отозвали из заграничного отпуска Ивана Федоренкина, и лично председатель Службы госбезопасности Бадакин проинструктировал его о необходимости создания серии телефильмов о вражеской деятельности западных разведок и их дружбе с местными коллаборантами-оппозиционерами.
— Должен постараться! В твоем распоряжении вся компра, записи и средства. Ясно?
Лицо Федоренкина перекосилось. Телевизионщик нахмурился и задумчиво потер ладонью ребро стола, заваленного папками, дисками и видеопленками.
— Что?.. — насторожился Бадакин.
— Все понятно, — голос Федоренкина терял былую звонкость и уверенность. — Только этого недостаточно...
— Что?!
— Необходима поездка за границу, чтобы на месте доснять материал. Да и соответствующие сюжеты с нашими тамошними сторонниками записать...
— А-а... — успокоился Бадакин. — Так чего тягомотишься? Вперед! Времени, сам понимаешь, с комариный язык!
Есть ли тот орган у комара, нет ли — службист не имел представления, но если б знал в ту минуту, что приближенный и обласканный хозяином тележурналист спешно полетит за границу и там попросит политического убежища, плюнув на все... если б знал, то лучше бы перед той встречей свой язык проглотил!
VII.
У дьяка Висковатого были для царя две новости. Одна скверная, вторая тоже неизвестно во что грозила вылиться. И обе надобно было довести до царских ушей. Но как, если царь уже неделю никого не подпускает к себе, а через своего нового постельничего десятками раздает указы о высылках и казнях?
— Бросают иуды тело мое на заклание... Измена сквозь стены сочится, — монотонно повторял Иван и велел схватить нового воеводу. — Не пошел сам я в поход на Литву, так они меня Сигизмунду за тридцать сребренников заложили...
Дождавшись царя в трапезной, Висковатый, превозмогая одышку, выговорил долгую тираду во славу хозяина, а когда тот указал на стол, с трудом поднял с колен свое отекшее тело и поведал о прибытии в ливонский Дерпт послов от шведского короля Эрика.
Царь уронил жареное гусиное крыло и, перестав жевать, внимательно уставился в глубокие, как у дикого кабана, глаза руководителя своего посольского приказа.
— Да, государь, приехали искать с великим московским царем согласия и мира, — затараторил Висковатый. — Стало известно, что Дания и Польша приложили печати свои к мирному соглашению, вот шведы и всполошились...
— И чего хочет Эрик? — царь жадно запил мясо вином и сжал худые челюсти.
Висковатый отклонился к спинке, и кресло жалостно проскрипело под его тяжестью.
— Он отказывается от Ливонии, за исключением Ревеля.
— И что взамен?
— Насколько я знаю, ничего. Помимо, разумеется, дружбы с тобой, великий государь.
Иван хмыкнул, подтянул к себе жбан с вином — и вдруг словно просветлел.
— Ты… это... Немедля ответь, что московский царь зла не держит и желает принять шведское посольство, но перед тем напоминает королю Эрику... — в зрачках блеснули озорные огоньки, и голос царя смягчился, — напоминает о выдаче непокорной польской королевны Екатерины.
— Будет сделано, — Висковатый поднялся и, склонив голову, задом попятился к выходу, но царь остановил:
— Смотри, снова дело с Екатериной какому-нибудь Сукину не доверь! А то в другой раз я вас обоих в один гроб положу...
Висковатый застыл с открытым ртом, а Иван склонился над столом, подпер лоб рукой и завершил:
— Там, в Дерпте, Ванька Курбский от гнева моего киснет. Поведоми ему, что высохла обида моя — и доверь ему Екатериной заниматься.
Висковатый едва не обмер, в глазах проплыли красные круги... Вот она — новость вторая, которую вынужден он был сообщить, но так и не осмелился!
— Государь... — выдавил он, почувствовав, как на спине выступил холодный пот. — Доложили мне сего дня, что Курбский исчез…
— Что?!
— Нет его в замке... И еще двенадцать бояр с ним...
Ивана как обдали кипятком. Недоуменно мигая, он заговорил словно сам с собой:
— Может, на охоту подался? Как это — нет?..
— Говорят, что переодетым через стену цитадели перелез. Золото и деньги забрал... — Висковатый с трудом находил слова. — Жена с сыном остались...
Иван отрешенно встал из-за стола. Продолговатая голова затряслась, ее жирные пряди вдруг показались Висковатому змеями.
— Надо было его вместе со щенком Адашевым на кол посадить! Еще когда сыну моему крест целовать отказался... — Иван качнулся, схватил жбан с вином и швырнул в Висковатого. Попал в живот; красная жидкость плеснула на лицо и бороду, взорвалась на каменном полу липкой пеной и стекала по черному кафтану. — Вон, иуды! И я из Москвы съезжаю! Подавитесь моей короной! — Царь сорвал с себя шапку и снова бросил в онемевшего Висковатого.
В конце 1564 года Москва неожиданно осталась без хозяина. Иван IV, сложив свой скарб и царскую казну, отобрал сотню бояр и тысячу стрельцов и отправился в Коломенское, где свирепая буря и пьяные оргии задержали его на две недели. Затем были остановки в подмосковных Тайнинском и Троице, лишь после обоз добрался до невеликого Александровска, с северной стороны Владимира. Там, приказав расстраивать Александровскую слободу, царь решил зимовать и послал в Москву к новому митрополиту Афанасию гонца с письмом. Висковатый еле успевал записывать холодной рукой:
— Отяжелела душа моя от множества злодеяний, совершенных воеводами и людом служивым. Опалился я на все и на всех в государстве своем — от первого до последнего человека. Провозглашая опалу свою, сообщаю тебе, владыка, что решил я сложить венец, оставить царство свое и поселиться там, где Бог покажет...
Назавтра в Москву повезли и второе послание — к купцам и всему православному люду — о том, что царь на них не гневается и никакой обиды не держит.
Москва неожиданно погрузилась в непонимание и неопределенность. Взволновался народ, всполошилось боярство. Купцы просили сообщить царю, что готовы пожертвовать своими пожитками ради общего спокойствия.
И начали искать виновных, а над некоторыми — и вершить самосуды. Уже не первый месяц настраивал московских священников против царских печатников Иван Висковатый, с первого знакомства с дьяконом Иоанном почувствовавший от того угрозу — чем же тогда он, глава царского летописного дела, будет со своими писцами заниматься? Висковатый распускал по Москве и окольным монастырям слухи о множестве ошибок в недавно выданном «Апостоле» (словно их было меньше в книгах рукописных), а самих печатников называл чернорукими еретиками.
Начинало вечереть, когда к типографии пришли священники с несколькими десятками простолюдинов. Петр Мстиславец с Гринем только успели разобрать формы и мыли их на задворках. По ручью сбегала на снег, покрываясь легким паром, черная от краски вода.
— Смотри, народ православный — в их книгах черт руки умыл! — показал на воду кто-то из сухощавых людей в рясе. — Нечистивцы! И дела нечистые совершают! Гони вон иезуитов!
Часть толпы ворвалась в типографию и в кровь избила ошеломленного Иоанна. Тот же сухощавик схватил кипсей и, крикнув: «Вот эта черная дьявольская кровь, которой они мажут святые слова!» — стукнул им об верстак. Пособники уже воротили наборные соты и разбрасывали оттиснутые страницы. А у дверей слышалось:
— Жги волхвов-бесов!
— Смерть лютым еретикам!..
И вмиг, как заранее подготовленный, вспыхнул огонь. Толпа спешно выбила несколько окон и высыпала наружу. С бумаг пламя вскочило на смольные стены, застилая двор дымом. Пока Мстиславец с Гринем вытягивали бесчувственное тело Иоанна, пламя добралось к потолку и начало лизать крышу...
Через несколько дней к Иоанну — печатник только-только стал на ноги — пожаловал Силуан. С его уставшего большого лица не сходила тревога, хотя глаза сияли одержимостью и тайной.
— Сочувствую тебе, брат, и хвалю Бога человеколюбивого, жизнь тебе сохранившего, — он присел у кровати и попросил хозяйку, жену Иоанна, принести воды. Когда дверь притворилась, прошептал: — Все, что ты мог тут сделать, сделано. Собирай, что осталось, да съезжай отсель. Отправляйся в Литву — там такие, как ты, нужны. Благо — снег, дорога санная есть[11], — Силуан понизил голос и заговорил возвышенно: — А с собой, попрошу любезно, вывези вот эту книгу... — он вынул из-под полы длинного кожуха переплетенный желтой кожей манускрипт и, проведя ладонью по сияющим камням инкрустации, словно прощаясь, положил его на подушку. — Думаю, до Киева вначале довезти надобно... — Вошла хозяйка с корцом в руках; Силуан без охоты глотнул воды, поблагодарил и добавил: — Там при Святой Софии еще от Максима Грека должны остаться ученики-монахи. Может, они еще не перестали называться иоаннитами — так им и молю передать книгу. И наказ Максима, дабы на Патмос доставили...
— Это византийское Евангелие?! — удивился Иоанн. Показалось, даже вспыхнули глаза под долгими веками-мотылями, а синяки на лице прояснились. — Как раздобыл?!
— Царь, сам знаешь, уехал. Собирался спехом. А его холопам деньги не лишними показались...
— Молодец!.. — Иоанну не хватало слов. — Только... А почему бы тебе самому с нами не податься?
— А найдется место?
— Как тебе не стыдно говорить такое?!
— Ну, спасибо, ну и хорошо, — улыбнулся успокоенный Силуан, и его куцый нос словно растянулся. — А то я, знаешь, все равно тут не имею крова. — Подмигнул и пояснил: — Много денег запросили за книгу, так довелось свой дом продать...
В безвластной Москве множились покражи и поджоги, и богатейшие из бояр упросили митрополита поехать в Александровскую слободу, дабы умолить царя сменить гнев на милость и возвратить его на трон. А когда понадобится, наказывали, пускай судит тех, на кого опалился.
Это была новая победа Ивана — не над врагом-супостатом, а над своим народом. Самовластно он ввел опричнину, разделив страну на две части. Там, где сохранялся старый порядок, где управляли воеводы, наместники, судьи, кормленщики с вотчинниками, над всеми Иван поставил своих бояр. Другой частью он наделил себя. У бывших хозяев-наследников отбирались земли и люди, а самих — если оставались верными царю — переселяли в другие вотчины.
Изменялись судьбы народа и страны.
Изменялись и судьбы слов. Слово «опричнина» происходило от старомосковского «опричь» (помимо). В прежние времена так называлось имущество, отошедшее после смерти мужа вдовам. На пирах так называли угощения, которыми хозяин хотел полакомить избранных гостей. Опричниками звались крестьяне, поселившиеся на монастырских землях. При Иване Грозном же это слово и однокоренные с ним приобрели совсем иное значение...
Первые дни после возвращения в столицу царь выглядел спокойным. Не новые ли сны были тому причиной — соблазнительные сны о таинственной королевне Екатерине? Чудесным образом меняя лики, она улыбалась и летала над царем. А он снова и снова пытался схватить за нежно-белесую руку... и уже ощущал ладонью ее перстень и дрожащие пальцы, как Екатерина вдруг превращалась в белую лебедку.
Назавтра Иван запретил подавать на стол жареных лебедей и приказал Висковатому лично отправиться к шведскому королю Эрику XIV с вопросом о польской королевне.
Она, Екатерина Ягелонка, после венчания с братом Эрика Юханом была уже герцогиней финской, но ничто — ни женитьба, ни святость чужих уз, ни желание самой женщины — не могло охладить распаленного новыми снами и грезами похотливого царя. И Иван не жалел Эрику ни щедрых подарков, ни богатого обещания обменять Ливонию на Екатерину.
Некогда король Эрик и сам противился связи своего брата Юхана с сестрой Сигизмунда, усматривая в том опасность в виде самостоятельной Финляндии. Но как теперь шведскому монарху выдать свояченицу?!
— Остерегайтесь! Юхан с Польшей плетут сговор! — нашептывал шведским придворным посланец Висковатый. Те пересказывали все у трона, и нервы короля Эрика не выдержали — с небольшим войском он пленил Юхана и направил его с женой в замок Грипсхольм.
Передать царю эту новость приехал сам Висковатый, а с ним — и шведский посол. В феврале 1567 года в Александровской слободе было подписано союзное соглашение между Стокгольмом и Москвой.
— Вы будете иметь от меня и помощь в примирении с Данией, а когда понадобится, и военную поддержку, — обещал повеселевший царь. — Только вышлите мне герцогиню Екатерину. И помните, — предостерег он посла, — если с ней по дороге что-либо случится, я разорву соглашение.
Но заносчивая Ягелонка восхотела разделить судьбу своего узника-мужа!
— Я не буду более ничьей женой, даже если вы сделаете меня вдовой! — твердо отвечала она.
Юхан за «измену интересам монархии» был приговорен к смерти и с лета 1563 года вместе с женой находился под стражей. Однако шведский король Эрик никак не решался дать последний приказ — убить своего брата. Герцогиню же Екатерину не сломали ни леденящие угрозы, ни медовые обещания. А тут еще император Максимилиан в своем манифесте осудил шведов как нарушителей мира и союзников варварского московского государства. И последние предупреждения высказал Сигизмунд, собираясь объявить войну за свою поруганную свояченицу и ее детей: в заключении Екатерина родила двух дочерей и сына, названного в честь дяди-короля Сигизмундом[12]...
Иван был опьянен казнями и кровью, но мысли о недоступной Екатерине трезвили его. Он переступал через трупы и жертвы, а ее образ представлялся светлым ангелом-спасителем. Во имя его он не пожалел бы и своей жизни
— Этот коронованный купеческий сын может испугаться, — сказал Иван об Эрике. — Прижмите его и без Екатерины не возвращайтесь! — и отправил в Упсалу новых посланцев. Прибыв на место, они уже готовились даже выкрасть-выкупить непокорную полонянку, как случилось непредвиденное — «коронованный купеческий сын» предстал пред ними с помутневшим рассудком! Более того — он приказал освободить Юхан
Несколько дней менялись у королевской кровати врачи, все они констатировали: король утратил рассудок.
Двор охватило оцепенение, а Эрик совался по длинным коридорам и, осознавая себя узником, молил брата о прощении…
В сентябре 1568 года новым шведским королем был объявлен Юхан, а его верная жена Екатерина надела на себя корону северной империи.
И сотнями полетели на московской земле холопские, боярские и княжеские головы. Царь возвратился из Александровской слободы — и начались на Красной площади прилюдные пытки. Жгли и грызли человеческую плоть жаровни и клещи, ждали жертв котлы с кипятком и виселицы. Народ московский за несколько дней насытился страшными зрелищами и прятался по своим закуткам, и царские глашатаи вынуждены были созывать их: «Не бойся, люд православный! Справедливый царь токмо предателей своих казнит!»
И понемногу опять стягивались на площадь зрители, и царь приказывал начинать казнь новых изменников — посланца-дьяка Висковатого, казначея Фуникова и прежнего любимца Басманова. Первого подвесили за ноги и порубили долгими ножами. Второго обливали то кипятком, то ледяной водой, пока мясо само не начало отставать от костей. Басманова же царь приказал собственноручно убить своему сыну — царевичу Федору, наследнику московского престола.
Иван отстранил от себя все старое окружение, приблизив безродного мужика, за которым наблюдал еще во время отъезда из Москвы — Ваську Грязного.
— Бояре привыкли предавать своего хозяина, — сказал ему царь, позвав к столу. — И не только бояре... Вот был при дворе моем собака Адашев. Каким-то образом поднялся до служивых... Мы же взяли его из гноя и сравняли с вельможами... — царь вздохнул и завершил: — Смотри же! На вас, простых православных мужиков, у меня последняя надежда осталась — на верность вашу и преданность.
— Ты, царь, как Бог для нас, ведь из малого человека большого можешь сделать! — потрясенно выкрикнул Васька Грязный и бросился целовать царю ноги.
Сложил свой белый клобук митрополит Афанасий, испустил дух в руках приближенного Иваном служника Малюты Скуратова митрополит Филипп — а гнев царский никак не остывал. Его вновь воспаляли слова доносчиков — и тогда истреблялись уже целые города. Выгнали из Новгорода вора и бродягу Волынца, а он, захваченный разъездом опричников, поведал о страшном сговоре своих обидчиков, новгородских жителей, с королем Сигизмундом. Якобы, божился, и соглашение то с подписью новгородского митрополита Пимена видел, и знает, что ту грамоту за иконой Божьей Матери в храме Софии прячут
Так было или нет, но Иван сам возглавил опричное войско — и дорогу от Клина до Новгорода превратил в пустыню. Передовые сотни ворвались в Новгород и к приезду царя выстроили всех священников и дьяконов на правеж.
В город в сопровождении полутысячи стрельцов прибыл царь с сыном. Он возжелал смерти изменникам и приказал митрополиту Пимену служить обедню в Святой Софии. Затем весело пообедал у владыки — и митрополита с челядью, сорвав одежды, бросили в подвал. На второй день волна пыток настигла и горожан. Их сотнями мучили огнем и железом на рыночной площади, а затем гнали к Волховой круче, не замерзающей зимой, и топили. Детей привязывали к матерям, мужчинам, дабы не сопротивлялись, скручивали за спины руки. До вечера по реке на лодках шныряли — будто страшные хароны — опричники и копьями добивали живых.
Грабились монастыри, и осатаневшие царские всадники в черных монашеских рясах преданно присягали своему благодетелю:
— Мы соорудим в твоей, царь, слободе монастырь праведный! Ты — наш игумен! Скуратов — пономарь при тебе!
Привязав к седлам собачьи головы и метлы, они еще день разъезжали по опустевшим селеньям — и вместе с царем направились к Пскову, где встретили на заснеженной дороге босого юродивого, закутанного в вонючее тряпье.
— Хочешь? — тот достал из-за пазухи кусок мяса и протянул Ивану.
— Пост! — крикнул царь.
— Пост?! — вытаращил глаза юродивый. — А мясо человеческое тебе кто разрешил жрать?
Проворный Скуратов уже поднял над беднягой саблю, но царь крутанул головой:
— Пусть идет Божий человек своей дорогой.
И приказал возвращаться в Москву.
7.
Надорвалось в нем что-то — и сам понимал, но связывать ни сил, ни желания не было. Сколько ж можно: ни дня без хлопот, доносов, разборок! И чем дальше, тем больше. А тут еще крысами с корабля побежали те, кому более всех доверял, кого учителями или учениками считал.
Заяц... Видите ли, не угодил ему, не послушал! То символика ему не та, то газету не ту прикрыл. Сиди, казалось, на старости… как у бога за пазухой, отдыхай, лечись, радуйся своим последним райским годам! Нет же! Невтерпеж ему учить-поучать, будто за жизнь не научил... Нашел вечного студента! Угрожать он еще будет... Вот и копайся теперь, помидоры на лоджии выращивай!
Или взять еще этого змееныша-тележурналистика... И то ему, и это! С рук же кормился... Хрюкай спокойно, казалось бы, у корыта...
Но не это главное… Доложили об итогах последних засекреченных опросов — рейтинг его до плинтуса опустился. Этому электорату, хоть в паркет разбейся, начали импонировать песни роликовых и их подпевал! А ситуация такова, что хватит и одной искры… Рабочие с касками на мостах уселись. Пенсионеры-мухоморы памятники старым вождям облепили. А эти сонные свиньи из Думы импичмент готовят! Взять бы — да шилом в бок...
Спецслужбы хорохорятся: то один вариант, то другой предложат — а у него неожиданно руки опустились. Сколько ж можно! Какой это пуп выдержит… Даже после той чертовой операции...
Окончательно сорвался он после истории с той чернявой студенткой Екатериной. Раньше выпивал только символически, а тут пошло-потекло — коньяк, виски, текила… Всю осень в Воронихе гулянки. И долгоножки-манекенщицы, и грудастые певицы, и продвинутые институтки... Жокей ежедневно совался с неотложными проблемами, а когда попал на более-менее протрезвевшего президента, услышал безапелляционное:
— Да пошло все на хрен! Устал я — и ухожу. Государственное содержание мне до смерти гарантированно, а вы все, коль не нравлюсь, ищите лучшего! Посмотрю, что получится...
И пока что не получалось ничего. За президентом, почуяв что-то неладное, подались двое наиболее ушлых нефтегазовиков, а затем и все правительство. Понятно, не оставили свои делянки специалисты в штатском, которые бывшими, как известно, быть не могут.
Власть перешла к Думе, но ведь законодатели — не исполнители! Захромала вся государственная система. Начались перебои в добыче и поставках нефти и газа, которые привели к громадному недобору налогов в бюджет. Акции упали. На рынках — обвал. Подскочила инфляция. Снова задержки с выплатами зарплат и пенсий, неразбериха и пустые полки.
Экономисты Народной лиги трибунили, что во всем виноват прежний режим, добивший страну, что-то плели о банкротстве Центробанка, о предыдущих безмерных кредитах и отсутствии золотовалютных запасов. Но от тех признаний в людских ртах слаще не становилось. Народ все чаще вспоминал Мороза, и под Новый год тот… возвратился — на белом коне-олене и с декретом о восстановлении своих полномочий, во имя спасения нации и вывода страны из экономического коллапса.
В тот же день президента поддержали и спецслужбы, и полиция, и армия, которых без него начали уже сокращать. В целях наведения надлежащего порядка была распущена Дума, а несколько десятков несговорчивых депутатов поучили коваными сапогами и выбросили из здания
— Никто из них не должен избраться в состав нового парламента... — как уже о решенном бросил президент во время ночного совещания с силовиками. — Помимо тех, кто оставил Думу сразу после моего ухода... По столице и регионам — тотальный контроль! В особенности — за неблагонадежными… Задействовать все силы и средства! И еще... Утром разблокируйте секретный стабфонд. Надо срочно выдать народу пенсии и зарплаты. Лично проверю! Все.
Каменная ночь поглощала город. Высокие стены, которыми руководители столетиями отгораживались от своего народа и которые новые власти каждый раз раскрашивали в свой цвет (как, впрочем, и резиденцию), — те стены неутомимо отбрасывали на пустые заснеженные улицы длинные тени. Апельсиновая луна зацепилась за колокольню Архангельского собора и дрожала на морозе. Словно рапортуя ей, робко мигали желтыми зрачками светофоры. Завоет там-сям сирена, протарахтит, взбивая снежную пыль, БТР или пронесется затемненный автобус с военнослужащими — и снова тишина, снова только промерзшие тени.
После совещания президент прошел через комнату отдыха к личному лифту.
— Иван Владимирович, может, что еще прикажете? — послышался за его спиной мягкий голос вездесущего Жокея.
Президент медленно повернулся, блеснул утомленным, но, чего не было давно, довольным взглядом, уголки губ поднялись в неожиданной улыбке. От бывшего омоложения — ни следа: снова мешки под глазами, морщины. Кожа пожелтела, а глаза — как желчью налитые. Кивнул-подозвал пальцем — и, вытянув шею, медленно прошептал помощнику в ухо:
— Лично, сказал, проверю... Все.
Затем спокойно шагнул в лифт и нажал кнопку «Х», которой в других лифтовых кабинах администрации не было. Только эта шахта могла поднять своего пассажира прямиком к вертолетной площадке и бронированному секретному залу.
Свет в прямоугольной зеркальной комнате с выходом к двум коридорам включился автоматически — как только остановился лифт.
Цифровой код, приставленный к экрану зрачок — и толстые двери сдвигаются. По всему большому залу поочередно вспыхивают электрические факелы. Пока президент шагал вперед, в центре на потолке загорелась пятиугольная люстра, высветив старый белый трон.
Новый хозяин очарованно погладил вырезанные из слоновой кости подлокотники, спинку, фигуру золоченого византийского орла, но не сел, а подался вглубь, где — словно в заалтарье — на черном мраморном пьедестале лежала черная рака-гроб с останками царя Ивана Грозного. Лежала уже шесть месяцев — с того дня, когда он решил было уйти. Уйти — чтобы возвратиться. Возвратиться — как утреннее солнце, как птица Феникс, как и эта мумия прежнего царя, некогда эксгумированная перед реставрацией Архангельского собора по нецерковному советскому приказу.
О той эксгумации ему, еще зеленому студенту, рассказывал в колоритных деталях профессор Заяц. Тогда он, комсомолец, воспринимал все как потешные басни. Да и позже не до спиритизма было, пока что-то не загорелось, не переключилось в его голове.
Он прокосолапил к пьедесталу и, ощущая во всем теле пьянящую дрожь, прилип помутневшими зрачками к пустым глазницам серо-пепельного череп
VIII.
Нет худшего наказания, нежели видеть крах совершенного тобой. Видеть, как за несколько лет прахом идут жизненные потуги, испепеляя оставшиеся силы и нервы.
Об этом еще не догадывались даже лукавые бояре, не говоря о войске и служивых; еще державными заботами ежедневно наполнялся тронный зал в Александровской слободе и грозно опирались на каменные колонны тяжелые потолочные своды; еще роскошь ползла по громадным коврам от низких входных дверей — и каждый, какого бы рода-племени ни был, вынужден был в них кланяться царскому престолу; еще по-прежнему властно удерживали белый трон фантасмагорические фигуры античных зверей, и с левой стороны, как в приемной римского папы, rex sacrorum, величественно возвышался образ Богородицы, а справа — образ Спасителя; и еще не остыло храмное впечатление от нарисованных на стенах библейских сюжетов; еще переполнялись преданностью молодые телохранители в белых бархатных накидках с верными топорами на плечах. И по-прежнему во время его появления в длинном долматике с тиарой на голове и державным посохом присутствующими (то ли воинами, то ли монахами в высоких белых шапках-куколях и с золотыми цепями) овладевало рабское молчание, а он, властитель в самой силе, он уже предчувствовал, что всему этому настает конец.
И первыми оповестили о том — как страшные всадники Апокалипсиса — татарские гизалы, в один день захватившие Москву, оставив нетронутым один Кремль. Иван вынужден был прятаться в своей слободе, пока православная кровь лилась на улицах охваченной огнем столицы, а митрополит с духовенством ждали смерти, закрывшись в Успенском соборе.
Стены Александровской слободы были слабыми, и царь со своими опричниками-боярами перебрался в Новгород, недавно им свирепо разграбленный. Там летом 1571 года окаменевшему Ивану зачитали ханское послание: «Я разграбил землю твою и сжег столицу. Ты же не пришел защитить людей своих. А еще хвалишься, что царь московский! Знай: я не хочу богатств и земель твоих. Я, видевший дороги государства твоего, заберу назад Казань и Астрахань...»
Не подсластило царского отчаяния даже известие о смерти ненавистного Сигизмунда — только по-новому разожгло его думы о королевской сестрице. И приказал Иван привезти к нему в Новгород шведских послов, и опять заговорил с ними о Екатерине.
Ошеломленные потомки викингов напомнили, что Екатерина теперь — их королева, а шведское войско под предводительством ее мужа, короля Юхана, теснит московское в Финляндии, однако Иван сделал искреннюю мину: дескать, не слышал о том, и вообще, то безумные наговоры. А назавтра приказал передать королю Юхану следующую эпистолу: «Скажи нам, кто был твой отец… и как звали деда твоего?! Были ли они королями? Нам же брат — римский император! Твой отец Густав чей был сын? Разве не бывало в его правление, что наши купцы придут в его страну с салом да воском, а он наденет рукавицы и пойдет до самого Выборга щупать товары да торговаться?.. А Екатерину у тебя отбирать я не собирался, был уверен, что муж ее мертвый, хотел освободить ее и передать брату Сигизмунду, дабы обменять на Ливонию...»
После отъезда шведских послов царь велел привезти крестьянских девок, которых раздели догола и заставили ловить кур, озорно припугнув:
— А ту, которая не управится, будет ловить уже наш медведь!
Затем царь служил всенощную. Уставший и умиротворенный, отправился в опочивальню, где трое слепых старцев поочередно усыпляли его сказками.
Но сон не брал его возбужденный мозг, и снова из затемненного лампадного угла на полном галопе вылетали красные кони, били копытами пол и холодную кровать, крошили царское тело и исчезали в противоположной стене — чтобы через миг адского круга явиться вновь. На самом лихом скакуне сидела голая Екатерина и норовила бросить на Ивана не то узду, не то петлю. Он и сам намеревался прыгнуть к ней на теплый конский круп, да ноги обламывались, а за кроватью открывалась черная яма...
Врач приносил Ивану успокоительный отвар, и кони больше не возвращались, а пол в опочивальне выравнивался.
— Я — царь-игумен, мне не подобает жену иметь… — уговаривал себя в снах Иван. — Я со всей державой заручен...
Екатерина становилась символом несбыточности и муки. Во всех женщинах, начиная со второй жены Марии, он видел ее — норовистую Ягелонку, и искал ее, и мстил за нее, не нашедши, миловал-любил — и в одночасье карал за свои обиды. Марфу Собакину нашли мертвой через несколько дней после разгульной свадьбы. Анну Колтовскую приказал отвезти в монастырь. Марию Долгорукую выгнал из опочивальни после первой брачной ночи — ее в санях бросили в реку. И зажил с двумя — Анной Васильчиковой и Василисой Мелентьевой, которых привез откуда-то Малюта Скуратов; эти двое свирепо возненавидели друг дружку, чем, вначале повеселив хозяина, ускорили свои кончины.
«После них я подарю тебе, правитель, и целомудренную Литву, и гонорливую Польшу», — вспомнились слова Скуратова, коим так и не суждено было сбыться: верный пес Малюта сложил свою голову в Ливонии. В ответ Иван приказал сжечь живыми всех пленников — ливонцев, немцев, шведов, и снова задумался над обещанием слуги-покойника.
После Люблинской унии Литва с Польшей стали одним государством, Речью Посполитой, и ее трон-кровать по Сигизмундовой смерти был свободным.
— Лис не оставил потомства и не добился моей смерти, — рассуждал Иван. — А посему… не сделать ли мне жену его, державу его, своей наложницей?
Все чаще западные шпики и посланцы доносили ему: Польша с Литвой рассматривают возможность приглашения к себе королем московского царя. В первую очередь шептались о том простые ремесленники да мелкая знать:
— Приелися нам перемены да неразберихи. Пусть придет царь и разберется. Порядок своей строгой рукой наведет...
И новая мечта полонила Ивана: отходят Ливония и Казань — а я соберу земли славянские, и от мощи такого государства ослепнут враги!
В Москву приехал уполномоченный польско-литовского государства Воропай и, сообщив о смерти своего короля, поведал о предложении сенаторов искать его преемника в соседних землях.
— Многие желали бы видеть на том месте московского царевича, — загадочно подытожил он.
А Иван словно уже был к тому готов — спокойно пригладил сухонькую бороду, поднял свой острый нос и, под руку проведши длинноногого Воропая в трапезную, где устраивалось богатое угощение, заговорил довольным, любезным шепотом:
— А что... Некогда ж еще отец мой выступал претендентом на польский престол. Знаю, что в Польше и Литве обо мне распускают слухи, как о человеке злом и жестоком. Но на кого я зол? Супротив измен боярских, коих в твоем государстве нет, зол. Посему буду обходиться с вашими людьми иначе. И не токмо сохраню там старые привилегии, но и новые дарую. Для добрых людей — и я хороший! Им готов последнюю одежду отдать. — И царь неожиданно начал расстегивать расшитую золотом долматику, чтобы набросить ее на гостя.
Воропай, испугавшись, задержал царскую руку и неловко уточнил:
— Наш сенат разослал таких посланцев в несколько стран. И кандидатов будут выбирать принародно сенаторы и делегаты... Мне же поручено было разузнать о московских царевичах — Федоре или Иване.
Однако царь словно не понимал:
— Да, я имею двух сыновей, и они для меня — как глаза. Зачем же вы хотите сделать царя слепым? Да и вообразите, какое славное государство сотворится — как Рим с Константинополем, как новый Иерусалим! — И его глаза одержимо загорелись под поредевшими бровями. — А когда меня выберут польским государем, я готов подарить Полоцк.
Воропай вынужден был срочно раскланяться и уехать — сообщить об услышанном в Краков. А через месяц в Москву возвратился посол Великого Княжества Михал Галабурда и передал Ивану новые условия: возврат не только Полоцка, но и Смоленска, а также принятие московским царем католической веры. Если это оговаривается, царю немедля надобно выслать в Варшаву своих доверенных лиц в составе нового московского посольства, чтобы встречаться с сенаторами и избирателями и популяризировать перед выборами своего патрона.
— Что?! Я тебя правильно понял? — грозно глянул на посла Иван. — Я должен еще кому-то что-то доказывать? Если Речь Посполитая хочет себе королем московского царя — а я убежден, что большинство народу хочет того — пусть идет и челом бьет! Я же не бедная девка на выданье! — Он хотел еще сказать нечто возвышенное и торжественное, но неожиданно в голове блеснула Екатерина, загорелась обида на нее с покойником-братом Сигизмундом и на всех иезуитов-католиков... — В мире нет государей, которые могли бы похвастаться своим монаршим родом в два столетия. Я же — потомок римских кесарей! Посему выпрашивать лавры в свой венец не собираюсь, как некоторые немцы или французы, возьму подобающее сам. И короновать меня будет наш митрополит! — Царь с недоверием осмотрел Галабурду и, хоть опытное в дипломатии лицо того не отображало ни единого чувства, набросился гневно и свирепо: — А ты что улыбаешься? Что такой довольный?! Умнее всех?! Думаешь, не знаю, как ты, в Москве живя, письма от Сигизмунда врагам моим передавал да к измене их подталкивал? И отравой иуд-курбских услаждался? Может, и печатников моих подговорил убежать? Слыхал, они давече Ходкевичем да Радзивиллом пригреты… В людвисарнях[13] вражеских пушки начали лить... — и царь замолчал.
Галабурде не было чего говорить. Посольство начало прощаться, а Иван, уже добродушно мотая головой, довершал свой монолог:
— Никому нельзя верить: ни другу, ни жене, ни державе.
...Нет худшего наказания в этом мире, как видеть крах совершенного тобой. Видеть, как прахом идут жизненные потуги, испепеляя оставшиеся силы и нервы. И надежды...
В декабре 1575 года королем Речи Посполитой был избран неизвестный в Московии Батура, и вновь оскорбленный и разгневанный Иван решил вначале отомстить шведам да ихнему Юхану. Царь сам возглавил поход на занятые шведами эстонские земли, осадил важный стратегический город Пернау, некогда занятый Сигизмундом, захватил Леаль, Лодэ, Фикель, Гапсаль, разорил Эзель… И немного успокоился.
Однако после шестимесячной осады Ревеля под шведским напором отступило войско Шереметьева, а сам князь погиб. Спешно собрав под Новгородом новые полки, Иван снова повел их в поход — но уже не на Ревель, а на польские и литовские земли Ливонии. Мстя за свои обиды, он приказывал яростно пытать пленников — выкалывать глаза, сечь и жечь.
Перед неожиданным нашествием не устояли несколько городов-крепостей; начали доходить известия о том, что супротив московцев собирается большое войско Речи Посполитой во главе с самим королем Батурой. Но Иван еще не мог успокоиться: оставив полк стрельцов грабить Амераден, он с тысячей своих опричников подался в Венден и занял город. Гарнизон крепости не возжелал сдаться и взорвал себя. Тогда Иван велел посадить на кол одного из самых титулованных пленников — немца Вика. Улыбнулся, услышав его стоны, — и отправился в Дерпт, где встретился с полком стрельцов, присутствовал на казни жены и детей беглеца Курбского, а затем уехал в Москву.
Но и дома он не мог уняться. После долгого застолья средь ночи привел царь конный отряд опричников в Немецкую слободу, и сыновья Иван с Федором были с ним. Из сонных изб начали вытягивать и насиловать девок, а тех, кто кричал и противился, убивали на месте. Богатые иностранцы предлагали выкуп — деньги брали, но все равно били. Когда же бедолаги начинали молиться — им отрезали еретичные языки. Трупы складывали в кучи и поджигали. Младший царевич, не выдержав кровавого зрелища, сбежал — и только тогда отец приказал возвращаться в Кремль. И уже оттуда смотрел, как прахом идут жизненные потуги, как исчезает оплаченное десятками тысяч жизней, как разваливается собранное его царской рукой. Смотрел на осажденный королем Батурой Полоцк, как до того — на военные сборы западной соседки, и не мог освободиться от холодно-ядовитого предчувствия. И спасения не находил.
А Батура, неизвестный трансильванский князь, мадьярский самозванец и выскочка, коренастый недоросток, недоделанный рыцарь с низким лбом и большими скулами, совал длинный нос в его отвоеванную вотчину. И откуда на то сил да казны набрал? Вражье войско, как доносили шпики, насчитывало более двадцати тысяч — и все хорошо вооружены саблями, топорами, копьями и мушкетами. И не только поляки и литовцы, но и тысячи немцев и его единокровных венгров шли под флагами «Орла» и «Погони». И сотни пушек успел вылить, и громадный передвижной мост на челнах умудрился сложить, по которому летом через Двину как по толстому льду перешел...
Сильно болела голова, не хватало воздуха, а черные мысли не отступали от Ивана. «Не токмо враги внутренние державы моей, коих опричниной выжигал, погибели моей желают. Восстали и звери внешние — от татарского ханства до королей немецких, французских да императора Максимилиана. Не они ли Батуру на меня и натравили? И не они ли на то денег не пожалели[14]? Как бельмо им всем царство наше, как занозы им успехи наши. Оскалились, как некогда на Византию, царство Константиново. Бесчестят меня по всему миру...» — Иван еще раз посмотрел на оттиснутые в Батуровой походной типографии на польском, русском и немецком языках книжицы, в которых, как доложили ему, оправдывался поход на Московию и рассказывалось о лютом царе-кровососе.
— Не наш ли беглый дьякон-печатник Иоанн Батуре страницы эти тиснуть пособляет? — царь нахмурил лоб и осмотрел присутствующих бояр.
— Сказывают, что так и есть... А еще он литвинам придумал новые пушки-мортиры. Многоствольные, что под Полоцком били!.. Надо было самого добить, собаку! — в разные голоса прозвучал ответ.
В конце августа 1579 года Полоцк перестал быть московским. Войско Батуры заняло Сокол и ближайшие к нему крепости, князь Константин Острожский дошел с верными ему полками по Северской земле к Стародубу, оршанский староста Кмита своевал Смоленщину, а Иван с непослушным бедным войском, лишенным в опальные годы талантливых воевод, не имел сил на сопротивление.
Царь сбежал. Сначала в Новгород, затем в Псков. И послал литовскому канцлеру Воловичу и воеводе Радзивиллу письма о том, что отказался от защиты Полоцка, дабы не лить попусту братскую кровь. «Верую, что в свой черед и вы сделаете все, дабы на наших христианских землях восстановился мир», — мягко намекал Иван. И лютел до эпилептического припадка, прослышав, что за взятие Полоцка римский папа выслал Батуре освещенные на Рождественской мессе меч и копье, и тот безродный король снова сел на коня и выступил на Великие Луки.
Иван вынужден был послать Батуре в Вильно мирную эпистолу, в которой назвал короля братом. За мир предлагалась вся Ливония; если необходимо, Иван соглашался даже отказаться от своего титула, поскольку, как завершалось письмо, он — государь не со вчерашнего дня, а Богом помазанный царь — выше державы.
Но Батура рассчитал Иваново ехидство — и затребовал от Московии вместе с Ливонией Новгород со Псковом и Смоленском. И, получив ответ с оскорблениями, направился в Полоцк — готовить новую кампанию. А чтобы не проиграть войны словесной, королевская канцелярия подготовила Ивану ответ на сорока печатных страницах, ставший известным во многих европейских дворах. «Напоминаем тебе, кто повсюду хвалится своим Божьим избранием и родством с римскими императорами, что мать твоя была дочерью простого литовского предателя, а предки твои слизывали молоко с хвостов татарских кобыл. Кровь же свою ты навечно испакостил в поганых оргиях... И кура спасает цыплят своих, а ты, орел двуглавый, боязливо прячешься!»
А что ему, загнанному в ловушку между западом и югом, было делать — с пустой казной да без единого союзника? Отправил все полки на защиту Пскова, а сам с несколькими сотнями верных опричников спрятался в пьянках и загулах. И вымаливал хоть временного перемирия. И скрежетал зубами, когда витебский воевода захватил его крепости под Смоленском и Луками — и приказывал лучше отдать всю область, а не противиться врагу.
И всеми своими жилами и венами чувствовал он, что нет человеку на земле худшей кары, как пережить взлет свой поднебесный, изведав крах сотворенного! Сосед-король, о существовании которого он, царь и властелин большого земного пространства, еще несколько лет назад и не догадывался, способен отобрать у него не только добытое, но и затеянное — Батура жаждет доказать, что путь из Константинополя в Москву шел через Киев и Полоцк, что третьим Римом, как и новым Константинополем, является его, а не Московское государство!
Ивана добивали снаружи и изнутри, и страшные предчувствия уже не покидали царскую голову. Он разослал по всем монастырям грамоты с просьбой молиться за свои грехи — и сам возжелал монашеского пострига.
Царь искривился и стал меньше ростом. Некогда широкая грудь его ссохлась и выявляла тяжелое дыхание мученика. Нос изогнулся и заострился, глаза втянулись под потемневшие скулы. Он уже не брил голову, и на уши опадали тонкие седовато-рыжие пряди, сливаясь со скомканной бородой. Тело его распухло и покрылось незаживающими язвами. Ноги не держали, и царя вынуждены были носить.
Подобная слабость случалась еще несколько лет тому, но лекарь Бомелий снимал ее какой-то белой золой. Теперь же он сам — зола, поскольку был обвинен в крамольных связях с Батурой и сожжен. Новые же врачи ничем помочь не могли. Да и не доверял им царь, ел и пил только с рук нового выдвиженца Бельского, проверенного опричниной. Этот курчавый и не по времени растолстевший боярин с нервной краснотой на щеках и пухло-влажными губами в последние месяцы был с царем неотлучно...
Перед сном Иван восхотел посетить сокровищницу. Он долго рассматривал ценные камни и подарки, рассказывал, кто и когда их подарил или прислал.
— Этот алмаз — самый большой в мире. Он укрощает гнев и помогает человеку совладать с собой. Но я не дотрагивался до него... Теперь только... — Царь покрутил камень перед огнем светильни и положил назад в шкатулку. — А вот этот скипетр из слонового бивня, называемый «Единорог», отжалел мне некогда император Максимилиан. Послы говорили, что он лечит от тяжелых болезней, даже мор отгоняет.
— Так, может, государь прикажет его в опочивальню перенести? — предложил Бельский, и в его выпученных, как у рака, глазах блеснула надежда.
— Поздно... — царь облизнул губы и тяжело вздохнул. — Призывают отцы к себе. Да и Отец небесный вопросы готовит... Помнишь? — он поднял длинную голову и прошептал: — «Разошлось тогда известие меж братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему: «Не умрет», а только: «Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока прииду, что тебе до того?»... Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг[15]». — Вдруг царь встрепенулся, насторожился и, срывая до хрипоты голос, закричал: — Где книга?! Где книга?! По которой я перед Макарием читал, которая в Адашеву смуту у меня под головой лежала!..
Бельский недоуменно моргал красными глазищами, а царь аж задыхался:
— Где, спрашиваю, книга?.. Евангелие от Иоанна... рукописное... из Византии мне привезенное... где?!.
Ему сделалось дурно, лихорадочно задрожали руки и голова, в глазах потемнело.
— Худо мне... Худо... Несите отсель... В другой раз досмотрим...
Назавтра, 18 марта 1584 года, царю стало лучше. Вся дворня, архивники и писчий приказ испуганно искали византийский манускрипт, а Иван первый раз за неделю поел и велел нагреть баню. Позвал сына Федора — и долго поучал, как подобает управлять державой и народом: с благодетелью, любовью и добротой, избегать войны с христианами, уменьшать налоги-тягло, освобождать из тюрем пленников и узников. Больной на голову Федор внимательно слушал и, удовлетворенно покачиваясь, улыбался.
После бани царь возлег около невысокого шахматного столика и начал расставлять фигуры: короля, королевну, пешки. Ослабевшая рука подняла коня — и сделалась неподвижной.
«И вот конь синий, и на нем всадник, имя которому смерть», — то ли прошептал, то ли подумал Иван, провалившись в черный квадрат шахматной доски...
8.
— Не знаю, как и сказать... — по закрытой линии звучал напряженно-испуганный голос главы Службы госбезопасности Бадакина. — Заяц... захватил поезд в метро. Состав почти под вашей администрацией, а у него — бомба...
— Витя, ты что — укололся?! — президент удивленно провел пальцем по губам.
— Никакое не укололся! Что делать-то?!
Раньше подобным тоном говорить с хозяином председатель госбезопасности даже и в мыслях не осмеливался, и это — как нашатырь — отрезвило Мороза.
— Так он же ноги лечил... И как тогда захватил поезд?.. Зачем?! — во рту стало сухо и горько.
— Захватил, говорю же. Он не один. По электронке письмо пришло... И в диспетчерскую по рации сообщили. У Зайца бомба в кейсе! Проверили — не блефует. У него на хате нашли все причиндалы! Тротил, все такое... И несколько «эргэдэшек»... Мои пробили по номерам — начинка из Горно-Косовской автономии. Вероятно, помощники у него оттуда же...
— А чего он хочет? — Мороз переставал понимать действительность.
— С вами поговорить... Обменяю всех заложников, трындит, на президента.
— Он что, белены объелся?!
— Да кто б его знал…
Растянулась длинно-тревожная пауза.
— Свяжите меня с ним, — наконец очнулся президент, переждал горькие протяжные гудки в трубке и услышал Зайца:
— Слушаю.
— Николай Семенович, здрасьте! Это, я понимаю, шутка? — он даже через силу попробовал улыбнуться.
— А... Иван... Здоров будь, — тихо прошептала трубка. — Знаешь, я сожалею, что не научил тебя когда-то, что жизнь — не шутка. Она — вещь серьезная. Ну и рад я, конечно, что с тобой поговорить могу. Великим ты стал, занятым... Что тебе со мной время-то терять... Дороговато, правда, за такую связь платить — все запасы отдал, квартиру и дом над рекой заложил, чтобы бомбочку прикупить...
— И…
— До этого «и» были у нас с тобой, Ваня, еще и «а», и «бэ», и «вэ»… Помнишь, как я рассказывал о тезке твоем — царе Иване Грозном, о Евангелии от Иоанна и царстве слова?
— Ну… — заморгал президент. — Как там?.. Вначале было слово… Так?
— Нет! Не так. Не было слово, а — есть. Вначале было, есть и будет слово! И будет — даже когда и нас позабудут. Вот чего ты так и не понял…
Мороз недовольно чмокнул и скривился:
— Ну и чего ты хочешь?
— Хм... Тебе же, наверное, доложили уже. Давай!.. — Заяц прислонил к мобильнику ладонь и, чуть не сбросив пальцем очки, зашептал еще тише, чтобы в вагоне не было слышно: — Дава-а-ай... Это же проще, чем в той твоей плаценте: раз — и ждать не надо! Бах — и ты сразу в вечности, как спаситель людей, — голос стал распевным, с заметным волнением. — Понимаешь, это как в «Тарасе Бульбе»: я тебя породил — я и... А мне же все равно терять нечего — два-три месяца доктора отмерили... Когда-то ж ляпнул, помнишь: «И пусть отсохнут мои ноги, если ты не станешь президентом…» Вот и сбылось сказанное... Ноги диабет съел, а ты — ты так и не стал настоящим президентом…
Мороз взорвался:
— Так ты что — всю эту байду устроил, чтобы мне лекцию прочитать?!
— Нет, Ваня, нет... — голос Зайца сделался спокойным. — Чтобы сказать то, что сказал. И засвидетельствовать перед народом, что ты, его правитель, побоишься спуститься, дабы сограждан от старого маньяка спасти.
Наступило терпкое молчание, оборвавшееся задумчивым:
— Ну все... Не могу больше говорить. Начинают люди оглядываться...
— Что б это было, если бы руководитель страны слушал каждого маразматика… Взрывай! Давай! Тарас Бульба выискался...
— И я тебя, Ваня, люблю. Прощай! — в трубке застреляли короткие гудки.
А затем Заяц поправил очки, пригладил совиную бровь, словно ненароком прислонился коляской к стенке и постучал в дверь. В кабине это услышал усач и потянулся к микрофону.
— Товарищи пассажиры! — захрипели его голосом вагонные динамики. — Сбой в электроснабжении линии устранен. Сейчас мы продолжим движение. Только на несколько секунд отключится освещение... Осторожно, следующая станция «Ноябрьская».
— Ну вот, наконец-то! А то я чуть на встречу не опоздала... — радостно проговорила брюнетка в коротком черном платье со стразами. Та, с ямочками на щеках.
— Наверно, на свидание? — улыбнулся ей в ответ Заяц. — Успеете, обязательно! А похожие задержки, — он сказал это нарочно громко, — и в лондонском метро случаются.
— Давай зеленую, мы едем! — хрипло сообщил в диспетчерскую усач, уволенный после подзабытой уже забастовки метрополитеновцев железнодорожник-краснодипломник, а ныне — ночной грузчик, оторвал приклеенные усы, снял затемненные очки, семафорный фиолетовый пиджак, выбросив все в форточку. Щелкнул рубильником — и в составе стало темно. Приставил к носу сонного машиниста нашатырь и незаметно выбрался из кабины в вагон, где спрятал в карманы штанов перчатки.
— Это диспетчерская! Какую зеленую? Кто говорит?! — закричала в кабине рация.
Машинист очнулся, недоуменно заморгал вокруг, схватил микрофон:
— Алло! — во рту сушило, и он проглотил терпкий комок. — Алло! Диспетчерская, что случилось? Это Марченко с «Восьмерки». Я тут, кажется, отключился. Кто-то с проверкой пришел... И дальше ничего не помню...
Жизнь — не мед, и люди — не пчелы. Однако многоэтажные универмаги и кофейни около закрытых станций метро напоминали растревоженные ульи. Растревоженные собравшимися над городом дождевыми тучами, дизельным дымом переполненных автобусов, а еще — пугающей неизвестностью.
— Чего это метро не работает? Снова забастовка? — интересовались горожане.
— Нет... Говорят, там террорист с бомбой. Видите, сколько милиции и солдат нагнали.
А в это время к пустому перрону неспешно подъехал запоздалый поезд. Раскрылись двери, начали выходить удивленные пассажиры; около турникетов каждого почему-то начинали обыскивать вооруженные люди в бронежилетах и черных масках.
— У Зайца кейс пустым оказался! — по рации надрывно сообщал президенту председатель Службы госбезопасности. — А мои же у него на кухне тротил нашли... и три «эргэдэшки» из бывшего косовского гарнизона… А тут — только ноутбук да книга в кейсе! Профессор...
— Какая книга?! — Мороз сам не узнал своего голоса.
— Старая какая-то, толстая... Сейчас... Библия, мля! Пастор хренов...
Под языком у президента сильно запершило. Что-то хотел сказать, но глубоко вздохнул и промолчал.
Словно в забытьи он уехал в Ворониху. До вечера просидел в бане. Влил в себя литр коньяка — и не смог забыться.
«На черта ему сдалась та Библия?.. Чего они уже полтысячи лет с ней носятся?..» — лихорадило воспаленный мозг.
А когда наконец отключился — увидел громадную аудиторию.
Перед ним — шеренги одинаково одетых молчаливых манекенов. Слушают, а он не может найти слов, зло и бессмысленно кусает губы, переступает с ноги на ногу. Молчит…
И видит средь пластмассовой толпы Екатерину.
Ее затаенно-презрительное лицо.
И ее недоступную красоту.
2009–2010
Мінск – Бар (Чарнагорыя) – Стамбул (Канстанцінопаль) – Мінск