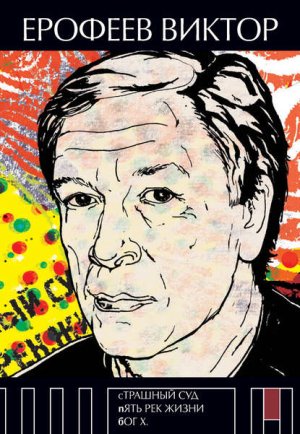
Страшный суд
В. П
Мы жили славно, как полные свиньи. Махало кадило. В красивых пасхальных яйцах завелись короткие черви. Тянуло сдаться. По ночам замученной женщиной всхлипывала черная сероводородная вода, маня и пугая, которые к нам, заплетающиеся, бородатые, изможденные, неподкупные, неопрятные, жалкие серьги, со спущенными, внимали. Подтирки порванные, веночки, кружк и, до утра, и снова до вечера, под столом на кухне, наизусть, до одури, со звездочкой на щеке, щекастые, лиловые, наглеющие, заношенные на подмышках, сколько их? не счесть, длинных и стриженых, крашеных, некрашеных, прямых, попискивающих, подозрительных, вопросительных.
И эта жирная московская пыль на подоконниках, кофейная гуща, сползающая в раковину, и тополиный пух на полу круглый год. Он сбивался в перекати-поле, его поджигали, иногда пользовались как ватой. Окурков млечный путь (в дальние комнаты мы ни-ни, не заглядывали) разлагался мясом и колбасой, цветами, рыбой, диковинными паштетами, помидорами, битыми рюмками в помойном ведре. Юркие мыши охотно дохли от прикосновения веника. В синих цветах вырви-глаз наши стены. Паркетины вздыбились, валялись обломки Манхэттена. Когда засор перебрасывался в уборную, всплывали плакаты, предметы, изделия, как-то: длинная дохлая кошка, неведомо кем и когда умерщвленная. Мы стояли над ней. Мы ее выловили. Как тебя, детка, звали? Мы даже не знали, что делать. Мы. Она еще не полностью протухла (хотя почти что с оторванной головой, по-актерски осклабившаяся): вступить в любовные отношения? спать — да? — как с талисманом? распять? захоронить? оживить? воспеть? Нам, легкокрылым, казалось, что будущее кошки, не замусоленное прошлым, принадлежит нам. Мы принялись ее жарить на постном масле, что было тогда в новинку, забросав сковороду чугунными утюгами, готовые к подвигу, задумавшиеся.
Что убирать нельзя, что будет только хуже, что надо ждать, само собой все расчистится. В немытые окна садилось осеннее солнце, когда вошла Ирма, нелепый сгусток долженствования, взявшийся за пылесос. Он сделал свое потрясающее открытие, которое теперь сравнивают с Ньютоном, Коперником — нет! — с ума сошли люди — он ненавидел пылесосить — мне звук не нравится — говорил он — но бдительность еще не покинула русскую совесть — на Украине тоже не все «за» — он дал, согласен, для этого повод, можно сказать, на моих глазах — он изменил систему позитивностей во всем объеме — во всяком случае, дверь в ванную была не заперта — он не любил запираться — эта привычка меня бесила — откроешь дверь — там он — извинишься — откроешь — он снова — опять — до бесконечности — о том, что его открытие можно будет обнародовать на родине при нашей жизни, речи не шло — но мне хотелось бы разобраться скорее в морфологии, чем в обстоятельствах — невольно сбиваюсь, принимая значение детали — он обладал чертой, присущей многим русским интеллигентам — он был отвратительно нечистоплотен и до безумия брезглив — ему ничего не стоило искалечить или даже убить человека и заснуть сном праведника — проспать до полудня, до двух, до трех — слоняться в халате — он мог схватить из раковины сковородку, обляпанную яичницей — и без особой злобы убить — он этого не делал — насколько я знаю — в нем была беззастенчивая трусость, продукт природной недовоплощенности— с одной стороны, он ничего не желал — не хочется — с другой, хотел все — вынь да положь! — и не то, что он стал знаменит и зазнался — я на это смотрю как на некоторое вырождениечеловечества — юманитэ— по его глумливым словам — с подмигиванием и подергиванием щеки — пухлый чувственныйрот — нет — скорее порочный, по решительному определению его собственной мамочки — порой мне кажется: это я как-то в пьяном угаре подкинул ему идею — ленясь сформулировать — похмелье, как барышня, склонно к забывчивости — но я тоже не потерял бдительности — нас развело по разным углам — была секунда — когда — он был тогда под душем — в резиновых сапогах — от брезгливости — Жуков! — я не шел — Жуков!!! — я просунул голову — ну? — смотри, чтоя нашел! — я заглянул в ржавую мыльную ванну — что стало с привычной конфигурацией? — чего? — на стыке XIX и XX веков началось всеобщее размягчение материи — мне хотелось сказать ему: — это я тебе, дураку, неделю назад — в пьяном угаре — помнишь? — но вместо того, не отдавая себе отчета в последствиях — не предвидя их — когда он мне сказал, я загоготал — он тоже заржал вслед за мной — голый — в сапогах — под душем — с припухшим хуем — с поджарыми яйцами — которые так полюбились Саре — она-то, видно, знала в яйцах толк — в его карих глазах стояло бешенство откровения — невразумительные такие глазки — волосатые ноздри раздулись — разжижение личности унизило разум — он трясся от хохота — анализ раскрыл связь — он шлепал себя по ляжкам — подпрыгивал — Век Пизды! — возвестил он — я судорожно сглотнул — Жуков! ангел мой! — Век Пизды! — он вырвал шаткую стойку душа из кафельной стены — резко направил струю — я захлебнулся — закашлялся — струя сбила меня с ног — я головой ударился об унитаз — ушиб копчик — тяжелый флакон одеколона разбился об пол — мне стало и больно, и смешно — кончай! — в ответ он до предела раскрутил кран горячей воды — он окатил меня крутым кипятком — я взвыл — задергался — брюки обжигающе прилипли к ногам — я защищал глаза ладонями — он поливал — я полз на коленях в угол ванной — по осколкам флакона — распорол локоть — пошла кровь — я поднял волосатые ошпаренные руки — Век Пизды — я малодушно признал его правоту — в банном густом тумане — в одеколонных парах — он удовлетворенно облизнулся и выключил воду — полотенце! — потребовал он — XX веку было найдено определение.
Что есть Вселенский потоп? — катаклизм мирового значения, когда гибнет все живое или сохраняется лишь его минимум — минимум, Жуков! — я смотрел на него охлажденно — после всех этих лет он изменился — успех и Запад научили его мягкой повелительности — минимум, необходимый впоследствии для возрождения жизни на Земле — вот основная схема: — Бог насылает на людей потоп в наказание за плохое поведение, нарушение табу, убийство животных и т. п. или без особой причины— последнее особенно заманчиво — хохотнул Сисин — хочешь выпить? — я напрягся — так русский не спрашивает русского — не те интонации — не откажусь — я слегка поджал губы — некоторые люди — обычно, праведники — заранее извещенные о потопе — принимают меры к спасению: — строят корабль (ковчег, плот, лодку, аэроплан) или укрываются от опасности на горе, высоком дереве, на плавающем острове, на панцире черепахи, на крабе, в большой тыкве или скорлупе кокосового ореха — ливень, приводящий к потопу, продолжается в течение сакрально отмеченного периода времени — семь дней — сорок — полгода — в ряде случаев, как у индейцев тоба, потоп объясняется нарушением менструального табу — как тебе это нравится? — орешки жри! — подсунул мне орешки — я не дотронулся — мне не нужен, положим, соленый огурец, но и орешкимне не нужны — мы жили вместе полтора года, и я никогда не мог понять, как он ко мне относится — скорее всего он меня одновременнолюбил и был ко мне равнодушен до бесконечности — или даже меня презирал — у него так со всеми — недовоплощенное — отсюда заманчивое — верная гибель бабам — нам баба сдавала квартиру буквально за гроши — когда он мне назвал сумму, я вытаращил глаза, не поверил — он предупредил, чтобы я не рассказывал — я, конечно, молчал, не в моих интересах — он тут же всем рассказал — как будто хвастался — он хвастался во вред себе — всегда во вред — но выходило, что на пользу — с ним было легко жить — легкость казалась мне подозрительной — я туго кончал — мимо него это не прошло — но все равно — что-то мешало мне плюнуть — уйти — у него еще не было этого благополучного брюшка — калифорнийских загаров — он еще не отъелся на Западе — и это открытие затвердилось за ним персонально — я не попал в соавторы — оно все дальше отплывало от меня — он тоже удалялся — но не сразу — в соприкосновении с ним был всегда момент глубочайшей неопределенности — хотелось в это вникнуть — болезненно хотелось понять — еще сильнее хотелось его развенчать, запретить, отменить — иногда потоп насылают существа подземного мира — Сисин посмотрел на меня поверх узких очков — он стал надевать очки для чтения — разумеется, узкие, чтобы всем было ясно, что они только для чтения — он стал короче и чаще стричься — входил в возраст, когда короткая стрижка молодит — безошибочно выдавая возраст — он сидел за столом на даче в темно-сером шотландском свитере — я был неожиданно приглашен — я не сразу согласился приехать — у арауканов потоп — результат соперничества и поединка чудовищных змей, которые, демонстрируя свою силу, заставляют вздыматься воды — радуга — залог того, что потоп не повторится — фамильный бриллиант в левой ноздре — минеральные пузыри лопались на икрах — брачуясь с миром, она танцевала — в круглой горячей ванне — в сумерках — сам Сисин при лампадах в эвкалиптах — горы, густозвездное небо, океан с китами — киты с фонтанчиками — и весь их вегетарианский стол, превращающийся в здоровый стул, и вся ее прошлая жизнь, уложенная в побег на дальний Запад мюнхенской террористки, ставшей местной звездой массажа — он заставлял себя наслаждаться — принуждал — он пичкал себя ее телом — уже тронутым океанской солью и возрастом — тряс головой — поднимал большой палец — чтобы не обидеть ее — чтобы выглядеть нормальным — он скорее терпел, чем участвовал — зрение двоилось — не разглядеть ни ее, ни ее промежность — расслабь шею — сказала она — пыталась помочь ему пальцами — он пробовал — он старался — не мое! — русский семинар закончился под стук тамтамов — Сисина взялся подбросить до Сан-Франциско автор сочинения о жизни без цели, женившийся на денежном коннектикутском мешке по любви — Кевин верил в рынок как в регулятор мирового отчаяния — отправились после обеда — не спеша — стояли мосты — с детства знакомые каждому американцу по открыткам — а скалы? — тянулись пляжи — колокольчики, будды, лимоны — я хотел там остаться — пахло лимоном — бестелевизорный дом — спал, как в детстве — бездонно, бесцельно — Кевин улыбнулся любимому слову — я не узнавал себя — утром, бреясь, спас муху, попавшую в раковину — аккуратно расправил ей крылышки — смутясь от содеянного, щелчком отправил ее в окно — пахло нагретым на солнце деревом — я играл в волейбол с голыми людьми и перестал находить в этом что-нибудь странное — я стал называть стайку голливудских актрис, плававших в бассейне над океаном, сестрами— на всякий случай, я сказал, что я из России — им было все равно — ну, кажется, пронесло, подумал я — и, продолжая бриться, умилился — я сошелся с директором прекрасной богадельни — мы совершали с ним прогулки вверх по руслу ручья — я болтливо растворялся в природе — под сенью секвой — размахивал руками — директор вскрикнул — больно схватил меня за локоть — я чуть было не сорвался с обрыва — он был немногословен — я просил взять меня на работу садовником — да просто подстригателем газонов — я хотел ходить босиком за косилкой — как тот мужик с седой косичкой — дышать запахом скошенной травы — пожалуйста, сказал я, возьми меня к себе посудомойкой — я буду думать об этом — ответил директор — выйдя из ресторана, мы обнаружили бархатную ночь — сели в машину и ехали дальше — Кевин достал из кармана травку — ну, это не простаябогадельня — сказал он — не зря там идут увольнения и перетасовки — я хочу подстригать газоны — твердо сказал Сисин — Кевин поморщился от русской многозначительности — и все-таки — к предмету семинара — как примирить американский локомотив с русским Богом? — в ответ Сисин нетерпеливо и таинственно заерзал — марихуана его не забирала — только горло драла — но он, из русской вежливости, не отказался — попали в пробку — сине-красные вертушки выли где-то впереди — Кевин вытряхнул пепельницу — ты чего? — шмонят — Кевин вынул маленький спрей, побрызгал во рту — побрызгай — Сисин побрызгал — вроде бы в Калифорнии наркотических шмонов не устраивают — хотя кто знает? — они приближались к полицейским машинам — кажется, кто-то перевернулся — посмотрели на обочину, на колеса, висящие в прохладном ночном воздухе — я же говорю, в Калифорнии не устраивают наркотических шмонов — сказал Кевин — Сисин закурил обычную сигарету — это уже было— сказал он недовольно — вези меня обратно в богадельню — pardon me? [1]— подальше от греха — добавил Сисин — Кевин успокаивающе похлопал его по колену.
Он уверял меня, что в нашей ванне водится особый грибок — его вывела та самая баба, которая нам за гроши — сапоги были вонючие, черные, старые — он никогда не пользовался стульчаком — влезал на унитаз орлом — чем меня несколько обижал — я видел, потому что он не запирался — орлом сидел часами, задумавшись — демонстрируя силу своего сфинктера — но когда напивался, что случалось с ним редко, но регулярно, блевал в туалете, забыв о брезгливости — засыпал там в обнимку — вошли поляки с курвойна устах — меня задевала эта триумфальная непоследовательность — в восьмом классе сложился его характер — до этого его обожали учителя — он был паинькой — в четырнадцать лет, в зимнем пионерском лагере, Сисин любил и даже, может быть, был любим — в актовом зале, где еле-еле грели батареи, танцевали с красными пальцами и носами — чемпион лагеря по лыжам на три километра под самодельным номером 4, Сисин особенно отличился на тягунчике— в мертвый час получил задание явиться в корпус девочек и передать им срочное послание — само по себе неподчинение мертвому часу было преступлением — маленький Сисин пошел на него, желая испытать силу воли — оделся, на цыпочках выбежал из корпуса — оглядываясь по сторонам, бежал по расчищенным аллейкам — сугробы как памятник честному дворнику стояли стеной — соблюдая предосторожности, проник — не встретил никого из воспитателей — подбежал к двери — за ней в железной казенной кроватке спала она.
Смех, оживленные голоса — дрожа от волнения, глянул в щелку — в белой ночной рубашке она высоко прыгала на кровати, да так, что все наружу — Сисин икнул — срывающимся от смеха голосом пела — ездил на ярмарку Ванька-холуй, за три копейки показывал — пауза — и страшный девичий хор разом с ней грохнул: хуй! — она рухнула на кровать — бешено завращала ногами — Сисин тихонько прикрыл дверь, не передав секретного послания — он скомкал его — бросил на пол — отчего оно тут же превратилось в жеваную бумажку в линейку — пошел прочь — маленькая ласковая пионервожатая усадила поздно вечером его на колени — она не только простила ему самоволку — она знала семейные тайны — тихим голосом говорила про маму гадости — он удивился — гладила его волнистые волосы — один узколицый, с орлиным носом — другой толсторожий — в ярких шерстяных свитерах — он пересмотрел свое отношение к двум красивым братьям, которые были старше его на год — их пальцы пахли женским секретом — они не любили Сисина — они выстрелили из пистолета Сисину в ногу — на дорожке — он вскрикнул — ходил с раной— нога распухла — он принял их сторону, не подхалимничал, ходил с ними вместе по дорожкам — руки в карманах — закурил — на Новый год в сельпо купил «Солнцедара» и килек — лег на постель — все кружилось — вскочил — испугался — блевал — как только в отрочестве блюют — светло и чисто — на постель — все это по-особому, освободительно пахло — застирал простыни — братья прониклись к нему уважением — приняли в свою компанию — это наш парень — проверенный — он блевал! — доверили пистолет — он стрелял из длинного духового пистолета по зимним птицам — падали тихо — окровавленные тушки валялись здесь и там в парке — он издевался над пионером — соседом по комнате, которого еще накануне неуклюже защищал от братьев — они наливали ему воды в постель, кричали, что он описался — тот вскакивал — хотел слабо драться — Сисин показывал ему пистолет — Сисин кусал его за нос — зубами чувствовал мягкие, детские хрящики — пионер только скулил, считал дни до отъезда — зачем прыгала на казенной постели? — зачем у тебя все было видно? — Сисин стал еще более изысканным мучителем, чем братья — он заставлял пионера нюхать липкие носки — пионер, рыдая, нюхал — братья удивились воображению сопляка — Сисин думал о том, как отомстить братьям — ласковая пионервожатая предложила выпустить его на свободу — у нее застегивалось между ног — на кнопки — по-заграничному — говорила гадости про маму — банный день — ходили возбужденные — просила показать, погладить, выпустить на свободу — как у тебя насчет девочек? — спрашивали отцовские друзья — они ели лимонный пирог — еще чайку? — Вера Аркадьевна бежала на кухню за редкостным чаем «Earl grey» — домработница Вера мыла посуду хозяйственным мылом — Сисин испуганно молчал — как у тебя насчет девочек? — друзья Романа Родионовича стучали его по спине, желали спокойной ночи — Сисин неуклюже кончил себе в трусы.
Он женился на Ночном Дозоре, который останавливает тебяна пустынной площади с вопросом, давно ли стриг ногти, заглядывает в душу и в уши и поднимает скандал, если в ушах обнаруживаются залежи желтой серы. Родители Ирмы были поволжскими немцами из Одинцова. Сисин долгое время считал, что женился на европейской женщине. Раз в месяц, обычно перед менструацией, Ирма устраивала скандал по поводу того, что Сисин считает ее родителей людьми второго сорта. Сисин божился, что он так не думает, однако не мог привести доказательств. Лучшие мысли его посещали в ванне — водник — водолей — водоплавающий — водопроводчик — Ирма подозревала воду — покуда он плескался — покуда часами выковыривал мысли, плескаясь, не находила себе места, ревнуя к нему самому — вытри пол! — ненавидела за пролитую воду — устроил наводнение! — я покоряю Запад — неслась из ванной самодеятельная мелодия — Сара намылила щетку — она считала, что Сисин запущен — никто о нем не заботится — наперебой, в зависимости от местопребывания, то Маня, то Сара стригли ему ногти на руках и ногах, а также выстригали волоски из ноздрей, а также, но только Сара, втирала ему в кожу всякие масла — Сара любила мыть его тело — я покоряю Запад — звучало в стране басков — ванна на ножках — сухие фиолетовые цветы — Жуков с содроганием подумал о том, что если он не создаст свой собственный стиль, тогда — тогда смерть — Сисин изучал на даче причины и следствия потопов — облака в природе — думала Ирма — принимают агрессивные формы борьбы за существование или просто пожирания друг друга — Ирма постоянно нуждалась во всенародном подбадривании и одобрении — по случаю ее сосудов, рано исковеркавших левую ногу, доктор предписал ей жить долго, но противно — Сисин вел машину в сторону Европы с ангельским терпением человека, пожелавшего собрать пространство воедино, не с целью торжества над природой, а для того, чтобы несколько лучше понять свою уязвленную родину — с нетерпением поджидала Ирма видение аккуратныхполей, нарезанных ломтиками, что видно с самолета при перелете границы — но, когда едешь по Минскому шоссе обратно в Москву, в морду летят гранаты антифашистских памятников — в ушах вечное ура-а-а! — невольно замедлишь ход — что, упиваешься своим успехом? — но ты же сама всем пользуешься! — но Ирма так скромно всем пользовалась — она постоянно ждала от Сисина удара — с кассетой вышло особенно больно — я тоже, может быть, хочу, чтобы мне полизали попу — сказала Ирма высоким, плачущим голосом — две недели назад я окончательно нашел смысл жизни — Берман поднял на Сисина усталые глаза — они пили чай в баре Риц-Карлтона — Бермана крутилов Америке — Сисин предложил двум девушкам завоевать окружающий мир — с висячими собачьими щечками, Крокодил по-петербургски считала, что принадлежит к элите, не улице — ей не нравилось, что Бормотуха недостаточно культурна — все же в ванне она посмотрела ей прямо в глаза — смотрела долго — настраивалась — настраивалась — затем протянула руку — пощупала и пощипала — ради смеха — что же касается Бормотухи, то я о ней мало что знаю — я хочу вам сделать предложение, сказал веселый Сисин с красными губами — давайте всех завоюем — медовый месяц он провел на болоте — от Ирмы ушел — жил бедно, не желал зарабатывать денег, но не развелся — и стал жить с Жуковым — как бы играючись, трахнул Жукова в присутствии юриста — Софья Николаевна была дипломированным юристом, но впоследствии нигде не работала — если не считать ее домашнего комитета по творческим премиям — которому она посвящала много времени — это навсегда огорчило Жукова, который любил народ — вернулся к Ирме и жил с ней ругательно, не любя ни ее, ни себя — не любя пылесосить — через сестричек, уехавших жить в Америку, он встретил Маньку, которую по способу знакомства назвал Манькой-помойкой — у нас на острове в ходу прозвища — зеленщик завел себе первый на острове патефон с единственной пластинкой Дза-Дза— и сам стал Дза-Дза— и лавка Дза-Дза— и вся его семья Дза-Дза— она тебе понравится — сказали сестрички — приходи, увидишь — скучает с глубоко неинтересным мужем — рано вышла замуж — индоевропейский вариант — с ресницами на полщеки — с крупными, подрагивающими глазами — как в иранском кино — любит читать и смотреть на себя в зеркало — она не была в его вкусе — он тоже не был ее типом— в первый раз она ему не очень понравилась — во второй раз лил ливень — она стояла под зонтом — стойко пахло клейкими листьями тополя.
Он очень сдерживался, чтобы не плеснуть французскому послу в морду красное вино — у него даже кишки свело — он говорил себе: успокойся, Сисин, не нужно обливать его красным вином — Сисин, лапочка, успокойся — но другой, сокровенный, Сисин говорил — плесни! — или ты не человек — хорошо — сказал Сисин — я плесну — успокойся! — он стиснул челюсти — моложавый посол с орденской розочкой в петлице — плавно разводит, разводит руками — большой лоб, распадающиеся на две стороны волосы цвета соль-и-перец— в бабочке — он всегда в бабочке — что-то несет о Баксте, о Сомове — вы, случайно, не родственники? — я не Сомов — я Сисин — ах, я не расслышал! — ничего — смеются — я пригласил его на дачу — он обещался — Ирма в ужасе: — что?! — посла в наш клоповник? — с ума сошел? — это ее любимое: с ума сошел? — держал лицо высоко, как на блюде — оно у него лучилось — несмотря на рабочиесиняки под глазами — чертовскитрудно в Москве — не удержался — так вышло — я плеснул вино ему в морду — посол, по дороге неловко выдергивая большой белый платок из брюк, быстро удалялся в свои апартаменты — возник французский мальчик-полицейский — Сисина просто-напросто выбросили за ворота — в Москве это выглядело опереточным бредом — его знали больше по стакану вина, чем по ВП— «тот, что облил французского посла красным вином» — я не мог не облить — объяснял он Маньке — не мог — она — естественно — его уважала за этот поступок — обожала — спускайте воду! — пусть все начнется заново — на каком основании? — голос Валентина — на основании вашего Божественного избранничества! — да нууу — просто я в детстве перечитал классики — никогда не читайте русские романы — если хотите жить — читайте лучше французские — английские — последнее время мы с Сисиным редко встречались — я свил свое гнездо — моя Соня оказалась замечательным человеком — страшно признаться, но я ей ни разу не изменил — зачем вы убили ее жизнелюбивого мужа? — кто это говорит? — вы все подстроили: с этой кассетой — да, мне хотелось поразвлечься — зачем я это сделал? — зачем? зачем? — захотелось! — не дай бог! — я увидел себя в телевизоре — толстого, с брюшком, с седоватыми, несимметрично висящими яйцами — с некрасиво возбужденным лицом — с удивительно замедленными движениями — время траха — особое время — с полосами от резинок и ремня на животе — когда в туалете кончалась бумага, Ирма приоткрывала дверь и говорила понуро: — неужели труднобыло положить бумагу? — Сисин простил бы ей все, если бы однажды она весело закричала: братцы, нечем вытереть жопу! — но он знал: — она не закричит — зачем подставили вы меня с этой кассетой? — это не мы — не вы — не вы — однажды повела себя странно — когда ему разбили голову — понять, почему он ее терпит, было сложно — с годами он все хуже переносил запах чужих людей — значение его книги сильно преувеличено — теперь это проходит — волна спала — на Западе Век Пиздырасхвалили исключительно по внешним признакам — успех книги был в ее некоторой неуловимости— я от дедушки ушел — я от бабушки ушел — это было знакомо тогдашней эстетике — это многих притягивало и раздражало — поскольку Манька кончала скорее головой, чем пиздой, Сисин рассказал ей массу историй из своей жизни — она умирала от мечты пописать в присутствии Сисина — но женский стыд сильнее мечты — она пописала только ночью — на огороде — где висели летние умывальники — где бегал петух, страшнее цепной собаки — отчего тоскует русский на Западе? — не видит себе, бессребренику, подходящего места — зачем я тебе? — спросила Манька — почему ты пришел ко мне? — удивлялась Воркута — американки похожи на мышек, которых можно убить щелчком — мне слышались по ночам какие-то обрывки — ты на меня дуешься за то, что я тебя трахнул? — мы так не договаривались — ну, трахнул и трахнул — ну, извини, я пошутил — ты и жену мою тоже трахнул — ну, извини! извини! — ты нас что, из пластилинаслепил? — рассвирепел Жуков — как вышло с Детьми? — она валялась — рукопись — сначала я ее вообще не показывал — потом американцы — печатай у нас — я не знал, что это ловушка — свалка провинциального тщеславия — Сисин был умненьким московским приплодом — перегнавшим свое время лет на двадцать — по ночам, заперевшись в сортире от родителей, он читал запоем «Тайм» и «Ньюсуик», с шестигранником на обложке — ворованные драгоценности с письменного стола Романа Родионовича — он написал Детей, которые Рожнову тоже отчасти понравились — мама учила его, что он самый плохой — вокруг росли вундеркинды — особенно обиделись друзья Романа Родионовича — все-таки вместе ели лимонный пирог — предложили Роману Родионовичу отказаться от сына хотя бы формально — хотя бы на время — хотя бы в секретном письме — Роман Родионович, содрогнувшись от предательской книжки, что-то там написал — невразумительное — утратив ясность стиля — но достаточное — по ахматовским меркам, он вел себя на три с плюсом— Сисин сказал: — я самая неудачная из возможных кандидатур — Евангелие до конца не осилил — посланий не читал — но мне понравилось, что ихчетыре — они терпеливо молчали — в обычной жизни они работали кто кем — Валентин служил в безопасности — чудеса, по крайней мере, прошу отменить — это совсем уж как-то безвкусно — да ведь и — Отец был против чудес! — чудеса ему навязали — но политически пос услим дикарям — почему так поздно мне об этом сказали? — и потом: — вы не очень, ну, вы не совсем из моего круга — вы какие-то — а я все-таки скорее богема — я сосал ее менструальные ватки в доказательство верной любви — Манька стеснялась, закрывалась ручонками, ножками — Жуков! — упивается! — сказала Ирма подружке, когда Сисин и подружкин муж втащили на кухню дюжину глянцевых, разноязычных Веков Пизды— Манька сказала ему: — попроси у мамы семейный альбом — Сисин под благовидным предлогом — для иностранного телевидения — вынес альбом из разоренного семейного очага — детские фотографии навели Сисина на мысль, что он вовсе не Бог — глядя на дедушку в пенсне и тюбетейке — дедушка возится возле самовара с трубой — из трубы течет белый дымок — бабушка, наклонясь, ищет грибы — я всегда был сутулый — на горшке с раздвинутыми ногами — какая прелесть! — сказала Манька — а это что? — Маляхaxa— прочитала — вместо Малаховки — кто там? — аи— вместо свои — аи— растроганно повторила она — это бабушка записывала за мной — никто на свете не заставил бы Маньку хохотать над чужой Маляхахой— как она рассматривала мои фотографии! — так никто не рассматривал — и ее нет рядом со мной — Рыжий Крокодил стала однолюбкой — они развернули Бормотуху задом — кстати, ты знаешь о метастазах? — Бормотуха работала над их гениталиями — она строила памятник из сисинского хуя — не может быть, огорчился Сисин — засунь ей пальчик в жопу — я предложила пусечкежениться на мне — призналась Крокодил — ведь кто-то должен проводить его в могилку — да-да, это мило с твоей стороны — подумав, согласился Сисин — но он женат — вспомнил он — ааа — поморщилась Крокодил — это не считается — авангардисты не умеют умирать — улыбнулся Сисин — почему? — отозвалась Бормотуха — они считают себя бессмертными — разъяснил ей Сисин — Спиридонов, блин, не такой дурак! — Крокодил сердито подергала коротко-стриженую пизду Бормотухи — та смачно чавкнула — обнявшись, смотрели — ну, и где тут разврат? — ни-ни разврата, хихикнув, заверила его Крокодил — замечательно, сказала Бормотуха — с другими словами у нее напряженно — он собрал Крокодила и Бормотуху в охапку — бабы — объявил он торжественно — я сын Иисуса Христа! — иииии! — сделала авангардный Крокодил — замечательно— обрадовалась Бормотуха — поклоняюся Тебе, очищающему вся беззакония моя — запела Крокодил хорошо поставленным ангельским голосом — когда-то она пела в церковном хоре — помилуй мя — озорно вывела Бормотуха — поклоняюся Тебе, знающему страстное естество мое и слабость — звенел петербургский голос — помилуй мя! — девки попадали на колени — кровать затрещала — втроем они грохнулись на пол — не болтай глупостями! — заливалась Крокодил, тыча пальцем в опрокинутого Сисина — Бормотуха, рыдая от смеха, еще долго ползала по полу — дуры, я серьезно — нахмурился Сисин.
У Льва Семеновича славная улыбочка: нас не наебешь— он вошел и сразу заспорил — кухонная культура в тот вечер коснулась и моего дома — кухня в цветах — моя культурная мама — с секретом— как можешь догадаться — Жуков покраснел — все-таки Жуков простоват для этой истории — Лев Семенович — к книгам: — хорошие книги читаем — к тому же, не зная почти ничего, склоняюсь скорее к теософии — Блаватской балуюсь — мечтаю о новом единении — видя в христианстве лишь мутные знаки — как тут умирать? — да — кильки хорошие — за кухонным столом чувствую нарастающую симпатию — Роман Родионович — я всегда не очень верил, что он мой отец — недоволен — в тот вечер я возненавидел его оптимистическую бородавку на лбу — Вера Аркадьевна готовит помфрит — во фритюрнице — по-нашему (семейное слово) фритнице — когда Вера Аркадьевна кушает, у нее пища часто падает изо рта на кофточку — жареная картошка, куски яблока, конфеты, мясо, кильки, салат — все кофточки в пищевых пятнах — Сисин тоже все роняет изо рта — пошел в мать — свинячится — особенно, когда жадничает — Сисин снимает с голубой рубашки упавшую пищу щелчками — зоркий глаз Льва Семеновича все подмечает — наверное, тоже сочиняете? — вспыхиваю — мне безличностный бог почти симпатичен — но жалко растаять бесследно — при езь ко мне — приплод — поговорим — г ур-г ур! — трется персями сизый голубь — на Клязьму — там сборы элиты — в Тарусу — там все так и кипит — из одного дома в другой — бывалый каторжник делится пережитым — бабы попадали в снег, говорят надзирателям: — пока не выебете, работать не будем! — прямо так и сказали? — весь перекуренный — все ненавидят Сталина — вода пенится за бортом — подвыпившие диссиденты, доспоривая о том, насколько Сталин был верным учеником Ленина, расходились — Сисин знал, что умрет в развороченной биографии — вначале он бредил американским десантом на Красной площади — Роман Родионович, из лучшей в мире газеты, покуривая голландские сигарки, стучал на машинке статьи, проклинающие Общий рынок — я написал Век Пизды— прославился — меня выбрали во внуки — я сам вас выбрал — Я БОГ! Я — Путь, Истина и Жизнь! — такое утверждение — ты чего это, Жуков, читаешь? — уже поддается проверке — перед нами либо душевнобольной с манией величия — либо величайший жулик всех времен, либо действительно Бог — на дворе дождь — сирень машет зелеными ветками с гроздьями сирени — все никак не желтеет, не жухнет — вечно молодая, как Кафка — продрогла на октябрьском ветру — Жуков — я — внук командарма Вселенной — мне дали неделю срока — времени нет — в преддверии катастрофы она каждый день мерит температуру — засовывая себе в попу градусник — думаешь, меня это трогает? — возбуждает? — они не посмеют — но все-таки мало ли что — Лев Семенович встречает меня на деревянной пристани — прохладный чмок-чмоксреднерусского речного прибоя — на закате лезем в гору — скользя по желтой грязи — я трепещу — ведет в дом — там пахнет драматическим трудом — не дают писать, буду строить дом — писатели — богатые люди — ездят в такси, даже если всем недовольны — к ним снисхождение непонятного свойства — Маркс говорил: — они нежные — там на днях рождения Окуджава поет песни оригинальным голосом — там евреи говорят нехорошее о русском народе в ее присутствии — сначала стесняясь — потом все увереннее, все крикливее — его будущая вдова ебется в Институте под лестницей со старшими научными сотрудниками — потому что блядь — среди женщин немало блядей — с чем трудно, конечно, не согласиться — особенно среди русских — особенно среди тех, кто уходит от мужа — он бьет ее за минутные опоздания после работы — она вытирает за ними — лишь бы подышать общим воздухом мировой культуры — они поэты в стоптанных ботинках (летом: в сандалиях с носками) — носят антисоветчину в коробках из-под ботинок — не зная других мелодий, Лев Семенович насвистывал По долинам и по взгорьям— он обычно выигрывал, но когда я выигрывал, мрачнел — он ввел меня в царство пишущей машинки — драматург поделился творческими планами — вот пишу пьесу о падении нравов у приплода — там есть одна сцена в подъезде — грудь можно щупать — а ниже нельзя — не дает — молодой бог, не знающий о своем предназначении, ест сардельки — она его баловала цыплятами-табака — пиццами — салатиками — ну как? — съел без усилий— улыбался довольный Лев Семенович — так чт о, ее бывший муж работает в ЦК? — Сисин (в восторге доносительства): — хуже! хуже! — хуже? — Лев Семенович (с улыбочкой нас не наебешь): — гут! я так и знал — получит, блядь, свое — а как ты относишься к существующему строю? — плохо — не любишь Сталина? — Сисин (с улыбкой): — я всех их — покраснев — густо — в сардельке торчат куски сала — мечтаю об автомате — веером от живота! — Лев Семенович улыбается, но спохватывается — хмурится — автоматом не надо — насилие порождает плохой приплод — драматург высказал мнение, что завтра нравственности будет больше, чем сегодня — подо мной ночной московский двор — сардельки разрывают мне внутренности — в наших семьях любят импрессионистов, которые привили мне любовь к искусству — ты спишь, Жуков? — уже пять утра — это кто тут стены расписал? — что за медведь с глазами зэка? — генеральская дача — водопроводные трубы расписаны под березки — с золотыми кольцами — не уезжай, Жуков — я бы сделал импрессионистам поблажки — пустил бы в рай — несмотря на отдельные недостатки их душ — не важно, обладал ли Иисус Христос полным набором Божественности или был обделен как наследник, но на Земле он выглядел приплодом — актерствовал: — плевался — засовывал пальцы в уши убогим — поглубже — я знаю, Жуков, почему ты оживился — ты любишь, когда я недолюбливаю евреев — это случается редко — ты любишь — запахло хвоей — пол убрали еловыми лапами — она вырыла огромную могилу — как защитникам родины — похороны Льва Семеновича прошли с авторской песнью и красной рыбой — за икру не ручаюсь — но водки залейся — я с радостью мчался в Тарусу, когда он умер — событие все-таки — Лев Семенович обозначил меня напоследок: — дно у тебя двойное — вроде бы свой и не свой — к автомату зовет — приплод слишкомрешительный, чтобы было похоже на правду — веером от живота, а не вышел — он ценил тех, кто вышел на Красную площадь.
Феликс, волосатый племянник покойного, подозвал меня — иди в кабинет — нужна твоя помощь — я испугался — он только вчера умер — без гроба лежал — неоформленный — какая помощь? — они меня запускают — смотрю: — там родственники — сосредоточенные — Льва Семеновича крутят туда-сюда — у него тело страшного цвета — я до этого только лица их видел — они ему линялого ящера вводят в мертвое тело — обернулись — ты чего? — меня Феликс прислал — я готов — помогать — вся мелочь соболезнования высыпалась — гляжу на линялого ящера — они меня за дверь выпихнули — все смотрят — ты чего? — не понадобился (говорю) — надо, думаю, о чем-то подходящем подумать — как играли мы в шахматы — он насвистывал По долинам и по взгорьям— как он меня сардельками отравил — я блевал в ночной двор — о чем Маньке потом рассказывал — я многое ей рассказывал — она ходячая энциклопедия — Лев Семенович впустил меня в новый мир — я понял, Жуков, мою особенность — передо мной разворачивались миры, как в кино — жизнь с Ирмой стала совсем невыносимой — ее шея похудела — похожа на тощую курицу — ей со мной плохо — без меня плохо — уперлась в обиду — измены накатывались на нее через годы — в то время как Сисин несколько — не совсем, конечно — остепенился — но Папаша оказался прав, и я признал на Гавайях его правоту: — люди тратят время и силы на достижение маленького— жизнь кладут на достижение маленького — маленькоене достигается — Сисин принялся хохотать — кататься по полу — дует! — сказал он, резко вставая: — власть над дураками не приносит даже комфорта — рабочий тащит пулемет — после академической пизды со слезой — основательного Курбе — 1’origine du monde [2]— 1863 год — как радикально выкатывается вперед пизда у Боннара — в канун смены века — писал Сисин — а там Уолтер Сиккерт — без всякой осторожности — Дэвид Бомберг со своей лиловой натурщицей — и дальше — дальше в любом сексуальном Макдоналдсе наезжают на тебя гениталиями — а ведь верно — молвила моя war correspondent [3]— маленький Сисин бегал прорываться на Красную площадь приветствовать Гагарина — пролезал под грузовиками, перегораживающими улицу Горького возле «Националя» — куда теперь? — сорвать покрывало и задрать ночную рубашку, чтобы увидеть ночное пугало пизды? — переходя из одного мира в другой — не все изучив — но отведав немало — Сисин не мог не понять, что это не просто его личный опыт, а плод коллективных усилий — цепочка неслучайностей — подталкивание к заключению — и только старая ведьма в Женеве — родственница Набокова — (она так представилась) — поняла, прочитав Век Пизды, что Сисина надо убрать — она догадалась — маленькое пространство женевской жизни, на котором они оказались вместе, обостряло чувства — она сработала и за Пилата, и за толпу, и за Голгофу: — въебалась на ускорении в стену — но плохо разогналась — машина загорелась — Сисин в шоке увидел, как загорелся аккумулятор — она молодец — думал Сисин — приходя в себя — в течение целой недели на него наезжала бетонная стена — с ускорением — с тех пор он разлюбил ездить на переднем сиденье — Элла Борисовна верно поняла, что Сисин у нее отбирает маленькое право на фирн — на ее собственный фирн — на преодоление крупнозернистого снега — машина загорелась, но фирн потек уже позже, когда Сисин был далеко, с поникшей ведьмой на руках — и тогда, на Гавайях, Сисин сказал, что Папаша был прав, подготавливая всех к смерти — делать тут нечего — его выставили из кабинета покойника — Сисин почувствовал себя немного обиженным — хотелось похвастаться друзьям — как он замораживал — во всяком случае, он распространял вокруг себя не похоронную ауру — встреча на Гавайях была в целом дружеская — предложи что-нибудь другое— что я могу предложить? — вскричал, подумав, сынок — я уже предложил ВП! — Папаша кисло кивнул — люди, конечно, забавные существа, сказал Сисин — но быстро надоедают — почему я узнал о тебе так поздно? — с неудовольствием сказал Сисин — я даже не подготовился — не до конца прочел — Ветхий вообще похож на бульварную литературу — Сисин сказал уважительно: — ты интересно придумал — ты здорово связал — оживился он — долго простояло — гниет, но стоит — вообще ты тожеим надоел — признался Сисин — стал расхожей фигурой — я даже стесняюсь родства — стараюсь скрыть — неловко — засмеют — но умирать с тобой лучше, чем без — он остался ночевать — спали вповалку — онспал вечным сном — вдова ходила безутешная — на следующий день все повторилось — к вечеру стало скучно — я взял Зощенко перед сном — давился от смеха в дачную, без наволочки, подушку — боялся, услышат — все равно бы сочли за рыдания — я не заметил, как Льва Семеновича положили в гроб — взяли — несут — вдова: под ногтями черно и грязно — мне вдруг надоело, что она убивается — не то, чтобы переигрывала, но затянулось — вообще-то она хорошая — (добрее к людям) — на журнальном столике валялись письма — я полистал — он писал, что не может без нее жить — готов все бросить — пойти голым, голым! по свету — только бы она была с ним — мне стало не по себе — я был неспособен на такие сильные чувства — покойник обыграл меня в сентиментальные шахматы.
Ящик с говном — маленький тик миланской женщины в черном — ее брат разрушил итальянское искусство — в восторге шепнул мне на ухо бывший анархист пофранцузски — буоне сера, синьора! [4]— заискивающим голосом прокричал он ей вслед — ценя иерархию бунта — понаехало народу — на похоронах у него вновь проступила улыбочка нас не наебешь— молодой академик Рожнов стоял в отдалении: впечатлительный, он боялся мертвецов — ему по рангу разрешалось — были даже неизвестные поклонники таланта — это подчеркивалось в выступлениях — у гроба го-го-го сильно, гру-гру смело — блеснула новыми разоблачениями начинающий поэт-правозащитник Римма Меч — она недавно вышла на Красную площадь и теперь почти ничего не боялась — мученик вы наш! даже если вы умерли сами, они все равно вас убили — бросила загадочную фразу — мне было стыдно за мое молодое косноязычие — одну студентку-поклонницу пригласили за стол как Читателя с большой буквы — она зябко куталась в куцый платок — некоторые сочли, что она стукачка— я тоже: так было интереснее — Читатель мало пил — однако под конец подвыпил — увидев, что я самый незнаменитый, она спросила меня, кому бы показать свои стихи — все-таки она была не совсем настоящий Читатель — ну, давайте мне — она с подозрением посмотрела на меня — полезла в сумку за рукописями — тут все в одном экземпляре — не потеряйте — протянула листочки — вы разберете мой почерк? — мы с ней тихо чокнулись за победу нашего безнадежного дела— своя! — вдруг все сорвались и уехали — пьяные — непьяные — и вдову увезли, и Читателя — Римма Меч обнималась в сенях с волосатым Феликсом — их тоже увезли, от греха подальше — меня оставили сторожить дом — задание — остались одни еловые лапы — долго не гасло летнее солнце — чтобы гэбэ не приехало арестовать архив — я не очень верил — он строил дом, выращивал малины — впрочем, Лев Семенович написал два пылких открытых письма — но не отправил — изменилась атмосфера — я остался с большой бежевой собакой — согласился, не думая — они сказали: завтра приедем — я даже гордился — доверили — по буфету пронесся козлом мой преданный Никифор — доверенное лицо — я обычно проветриваю после его ухода — чего это он? — в восторженном порыве — разлетелся с чашечками кофе — я никогда до тех пор не отмечал в нем вдохновенного лица — пронесся снова — я вразвалку подошел к нему — обозначая походкой чувство превосходства — обожаемый им цинизм — он всегда был готов на скорый верноподданнический хохот — на просьбы взять в ученики — с трудом продравшись сквозь Век Пизды, Ирма похудела на пять кило — среди всех изменений, которым подверглось знание различий, признаков, эквивалентов, слов — короче, среди эпизодов глубинной истории лишь один, который начался на пороге XX века и, возможно, скоро закончится, позволил явиться образу пизды — таким образом, взяв относительно короткий временной отрезок и ограниченный географический горизонт, можно быть уверенным, что пизда — изобретение недавнее — вовсе не вокруг нее и ее тайн издавна рыскало голодное человечество — Ирма перерыла бумаги — среди черновиков нашла короткую открытку от Маньки — расписку в любви — уничтожила — она уничтожала все запретное — подозрительные фотографии — за столиком сидела Манька — он не видел ее семь месяцев — присаживайтесь — угодничал Никифор — на его лице Сисин увидел тень мужской уязвленности — Сисин не умел о нем думать — он относился к нему, как к верблюду — носильщику интеллектуального хлама — не обижал — не хотел, чтобы тот надорвался — а мы как раз о вас говорили — сказал Никифор — ругали небось? — как можно! — я себе новый псевдоним придумал — похвастался Никифор — опять, наверное, неудачный — огорчился Сисин — Манька, улыбаясь, смотрела на Сисина — ну, чего? как дела? — спросил Сисин, пока Никифор бегал за кофе для него — хорошо — улыбаясь, сказала Манька — ты такая родная — сказал Сисин — страшное дело! — вы с сахаром? — донеслось из буфета — наживаешь себе очередного врага — заметила Манька — враги и женщины мне были утешеньем— что? что? — Пушкин — пожал плечами Сисин — или развлеченьем— заложница хорошего вкуса поморщилась — какая разница между Пушкиным и вами? — у Никифора забегали глаза от восторга — вы более крутой— только, пожалуйста! — взмолился Никифор — будьте еще покруче! — Сисин одобрительно кивнул головой — подбросить тебя? — Манька с готовностью встала — Никифор улыбался улыбкой объебанного тинейджера — пока — Сисин крепко пожал ему руку, строго заглянул в глаза — ты работаешь? — спросила Манька в машине — работаю — злобно сказал Сисин — в самолетах, что ли? — спросила Манька — в самолетах тоже — сказал Сисин — зачем ты мотаешься? — я покоряю Запад — зачем тебе это надо? — я выполняю секретное задание — честно признался Сисин — какой же ты дурак! — надо будет как-нибудь пообедать, что ли — неопределенно сказал Сисин — подвезя ее к дому — помня о договоренности не звонить и не встречаться — давай — без особенного затруднения сказала Манька — я тебе позвоню — сдерживая радость, сказал Сисин — она отвернулась жопой и не дала — оставшись один, он пошатался по комнатам — поднялся наверх — бессонная, разбросанная постель совсем свежей вдовы — ее черные очки — голубой лифчик — маленькая, тщеславная женщина, никак не желающая стареть — он надел черные очки, накинул на свитер голубой лифчик, залез в холодильник — там, как после дня рождения — соленые рыжики — малосольные огурцы — водка — Сисин выпил рюмку — заел огурцом — закусил семгой — подумал о том, что вдова не без удовольствия на поминках рыжики ела — нам всем нужно побольше есть — поддержала ее правозащитница Римма — иначе покойник обидится — интеллигенция задвигала челюстями — зажег свет — Пастернак с предисловием Синявского — Цветаева — Ахматова — вашингтонское издание — первый том Мандельштама — «Над пропастью во ржи» — шаг в сторону: Бабель — Бахтин о Достоевском — деревенские соседки пришли и завыли — запричитали — да так натурально — что все московские обратили внимание — нет, умеют же! — с умной радостью заметил Рожнов — жаль, не было магнитофона! — собиратель фольклора — Сисин понял, что боится зайти в кабинет — как будто Лев Семенович мог до сих пор там лежать — он позвал Виконта — плохая большая фотография Виконта с хозяином в теплой клетчатой рубахе висела на стене — Лев Семенович с нас не наебешьназидательно похлопывал его по спине — надел ошейник — Виконт уперся на пороге кабинета — не шел — ладно, громко сказал Сисин — гулять! они погуляли по пустой деревенской улице (Сисин в лифчике, но без черных очков) с редкими фонарями — когда вернулись, было совсем темно — Сисин зажег в сенях свет — вошел в большую комнату — он сразу понял, что Лев Семенович здесь — Сисин был приплодом без предрассудков — он вошел и почувствовал, что Лев Семенович здесь — не в смысле, что в кабинете — в гробу — а в разлитом состоянии, везде, по всему дому — может сгуститься в любую минуту — Сисин сначала подумал, что это так ему кажется после улицы, свежего воздуха — встреча с покойным ничего хорошего не сулила — Сисин подумал о девяти днях — о всех этих делах — бежать в дом отдыха было поздно — линялый ящер — Зощенко — наконец лифчик — Виконту тоже нехорошо — Сисин схватил «Яву», закурил, сказал примирительно: — лифчик — шутка! — никто не ответил — я знаю, что вы здесь — в жизни Лев Семенович говорил ему «ты» — Сисин отвечал «вы» — это радует — Сисин испугался, что тот сгустится — нет — заторопился он — меня не то, что вы здесь — меня радует, что это вообщеесть — выходит, жизнь больше жизни — объемнее — многогранней — мы с вами сейчас становимся предметом доказательства — осторожно внушал ему Сисин — а за Зощенко простите — но уж больно смешно — Сисин отчетливо чувствовал, что Лев Семенович колеблется: сгущаться или нет — Сисин направился к лестнице — в общем, решайте сами! — крикнул он, поднимаясь по деревянным ступенькам — залез в кровать вдовы — натянул одеяло — с головой — было пыльно — не выбивают, что ли — подумал, нервно облизываясь — от страха Сисин вынул из штанов хуй — помял его — тот откликнулся — ишь ты — и стал с интересом дрочить — сгоряча он настроился было на Римму Меч — на ее поцелуи с Феликсом в сенях — его отвлекли грязные волосы девушки — не могла на похороны волосы помыть — или это у них революционный обет? — в голову пришел Фидель Кастро — они школьниками репетировали в Лужниках — на самом верху человек с флажками — взмах обеих рук — дружно кричим вива Куба! — один флажок — скандируем Фидель! Фидель! — три часа тренировались на солнцепеке — Фидель Кастро классно играет в баскетбол — Фидель Кастро классно ебет все, что шевелится — Фидель Кастро классно принимает роды у бесплодной Ирмы — Фидель Кастро классно оппонирует у Сисина на защите диссертации — Фидель Кастро классно проходит красной нитью — когда приехал Фидель Кастро, во флажках запутались — все заново — не найдя ничего лучшего, он выбрал курносого Читателя — дверка распахнулась — его забрало — это был путь— он пошел — он пошел — замелькали десятки стрижек: мыском, впадинкой, горкой, в виде портретов знаменитых людей, симпатичных рожиц — парикмахерская — подумал он — зачем? — Сисин остановился — Читатель не проходил — он потрогал на себе лифчик — какие они у тебя маленькие — шепнул он вдове— маленькие и вялые — дрябленькие — носом поймал ее запах — увидел зареванное личико — черное платье с оторванной пуговицей — зажал ее голову между колен — ну, возьми! — приказал — они завозились — блядь! сука! вдова! — он засопел — вздрогнул — простонав — «хорошо» — спустил в простыню — раздались шаги — щас убьет — Лев Семенович взволнованно поднимался по лестнице — слышно его ревнивое дыхание — Сисин вскочил в кровати — на него с визгом бросился перепуганный пес — вместе зарылись под одеяло — обляпал Виконта спермой — обнялись — лежали, не шевелясь — только мелко подрагивали — густо пахло молодой спермой — пропел петух вдалеке — потом второй — третий — после петухов полегчало — значит, не врут про петухов — он обрадовался — он попал в верный круговорот — со своими правильными законами — засыпая в обнимку с собакой.
Здравствуйте! — Сисин спит — звонит звонок — он берет трубку — он любит ложиться поздно — вставать поздно — как все нормальные люди — алло! — Сисин сидит на кровати с открытым ртом — пришел его черед — он этот звонок ждет который год — он знает, что каждое слово, которое он теперь произнесет, будет взвешиваться на весах врагами и Риммой Меч — каждое — да — говорит он — здравствуйте — нам бы хотелось с вами встретиться — с ним гово рят доверительно, на диалекте понимаешь-понимаешь — они подставляются — кто «мы»? назовите фамилию! пришлите официальную повестку! — он этого ничего не говорит — он говорит: давайте завтра — но на его примирительный тон, на закрытие глаз по поводу нарушения всех приличий и приглашения участвовать в неприличии трубка реагирует без всякого восторга — а как насчет сегодня? — то есть все бросай и встречайся — это задевает Сисина — но если откладывать, то будешь думать, чего им от тебя надо — и можно думать так до бесконечности — и от этих дум ослабнуть — поддаться — он говорит — хорошо, давайте сегодня — что, если в два? — давайте в два — у метро «Кировская», идет? — у памятника, я буду с синей папкой в руках — наступает момент его мести: — опишите себя — я буду с синей папкой! — понимаю, но вы большой или маленький? с бородой или без бороды? — без бороды, маленький — цвет волос? — я блондин, но с залысинами — то есть плешивый? — трубка зловеще молчит — значит, в два? — он идет под душ — теперь сразу не убивают, но у него много грехов — выходит на «Кировской» — поднимается из неглубокого метро — он немного опоздал — он хочет посмотреть на блондина — обходит Грибоедова — тот стоит с синей папкой — Тегеран, я еще не хочу умирать! — Сисин ему через плечо: здравствуйте! — тот вздрагивает — Сисин понимает, что зарабатывает черные шары — но ничего не может поделать с собой — сладко пахнет белый керосин — тело с трудом опознали по кисти левой руки, простреленной на дуэли с Якубовичем — тот шуршит плащом — здравствуйте! — ну, куда пойдем? — агент становится вдруг совсем человечным — пойдемте в столовую неподалеку, они вкусно жарят колбасу — какую еще колбасу? — агент примирительно: докторскую, тут совсем рядом — и действительно — нормальная вонючая рыгаловка — но почему-то жарят колбасу — впрочем, Сисин не большой знаток общепита — вы будете что-нибудь есть? — Сисин: «Столичный» салат — агент оплачивает из казны — садятся — агент похож на человека, который умеет обживаться — в гостинице такие первым делом распаковывают чемодан, выкладывают сорочки, вешают в шкаф на плечики галстуки, костюм — полная противоположность Сисину — тот чемодан вообще не разбирает — от их тела пахнет чем-то чересчур домашним — агент ест колбасу с макаронами — агент завел разговор о домашних выставках — скажите, почему молодежь интересуется Хлебниковым? — как вы сами к нему относитесь? — никак — вот и ваши знакомые итальянские профессора интересуются Хлебниковым — которые к вам домой приходили — им напрасно выдали визы — я им виз не выдавал — а вы шутник — кстати, ваш дружок на машине ездит пьяный — дружок? — а тот, у кого вы смотрите французские фильмы на языке — парлэ ву франсэ? [5]— нэ с па? [6]— вчера разбил свою дипломатическую тачку при въезде в туннель возле американского посольства — повредил фонарь — придется дипломату раскошелиться — а все-таки, почему Хлебников? — Сисин слушал — соображал: пугают, вербуют — откажусь — обойдется — сильно приебутся — не должны — агент понижает голос — меня интересует другое — Сисин весь в невкусном салате — вы уже догадались? — я недогадливый — я вас сейчас удивлю — отложил вилку с колбасой — вы что, актер? — замирая от ужаса, брезгливо спросил Сисин — а вы знаете: да! — играю в нашейсамодеятельности — люблю стихи — я люблю смотреть, как умирают дети — нет, я этого никогда не читаю — упаси бог! — догадываетесь, откуда у меня интерес к Хлебникову? — свобода приходит нагая — как прикажете это понимать? — здесь, к сожалению, не курят — Сисин потушил сигарету — кстати, ваш папа любит стихи? — я передам ему ваш вопрос — вы, конечно, сами понимаете, что не стоит — итак, я обещал вас удивить — ну, давайте — ах, эта ирония! — она разъела не одну душу — (без остановки) — расскажите мне о вашей секретной телефонии — таким сладострастным голоском — Сисин медленно поднимает глаза — положив за правило в жизни ничему не удивляться — он не может не выдать своего крайнего изумления — пластического образа, для которого даже не находится в арсенале его гримас — агент видит перед собой небывалое лицо Сисина и потирает ручки — так что же? — они всё знают — допустим — но это тайное знание, по крайней мере, не материально — по определениювам полагается заниматься вещами, находящимися в рамках материалистической интерпретации мира — остальное за гранью — на что блондин — с залысинами — откуда у вас такие сведения? — мы занимаемся всем — Сисин никому никогда об этой перекличке голосов — он растерян — да вы успокойтесь, забеспокоился агент, в конечном счете, это касается — агентство в агентстве — особая связь — ничего общего не имеющая с государственными задачами — и он как офицер этой связи определен для встречи с целью выяснить, насколько она прочна и устойчива — ммм — говорит Сисин — и я как офицер этой службы, естественно, ваш маленький подчиненный — с ноготок — показал мизинец — ведь вы выдвигаетесь на пост внука — в каком смысле выдвигаюсь? — ну, все описательное приблизительно — оживился агент по связи — в наш век демократии даже пост внука — выборный пост — надеюсь, не станете возражать, хотя вы наш век определили по-своему— тут он хихикнул — крепким словцом — простите за колбасу — колбаса — конспирация — иначе стоять бы мне здесь по стойке смирно — пожирая вас счастливыми глазами — блондин посмотрел на Сисина чуть влажноватыми застенчивыми глазами — соглашайтесь, сказал блондин — я песчинка в сравнении с вами — но если позволите посоветовать — мы вас ценим — время распредмечивается без особых причин — соглашайтесь — Сисин молчал — извините — сказал Валентин — может, вы испытываете какие-то затруднения? — я могу вам быть полезен? — не валяйте дурака — сказал Сисин — я живу на внутренние рецензии, половину которых пишу под чужими фамилиями — Валентин кивнул — знаю — если вы знаете, то зачем эти вопросы? — мне казалось, вы сами выбрали то, что хотели — Сисин снова поднял глаза — да-да — вы не так глуп, как кажетесь — у вас есть особые желания? — есть — сказал Сисин — нельзя ли это снять? — он незаметно показал на лозунг, висящий поперек улицы — снять? — да-да — именно этот лозунг? — ну да — помолчал — и все остальные тоже! — добавил из наглости — и Ленина вынести из мавзолея? — подмигнул агент — Сисин усмехнулся — кивнул одобрительно — а что на место? — ну, что? — ну, что-нибудь — нормальную демократию — кровь прольется — сказал Валентин — сделайте без крови — сказал Сисин — я схожу с ума — схватился он за голову — ошибаетесь — заверил Валентин — это не так сложно, как вы думаете — ну, тогда проливайте — разрешил Сисин — страна развалится — предупредил Валентин — империя, не страна — поправил Сисин — значит, развалим — сказал Валентин, доставая записную книжку и записывая в нее — что еще? — только не много проливайте — наказал Сисин — постараемся — сказал Валентин и снова что-то вписал в блокнот — пойдем мягким путем — потихоньку — радуясь новому делу, обещал Валентин — мелкими подвижками — неужели получится? — получится, почему нет? — удивился Валентин — развалим! — только вот что — он замялся — жалеть не будете? — в смысле внутренних рецензий? — усмехнулся Сисин — в смысле жизнеощущения — сказал Валентин — в смысле мечты — не думаю — сказал Сисин — тогда начнем — сказал Валентин — устроим чехарду — заготовим венки — уроним гроб — повеселимся! — он подмигнул Сисину — значит, мы надеемся на ваше согласие — то есть? — ну, на внучатость — сначала развалите! — уговор дороже денег! — ну, ради России — то есть очищения от этого — агент брезгливо поглядел на лозунг — ради России я, пожалуй, готов — да-да — я готов — подождите — снова засомневался Сисин, и его лицо быстро приняло усталый вид — а вы себя не переоцениваете? — Валентин скромно пожал плечами — Сисин в задумчивости играл алюминиевой вилкой — агент зашептал официальным шепотом: могу ли я передать, что канал связи устойчив и вы можете выйти с нами на связь в любую минуту? — да, ночью — кивнукСисин — Господи, как же я вас люблю! — прошептал агент — простите, невольно сорвалось — вы понимаете только в характере связи или также в самих сообщениях? — как офицер я допущен до смысла — пролепетал офицер — речь идет, как я понимаю, о ликвидации — сказал Сисин — зачем же тогда перемены? — Валентин наморщил лоб, соображая — для наглядности! — ах, вот что! — сказал Сисин — ну, поживем — увидим — сказал офицер с хитрецой — в конце концов, вы же не будете на меня давить — сказал Сисин — а вдруг перемены приведут нас к смыслу? — посмотрим — повторил Валентин — что касается вашей роли, то позвольте вам отменить внутренние рецензии — синхронизируя с переменами — но ни на месяц раньше срока — в пользу бедности правдоподобия — чем бы вы хотели заняться? — во всяком случае, не общественной деятельностью — тогда чем же? — слушайте! — он с обожанием вгляделся в Сисина — а давайте вас прославим — давайте издадим во всем мире ВП— книжонка того, несомненно, заслуживает — не в пример Детям— желаю вам поскорее ее дописать — а ликвидация? — снова поинтересовался Сисин, пропуская многие детали разговора от волнения — Богоугодное дело — пролепетал офицер — вы поосторожнее с иностранцами — произнес он погромче и даже посмотрел по сторонам, спускаясь на первый этаж конспирации — от нее изжога, но я люблю — признался по-дружески Валентин, тыча в колбасу алюминиевой вилкой — не дают здесь ножей! — боятся поножовщины — засмеялся Сисин — я поцелую под столом вашу руку? — офицер побледнел от волнения — я незаметно, никто не увидит — ведите себя прилично — сказал Сисин — понимаю — не обиделся агент — так вы соглашайтесь, пожалуйста — вы даже не знаете, как все вас хотят — ну чего? — я пошел — позвольте удалиться в мире в свои порядки — Сисин в задумчивости шел по бульвару — Богоугодное дело — прошептал он.
Налей стакан — во что хочешь поверю — сказал Жуков — Сисин вынул (сервант был дубовый) бутылку водки — первое чудо! — возликовал Жуков — где взял? — он еще пытался сопротивляться — конечно, мир подл — сказал он — и как поступить с ним — неясно — особенно с Западом — но Россия — подари ей немного счастья — что значит счастья? — удивленно спросил Сисин — я сидел в компании русских предпринимателей с глазами вчерашних фарцовщиков — замечательные ребята! — вставил Жуков — внутри Жукова жила хитрость человека, который верит в свою страну, как в первую любовь — они будут меценатами — придут к соборности — вот увидишь — Сисин потрогал себя за ухо — в последнее время — задумчиво сообщил он — у меня на ушах стали расти волосы — как думаешь, к чему бы это? — к беде! — выкатил на него глаза Жуков — к беде! — ты отстаешь от жизни — оглянись! — Москву не узнать — иностранцы на ее улицах девальвировались и стушевались — Россия рванулась к счастью — Москва — не Россия — посерьезнев, возразил Сисин — эх, боюсь, перетянет свинцовая задница! — какое счастье можно предложить этой стране? — с нутряной болью размышлял он — энергичное счастье потребительского рая? — не только! — схватил его за руку Жуков — ты посмотри на жизнь проще — заведи собаку — поверь в простые удовольствия, вроде бани — я был в бане — ответил Сисин — но ведь ты никого никогда не убил! — как ты можешь? — это же — это же мировойДахау! — зачем же Дахау? — огорчился Сисин — будет найден достойный, цивилизованный способ — Женька, пожалей хотя бы Россию! — отстань ты со своей Россией! — улыбнулся Сисин — это чужая страна, говорящая на русском языке — ты ничего лучшегоне придумал?! — это не я — это голоса — ты, Жуков, совместил в себе всех: от Фомы до Иуды — Сисин давно не виделся с сестричками — в конечном счете, они собрались и уехали — расползлись по Скандинавии — по Америке — по другой стороне улицы Воровского шла редакторша в дикой шляпе — с православными наклонностями — она одевалась во все тесное, несмотря на частые поездки за рубеж — она подкидывала Сисину работу — подойти — не подойти — он все-таки перешел — они разговорились — Женя! — окликнула его радостно одна из сестричек — старшая — они давно не виделись — там садик рядом — посиди в садике — я сейчас приду — он долго говорил с редакторшей — думал, сестричка ушла — дальше он твердо не помнит — она сидела на скамейке — это что за уродка? — благодетельница — смиренно ответил Сисин — разговаривать было не о чем — нет, кажется, это была младшая — Читательс похорон — привет! — привет! — возможно, это была младшая — та, что впоследствии ему отравила вечер — та, что когда-то прыгала при ебле — она считала правилом хорошего тона бойко прыгать — Сисин подумал: прыгучая — уложил вместе — они хихикали, терлись грудями — они показывали друг другу сисинский хуй — и старшая сказала младшей: — правда, он Аполлон? — младшая побежала к лифту — пьяный Сисин вышел на лестницу, столкнулся с соседом и, даже не махнув рукой, отступил домой — не успел оглянуться, как старшая тоже ушла — проснулся утром — горел кругом свет — все было засрано — нельзя мне пить — вздохнул Сисин — как они боролись против советской власти? — ты был диссидентом? — спросил Сисин своего друга Спиридонова — да — ответил тот — я отвинчивал гайку социализма — конечно — он уложил сестричек в одну постель — Жуков отдыхал в соседней комнате с Софьей Николаевной — Сисин подумал: будущие супруги восхищаются его ловкостью — на самом деле, они прожгли ему одеяло своей папиросой — посмотри, какой Аполлон! — Аполлон лежит в другой комнате — сказал Сисин, намекая на Жукова — мы покатились по кровати от хохота — Сисин стоял в садике, не зная, что спросить — как дела? — слушай — сказала младшая — а старшей там, по-моему, вообще не было — была! была! — вспомнил — кажется — у меня есть подруга — Сисин прислушался — по тону было почему-то сразу ясно, что дальше будет интересно — старшая заговорщицки молчала — он сделал равнодушный вид: — ну? — она красивая и умная — ей скучно замужем — она ищет себя и не может найти — хочешь с ней познакомиться? — в смысле траха? — спросил Сисин — в смысле всего — сказала сестричка — красивая? — доверчиво переспросил он.
В узком коридоре висела длинная фотография с рукой — погадайте на счастье — вот она, но это не самая лучшая — Сисин слегка разочаровался, но виду не подал — в жизни она лучше, сказала младшая — у Жукова на дне рождения в решающий год диссидентской возни — он с ними пришел — как встретила его ранним утречком Ирма? — по морде — по морде — он, взбесившись, ударил в ответ — бедная женщина — за что она мучается? — в жизни она лучше — она пришла в широкой сине-белой юбке с грязным пятном на попе — коричневое пятно — она была угловатая — он принялся рассказывать всякие истории, которые заинтересовывают девушек — она слушала его без особенного энтузиазма — шло время — с неподдельно слабым вниманием — вышла посекретничать с младшей — заторопилась домой — Сисин тоже встал — я подвезу — она чуть задумалась — спустились в лифте — сестрички напоследок не подмигнули — сели в машину — с трудом заговорили о ерунде — она вдруг сказала: — я раньше даже не знала, как пишется пизда: через и или е — Сисин воспрял духом — знакомство состоялось — обязался поставлять самиздат — Сисин поставил диссидентство на службу блядству — он ехал дальше один по кольцу и думал, что она симпатичная — все это так и осталось тайной — позже, когда он спросил о смотринах — как сестрички ей объяснили его? — она быстро все отрицала — вплоть до того, что не знала, что с ним там увидится — сестричкам он никогда не задал вопрос — не пришлось — он считал, что нашел ее на помойке — в Новгороде — во время единственного с ней путешествия — он сказал ей, что с ним она высоко залетела — в очереди в пивной бар — подавали пиво с черными сухарями, облепленными солью — Сисин это любил — он посмотрел на окно под потолком — дело было в подвале — шумели — шумел вентилятор, вставленный в форточку — высоко залетела — на следующее свидание шел дождь — она стояла у большой вазы с козлиной мордой, жующей плющ — он охуел, какая она красивая и молодая и замечательная — они три часа просидели в машине во дворе — куря — он передал книжку — потрогал ее пальцы — интересуясь — кольцами — серебряными — носила только серебряные — посмотрел, что на шее — она сказала, что ее плохо понимают родители — даже папа — она одна в мире — красивая шея — он боялся сделать неправильный шаг — он уже боялся ее потерять — расстались до осени — он поцеловал ее в щеку на прощание — еще раз в щеку — потянулся поближе к губам — она мягко отстранилась — смотрел, как она уходила — когда я решился убрать людей — сказал Сисин — я стал несколько лучше к ним относиться — а Маньку не жалко? — всех жалко — но если всех вместе — все равно: — рано или поздно умрут — потянулся поближе к губам — на каком языке вы разговаривали? — спросил Жуков — Сисин помолчал — на английском — почему? — не знаю — у него был ближневосточный акцент — добавил Сисин — как у террориста — он нам подходит — думал Жуков о Сисине — слухи о его космополитизме преувеличены — он откликается на русские вопросы — договорились встретиться 7 сентября напротив ее работы — в четыре — Сисин ехал туда на машине через центр — мимо Сандуновских бань — однажды не пришла вовсе — Сисин просидел полтора часа под проливным дождем в машине — окна запотели — он боялся ее пропустить — выбегал на дождь — забегал во двор — но на кафедру не поднялся — обкурился — жутко хотелось п исать — уехал злой и подавленный — здравствуйте! — сказал Сисин — очень обрадованный — у нее тоже была довольная, загорелая морда — Бормотуха, с крепкими сиськами, оценила Манькину красоту — надо же, не блядь себе нашел — членораздельно порадовалась она за Сисина — Бормотуха умела пускать высокие фонтанчики из спермы, как никто — сперма долетала до потолка — даже в квартирах с трехметровыми потолками — куда бы поехать? — поначалу она просила сводить ее в бар — бар на бульваре, с пустыми бутылками из-под виски, с пустыми, продавленными блоками иностранных сигарет в качестве декорации — Сисин терпеливо поил ее коктейлем — наобум, без звонка поехали к Стасу, живущему неподалеку — он забавный — увидите — она не увидела — поднявшись по темной лестнице, они оказались перед запертой дверью — никто им не отпер — у него сосед — известный художник-стукач — сказал Сисин — на кого он стучал? — забыл — сказал Сисин — какая-то известная история — они говорили без умолку — хотя пространство их разговора еще никем не было заселено — поехали к моим родителям — на Малую Грузинскую — предложила она — она провела его к подъезду со всеми предосторожностями — опасаясь лифтерш — это хорошо — отметил про себя Сисин — Маньке Жуков не нравился как писатель — она находила, что в нем не хватает — чего в нем не хватает? — он чудесный — сказал Сисин — если в нем не хватает — то в ком хватает? — и рассказал ей, как трахнул Жукова — Маньке рассказ очень понравился — видя Жукова, Манька не могла отделаться от картинки ебущихся друзей — Жуков долгое время был сисинской игрушкой — однажды Манькина мама увидела Сисина по телевизору — я думала, он симпатичнее — сказала она дочери — я просто устал тогда — но Сисина это задело — на кого она похожа? — на мать? — неважно — она могла вообще существовать только на время их встреч и потом складываться в коробку — отца он видел, когда тот заехал на новой тачке — Манька подошла к окну — изобразила радость — в окно лезло дерево — Сисин посмотрел вниз, сквозь освещенные заходящим солнцем листья, не очень показываясь — внизу стоял африковед — под шестьдесят, в куртке с меховым воротом — толстое лицо не запомнилось — африковед подпрыгивал и оттопыривал большой палец — она говорила, что отец никогда не узнал об их отношениях — она позже говорила об отце только хорошее — не вспоминала, как он ее не устраивал — Сисин отвернулся — Ирма не казалась тогда исчерпанной до конца — ее настроения еще были пестрыми — Сисин думал о том, что измены продлили до бесконечности его несчастливую семейную жизнь — они породили в нем вечный заискивающий подхалимаж, который был или пост, или предызменой — африковед очень любил общаться— по Манькиным словам, отец был любителем приглашать к себе в гости — африковед общалсяс сисинским приятелем из модного театра — Сисин хотел было расспросить приятеля — кто и что — да как-то не собрался — мать бурно готовила к приходу гостей — многое ставилось на стол — многое доставалось Маньке на следующий день — одинокая, она доедала баранину прямо из кастрюльки — у себя на кухне — по белому кафелю пробегали изредка тараканы — она там насмотрелась на единомышленников покойного Льва Семеновича — единомышленники терпеть не могли автора Века Пизды — и правильно делали — Сисин стал промежуточной фигурой — приходили молодые люди — у них почти всегда что-то не складывалось с магнитофоном — они в него дули — девушки тоже дули — когда-то Сисин мечтал о том, чтобы у него хоть кто-нибудь взял интервью — засыпая, он думал об этом — теперь он кисло относился к газетному жанру — по которому его будут исследовать — если он откажется от потопа и пригодится — Ирма бесилась — хлопала дверью на кухне — не здоровалась — говорила громко, чтоб они слышали, что какие-то чужие люди приходят почем зря — у всех знаменитых людей жены стервы — Сисин смущался — подбадривал — говорил в микрофон больше, чем нужно — Сисин в ужасе читал свою дрянь — какой бы имиджпридумать себе, чтоб полегчало? — но не хотелось быть связанным имиджем — наконец буквально на цыпочках они проникли в родительскую квартиру — коридор вел прямо на кухню — на стенах висели африканские маски в большом количестве — тогда видео было еще в новинку — валялись кассеты — прошли на кухню и сели — попили чая — насчет чая Манька всегда пожалуйста — хорошие маски — большие — похвалил Сисин — их натирают ваксой, как ботинки — сказала Манька — вот оно что! зачем? — чтобы они выглядели из черного дерева — черное дерево на самом деле не очень черное — везде надувательство — притворно возмутился Сисин — а это маска быка — она пятнистая — Сисин надел пятнистую маску быка — Манька засмеялась — Сисин заревел быком — задохнулся от пыли — закашлялся — ваш папа — африковед? — спросил он сдавленным голосом — что вы! — зачем тогда маски? — почему бы и нет? — в самом деле — согласился Сисин — почему бы и нет? — все равноон запомнил ее отца как африковеда — вы тоже собираете маски? — я ничего не собираю — сказала Манька — а это маска белого человека — сказала она — видите, какое узкое лицо — она очень грустная — так они представляют себе белых людей — хотите примерить? — Сисин взял маску в руки и, вместо того, чтобы примерить, поцеловал Маньку — она поступила согласно классической, закодированной схеме — сначала сопротивлялась — отталкивала — отталкивала все слабее и слабее — ну что вы в самом деле! — шепнула она — не надо! — потом как бы смирилась и поцеловалась — он так до конца и не понял: где что? — где код, где игра, и насколько вообще девыотдают себе в этом отчет? — перешли в комнату — Сисин осторожно положил на стол с кружевными салфетками маску белого человека — лучше всего он помнил в жизни моменты конфуза и унижения — он помнил — как многие советские люди — как приходилось раздвигать ягодицы — проходя медицинский осмотр в военкомате — среди подозрительных медсестер — ошалевших от зрелища множества анусов — с тех пор он возненавидел армию — сладкий предмет унижений, он их воспринимал интенсивно и живо, на 300 % — потом он раздвигал ягодицы женщинам — он сполна отомстил полковнику Рубинскому — Сисин пристально вглядывался в женский анус — который его волновал как победа — Жуков думал, что Сисин нашел дешевые формы жизнеотрицания — он делал вывод, что Сисин, конечно, оранжерея— оранжерейной была и Манька с ее школьными флиртами — Сисин путался в ее биографии — каким образом она оказалась на вечернем? — почему не перевелась на дневное? — фиктивно работала секретарем — у кого? — ее устроили — он стал волноваться, раздвигая негустые заросли воспоминаний — оказалось, он многое нецепко схватил — не усвоил — наконец, совершил чудовищную ошибку — забыл, какогоиюля у нее день рождения — все-таки некоторую энергию он отдавал борьбе с режимом — Манька борьбой не увлекалась — она как будто подозревала, что вскоре все кончится само собой — Валентин не подвел — Сисин чувствовал маленькие изменения к лучшему на собственной шкуре, не мог нарадоваться — он раскисал, умиляясь таянию идеологии — Валентин обладал специальной способностью быстро выветриваться из головы — на Валентине трудно было сосредоточиться — при всех его конкретных политических действиях — это был нестойкий образ — империя трещала по швам — молчавший годами телефон на квартире у Сисина звонил все чаще — все звонче — звонил непрерывно — только Валентин не звонил — у Сисина было такое выражение лица — он не умилялся, а думали: он умиляется — бывало, однако, слезы стояли у него в глазах по пустякам — слишком много было всяких впечатлений — меня окружили— неожиданно заключил Сисин — Жуков зевнул: пора спать! — он поднялся на второй этаж дачи — лежал в теплой господской постели, долго не мог заснуть, глядя в звездное небо — глубоко дыша свежим воздухом — Жукову пришло в голову, что Сисин мерзко его надувает — только зачем? — зачем? — договорились встретиться завтра — назавтра они снова поехали в квартиру ее уехавших в отпуск родителей — он был там в последний раз — снова попили чая, снова поцеловались — поцелуи были вкусные — зачем Сисину дали больше других? — очевидно больше — но чтои зачем? — поскорее бы догадаться, чтобы не обосраться — засыпая под утро, подумал Жуков — Сисина охватила неясная тревога — они опять перешли в комнату на диванчик — маска белого человека по-прежнему лежала на столе — она редко носила юбки — у нее были толстоватые ляжки — после понравившихся сисек — она тоже полезла к нему в джинсы, расстегнула — достала с большим любопытством хуй — он видел, что хуй ей понравился, произвел впечатление — она косила глазом на новый хуй — она улеглась к нему на грудь — чтобы получше рассмотреть — не спеша — в подробностях — но чтобы он не видел, как она рассматривает — по части хуев у нее были свои приоритеты — во всяком случае, она не любила востренькие— как наточенный карандаш — востренькиеона терпеть не могла — Маньке было не очень приятно брать их в руки — тем более, в рот — многое зависело также от цвета — самое безотрадное впечатление производили на нее серые, как будто запылившиеся члены, с точечками черных угрей — сося, она представляла себе рабочий поселок с одинаковыми четырехэтажными домами — длинная улица, по которой проносятся грузовики — обдавая деревья, прохожих и подорожники пыльным ветром — трудовой, беспросветный рукомойник на кухне — пеленки — некрасивые трусы — газовая плита с плохо отрегулированными конфорками — сломанные ярко-синие почтовые ящики в подъездах.
Просто на тебя скверно подействовала свобода печати — сказал за завтраком Жуков — запретный плод — это болезнь поколения, которой ты оказался заражен сильнее и глубже других — но ничего — внушал Жуков — идет преодоление — общей чертой у нас с Манькой была особенность подмечать в людях дурное и слабое — ты понимаешь, если все мыслят на таком слабом уровне, то какое в их головах возникает представление о мире? — ужас! — она понимала меня — я так и не собрался сходить с ней в кино — раз был в музее — ходили, смотрели Шагала — с Шагалом все было ясно — со всеми все было ясно — такие хуи выдают пролетарское происхождение их носителей — Манька сбегала в ванную — вынула ватку — позже это стало постоянным делом — она всегда чуть подтекала — из-за спирали — она пришла из ванной с полотенцем — толстый сисинский хуй — с большим удовольствием Сисин засунул ей хуй — двести — засопел он, засовывая, еще не совсем засунув — ну да — придавил ей колено к груди — семьдесят — три — нечетная — поздравил себя с новой пиздой — напрасно он ждал трепыханий — расслабься! — живот у Маньки напряженный — нос заострился — не зажимайся — не понимает — куда смотрит муж? — она была совсем не разъебанной — лежала жесткая — деревянная — наблюдая со стороны, как ее ебут — заложив руки за голову — с сузившимся лицом белого человека— Сисин кончил в недоумении и в восторге — кончил и впервые с тех пор, как с ней познакомился, заторопился домой — это стало традицией — они ни разу не выпили послетрахательного чая — сначала трахались дважды — потом сползли к одному разу — у меня менструация — тихо сказала Манька, ложась на диванчик — покрытый черно-красным дагестанским ковром — между нами нет менструации! — с неожиданным вдохновением сказал Сисин — крылатые слова решили исход встречи.
Кевин Росс образцово вел заседания — «как сказала в своем замечательном докладе…» — Кевин с прилежным лицом все выслушивал — записывал — тише! — Сисин ерзал, всем мешал — Сисин умирал от скуки на всех этих симпозиумах, коллоквиумах, съездах, конференциях — семинарах по русской душе — ему все время хотелось выбежать вон из университетских декораций и покурить — менялись дворцы, цирковые тенты, натянутые на главной площади, фестивали, студенческие аудитории в фашистском стиле, библиотеки с непереваренными книгами, четырехзвездочные гостиницы, общества дружбы с развевающимися флагами, устроители, уставшие от собственных улыбок — конверты с гонорарами — не забыть расписаться в получении — аэропорты с растерявшимися старушками — обмен денег — личные досмотры — относиться серьезно — бесплатные газеты — ужины щедрых спонсоров в одинаково расстегнутых плащах — бары с ночными дринками— «Блади Мэри» — скоч — еще раз скоч — темное пиво — томительное недосыпание — немецкие обильные завтраки — омлеты — всегдашний апельсиновый сок — перевирание иностранных имен — городские экскурсии — церкви — церкви — церкви — гиды с отсутствующими глазами — устойчивое единствофильмов, рекламных щитов, сэндвичей с майонезом, перекрывающее любые попытки урбанистических вариаций — душные музеи — постоять в коридоре — Сара тоже была активисткой — на всемирном конгрессе по достоинству человеческой личности — который с улыбками открыла голландская королева — Сара произнесла пламенную речь — безбоязненно посвященную больному вопросу женского обрезания — некоторые утверждают — зазвучал приятный телеголос, полный экзистенциальной резиньяции — что наши наружные органы отвратительно воняют и делают женское тело нечистым — это домыслы женоненавистничества — гениталии обоих полов имеют запах! — причем у мужчин запах сильнее, поскольку они мочатся и выпускают свою малофью из одного отверстия — и этот жиклер они опосля редко чистят — если не сказать вообще никогда — тем не менее их никто не заставляет пользоваться пенисным спреем — допустим, что искалеченная женщина с кольцом, как у кобылы или коровы — если их владельцы не хотят, чтобы она детородила, пока на вольных пастбищах пасется — это еще в Верхнем Египте практиковалось — фараонская затея — римляне тоже надевали кольцо на мужскую залупу — особенно гладиаторам — но если женщина перестает испускать росистую жидкость, сигнализирующую о возбуждении — Сисин ковырял в ушах, мерно горящих от наушников и синхронного эмигрантского перевода — то возникает еще более вонючий запах в мясных карманах — что противоречит первоначальному утверждению о борьбе с вонью — Сара отпила глоток воды и продолжала, смело глядя в аудиторию — красивая шея — думал Сисин — сначала его принимали за своего — совали листочки, ксероксы, возбужденно обсуждали сообщения, делились мыслями — говорили о вреде телевидения — о засилии массовой культуры — о расизме — голландцы исподтишка не любили немцев — немцы боялись кого-нибудь не любить — и тихо сидели — до поры — Сисин вчитывался в ксероксы — вникал в регламент — его звали участвовать в сборниках, защищать беженцев, медведей, дельфинов, змей, детей, тюленей, народы Севера — он не был против телевидения — на него стали кидаться репортеры — это настораживало его ученых коллег — многие народы — подчеркнула Сара — полагают, что обрезание больших губ необходимо по причине того, что женские органы отталкивающие или отвратительные — чрезвычайные масштабы клитора также становятся доводом для его удаления — особенно в Эфиопии — но объективные свидетели говорят, что в Аддис-Абебе клиторная гипертрофия сильно преувеличена — более того, никто не видел там ни одного оченьбольшого клитора — правда, в других местах Африки, Нигерии или Мали, мне доводилось слышать, что необрезанный клитор может вырасти и стать не меньше мужского члена — особенно в Северной Нигерии клитор находится под подозрением — там считают, что, даже если он не болтается между ног, он все равно ужасен — так ли это? — докладчица сделала ораторскую паузу и неожиданно продолжала — да, чрезвычайно большие клиторы бывают! — но даже если они бывают, что дает обществу право рассматривать их как отвратительные? — разве мужской член не отвратителен? — разве яйца прекрасны? — Сара обвела глазами огромный зал музыкального театра, снятый под конгресс — зал присмирел — дело не в этом — просто большие клиторы удручают мужчин, поскольку отнимают у них превосходство иметь свой член — еще не нашлось поэта, который бы воспел клитор, а очень жаль! — он компактен, защищен и уникален — он служит только удовольствию и ничему иному — вот орган чистого удовольствия, не в пример пенису! — клиторная стимуляция неподвластна ему! — так что дело в зависти — она права — шепнул Кевин — раздался шквал аплодисментов — они перешли в стоячую овацию — познакомь в перерыве — попросил Сисин — Сара жевала бутерброд с индейкой в балетной столовой — ее опустошенные глаза победительницы внимательно рассматривали Сисина — у меня очень мягкая фамилия — сказал тот, приблизясь к звезде конгресса — Кевин улыбался во весь рот с банкой пепси в руке — очень мягкая, женственная фамилия — она вам должна понравиться — вы, наверное, татарин? — спросила Сара с заметным волнением.
Во всяком случае, вы опасный — они остались сидеть за столом — у меня здесь маленькая квартира — там живет белая собака с розовыми глазами — мне надо будет ее сначала выгулять — рослый профессор со Среднего Запада, с военной выправкой, Кевин Росс никак не мог представить себе, что русскийможет быть успешнее его — это не укладывалось в его продолговатой головке — Кевин предостерег Сисина от опасных связей — он сохранял верность карьере и жене, что было одно и то же — а тут — казалось, он только за тем и приехал в Амстердам, чтобы разоткровенничаться — а где еще? — кому еще? — с женой спит раз в полгода — ты не скучаешь по Воркуте? — нет — достаточно честно сказал Сисин — я тебе не завидую — сказал Кевин — Сисин ждал: — пусть сам расскажет — в последнее время он понял: — не надо забегать вперед — у него родился сын-монголоид — не взял — оставил в больнице — наябедничал Дэвид — Дэвид — хороший, вдумчивый профессор, но он любит часто выпускать газы — с ним трудно усидеть у камина на одном диване — к тому же рыгает после пива — Кевин сам принял решение отказаться от уродца — а ты не знал? — знал — зачем-то соврал Сисин — восемь месяцев, как встречаемся — сказал Кевин — Сисин молча шел вдоль канала — мне нечего тебе завидовать — всякий раз говорил Кевин и забывал, что сказал — в Ленинграде набычился — Сисин сжалился — отдал Крокодила — дело было на маленькой кухне — они скоро вернулись — Крокодил доложила по секрету, паясничая, что все кончилось, не успев начаться — мы вас нежно любим — ластилась она к Сисину — смотрите, не пропейте вашу замечательную пипиську! — Сисин отставил бокал с вином — это не мой порок — Сисин бестолково ездил по конференциям — он понял: это не дело — но он никак не мог перестать ездить — бежала робкая Ирма — Лев Семенович тожелюбил пошутить — Сисин пока выигрывал — несмотря на все родное говно — Сару сильно тянуло в Москву — Ирма была незаживающей раной — пшла вон! — он меня не обижает — терпеливо объясняла Сара белой собаке с розовыми глазами — Сара считала, что она несчастна из-за своего идеального детства — из-за своей идеальности: спортсменка, умница, счастливая семья — ее время от времени мучило то, что она перестала быть whole [7]— развалилась на куски — Сисина раздражала дешевая интерпретация — его раздражала ее глубокая культурная беспомощность, завуалированная интенсивным чтением книг и газет — она носилась по горячим точкам и была оскорблена тем, что он слабо откликается на ее массажи — он не любил ее тело — он не любил американское резиновое тело — тело, дрессированное в бассейне — облитое тысячью спортивных душей — ни как она одевалась — вообще ее вкуса — Сисина раздражали вдруг прорывающиеся романтические обертоны ее голоса, особенно ее ночного голоса или когда была очень усталой — он казался ему extremely [8]фальшивым — никаких особых причин не жить с ней у Сисина не было — в то же время было полно причин — она была слишком bossy [9]— он только в первый раз сосал ей пизду — никогда-никогда больше — you don’t feel me [10]— жаловалась она, когда Сисин безучастно крутил у нее в дыре после того, как сам кончил — после ее массажей с маслом — это было почти механическое, тактильное возбуждение — она сделала для него многое и готова была продолжать — у нее были отличные связи с газетами, журналами, издательствами, наконец, с Голливудом — ее телерепортажи шли по всему миру — у нее был редкостный, запоминающийся телеголос, который хотелось слушать еще и еще — на экране (в фильме из Москвы) она несмело заглянула ему в лицо — идя под снегом — задавая банальный вопрос о ВП— Сара специально приехала к Сисину в Москву, чтобы удостовериться, что тот ее не хочет пожизненно — была демократически высокомерна — или вдруг в Москве начинала проявлять чрезмерную заботу — бегала по комнатам — кормила ассистентов и переводчиков бутербродами — она мучилась из-за своей непрестижной парижской квартиры — мой клитор не флейта! — сказала она, намекая на свое чувство юмора — но Сисин знал: — кто заводит разговор о своем чувстве юмора, тот безнадежен — шумно дышала в ухо — втягивая в себя его запахи — зачем я связался с ней? — он не любил, как она дразнила его, думая, что попадает в цель — ему было просто не по себе — она мечтала выйти замуж за человека с четырьмя достоинствами — умный — с чувством юмора — богатый — неженатый — таких не бывает — сказал Сисин — она с ума сходила от того, что он ее любит меньше, чем она его — Сисин оказался в выгодном положении — она сходила с ума — ему было любопытно на это смотреть — у него была своя линия поведения — он хотел ей внушить свое мировое значение — по ее реакции видел, что его мировое значение может состояться, если англо-американский рынок его одобрит — ему было насрать на англо-американский рынок — сначала совсем насрать, а потом не очень, не совсем — затягивало — его разрывало — он становился требовательным — русский бессребреникпорой думал об англо-американском рынке — потом спохватывался: я же Бог! — метафизический лазутчик в стане юманитэ! — ей было приятно время от времени говорить ему, что она его любит — Сисин не препятствовал признаниям — сам он помалкивал, соблюдая элементарную честность — американки помогают вырабатывать гормон честности — у него была гамма смешанных чувств: от отвращения до симпатии — все эти чувства сосуществовали не очень дружно, как народы бывшего СССР — она объяснила разницу между prick и cock [11]— последнее, по ее словам, было гораздо более нежным — you are perverse [12]— говорила она (ему это нравилось), но я еще больше perverse, чем ты — она с ним соревновалась — как Кевин — старалась показать, что все умеет, что у нее было множество любовников — а ты меня ебал в жопу? — Сисин задумался — по-моему, да — я тоже нетвердо помню — поспешила она — я только не помню, кончал ли я тебе в жопу — и я не помню: с тобой или не с тобой? — ей хотелось подчеркнуть свою независимость — но летом она сказала, что ни с кем не спала со времени их последней встречи.
Сквозь сильный январский насморк запахло красными гвоздиками — принес корреспондент радио «Свобода» — вот кто был бы для Ирмы идеальным мужем — как ты ко мне относишься? — хорошо, сказал Сисин — развей— главное слово Маньки в общении с Сисиным — в июле у нее был день рождения — развей — кончался их первый год — Сисин и так и сяк — он понимал, она ждет подарка: — признания в любви в свой день рождения — ей исполнилось двадцать три — она была трусливой и очень напористой — она разъедала мужчин, как ржавчина — оставался металлолом — если он уклонится от признания, будут осложнения с последующим допущением к ебле — она любила ритуалы — он не хотел осложнений — каждый трах был ритуалом — что лучше: осложнить дело ебли или сделать любовное признание? — к тому же был день рождения — букет и шампанское — уже былтот прекрасный февральский день — солнечный, с высоким небом, с соснами, что шумели вокруг — раздался звонок — звонила она — Сисин дал слово никогда не звонить — и сдержал бы, потому что он был кремень — он был мягкий кремень — Сисин не думал о том, любит он ее или нет — ученая Манька говорила: — все равно, пока ты со мной, ты ни с кем не будешь трахаться — Сисин не возражал — они залегли — одутловатая Гуля сидела на кухне и слушала Гребенщикова — Манька вышла, не очень стесняясь подружки — и даже бравируя — без трусов — Воркутабыла более скромной — лишь однажды, уйдя в университет, где училась в аспирантуре, она оставила в унитазе свою толстенькую какашку — собрались поехать за город — дело было зимой — к Берману — у него все было просто — у него все было на раз-два-три — максимум четыре — Сисин был свободный человек — у него были каникулы — но Стас решил отметить день рождения своей Сашеньки — Сашенька висела у Сисина в спальне в виде Европы на быке— ее мама-буфетчица дала много жратвы — решили отметить у Сисина дома — решили взять ее подружку — был картонный ящик жратвы, коньяка и венгерский «Токай» — Манька уже отпросилась у покойного мужа — Сисин однажды разговаривал с ним по телефону — Манька с дачи звонила мужу насчет ночевки у Гули, забеременевшей от сирийца — они занимались совместной конспирацией — разрабатывался детальный план — Гуля не должна подходить к телефону до половины двенадцатого — потом вроде бы Манька уже спит — не надо ее будить — Сисину все это нравилось — у нее скоро обнаружился скверный характер — родственный подход к миру в ряде случаев — что нуждалось в уточнении — которое все время откладывалось на потом— Маньке деваться было некуда — тогда Сисин отменил художника — Стас отменился — потом Стас позвонил, что с отменой поздно — ладно, сказал Сисин — и Манька тоже сказала: а давай день рождения — приехали — с картонкой жратвы и «Токаем» — Стасу стремительно Манька понравилась — он сделал вид, что он грязный, и запросился в ванную — пока что-то резали на кухне — нет, в ванную он пошел позже — это не важно — Жуков, все важно! — они сели за стол и стали есть — влюбленный Сисин жалел, что Манька здесь — подружка Сашеньки была толстым бабским увальнем лет двадцати — Манька поднимала пустую рюмку, чтобы ей снова налили — эстетически полнокровный Стас метался по комнате, что-то выкрикивая — Стас был человеком редкой необязательности — позже женился на дуре — ему не везло с женщинами — с сыном — у сына он рано обнаружил талант — спустя время сыну рэкет выколол шилом глаза — за неправильную продажу иномарок — обезумевший Стас подался к коммунистам — монархистам — проклинал — суетился — свалил— Манька красноречиво поднимала пустую рюмку — ей наливали — к часу ночи женский увалень объявил, что пора домой — Сисин проводил ее до такси — они постояли, оба недовольные тем, что случилось — уехала навсегда — когда Сисин вернулся, Стас принимал ванну — Манька сидела на табурете в ванной и разговаривала с ним — он был наполовину прикрыт занавеской — впрочем, весьма ненадежно — Сисину это не очень понравилось, но он ничего не сказал — Сашенька сидела в большой комнате одна — Сисин попробовал поговорить с ней — не клеилось — Стас вышел из ванной — Манька шла пятнами — она вышла раньше него — у нее была аллергия и очень часто текло из подмышек — так текло, что на рубашках оставались круги соляных разводов, как после отлива — Сисин, сказал я, ты разрушаешь девушкин образ — зачем тебе это надо? — Сисин углубился в свой внутренний мир: — когда я что-нибудь писал, я думал о ней как об идеальном читателе — разве этого мало? — вскричал пораженный Жуков — мало, но я имею право ее вспоминать как угодно и сколько вздумается — в каком-то смысле она мое создание — она мне редко снилась — почти никогда — другие не снились вовсе — я никогда не думал о ней как о самостоятельном существе — когда она болела гриппом, я не очень жалел ее — я не верил, что она окончательно человек — мне хотелось, чтобы она была моей, как собака — из чего я состою? — где моя пограничная зона? — понимаешь, Жуков, растерянно сказал Сисин, я настолько мало знаю себя, что не сильно удивился, когда мне сказали о моей внучатости — нашли чем обрадовать! — любой текст, где Папаша появляется хоть на минуту, гибнет — возможно, я просто урод — возможно, во мне кусок льда по материнской линии — он мне мешает быть нормальным — я хочу докопаться до своего дна и не могу — моя открытость? — душа нараспашку? — да ну! маскировка! — ты говорил Маньке об Отце? — Сисин поморщился: — чем люди гордятся? — начальник похвалил! — отчего у них портится настроение? — кто-то их не заметил, не так посмотрел — я без труда перерос человечество.
Стас организовал танцы под ограниченный выбор пластинок — я танцевал с Манькой — мне было жаль, что я упустил женского увальня — я не люблю, когда что не по мне — мы обнимались, она обнимала меня — мы редко в жизни танцевали — только тогда — один раз — ей было хорошо со мной — она смотрела на меня своими моргающими глазами — она вроде бы еще не любила меня тогда — но ей — впрочем, что я знаю? — видишь, Жуков, прокол: — с женщиной, которую я шесть лет — от хуя она ни разу не кончила — ты говоришь так, как будто вся жизнь — ебля! — не сдержался Жуков — свихнулся на ебле? — писать вообще вредно— ответил Сисин — я объявил Век Пизды — Детитоже сыграли роль в моей внучатости — озоновые дыры самодеятельности — но я не знал, что это такнаказуемо — это ты мнеговоришь! — рассердился Жуков — пока мы с Манькой танцевали — это был неравный танец: с преимуществом в пользу Маньки — Сисин перебирал ногами без страсти — с увальнем он бы нашел, как танцевать — Сашенька пошла в ванную и приняла душ — она вышла в красном халате — села в кресло — мы танцевали — Сашенька взвизгивала и куталась в халат — посмотрите, какие у нее сиськи! — Сашенька шлепала Стаса по рукам — прятала сиськи обратно в халат — мы с Манькой косились на них с любопытством — прижавшись друг к другу — Манька боялась, что я когда-нибудь отдам ее в групповуху — ее фантазии были уединены — самое большее, что она сделала за все время — попросила «Плейбой» и рассматривала лобки и сиськи во время ебли — уточняла — а тут у нее побрито? не крашеная? — видишь, Женька, она крашеная — сиськи ее особенно заводили — Сара тоже сказала: тебе бы было приятно видеть, как я трахаюсь с другим мужчиной? — они всегда истолковывают молчание в выгодную для себя сторону — ну что, хорошо повеселился? — заунывно спросила Ирма — Сисин стоял на пороге с новым чемоданом в руках — ее историческая правда была в принципе против веселья — я хочу тебе сказать, что ты стала богатой женщиной — возвестил Сисин — Ирма уклонилась от поцелуя — он протянул ей браслет — отмываешь свои грехи? — сказала она и ушла на кухню — он хотел Маньку если не подчинить, то унизить — она успешно, упорно защищалась — с самого начала — Сисин приехал к ней, когда муж был на работе — это тоже был ритуал — математик вызванивался на работе — она говорила с ним ласковым как никогда голосом — ласковым, буднично натуральным — тот, привыкнувший к недоразумениям и чернухе, напрасно веселел на другом конце провода — высчитывалось время его езды с работы домой — даже если на вертолете — двадцать минут — Сисин еб ее пятнадцать — к концу срока она поглядывала на часы — не кончая — опять звонила — о чем бы его спросить? — думай, Женька! — Сисин пускался в сочинительство — она была находчивее — сообразительней — и снова ласково-ласково — Сисин балдел от наеба — и снова ласково еб — ебля смещалась со временем в сторону зеркала — они смещались в прихожую — слабая любовь порождает эротику, сильная — порнографию — учил Сисин — на вешалке висел зеленый тренировочный костюм большого размера — математик играл в теннис на уровне первого разряда — ебаться с закрытыми глазами, учил Сисин, значит фактически быть сексуально слепым — Манька, не отрываясь, смотрела в зеркало — волосы свешивались по щекам — она хваталась руками за полку с щетками и желтой женской расческой — в расческе недоставало трех зубьев — ее голова висела на уровне колен — лицо багровело — ее забирало — из тумбочки с грохотом выпали черные туфли — выкатилась баночка иностранного гуталина — с птицей киви — каблуки разъехались — ноги дрожали — пожарь мне цыпленка-табака, пока я быстро съезжу к бабушке — как Красная Шапочка — сказал Сисин между двух палок — она вдруг вся обуглилась — она его никогда не кормила с тех пор — только чаем с клубничным вареньем поила — сопротивляющаяся инстанция — если бы хуже сопротивлялась, я бы не задержался — но пока она сопротивлялась, Сисин проникся — больше того — you are such a lier [13]— со вкусом сказала Сара — Стас бережно перенес Сашеньку на близлежащий диван — Маньке был интересен разврат — взрослые игры — она знала о них понаслышке — новое тело Сашеньки волновало мое любопытство — оторвавшись от надоевших объятий Маньки, в которую я, очевидно, влюблялся — оставив ее в углу, у письменного стола — заваленного страничками внутренних рецензий — посредством которых Сисин убого соединялся с жизнью своей Родины — под Роллинг Стоунз — я подошел с приветливой улыбкой к дивану — халат распахнулся — я вложил, как апостол, указательный палец — потом средний — потом безымянный — я говорил: — какая ты замечательная, Сашенька — и я такдумал — какая ты замечательная — Стас обрабатывал ее верхнюю половину — я оглянулся — Манька смотрела на меня черными глазами — в них было недоумение, но за недоумением было тихое бешенство — иди сюда — Манька не шла — тогда Сашенька выскочила — оставив свой запах на моих пальцах — мы налили по рюмке коньяка — Сашенька сказала, что в клинике (у нее нездоровое сердце) она познакомилась с испанкой — Сисин страдал от хронического переутомления — выглядел постаревшим — серым — сутулый мудак! — рассмотрел он себя в телевизоре — ты не молодеешь — испанка умела превращаться в животных — это несложно — надо залепить нос и уши воском и думать о животном, в которое ты хочешь превратиться — я тоже решила попробовать — залепила нос и уши — стала думать о кошке — я думала недолго — ноги покрылись шерстью — потом вырос хвост — я испугалась и перестала думать о кошке — несколько дней пришлось носить толстые черные колготки — боялась — заметят — останется — но прошло — а хвост отпал сразу — Сисин вгляделся — в Сашеньке по-прежнему было что-то кошачье — белоснежный мальчик звал ее за собой — Сашенька смотрит — у него грязная попка — она берет губку и начинает его мыть — когда племянник умер, Сашенька ехала с гробом на грузовике — везли гроб и шесть мешков картошки — за тридцать километров перед деревней спустило колесо — накачали — вылез пузырь — после похорон Сашенька спрашивает Ксению Михайловну — она в деревне у них за попа — все распределяет — берет деньги, яйца — отчего такой сон про белоснежного мальчика? — так это же о его смерти сон! — нехорошо, что трупы после смерти обделываются — сказала Сашенька — заключительное издевательство — засмеялся Стас — еще одна причина не хотеть умирать — а я не боюсь — сказала Сашенька — и было ясно — она не боялась — Сисин молчал — он думал о том, что люди одряхлели — их пора уничтожить — вывести окончательно — всех до одного — стереть с лица Земли — отравить — зарезать — замучить — шлюзы открыть — спустить воду — скорее — сегодня — сейчас — Сашенька привезла из деревни самовар — сестра ее — на нее кирпич упал — восемь лет без мужа — а мама уже двадцать пять без мужа — та святая — и Ксения Михайловна разрешает ей дотрагиваться до Иисуса Христа — сестре Сашеньки еще рано — она еще грязная— она еще должна подождать — Манька встретила меня оранжевыми губами — размалеванная кукла — с мокрыми холодными руками — с лицом-маской, наклеенной на ее алкоголический день рождения — с охами, сколько и чего выпили — она принимала позы одалиски — капризным голосом говорила: — ты меня любишь больше всех на свете — среди женщин — кроме мамы — она лежала — отпаиваясь пивом — со своими мокрыми подмышками — со своими синяками — на ногах — на толстоватых ляжках — со своим бурно растущим кустом — ты меня любишь больше всех на свете — он привозил ей шмотки — она придирчиво осматривала их — допуская, что он остался верен старой привычке жмотства — покупает в «Тати» и на прочих помойках — примерив, она допускала его до себя — 20 лет не виделись — Сисин обрадовался — пришел однокурсник со слабой фамилией Красиков — Красиков с взрослым сыном — вспоминали, как Красиков не мог выговорить простое французское слово calendrier [14]— у него язык не проворачивался — он никогда не произнес calendrier — это чертово слово меня сгубило — а выпить у тебя есть? — выпил спирта — понес неразборчивое — папа, пошли! — постой, дай вспомнить — он рассказал, как его сгубило чертово слово calendrier — выпил спирта — папа, пошли! — страдал сын Красикова — постой, дай вспомнить — он рассказал, как его сгубило чертово слово calendrier — через вас говорит тоска жизни — сказал Сисин, выставляя отца и сына за дверь — ты никогда ничего больше не напишешь, вот увидишь, встретимся через десять лет! — говорила Манька — она стала лингвистической патриоткой — магическая формула складывалась на уровне языка — западные языки — утверждала Манька — со своей жаждой информативности — указывали на безопасную ограниченность — русский, безудержный, беспредметный, обещал вечнуюжизнь — это такой паучок — она-онабегает по душевой занавеске — бегает — лапками перебирает — живет в мокром месте — прячется в полотенца — забирается в складки — свисает в ванной с потолка — раз за воротник! — она-онапоказала Сисину свою немецкую разновидность — гуляли под руку по вечернему Тюбингену — затмила нашуМаню, которая совсем уже разложилась — издеваясь над Манькой, Сисин покупал пестрые, вышедшие из моды иликакие-то маргинальныешмотки — платья с приподнятой, как у девочки, талией — Манька придирчиво смотрела — жадно надевала — к зеркалу! — ну как? — бесподобно! — нет, правда, мне идет? — еще как! — уродец отражался в зеркале — они подкладывали себе зеркальца под попы — работа кипела — вдруг все кончилось — зеркала повыбрасывали — любовь стала нежной и вдумчивой — какое счастье — думал он — что я не женился на ней — а счастье было так возможно — ты хочешь, чтобы я продолжала? — да — почему он засыпал такой умиротворенный? — она-онане боялась показаться неумной — ее лицо стало тонким — совсем молодым — у нее был потный носик, на котором сидели очки — в ней было что-то немножко свинячье — как, впрочем, чуть ли не в каждой настоящей немке — в какой-то момент он подумал: — меня не обманешь — я знаю, кто ты — ты паучок она-она— но потом это удивительно просветленное лицо — только перед любовью и перед смертью у женщин такие лица — почти никогда у мужчин — да — да — он хотел, чтобы она-онапродолжала — очень — почему он засыпал таким умиротворенным? — почему на миг захотелось отложить дело всемирного разрушения? — как просто, одеваясь, она-онасказала — собирая комок из колготок и трусиков — в следующий раз надо будет родиться мужчиной — как замечательно жаловалась на немецких мужчин — которые не знают, как себя вести — быть мачоили быть нежными — как просто не спросила о семье — как мило она делала ему подарки на следующее утро — все озарилось — и было хорошо.
Кевин представил преподавателей — они вставали и раскланивались во все стороны — потом все ели желтый сыр, как мыши — она прошла с гордо поднятой головой — метнула заинтересованный взгляд — мне была интересна эта слабенькая дылда — которая вышла из своей японской машины — он сверху на нее смотрел из общежития — было душно — он высадился на лужайке в Новой Англии — загробное царство — по лужайке ходили бывшие жители необъятной страны — их память содержала в себе все подробности земной жизни — все эти русские страдания — разлитые по пространству — учили американцев русскому языку — преподавали православную историю — играли в футбол — ставили силами студентов «Самоубийцу» — пели хором церковные гимны — если смерть наступила в тридцатых, то пахло голодом, несло коллективизацией — если во время войны, то никак не распутать клубок Сталин — Гитлер — но все-таки немцы покультурнее — если бы не гитлеровская идиотская политика на Востоке — парочка послевоенных перебежчиков — со смертным приговором в кармане — а если в семьдесят четвертом — то пахло кофемв мастерской — если в семьдесят девятом — то раздутым литературным скандалом — Поповым, Веничкой Ерофеевым, Битовым, Баткиным, Кублановским — приятно перечислить все эти фамилии — в восьмидесятые пахло войной в Азии — борьбой за дисциплину — оцеплением бань и парикмахерских — расставаясь с жизнью, они переживали чудесный момент избавления — смерть превращалась в исцеление от смерти — они меняли пол, превращались в загробных трансвеститов, больных воспоминаниями — они спешили от смертной опасности в смерть — преподавать русский язык — обедать в студенческой столовой на фоне итальянскиххолмов Новой Англии — играть в соккер — их путешествия были связаны со сказочной опасностью — они переплывали реки, переходили горы с проводниками — гибли в пустынях — переплывали Черное море на надувном матрасе — бежали на последнем пароходе под обстрелом — чтобы писать и думать на других языках — Сисин видел их чудесное преображение из рабов в свободных загорелых призраков на перевале из Югославии в Италию — в карело-финском болоте — последний взгляд на земную жизнь — последнее прости проводнику — последняя минута жизни — расставание с рабским телом — они входили в зазеркалье супермаркетов, суперполицейских, супертаксистов и суперлавочников — вокруг летали суперптицы и супер «Нью-Йорк таймсы» — смотрите — в России растут плакучие ивы — здесь ивы смеются! — Сисин огляделся по сторонам: — ивы смеялись — призраки мечтали поскорее стать такими же супер: —красивыми — элегантными — цивилизованными — богатыми — в их отмирающем мозгу возникали видения: — супер— это мы плюссвобода — для супертуземцев, бегающих по кампусу с русским учебником в ушах — свобода — подчинение закону— так гласила серебряная надпись на фронтоне местной суперполиции — но как тогда ненавидеть мещанство? — тот самый средний класс — на котором покоится общество — его устойчивость — цензура — благополучие — прогресс — не слишком ли высокая цена? — принять все это и стать туземцем в берлинском трамвае — неполноценные существа — не сдавшие экзамен на духовность — мы бессребреники— они жадны до денег — мы идеалисты — они крохоборы — мы наплевательски относимся к жизни — что жизнь? — выпадение из вечности — они судорожно вцепились в жизнь — Сашенька не боится смерти — с русским батюшкой — бывшим сотрудником ТАСС — Сисин поехал впервые в Нью-Йорк — батюшка крестился на каждой заправочной станции — съест бутерброд, покрестится, едет дальше — доехали до Нью-Йорка — стояли в длинной ночной пробке — никто ни на кого не смотрел — избегая глазного контакта — на Манхэттене в них врезался негр — поругались немного — разъехались — мы чистые — они грязные — они даже не умеют хоронить своих мертвецов — не выносят их в открытых гробах с красивыми лицами — у нас каждый мертвец с красивым лицом — моя бабушка тожес красивым лицом без морщин — она улыбалась — и все глядят, восхищаются — они зарывают своих бульдозерами — у них могильщик за рулем — они не знают поминок — не ведают поминального воя — все-таки Россия — лучшая страна в мире — и русские — самые лучшие — но — пришли — погубили — испохабили — Россия сокращается до семейного очага — Россия бабушки и ее абажура — бабушка всегда права, потому что она моябабушка — и если я не хочу пожертвовать здоровьем моей бабушки ради свободы в России, то что значит моя любовь к свободе и России? — после обеда собрались за столом обсудить вопрос — позвали Кевина, но суперКевин, предводитель теней, прозрачно намекнул на то, что не надоиз столовой выносить бананы — тени разволновались — так кто же Родина? — дурак служит в охранке — пьет — бьет жену — он переродился — многие переродились — все переродились — они продались — они угроза моей безопасности — трудно найти более усложненные тени — прогуливающиеся по аллейкам — где пахнет скошенной травой — где борются с одуванчиком не на жизнь, а на смерть — где одуванчик — враг народа, там Америка — памятник собаки ловит в прыжке брошенную тарелку — в компьютерном центре пишут русские сочинения — Воркутаспит, положив голову на Чехова, под шум кондиционеров — ей снится русская мысль о том, что зло — общественный порок — эта мысль недоступна новой зазеркальной родине — зато она производит суперполицейских, суперпочтальонов, супергазонокосилки — в России едят людей — убивают детей — тутдети мои в порядке — они ходят в глупые супершколы — едят несочную клубнику размером в яблоко — а там все анти — антитерра — мы будем их по радио учить — как им жить — я свободен — они не свободны — я русский царь — всероссийский монарх — пусть меня позовут — я приеду — а может быть — не приеду — все равно, у них все кончится говном — ноги воняют — Новый год воняет — санки воняют — дефицит воняет — дембель воняет — рожь воняет — больницы воняют — парты воняют — церковь воняет — глаза воняют — бабочки воняют — генералы воняют — керосин воняет — чувства воняют — шары воняют — кухня воняет — Волга-матушка воняет — книги воняют — капуста воняет — парк культуры воняет — иван-чай воняет — трупы воняют — дети воняют — шахматы воняют — не приеду — или все-таки я приеду — я их научу — но мне лень — у меня здесь свое дело — гараж — семья не хочет ехать — долги — теньюр [15]— ссуда — парное молоко Новой Англии — по вечерам, когда жара несколько спадает и еще не хочется лезть под искусственные простыни, не пропускающие воздух, цари собираются вместе — пьют царскую водку — покупают дешевую закусь — поют русские песни — они не виноваты — так случилось.
Потомственный граф или князь — русский малый — а возьмите себе в провожатые — сказал он Сисину — кого-нибудь из студентов — у кого машина — она записалась к нему на семинар — он прямо к ней — она уже обклеила комнату всякими милыми плакатиками — здравствуйте! — поехали вместе? — на фестиваль — тени сомнения побежали у нее по лицу — мне надо заниматься — я вам помогу — поехали! — она колебалась — Сисин добавил: — безопасность гарантируется — вернемся сегодня же, после концерта — вниз по Седьмой — мимо гориллы, держащей на ладони «фольскваген» — мимо музея с подозрительно яркими Ренуарами — мимо собачьих бегов — по дороге приняли участие в народном гулянии с бесплатным мороженым — осмотрели новую фабрику сливочного мороженого — губернаторша быстро сказала милую речь — шел летний дождь — перестал — веселились дети — вермонтцы прогуливались — поедая различные шарики совершенно бесплатно — развевались флажки — я люблю ванильное — призналась она — а я малиновое — а еще есть банановое — давали с грузовиков — было очень народно — это их сблизило — Сисин ехал счастливый, но надорвавшийся по летней Новой Англии — с ее призывами к кленовому сиропу — по узкой Седьмой, временами переходящей во что-то более просторное — нет, он понимал, что ему полагается быть счастливым — Берман объяснил плохо и нервно — на гребне славы он держался неровно — то слишком скромно — всем кланялся — благодарил — то слишком надменно — презирая условности — ходил на званые обеды в шортах — заблудились — хотя отель был прямо на Седьмой — свернули заранее — кидались туда-сюда — не знали, успеют ли — Воркутаполучала удовольствие от выговаривания русских фраз — почему она стала изучать русский язык? — случайно — она не знала его ВП— только слышала — почему такое странное название? — я обязательно прочту — она дала ему вести — автоматика — без сцепления — сначала было непривычно — она смеялась — она спросила, можно ли писать без Бога? — ей хотелось, чтобы Сисин сказал нет — Сисин сказал нет — но после добавил, что с Богом у него всегда было непросто — почему? — он начинал, естественно, как агностик — она гордилась, что у нее много подруг — она им пишет письма — они ей пишут письма — она им снова пишет — языком клеит марки — в ходу доносы на преподавателей — никого не обидь — особенно черных и гейев— Кевин от страха застеклил дверь своего кабинета — положил конец всем двусмысленным шуткам — развесил зловещие предупредительные листовки — запретил ночные купания на водопаде — отменил поцелуи при встречах и проводах — похлопывание по плечу — любые формы подмигивания — замуровал проходы между мужским и женским общежитиями — ночью проснулся с криком, держась за щеку — приснилось, что, забывшись, он подал своей толстой секретарше плащ — ничего не сказав, она влепила ему пощечину — отъехав на двадцать миль от кампуса, в пустом баре, понизив голос, Кевин рассказал Сисину о ночном кошмаре — свисали надутые чучела рыб — никому не рассказывай! — старинные лыжные крепления были прикручены к потолку — Воркутапокачала головой — ну, хорошо — сказал Сисин Кевину в том же баре с креплениями — ты согласен, что негры танцуют лучше белых? — Кевин долго обдумывал вопрос — лучше танцуют? — переспросил он подозрительно — пожалуй, лучше — наконец решился он — значит, с другой стороны— неумолимо сказал Сисин — нет — сказал Кевин — другой стороны нет! — Ларус в начале XX века — это что еще за Ларус? — поморщился Кевин — французская энциклопедия — напомнил Сисин — в ней черным по белому написано, что черная раса est inferière en intelligence à la race blanche [16]— Женя, прошу тебя, прекрати! — не выдержал Кевин — вы все, русские, расисты! — а вы — рассердился Сисин — сраные либеральные лицемеры! — лицемер — это культурный человек — с достоинством сказал Кевин — Воркутаснова покачала головой — она улыбнулась и сказала: — а все-таки черные танцуют лучше — вся лужайка была засеяна американскими меломанами — Берман с женой уже уехали на концерт — они расстались два года назад в Москве — не дождались — Сисин поразился такой любви Америки к серьезной музыке — расцеловались в артистической — Бер ман был оживлен, подвижен, с пьяными от успеха глазами — вокруг него крутились меломаны — пожилые богатые пары — дирижер из Израиля — были даже советские — как всегда, очень противные — я устал — друг говорил решительным, громким голосом — трехкомнатный апартамент — успех — поужинаем в номере? — заказали на ужин омары — официант торжественно внес — хотя в Америку Сисин прилетел с непосредственным метафизическим заданием, отныне он решилесть только омары, и в большом количестве — он еще не знал, что они чересчур сытные и что после спаржи писается совершенно особой спаржевой мочой — на подмосковной даче у Бермана ели шашлык — Берман всегда был противный — делал из себя жертву большевизма — Сисин взялся за телефон — выписал Читателя с большой буквы — приезжайте с сестричкой — но Читатель приехала сама по себе — они распилили ее на двоих — маэстро снизошел до того, что слабал фокстрот — учил всех, как жить — мурлыкал на диванчике, снимая у Читателя малиновый носок — какая ножка! — расслабь животик — он даже шашлык умел делать в камине властно и дидактически — Читатель жмурилась, уплетала за обе щеки — забрала в рот обоих — потерла друг о друга — жмурясь — кутаясь в куцый платок — Воркутанезаметно ушла в комнату, где они собрались ночевать — Сисин подарил Берманам две банки икры — у нас в Нью-Йорке икрой забит холодильник! — весело сказала смешливая мадам Берман — подари кому-нибудь другому! — она ждала его, привстав на локте — в рубашке — розовой — простроченной на манер джинсов — может быть, она читала? — скорее всего так и было — она читала учебную «Каштанку» с ударениями на каждом слове — объедки омаров лежали — хочешь вина? — он налил из недопитой бутылки — она подняла на него глаза — в зубах она держала 100-процентную американскую улыбку — ослепительные зубы казались драгоценными камнями — сама Америка ждала его в постели — молодая нация выпила «Шабли» — в розовой рубахе надежды — он еще не знал, будет ли любовь, но был приятно взволнован — в Америке, объяснил Берман, все просто, если есть деньги — он залез под простыню и категорически запротестовал по случаю розовой ковбойской рубахи — во-первых, в комнате жарко — во-вторых, так нечестно — в рубахе — но сначала они полежали — привыкая друг к другу — как две большие варварские страны — потом он ее обнял и поцеловал — без особого варварства — скорее в виде поощрения — она не поцеловалась — ты чего? — он даже удивился — она лежала на спине — в глазах у нее стояли слезы — я не могу — давай поедем назад — утром — мягко сказал Сисин — ты сказал, что мы вернемся вечером — Сисин встал, выпил еще белого вина — но уже очень поздно! — я не могу с тобой спать в одной комнате — почему?! — я не могу тебе сказать, почему — Сисин снова выпил вина и закурил — я не какой-нибудь штатный профессор — я гастролер — я вольная птица — ты мне нравишься — ты тоже мне нравишься — сказала она через силу — дело не в том, что ты профессор — а в чем? — я не могу тебе сказать — Сисин наклонился и поцеловал ее в рот — она поцеловала его и вдруг выпрыгнула из постели — подбежала к окну — казалось, она хочет позвать на помощь — ее трясло — у нее был не на шутку перепуганный вид — схватила рюмку — выпила — стуча зубами о стекло — она догадалась о моей миссии— недаром спрашивала о Боге — он стоял, не зная, что сказать — как оправдаться — он тоже выпил — ну чего ты? — спросил он — она целовалась страстно и неумело — зубы мешались — она оттолкнула Сисина — нет! — чокнутая — догадался Жуков — не угадал — сказал Сисин — Жуков сгущал интригу своего средиземноморского сочинения — сидя у корыта человеческой цивилизации — книга определенно не удалась — видна претензия — потуги на новизну — никакого движения — один нигилистический распад — видали мы и это типографским шрифтом, бумага и не такое стерпит — потом он полетел к ней в ее глупый город — уже прошел год в Москве — она повзрослела — они тайно встретились перед зданием Министерства иностранных дел на Смоленской — она была в длинном, мышиного цвета пальто — как-то сразу настала московская зима — сентябрь у нас херовый месяц — надо сказать, что от Москвы до Смоленска климат почти не меняется — лес стоит, ненадолго разбуженный летом — природа ориентирована на зимы — никаких шуток — ничего вечнозеленого — кроме хвои — а лето — это отпуск — комары — в сыром лесу — к западу медленно нарастает количество усатыхмужчин и деревень на чи— Козловичи — усатость — остаток польского влияния на Западной Руси — экскременты отползшей на место Европы — в Смоленске соборы тронуты окошками света — желтые цветочки — поднимающие голову люпины — очень, навсегда сыро — стоит березовый — с елками — лес — Сисин выехал в двадцатиградусный мороз, и до Смоленска было дико холодно в его белых «Жигулях» — в Минске падал хлопьями снег — назавтра они с Ирмой въехали в туман — и ехали в тумане двадцать пять километров — пугаясь грузовиков — когда туман рассеялся — потекли ручьи — земля в середине зимы оказалась зеленой — в Польше с дубов еще не облетели ржавые листья — крестьянки шли с крашеными губами — но лучше, когда солнышко — пуская густой зимний пар, он заправился — под Смоленском — где начинаются горки — он чуть не улетел — было скользко — Сисин активными движениями предложил снять рубаху — розовую — это предложение не встретило сопротивления — в Толочине возникает первый-последний католический костел прямо возле дороги — рядом с детским садом — сюда дошел прибой Европы — два мотоцикла вылетели на трассу — парни с девками — и если второй отстал и затормозил — то первый вылетел прямо под колеса сисинской машины — с другой стороны никто в тот момент не ехал — так что не сбили — мотоцикл полетел через кювет — не сразу перевернулся — поскакал ведьмой по полю — безграничному — ничем особенно не усеянному — поскакал очень быстро — наткнулся на кочку — перевернулся — загорелись в небе голубые трусы летящей через себя белоруски — мотор взревел — ничего не взорвалось — Сисин остановил машину и с бьющимся сердцем побежал через дорогу в поле — предчувствие его не обмануло — у девки все было задрано — городские трусы лопнули на лобке — перед взором Сисина возникла светловолосая красавица пизда — слегка приправленная кровью — ее обладательница была мертва — Сисин быстренько вынул крепкий стоячий хуй — не мешкая и не дроча, засунул его в только что умершую пизду — он знал, что девушкин дух летает где-то низко над головой и забавляется картиной — правда, дух еще немножко взлохмаченный — все так быстро произошло — Сисин вернулся к машине — завел мотор и поехал на Запад — отчего у нее на пизде была кровь? — по дороге спрашивал себя Сисин — с переездом русско-белорусской границы климат решительным образом меняется — именно здесь начинается поворот к лету — поворот к Джотто и Данте — снимая с нее розовую рубаху, Сисин осознал, что вступает в контакт не только с ней, но с целым континентом — у континента были большие молочные груди с маленькими кисельными сосками — крепкий живот пловчихи, с пушком — а также трусики, с которыми Сисин не спешил расставаться — континент вел себя достаточно пассивно и покорно — у негобыл отличный пупок — континент заранее выделил Сисину право на покорение — однако в рамках приличий и уважения к девичьей скромности — Сисин поклялся соблюсти все ритуалы — он долго обцеловывал и нащупывал континент, пока не предложил ему стащить полосатые полуспортивные трусики — я не могу — слабым голосом сказала она — схватившись за трусики — но ведь мы же все выяснили — сказал Сисин — таща трусы на себя — тут обнаружились волосики светлого содержания — небольшая кущица — столь решительно контрастирующая с обилием Манькиного лобка — всегда несколько взопревшего — сильно прущего черными волосами из тигриных трусов — Кевин Росс утверждал в уединенном баре, с лыжными креплениями на потолке, что это помесь тургеневской девушки — коса — она порой заплетала волосы — с вермонтской молочницей — мы, американцы, считаем, что индейское лето в Вермонте по яркости красок гораздо сильнее русской золотой осени — с законной гордостью добавил Кевин — да ну? — недоверчиво сощурился Сисин — неужели больше красных и желтых оттенков? — а также рыжих, бурых, коричневых, сизых и даже лиловых! — выпалил Кевин — не слишком ли это все вместе пестрит? — поинтересовался Сисин у друга — смерть белоруски привела его к целому ряду философских заключений — например — Сисин придвинулся к Кевину — смерть иноверца, вообще человека другой национальности, девальвируется на треть, наполовину, еще дальше — вот так, голубчик — убили, скажем, мексиканца — негра — китайца — русского — это значит: убили не человека, а что-то другое, менее важное, несущественное — в таком случае труп страшнее смерти — почему ты все время хочешь решать нерешаемые вопросы? — изумился Кевин — у нее было тщеславие юной особы, пускающейся в авантюры с собственным профессором — она хорошо плавала и даже участвовала в соревнованиях — ничего мы не выяснили! — она решительно вновь натянула трусы — ты должен меня понять — Сисин вздохнул и выпил белого вина — она была стерильна, как всякая американка — недаром немецкая она-онасказала про свою пизду, когда он полез к ней — сказала спокойно и дружественно — без тени кокетства или паники — так свойственной Маньке — она не чистая — она ведь не американская — Сисин остался под впечатлением простого грамотного ответа — в ее детстве по разрушенной улице расхаживали жены американских офицеров в шортах и бигудях — они преподавали уроки свободы — превратности свободы не спасли свободный роман — критика писала гадости — он хочет обыграть и обвести всех — его приемы надоедливы, однообразны — все это слишком напоминает — делались различные предположения — у нее были длинные, сильные ноги пловчихи — груди тоже напоминали спортивный снаряд — впечатление было всеамериканским — у них нет настоящего тела — его бездетнаяИрма, уже в возрасте и не самая красавица, в горячих ваннах имела успех — Кевин возбудился на его глазах и, повернувшись к Ирме своим полудетским хуем, делал вид, что ничего не произошло — Ирма улыбнулась ему скромной улыбкой и пошла в ванны — Сисин гордился семейным успехом — американки — это спортзал, а не женщины — континент сопротивлялся — они снова пылко поцеловались — снова Сисин стал стаскивать с континента трусы — тут она разрыдалась — я хочу тебя — сказала она — но я не могу — не спрашивай меня, почему — это тайна — какая может быть тайна? — нетерпеливо вскричал Сисин — тише — сказала она — она зашептала ему на ухо, путая английские и русские слова — низким грустным голосом — мне нельзя по контракту вступать в отношения с русскими — на кого ты работаешь? — на National Security — разведчица? — с дьявольским блеском в глазах ахнул Сисин — она молча кивнула — я не одна — нас несколько в школе — ты в самом деле настоящая шпионка? — не поверил Сисин, вглядываясь в чистое, юное лицо — я готовлюсь — сказала она — зачем тебе это надо? — я люблю русскую литературу — но у меня нет денег — они хорошо платят — что ты там делаешь? — я подслушиваю разговоры — какие разговоры? — признавшись, она ослабла и лежала на подушке умиротворенная — ну, разные — под дверью, что ли? — она слабо засмеялась — нет, не под дверью — иначе — на пленке — мне дают пленку телефонных разговоров — междугородных — солдат звонит матери — он отравился, лежит в больнице — я перевожу на английский — или директор ругается по телефону с инженерами — в основном одна глупость — кроме того, плохо слышно — эта русская телефонная сеть — я знаю — но иногда попадаются мелкие детали — которые нужны ведомству — ау! — сказала она — какие у тебя широкие плечи! — ой.
Подвиг разведчицы — сказал Сисин — Берман чистил зубы — конспиративная кличка Воркута? — у Бермана изо рта полезли бело-розовые пузыри — Сисин стучал его по спине — голая утренняя Америка стояла в проеме дверей — Берман с мин дё рьен [17]оглядел ее тело — и отказался взять ее на завтрак — она осталась в гостинице на правах шофера — завтрак затянулся — там был главнокомандующий израильской армией — и его окружение — воинственные, веселые, много читавшие люди — прозорливая Манька ни о чем не догадывалась — возможно, она надувала Сисина со своей стороны — во всяком случае, от нее несло порой нечестностью — к которой Сисин не был вполне готов — он просто не привык — устойчивая нелюбовь местных профессоров к Сисину кончилась его отлучением от летней школы — на следующее лето он приехал к ней на Средний Запад — она встречала его в маленьком аэропорту — Кевин был тайно влюблен в нее — но он уважал свой семейный стандарт — он катался по узкой койке СВ — по дороге из Петербурга в Москву — бил кулаком в подушку — когда узнал о сисинских подвигах — Сисин выбрал новый континент — наверное, он бы остался с этой неудачной человеческой идеей, если бы не подвернулся успех с ВП— головокружение от нью-йоркских небоскребов заканчивалось — слава Калифорнии преувеличена — Флорида плосковата — соревнуясь между собой, русские бросились писать о своих путешествиях — моя дылда была вегетарианкой — никогда не забуду момента ее слабого пробуждения к жизни — у нее была маленькая комната — которую она снимала в квартире пополам с некрасивой подругой — как всякая юная американская студентка, она гордилась своими подругами — читая лекцию ($100), Сисин был удивлен живостью студенческих глаз — оказалось: русские — Россия (подумал он), я все-такиблагодарен тебе за твою помойку — она лежала на полу — на широком матрасе — вдруг стала дышать так, как дышит женщина — аy! — до этого она только не возражала — любовь Воркуты была вялой — Господин Великий Новгород! — напрасно думать об Америке как о быстрой державе — онине зря меня отправили в Америку на разведку — уничтожение людской расы я бы начал с Америки — где на вопрос «как дела?» полагается ответить полным враньем — наши славянофилы, конечно, правы — не все в русской жизни хорошо, но в ней есть своя затея — для меня русский похож на греческий или латинский — кивала Воркута — главный довод в пользу России — это языковой довод — внушал ей Сисин — они с полуслова понимали друг друга — Америка полюбила Сисина — но не за главное — главным в Сисине была его книга — получившая большое признание в других измерениях — ВП— мистическая книга — в ней мало кто что понял — ВП— это власть и воля — вместе с тем, не власть и не воля — Сисин готов был начать человеческую породу заново — на новых основаниях — в ноябре Воркута прилетела к нему в Париж — молча шли вниз по Шанзелизе— она поглядывала на американские закусочные, как на подбадривающие маяки — смотри, какой старый драндулет! — ей было нечего делать в Париже, кроме как держать Сисина за руку и радоваться старому «форду» в витрине — в тесной комнате отеля — куда утром ломилась беспардонная горничная-арабка — они говорили на тему детей — у Сисина не было детей — он страдал — у Ирмы совсем испортился характер — Воркута хотела детей — причем навалом — Сисин слушал ее с любезной улыбкой — они стали встречаться в нейтральных странах — их любовь получила продолжение — она приехала в Москву под видом учительницы русского языка для американских дипломатов — время от времени она преподавала язык трем молчаливым, старательным ученикам — но в основном разбрасывала в метро бактериологические бомбы, прикармливала чеченскую мафию, взрывала мосты и виадуки, портила тонны пищевых продуктов, просто вредительствовала — в свои темные (как говорила) делишкиона Сисина не посвящала — под утро, воняя взрывчаткой, бегала к нему на свидания — на работу Воркута шла невыспавшаяся — Манька выдвинула ультиматум: — либо женись, либо прощай — никого приличного в округе не оказалось, а ебаться девочке хотелось — прощание затянулось — Маня просто-напросто любила Сисина — его Маляхаху— мы съездили под Чикаго — Воркута показала мне кирпичную школу, где училась — парк, где гуляла маленькой девочкой — пруд, к которому она тоже ходила гулять — она показала мне свои маленькие запястья — мне нравилось, как звучит слово Чикаго— до сих пор философия имени в России сильнее, чем где бы то ни было — Сисин объездил полмира по заданию именно этой прикладной философии — она не что иное, как трафаретное место встречи — родители жили в обычном дощатом доме — ее брат купил себе большое «вольво» и хвастался — американские машины такие безвкусные — захотелось купить что-нибудь другое — родители пригласили их на ужин и ночлег — Сисин несколько волновался при виде будущих родственников — всей семьей они дружно гордились дочкой, которая училась в университете — у ее брата Питера были проблемы с герлфренд — он скоро уехал, внимательно посмотрев на Сисина — замигало — ворвалась старая жизнь — снимали каждое Рождество — сначала была видна беременная мама — еще молоденькая, некрасивая — она работала корректором в пригородной газете — мамаша оказалась очень простой и милой — отец снимал, его не было видно — появился маленький ребенок — это я! — в белом платьице — Сисин похвалил их дочь — у нее большие способности — ей было приятно — всем было приятно — она прилежная — машет рукой умерший дедушка в белой рубашке — благодаря видео он всегда будет с нами — еще черно-белое видео — первые шаги — какие-то родственники — бабушка, которую все уважали непонятно за что — если не за возраст — опять беременная — Питером! — видео стало цветное — улучшилось качество звука — дети качались — стены качались — Питером, у которого проблемы с герлфренд — она всегда была лобастой — снова Рождество — свечи — опять Рождество — торт — все нарядные — я тоже хочу купить камеру — а как там у вас в Москве? — внимательно слушали — каждый ел на коленях — Сисин хотел было — но она, поцеловав его страстно, уклонилась — в родительском доме нельзя — он тихо пописал в уборной и пошел спать — можно вас на минутку! — перед ним вырос ее отец со смущенным видом — ну все — подумал Сисин — началось — я хочу вам что-то показать — как мужчина мужчине — они спустились по лестнице в подвал — американский отец зажег свет — все озарилось — в подвале на полках по стенам сверкали, переливались тысячи пустых пивных банок — сюда я спускаюсь иногда покурить — вино я не пью, но пиво, признаться, люблю — какое больше всего? — я привык к «Бадвайзеру» — может быть, не самое лучшее пиво в мире, но такая привычка — к тому же, цена тоже играет роль — у него были банки всех стран — новозеландские — исландские — таиландские — вьетнамские довоенные — с острова Фиджи — всякие были — чешские были — даже кубинские — только русских не было — Сисин поклялся прислать ему из России пустую банку пива под названием «Золотое Кольцо» — он сказал, что может прислать ему полную банку — но отец сказал, что полная ему не нужна — для коллекции ему нужна пустая — Сисин сказал, что пришлет обязательно с дочкой пустую — а что вы скажете об иностранныхмашинах моих детей? — у нас в округе особенно японские машины под подозрением — сказал отец Воркуты — все-таки — улыбнулся он — не патриотично — согласны? — Сисин легко согласился с американским патриотом — может быть, инженер надорвался в борьбе за строительство отличных автострад? — в душе любителя пустых банок было что-то глубоко депрессивное, не подходящее к его спортивному экстерьеру — у него была бессильная улыбка отца, у которого на глазах давным-давно изнасиловали любимую дочь — Сисин ответил ответной, но бодрой улыбкой — Воркута сказала родителям полуправду: — Сисин находится в сепарации со своей старой женой — Воркуту с Манькой роднило то, что родители не знали о том, что они обе курили втайне от родителей — впрочем, родители Маньки знали, но делали вид, что не знают — родители Воркуты, честные люди, не знали наверняка — обманывая их, она страдала, потому что белый средний класс в Америке обычно плохо умеет обманывать — отец предложил русскому гостю сесть в кресло — закурили — вообще-то Ирма была несчастна в браке с Сисиным — а Сисин был несчастлив в браке с Ирмой — Сисин увидел портрет Барри Голдуотера на стене, на видном месте, в окружении банок — отец не скрывал своих симпатий и антипатий — наутро — воскресенье — поехали к ее протестантскому пастору в церковь — он оказался славным мужиком — все фермеры и прочие американцы пришли приодетые — задушенные невообразимыми галстуками — с багровыми шеями — после службы пастор сказал проповедь — но не с амвона — все сидели и слушали — нужно не только брать, но и давать — давать — это тоже по-своему брать, только иногда лучше, чем просто брать — у кого есть доллар? — все оживились — полезли в кошельки — пастор взял доллар у задушенного невообразимым галстуком — отдал его другому — но предварительно взял с другого пять долларов — которые он передал третьему — давать надо бескорыстно, не думая о том, вернется ли дар обратно — у кого есть двадцать долларов? — тут все стали улыбаться, потому что двадцать долларов — это уже не шуточные деньги — толстый румяный прихожанин лет 45 дал ему двадцать долларов — но без особого энтузиазма — пастор указал на то, что Христос давал все бесплатно — ничего не брал взамен — Сисин знал лучше пастора, но не хотел вмешиваться — Сисин знал, что Отец, давая, отбирал свободу воли, а это посерьезнее двадцати долларов — давая, он приобретал право суда, а это совсем серьезно — пастор запутался с купюрами и напугал паству — никто не хотел брать назад свои доллары — даже румяный, что дал двадцать — пастор был несколько смущен — но он ловко болтал — язык у него был подвешен — в конце концов, он все-таки разобрался — вернул деньги — это было встречено с сочувствием — пастор ласково пожал Сисину руку — вы still [18]живете в Москве? — что значит still? — с неудовольствием подумал Сисин — если Россия из мягкого дерева и ее можно резать, то Америка — это камень — Америку трогать нельзя — вернулись в родительский дом — перекусить им не предложили, и они сами сделали сэндвичи и поехали в Чикаго — съели сэндвичи на берегу озера, нацеловались после пива — усталые, вернулись в ее маленькую студенческую комнату — ну, как мои родители? — Сисин сказал: замечательные родители — они тебе правда понравились? — Сисин ответил: правда — и бабушка тоже? — бабушка у тебя замечательная — и ты им понравился — мама сказала, что ты вчера сделалужин — да-да, ты был звездой ужина — Сисин благодарил в машине — машина сломалась — Воркута пришла в ужас — она только недавно стала работать — придется выкладывать деньги, полученные за километры русских тайных разговоров — с замиранием сердца она поехала в мастерскую — назавтра оказалось, что починка стоит недорого — Воркута заметно повеселела — звонила домой под Чикаго — передала маме, что Сисину все очень понравилось — мама даже попросила передать Сисину привет — Сисин сидел на полу, ничего не делал, потому что не знал, чем заняться, и тоже передал маме привет — американской маме большой русский привет — по зимней снежной дороге поехали в Минуоки — вообще в Америке не очень хорошее пиво — даже странно, до чего оно нехорошее — даже свежее — нехорошее — то есть оно не то чтобы плохое — но оно нехорошее — без фантазии — и мы поехали в Минуоки — потому что там вроде бы пиво с воображением — по дороге заправились — съехав с автострады — она спросила, заливая бензин: — а как тебе понравился мой пастор? — правда, он хороший? — он очень хороший — ответил Сисин, снимая снежинки с ее головы — потом мы приехали — пошли вчетвером в бар — она со мной и ее подруга Майя с другом — мы выпили не спеша по три большие кружки пива с чипсами и о чем-то мило поговорили — потом мы сели в машину и поехали обратно — было очень темно — по дороге она меня спросила: — как тебе понравились мои друзья? — как тебе понравилась Майя? — я сказал: — Майя мне очень понравилась — и ее друг мне тоже очень понравился — она сказала, что ее профессор — мой друг Кевин — хочет нас пригласить в арабский ресторан — и мы пошли на другой вечер в арабский ресторан — там были заунывные прекрасные мотивы — мы сидели и ели арабские кебабы — и она сказала Кевину, что я приехал в гости не к нему, а к ней — что было резковато — к тому же Кевин пригласил меня прочитать лекцию — я прочитал — за сто долларов — потому что у них не было больше денег — и они извинялись — а потом мы пошли по магазинам — ей не очень нравилось, что мне нравятся дорогие вещи — она брала какие-то купоны, обещающие скидку, и прятала в карман — когда я ходил по берегу Черного моря — предавая Маньку — я думал — что даст мне Манька? — ничего не даст — что даст мне Воркута? — она откроет мне горизонт — одно утешение: ебать свою законную супругу — получать от этого седые клочки удовольствий — я очень гордился тем, что могу купить ей билет Чикаго — Париж и обратно — но у меня постепенно тупела философия имени — она перестала бояться, что я хочу жениться не на ней, а на американском паспорте — она перестала быть континентом, стала самой собой — немного слишком высокой для меня — нерасторможенной — но я думал, мне все доступно — и я ее растормошу — и она уже начала по-женски дышать — приоткрывать ротик и закатывать глаза — что вызвало у меня на минуту чувство большой к ней симпатии — она стояла и ждала, когда я выйду из самолета — она поцеловала меня — мы сели в машину — она держала в зубах талон от паркинга — когда шлагбаум поднялся, она сказала: — я стояла и ждала тебя — но вместо меня тебя могла ждать другая девушка — одна из них была гораздо красивее меня — это правда — когда я выходил из самолета, я думал, почему она— я первой увидел другую блондинку и подумал — вот бы она меня ждала — она была из более привилегированной, богатой семьи — там банки не собирают — это было видно по ее манере стоять — и тут я увидел свою Воркуту и радостно замахал ей рукой — мы бросились в объятья всем на зависть.
Бормотуха показала свой коронный фокус — она опустилась на дно ванны и лежала под водой — все сбежались смотреть — засекли время — пять — шесть — невероятно! — семь — восемь минут! — выставив попу — все были потрясены — на десятой минуте она медленно всплыла — это я Крокодил, не она — сказала победоносно, выпуская изо рта один фонтанчик воды за другим — лежала в ванне крестом — Крокодил старалась не показать свою ревность — в конце концов, Крокодил писала всего лишь острыестатьи — возможно, она дышит попой — объяснял гостям Сисин русалочьи особенности девушки — его самого удивлял не этот общественный показ — он много раз заставал Бормотуху лежащей на дне ванны без единого свидетеля — исключительно ради собственного удовольствия — у нее с Крокодилом тоже были свои периоды — розовые и голубые — после малолеток — после подкарауливания пятиклассниц в школе на Басманной — пошли старушки — возились с дряхлыми вдовами — под видом культурной опеки изучали их анатомию — дальше пошло все подряд — француженки, якутки — трансвеститы с нешуточными хуями — лесбиянки вовсе без всяких хуев — самосодомистки с пальцами в проходе — стажерки, дворянки, прибалтки — парились в ванной, объявленной Сисиным сауной — во время траха якутка Клара буркнула из глубины души: — перестань сюсюкать! — это взбодрило Сисина — якуты, видать, ебутся, не сюсюкая — одни созревали со вздохами, медленно — их нужно было, как авокадо, подержать в теплом месте, не торопить, чтобы дошли — другие зрели с хорошей скоростью — ебались парами, тройками, стайками — никтоне отказывался — сосали, лизали, стонали, пукали — выворачивали наизнанку друг у друга пиздячьи губы — трогали бархатные соски — задыхались от страсти, какали на грудь — все протекало мирно, доброжелательно — только раз (да и то tête-à-tête) Крокодил поцарапала морду незаурядной диссидентке Римме Меч — что за разборка у них вышла, никто не понял — но скорее всего с политической мотивацией — ходили слухи: не сошлись на разделе Империи — Крокодил вроде бы хотела вернуть Крым — Феликс дрыхнул на диване — утром Римме было стыдно возглавить антиправительственную демонстрацию на Васильевском спуске — возглавил Феликс — так началась его общественная карьера — Крокодил стала водить престижных дам — спутниц новой, биржевой жизни — они крутили головами в разные стороны, ходили на крепких каблуках — залпом пили шампанское — быстро снимали шелковые трусы — трахались — еблись, как суки — урчали от удовольствия — Сисин был человек настроения — в высшей степени впечатлительный — в своих внутренних переживаниях чрезвычайно сложный — было бы недопустимо ловить его на слове, связывать раз и навсегда однажды сделанными заявлениями — обеспокоенный состоянием друга, он решил поговорить с миниатюрной белобрысенькой Зиной Спиридоновой — больной, с метастазами, Спиридонов больше не был страшен Сисину — мы еще поборемся за него — сказал Сисин по дороге на дачу — мы еще посмотрим, кто кого — он обещал Зине найти светил— в воздухе запахло перепуганной женщиной — перепуганная Спиридонова хотела любви — быстро-быстро дрочила Сисина перепуганной ручкой — упрекала ракового мужа в отсутствии тепла — вообще, в отсутствии— как в отсутствии? — заинтересовался Сисин — он даже отвлекся от процесса — я сама не понимаю — подбородочек Зины подался вперед — обезьянка — милая глупышка — Сисин направил ее в нужном направлении — нет, я дальше идти не готова — не готова так не готова — Сисин не настаивал из-за деликатности положения — они быстро вернулись к нормальной городской жизни — с Катей Барлах вышло более обстоятельно — вместе плавали в ванне — у Кати оказалась мягкая попа — она принадлежала к разряду анальных активисток — по наблюдениям Сисина, это был признак творчески одаренных натур — глубоко запрятанного таланта — у Маньки этих важных наклонностей не наблюдалось — дальше зеркал они не пошли — Барлах, оставленный за столом, делал дневниковые записи — после парилки заявилисьвтроем — Крокодил, Катя Барлах и Сисин — в соскальзывающих полотенцах — полотенца все время нужно было перематывать — Барлах, замысливший описать весь мир, встретил их блаженной улыбкой — а чего ты не пришел? — спросила Катя — мы же не запирались — я заработался — виновато улыбнулся Барлах — я открыл новый квадрат оппозиций — в галстуке, с пробивающейся сединой в бородке, он был похож на очаровательного умного барашка — Сисину он понравился — девки, спать! — скомандовал Сисин — он отправил их в спальню, закрыл за ними дверь — что значит новый квадратоппозиций? — спросил он, кутаясь в халат — видите ли — сказал Барлах — у меня создалось впечатление, что я нашел новый метод описания мира — он мог бы сохранить его от распада — хорошо-хорошо — сказал Сисин — а какой ценой? — ну, это другой вопрос — а все-таки? — настаивал Сисин — мы соглашаемся на жалость друг к другу — допускаем среднерусскую доброту — затормаживаем развитие жизни — мой вечный студент Красиков — книжник, распродавший свою библиотеку — безработный — так и не удовлетворивший свое желание опиться спиртом — вот точная модель юманитэ— успех наказуем — любовь — преграда для предназначения — Барлах только улыбался — заканчивая неудавшуюся философскую беседу, Сисин сказал: — поднимайтесь на второй этаж — там туалет и чистая постель — Барлах поднялся, но тут же сошел вниз — вам дать зубную щетку? — удивился Сисин — вы бы не могли мне выдать на ночь Век Пизды? — застенчиво сказал Барлах — стыдно признаться, но я не читал — я вам подпишу — Сисин обвел взглядом комнату в поисках ручки — из спальни донеслось непонятное шипение — мужчины переглянулись — мне и Катенькетоже — попросил Барлах, вынимая ручку из внутреннего кармана фирменного пиджака «Москвичка» — вы бы не возражали поставить ее имя впереди моего? — премного благодарен — Барлах направился к внутренней лестнице — взявшись за перила, он остановился, расстегнул свой учительский портфель — Барлах давал частные уроки — возьмите крем — он протянул желтую баночку Сисину, не глядя ему в глаза — без крема Катеньке больно— я знаю — улыбнулся Сисин — ну, тем более — Барлах горестно поднял брови — Барлах читал всю ночь напролет — утром за чаем признался, что не мог заснуть от волнения — очень хвалил — я от вас, честно сказать, не ожидал — у вас вид, простите, вертихвоста — невыспавшиеся девки дружно захихикали — но был полностью не согласен — он ушел с приятным отекшим лицом — потом все-таки не сдержался — развелся с анальной активисткой — мы их всех обсуждали с похмелья — этот мудак и та тоже дура — все мудаки — потому что мы всех их раком — раком.
Первым делом, первым делом самолеты — он становился легкой добычей метафизических хулиганов — сколько раз, проезжая на машине вдоль Тверского бульварa, он думал о том, что уже никогда не пройдется по нему пешком — здесь была последняя частная фотография — последняя пристань нэпа — они отловили меня, когда из участника я стал превращаться в наблюдателя — небеса раскрылись, как будто я объелся транквилизаторами — люди сильно запахли — кто как, но все одинаково сильно — березы — заборы — движения ускорились — у меня зарябило в глазах — Сисин шел, глубоко сунув руки в карманы — если ты — истина — по-славянски прищурился коротконогий Жуков, стараясь идти в ногу — то я скорее буду с моим народом, чем с истиной — Сисин посмотрел на него ласково, с насмешливым уважением — намечался мыслительный переворот — в моду входили сталинские красавицы — имперские чувства — Крокодил капризничала, не хотела ехать в Германию на экскурсию — пусть туда дураки ездят — говорила она сквозь зубы — в Техасе — в степи — в этом американском Чевенгуре — ВПогорчил студентов — они ничего подобного не слышали — они вовлекли в споры пап-мам-подруг-друзей — медленно жевали техасские бифштексы — еще вчера ее не было, завтра ее не будет — позор! — завопила морщинистая структуралистка — в Беркли тоже ему не простили ВП— не давали говорить — срывали литературно-философскую лекцию «Пизда как недавнее человеческое изобретение» в либеральном университете — она, как бабочка — кивнул Сисин — она, как мотылек, присевший на край нашего времени — даже в китайский ресторан решили не ходить — но Сисин сказал: — давайте все-таки пойдем — он знал толк в светской жизни — она научила его гибкому реагированию — в это время земной Жуков волновался, как будет отдыхать семья на даче — хватит ли детского питания? — из каких яблок лучше делать яблочное пюре? — Софья Николаевна родила ему уже второго ребенка — в этом было что-то успокоительное — Софья Николаевна занималась творчеством Поленова — сама баловалась кистью — музицировала — умно говорила о гармонии — нередко по вечерам, после ужина, она выдавала маленькие бумажные ордена и медали деятелям культуры — а ты знаешь, Аполлончик? — знаешь, мой милый? — я учредила премию имени Берии и присвоила ее тайно Сисину — что ты несешь! — несерьезно насупился Жуков — не гнушались и самогоном — Крокодил находила в детях грубую неокультуренную витальность — и надо сказать ласковое слово народу — приветливо улыбнуться алкоголику в электричке — но я не люблю рожу русского современника — она противилась деторождению — пусть будет так, как есть — пусть будет мелкая любовь — доживи до старости, до болезней — вокруг тебя все подохнут — тогда снова можно жить — разыграть карту снисходительности? — навсегда останется слепая воля к жизни — никто не пойдет за тобой — кроме привилегированной роты самоубийц — те будут услышаны и обласканы — привлечены, возвышены — думал Сисин, высоко облетая голубую планету — ему было неприятно взять в руку этот мокрый, колючий, пульсирующий комок — проносясь над водами — зависая над заунывными сопками Аляски — дивясь отмытым, причесанным эскимосам — зависая над Альпами — над этой глянцевой обложкой швейцарского шоколада — или — оставить ихв покое? — простой русский мент, хам — завсегдатай наездов и расчленений, обесценивший жизнь до ломаного гроша, знает лучше всех — унижение, болезни, смерть — единственно правильные состояния — и неловко сказать: это, братцы, хуйня — потому что у тебя нет «братцев» — на Сисина нахлынули антисисинские мысли — ты самый умный — шепнула Крокодил: — я твоя сексуальная изнанка — теперь он выступал без зеркал и стиля — роман Жукова — писали газеты — определенно не удался — он натужен — забавна поначалу идея полного уничтожения человечества, хотя со времен Герострата — мы думали, он сильнее — а так, стайка любовных историй — никакой новизны — потуги — иди сюда, интеллигентная девочка — я дам тебе автограф — не потому что я Внук Божий — а потому что ты дура — идите ко мне — я подпишу вам ничего не значащую книжку — когда начались голоса поднебесья — я сказал: — пусть живут и мучаются, как мучались — я? — вы что! — ва бене [19], Жуков — почему я решился всех отправить в газовую камеру в качестве подарка к юбилею? — ты напишешь мою биографию — в ней ты скажешь, что я тебя никогда не трахнул в твою тухлую жопу — нет — ради обрывка правды ты даже расскажешь о том, как мы вместе ебли твою будущую Софью Николаевну — на диванчике — или не расскажешь — тут тихо, Жуков — Сисин дико озирается — они сидели на даче — за окном лежит снег — на даче хорошо — тепло — тихо — Манька мне всегда говорила — ну скажи: как тут тихо — как тут тихо — она хохотала — задвинуть всех в газовую камеру — но я медлил — не подавал знака — российский опыт убог и непоказателен — нет — конечно, он в меру забавен — со всякими там пертурбациями — но мне хотелось покататься — отдохнуть — я европеец по образованию — Жуков пристально вгляделся в Сисина — продолжай! — а ведь ты спаситель человечества — продолжал Сисин — забудем о бабах — примирительно сказал Жуков — какое дело, что ты меня выеб — я расслабился — ты меня трахнул — нет, Жуков — сказал Сисин — ты рыцарь — ты герой-соорудитель — ты Юрий Долгорукий! — как не хватает мне этой веры в жизнь — как корчусь я — ползаю вокруг крашеных баб — оторваться не могу от пизды — это правда! — воскликнул Жуков — надо восстанавливать Россию — надо начинать ее ренессанс — надо.
Давай лучше вспоминать прошлое — предложил Сисин — давай вспомним, как дрались с Рожновым — как он пробил мне голову бутылкой водки — чуть не убил — почему ты любишь говорить только о себе? — потому что я Внук Божий — я бессмертен, хотя мне придется принять от тебя мученическую смерть — от меня? — изумился Жуков — от тебя, дорогой, от тебя — ну, знаешь! — во-первых, так не интересно — все знать наперед — не интересно? — сказал Сисин — но таков уж порядок — помнишь слепого старикашку с Мясницкой? — тот что говорил? — старикашка был фаталистом.
Сисин вышел на дорогу самостоятельной жизни — он был веселым, радостным, холодно любопытным человеком — Сисин никогда не допускал мысли, что Рожнов был его учителем — они близко дружили — Рожнов пил и, когда пил, становился воинственным — его траектория нашла свое отражение в сисинских заметках, до сих пор не опубликованных: — в России много гуманитариев, но Рожнов один — его уникальность, беда, вознаграждение — его ум — ум — его же собственная вершина — все остальное располагается по склонам — склоны живописны и привлекательны — они возделаны академическим трудом — склоны — мир его книг — ум правит этим миром и возвышается над ним — Рожнов искал, нашел, потерял — вот сущность его научной работы, которая подытожена в виде трех книг, написанных в разное время — конечно, это духовное странствие — конечно, оно совершено автором-пилигримом в лучших традициях русской интеллигенции — жизнь Рожнова сложилась на редкость удачно — родившись перед самой войной в Ленинграде, проживший там (за исключением эвакуации) юные годы, затем эмигрировавший в Москву, Рожнов уже в семидесятые годы занял прочное, привилегированное место полуофициального гуманитария — полулюбимого, полугонимого культурным истеблишментом — промежуточная позиция обеспечила ему максимум свободы в тогдашней России — политически он никогда ею не злоупотреблял, но писал с такой непринужденной осмотрительностью и независимостью, что стал если не кумиром, то образцом поведения для либеральной интеллигенции — он создал себе старомодную, чуть «юродивую» профессорскую нишу, забыв и вспомнив одновременно о среде своего обитания, обратившись к парабольным размышлениям о смысле и назначении человека — в Рожнове изначально присутствовал притягательный и плодотворный дилетантизм несостоявшегося философа, который предпочел этнографическую метафору логике, фольклорный образ — доказательству — в результате очень русский вариант поисков истины, доверчивая и бескомпромиссная вера в слово — редко встретишь ученого, который бы так обожалмыслить в стиле, как Рожнов — так можно обожать есть, к примеру, в жару арбуз — и если точная мысль приносит радость, то ее результат, по Рожнову, способен приблизить человека к блаженству — избрав нехитрую параболу этнографической экспедиции, Рожнов доходил до апокалиптических видений России, от которых трудно оторвать взгляд — впрочем, поиски остались поисками — за одной оболочкой тайны скрывалась другая, третья, целый ряд тайн — но как бы строгий этнограф ни намекал Рожнову на некорректность сопоставительного метода, для молодого Рожнова будущее обещало новые открытия — во второй книге сильно повзрослевший автор находит даже больше, чем ищет — назовем эту часть русским апофеозом — Рожнов до предела использовал русскость своей экзистенции на благо теодицеи — то есть он использовал Святую Русь по ее прямому назначению — шутя и всерьез Рожнов изобразил все преимущества русского образа жизни в сравнении с нормальным, обыденным существованием — излюбленным рожновским собеседником становится народ, который чем больше пьет, тем глубже мыслит — в конечном счете Рожнов зовет к примирению с действительностью почти что по-гегелевски, но с гораздо большим куражом — истина найдена — творение, Творец и русский вариант человеческой твари «оправданы» — только голова болит с похмелья — не беда — Рожнов готов дать практический рецепт: с утра выпить столько же и того же, что пилось вечером, и снова можно жить дальше — а если учесть, что народ накануне зашел за литр, то крепость русского человека становится очевидна каждому — статьи Рожнова в третьем томе — грустное зрелище — они выглядят совершенно «свободными» — цензура, как внешняя, так и внутренняя, полностью отменена — можно печатать самые непечатные слова, говорить откровенно о политике и т. д. — но Рожнов решительно изменился — потеряв чистоту своей роли, разгерметизировавшись, он философствует уже по любому поводу — из «слушателя» он стал признанным ученым — его собеседники если и не шестерят, поддакивая ему, то, во всяком случае, слушают его с почтением и без иронии — в душе же академика наблюдается полный хаос — это подлинная драма тщеславия и деконцентрации сознания, корни которой сыскать нелегко — в итоге, мир книги разомкнут, в него залетает все что угодно — духовное странствие превращается в маньеристский калейдоскоп, насыщенный, впрочем, блестящими наблюдениями, остроумными мыслями — казалось бы, напрашивается поучительный вывод: тщеславие и истина несовместимы (чем не истина?), но создается впечатление, что исповедальная «самокритика» ведет Рожнова к гораздо более серьезному методологическому сомнению относительно самой возможности рационального постижения истины — зато совершенно неожиданное заключение книги обрадует оптимистов и любителей России — ее (судя по заключению) охраняют отныне ангелы — тоталитаризм не вернется на русскую землю — возможно, это и так — а может быть, это тонкая шутка умного Рожнова — пройдет еще лет тридцать — я не увижу, но ты, может быть, увидишь, Верочка — помяни мое слово, что через тридцать лет женщины займут в мире неслыханную власть — их сумасбродные прихоти и капризы станут для нас мучительными законами.
Они сошлись, несмотря на разницу лет — Сисин бредил Рожновым — Рожнов с оговорками признал Детей— Сисин возвел оговорки в дефицитную степень признания — он мечтал о такой дружбе — об идеальных связях — Жуков тоже дал ему немало — он дал Сисину дотронуться до земли — с красными ниточками сосудов вокруг носа Рожнов был непрост — Сисин недоумевал, почему тот общается с патриотами — не любит интеллигенции — что общего у тебя с властью? — у Сисина ничего не было общего — Сисин так до конца Рожнова и не понял — у того была «пионерская» вера в культуру — они много говорили — ничего не осталось — запомнилась какая-то высокопарная заумь — вроде фразы о том, что ничтожная испорченность текста из технического недоразумения превращается в онтологический «надрез» — об опечатке как уключине трансцендентности — гости съехались на Рождество, как на маевку — Сисин стыдливо гордился своей принадлежностью к элите — знаменитости у Риммы Меч были отборные — принадлежностью к элите через пизду гордилась и Крокодил — Сисин дал задание Крокодилу и Бормотухе унизить Маньку — она пьет сильно — сказал им Сисин — нассыте ей, девки, в рот — предложил Внук Божий — в общем, создайте что-нибудь симпатичное — будь-сделано! — козырнула Крокодил — Бормотуха становилась все более загадочной — выйдешь из дома в центре города, и сразу лопухи — жаловалась она по телефону — содержатели ее побросали — выпрыгнув из дурдома, спустившись по простыне, она приползла к Сисину — ты жрала колеса, сидела на игле — ну тебя на хуй — сказал ей Сисин — после Детейначалось — Рожнов тихонько отошел в сторону — устранился — Сисин пролетел — у него не стало будущего — ночью Сисин написал Рожнову дружеское издевательское послание — Рожнов, похожий на белого офицера, лежал на раскладушке и курил папиросы — скрипя пружинами — Сисин перерос Рожнова — на Рождество было роздано много подарков — Сисин получил от Риммы карманное зарубежное Евангелие и сунул его в карман брюк — впоследствии Сисин нашел, что это было достаточно провинциальное собрание — но тогда жажда славы все затмевала — Сисин знал, что Крокодил станет свастикой новой культуры — знаменитостям все прощалось — людей нужно истребить — истребитель плакал перед телевизором, когда запретили КПСС — силы метафизического политбюро считали Сисина своим избранником — как технически извести человечество? — как в самый кратчайший срок уничтожить всех? — есть масса аргументов в защиту полной гибели юманитэ— вот краткие тезисы: — а) предложить Герцену, Бакунину, Суворову устроить суд над мировой культурой— б) передать Бормотухе длинную СУХУЮ простыню— Рожнов схватил бутылку водки и запустил в Сисина — была ли бутылка полной? — бутылка водки или из-под водки? — был ли готов Сисин к смерти? — никак нет — с какого расстояния бросил Рожнов? — с минимального — к тому времени гости уже разошлись — осталось несколько пьяных — ушла партия умеренных: сатирик с джазовым критиком, мечтавшие спрятаться от погромов под сенью правительственных штыков — ушли радикалы в лице двух философствующих христианок — одна высокая, с пучком — другая пучеглазая, толстенькая — ушел фотограф — рискуя жизнью, он увековечил события в Новочеркасске — ушло «новое имя», культуролог Барлах — Римма Меч ему особенно симпатизировала — ушел в небытие полковник Рубинский, на примере которого Сисин понял свои возможности — медовый месяц он провел в армии — под Тамбовом — в Тамбове у него двоюродный дядюшка — патриот Тамбова — в) цель жизни — оправдание местожительства— sic.
Что такое твист? — беззастенчивая демонстрация половых органов — майор вышел из-за трибуны, стал танцевать — утром Сисин явился на сборный пункт — царило приподнятое фальшивое настроение — пахло туристическим походом — майор прочел веселую лекцию о непотребстве западного образа жизни — ехали с Павелецкого вокзала — Рожнов бросил бутылку с близкого расстояния — бутылка была полна водки — мы не привыкли думать о людях плохо — любой обыватель думает о людях плохо — Сисин был доверчивым человеком — по ночам ему снилось, как он мирится с властью — он бы охотно протянул руку и Гитлеру — американцы запустили на Луну американца — в тамбовской дивизии был объявлен траур — ходили как в воду опущенные — возмущались, что радио сообщает о полете — находили это неприличным — Крокодил приветствовала антидемократический государственный переворот джином с тоником — Спиридонов тоже придерживался сильной теории чем хуже, тем лучше— он куда-то закопал свою душу и теперь стеснялся перед мужчинами появляться в нижнем белье — ушли, позевывая, писательские жены — спермоприемник русской литературы — бутылка попала Сисину в голову — попади она в висок, Сисин бы скончался — но она попала в затылок — каким образом бутылка попала в затылок, если он стоял лицом к Рожнову и никуда не бежал, не веря до последнего мгновения, что Рожнов бросит бутылку? — ну, не совсем в затылок — Сисин смертельно побледнел и стал обливаться кровью — он, как назло, надел белую рубашку — бутылка разбилась — хлынула кровь — Сисин лишился учителя — потекла водка — отсутствующая на общем празднике Ирма отнеслась к происшествию с удивительным легкомыслием — а ведь Сисина могли привезти домой мертвым — или полуживым — Рожнов вышел триумфально из комнаты и в коридоре закурил папиросу — теряя много крови, Сисин отправился под руки в ванную — многие западные интеллектуалы были не так уж не правы, приветствуя нацизм и коммунизм — в конечном счете приходилось выбирать из двух зол меньшее — очищение илиокончательное торжество буржуазии? — Сисин выступил у Сары в популярной программе из Парижа — к его удивлению, дискуссия не удалась — французские журналисты не удосужились прочитать Век Пизды— поначалу они задавали уклончивые вопросы — они были похожи на школьников, не выучивших урок — но потом их понесло, и они не могли закрыть рот — они заранее все знали лучше всех — казалось, они родились с идеей ВПв голове и ничему не удивлялись — к концу передачи они считали, что идея ВПдавно устарела — ничего, сказала Сара, зато ты был хорошо подстрижен — Сисин залил всю рубашку — ему никто не сочувствовал — на счастье, тут же оказался Жуков — Жуков никогда не играл роль шестерки— тем не менее Римма Меч после драки объявила его агентом КГБ — та же Римма считала Сисина агентом ЦРУ — ему подчинялся (по ее словам) весь корпус американских журналистов в Москве.
Куда приятнее было быть агентом КГБ — но выбирать не приходилось — Сисин провел в ванной полтора часа — залив всю ванную множеством крови — странное дело: — никто не захотел оказать ему помощь — думая об этом позже, Сисин сжимал кулаки — сраные знаменитости! — им было насрать на молодое дарование — размер которого никто не заметил — Сисин изначально находился на подозрении у этой публики — он еще не написал свой ВП, а они уже сомневались в его моральных качествах — Сисин никогда не чувствовал себя таким одиноким, как в ванной, проливая невинную кровь — кровь перестала течь к утру — Жуков бегал вокруг с виноватым видом — ему опять не удалось попасть в центр внимания мировой общественности — Рожнов заперся в комнате вместе с юристкой — во время поездки в Гданьск Сисин напился до умопомрачения — Сисин пил редко, но, когда напивался, он напивался чудовищно — произошла встреча русских и польских интеллектуалов — встреча была первой и последней в тысячелетней истории двух стран — от важности события Сисин потерял контроль над собой — меня Анджей напоил — пили водку — обнимались с Анджеем — Анджей стал сенатором — но по-прежнему левачил— категорически не употреблял галстук — из форпоста иностранных газет, американских фильмов, джаза и частных хлопув [20]Польша быстро вырождалась в затрапезную республику — Анджей забурел, оставшись без подпольного ореола — Сисин хотел было сказать ему про Прагу — но ему было жалко Анджея — сенатора затрапезной республики — Анджей не знал, обниматься ли с ним или как? — Сисин только пальцем погрозил и сказал: Прага! — Анджей принялся дико хохотать — Сисин воспринял это как наглую польскую форму смущения — обнялись — я написал для нашего президента речь о Катыни таким образом, чтобы не обидеть русский народ — сказал Анджей — русский народ хуй обидишь — грустно сказал Сисин — напоив Сисина, Анджей ушел спать — тут только русские и стали пить — Сисин с Жуковым танцевали — они любили, выпив, немного потанцевать друг с другом — все хлопали — выступали во Дворце русской культуры — Сисин попросил прощения у поляков за все— после этого делать стало решительно нечего — поздно ночью он явился к Жукову в номер — Жуков тоже был совсем пьяный и даже не мог снять носки — Сисин завел разговор о дружбе — почему ты не сказал, что Оля покончила с собой? — какая Оля? — не понял Жуков — твоя первая жена — какая дружба, если ты мне не сказал? — Жуков обещал ударить его в морду — бей! — Жуков не ударил — почему ты не сказал, что Оля покончила с собой? — Жуков снова обещал ударить его в морду — бей! — Жуков не ударил — вместо этого он по-дружески залез в постель и отвернулся к стене — Сисин еще долго приставал к нему с вопросами — проснулся он в своей комнате уже за полдень — ботинок не было — ничего не было — он что-то перепутал — лежал и думал: — на самом ли деле он терзал Жукова? — Римма Меч сказала, что, если она посмотрит на машины политбюро специальным взглядом, они испепелятся — Сисин обрадованно: — ну, посмотри! — умоляюще: — ну, пожалуйста! — все гости посмотрели на него, как на убийцу — в тот вечер Жуков был на стороне Сисина до конца — было очень темно и холодно — казалось, зима установилась в России навечно — кровь перестала течь — Сисин порезался во время бритья — он порезался возле адамова яблока — он плохо брился — он так и не научился ни бриться, ни завязывать шнурки — не хватало жизненного терпения — горбоносенькая она-онапервой сказала с итальянской прямотой: ты не умеешь бриться — вокруг ее дома рос столетний бамбук, как во Вьетнаме — неудачная паучковая разновидность — незрелые грудки — костистость — убогий подбородок — она сама тяготилась своим лицом и мечтала его поменять на какое-нибудь получше — из первого попавшегося фильма, который они смотрели вдвоем — слишком много родинок, похожих на прыщи — раковые зародыши — все-таки горбоносенькая слишком судорожно трахалась — худые любятспазматично — перед зеркалом он наклеил пластырь на горло — явился на сборы — как он чувствовал себя в медовый месяц? — умеренно счастливым — Ирма — он безумно любил Ирму — она невероятно чутко спала — так люди не спят — только птицы и прочие мелкие жертвы — Сисин вышел из ванной залитый кровью — в доме все спали — Жуков вытянулся по струнке — вольно! — они закурили — ну, как служится? — да разве это служба? — детский сад! — а что так? — после обеда устраивают мертвый час! — не может быть! — Сисин присвистнул — в отрочестве Сисин ежился от слова «говно» — Сисин растерянно улыбнулся — чуть не убил — ему хотелось обнять и поцеловать Рожнова — погладить его по щеке — Сисин набросал очередные тезисы: увидеть сильную кровь со стороны предков — гиганта-прадеда, витальную бабку — увидеть атеистический триумф родительского эгоизма — посмотреть на детство новыми глазами — увидеть недолюбленность — недоцелованность — услышать гнусные истории о похотливости матери — живописующей невестке (Ирме) половые сношения с отцом — в порядке защиты секса в третьем возрасте — увидеть Жукова, борющегося со своим тщеславием — в борьбе с тщеславием теряющим свои силы — свой скромный дар сильного второстепенного писателя — только после того, как залезешь в себя — понимаешь, как невозможно понять себя— Манька играла роль приходящей в ужас от неспособности Сисина сделать что-то еще — она чувствовала угасание его энергии — Сисин спешил оправдаться — каждому выдан один билет — даже тем, кто меняет билеты, выдан один билет менятелей билетов — но ведь я этой недолюбленности в детстве не испытывал — я только очень мучился ссорами родителей — успех Сисина приучил Ирму к мысли, что все можно простить — вплоть до кассеты — только успех утоляет зависть — даже у Сисина вспыхивали краткие зарницы зависти — стальная воля Спиридонова — откуда этот косой взгляд на Воркуту? — почему, думая о ней, я вижу какашку в ее туалете? — забылись все разговоры — почему уничтоженные письма не имеют никакого значения? — но отчего они сами так слабы и беспомощны? — нужен только успех — почему Манька играет роль приходящей в ужас? — и Сисин понимает: больше никто не сыграет подобной роли — ему нужны комплименты тогда, когда он сам начинает все больше сомневаться — в самом себе — в своем ВП— может быть, только тогда — при всей безвкусице этого дела — он соглашается стать сыном Иису са Христа — выбивай дверь — попросил он Жукова — тот просиял от удовольствия команды — чем? — выбивай собой — сказал Сисин — слушаюсь — Жуков разогнался и бросил себя на дверь — дверь заохала, закряхтела, не поддалась — Жуков разбежался снова — дверь сухо треснула — непрочная дверь — на шум вышел заспанный Феликс.
Слушай, Сисин, дурдомы полны сыновей Иисуса Христа — хочешь пополнить их ряды? — христианство теряет свои позиции — или так не мог подумать Жуков? — Жуков за христианство — но Сисин сидел и молчал — я знаю, это не дело — но как быть, если я — это он? — его передернуло от этой (где, как не здесь, пригодится чехо-набоковское словечко?) poshlosti— ёёёёё — все отрицают внешнего Бога — а тут я вваливаюсь — приветик! — юманитэпошло не по тому пути! — конечно, можно просто махнуть рукой — но не таков русский человек — возомнивший себя — он хочет все переделать — когда не удается — он предлагает свернуть ковер — ему жаль бессмысленной энтропии — зашли не туда, надо уничтожить — быть приятным человеком — п ошло — говаривал академик Рожнов — на Гавайях Сисин имел необходимые консультации — он выловил рыбу — его проверили и допустили — и Маньку позвали — мы ей тоже налили — тут Сашенька бросилась на Маньку — схватила ее за сиськи через свитер — только ТЫ мне здесь интересна! — Манька вырывалась с перепуганными глазами — Сашенька ловко залезла ей под свитер, ловя сиськи — та никогда не носила лифчики — она не любила лифчики — в детстве она выдавала себя за мальчишку — сильными ухватками проститутки Сашенька вцепилась в Манькину грудь — Стас, увидев Манькины сиськи, осклабился — Сашенька держала Маньку за грудь — Манькины соски вылезали у нее между пальцев, как сладкие кукиши — она пыталась раздрочить Маньку поцелуями в шею — не так! — у Маньки чувствительны груди — трогай груди, шепнул я Сашеньке — мы со Стасом переглянулись — давайте разденем Манечку, сказал он — давайте! — давайте! — Манька резко выгнулась, выставив голый пупок — зацепила ногой за стол — с него полетели рюмки — мне стало жалко рюмок — ну, хватит, сказал я решительно — Манька вырвалась — Стас увлек ее в другой угол — сводил к шутке — Сашенька облизывалась страшным образом — я веником собирал осколки стекла — Стас повел Маньку танцевать медленный танец — они тихо разговаривали, прислонившись друг к другу — за дружеской беседой он осторожно отстегнул ей большую пуговицу джинсов — я знал, как переключается энергия — от страха и мести она хотела, чтобы ей немножко расстегнули — ладно, подумал я, групповуха так групповуха — Стас расстегнул ей молнию, рассказывая историю, как он посещал не то Фалька, не то Тышлера — художник медленно погружал руку — ой, да ты мокрая! — радостно, с фальшивой невинностью удивился он — такие фальшивые интонации покоряют грошовых баб — но чтобы Манька купилась? — но ведь сидела она в ванной! — я помню эти джинсы, хотя у меня никакой памяти на одежду — в отличие от Маньки, которая помнила все досконально — кто в чем, как и когда — и я думал: — зачем ей помнить? — я думал: — все-таки дешевка.
Стас Найдюк взвалил Маньку на плечо — как лесоруб, отправился вон из комнаты — Манька лежала на плече — крикни Сисин: оставь ее! — все было бы тут же исполнено — Сисин мужественно ничего не крикнул — нет, я «Токаю»! — хорошо, он налил ей вина — подлец, сказала Сашенька вслед Найдюку, я так не играю — Сисин хмуро выпил коньяк, закурил сигарету — из спальни не доносилось ни звука — в конце концов, становится скучно, сказала Сашенька — Сисин был для нее как мебель — она сидела чужая, будто не он только что засовывал в нее пальцы — ну чего, присоединимся к ним? — спросил Сисин нейтральным голосом — Сашенька посмотрела на него с некоторой надеждой — она боялась Найдюка, не осмеливалась вольничать с ним — уходя, Стас добродушно сделал им с Сашенькой ручкой — Манька просто-напросто отвернулась к его шее — душа и туша Сисина осели — ведь до этого Стас заряжал кассеты — смотрели сраные боевики — Сисин с Манькой перемигивались — ясность предельная — художник наслаждался боевиками — ну ты дворняжка! — фыркнул Сисин — Манька фыркнула — Стас стерпел — и — променять меня на дворняжку? — нет, ты смотри, как я закладываю руки в чужие пизды — закладывай со мной — это забавно, дурочка! но слушай команду! — и, когда тебе чужой дядякладет руку на плечо — с любезной улыбкой говори: не надо — спокойно и уверенно такговори — и все в порядке — или страдай! — приди, поплачься мне, как тебе тяжело, как ты страдаешь по моему поводу — и я скажу: ты правильно страдаешь — потому что ты страдаешь по человеку, который достоин страдания и безоглядной любви — пошли, сказал я Сашеньке — мы вторглись в закрытую спальню — на моей кровати я застал привал романтиков — жанровую картину — Стас гладил черную, как всегда взлохмаченную пизду — Манькины джинсы были приспущены — хуй художника валялся неподалеку, на его ноге, в торчащем виде — сиськи у Маньки тоже по-праздничному торчали — Сисин стремительно определял — было ли положение предтрахательным или послетрахательным? — как будто от этого что-то зависело — возможно, Стас нарвался на сопротивление — вызванное — чем вызванное? — возможно, они принялись было ебаться — но Манька уползла из-под хуя — как это случается со своенравными девушками — ну, братцы, все! — сказал Сисин — поеблись, и хватит — пошли веселиться — без вас скучно — Сашенька высовывалась из-за его спины — это — я! — ткнула пальчиком в Европу на быке— а-а, музейная вещь! — сказал Найдюк — Манька, сморщив нос, посмотрела на Европу на быке— ничего не сказала — Стас державным жестом запахнул халат.
Втроем вернулись в гостиную — Манька осталась в спальне — пусть почувствует себя проституткой — думал раненный в сердце Сисин — выпили по коньяку — Стас как джентльмен предложил Сашеньке пососать Сисину — та без особого желания, но стала расстегивать — они заголились — Сашенька взяла в рот — маленького Сисина — и пососала — и когда сосала — постепенно заводилась — взяла в руку художника — пососала художнику — перекинулась на Сисина — ты посмотри, какая у него большая, толстая пиписька! — сказал Найдюк — Сашенька с томным, ломаным прищуром смотрела — раздались шаги — Манька деловито шла к вешалке — бросила косой взгляд в комнату — кажется, ничего не увидела — или увидела? — это была ее первая попытка бегства в их неудачной жизни — у себя она его гнала — у него бежала — ей казалось, что вера слишком связана с московским снобизмом — снобизм заслонял все — она не верила в Бога и не слишком стеснялась своего равнодушия.
Сисин вышел из комнаты — ты куда? — она возилась с замком — она сказала мужу, что с работы уехала по Золотому кольцу — кажется, в Суздаль — останься, сказал голый снизу по пояс Сисин — нет, ты останешься! — он схватил ее за свитер — зелено-черный — по памяти — которая, наверное, врет — она стала вырываться — он был сильнее — он поволок ее в спальню — рвя свитер — бросил на постель — она поднялась — ребром ладони ударил по шее — она упала — снова встала, с другого конца кровати — Сисин подлетел — говно — сказала она — сука — сказал он — она сапогом ударила по яйцам — попала по ноге — Сисин озверел от ее намерения — кулаком ударил в лицо — она упала на кровать — из носа у нее пошла кровь — ворвался Стас с обрадованной Сашенькой — вы что, охуели?! — уйди на хуй! — заревел Сисин — гости поспешно скрылись — ты, блядь, как ты смела? — а ты? — что я? — зачем полез ей в пизду? — дышала Манька — она никогда не была спортсменкой — захотел и полез — дышал Сисин — вот и я захотела — что ты захотела? ты что еблась с ним? — злобным голосом задал Сисин слабый вопрос — она не ответила — на хуя пошла в спальню?! — она молчала — ты же, дура, так блядью станешь! — Манька вдруг с новой силой ударила его по лицу — очень больно — Сисин взвыл и ударил ее в ответ — та даже подавилась от боли — упала на подушку — не двигалась — Сисин потянулся к Маньке — Сисин сорвал с нее злополучные джинсы, задрал свитер — она лежала, раздвинув ноги и отвернувшись — Сисин почувствовал вдруг жуткое удовольствие — это был один из лучших трахов — все-таки ебля должна быть запретной — но она все равно не кончила.
Проснулся от льющейся в ванной воды — Сисин вышел из спальни — чистоплотный Стас принимал утреннюю ванну — на полу пел транзистор — Сисин присел на желтую табуретку — ну, как тебе Манька? — улыбнулся Сисин — противная девка! — ответил Стас — это обрадовало Сисина — почему? — спросил он вкрадчивым голосом — Найдюк намыливал голову — упрямая осетинка, брезгливо сказал Найдюк — она не осетинка, сказал Сисин — Стас сплюнул шампунем — у тебя что, другой не нашлось? — да она вроде ничего была — тебе тоже, по-моему, понравилась — Стас долго, с удовольствием смывал шампунь — он повернулся к Сисину с новым, как это бывает после мытья головы, лицом: — выброси ее вон! — почему? — заслужила — почему? — настаивал Сисин — да ну, говно — сказал Стас — Сисин прикинулся любопытным — ты ей всунул? — засмеялся он — ну! — самолюбиво сказал Найдюк — даже брови поднял от удивления — у Сисина все перевернулось, и стало сильно, неметафорически жечь в груди — сиськи у нее хорошие, вдруг отметил Стас — видно, в детстве много капусты ела — капусты? — не понял Сисин — ты что, не знал? женская грудь состоит из капустного сока — а пизда лохматая, захохотал художник — Сисин молчал — слишком много растительности — усы! — у нее усы, как у таракана! — да, кивнул Сисин, дурацкие усы — что у него в голове? — думал Сисин — он же видел, как мы дрались — Стас вытерся сисинским полотенцем.
Больше всего на свете Сисин боялся попасть в глупое положение — хотя впоследствии Найдюк не возникал — пропал куда-то по причине выколотых у сына глаз — но не зря звонил телефон у мужа на работе — ой, не зря ласковым голосом Манька убеждала мужа, что интересуется его математическими успехами — причем так балансировала, что оставляла некоторые намеки непонятными Сисину, отчего события их семейной, как Сисину казалось, довольно жалкой жизни не стали его достоянием — при этом требовалось внушить мужу, что разговор никем не подслушивается — чтобы не вызвать подозрений у жизнелюбивого парня, который разлагается где-то сейчас в своей недалекой могиле, так ничего обо всех этих ухищрениях — и вообще — конечно, надувательство покойного Аркашки— в Аркашкебыло много симпатии, не пренебрежения — было тоже вызвано несовместимостью — то есть мукой — не блядством — хотя внешне могло показаться — в худшем случае — а вот это не телефонный разговор — и вешала трубку — и вешала Сисина себе на шею — как это расценивать? — просто по-бабски обделена и несчастна? — во всяком случае она поступала продуманно — в мае объявляет: — я развожусь — у него было с легкими не в порядке — пока болеет, не разведусь — с больными не разводятся — Аркашка поправился в мае — папа помог ей переехать — все ее жалкое барахло — я тоже лыжи как-то перевез — Ирма никогда не давала дельных советов — она только ограничивала поле сисинской деятельности и очерчивала круги порядка — давайте выпьем за нее — сказал Спиридонов на тусовке — она не давала намраспуститься — тоже функция — подумал с опозданием Сисин — на него, конечно, оказывали давление — подсылали — пришел частный издатель с обложкой для нового издания ВП— русские сгнили до основания — я точно знаю — Сисин неопределенно молчал — мы либо преступники, либо дебилы — у нас дебильные рожи и большие гениталии — Сисин подумал: — нужно с русскими что-то сделать — он одобрил и подписал обложку — но весь день ходил расстроенный — либо преступники, либо дебилы — двадцать минут свободного времени — Манька повесила трубку и покосилась на часы — и тогда они начинали целоваться — какие бы средства транспорта Аркашка ни выбрал — во всяком случае «запорожец» у него плохо заводится — вот чего Сисин не мог себе представить: — Маньку в этой консервной банке — и потом она могла спокойно по ночам с мужем на этом самом раскладном диванчике — и даже признавалась, что время от времени трахались — но все меньше и меньше — постой на атасе — приказал Сисин Стасу и засунул утренней Сашеньке в рот — потрогай мне яйца — попросил он художника — тот, удивленный командой, потрогал — Сисин кончил в румяную Сашеньку — ребята, пора по домам — сказал Сисин, надевая трусы, валявшиеся под диваном.
Как всегда, спала долго — иногда, позавтракав, она снова ложилась «додремать» — на диван — Сисина злило — ленивая — это у них так на Востоке, думал Сисин — а Манька высмеивала его европейство — он называл итальянские макароны спагетти— ручкой делал при расставании — как веером — противно — проснувшись, она захотела есть — Сисин повез ее в пиццерию — на улице было холодно — в посленовогодней, с ощипанной елкой пиццерии отовсюду дуло — ты любишь играть в карты? — спросила она — нет, а что? — ничего — Сисин никогда не играл в карты — она заказала ядовито-зеленый коктейль — а в кости? — Сисин пожал плечами — он был подавлен видением Найдюка, который по-хозяйски держал руку у Маньки на пизде — Манька в основном придерживалась той версии, что она вообще ничего — даже хуй не трогала — ты хочешь сказать: ты ему не дрочила? — я не помню — а ты вспомни! — ну, может быть, совсем чуть-чуть — так вы, значит, все-таки еблись? — ты ничего не понял! — мы разговаривали, и Стас признался, что влюбился в меня с первого взгляда — Боже! — Сисин схватился за голову — какая же ты дура! слышала бы ты, как он тебя поносил! — ну, правильно! — усмехнулась Манька — он ничего не получил — Сисин издал неопределенный звук — до него что-то дошло — он стал сомневаться сразу по всем направлениям — зачем ты пошла к нему в ванную? — начал он по новому кругу — уф! он что-то интересное рассказывал про собак — Манька бросает незаметные взгляды на его гениталии — плавающие в воде — большие гениталии хорошо владеющего собой ебаря — у нее начинает немножко путаться в голове — про собак! — Сисин дальше спаниелей не шел — остальных не знал — ну, разве колли — не хотел знать — взрослые игры — в которых она ничего не соображала — получила свою дозу радиации от больших гениталий — здесь начинается твоя девальвация — на таких женщинах не очень сильно хочется жениться — размышлял Сисин вслух — в то время, как она рвала ножом пиццу — давай сменим тему — предложила Манька, дотронувшись до его руки — она была нехороша в тот послеобеденный час в пиццерии, и похмельному Сисину не хватало благородства разрешить ей быть нехорошей — он холодно, с удовольствием отметил ее облыселость — не так, конечно, плохо было на самом деле — но все-таки — если она не мыла голову — у нее была видна негустота — хотя она, когда мыла голову, была фальшиво пушиста — прибегая к ухищрениям — фена — начеса — она его заставляла звать ее пушистик— что Сисин и делал, каждый раз мучаясь фальшью — пушистик! — он видел ее жалкий хвостик — аллергическую бугристость кожи на лбу — не самом, между прочим, большом — у Ирмы он симпатичнее — не самом чисто внешнеумном — несмотря на многочисленные претензии — наоборот, волосы росли низко — делая лобик низким — может быть, потому лицо было нефотогеничным — совсем не фотогеничным — ни одной фотографии вместе — ни улики — ни воспоминания — раз Гуля предложила их щелкнуть — Сисин сказал: — спасибо, не надо — только глаза были хороши — отвратительно картинные глаза.
Вопреки всякой логике, поехали в мастерскую к Стасу — он к тебе будет, как к бляди, относиться — заверил Сисин — а ты защити меня! — Манька уверяла в пиццерии, что Стас чувствует себя хуево — он обосрался — что это я? — взял себя в руки Сисин — из-за капустного сока?! — во всяком случае, когда мы поднялись по грязной узкой лестнице в его мастерскую — он открыл — увидел ее — изобразил шум приветствия — у него не было взгляда победителя — у него было оживленное лицо с настороженными глазами — Стас запанибратски обнял Маньку — не обратил внимания на то, что она подчеркнуто отстранилась — она увернулась от объятий и села на первый попавшийся стул — мы поздоровались с парой каких-то кислых людей — Сашенька в маленьком черном платье с подносом чайной посуды появилась на пороге кухни — как мило вас видеть! — сказала она, сощурясь — сейчас будем пить чай! — Стас Найдюк носился по мастерской — он совал в руки Сисину каталоги спортивных машин, вездеходов, японских телевизоров, «прозрачных» телефонов, альбом музея Галле в Нанси на немецком языке — нет, ты посмотри! посмотри! — она будет моей! — такая же в точности вазочка — какие «плачущие» линии! — а эта? — игрушка! — теперь смотри сюда! — я покупаю маршрутный автобус — как зачем? — я буду возить в нем декорации — ты видел этого рыцаря? — это сын — нет, ты посмотри, как классно он сделал доспехи — юный гений — безупречная вещь — Маня, вам нравится? — нет — сказала Манька — вы ничего не понимаете! — ужаснулся Стас — он схватил Сисина за руку — я только что купил — у одного француза — русские дореволюционные открытки — целое состояние! — ты посмотри, какая чистая, белая улица — ты знаешь, где это? — догадайся! — я прошу тебя догадаться! — сдаешься? — в Чите! — ты можешь себе представить, чтобы в Чите были такие чистые, метеные улицы? — теперь — ты вставляешь открытку в аппарат — смотри сюда — и открытка становится объемной — Маня, идите же сюда! — хотите посмотреть? — Маня подошла, наклонилась — вам видно? — нет — сказала Манька — Стас принялся настраивать аппарат — а теперь? — Сисин нехотя восхищался — вы знаете, Маня — сказал, улыбаясь, Стас — что у вас двемакушки? — две чего? — нервно переспросила Манька — макушки! — захохотал Стас — у всех одна, а у вас две — Сисин и Манька ошалело смотрели на Стаса — не веришь? можешь пощупать — предложил Стас Сисину — хорошо, что не три — неудачно сказал Сисин — вот смотрите — Стас потянулся к Манькиной голове — не надо! — попросила Манька — две так две — они мне идут? — спросила с жалобным вызовом — очень! — заверил ее Стас — Сисин заискивающе забежал сзади — дай-ка я проверю! в самом деле, две! — скоты! — весело рассказывала Сашенька кислым людям — пришли сюда и напились — говорят, как урла — и шутки урлы — посрывали мои дорогие шмотки — побросали на пол — укрылись — жалко шмоток — в последнее время Крокодил была не в простых отношениях с Бормотухой — но та относилась к этому нормально — звонила из метро: — я рядом! — можно к тебе? — я работаю — жестко обрывала ее Крокодил — облевали туалет — еб их мать! — богема — сказал Сисин — он не любил ни богемы, ни вообще млекопитающих — у Спиридонова хуйчик небольшой — доносила Крокодил — вот бы вам их вместе пососать — это было бы замечательно — рассеянно сказал Сисин — значит, небольшой— отметил он про себя — когда-нибудь она станет банком половой памяти целой эпохи — Манька сидела на стуле в скованной позе — с двумя макушками — на нее мало обращали внимания — Сисин редко ходил с ней в гости — когда она была не в центре мужского внимания, ее глаза становились как плошки — выпили чая — поговорили с кислой парой об иглоукалывании — капустный сок! — подмигнул Сисин Стасу — Стас прыснул, кивая на Маньку — Манька сидела, как отмороженная — ей по расписанию следовало прибыть из Суздаля — она взяла даже с собой книжку о Суздале — ты давно был в Суздале? — Сисин вез ее домой — что там вообще в Суздале есть? — церкви — сказал Сисин — как он определил, что у тебя две макушки? — я всегда знала, что у меня две макушки — сказала Манька — он что, твою голову ощупывал? — отстань! надоел! — она неожиданно закапризничала: — есть хочу! — Манька была прожорливой — хочу кровавый бифштекс с картошкой! — дома поешь! — после Суздаля! — она промолчала — вдруг ни с того ни с сего Манька призналась, что спит с бывшим одноклассником — как спишь? — ну, ебусь — объяснила она — Сисин остановил машину около булочной — это был их угол — на котором они на прощание целовались — Манька всегда затягивала прощания — выебывай отсюда! — не хочу — она попробовала улыбнуться и превратить в шутку — которая после выебывайбыла бы последним оскорблением Сисину — оба это знали — поскольку были похожи — тебя что, из машины выкинуть? — поинтересовался Сисин — для него она больше не существовала — в глазах Маньки возник испуг — заигралась — я соврала насчет одноклассника — лучшепоцелуй меня в обе макушки — Сисин вылез из машины, открыл дверь с ее стороны — давай! — сказал он — она не выходила — он схватил ее за дубленку — она пошла вдоль стены, сильно сократившись в размерах — как больное животное.
До этого его дни катились в безобразии — как только Сисин разворотил ему зад, Жуков задумался о назначении жизни — он вскоре покрестился — не ставя никого в известность — сделал предложение Софье Николаевне — он сватался по всем правилам — со слезами, в галстуке, с букетом, с преувеличениями — его внутренности заныли, потянулись к чистоте — он понял, затрепетав, что чистота речи есть выражение души — в Великий пост, в полуобморочных грезах сыроедства, он увидел астральную родину — Россию в алмазах — засветил лампаду, порвал с колдуном — они завыли, как два корабля в океане — Жуков завел дневник по борьбе с деконструкцией — получив от патриотической партии задание следить за кружком Сисина как за тлетворным образованием, он серьезно отнесся к заданию — дневник постепенно принимал романные очертания — антицинического направления — против ерничества, душевного гнойника и глумления — он сделал все правильно, и благодать снизошла на него — роман имел поразительный успех — Жуков разбогател — его авторские права стал защищать литературный агент в Лондоне — его раскупали на лотках в подземных переходах — народ балдел — Жуков стал одним из лидеров новой искренности — им зачитывались до дыр — он перекусил гадину и пить не бросил — лицо озарило солнце успеха — патриоты, хотя и завидовали ему, признали его лидерство, добровольно стали его подпевалами — Жуков купил себе новый «Москвич», выстроил дачу с решетками на окнах, железной дверью, петухом на крыше — Софья Николаевна в муках родила первенца — то-то радости было! — в душе он стал миротворцем — мечтал, чтобы Сисин покаялся — обрусел — они бы обнялись — после того, как Сисин вышвырнул Маньку из машины, Маня не ела пять дней, но не умерла — зато перекурилась — она сушила «Столичные» сигареты на батарее, чтобы были вкуснее — раз, до разрыва, Сисин подарил ей две пачки «Ротманса» — порозовев, она сказала, что она застенчивая девушка, ее не нужно так баловать — она испытывала слабость к подаркам — через пять дней, утром, Маня проснулась голодной — с жадностью съела два яйца всмятку — Гуля выводила ее из кризиса рассказами, что все мужики говно — постепенно она научилась отвечать понимающей улыбкой — через две недели после случившегося разрыва, во время студенческих каникул, она по путевке уехала в дом отдыха вместе с Гулей — ходили на лыжах, но она боялась съезжать с горок — и это подчеркивала — муж над ней незло всегда подшучивал — она культивировала свои маленькие испуги и страхи как черту женственности, очарования — она была очаровательной трусихой — где Север? где Юг? где Москва? — крутила головкой — ничего в этом не понимаю — Сисин показал, где Москва, рассказал, чем отличается Север от Юга — познакомил с устройством компаса — ничего не понимаю — Маня любила Москву — на лыжах они доходили до соседнего дома отдыха, где с двух часов работал бар — заправлялись шампанским — клевали орешки — пили коктейли с маринованными вишенками, комментируя и презирая увиденных вокруг мужчин — к мужчинам они относились высокомерно — они видели все их порывы насквозь — назад шли на лыжах, весело сбивая снег с елок — елки кивали им своими лапами в знак благодарности — почти по-человечьи — или вообще никуда не шли — сняв лыжи — застревали в баре до вечера — на них поглядывали презираемые мужчины — однажды за ними на лыжах увязался детский доктор по имени Боря — он был, естественно, евреем и при деньгах — он предложил им шампанское и красиво ухаживал, приносил-уносил бокалы — Сисин страдал сильно — садился к телефону — набирая номер, он знал, что не наберет, бросит на половине, но не мог отказать себе в мучении — Манька ему снилась — когда проезжал мимо ее улицы — за рубашками в прачечную — он вспомнил, как Манька сунула его штаны в барабан к другому мужику без очереди — очень расторопно — его обожгли воспоминания — Манька отправилась за открывашкой — Гуля валялась на кровати в брюках и лыжном свитере и говорила, потягиваясь — что-то ебаться хочется — пустые, в сущности, слова, но они могли стать действительностью совсем просто, как в заклинании — Манька откликнулась — ой, мне тоже! — Сисин вел обычный образ жизни, но очень страдал — мне не смешно, когда фигляр презренный пародией бесчестит Алигьери — изменившимися глазами Жуков смотрел туда, где кончаются звезды и начинается Бог — 1) написать роман о метафизической начинке русской жизни и исторического процесса — 2) начать мыслить мифологическими вкраплениями — Жукова распирало от понимания сущности жизни — 3) вывести алгоритм российского космоса — работа ладилась — спорилась — Жуков пел и писал — тук-тук! — на пороге стояла Манька с блестящими глазами — сама пришла — жиденок-врач весь приподнялся в приветствии — у вас есть открывашка? — а что вы хотите открыть? — спросил он с такой заботой и предупредительностью, будто от открывания консервов зависела судьба мироздания — будто у него был миллион разнокалиберных открывашек — которые он готов был свалить к ее ногам — шарм сорокатрехлетнего мужчины кружил ее умненькую головку — кривляка, позер, человек, лишенный собственного достоинства — писал Жуков о Сисине в антисисинском дневнике — у него не болитза отчизну — мы болью за родину отмерим значение каждого — пора вывести всю эту братию — паразитирующую — на наших грехах — грехах наших — на чистую воду позитивного отношения — сколько можно отступать? — да, мы сделали некоторые ошибки — совершили — и стремящийся различными выходками — притом глупыми — добавил он от себя — заслужить расположение — чье расположение? — кому это надо? — кто заказчик этой жизнеотрицающей — почему, когда я его вижу, я немедленно начинаю поддакивать? — 4) поцеловать русский нечернозем — четыре-четыре — три карты — четыре — мурлыкал — Жуков — я люблю тебя снова и снова — мурлыкал он — сайру — сказала Манька, очаровательно водя глазами — позвольте мне самому — я опасаюсь за ваши руки — скажи он: — за ваши пальцы или (еще того хуже) пальчики — он бы проиграл все — «руки» прозвучали по-медицински и музыкально — Манька порозовела от удовольствия — она выскользнула из комнаты, врач в волнении походил туда-сюда, готовясь к решительным действиям открывания сайры — когда наступает момент утраты женской бдительности? — как Манька могла не догадаться, что открывашкой дело не обойдется? — я об этом не думала — сказала она Сисину, когда тот напомнил ей ванну со Стасом — на что Сисин сказал — «я об этом не думала» заложено в основании жизни — Жуков обрастал новыми знакомствами — он нравился себе в роли предателя цинизма — люди вокруг него говорили только о главном — он тоже был заранее бородат — они не принимали развратных поз даже в кре сле — патриоты отличались маленьким размером обуви — у них были почти балетные ножки — Жуков вспомнил все безобразия Сисина, и ему сразу стало не по себе — как я мог допустить, чтобы он меня трахнул? — Сисин никогда не заводил с Жуковым разговора о том, как он его — однако Маньке он рассказал во всех подробностях — может, забыл? — с надеждой думал Жуков — нет, он не такой— он не забудет — наступил тихий праздник вручения домашних премий — Софья Николаевна, озорно улыбаясь, вышла с конвертами — Сисин второй год подряд был удостоен заочно премии имени Берии — Сашенька негодовала: — им бы только квасить! — и валяться в ботинках на моих дорогих тряпках — но Крокодил выделяла тех, у кого есть талант — тем более гений — гений имеет право на характер — с гениями Крокодил шла напролом — называла уменьшительными именами — кончая, гении трубили, как слоны хоботом — ууууууууууууууууууууууууууу — Спиридонов тоже трубил — ууууууууууууууууууууууууууууууу — в морозный утренний час трубный звук кончавшего гения разносился по московским бульварам — москвичи, вздрогнув, поднимали бледные лица к небу — беспокойно прислушивались — а вот Сисин — Крокодил ухмыльнулась про себя — не трубил — скажи им, что мы в законе! — развязно крикнул Спиридонов, напившись шампанского — давайте стричь пизду! — радостно предложил он во Франкфурте — Крокодил кайфовала — давайте! давайте стричь! — Крокодил надела на себя все побрякушки — я новогодняя елка! — ели голубей, лягушек, морских ежей, все меню подряд — да чего они сидят, словно не Новый год? — кричал Сисин — подайте на каждый стол по бутылке «Советского» шампанского! — от нашего стола! — официант прибежал с извинениями — советского нету — тогда французского! — долой пиво! — поднялись — господа! — в России Новый год! — весь ресторан встал, нарядный, и выпил до дна — еще! — требовал Сисин — несите еще! — к утру официант заговорил по-русски — платили наличными — выворачивая карманы — на столе выросли горы марок — мы себе можем это позволить — дружески сказал Спиридонов Сисину — Спиридонов был основателем русского комикса — она думает — пошевелил пальцами Спиридонов — что талант передается посредством половых сношений — Сисин со Спиридоновым захохотали — а вдруг он только прикидывается, что болен? — подумалось Сисину — он ведь славится своим игровымотчаянием — в тапочках, мягкой походкой Манька пошла к себе в комнату — Гуля хлопотала, очень хотелось жрать после ужина — Манька возвратилась к доктору с баночкой сайры — Гуля проводила ее взглядом в спину — Боря достал отличненький ножичек со швейцарским крестом — такие ножички дарят гостям Белого дома американские президенты — доктор поставил на стол коньяк — в комнате у него было прибрано и не душно — молодые девушки захлебываются в биополе сорокатрехлетних мужчин, если те ведут себя грамотно и у них не пахнет изо рта — доктор Боря вел себя грамотно — он предложил Маньке глоток коньяка — перед тем, как налить, с подозрением осмотрел стакан на предмет чистоты — не удовлетворившись чистотой, помыл его на глазах у Маньки — коньяк был вкусный — в швейцарском ножичке оказалась открывашка — доктор склонился к сайре — есть особая порода докторов, которые дуреют от работы с телом — у них особые глаза и повадки — у вас, кажется, искривление позвоночника — Манька кивнула — повернитесь, пожалуйста — двумя крепкими пальцами он провел через толстый свитер по позвоночнику — у Маньки побежали мурашки — точно определив, что она не носит лифчика.
Одиннадцатого февраля прилетел ангел примирения — с лавровым листом — Сисин не ждал и не думал — он несколько успокоился — накануне он принимал у себя на даче почетных гостей — Римму Меч и ее нового мужа Феликса — ехали в темноте — Римма боялась, что за ними будет хвост— что хвостнападет на них в темноте и зарежет — они приехали, забрались на второй этаж — на первом тогда еще жила ханжа-генеральша — я ей не подам руки — предупредила Римма — не мог найти себе чистуюдачу? — покачала она головой — сели ужинать — молодожены заговорили об андеграунде — о том, как его сплотить, организовать политически — о разброде — шатаниях — модном скотоложестве — у меня тоже есть свой козел! — Римма похлопала Феликса по колену — выпив, от нечего делать Римма стала изображать нелюбовь к непрестижному мужу — «козел» состоял при ней телохранителем — он оплачивался из особого фонда — Си-си, я прозрачно намекаю, что фонд заинтересовался твоими Детьми— распорядительница рассмеялась — вижу, у тебя потекли слюнки — Си-си — Би-би-си — Сисин закусил губу — на самом деле Римма платила мужу из своего кармана — ей удавалось жить переводами и тамиздатом — иди проверь сад — приказала Римма — нет ли засады — и тут же у нее родились стихи — я вышла в сад — ля-ля-ля-ля — ля-ля-ля-ля-засад — Феликс надел тулуп и, недовольный, хлопнув входной дверью, пропал в саду — я тебе газет привезла — вместе с газетами она привезла напечатанную в Лондоне тоненькую книжку своих стихов — на память — на счастье — спрячь подальше — на допросах все отрицай — Сисин взял книжку в руки — сама мысль о чтении вызывает у меня дикую тоску — признался он — я разучился старательно двигать глазами по черным буквам — однако срать не сяду без газетки — ну, значит, прочтешь в сортире! — нетерпеливо передернула плечами Римма — его что, волки съели? — Феликс немедленно возник — на нем не было лица — что? что случилось? — побледнели Сисин и Римма — в ответ Феликс показал им обезображенный, опухший большой палец — сволочь! дверь! прищемил! — оказалось, что он потерял сознание и пролежал все время на пороге — ты хуже, чем козел! — взвыла Римма — «мудак» для тебя — комплимент и праздник! — Сисин ушел к себе в комнату — пить не хотелось — наутро Феликс рано уехал на электричке — Сисин стоял в трусах и брился — нарочно в трусах — возникло некоторое напряжение — Сисин не понимал, что ему нужно — у нее грязные волосы — она лежала на кровати и обещала устроить Сисину авторский вечер в Доме железнодорожника — я завелась в больном месте культуры — потягивалась она — где хорошее не отличить от плохого и глупого — это недоразумение меня интригует — чистосердечно промолвил Сисин — я люблю всякие уродливые сооружения — вроде храма Христа Спасителя илигостиницы «Украина» — Римма была уже сильно в образеи не желала из него выходить — у нее собирались опальные деятели всех мастей, от моралистов до педерастов — она плохо готовила — на Масленицу ели болотного цвета блины — пили невкусное — путая вина — запивали невкусным чаем — Сисин порой туда ходил — а куда еще ходить? — она занялась устройством его дел — на Масленицу даже рубашку ему расстегнула под утро — уже под столом — под строгим взглядом подающего скромные надежды Феликса — отдыхающего на диване — ничего не вышло — Феликс угрожающе заворочался — она неспешно выдернула пальцы из-под рубашки — как расстегнула, так он сам и застегнул — но, подумал он, один раз можно — в черном приталенном брючном костюме Римма Меч неожиданно заявилась с Феликсом — Сисин провел тоскливый вечер — перемывали всем кости — натужно хвалили эстетическую щепетильность Спиридонова — даже выпили за него — обсуждали идею журнала не журнала — альманаха не альманаха — цикла лекций — чего-то раннеперестроечного — потом ее выеб какой-то нобелевский лауреат — по физике — или астрономии — во всяком случае не Солженицын — она засветилась неожиданной удачей — она даже иначе стала разговаривать — лучше писать стихи — это окончательно помогло ей найти свой образ— Сисин был восхищен метаморфозой — он стоял в трусах и брился перед зеркалом — она не выползала из своей комнаты — дверь была открыта, они переговаривались — он видел ее молодую, некрасивую кожу на шее — Сисин нехотя разрывался от противоположных желаний — с одной стороны, он ценил ее наглые качества — бесившие нормальных людей — если все будут жить так (Ирма от нее приходила в истерическое состояние), мир свихнется — в Ирме кипел крестьянский антисумасшедший дух — здоровые мужики должны работать — матери должны воспитывать детей — Римма Меч своего ребенка не воспитывала — не видела месяцами — она гордилась этим — как извращением — для Ирмы это было запредельно — для Ирмы она не существовала — Ирма была в претензии к миру за беспорядок — особенно к русскому миру за его извечный бардак — к которому она не могла привыкнуть — несмотря на то, что из России никуда не выезжала — этот парадокс ей не давался — вообще Ирма была изнутри не просвеченная — у нее не было устройства видеть саму себя — и это очень утомляло — с другой стороны, у Риммы были грязные волосы и жирная кожа лица — к ней было довольно противно притронуться — но она оказалась утром одна — Сисин колебался — играясь безопасной бритвой — в то время на дворе стояло удивительное утро и было около половины двенадцатого — синее небо — и окрепшее после декабрьской болезни солнце — лупившее в окна — красно-желтые листья декоративных цветов, которые поливал Сисин — если не забывал — светились — и очень хотелось на лыжах — бодрость и кратковременный подъем сил — и даже было чуть-чуть скучновато ложиться с надуманными объятьями в постель — дом сотрясся от судороги сантехники — ханжа спустила воду в туалете — солнце светило Сисину в голую спину — он почесал в раздумье одну ногу о другую — ну что, как его палец? — стыдно сказать, на что он стал похож — совсем по-простому сказала Римма — вода закипала в дачном чайнике — раздался звонок — рядом с бритвой — на столе — Сисин сказал вежливое «алле» — несколько восходящее к французскому образцу — что вообще Маней не поощрялось — в отличие от Риммы, Манька не была пробивной, не гибла от творческого экстаза — порой сисинское «алле» раздражало самого Сисина — как-то Сисин сказал Маньке, что для нее опасность — талантливая баба — такие ему что-то не попадались — а если попадались, оказывались уродками — они любили свой талант больше самого Сисина — попалась Ирма с бытовой системой координат — нерушимой, как гимн и скала — раздался звонок — ничего не подозревающий Сисин взял трубку — это Евгений Романович? — раздался чистый, родной голос — Евгений Романович захлебнулся от невероятного счастья — да — счастливо вымолвил он — а это не? — она-она — заверил его любимый голос — и вы знаете — без тени жеманства сказала она — я звоню вам сказать, что мне очень стыдно и я прошу прощения — если можно — Сисин даже растерялся от счастья — откуда вы звоните? — спросил он глупо, и с этого момента они порой говорили друг с другом на «вы» — из дома — вы посмотрите в окно — сказал Сисин — что делается — чайник на кухне кипел и плевался — Сисин дотянулся, выключил газ — на вокзале возле билетных касс — нет, возле расписания пригородных поездов — Сисин не хотел на машине — из которой он ее выпихивал — вдруг выпихивание показалось ему странной ерундой — Сисин натянул штаны и оглянулся — Риммы Меч больше не существовало.
В электричках тогда еще мыли окна — правда, уже не очень — Сисину сильно хотелось увидеть Маньку, но он боялся, что выйдет плохо — пока он ехал, он снова разозлился — нужно будет ее наказать — я ее накажу — на вокзале он испугался, что не найдет ее в толпе — он отошел в сторону, она опаздывала — он бегал по редакциям за внутренними рецензиями — по ночам ему снились враги — Ирма называла его неудачником — зажмурившись, он жил непонятно как — страдал от безденежья — продлись все это еще несколько лет, он бы, наверное, не выдержал — сломался — как бы он сломался, никто, включая его, не знал — нарождалась новая культура — он сам нарождался — впереди ничего не было видно — Манька стояла под расписанием и курила — привет — сказал он — они спустились вниз и купили билеты — она с волнением смотрела на него — извини, что опоздала — знакомый довез — ее довез врач Боря — случайно попавшийся на машине — случайно ли? — встречалась ли она с ним позже? — она стояла и курила — купили билеты — подождали электричку — гуляли зимние сквозняки — Сисин кутался в шарф — он не знал, как себя вести — он выпадал из обычного хода вещей — в чем-то он, безусловно, не был человеком — твои игры слишком изящны для России — предупредил Жуков — я не люблю слова изящныйв применении к себе — заметил его дачный друг — я не вписываюсь внутренне в это слово — но времени было отпущено немного — они вошли в электричку и замолчали — солнце садилось — когда они приехали на полустанок, сильно похолодало — до дачи было минут пятнадцать — обычный тон Сисин оставил — он не расспрашивал — не пускался в обычные разговоры — которые строились на крутой кривизне, как бобслей — бобслейбыл иронической победой над миром — в этом мало кто понимал, живя прямо, по недостатку сил — Сисин считал, что такая позиция принадлежит сильному и бесцельному человеку — скука была его назначением — но он еще не успел соскучиться — наблюдая за неадекватностьюИХНЕГО поведения — скорее даже не рисуя карикатуры, а предоставляя ИМ ВСЕМ возможность по-уродски самовыражаться — ощущение ИХНЕЙ неадекватности выбивало его из разряда людей гораздо дальше, чем он думал — его уносило слишком далеко — он терял черты человечности, не будучи способным зацепиться ни за что — оставались мелкие формы охоты на баб как суррогат борьбы с грехом — он отдалялся и попал на заметку — но его служение было еще неясным — у него оставались иллюзии человека железного занавеса: там настоящаяжизнь — это его тормозило — отчасти спасало — ходил к иностранцам на приемы — было скучно, но, рассеянно думал он, иностранцы, связанные с его страной, особый род людей — скорее всего неполноценный — светский мир научил его конструировать ментальности по недостаточному количеству компонентов, общаться с посторонними на низком, но сильном уровне блоков — которые он с легким скрежетом вдвигал в них, как противень в духовку — он понял, что победить можно не развязностью или сломом условностей, как это делал Спиридонов — тот на приемах всех подряд величал товарищами — завзятые американские дипломаты-антисоветчики морщились, но терпели Спиридонова как невидаль — Сисин редко получал там кайф — однажды выплыло скептическое лицо Фредерика — ел устриц у него в Сочельник — познание людей на рауте было не хуже, чем в тундре — они шли от станции молча — без обычных прибауток — и Маня немного боялась — а хозяйки нет? — хозяйка была в Москве — Манька, видимо, тоже не очень любила людей — хотя трудно сказать — она еще не перебродила — все вертелось, многое было в новинку — интересно надеть новую шмотку — подстричься — отрастить волосы — на протяжении их отношений Манька отращивала волосы — когда они познакомились, Манька была довольно коротко стриженной — чего, впрочем, Сисин не помнил — Сисин подозревал за Манькой большое количество мелких, спрятанных интересов — она постоянно бегала на какие-то дни рождения — Сисину казалось, особенно позже, что это совсем невтерпеж: — сидеть часами на днях рождения — наконец, пила — втянулась в это дело — то есть без контроля — Сисин пил, не любя отключений — он пил, чтобы погулять по буфету — залезть, напившись, на крышу собственного автомобиля — потанцевать там — Манька делила людей на настоящих и говно, исходя из правильного инстинкта, но не совсем — холодно — сказала Манька — ноги замерзли — они поднялись на второй этаж — поставили чай — у меня блядь была — видишь, тапочки оставила — Сисин показал на золотые китайские тапочки Риммы Меч — Манька спокойно посмотрела на тапочки — сегодня утром — Сисин почувствовал себя дураком и стал заваривать чай — если гневливость действительно смертный грех, то Ирма заслужила свои несчастья — потому что где причина, где следствие, понять не хватает сил — не успеешь разобраться — жизнь пройдет — была ли стратегия Маньки реализована в тщательно выверенной операции, которая провалилась скорее всего по причине его бесчеловечности? — вот легкий пример объяснения — поскольку его бесчеловечность можно было бы объяснить его требовательностью — поскольку Ирма была отнюдь не последним человеком — как бы Сисин ни страдал от ее гневливости — с которой она не могла справиться — не замечая ее — она считала свои реакции скорее даже заниженными — она видела у себя не истерику, а посильный цивилизованный бунт — она считала, что сопротивляется с женской элегантностью — и он не мог не признать, что устойчивая порядочность и верность Ирмы его избаловали — он не мог, не хотел уже по-другому — Манька же этот существенный порог занижала — разговор за чаем был аккуратным — Манька осторожно направила Сисина говорить о себе, о творчестве, о Веке Пиздыи о Боге.
Беда людей заключается в том — разговорился, разрумянился Сисин — что они целиком вовлечены в жизнь — благодаря сложению случайностей, везению и уму я достиг редкой степени свободы — которую могло бы подорвать лишь горе — этот отрезок достаточно краткий — без горя — но я сумел им воспользоваться — я воспользовался искусственными обстоятельствами — в результате мой опыт уникален — но очень неутешителен — по отношению к людям я сделал вывод, об этом смотри в ВП, что они поголовно нижепредоставленной им свободы — уровни несвободы рассматриваются мною весьма беспощадно — оставаясь на этих уровнях в течение даже наиболее удачных отрезков жизни, юманитэв свой генофонд занесло столько несвободы, что справиться с ней уже нет никаких сил — какой вкусный мармелад! — перебила его Манька — извини, пожалуйста! — ничего — валютный — ешь еще — сказал Сисин — короче, в своей изначальной форме, когда пизду даровал людям Бог, она была прозрачным знаком вещей, так как походила на них — в наказание людям прозрачность была уничтожена — пизда распалась на составляющие — начался пиздячий Вавилон — Жуков дивился тому, как у такого натуралиста, как Сисин, можно найти невообразимую смесь точных описаний, таблиц и классификаций в духе таблицы Менделеева, заимствованных цитат, компьютерных обработок, небылиц, взятых без всякой критики, замечаний, касающихся в равной степени анатомии, геральдики, зон обитания, мифологических характеристик — действительно, обратившись к ВП, видно, что раздел «О Пизде вообще» строится согласно таким подразделам: экивок (то есть различные толкования слова пизда), синонимы и этимология, различия и подвиды, форма и описание, анатомия, природа и темперамент, совокупление и рождение потомства, голос, движения, антипатия, симпатия, способы ловли, смерть и ранения, причиненные пизде и пиздой, способы отравления, злоупотребления, лекарства, эпитеты, идиоматические выражения, названия, чудеса и предсказания, чудища, аллегории и мистерии, иероглифы, эмблемы и символы, боги, которым посвящена пизда, поговорки, девизы, геральдические знаки, монеты, частушки, сказки, исторические факты, сны, живописные изображения и статуи, прочие применения — особенность же словесного состава пизды состоит в том, что всякое ее называние, вольное и невольное, ведет к утрате аромата и пыльцы, ослаблению полнозвучия, оскудению глоссолалий, а следовательно, к постепенному вымиранию и полной гибели представления как такового — останавливаясь конкретно на Веке Пизды, Сисин анализировал не столько ничем не связанное наслажденчество, сколько современный брак несвободы и удовольствия — указав предельную цель, сосредоточившись на пизде, культура, по сути дела, попятилась в небытие — и когда в музее на Кэ д’Орсей он увидел маленького «боннара» с кричащей пиздой — он вскрикнул от своей правоты — искусство сообщало о приближении финала — вместо хуя оно предлагало обратно укрыться в пещере — если греческий сатир, расставив ноги, выставлял свои здоровые яйца, цветущий и ненапряженный вид которых указывал на молодость мира, то соскальзывание интереса с лица, с грудей, вниз, туда — Сисин по-семейному указал на Манькин треугольник в штанах — свидетельствует об окончании цикла, который открыла Греция — со своими полноногимиколоннами — которые я впоследствии обнаружил на Сицилии — и испытал долгожданное облегчение — там храмы похожи на собак, крепко стоящих на четырех лапах — без всяких христианских подпрыгиваний и крылышек — Греция предлагала спокойнобудущее, пизда отсылала назад, все замкнулось — возможно, я несколько утрирую роль наслажденчества — я никогда не согласился бы с тем, что Ленин и Гитлер в XX веке были сильнее раскрытой пизды как знака утопии — их прорывы к чистому будущему — без евреев или капиталистов — были тоже не фаллическими идеалами — там тоже много от пизды — но, когда я говорю: — Век Пизды — это не значит однонаслажденчество — русская пизда в значении Века Пизды имеет куда более широкое толкование, куда больше коннотаций, чем это разошлось в заграничных переводах — тем более в рецензиях — где Сисина бесконечно склоняли вместе с Фроммом, Миллером, Лоуренсом, Юнгом и, ясное дело, с Фрейдом — в то время как отечественные мудаки, перепутав все на свете и ненавидя Сисина за все сразу, называли в лучшем случае Розанова — в худшем — Баркова — или псевдо-Баркова с его, или не его, или брата Пушкина апокрифом: — пизда — создание природы, она же символ бытия— Сисин намеренно назвал аббревиатурно — ВП— без расшифровки, которую, естественно, ради коммерции сделали иностранцы, особенно французы — в какой-то момент, потеряв всякую память, я расшифровывал ВПеще и как Время Презрения, пока не спохватился — такое уже было у французского попутчика— короче, когда он писал ВП, Сисин позволил себе опираться на разные значения, вплоть до Военного Переворота — впрочем, не зафиксированного твердо во времени — речь также шла о Вере Павловне с ее снами — Сисин реабилитировал поруганного в соседнюю эпоху разночинца — он готов был все принять — именно это вело его к помешательству — выразившемуся в конкретном деле голосов — совещаний — гавайских инициаций — наконец — нового откровения — когда он получил неслыханную власть над миром — и стал склоняться к идее нового потопа — без сожаления — нет, с некоторым сожалением — потому что нужно что-то менять в своей жизни — складывать вещи — куда-то перебираться.
Возможно, он хотел уточнить, не является ли он орудием собственного помешательства или хтонических сил, которые в его книге корректор в последний момент переправил недрогнувшей рукой на хронические — во всяком случае темнил — или был договор не разглашать — во всяком случае он приехал испуганным — Жуков понял это из его слов — но Жуков, хитрый мужик, хотел было использовать Сисина в деле очередного первоочередногоспасения России — не исключено, что я поверил в него чуть скорее, чем это могло бы случиться, не возьми я в расчет родную страну — убеждая его принести пользу, я уже не мог не верить и попался — но Сисин ничего — не воспользовался этим — он был грустен — о встрече с Папашей лукавил — рискну предположить, что Папаша не слишком отвергал или разубеждал его — то есть был некоторый элемент сотрудничества — хотя Сисин выразил неудовольствие: — ты их задавил чудесами, как танками — впрочем, все это домыслы, домыслы — и, к несчастью, не совсем безопасные — вторгаясь в опасную сферу, хочу подчеркнуть, что скорее всего воспринимаю сисинские дела как безумныймятеж — в связи с чем лишь как уморительную историю — жертвой которой, или одураченным, стал и я, по склонности к водке, мифопоэтическому устройству, расстроенным нервам и прочее — холодно — сказала Манька — ноги замерзли — они поднялись на второй этаж — поставили чай — у меня блядь была — видишь, тапочки оставила — Сисин показал на золотые китайские тапочки Риммы Меч — Манька спокойно посмотрела на тапочки — сегодня утром — Сисин почувствовал себя дураком и стал заваривать чай — я еще маленькая — сказала Манька за чаем — зачем я тебе нужна? — была растерянность, неверие в себя — боязнь проиграть — лучше не любить, но не проиграть — чтобы не было больно — гордость — и подозрение, что Сисин — говно — и неверие в Сисина — за чаем Сисин предрек ей второе замужество — хирурга — добропорядочного — никогда в жизни! — испугалась она — она в самом деле была маленькой девочкой — обсуждавшей с Сисиным-другом свои дела — и единственное, что следовало, это броситься в ее объятья и стать счастливым — допустив только одно: она со временем повзрослеет, выровняется — Сисин хотел в идеале иметь ее вечно и просто — раз-два в неделю без проблем — расплачиваясь исключительно ее радостьюот их общения — ну, еще цветочками — которые она ввела несколько позже как знак внимания — когда развелась с мужем — и Сисин, который никогда не покупал цветы, носился в поисках обжигающе дорогих зимой растений, чтобы явиться с требуемым знаком — он не привык расплачиваться за удовольствие — считая себя самого большим удовольствием — с требуемым знаком внимания, за который по договору выдавался трах — с нежным взглядом, поглаживанием и т. д. — конечно, не совсем так — это и злило Сисина — если у него хватало желания и последовательности думать об этом — потому что в какой-то момент мысль заламывалась, портя конструкцию — демонстрируя непоследовательность человека вообще — что, в сущности, выглядело довольно пессимистически — даже Сисин — чей ум во многом был абсолютным — хотя Манька все-таки настаивала на нормальности Сисина — не мог удержаться на уровне мысли — соскальзывал — это тоже было открытием — он ее забывал, как будто были измерения, которые, как открывшаяся банка консервов, меняли проблему плоскости — создавая неожиданную волну в пространстве — чего греха таить? — как только они расставались, Сисин переключался на иную жизнь и жил в ней настолько напряженно и выкладываясь — что для Маньки не было в ней места — хотя цена потихоньку росла, как температура — после чая Манька сказала, что ноги у нее не согрелись, и она пошла в комнату, сняла сапоги и сунула ноги в носках в батарею — и так сидела — грелась — и тогда Сисин предложил ей залезть под плед — она залезла под желто-коричневый плед — еще побаиваясь Сисина — конечно, он все-таки сильно ее поколотил — хорошо, Аркашка не догадался — усмехнулась она — я замазала синяки макияжем — одетые, они лежали — Сисин стал растирать ей ноги в носках сначала ступнями — он долго растирал ей ноги — волнуясь будто бы о том, чтобы она не простудилась — она была в тех самых джинсах, которые с нее стаскивал Стас — что было довольно больно — впрочем, она сказала, что это совсем другие джинсы — она сказала, что другие, и они стали другими— он снял с нее джинсы — у нее не было колготок — она была мокрая-премокрая — он долго ласкал ее — когда она возбуждалась, у нее глаз косил, как у большинства скаковых коней в мировой живописи — Сисин трахнул ее — потом поцеловал в рот — в обратной последовательности — они хорошо целовались — их поцелуи возбуждали их — это редкость — (говорили они друг другу) — острота поцелуя быстро проходит — тут она, словно не сдержавшись, рассказала про открывашку — про то, что с позвоночником у нее не очень — Сисин вновь отравился — она рассказала ему об открывашке как истории, не вписанной в их совместную жизнь — тогда же, на даче, в силу вошел договор, согласно которому они больше не обсуждают измен — тем более что Сисин оставался с Ирмой — а Манька еще какое-то время жила с математиком — они согласились — в ее формулировке: не по-спортивному — возможно, Сисин следовал общемужскому пути любви как ограниченного действия — я тебя оставлю, но разжалую в рядовые — сказал Сисин — это как? — или в ефрейторы — передумал он — я тебя переоценил — извини, ошибся — я не разбираюсь в погонах и званиях — жалобно сказала Манька — разберешься — сказал жестокий Сисин.
Разжаловав Маньку в ефрейторы, Сисин сделал сильный для себя ход — он был плохо приспособлен к любви — он не был циником — он просто полагал, что другие ниже его, и потому относился к ним с циничным чувством — надоел мне этот устойчивый образ Папаши — сказал он — пора менять — у Сисина никогда не было учеников — не могло быть — потому что у него не было учения, за которым можно было бы идти не сразу в пропасть — конечно, интересно узнать, когда в последний раз в жизни она трахнулась с мужем — всегда интересен последний раз — весной математик уехал в Бухарест по работе — тогда возникла проблема подарков, организации свиданий — по принципу — цветочки — ресторан — прогулка — трах — четыре компонента в идеале — на практике была либо прогулка, либо ресторан — если было все вместе — Сисин украдкой смотрел на часы — Манька выжимала все время — после Маньки он всегда мчался — он никогда не уехал от нее медленно — Манька любила резко стянуть с него трусы — ее волновало внезапное явление хуя — и когда у Стаса из-под халата — там! — еще до битья рюмок! — высунулся хуй — кто сожрал этот хуй глазами? — ты же знаешь: я близорука — бабы очень любят украдкой глядеть на новый хуй — они дуреют от украдкого взгляда на хуй — у них все внутри переворачивается — неправда, бабам нужен не хуй, а любовь — она никогда не носила очки — стеснялась — когда хмурилась, была похожа на умную птицу — Сисин не мог только понять: какую — во всяком случае, не попугая — перевести Маньку в ефрейторы не получилось — в качестве подарка на день рождения она потребовала объяснения в любви — она ловко уничтожила строительные леса наводящих вопросов и представила дело так, что Сисин, распираемый от чувства, лопнул — морда лопнула — он признался — ангел примирения оказался хуевым ангелом — 11 февраля было ошибкой — он правильно сделал, что бросил ее — поссорившись, он уехал в Ленинград со Спиридоновым — в поезде тот признался ему, что он мертвый— Сисин поверил — он сказал, что расстался с Манькой — Ирма сопротивлялась мне на зверином уровне, портя себе и без того противный характер — Манька приняла правила игры — издали это выглядело достойно — но у меня не хватало времени оценить ее игру — и любоваться ею — она играла, но не выигрывала — она старалась не проиграть — получалось не совсем уклюже — она билась на тех вершинах, куда не заползает ни одна баба — но там, в долинах, они бывают поизящнее ее — дай мне ее телефон — сказал мертвыйСпиридонов — Сисин подумал и не дал — он побаивался спиридоновских суждений — у него никогда не получалось быть таким чисто мертвым, как Спиридонов — Сисина все еще заносило в теплую жижу — Детибыли беззащитной книжкой — с презрительной страстью он описал детей номенклатуры — единственным извинением было то, что страсть описания была чуть сильнее разоблачительства — он искренне рассказал о своем детстве — о вялых девушках и спортивных юношах, которые едят плов и играют в хоккей — ездят по столицам республик — требуя подарков — о семье соседа, у которого было двое детей — один спился — и тазик стоял у него под кроватью — его отдали в кремлевскую больницу — оттуда он вернулся законченным наркоманом — он бросался на мать с ножом и ночами выезжал верхом на бабке — по огромной барской квартире он ездил на ней верхом — другой ушел в дипломатию — повесил над кроватью политическую карту мира — Сисин страдал от студенческой развязанности собственного слога — от наемного жаргончика— он знал, что Спиридонов не осилил Детейдо конца — и никогда в этом Сисину не признался — он только вяло похвалил эти скачки на бабке — это было у Маньки дома, возле стола — Сисин трахнул ее и стоял, одевался — он много раз ее трахнул — бессчетное количество раз — он привык к ее телу — к ее духам «Чарли» — к ее запаху — он сказал ей: — ты не понимаешь — я не как все — Манька вытаращила глаза — они тогда вдвоем со Спиридоновым составляли маленькую группу интеллектуальной провокации — Маньку они волновали — она была настроена на эту волну — Сисин получил за Детейпо мозгам — но тогда все получали по мозгам — написалась позорная книга протеста.
Какой еще аргумент привести, чтобы заставить сукиного сына спасти Россию? — это был бы сильный помощник! — мы бы им всем показали! — не сказать ли о нем бородатым? — мир лежал бы у наших ног! — Жуков знал в душе, что такой аргумент существует в природе, но не мог его обнаружить — что еще сделал Сисин в жизни? — что вспомнит он, когда Жуков достанет пистолет и выстрелит ему в лицо? — что вспомнит? — встречу на Гавайях? — довольно безвкусное место встречи — на Гавайях! — организованную через подставных лиц — почему его отправили на рыбалку? — словно хотели проверить — но что? — везение? — выдержку? — его так укачало — едва не блевал — они кричали ему что-то по-английски — подавали какие-то рыбные команды — он хотел их запомнить и забыл — зачем ему рыбные команды? — если он не ловит рыбу — тем более по-английски — почему он отказался от Сары? — смотрели бы, взявшись за руки, с иронией на юманитэ— они были бы сильной командой — и твой капризный нью-йоркский рот мне положительно нравился — Сара была невыносимо требовательна с официантами — вплоть до садизма — придирчиво допрашивала их о меню — не верила — переспрашивала — радовалась каждой их оплошности, чтобы поиздеваться — пробовала вино — гнала их менять бутылку — приносили новое — она пробовала — нюхала пробку — морщилась — опять не то — прибегал метрдотель — она требовала свечей — требовала дожарить мясо — подогреть гарнир — сменить скатерть — передвинуть стол — унести цветы — принести цветы — была всегда недовольна расположением стола — то дует — то душно — то качается — мсье, вы можетесделать так, чтобы стол не качался? — особенно она свирепствовала в Париже — хотя везде была сволочью — официанты едва сдерживались, чтобы не наорать на нее — как же она вела себя war correspondent’ом в горячих точках? — тоже капризничала? — мы ездили с ней только по холодным — она трясла официантов — в душе я был на их стороне — мы почти перемигивались во время ее концертов — сука! — мы объели весь Париж — в нем можно только жрать — жрать и срать — все остальное там сдохло — все кончилось — казалось, еще вчера там была хоть какая-то агония — забавные подергивания — теперь там гроб стоит — поперек Сены — подсвеченный голубым неоном — они перестали ходить по парижским гостям — блядь, говно! — сколько можно, блядь, не могу! — ну их всех на хуй! — сначала ходили, взявшись за руки — они были красивой парой — возможно, это не входило в планы голосов— во всяком случае, Сисин позабыл на какое-то время про Папашу — вообще, он его стеснялся — у него было какое-то неприятное чувство — пока ему не напомнили в Амстердаме — вроде бы это именно они организовали успех — для ВП— Сисин не хотел в это верить — но Сара была с дурным характером — любила командовать ассистентами, секретарями — дорого и некрасиво одевалась — над ней даже посмеивались — попа у нее была толстой — белье с выкрутасами — вообще в ней было что-то не слишком привлекательное — она была вынуждена его дрочить — и мазать маслами — но он бы мог — нет.
Почему его послали на рыбалку? — зачем он выловил эту дуру-рыбу весом в сто кило? — почему его обокрали, когда он смотрел рыб и дельфинов и каких-то особых кито-дельфинов? — кому это было нужно? — что он вспомнит? — ярость законопослушной Ирмы? — встречу с Папашей на берегу океана? — возле вулкана, где текли горячие ручьи, и рыба жарилась сама по себе, и ананасы были самые сладкие в мире — что он вспомнит? — Маньку? — которую он потерял — остроумные ответы? — успех? — что такое успех? — беспокойство, когда не узнают — беспокойство, когда пристают — и радость, когда смущаются — Сисин вернулся из ресторана задумавшийся — он пообедал с актрисой Грушевой — Грушева сообщила ему, что крики и вопли уже не проходят — публика выходит из зала в самый патетический момент — как ты права! — у них были дружеские отношения — красивые, сердечные — и сексом больше никого не удивишь, добавила она — вот именно — согласился Сисин — наступает большой перелом — в моду входят чистота и большие, стильно обставленные квартиры — это уже надолго — за обедом Сисин пил «Нарзан» — Грушева пила «Пепси» — Сисин решил не откладывать — все люди, без исключения, лишние — в Америке, сказал Сисин, со мной стряслась вполне прустовская история — в чем не прав Пруст? — жизнь не архитектурна — можно ли, например, описывая ее, прибегать к архитектурным приемам? — Сисин, родной мой, ну почему бы тебе не оставаться таким умным, таким обаятельным? — почему ты берешь на себя несвойственные тебе функции? — ведь ты не судья — тебе всегда претила эта роль — мы биографические обломки — мы библиографические останки — мы останки Божественного проекта — мы затянувшееся кораблекрушение — я люблю своего Папашу, но сыновья идут своим путем — Дед ввел закон — Папаша— благодать — все это почти что на уровне спиридоновских комиксов! — в конце концов, семья — это прежде всего уют — что делать, если мне достался стул с тремя ножками? — свернув с трассы, он не встретил больше ни одной встречной машины — выехав из города, он увидел луну и обрадовался — когда Манька научилась кончать от сисинской руки, она все равно больше одного раза не кончала — может быть, это спасло их отношения, сделало многолетними — Бог весть, к чему бы их привели послетрахательные спокойные разговоры — конечно, это было не так, как с Воркутой в Бобуре — Сисин бродил, выбирая обложку для книги — от авангарда тошнило — Воркута была согласна на все — у нее был свой смертный грех — апатия — он развивался — ей нечего было сказать — просто хватало американской правдивости не строить из себя непонятно что — но как же они любят хвастаться, американки — как они любят показать, что они при деле — что заняты, что у них работы по горло — как они ждут, чтобы их похвалили — Манька яростно сопротивлялась — Манька-ржавчина, если бы она не сопротивлялась мне с самого начала, я бы проскочил мимо нее — не осталось ни одной компрометирующей фотографии — приехав на смотрины к сестричкам, Сисин даже приуныл — зря тащился! — она была удивительно нефотогенична — это было где-то на выселках, в самом конце шоссе Энтузиастов — в новых домах — потом они еще раз туда заехали — одна из сестричек привела своего хахаля-алкоголика — они сидели, пили пиво с осадком, заедали тухлой колбасой — сославшись на то, что он за рулем, Сисин пива не пил — он с отвращением наблюдал за Манькой, жрущей тухлую колбасу — ты не ела бы эту гадость — сказал он, когда они спускались в лифте — у меня менструация — между нами нет менструации! — с неожиданным вдохновением сказал Сисин — крылатые слова решили исход встречи.
Небесный шпион [21]
Но еще хуже Индия — не страна, а суп с мочой — я ходила в храмах босиком — ступни стали черными, как в саже — Сашенька улыбнулась — что касается мелкой заносчивости индусов, почти неотличимой от обидчивости, то нужно иметь большую выдержку, чтобы не раздражаться — кто умеет работать, так это китайцы — те работают даже при коммунизме — my husband is a very very important person [22]— прямо так и заявила — Сисин принял к сведению — здесь так скучно, так скучно! — весело жаловалась Сашенька — Артуро, но я зову его Туро— создатель духов, коллекционер антиквариата — ради меня развелся с женой — по выходным дням мы живем в старом Бергамо в палаццо на старой площади — но даже с богатыми скучно — так не хватает Москвы — я здесь пять лет — итальянцы не любят чужих проблем — они дипломатично устраняются — японцы? — они меня не turn up [23]— русских у меня давным-давно не было — Сашенька примеряла юбки, бегая по складу в черных колготках — и никогда не чокайся с японцами по-итальянски— о-чинь-чинь, если я правильно произношу, у них значит мужской орган — итальянки захихикали — после ужина обсуждали — под влиянием ВП— в какой провинции как называется пизда на диалекте — даже Сисин не знал, что в Италии такое разнообразие пизд — фига — фика — как там еще? — старый террорист заговорил о неспособности русских к работе — Кэрин разрумянилась — русские хотят легкой жизни — сказала она — мы с мужем в Нью-Йорке гримировали покойников в морге — постыдной работы нет! — много лет назад французские власти посадили террориста на самолет, отправили восвояси, в Милан — это было самым сильным впечатлением в его жизни — Боже, как ужасна моя жизнь с Ирмой! — издалека думал Сисин — Туро любит женщин — я никогда не смирюсь с его изменами — если я об этом не знаю, то не возражаю — сказала итальянка в нижней юбке — садясь в машину, Сисин поймал на себе ее испуганный взгляд: русский! — несмотря на миланский туман, нам все-таки повезло — оливкового цвета кашемировый пиджак, например, стоил на складе процентов на двадцать дешевле — бери (посоветовала Сашенька) пальто подлиннее — она из Южной Каролины — черная Южная Каролина читала по складам рекламное приложение к книжке Сисина — черная Южная Каролина пахла говеннейшим американским пивом — Сисин вошел в местный бар — где здесь у вас отлить? — они говорили на южнокаролинском сленге — подвыпившая неряшливая брюнетка задрала юбку: — у меня сладкая дыра! — бармен хохотал, косясь на Сисина — Кэрин сказала, что ее четыре раза похищали — четыре раза! — сказал Сисин с невольным уважением — не верь — отозвался клерк издательской конторы — не верь, не бойся, не проси — Сисин подарил свою книжку депутатке от социалистической партии — та опоздала на ужин на два часа — ей нужно подарить — сказала Сашенька — извините, что не могла с вами поговорить — сказала депутатка — она пришла со своей почти плюшевой собачкой — вы любите футбол? — что ты думаешь о времени? — спросил американский фотограф турецкого происхождения — о времени? — Сисин задумался — возможны ли, по-твоему, новые идеи в искусстве? — возможны — сказал Сисин — я тоже так думаю — обрадовался турецкий американец — он приставил ко мне два пистолета — Кэрин приставила к вискам Сисина свои длинные указательные пальцы — она из Санта-Барбары — у нее была жизнь, полная гроздьев гнева — сказала Сашенька — теперь она nuар— имеет свою фирм у— кто эта бритая кукла? — откуда я ее знаю? — бритая кукла обратилась к Сисину по-сербски — ах, вот оно что — физиотерапевт! — Кэрин пошла танцевать с итальянцем в очках — зеленый салат с апельсинами — черная Южная Каролина предложила Сашеньке рок — у подруг что-то не получалось — они запутались с четырьмя руками — стояли длинные, стройные — смеясь — маленького роста итальянки смотрели на них своими маслинами — повариха Мария, толстая, оглянулась — в ее маленькой квартире всегда было полутемно, кресла были некрасивыми, стенка стандартной — он не очень понимал всей иерархии ее ценностей и не вдумывался в нее — не хватало то ли времени, то ли любви — висели какие-то так себекартины — висело что-то под Зверева, оказавшееся Зверевым — висела литография русской старухи — она похожа на Джордано Бруно — сказал Сисин — разглядывая старуху с дивана — они никогда не стелили белье — правда? — обрадованно спросила Манька — я тоже так думала — как же мы все-таки с тобой похожи! — стояли какие-то книжки — раздумывая над тем, не начать ли с ней жить, Сисин вспоминал квартирку как стартовую площадку новой жизни — мысль начинала пробуксовывать — их трахательный ритуал был рассчитан до подробностей — Манька никогда не целовалась при встрече и всегда затягивала расставания — как всякая любовница, она ненавидела часы у него на руке — родить девочку, чтобы ты забегал к нам на пятнадцать минут? — поминки были безупречным предлогом безгрешно напиться — он хотел было сказать, чтобы она его такне поминала, но не сказал, не любя патетики — они никогда не ложились раньше утра — несмотря на километры бесед, многое осталось так навсегда и не выяснено — Сисин знал твердо одно: — до нее он не мыл перед сном лицо — после нее стал мыть — когда мыл, иногда вспоминал Маньку — он никогда не вспоминал, как они трахались — он врал ей, когда она спрашивала: ты вспоминаешь? — но он допустил ее ко многим воспоминаниям, с которыми никогда ни с кем другим не делился — воспоминания были отчасти лукавы — через них Сисин хотел утвердить ее в мысли о своей исключительности — он добился своего только отчасти — перевернув перспективу, Сисин думал о том, что он в ее жизни неслучившийся кандидат — пусть это больно, но жить надо дальше — помог Ломоносов — она написала ему тридцать писем, вошла в контакт с родителями и друзьями, некоторые из которых приставали к ней — Ломоносов писал ей (Сисин был в том уверен) прекрасные письма — Сисин жалел, что не спер хотя бы одно — они напоказ лежали у нее на столе — они были выставлены — он покосился на них неприветливо — в своих длинных американских конвертах — на стандартной стенке стояла ее нефотогеничная фотография с протянутой рукой — смотрины — Сисина никто не приглашал — он появился непонятно откуда — швед как ответственное лицо помахал ему своей единственной рукой — Сисин увидел Маньку и присел — почему Сисин остался на переводческом банкете, непонятно — Ломоносову должны были вручить премию — Манька стояла со Спиридоновым — было видно, что она до него дорвалась — она давно хотела с ним познакомиться — Спиридонов был скучающей стороной — на его лице внимание чередовалось с невниманием — он как будто не знал, настраиваться на Маньку или не настраиваться — в этом заключалась большая подлость — Манька попадала в ловушку — ей нужно было ему понравиться — как можно скорее — пока он совсем не остыл — но Сисин даже не мог разобраться — особый ли это прием или свойственная Спиридонову рассеянность? — то и другое было плохо — рассеянность была обиднее — Манька отчаянно цеплялась за Спиридонова — раздались полушутливые слова команды — всех призывали выслушать речи — народ нехотя повалил — Спиридонов увидел Сисина и с отвратительным чувством облегчения направился к нему, приветственно вскинув руку — Манька пропала в толпе — потомсядем вместе? — предложил повеселевший Спиридонов, не замечая исчезновения Маньки — я, наверно, уйду — сказал Сисин — обещали кормить хорошо — сказал Спиридонов — полно шампанского — я за рулем — сказал Сисин — Спиридонов сделал знак «неважно» — Сисин обычно не ездил пьяным — его однажды сильно напугали гаишники — они никак не хотели брать денег — Сисин стал рассказывать, как он нажрался сухого чая — гаишник его спросил: — чего это от вас травой пахнет? — Спиридонов усмехнулся почти покровительственно — в рассказе Сисина на первое место неудачно вылез страх — он не туда вырулил — неужели он все-таки не болен? — подумал Сисин — даже почти трахнутая жена Спиридонова не давала Сисину расслабиться — после официальной части они сели вместе — в прошлый раз кормили лучше — сказал Спиридонов, устало осмотрев стол — однорукий швед задавал Сисину исторические вопросы о России — мокрый от почестей Ломоносов был завален цветами — он со всеми целовался — к Сисину подошла младшая сестричка — сто лет! — сказал Сисин — сто лет в обед! — ответила сестричка — Маньку не видел? — она куда-то делась — сказал Сисин — нас Ломоносов пригласил — сказала сестричка — что-то жарко стало — беспокойно сказал Спиридонов — и скучно — добавила сестричка — Спиридонов не отреагировал — сейчас принесут лангет — сказал швед — вон она — сказал Сисин — Ломоносов вел Маньку к своему столу — я и не знал, что они знакомы — сказал Сисин сестричке — ты вообще мало что знаешь, отойдем, мне нужно поспикатьс тобой — Сисин встал — они пошли в сторону — стоял ресторанный гул — сквозь табачный дым, между подносами официантов, разносящих лангет, Сисин видел счастливого Ломоносова — они шли — Сисин натыкался на знакомых и полузнакомых — Римма Меч махала ему — новорожденный депутатФеликс предложил вместе выпить — Ломоносов! — крикнул он по-хозяйски — присоединяйся! — но Ломоносов был занят — депутат нахмурился — ну, за новуюнравственность! — Сисин удивился и обрадовался: — как ты хорошо сказал! давай! — они чокнулись — а что ты удивляешься? — пристально посмотрел на него Феликс — покойник Лев Семенович был прав: нам всем еене хватает — Сисин вспомнил утренних петухов и сочувственно улыбнулся — ты все-таки с этим своим Векомзавязывай — совсем посерьезнел Феликс — я не националист, но нечего глушить народ пакостью — народу нужны простые вещи — ему нужно рассказать, как держать нож и вилку — важнейшей политической задачей я считаю научить народ говорить «спасибо» и «пожалуйста» — ты, конечно, понимаешь, что я говорю метафорически? — хорошо-хорошо — закивал Сисин — давайте немедленно поедем к Си-си на дачу! — по старой традиции! — присоединилась к их беседе Римма Меч — у нас теперь есть казенная машина — в другой раз — сказал Феликс — Сисин оглянулся — Маньки не было видно — ну чего? — спросил он сестричку, прислонившись к колонне — ее прочат в министры культуры — сказала сестричка, с уважением кивая на Римму — она выдвинула идею художественного долга — непотопляемый корабль — подумал Сисин о Спиридонове — ты думаешь, ты один? — спросила сестричка — в смысле? — спросил Сисин — онавсе мечется, не может выбрать между вами — между кем? — неосторожно спросил он — я хотела, как лучше, а получилось как всегда — пошутила сестричка на правах когда-то трахнутого друга — в противоположном конце зала Манька разговаривала с Ломоносовым — Сисин видел их своими дальнозоркими глазами — он видел, что они чувствовали себя наедине в этом полном зале — на лице Ломоносова, всегда столь твердом и независимом, он видел поразившее его выражение потерянности и покорности, похожее на выражение умной собаки, когда она виновата — Манька улыбалась — и улыбка передавалась ему — она задумывалась — и он становился серьезен — какая-то сверхъестественная сила притягивала глаза Сисина к глазам Маньки — она была прелестна в своем простом черном платье — прелестны были ее полные руки с браслетами — прелестна твердая шея с ниткой жемчуга — прелестны вьющиеся волосы расстроившейся прически — прелестны грациозные легкие движения маленьких ног и рук — прелестно это красивое лицо в своем оживлении — но было что-то ужасное и жестокое в ее прелести — Ломоносов был очевидно в нее влюблен — они выпивали сепаратные тосты, шептались, вместе листали, склонив головы, какой-то журнал — и это тожевы? — удивлялась Манька — по странному совпадению — отвечал Ломоносов — Ломоносов все делал правильно — в гардеробе он щедро раздал чаевые и цветы — не везти же мне их домой? — отшучивался он, весело шлепая себя по жирным ляжкам — Ломоносов по-своему тоже покоритель мира — но только решительно имманентный— из-под Винницы — куда они с Сисиным ездили кушать вишни — поздравляю! — сказал Сисин — Женька! — обрадовался пьяный Ломоносов — поехали допивать — есть хата— Ломоносов осторожно приобнял его — Сисин почувствовал у него под пальто толстую бутылку шампанского — «огнетушитель» — он был, наверное, слишком гордым для России, бедный Сисин — я живу в этой стране на самой грани, на самом краешке, говорил он Жукову, прославившись — если что-нибудь минимально неприятное снова произойдет, придется покидать — они вошли в «Куполь» — возьмите себя в руки — сказали три издательницы хором — ВПкупили в тринадцати странах — невероятный успех! — они вгляделись в Сисина — Господи! — подумал Сисин — значит, ты в самом деле есть — они продолжали галдеть — заказали шампанское — они не знали, что сообщили о смерти юманитэ— Сисин подошел к своей машине — Манька, покрутившись на месте, понимая, что сделает ошибку, если пойдет с Ломоносовым дальше, вдруг направилась к нему — стояла и глупо улыбалась — это означало: подбрось меня — а подбрось меняозначало: давай потрахаемся — это было уж слишком по-блядски — Сисин ценил женскую верность и имел ее у себя дома в неограниченном количестве — он знал, что ему гарантирована верность, как праведному христианину — вечность — будешь извиняться? — спросил Сисин — вообще он плохо помнил, что спросил и что она ответила — но что-то она ответила, по-прежнему глупо улыбаясь — она даже, кажется, хотела взять его за руку — ну, Сисин, миленький — сказала Манька — ну чего ты? тебя вообще не должно было быть.
Бурная северокавказская растительность по русским меркам была явно излишней — правда, я пушистая? — меня называют пушистик — называй меня пушистик — пушистик, несмело вымолвил Сисин — пошла ты на хуй! — он сел в машину и уехал, бешено переживая — он видел, как она потопала по темному тротуару в сапогах, неся в руке пластмассовую сумку с маленькими вечерними туфлями — подошел ли к ней через минуту Ломоносов? — трахались ли они в ту ночь? — Манька все отрицала — между ними установились спортивные отношения — но Сисин удачно использовал свои сказки для ее кончания с тем, чтобы создавать некоторые туманности — они нужны были ему на случай, если Манька с кем-то трахается, чтобы не слишком больно вышло — создать систему обороны на случай провала — все равно получалось больно — Сисин дал слово не звонить больше никогда — ее мытые волосы в самом деле были пушистыми, но стоило им зажирниться, как было видно, что их немало повылезло — почему? — из-за нервов — все это, объединившись, тормознуло Сисина — почему он настойчиво к этому возвращается? — ну, была любовница, ну, вероломная, ну, блядь — зачем лезть в бутылку? — а он полез! — вас задевает, что я голосую за коммунистов? — спросила Фортуната — итальянские коммунисты всегда были сами по себе — уклончиво ответил Сисин — Маркс родился слишком рано — сказал Туро — человечество должно подрасти и созреть, чтобы понять его идеи — он человек XXI века — кацо! Мадонна миа! — Фредерик зашел в булочную погреться — под ногами была грязь — из опилок — земли — прочей срани — свиньи — думал Фредерик — не умеют работать — умеют только гадить — никогда больше не приеду — она позвонила ему на следующий день — с извинениями — Сисин решил простить Маньку с особыми почестями — он подстригся наголо, надел лучший костюм, вставил в глаз монокль и купил арбуз — для процедуры прощения он прихватил с собой Никифора — они вошли в ее полутемную квартирку — ты чего это? — обомлела Манька, взглянув на него — не обращай внимания — небрежно сказал Сисин, снимая лайковые перчатки — это простопреображение — какое еще преображение? — не поняла Манька — давай все по порядку — предложил Сисин — Сисин взял у Никифора авоську с астраханским арбузом и торжественно передал его Маньке — знакомься: Никифор — да мы знакомы! — Никифор кратко хохотнул — не угостишь ли ты нас чаем? — арбуз сохраним на потом— в комнате возле кровати горел ночник — сели пить чай — Манька с удивлением смотрела на него — съев лимон, Сисин сказал — вы читали историю телесных наказаний в России? — они не читали — это неважно — сказал Сисин — что такое сто баксов? — ужин — а в России — он вышел из «Интуриста» — парфюмер вышел, запихивая во внутренние карманы пиджака местные деньги — к нему подошла женщина с ребенком — неизвестного возраста — в косынке — что-то непонятное по-русски — протянула руку — Туро вынул толстую пачку — она упала на колени — принялась целовать руки — другие нищие сбежались — давал направо и налево — они кланялись, ползали перед ним на коленях — я бы взял вместе Ленина с Марксом и выдавил их, как два апельсина! — почему ты не уезжаешь? — не понял Туро — в России продовольствия осталось на девятнадцать дней — Кэрин с выверенными ужимками, не выходя за границы званого ужина, громко заговорила без всякого волнения в голосе: — не смейте при мне поносить Америку — что вы о ней знаете? — вы туда ездите туристами на три дня — верно! — сказал финансовый директор из Парижа — какие пространства! — я ехал на машине по пустыне и слушал блюзы — что Франция? — ни одного сантиметра земли, на которую бы не ступила нога человека — или ваша Сибирь — кивнул он в сторону Сисина — там у вас правят деньги — если вы из Бруклина — всю жизнь мечтаю сесть в поезд и проехаться по Транссибирской магистрали — с вами не станет говорить ни один уважающий себя манхэттенец — Сисин веско сказал: — вы делаете глобальные выводы на основании провинциальных примеров — гости принесли с собой торт из кондитерской, с грецкими орехами и миндалем — о внутренней политике они заспорили по-итальянски — Сисин тихо вышел из-за стола и ушел в дальнюю комнату читать христианскую литературу — в комнате было нетоплено — Манька, сказал Сисин, я пришел тебя простить — Манька нервно посмотрела на него — я придумал тебе наказание — ты серьезно? — спросила она, закуривая и щурясь — вам попадались комиксы Спиридонова? — старый итальянский издатель делился скучвмешалась самая классная переводчица — правда, гадость? — другой торт был с клубникой, ежевикой, бананом и киви — но уже не лезло — скучными воспоминаниями о детстве при фашизме — террорист забыл выключить фары — ходил — искал — жена-чешка — с большими белыми пуговицами — очень просто — Сисин увидел под столом пустую бутылку из-под шампанского — а вот и вещественное доказательство — просиял он, поднимая бутылку — дай сюда! — дернулась Манька — дурак! бредишь! — он бредит— обернулась она к Никифору — Сисин крутил в руках бутылку, ища ресторанный штамп — штамп был, но какой-то совсем неразборчивый — Сисин внимательно рассмотрел его в монокль — ладно — сказал он, отставив бутыль — раз виновата, будешь наказана — дай мне докурить — она докурила и сразу закурила новую — мы так никогда не начнем — сказал Сисин — он сидел, провалившись в неудобном ярко-зеленом кресле, с моноклем в глазу — так долго он никогда не сидел у Маньки в кресле — кухня — чай — ванна — мыть хуй — она мыла ему хуй — очень старательно — бегемот— промокала осторожно полотенцем — они трахались перед зеркалом — подкладывали зеркальца под Манькину попу — бегемот— внимательно разглядывали яйца — по самые яйца — ебля — домой — любовь — в Италии очень любят рассуждать о любви — такое неудобное кресло — Сашенька сказала мне, что итальянцы в этом смысле молодцы — мы так никогда не начнем — он встал с кресла и вытащил пояс из брюк — при нем? — при свидетеле — наказывают при свидетелях — это экзекуция — Манька колебалась — почуяв недоброе, Никифор вспотел, провонял и забеспокоился — меня ждут дела! — подождут — сказал Сисин — ложись на живот — скомандовал он — наказание за удавшуюся попытку блядства — объяснил он вонючке — Манька легла на диван животом вниз и стала притворно хныкать — как всегда, на ней были джинсы — ну и что теперь? — сказала она, обернувшись к Сисину — снимай штаны — ответил Сисин — Манька живо вскочила — лицо ее было в бешенстве — ты что, с ума сошел? — кончай этот цирк! — я пойду — сказал вонючка — ну вас! — сиди! — рявкнул Сисин — блядство наказуемо — с чего вы взяли? — неподдельно удивился Никифор — не умничай — сказал Сисин — я знаю, что говорю — Сисин использовал Никифора на подсобных работах — вонючка опустился в кресло — Манька воспользовалась паузой, чтобы взять сигарету — хватит курить — сказал Сисин — Манька с новым удивлением смотрела на него — ты, по-моему, забываешься — ты у меня дома — а не пошли бы вы, ребята, вон — хорошо — сказал Сисин — до свидания — он стал заправлять ремень — Ирма выскочила из комнаты — они столкнулись в коридоре — она была голая — со своими слабыми сиськами — она нацепила очки-слепаки — ну — закричала она с надрывом — ты же любишь блядей! — пошли ебаться — она ущипнула Сисина за хуй через штаны — ну, давай ебаться! давай! — Сисина охватило отчаяние — он не знал, куда деться — пошли на ковер — кричала Ирма с надрывом — пошли сниматься на видео — ты же любишь блядей! — ты же любишь блядей! — ну давай — в модных парижских очках, с перекошенным лицом, голая, отощавшая от переживаний, она была страшна, как сплошной укор — Сисин взмолился: — успокойся! — она похитила кассету из сумки — Сисин любил внимательно рассматривать раскрытые промежности как женщин, так и мужчин — он никогда об этом не говорил — он не любил говорить об этом — он не любил мужские разговоры о сексе — он не любил слово «секс» — в модных парижских очках-слепаках она ухватила его за хуй — было больно, но еще больше, чем больно, было страшно за свою жизнь — я знаю, чтотебя возбуждает! — она принялась танцевать в коридоре — она дергалась и кружилась — никогда в жизни Сисин не видел такого ужаса — униженная, раздавленная Ирма, обнаружившая кассету, на которой Сисин ебется с Бормотухой — причем, для естественности — еще не сведя Бормотуху с Рыжим Крокодилом — не зная до конца ее наклонностей — она обожала дрочиться — она яростно дрочилась — так, что пена выступала — вся пизда была в пене — она это делала с таким удовольствием, что теряла человеческий облик — для естественности ничего Бормотухе не сказал — применил прием скрытой камеры — устроил себе развлечение — он выступал в халате — под халатом были трусы — он постелил плед — тот самый, желто-коричневый, под который пряталась Манька в момент их примирения на даче — ложился на пол — так удобней снимать — камера закутана в его тряпки — которые валялись — в живописном беспорядке — на рабочем кресле — камера видела ноги Бормотухи — голые — она раздевалась вне фокуса — Сисин устроил себе развлечение — пусть делают, что хотят — только чтобы не дома — Сисин делал дома— пока Ирма была на работе — Сисин кинул на плед подушку — Сисин включил камеру — проверил, светится ли красный огонек — и прикрыл его — пока Бормотуха подмывалась в ванной — она выходила из ванной в трусиках — Сисин следил, хотя и не очень строго, чтобы Бормотуха не вытиралась полотенцем Ирмы — он обожал ебаться с Бормотухой в ванной — у него тогда стоял как никогда — никогда ни с Манькой, ни с Ирмой — у Бормотухи попа внутри была красной — в смысле: сама ложбина — красной-прекрасной — но без волос — чистая — они укладывались на плед — японская камера с ленивым бесстрастием снимала голую Бормотуху — ноги ее — пизду — сиськи — невнятно лицо — Бормотуха была подслеповата — она бы никогда не увидела камеры — в ней была удивительная стеснительность — застенчивость прямо подростковая — с совершенно сбесившейся волей к ебле — она была создана только для этого — она знала это — с ней было страшно — они принимались целоваться — потом Сисин направлял ее руку к себе в халат — Бормотуха неспешно развязывала халат — залезала Сисину в трусы — вынимала вздувшийся член — Манькиного бегемота— Туро с маленьким лбом — волосатый — богатый — пятнадцать лет вращается вокруг света — он пошлепал в качестве приветствия Сисина по лицу — итальянское приветствие не понравилось Сисину — Сисин понимал, что в ответ он так не пошлепает этого Туро — Манькин бегемотвылезал из трусов — где-то неподалеку в Москве жила Манька — они еще не вступили в период постотношений — она еще не познакомилась с Ломоносовым — или вот-вот познакомилась — и с отвращением читая жизнь свою — Сисину пришло в голову, что он едва ли достоин быть Внуком — но последние станут первыми — знал Сисин — да — Бормотуха начинала мять бегемота — бегемот медленно оживлялся — Сисина возбуждала скрытая камера — он боялся быстро кончить и потому тормозил бегемота — что, наверное, было не совсем хорошо для здоровья и для потенции — Сисин снимал халат — снимал трусы — поворачивался к Бормотухе жопой — та начинала сосать — а Сисин раздвигал ей ноги для камеры — раскрывал пизду и любовался — хлебом не корми — раскрывал пизду — наизнанку — выворачивал — вот клитор — вот еще не совсем раскрывшаяся дыра — Сисин скрывал от всех название своей книги — первоначально он назвал ее Век Пизды— затем сократил до двух букв — ему пришло в голову мультиназвание— однажды приснилось Время Презрения — к делу не относящееся — и он бегал с ним — пока не понял, что оно давно у Мальро — наплевать на Мальро — он полистал это французское «Время Презрения» — говно, кроме названия — в муке заломив руки, он сказал голой Ирме: — ну что ты от меня хочешь? — что ты хочешь от человека, который написал ВП! — у меня пизда имеет не символическое значение, но реальную власть — еще никуда не съездив, я творчески угадал, что Запад силен именно пиздой — это его последнее горючее — прости меня, родная, если можешь — я больше так не буду — обещаю! — честное слово! — я еще тогда, когда помер этот мудак Лев Семенович — дело в том, что тогда на даче — открылось это — пропусканиеперед сном — вообще, если расслабить мозг, обмануть его бдительность, начинается пропускание— лучшего слова я не придумал — пропускаетсято, что не должно пропускаться — психушка обострила переживание скорее унижением, чем оскорблением — что можно сделать за один день? — Жуков приехал с рыдающей Ирмой — они ворвались в кабинет замдиректорши — холеной гадины — Жуков от волнения покраснел и взмок — отпустите Сисина! — он болен — сказала холеная гадина — уже вовсю были перемены — историческиСисин стал последней жертвой тоталитаризма, вдогонку наказанный за Век Пизды— как ваша фамилия? — прошипел Жуков — завтра о вас узнает весь мир — каким образом? — посредством радио! — прекратите мне угрожать! — довольно спокойно сказала врачиха, с ненавистью глядя на Жукова — Ирма молча плакала — Жуков сказал: — завтра сюда придет делегация хорошо известных всей России людей — врачиха сняла трубку: — Надежда Петровна, как вы там? — та привычно заохала — Надежда Петровна, примите посетителей — да вы что, у меня рабочий день закончился! — донеслось из плохого селектора — замдиректорша перешла на крик: — я сказала, примите посетителей! — лысый санитар отпер дверь в духоту коридора — Жуков, не глядя на дегенератов, вошел в кабинет — Ирма молча плакала — Надежда Петровна, сказал Жуков вместо приветствия, вы любите поэзию Пастернака? — да — чуть задумавшись, сказала завотделением — ну, тогда мы найдем общий язык — повеселел Жуков — он приехал на «запорожце» без печки — в такой машине только трупы возить — заметил Сисин, когда Жуков вез его домой — можно его увидеть? — спросила Ирма — Сисина ввели в кабинет — приветствую вас, господа! — сказал Сисин — он торжественно пожал руку Жукову и своей жене Ирме — ну, как погода? — Жуков замер — Ирма стала плакать навзрыд — мы приехали забрать тебя домой — домой так домой — согласился Сисин — кололи? — спросил Жуков — нет — сказала Надежда Петровна — тебя кололи? — разволновался Жуков — меня купали — ответил Сисин — как купали? — в ванне — он едет с нами домой — это невозможно — сказала Надежда Петровна — но Бормотуха классно лизала — она была куда сильнее Маньки — это был ас — она не была ни нежная дура, ни влюбленная засранка — ее влекла безошибочная интуиция — она была овеществленным титулом— Сисин это понял и задумался — жаль, кассета пропала — если пропала — Ирма могла и спрятать куда — для последнего сведения жизненных счетов — бедная, она не выдержала — она обращалась с хуем точно — Манька никогда так и не научилась — близко не подошла — но, как все женщины, считала себя высшим классом — кто признается в том, что глуп или плохо ебется? — нет — Жуков сказал: — хорошо, тогда мы будем в двенадцать — только с условием: — не колоть! — приехал с Пастернаком — в час его отпустили — они шли по двору больницы — Сисин рассказывал оживленно о том, что в палате их было двадцать три — один выдавал себя за Горбачева — Жуков обиженно слушал — друг даже не обнял его — не сказал спасибо! — сволочь такая! — Ирма позвонила ему под вечер: — Женьку взяли! — Жуков все бросил, сел в «запорожец» — приехал — примчался — запахнувшись в тулуп — по морозу — без печки! — кричал на врачей — Ирма плакала — Горбачев! — сволочь такая! — напоследок заведующая отделением сказала Ирме: — вот таблетки — пусть принимает — пусть покажется через полгода — им навстречу шла колонна сумасшедших женщин в серых халатах — Сисин раскрыл промежность и любовался — он достал откуда-то из-под жопы руку Бормотухи и направил ее к пизде — это был восхитительный момент, от которого у Сисина захватывало дух — рука подкрадывалась к лобку — поглаживала лобок, как детскую головку — он разворачивал Бормотуху жопой прямо в камеру — ставил раком — она ручками раздвигала себе жопу — Сисин рядышком — он направлял ее пальцы — средний смело входил прямо в жопу — она начинала — румянясь, но не постанывая — Сисин не очень любил ноющих в ебле баб — хотя тоже ничего — вся промежность была видна на экране во весь рост — тогда Сисин ее снова переворачивал, насладившись — на кассете звонит звонок — Сисин берет трубку — звонила Ирма — Сисин на коленях — Бормотуха под ним — ее лицо — Сисин старается говорить спокойно — на экране выставлено время — 14.48 — более-менее получается — но у него падает хуй — опускается — он берет голову Бормотухи свободной рукой — он надевает ее на член — Бормотуха сосет — она дело знает — он разговаривает — камера молча снимает — да — заеду — сдам занавеси в стирку — обязательно — надо уважать Ирму — с некоторых пор она подозрительна — не нужно попусту волновать — она придет вовремя — нет — я подъеду — Бормотуха сладко трогает яйца — она объявила ему, что поступила в институт — как же ты поступила? — он прислушался к объяснению — потому что Бормотуха может произносить слова только невнятно — ничего не понятно — а иначе не может вовсе — она нашла себе бывшего соцреалиста — тот, естественно, ее выеб — но не понял — и больше не еб — только очень редко — но не только выеб — привел к жене — и они вместе выебли Бормотуху на брачной кровати — взяли и выебли — соцреалисты — а Бормотуха выебла их — все остались довольны — после этого она поступила в институт — на все пятерки — более глупой бабы Сисин не знал — животное — Сисин завидовал соцреалисту — которого как-то встретил — на концерте — с его женой из Академического хора — как они дружно живут! — он пришел — радостно: знаешь, милая — у меня для тебя подарок — очень приятная — хочу! хочу! — покушали — полизали — выебли — поступила — мечта! — без всякой иронии думал Сисин — а у меня тут под ногами кромешный ад — и дали бы Сисину эту мечту — со всей ответственностью утверждал Жуков — никогда бы он не стал покушаться — уничтожить все юманитэ— правда, не в газовой камере — а безболезненно и молниеносно — как обещали — и он колебался — значит, все дело в приволжской немке? — Жуков не верил, но стало больно за Россию, и он попросил: — помоги — не спаси — помоги — чтобы не было плохо родимой стране — а для Сисина — ему плевать — он их всех уничтожить собрался — потому что вместо того, чтобы его жена сказала: — милый, дай мне девочку полизать — найди новую — а если можно — тогда не хочется — это как в Париже ходить по кино— не хочется — и пронесло бы — и было бы семейное счастье — а тут ночью — в коридоре — в очках-слепаках Ирма голая, страшная, с кривой мордой — пляшет — чуждая идеология — она уверена, что права, что истина за ней — для нее еще не настал Век Пизды — она еще в чугунном— с паровозами — занавеси — да-да — Сисин вешает трубку — обязательно занавеси.
Ьььььальную бумагу — у него коллекция американских велосипедов — сто сорок четыре штуки — пятидесятых годов — с никелированными крыльями — как «бьюики» тех же лет — мы смотрели телевизор — вместе придумали — но скорее всего инициатива принадлежала Рону — прилепить вместо бутылки шампанского хуй — очень мило придумали — фонтанирующий спермой хуй — сейчас в моде отталкивающиерекламы — со взрывами — катастрофами — беременными женщинами — мы послали девушек стоять на атасе — а сами пошли приклеивать удивительно убедительный хуй — наполняющий бокал пенящейся спермой в café de Paris — правда, до этого была дискуссия, и Рон даже немного обиделся — Сара мне сказала: — кажется, он немного огорчился — потому что, когда он показал свое произведение — мы — объединенная команда — как Рон нас называл — сказали чуть ли не хором, что не хватает яиц — что хуй без яиц не хуй, а насмешка над хуем — что, в сущности, верно — и с чем трудно спорить — но Рон обиделся, потому что он много сил потратил — и мы не оценили — не закричали ура — то есть мы закричали — но сдержанно — потому что он был без яиц — мы шли по мимозной дороге — и Рон чуточку дулся — на нас — он надел специально белый костюм маляра — я не знаю, откуда он его достал — он был совсем новый — он все продумал — и даже серый берет — для правдоподобия — он сказал, что мы не совсем правы, потому что в таком положении яйца не играют большой роли — потому что они опущены — и тогда Сара сказала — что смотря у кого — у некоторых не опущены — она очень хорошо относилась к моим яйцам — называла их friendly balls [24]— они так приветливо прикасаются к моему клитору, когда ты трахаешь меня сзади — do you like my cunt? [25]— голосом резиньяции — yes, I do! [26]— и всякий разговор о моих приветливых яйцах считала важным — русские нарушают — на Западе изображаютнарушение — так мне казалось — мне было немножко грустно оттого, что он не позволил мне участвовать в самом приклеивании — в самый ответственный момент я оказался без дела — как бы слегка наказанный за отсутствие полного энтузиазма — который полагается в американских взаимоотношениях — но ведь я имел право высказать свое отношение к тому, что хуй был без яиц — даже не дал подержать баночку с клеем — он объяснил это тем, что у меня нет костюма маляра — можно представить себе, что подумают хозяева дома напротив афиши, когда выглянут из окна — честно говоря, никто не обращал никакого внимания — придорожные рекламы мало кого волнуют — особенно на поворотах — мы сфотографировались на память и спустились к морю — прогулочная дорожка шла вокруг мыса — сначала она шла через сосновую рощу — потом, зажатая заборами вилл, она стала узкой — если навстречу шел человек, можно было не разойтись — не везде, конечно, но местами — росли толстые, упитанные кактусы — цвели мимозы — Сара сказала, чтобы, когда она умрет, ей на гроб бросили мимозу — после акции с афишей мы спустились в ресторан на набережной — на закуску мы заказали мидии в чесночном соусе — а на второе рыбу «руаяль» — потому что другие рыбы были не местные — это была единственная рыба из местных — я захотел омара — нет, скорее лангустинов — они менее сытные — хозяин посмотрел на меня с удивлением — конечно, лангустины не из местных — тогда мы заказали «руаяль» — а Селестина взяла ягненка — а Рон просто кусок перченого мяса с фритом — но хозяин принес сырую «руаяль» — показал и сказал, что она слишком большая для двоих — мы предложили разделить на троих — но они остались при своем выборе — тогда мы сказали хозяину, что специально приехали, чтобы отведать «руаяль» — что было, в сущности, небольшой ложью, поскольку мы не думали ее есть, когда летели из Парижа — и хозяин сказал, что слишком большая и получится на двоих (он стал подсчитывать у нас на глазах) довольно дорого — но все-таки хотелось ее съесть, и мы даже ее понюхали — насколько она свежая — Сара понюхала — «руаяль» лежала на тарелке с удивительно свежим мертвым глазом — она была последняя на кухне — эта рыба явно пользовалась большим спросом — тогда хозяин догадливо предложил взять на закуску только одну порцию мидий для нас — а тем взять по целой — нет, Селестина взяла на закуску шотландскую лососину — на ней лежали маленькие серые креветки — мы сидели на солнце — стол стоял прямо на улице — к несчастью, невдалеке работала строительная машина — мы спросили, скорее в ленивую шутку, нельзя ли водителя пригласить с нами за стол, чтобы он отдохнул — мне тоже захотелось сначала креветок — букет из розовых креветок — я серые люблю гораздо меньше — это не креветки, а какие-то семечки — но я передумал и взял все-таки мидии — даже половина порции была обжорством — особенно потому, что с соусом — белым соусом — очень вкусным — когда мы шли наклеивать хуй — то есть на акцию — мимо мимоз — Рон спросил меня — какое понятие отсутствует в русском языке, но есть в английском — я, недолго думая — потому что совсем не хотелось об этом думать — сказал, что в русском нет понятия прайваси— и все рассмеялись — когда мы в первый вечер пошли к местным французам в гости — мне это напомнило семью еврейского строителя в Ялте — курортного приятеля моих родителей — который материализовывался исключительно на время их отдыха в правительственных санаториях — в остальном его существование сводилось к исправному написанию новогодних открыток, которые с редкой заблаговременностью он отправлял в Москву — такое же радушие — не соблюдающая диету хозяйка — ее сын: молодой адвокат с подчеркнутым интересом к деньгам — Рон даже не знал, как сказать по-французски «русские» — Селестина его научила — она была богатая — она надела черно-белые джинсы, похожие на корову — Рон нарядился ковбоем — вышло складно — вернее, богатыми были ее родители — ее отец скупил много гористой земли в Италии и устроил лыжные спуски — дом под Ниццей был чудесный, прохладный — с цитрусами — Герцен был беспокойного зеленого цвета с плесенью — надгробный памятник с видом на море — я рассказал Саре, что переполненные русские кладбища на Ривьере очень отличаются друг от друга — возле ниццейского аэродрома расположено кладбище русских долгожителей — редкий покойник не доживал здесь до девяноста лет — здесь бы и похоронить мою бабушку — хотя бы урну — хотя есть исключения, вроде кладбищенского генерала Юденича — зато в Ментоне, где русские могилы чередуются с английскими — и там тоже есть свой кладбищенский генерал— к сожалению, англичанин — хотя рядом русская часовня — который впервые в мире нарушил правила футбольной игры и взял мяч в руки — основатель регби — так вот, в Ментоне в основном русское чахоточное собрание — лежат штабелями молодые люди и барышни третьей четверти девятнадцатого века — поверившие врачам и бежавшие на французское взморье — которое по своему климату является убийцейтуберкулезников — как выяснилось позже — Сара смеялась до слез: — климатически обознались! — покойники лежали под итальянским мрамором — они демонстрировали редкое равнодушие к православным крестам — нам было с ней хорошо — Рон любил смотреть телевизор — четыре-пять часов вечером — безотрывно — в основном спортивные программы — сначала мне показалось, что он женился на ней из-за денег — в ней ничего не было привлекательного — замухрышка в очках — и вкус тоже странный — она надела коровьи джинсы на ужин к французам — черные с белыми пятнами — как cowgirl [27]— и он тоже в джинсах и полосатом жилете — то есть снова акция — они тут не знали, что делать — но потом, когда мы пошли купаться на Муравьиный пляж — вернее, не я — из-за простуды и опасности гайморита — но они — мне захотелось все-таки, чтобы Селестина разделась — потому что, когда мы кушали во дворе их виллы на солнышке — она повернулась задом, и мне он показался вполне сносным задом — и я подумал, зачем я что-то думаю о нем плохое — мол, женился на деньгах, когда у моей Сары, на которую я изредка поглядывал с теплотой и нежностью, зад был куда более несимпатичным — из России по телевизору показывали какие-то многочисленные демонстрации — стычки с милицией — которая по стечению обстоятельств защищала в тот раз демократию — радушные французы жалели немножко, что закончился в России социализм — прошла пора идеалов — но очень неудачно высказались насчет того, что французское телевидение находится в руках евреев — учитель немецкого языка, у которого нос был прямым продолжением лба, сказал, что у него много друзей-евреев, но истина ему дороже — Сара заняла непримиримую позицию — она сказала, что подобная форма дискурса вызывает у нее самые отвратительные сравнения — мы ели в это время морских ежей — хозяйка шепнула мне на ухо, что Шарль — очень важный в городе масон — так что антиеврейские чувства у него исключены — тщедушный ветеринар (профессии французов представительнее их имен), который принес вкусное бургундское вино в свою очередь рассказал нам о том, как его били в полиции — меня били в основном в печень и давали пощечины — я только прослушал, за что его били — масон спросил: — ну что, у вас в России едят морских ежей? — какие там ежи! — грустно улыбнулся я — все сочувственно недолго помолчали — Рон прицепил к рулю голову пластмассовой куклы — в лоб вставил прямоугольный фонарик — он горел, когда велосипед ехал — Рон показал, как он горит, приставив динамо к переднему колесу и крутанув — кроме того, слева на руле была розетка с белым проводом — а с правой стороны — красная лампочка — к раме были приделаны прищепки, на которые Рон повесил довольно незамысловатые и явно только что ношенные трусики своей жены — белые, с зелено-красными разводами — он сказал, что, по его мнению, трусики должны быть несвежие — напротив, Селестина вынесла куда более элегантные трусики — красно-черные — на шнурочках — такое белье для свиданий или для молодоженов — которые расстегиваются посередине — их не надо снимать для любви — но Рон их забраковал — он сказал, что лучше простые и даже несвежие — с желтым — к вилке переднего колеса он прикрепил маленький алтарь в коробочке — там были изображение святого Франциска и фотография самого Рона — я не выдержал и спросил: — ты был в Ассизи? видел Джотто? ты любишь холмы нежной Умбрии? — отец Селестины шел на фотокарточке на беговых лыжах между деревьев — загорелый — в красном свитере с вырезом — и черной шерстяной кепке — стильной кепке — очень загорелый — в дорожном алтаре помещалась также свеча — в смысле огарок — у моей зад был покрупнее — немножко непропорциональный — при ходьбе он волновался, бросаясь в самые разные стороны — за эти два года она раздалась — на коробочке было написано — на неграмотном французском — святой Франциск, защити меня от французских водителей — чтобы мне в зад не въехали — пояснил Рон — мы пошли купаться — моя с готовностью разделась — как всегда — она радовалась, когда попадалась цветущая мимоза — но как-то натужно — я ей отчасти отказывал в искренности — это была не моя глубина искренности — рядом, на Муравьином пляже, был француз с женой и ребенком в коляске — он бросал в море бутылочку из-под перрье — его поджарая коричневая собака бросалась в Средиземное море — сначала нам это понравилось — но потом мы заметили, что он очень грубо командует — а когда собака не пригляделась — и вернулась без бутылочки — он на нее так выразительно посмотрел — а она так выразительно струсила и поджала хвост — что стало все понятно — и она снова бросилась в море — выловила бутылочку — и я снова почувствовал особенное отвращение к этому большому куску американского мяса, обтянутому нежной кожей — который представляла собой, с белокудрым лобком, красавица Сара — иногда, переключая каналы, мы натыкались на старые передачи самой Сары — из Шри-Ланки — Мадагаскара — или с Карибских островов — Сара показывала нам в камеру невероятно длинные ногти местных женщин, пробитые жемчугом — беседовала с совершенно лысым французским резидентом с сигарой и русской фамилией — резидент с тревогой следил за обстановкой, складывающейся в регионе в связи с ослаблением британского влияния — он отказался говорить более конкретно по понятным причинам, но закатил в честь Сары шикарный прием — созвал лидеров местных партий, от фашистов до коммунистов, адвокатов, преподавателей, поставщиков рома — горели факелы забастовщиков на северной оконечности острова — их креольские зубы сверкали на экране — Сара призналась, что она могла бы не устоять — не устоял сам носитель русской фамилии, чей дед служил вместе с Буденным на Дальнем Востоке — напившись казенного шампанского — бутылки которого он открывал специальным мечом для рубки сахарного тростника — рубил по горлышкам — sabler! [28]— с каждой бутылкой он рубил все более страстно — его нашли спящим на заднем сиденье в собственном «ситроене» — у Рона оказался значительный член — который не перестал быть значительным даже после 12,7-градусной воды — а Селестина не разделась — что было немножко жалко — на расстоянии Манька казалась мелкой злючкой без особого значения — вечером поехали к радушным французам, похожим на ялтинских строителей — по дороге полюбовались рекламой хуя — глаза Сары сияли от счастья — куда ты теперь? — спросил Рон — в Москву — сказала Сара — она посмотрела на нее с Воробьевых гор — такого города больше в мире нет! — чтобы так щедро пользоваться пространством! — в восхищении она повернулась от балюстрады к Сисину — Сисин ее немедленно поцеловал — московские молодожены оглядывались — он отвечал на вопросы — по сравнению с Роном и Селестиной французы задавали грамотные вопросы — вообще были ближе — роднее — особенно здесь, в Провансе — на освещенной неоном рекламе стрелял здоровенный хуй — полицейские машины перегородили движение — они кого-то искали внизу — падать было далеко — до самого моря — была большая пробка — да с чего вы взяли, что это из-за нашего хуя? — сказала Сара — отсюда его почти не видно! — видно — вздохнул Рон — Сара пожала плечами — она посмотрела на Сисина — по-моему, тоже не видно — сказал Сисин — видно, еще как видно! — сказала Селестина за рулем с непонятным упрямством — эта маленькая перебранка нас разобщила — в машине наступила тишина — до дома ехали молча — тяготились друг другом — я хочу завтра уехать — сказала Сара, раздеваясь — Рон вообще никогда мне не нравился — из гостиной донесся телевизор Рона — судя по счету, это был баскетбол — Сисин вышел на балкон послушать прибой — я так и думал, что кто-нибудь разобьется — признался он — купим завтра местную газету и прочтем — предложила Сара — они купили «Nice-matin» в аэропорту на следующее утро — Селестина отвезла их, все такая же немногословная и недовольная — капал дождь — вообще это возмутительно! — сказала Сара по-французски, когда они сели в самолет — ну, что там в газете? — ничего — улыбнулся ей Сисин — совсем ничего? — совсем ничего — Сисин свернул «Nice-matin» — он хотел было сунуть газету в карман переднего кресла — цветная фотография тщедушного ветеринара мелькнула на первой странице — смотри-смотри! — обрадовался Сисин — сейчас почитаем, за что его полюбила полиция.
Может быть — думал Жуков — все это было большой неудачной шуткой? — он меня разыграл — втянул в свою безумную игру — психушка даром не проходит — я поддался — может быть, он разыграл свой жизненный роман — и когда с моей помощью кончил — или вообще все не так? — генеральская дача сгорела дотла — вместе с мертвым Сисиным — никаких следов — Жуков усмехнулся — мы проезжали брестскую границу — вдоль дороги стояли покосившиеся автомобили мелких торгашей — томились неделями — перепрятывали — жгли костры — в панамах и кепариках— срали в сторонке — кто родил — кто неудачно порезал вены — тренировочные костюмы — разгоряченные — нет — думал медленно Сисин — проезжая все это мимо — нужен полный, исчерпывающий геноцид — вывести с лица Земли — а эти прыщавые? — лучше? — они что, лучше? — деточки бегают — с мячиком — милые — кому-то они дороги — ладушки — Сисин отвернулся — тоже уничтожить — всех — разом — детишек — убить всех — только чем? — чтоб не мучились — он потер лоб — но сперва разберусь с Манькой — проходи, Жуков — проходи, что стоишь? — да — все это мое — заработано литературным трудом — не ожидал? — писать нужно лучше — настенные росписи сталинского периода — медведь с глазами зэка — а трубы? — ты посмотри, что за трубы! — не трубы — стволы берез! — здесь жил генерал — историческая личность — участвовал в поимке Хрущева — в шкафу его фуражка — Жуков примерил на лысину генеральскую фуражку — тебе идет — а погреб — иди сюда! — не погреб, а бункер! — умер-умер — здесь в одиночестве я коротаю свои дни — играю с компьютером в шахматы — целый год сижу и играю с ним в шахматы — пью липовый чай — молчу — стал молчуном — молчальником — монашествую — компьютер, блядь такая, сильно канает! — а это, видишь, девятый вал — я думал сначала, что это горы — но живописец на Новый год приезжал, разъяснил: — девятый вал — требовал водки — бывший генеральский телохранитель — Россия затоварена талантом — позвонила на следующий день сама— грустная — с извинениями — ты ж не ревнивый — мириться хотела — только через наказание — сказал Сисин — какое? — увидишь — он ехал к ней уже отчасти равнодушный — нет, он ехал к ней в мутной злобе — он не мог понять, какой он едет — ну, какое наказание? — спросила — игриво — шутливо — он сидел в кресле и смотрел в монокль на свои ботинки — пришли голландские женщины непонятного возраста и совсем неуклюже принялись копаться в помойке его характера — он шел мимо невзрачного миланского парка — в одних машинах было пусто — в других сидели любовники и целовались — бросались в глаза короткие юбки — Сисину больше нравились пустые машины — тянуло к вегетарианству — Гауди был отстрелянной гильзой — энтузиасты-коротышки бросали куртки на арену — приветствовали тореадора белыми грязными носками — не то чтобы жалко было быка — Хемингуэй хуев — добродушно подумал он — опять откуда-то понаехала Сара — там каждая девка появлялась на сцене со своей кроватью — тужась, выкатывала ее из-за занавески — Сисин за долгое время первый раз развеселился — выпил виски — Сара взяла его за руку: смотри! — старая испанка быстро разделась — схватила сисинского соседа — уволокла на сцену — стащила с него брюки — надела резинку — пососала — положила на пол — залезла на него и оттрахала — публика ржала — он подставной? — с неподдельным интересом спросила Сара — не знаю — сказал Сисин — они улыбнулись друг другу — проехал на коляске хмурый дебил — на какой-то момент Сисин стал патриотом — он думал о том, что пройдет десять лет, и Россия покажет, на что она способна — и он примет участие — тогда все заткнутся — но он знал, что никогда ничего не будет — а если будет — то будет еще противнее — богатая Россия покажет свои гнилые зубы — и он переставал быть патриотом.
От Ирмы осталась бумажка — милый мой! — неприятно начиналась она — Сисин отпел ее в церкви — несмотря на самоубийство и латентное лютеранство — договорившись с отцом Василием — книжником, другом богемы — Сисин стоял со свечой посредине церкви в оливковом кашемировом пиджаке и серой «неприхотливой» рубахе из нью-йоркского Gap’a — все нашли, особенно Никифор, что у него одухотворенное лицо — он похоронил ее, как полагается — на Ваганьковском — неподалеку от Есенина — не хватило рук — подсобил Жуков — в глазах у него блестели слезы — видишь, моя тожевыбросилась — сказал Сисин Жукову — и зачем-то сокрушенно добавил: — в лазурном халате — с какого этажа? — сквозь слезы уточнил Жуков — с третьего — а моя — с пятого — не без гордости сказал Жуков — Крокодил и Бормотуха подставили свои слабенькие плечи — впереди шел, блестя очками, отец Василий — по дороге к воротам Сисин, заблудившись, наткнулся на несвежую могилу — он был Сруль Соломонович — она — Цыпа Давыдовна — они умерли в один год — Жуков! — закричал Сисин — глянь! — Сруль и Цыпа — прочитал неизвестно откуда взявшийся Жуков — они переглянулись — с тех пор Сисин иногда звал Жукова Цыпой — а Жуков иногда звал Сисина Срулем — зато на поминках собрался народ — Сисин накупил гору жратвы — все напились — некоторые переели — отец Василий выступил как тамада — много хороших слов сказал он об Ирме — Бормотуха называла его владыкой— он застеснялся — уединился в туалете на полтора часа — к нему стучались, он не ответил — Крокодил с Бормотухой остались на ночь мыть посуду — где в это время Манька? — в каком году исчезает Ирма? — Сисин едет в Америку — находит Воркуту — в фестивальном Эдинбурге приходит к выводу, что основа жизни — самооправдание — но разочаровавшись в Воркуте — уже в Париже — вот моя переводчица — Сара увидела по-русски мешковатого Сисина — который считал себя сверхъевропейцем — Сисин влюбленно смотрел на Воркуту, выбиваясь из последних сил — Сара была заинтригована — она любила горячие точки и роскошь — она обыкновенная chi-chi [29]— ходили из бара в бар — глубокой ночью, не найдя лучшего места, поцеловались на мосту Александра Третьего — Сисин проснулся как ошпаренный — ранним утром вышел на кухню — мутно блестели плохо вымытые рюмки — скатерть была вся в разводах — Ирма всегда хорошо мыла рюмки.
Бормотуху с Крокодилом он нашел в ванне — она провела под водой двенадцать минут! — заорала Крокодил в лицо Сисину — в мокрой руке у нее был большой круглый будильник — мировой рекорд! — шли телеграмму Гиннессу! — болтались ее грушевидные петербургские груди — Бормотуха, раздвинув черные волосы, скромно кивнула — с укусом на шее — Сисин молча взял будильник и вышел, прикрыв дверь — его голову охватили угрызения совести — в большой нерешительности он заходил по заплеванной квартире — их не заставишь пылесосить — печально подумал он — взял записную книжку — полистал — Валентин оставил ему свой служебный телефон — но он его не находил — еще раз перелистал — Валентина не обнаружилось — он лег на пол посреди комнаты и попытался прийти в то промежуточное состояние, когда его вызывали на связь — никто долго не откликался — Сисин не знал, как это делается — потому что это делалось без его усилий — более того, вопреки его воле — он долго лежал, прислушиваясь к пустоте — в ванной снова началась возня — плеск воды — Сисин медленно погружался во мрак — из мрака он выловил наконец какой-то далекий голос — это был темный голос, сливающийся с темнотой — совсем неразборчивый голос — сделав над собой нечеловеческое усилие, Сисин стал вникать в суть монотонного сообщения — кто-то читал по складам расписание электропоездов на Можайск — восемнадцать двадцать пять — услышал Сисин — Сара страдала — она любила женатого мужчину — она бралась лихо судить об Иране — Эфиопии — Палестине — Турции — получалось если не верно, то складно — но стоило ей приблизиться к Восточной Европе — как она несла дичь — она мечтала проехаться по Транссибирской магистрали и увидеть Кремль — она твердо знала: — шапка, самовар, Достоевский — она гордилась тем, что никогда в жизни не была в «Макдоналдсе» — она воспитана на Достоевском и nouvelle cuisine [30]— Кевин тоже на Достоевском — но он не брезговал и «Макдоналдсом» — они все почему-то не смыслят в России — в Москве Сара съела в «Савойе» борщ — поданный в духе nouvelle cuisine — с пампушками — сделала круглые глаза — поразилась ресторанной дороговизне — белье из рыбьей чешуи — ходит по снегу — толкает его в сугроб — смеется — Сисин устало бредет вдоль всего этого фольклора — она кладет монетки на рельсы — чтобы электричка их раздавила — Сисин решает на ней жениться — Сара блондинка — она лиха — предприимчива — находчива — стремительна — не трусиха, в отличие от Маньки — Сара умница — любит Африку — вообще жизнелюбива — но Сара не любит Запад — она не любит скучный Запад — она не любит Запад, потому что там правило господствует над чувством — неприличие вытеснено в отбросы общества — парадокс заключается в том, что она носится по «третьему миру» в борьбе за ценности Запада — эти ценности она отрицает, отметает, но пропагандирует — Сисин ей сообщил об этом — она не смутилась — или все-таки смутилась — то есть она говорит, что внутри нее пустота — если бы она не писала с позиций западных ценностей, ее бы не посылали, не печатали, не платили, наконец, денег — нет ни одного конфликта, который бы она не посетила — даже те, куда не посылали женщин — непоседа — она повсюду бесстрашно ездила — плакала над сиротами, разоблачала войны, коррупцию местных властей, наркобизнес, хунты, фаллократию, носительниц натуральных мехов, антиэкологические мероприятия — рубила правду-матку — ее специальность: беспощадные интервью — ее любили читать, еще больше смотреть по телевизору — у нее были совсем девичьи веснушки — задор в глазах — Микки-Маус вас съест с потрохами! — предупредила Сара — Сисин хмуро дернул головой — не увлекайтесь вы в вашей России Микки-Маусом! — она бежала из Нью-Йорка в Париж — собрала свои пластинки, кассеты, три тыщи книг — и бежала — не могла жить по соседству с нищетой, лицемерием, безнадежностью — Нью-Йорк для нее был незаживающей кровоточащей раной — Восточный Бруклин! Гарлем! Бронкс! — прижизненным адом для миллионов гниющих заживо людей — отстань — а в это время на Манхэттене, гео графически похожем на говяжью вырезку — Сисин дальше никогда не слушал — он не говорил Саре, кто он на самом деле — она нелепо повела себя в Лурде — ну, раз ты не погиб — сказала она — после того, как Элла Борисовна чуть было не укокошила его в Женеве — проницательная русско-еврейская женщина, маленькая служительница ООН — когда-то в прошлом перемещенное лицо — настрадавшееся — знавшее толк в языках и товарищах с Востока — раскусила Сисина незамедлительно — таких людей не бывает — Элла Борисовна считала Ленина всемирным сумраком и была готова это доказать с помощью фотографий из старых фолиантов по истории РКП(б) — ничего удивительного, что раскусила — она сразу поняла, что Сисин лишит ее как смысла фирна, так и самого фирна — и не только ее — она догадалась, что он замыслил уничтожить юманитэ — что делать? — оповестить ООН? — но ООН такая неэффективная организация! — Элла Борисовна зазвала его на ужин — заехала за ним в гостиницу — повезла к себе домой, затараторила, не замолкая ни на секунду, оглушая Сисина сведениями о Женевском озере, Набокове, чудовищными потоками ооновских идей — он любил кормить школьниц в Монтрэйе конфетами — конфеты таяли у него в карманах — все ноги всегда в шоколаде — плела она о своем родственнике — въезжая в подземный паркинг — он не выносил беременных — по себе помню — от меня его просто физиологически рвало — Элла Борисовна въебалась на ускорении в бетонную стену — хрясь! — всем телом вылетел Сисин навстречу смерти — лобовое стекло хрустнуло — треснуло — но не разбилось — разбил лоб, сломал руку в четырех местах — отлетел назад в кресло — Элле Борисовне следовало бы выбрать другой аппарат — став камикадзе, Элла Борисовна поломалась об руль — очнулась уже в больнице — поедем в Лурд — сказала Сара — там поблагодаришь — Сисин мысленно добавил — но не сказал ничего — во-первых, вышло бы неловко — не к месту — тем не менее они поехали — бросившись к Маньке, уверенный, что она его любит до гроба — не тут-то было — встретившись зимним вечером в ресторане с Манькой, Сисин в полном недоумении узнал, что та посмела полюбить другого — кого же? — догадайся — не знаю — ну, как ты думаешь? — ах, все-таки его! — поморщился он, догадавшись — Сисин стал кивать головой направо и налево — комично изображая разные степени удивления — совсем не по-русски — излишняя смелость оказалась предвестником энтропии — агония слишком медленна — добей! — Сисину было странно, что Манька больше не любит его — в странном состоянии они едут к нему на квартиру — поскольку Ломоносов в Америке и пишет ей красивые письма — она пишет ему — они любят друг друга — они вот-вот поженятся — на кухне она признается ему в дополнительных нежностях к Ломоносову — однако она с ним спит — даже моет — даже воркует над бегемотом — Сисин решает вступить в бой за любовницу — он задет — ему больно — у него разрывается грудь — он разыгрывает целую драму — она его отвлекает — Манька принимает его как родственника — предлагает ему ходить на лыжах, ездить на дачу — быть зоной отдыха — Сисин делает вид, что согласен на такие постотношения, однако хочет большего — наконец, он понимает, что не может без Маньки жить — он яростно борется — никакое человеческое общение не сравнится с хорошей книгой — иногда его охватывали сомнения — все-таки не самой последней сволочью он был — не самой злостной — сомнения охватывали его преимущественно на берегах Средиземноморья — неподалеку от Барселоны, на молу, изображая из себя писателя, он вынул записную книжку — Сара замерла от восторга приобщения к таинству — он ее этим не баловал — писал: — иногда меня все-таки охватывают сомнения — на брегах Средиземноморья — зачем человеки расползлись? — скажите на милость — зачем человеки так бурно, неудачно расплодились? — а хотелось бы знать — в Италии тоже случалось — на границе Европы и Африки — на жарком, ветреном острове пантесков — в его гротах с легкоранимым розовым цветом скал на уровне воды — Сисин стыдливо отводил глаза от природы, снявшей в гроте трусы — присевшей на корточки — из записной книжки спланировал на ботинок листок — написанные почерком Сисина цифры телефона — Сисин всмотрелся в цифры — 924 — сомнений не оставалось — это был служебный телефон Валентина.
Он дозвонился уже под вечер — не надеясь дозвониться — он сразу узнал его голос — и Валентин тоже узнал его голос — возникла заминка — Сисин сказал: — я хотел бы с вами встретиться — по срочному делу — пожалуйста — отлично! — сказал Валентин — давайте встретимся завтра на том же самом месте — а может быть, сегодня? — нет — сухо сказал Валентин — сегодня я занят — оставайся, сказал он, поковырявшись в сырой пизде — куда ты поедешь? — поздно — тут она-онапризнается ему, что она, видите ли, лунатик — брат ловит ее по ночам — Сисин испугался, что ему придется ловить ее в чужой миланской квартире — он деликатно вызвал такси, стараясь не обидеть — вокруг парка любовники сидели в машинах с возбужденно молодежными лицами — Валентин отвел его в ту же столовую снова есть макароны по-флотски — я был на кладбище — сказал он — Сруль и Цыпа! — он подмигнул — позвольте выразить вам мое соболезнование — в прошлый раз — волнуясь, сказал Сисин — выпредложили мне сотруд ничать — взамен на мою — скажем так — генеалогию — так вот — я согласен — прекрасно! — тихо воскликнул Валентин — Сисин взбесился — молчать! — Валентин застыл с макаронами возле рта — отныне вы мой мелкий подданный и подчиненный — прошептал Сисин — извольте слушать — я слушаю вас — сказал Валентин, не теряя чувства человеческого достоинства — отмените выброс из окна! — как отмените? — сделайте так, чтобы его не было — но он же был! — я приказываю вам весь этот макабр [31]отменить — технически это очень трудно — сказал Валентин — это ваши проблемы — пожал плечами Сисин — Валентин задумался — вы меня немножко пугаете — ворчливо признался он — мы же с вами, кажись, не отцов собрались воскрешать — одно другому не мешает — отрезал Сисин — с какого места отменить? — боясь сисинского всесильного гнева, деловито спросил Валентин — Сисин отпил яблочного сока из грязного граненого общепитовского стакана — я не знаю — сказал он — пусть упадет, но не разобьется? — предложил Валентин — остальное я беру на себя — давайте так — одобрил Сисин — Валентин достал из кармана знакомый блокнот — как же вы, однако, ее любили! — изумился он — я плакал над ее запиской — добавил он в скобках — я выучил наизусть — если бы ты— умолкаю! — закричал он, наткнувшись на сисинский взгляд — диктуйте! — в санаторию ее, в санаторию — замычал Сисин — в горы, к чертям собачьим, к Томасу Манну! — Валентин строчил — Сисин видел, как вонючка бежит через кафе — на радостях от встречи с Манькой — как мерзким светом любовного энтузиазма озарено его лицо — он поливает Сисина грязью по редакциям и издательствам — не в силах сладить с собственным чувством — в безумных мечтаниях переходит с Сисиным на «ты» — Манька для него всего лишь дама-ширма — на медвежьей шкуре предоставить себя в полное распоряжение Евгения Романовича — художником будущего способен стать только гомосексуал — так решили у них в кружке — остальные выпадут в осадок — конгресс в Амстердаме закончился королевским приемом — муссировалась роль России — а как бы вы отнеслись к такому предложению? — спросила Сисина королева — гостеприимные голландцы постановили передать старинную городскую башню семи русским творцамдля занятий вольным сочинительством — Сисин сразу сказал, что она благодетельница — он бы с удовольствием приезжал в Голландию — коньками резать лед — все улыбались — кандидатура Сисина вызвала всероссийский протест — газеты разных направлений обосрали его с ног до головы — тем самым наконец прославили в отечестве — другие кандидаты на башню тоже почувствовали себя задетыми — Сисин был знаком с двумя претендентами — давнишними выходцами из подполья — когда-то они втроем ходили пить джин с тоником и есть филе с длинной зеленой фасолью — из одного посольства в другое — под вражескими взглядами милицейских охранников — потом уехали, а Сисин остался — голландцы предложили Сисину занять в башне трехкомнатную квартиру — Сисин обрадовался новой встрече с друзьями — одному он не сразу дозвонился — Рожнов отнесся к башне вяло — мокрицы поползут из этой банки — скривился академик — мокрицы — жены уже затеяли склоку, как делить башню — Берман вдруг заговорил тоном диктатора — темнил — хитрожопил — кутался в болезни — отмежевывался — никто не приехал — башня провалилась — Сара похожа на надувную куклу — и потому не хочется даже дотрагиваться до ее на вид вполне сносных и приличных грудей — все-таки башню в Амстердаме он переживал больше всего — не вышла голландская затея — нам предлагают башню! — бесплатно! — Рожнов излишне доверительно объяснял мюнхенскому официанту, что ему нужно: — отдельно водка — отдельно лимонный сок — а вот башню ему не нужно — Сисин кормил его ужином — получалось, что Сисин навязывается — как будто ему больше всех надо — и он сам себя записал в герои — башня сильно навредила развитию русского искусства — пошел играть в сквош — воняло потом — пыль столбом — голландцы парились в парилке — американцы — Сара даже не знала, что Миро не Жоан, а Хуан — и о Гауди впервые — услышала — паф! — Гауди был безвкусен, безобразен образцово — Сара любила бой быков — она знала: так полагается — любить бой быков — под вечер тореадоры уволокли ее на арену — она храбро махала тряпкой — оступилась — упала — корова пробежала мимо — утром он подрочился в ее присутствии — она говорит: ну, хватит, Сисин — сгубил Кавказ космополитку — смерть Сары взволновала весь мир — Сисин так переживал, что на ней не женился — она быстро стала любимицей всего мира — Сара! — ее фотография в траурной рамке висела в Спасохаусе — Сисина не допустили до гроба тупые, недоверчивые американские дипломаты, сошедшие с ума на security — но он нашел на них управу — поздно ночью проник в секретный морг на Грановского — наутро гроб вылетал в Аризону — откройте — я хочу ее видеть! — я хочу видеть мою невесту! — в плаще, с мокрыми волосами, слипшимися на лбу в наполеоновскую челку, с жалкой грузинской мимозойв руках — что значит невозможно?! — нет — я хочу ее поцеловать — нет! — Сисин размахнулся, чтобы ударить охранника, но вместо этого рухнул на каменный пол — даже русские газеты поместили растроганные некрологи — в вечерней программе «Новостей» сказали прочувствованные слова — показали портрет с веснушками — волевой нью-йоркский рот — милая! — я мог бы на ней жениться — если бы Сисин в те дни сказал, что он был ее любовником, никто бы ему не поверил — а ведь он был ее женихом! — весь мир оплакивал ее смерть — он жутко переживал — чего он медлил? — он даже забыл о своем избранничестве — под дождем мокли афиши с проектом русской башни — голландцы оглядывались — он ехал с королевским номером АА из королевского дворца — Берман только что сыграл Шуберта — перед тем они тихо перекусили в королевском дворце — Берман попросил плитку шоколада для увеличения энергии — шоколада во дворце не нашлось — Берман бранился — вы всегда с ним ездите? — спросила женщина-генерал в придворном мундире с юбкой — Сисина приняли за жену — по дороге назад Берман расхвастался — у него теперь друзья в каждой королевской фамилии — в Гамбурге, выступая перед журналистами, Сисин отстаивал дело своей безнадежной страны — председатель-немец дивился его оптимизму — после окончания подсел кто-то в черном костюме — давай на «ты»? — мы же ровесники — однолетки — к тому же я тожематерщинник — век пизды! — ну, давай — кисло сказал Сисин — я помню твоего отца — он еще жив? — можно по-разному к нему относиться, но он не подмахивал американцам — давай все-таки на «вы» — предложил Сисин — я никогда не была в Восточной Европе — говорит горбоносенькая — дальше Югославии не заезжала — а для нас-то Югославия была раем — и для поляков — я помню в Польше — пришли югославы — и отрыгнули — объяснили — так модно: отрыгивать — поляки весело согласились — стали по очереди отрыгивать — у озера Комо в Белладжио он наткнулся на польскую вытечку [32]из Кракова — плохо оформленные мужчины с провинциальными усами Леха Валенсы фотографировались на фоне воды — для нас и поляки — паны— хорошо, что есть еще монголы — последний оплот — как хочется все уничтожить! — с вопросом — давно ли? — он думал: — Сисин — здешний, гамбургский, и собирался его уесть — но Сисин приехал только неделю назад — российский мидовец смолк — Сисин приехал неделю назад — от Маньки — которая неожиданно все простила — и принимала Сисина у себя на диванчике, который когда-то Сисину казался мечтой — вполне спокойно предложив ему приезжать, если он не будет при этом забывать подарочки — ну, вроде сигарет — пива — блузочек — свитерков — она рассказала страшную историю — через неделю после разрыва с Манькой Ломоносов находит себе австрийку с русскими наклонностями — та бурно бросается в любовь — забывает своего жениха — тот — ты представляешь — Манька улыбнулась гнусной улыбкой, спутницей сообщения о новой смерти — бросается из окна — что? — сощурился Сисин — Манька: — да-да — тоже из окна — дались им эти окна! — но Сисин думал о другом: — только однунеделю? — в этой истории, которую Манька преподнесла Сисину как вину за их несостоявшийся брак — и Сисин сказал: — только, пожалуйста, еще это на себя не вешай — не надо — и так достаточно — а все-таки в глубине души Маньке было приятно, что она способствовала смерти чужого австрийского жениха — в этой истории гораздо больше окна Сисина задела однанеделя — нет — безусловно, Ломоносов горевал — остались письменные свидетельства — но почему так мало, так неплодотворно? — неужели моя Манька стоит только однойнедели?! — он промолчал — он лежал на диванчике, и Манька спросила — впервые за их отношения: — что это ты не ласковый?
Все-таки у нас лучше! — воскликнула Сашенька — сядешь на Фонтанке в компании ночью, с водкой и огурцами — едет дядька — дядька, прокати на лодке! — обязательно прокатит — на аэродромах гнали назад растерявшихся русских девок — нам не нужны русские проститутки — которых забыли встретить — сажали на первый попавшийся рейс — и гнали назад в Москву — Сашенька с другой девочкой отправилась в общежитие — работала моделью — сочиняла песенки по-английски, чтобы пробиться — в общежитии нашли пустую комнату и принялись мыть пол — из-под кроватей выгребли грязные презервативы — до них тут жили американки — американки простые — грязнули — аукнулась Воркута с плавающими какашками — вокруг ходят-бродят, предлагают тыщу долларов за ночь — африканки соглашаются — но наши пока что держатся — папа у меня капитан — морской — мама работала директором бара — а у нас, как комиссия, не только нужно угощать, но и самой — и мама спилась — папа тоже — ползали на карачках по комнате — я их, девочкой-пионеркой, укладывала — воняло очень — но таких добрых, как у нас, больше нет нигде — в Италии еще ничего — но тоже — если у тебя все в порядке — тогда ничего, а не в порядке — я не очень навязываюсь? — у Стаса, вы слышали, в Москве мальчику глазки выкололи — от жалости к мальчику она заплакала — в итальянской полиции в Сисина влюбилась начальница вредного департамента иммиграции — косая блондинка, еще молоденькая, без формы — он готовился к встрече, душился, примерял наряды — она тоже мыла небритые по моде подмышки — Сисин на минуту представил себя итальянцем — дальше цветов дело не пошло — он ведет «ягуар» одной рукой — по прибрежной дороге — тихо стоят январские пальмы — в Москве пурга — мелькают машины — горбоносенькая хулиганит — я специалистка по автосексу— можно я тебя потрогаю? — Позитано — Рим — ты спокоен — ты равнодушно гордишься — как тебя избаловало! — он мчался со скоростью 180 в час — обгоняли одни только «порши» — загорелая горбоносенькая дремала с черным виноградом на коленях — отчего у тебя нет ни одного седого волоса? — он сказал: — ну, как же нет? — нет — сказала горбоносенькая — ты продал душу дьяволу, чтобы остаться вечно молодым — Сисин обрадовался и нахмурился — не это он хотел услышать — она рассказала ему о временах терроризма — никто не хотел выходить из дома — боялись ресторанов и магазинов — дедушка, композитор и директор консерватории, отказался вступить в фашистскую партию — отчего навсегда лишился карьеры и преподавал музыку в школе — подложили бомбу под дом ее отца, который был примерный христианский демократ — но подложили неумело, и бомба взорвалась, когда ее подкладывали — все три террориста-распиздяя погибли — в Сестри Леванте по ночам освещена желто-коричневая старая башня — с кислой улыбкой смотрел Сисин на башню — можно поехать по проселочной дороге в Монте-Россо — поужинать пастой с белыми грибами или баклажанами — итальянская речь будет усладой усталых мозгов — на работе ее называют не синьорина, а дотторесса, и это совсемдругое дело — например, если, когда ее брали на работу, ее бы называли синьориной, то боссы бы не встали и не стали бы с ней здороваться за руку — а так они все встали и пожали ей руку — в России вообще никак не называют — сказал Сисин — и ничего — неужели никак-никак? — не потому его тянули к себе брега Средиземноморья, что здесь он находил остатки древней цивилизации — это мало волновало его — хотя бывало — Таормино с задником Этны — но почему-то вот это сочетание каштанов и пальм — мимоз — которые он никогда не любил в Москве — оливковых деревьев, магнолий, настурций, приморских сосен, приморских гор — весь этот субтропический винегрет — климатическая терпимость — она лишилась невинности в Лос-Анджелесе — первый мужчина был учителем физкультуры из ее школы — ты замечательный любовник — на что Сисин вообще ничего не ответил — тоже мне приключение — и какой жалкий у нее подбородок — да — но потом, когда она принялась рассказывать, как обучалась музыке — клавиши на дедушкином рояле были очень тугие — она не могла с ними справиться — и желала дедушке смерти — он очень расстроился, подумав, что желал — и это нельзя отрицать — смерти Ирмы — не далее, как в прошлом году — и это воспоминание вызвало у него запоздалое, сырое раскаяние — Сисин совсем по-другому стал думать о горбоносенькой — ему уже больше не казалось, что она-онаскопилась в горбоносенькой и щерится — нет — она быстро загорела и отдохнула — как это бывает, когда тебе еще нет тридцати — ее нос показался ему если не полным значительности, то, по крайней мере, вполне приятным, во всяком случае, сносным — она бы могла — умненькая, даже вполне симпатичная — составить счастье многим замечательным людям — почему бы не мне? — и эти бухты, и эти дрожащие огни на горах — и это накопленное столетиями богатство — он посигналил «Фиату», не желавшему уступить ему дорогу — cretino! — и эти молодые люди, обнимающиеся на улице — и не собирающиеся делать ничего предосудительного — повалил снег — машина уперлась в сугроб и заглохла — он пробовал завести — напрасный труд — снег засыпал лобовое стекло — «дворники» не работали — отключились все системы — он откинулся на сиденье в отчаянии — открыл дверь — рядом был тротуар — он увидел перекошенные родные морды — собрание родных подлейших морд — они смотрели на него с нескрываемой ненавистью — он выглядел человеком, который просит о помощи — вместо помощи один — в нелепом синем комбинезоне — сказал — почему это ты должен ездить на «ягуаре», когда мы ходим пешком и ездим на трамвае? — он понял, что с их точки зрения вопрос законен — он сам застрял на полпути — он возмущен незаконностью законного вопроса и готов защищать свое право делать все, что ему заблагорассудится — они правы по неписаным историческим законам их общей родины — они вправе спросить — и по его растерянному лицу видно, что он признаёт это право — он не иностранец, способный удивиться — он признаёт — и оказывается в слабом положении — они начинают возмущаться — они прут на него — эти страшно родные животныелица — от них воняет — родным — один хватает его за горло — мертвой хваткой — Сисин в ужасе бьет ему в морду — просыпается с сильным сердцебиением — лежит в недоумении — почему после мимоз мне снится сон о России? — почему она так мерзка? — ведь я пытаюсь ее здесь защитить — я читаю в газетах только о ней — все остальное мне неинтересно — пьющие водку немцы сочувственно кивали — я бы и сам покивал, да не знаю кому — только раз в жизни — когда мы обогнали чехов по части демократии — и двое пришли — выброшенные с работы — и стали жаловаться — даже джазовый клуб не разрешают — старые, раздавленные люди — один работал на бензоколонке — другой притаился в государственном издательстве — под видом любителя русской культуры — Сисин подумал, как они удивительно жалки — со своими жалобами — как я — он поворачивается на другой бок в надежде, что приснится другое — но только он засыпает, как его нагоняет еще более мерзкий сон — хищная, еще не старая, жирная, потная баба протыкает другую — не менее потную — ножницами — маникюрными — но сон этот как бы в тумане — даже смотря его — он понимает, что не запомнит — злая Европа ощетинилась своими генеральными консульствами — ничего — объебем — прорвемся — я никогда в жизни не раскрывала ни перед кем свою душу — призналась горбоносенькая — ее хилая душа витала тут же — мне в приданое родители дадут зеленый лимон— он посмотрел на карту — Россия сильно отшатнулась от Европы — как будто ее шлепнули по рукам — она с этим не смирится — думал Сисин — он спокойным, неторопливым взглядом смотрел на юманитэ— оно его не устраивало.
Суд кенгуру! — возвестил Сисин — я кенгуру! — Я САМОСУД — Евгений Романович вырос до размеров дачной столовой — я ничего не понимаю в зоологии — признался присмиревший Жуков — я тюремная феня! — навис над ним Сисин — я блатная идиома! — Сисин принялся облизывать языком кенгуру лысый череп друга — если ты сумчатый— изворачивался Жуков — то иди, пожалуйста, на хуй! — езжай жить в Австралию! — почему царапина на моей машине для меня важнее любви, за которую я только что бился? — да и что значат показания человека, затраханного успехом? — его тошнит от непереваренных впечатлений — заспанный Феликс предстал перед взором друзей — ребята, вы чего тут? — спросил он, словно Сисин не был залит кровью с головы до пят — да вот не спится — сказал Сисин миролюбиво — Римма тоже появилась, в своих золотых китайских тапочках — идите спать — надо разобраться с человеком — завтра разберетесь — давай, Жуков — скомандовал Сисин — уйди с дороги! — заорал Жуков на Римму — Жуков схватил Римму в охапку и вынес в спальню, как на помойку — он у них, бывало, собак сторожил и кошек кормил — ожидая даров от фаундэшн [33]— лысеющий телохранитель своей жены (когда это было!), Феликс слабо заверещал, но понял: серьезное дело — поспешил ретироваться — назад в спальню — руби дверь! — скомандовал Сисин — так вышибу — ответил Жуков — он в третий раз набежал на дверь — вместе с нею весело влетел в комнату — пролетел полкомнаты — разорвал скатерть — разнес стол — раздавил стулья — разломал посуду — при старых хозяевах здесь была детская — здесь обитали дети — Жуков валялся на двери — Сисин вошел и увидел макет пиеты — налево, на детском диване, сидела юристка и гладила волосы дремлющему Рожнову — на морде у юристки лучилось счастье — сколько лет мечтала она об этой минуте! — дождалась — унизьте эту девку! — возопил Сисин — унизьте, бляди, мою Маньку, мою уходящую любовь! — дайте мне кончить, глядя на ее унижение! — хорошо — сказали бляди — сделаем, как захочешь — напоите ее! — Манька кончала под простенькие истории — она сама любила придумывать простенькие истории — про купе — где двое командировочных, распив бутылку и не спросив разрешения, лезут ей за пазуху, суют в рот и в попу большие командировочные хуи — составился заговор — собралась на даче компания — ангелоподобную Маньку девки напоили — повалили на диван — стали трахать пальцами — Манька хрюкала — потом ее вырвало — Крокодил с Бормотухой радостно, по-собачьи сожрали ее блевотину — потом она кончила от прикосновения к ней шершавых женских сисек — в высоких зимних ботинках Сисин пошел по направлению к пиете — Рожнов проснулся от крушения двери и задумался о том, где он находится в данный момент — юристка Софья Николаевна не переставала гладить волосы проснувшемуся Рожнову — Рожнов вдруг понял, что сейчас его будут бить — он поднялся на локте и даже быстрее, чем можно было от него ожидать, перенес ноги на пол — тут выяснилось, что он в очках — Сисин увидел выражение его лица и понял, что сейчас состоится человекоубийство — недолго думая, Сисин прицелился и от всей души ударил Рожнова в морду зимним сапогом — он бил, как по футбольному мячу — он знал, что человек — маленькое тягучее животное, которое требует кропотливого внимания — многие из опрошенных — вздрогнув от удара, быстрым голосом заговорила Софья Николаевна, глядя прямо перед собой — своим самым любимым занятием в жизни считают еблю — ебутся много — каждую ночь — оттягиваются — иные целую зиму откладывают деньги, чтобы летом покупать ягоды и фрукты — Сисин испытал приятное чувство — Рожнов перелетел через диван, увлекая за собой лесбийскую Софью — они оба провалились в дыру между диваном и стеной — теперь Рожнов выползал из-под дивана в прямом решении убить Сисина — очки разбились, втиснувшись в лицо — обезображенный Рожнов, как реваншист, выползал из-под дивана — Сисин понял: — не надо ждать — он подскочил к поднимающемуся на ноги еще совсем недавнему другу и нанес второй удар сапогом в умную небритую морду, которая много пила и курила, была близка к таланту и славе — впрочем, хуй с ней — Рожнов был умирающим гладиатором старой мысли — он любил, когда за него шутили — вроде «надо лишить нашу Родину-мать ее материнских прав» и т. д. — он износился поколенчески, вместе с умами гораздо менее изощренных голов — он нуждался в ликвидации — но они еще оставались в живых — Сисин сбил с ног Рожнова, и тот, опять улетев за диван, застыл — на этот раз как-то совсем по-особенному — потом по-разному толковали эту драку — некоторые полагали, что Жуков помогал Сисину в его справедливой борьбе — Сисин был чудовищно работоспособен — напротив, Жуков стоял, как арбитр, не позволяя никому вмешиваться — вдруг все запричитали — Рожнова убили! — Сисин был очень спокоен — Рожнов был в молодости боксером-любителем — убить его было нелегко — запричитала жуковская блядь Софья — сам Жуков нахмурил брови — Сисин закурил сигарету — ему было приятно убить знакомого человека — ему показалось, что он посадил дерево — откуда ни возьмись, вбежали трое — Римма, ее вечно заспанный муж и дочь Рожнова — десятиклассница сразу побежала к папе — Сисин понимал, что школьница взволнована, полна жизни, неподдельной тоски — это ему понравилось — он стоял посреди комнаты, и остальные обходили его, как тяжелый предмет — пошли, Жуков — сказал Сисин — нечего нам тут делать — он потушил бычок о подошву — позвонила ласковая — называла ласково — Манька! — свидетельница моей жизни — дорого торгующая подробностями — десятиклассница стала плакать — Софья по-лесбиянски обхватила ее и замерла — довольная — мы сели в машину — было по-зимнему холодно — как автора Детей, где, строго говоря, было больше сладости предательства, чем разоблачений, меня волновало пражское предательство Анджея — я поручил Анджею опеку над Воркутой — она уезжала на следующий день — расстались по-братски — Анджей предоставил ночлег у себя в комнате «Хилтона», чтобы ей не платить за номер — кровать оказалась большой, но единой — Анджей вернулся в номер поздно, когда она уже спала — от него несло правительственным коньяком — зимой Сисин ехал на встречу к Анджею — была строга варшавская конспиративная сходка — они обнялись — Анджей был в то время на минуту европейским героем — не понимавшим одного: — прыжок в свободу нужно продлить до самой смерти, до самой земли — никто не станет слушать про тихую Польшу — про этот венский филиал — Анджей просчитался — но остался вкус конспирации — переправка документов через границу — конспиративные встречи с дипломатами — клятвенная борьба с антисемитизмом.
Польский дворовый мальчик подошел к машине и сказал:
— Дайте прикурить!
Я не знал, как поступить. Мальчик был еще маленький. Мальчик наклонился к стеклу машины и сказал:
— За паном следит полиция. Там, наверху, круглосуточно стоит машина.
Сисин уже забыл, как он переволновался — как он боялся, что при переезде границы его накажут — он не забыл подпольного героя — за паном следит полиция — Сисин занимался подрывной деятельностью — у него тогда была моральная основа — она была не артикулирована — как же его безбожная мама, которая всю жизнь легкомысленно посмеивалась над религией, сподобилась? — здесь было не богоборчество, а высшая стадия атеизма: брезгливость — омерзение по отношению к вере — срамной апофеоз — Сисин следил за тем, как Вера Аркадьевна наливает в чашки заварку — мам, мне покрепче, пожалуйста! — еще покрепче! — извечный «Earl grey» — и это безбожное лоно в момент наивысшей негации было засорено Божественной спермой — сегодня Манька ушла навсегда — опять все всколыхнулось — ходил грустный — навсегда — вспомнилось лучшее — но за секунду до того, как она стала выяснять в последний раз отношения, мне самому захотелось сказать: — ну все, хватит — она сидела в машине, постаревшая, подурневшая — Женькин, миленький, я больше не могу — все или ничего — она была, оказывается, трупом после наших встреч, когда я украдкой смотрел на часы, как классический любовник — я уже устал от нее — но она так верно любила меня, что не могла примириться с второстепенной ролью — она хотела жить вместе, родить ребенка — она заплакала — она редко плакала — зараженная мною мелкими насекомыми — она, оказывается, похудела из гордости! — на нее уже не так оглядывались, как раньше — до смешного краток век бабы — она не может больше быть любовницей — ей мама тоже сказала: хватит — пора устраивать свою жизнь — ты посмотри, как я исхудала — юбки падают — просто труп — а я-то думал: блядь, содержанка — вот какие разные точки зрения! — сидя в машине, она поглядывала в боковое зеркальце — ты чего там увидела? — себя — по обыкновению — при расставании — я ее обрадовал: — проверься — ее электрическим током — от кого? — а с женой спишь? — хищно, жадно: — сколько раз? — никогда до этого не спрашивала — я ей неделю не звонил: не хотелось — лень было — подурнела — подарки тянет — деньги — инфантилизм развела — западные девушки поскромнее — не требуют — рады малому — а тут цветы покупай, сигареты, в ресторан води — итого, как блядь на Сан-Дени — Фредерик ходил туда по понедельникам проверить свою уставшую мужественность — взбодрить себя жестким пятнадцатиминутным опытом — почувствовать себя Монтенем — я тебе сосу, и мы делаем любовь — а ты раздеваешься? — нет, я не раздеваюсь за триста — но за четыреста я раздеваюсь — а грудь можно потрогать? — только до сосков не дотрагивайся — я терялся от невозможности влезть ей в душу — залезть в нутро — она была убеждена, что я ее люблю так, как никого не полюблю никогда — но и к себе самому я не мог пробраться — столько завалов — столько хлама — с другой стороны — думал Жуков — как соединить это с отведенной им для себя ролью божества? — много нескладного — почему Сисин должен судить человечество? — Жуков был верным другом — ему передавали разные люди, что Жуков сказал о нем: — мы с ним навсегда — и когда Сисина ругали, Жуков смягчал характеристики — но когда он сам разговаривал с Сисиным, он был строг, как настоящий друг, родившийся на Северном Урале — и тогда Сисин подумал, что ему будет худо, если он провалится — и Жуков его обскачет — Сисин просрет — ему хана — и Жуков его обскачет — значит, самоубийство? — не началось ли оно тогда, когда он лизал жуковский череп и чувствовал себя кенгуру? — Манька его учила: не будь говном, не ходи по посольствам, не ебись с кем попало, пиши — он писал мало — но он писал мало не потому, что болтался и шлялся — нет, поэтому тоже — и все ему говорили: пиши — все девки — как одна — кроме Рыжего Крокодила и Бормотухи — те не говорили — Крокодила все больше начинали волновать секреты власти — культуры ей уже было мало— Бормотухе было недоступно пересказать происшедшее с ней накануне — не получалось у девушки — все к лучшему — заговори она членораздельно, мир покрылся бы сыпью — Манька исчерпала себя — но он знал, что нет — что в последний день — в последнюю минуту — она поймет его лучше — а пока не наступила для него — он останется один — лучше Маньки он никого не найдет — ему эта мера отпущена — пресытился — стану Божьим внуком — мои отношения с судьбой дают мне некоторые основания — конечно, энергии поубавилось — отсосали энергию — струя мочи бьет все слабее — но все равно — реквием по Маньке не удался — что-то магическое исходит от тебя — писала немецкая фарфоровая свинка — я вышла прогуляться в соседнем лесу — еще не настала ночь — было много светлячков — они летали в траве — казалось, звезды спустились на землю — когда я думаю о тебе, мое тело омывается Гольфстримом — когда я уходила от тебя в ту ночь, ты мне улыбнулся, такой молодой и красивый — мое тело тоже омывается Гольфстримом — когда я читаю твое письмо — мне не хватает земного тепла — человеческого солнца — оно погасло для меня — я размазываю говно — бежала с подносом через вечерний сад — бокал разбился — счастливая-пресчастливая — с таким задорным лицом — гутен абенд! [34]— она сделала на десерт дыню с куантро — вышло очень невкусно — Сисин мужественно съел дыню — только в Париже не говори, что ты ел дыню с куантро! — милая! — мне было хорошо с тобой! — держите меня за руки — я обсираю самых близких людей — мне не хватает тепла — родители не дали — так считала Ирма — но детство было счастливым — я помню — спасибо за это тепло — мне не хватает тепла — согрейте меня — я заплачу от благодарности — похлопайте меня по плечу — подбодрите — почему вы меня не любите? — мое тело омывается Гольфстримом — подари мне свои фотографии — думай обо мне — мне ничего больше не надо — мое тело омывается Гольфстримом после твоего письма — спасибо — спасибо — думал Сисин — но я проскочил жизнь — я перерос ее маленькие прелести — покажите мне светлячков — нет сил остановиться, рассмотреть пустяки — по дороге родители потерялись — они хотели доказать, что не зря прожили жизнь — Господи, как они постарели! — вот они стоят — а вот их немногочисленные разбитыедрузья — некому прийти на день рождения — делать вид, что не хочется хлопотать в юбилей — пара поздравительных открыток на видном месте в прихожей — некому вынести гроб — они не так прожили жизнь — не в то верили, не верили в Бога — папа, ты встретил меня на вокзале — вот ты стоишь, совершенно седой и сутулый — со своей оптимистической бородавкой на лбу — с полуоткрытым ртом — ты задыхаешься — ты уже не играешь на бильярде — болит рука — я всегда боялся обыграть тебя в шахматы — в пинг-понг — я никогда этого не сделал — я специально никогда как следует, не научился — кто я такой, чтобы их судить? — но почему они не смотрят в мою сторону? — почему семейные праздники с каждым годом все больше похожи на остопиздевший театр абсурда? — мы никогда не объяснимся — мне нужны светлячки — мои старенькие родители — как они стеснялись — как гордились мною! — дайте мне силы их любить — дайте мне силы их пожалеть — дайте мне сказать им нежные слова перед смертью! — почему я должен только уничтожать? — что за должность такая? — я пошел на Мясницкую к слепцу — научи — объясни — мы с тобой мужики хитрые — но тот уже умер — я не успел — сегодня в минуту расставания я ее снова сильно любил — не дожив нескольких дней до семилетия — не захотела — а ведь ритуальщица — в знак вечной дружбы Рыжий Крокодил обстригла Бормотухе куст пизды — в субботу понаехали милого вида художнички — стали пить — выебли Бормотуху — ее голландскую подружку заодно с ней — некрасивую — Рыжего Крокодила тоже выебли — потом все уехали — пахло окурками — мозг пропитался запахом окурков — ухо заложило — в машине очень холодно — Сисин стал ее заводить — не заводилась — Жуков нервничал — он думал: сейчас выбежит Софья — Софья не выбегала — машина завелась — они выехали и тут же провалились в сугроб — зови Феликса — сказал Сисин — зови! чего сидишь! — Жуков побежал в дом — где будем ночевать? — вышел в пижаме и валенках Феликс — телохранитель ебаный — давай, помогай — Сисин не жалел машину — залез на крышу — стал танцевать — все смотрели, как на придурка — крышу продавишь! — было лето — рядом на даче — в том же поселке — Рожнов пил водку — Сисин напился — Феликс толкал — развевалась пижама — машина ревела — Рожнов лежал мертвый — как же так? — усы у Феликса дрожали — убить человека — воскреснет — заверил Сисин — какое там воскреснет! — усомнился Феликс — не ной — сказал Сисин — толкай! — Жуков тужился — снег летел из-под колес — толкай! — орал Сисин — убийцы — командиры жизни — тужились и толкали — снег летел им в нервные морды — выехал из сугроба — неси сигареты — сказал Сисин — он был как вождь, как учитель — Феликс побежал в дом за сигаретами — ну что, не воскрес еще? — спросил Сисин, затягиваясь — уже разлагается — зашептал Феликс — появились трупные пятна — чего это он так быстро протух? — удивился Сисин — еще и получаса не прошло — может, Софью с собой возьмем? — куда? — в Москву — я в Москву не поеду — сказал Сисин — найдем, где переночевать — где найдем? — найдем — они уехали, не сказав Феликсу ни спасибо, ни до свидания — Феликс трусливо смотрел им вслед — они стали стучаться в дачи — никто не открывал — было шесть утра — было красиво вокруг — фонари догорали — зима — удовлетворенно сказал Сисин и потрогал голову — вдруг вдалеке появился умерший Рожнов с дочерью — они приближались — воскрес! — обрадовался Жуков — будем драться опять — сказал Сисин — Рожнов подскочил — ударил Сисина в лицо — Сисин пропустил удар — Жуков схватил Рожнова за руки — Сисин достал из багажника монтировку — Рожнов схватил Жукова за шапку и, к удивлению Сисина, забросил ее за забор в снег — в детстве Сисина так поступала милиция с мальчишками — хватала за шапки — когда они подглядывали голых баб в бане в переулке — с шайками — в дырки в матовом стекле — одна загрустила, сидя на мыльной лавке — опустила головку — на грязном диване лежали четыре голые бабы — это было сладкое подглядывание — они ходили специально гулять к бане — на прогулку — к бане — Вера Аркадьевна поощряла: дышит воздухом! — выскочил мент — схватил приятеля Сисина за шапку — и тот остался — не побежал — было очень жалко шапки — не побежал — Сисин посмотрел на это и поразился психологической оснащенности милиции — он пригрозил монтировкой — Рожнов ударил Жукова — Жуков хоть и большой, но нескладный — с маленькими аристократическими ручками плебея — он все время поскальзывался — и тогда Рожнов его больно бил — Сисин не ввязывался — дочка смотрела — глядя на Сисина с преувеличенной ненавистью — Сисину надоело — он толкнул Рожнова — ему было противно, что тот сорвал у Жукова шапку — а Жуков сорвал у него — и тоже бросил — они дрались без шапок — Сисин толкнул Рожнова — тот упал — Жуков ударил Рожнова — дочка пронзительно закричала на дорожке — она бросилась на Жукова — Жуков взял ее и выбросил в кювет — как ненужную, непрактичную вещь — она долго там ползала — как будто задумавшись — Рожнов полез к Сисину в машину — двигатель работал — Сисин думал, что Рожнов хочет куда-нибудь уехать — но Рожнов просто хотел испортить машину — он нажал изо всех сил на газ и так держал, пока не запахло резиной — ремень порвался — Сисин выволок Рожнова из машины и стал больно бить его за то, что тот сломал машину — он не видел его лица, но бил по нему очень метко — наконец Рожнов сказал, что он хочет поговорить — зачем ты бьешь своего учителя? — спросил Рожнов — если разобраться, он был не прав — Сисин никогда не держал его за учителя — пахло резиной — Рожнов дал ему некоторую уверенность в том, что в мире бывают умные люди — Рожнова влекло к Богу — он как-то неловко нашел его слишком скоро — не находил, не находил — а тут вдруг взял и перекрестился — а потом опять потерял — см. выше об этом статью — и Жуков тоже туда — женился на Софье — Сисину было грустно: — И. X. оказался бледной копией самого себя — но люди-то кто? — мытари да рыбаки — Сисин сказал: — оживет — и Рожнов ожил, и стал его пиздить — Сисину было скучно с людьми — он нашел женщин как средство от скуки — но надоело побеждать — работать в режиме конвейера — Рожнов сел в машину, и Сисин сказал: зачем сломал? — зачем ты меня убил? — в свою очередь задал вопрос Рожнов — Сисин сказал: — ничего подобного — зачем машину сломал? — Жуков ходил вокруг машины и говорил: мне холодно! я простужусь — я без шапки — враги не обращали на Жукова никакого пристального внимания — Сисин подумал немного и снова ударил Рожнова — но не монтировкой — а просто кулаком — они стали драться в тесной кабинке — непредвиденно громко включилось в машине радио — они с отвращением его выключили — голова Сисина опять стала кровоточить — он замазал кровью весь потолок — обозлившись, он стал бить слабеющего Рожнова изо всех сил — Рожнов взмолился — его дочка выползла из сугроба и смотрела на Жукова — Жуков снова выбросил ее в сугроб на всякий случай — папа, меня бьют! — крикнула школьница — не ври, девочка! — строго сказал ей Жуков — при дочке бить папу было, наверное, нехорошо — но Сисин бил папу — Рожнов наклонился к руке Сисина и укусил — Сисин больше удивился, чем заорал от боли — он не знал, что Рожнов так близок темной стихии блатных — он не знал, что свой первый мандарин девятилетний Рожнов съел с кожурой — Сисин схватил его за волосы — академик все-таки прокусил ему руку — испортил машину — Сисин добил Рожнова и выволок его из машины на снег — Рожнов лежал на снегу — на месте лица у него было месиво — ну, все — сказал Сисин — он посмотрел на прокушенную руку и долго мочился с паром на колесо, не стесняясь старшеклассницы — наконец Рожнов встал и предложил Жукову мир — они оба были со слабыми нервами — а Сисин, дрожавший от возбуждения, был с сильными нервами — у него они были сильнее — Жуков хотел было помириться — Рожнов это увидел — Жуков принадлежал к тем людям, что готовы мириться в самых неподходящих условиях — объятие вышло неловкое — они разговорились — Сисин почувствовал себя преданным, бесчеловечным — он стал прислушиваться к голосам перед сном — они говорили банальности — но иногда по этому каналу связи Сисин угадывал иные миры и инструкции — голоса жаловались и обсуждали подробности жизни — Воркута в наушниках тоже слушала бесполезные разговоры — любовь к боли (любовь на всю жизнь) была заразительна — только раз до того Сисин встречал ярко выраженную любовь к боли — об этом в Детяхэзоповым языком — ну, пожалуйста — Манька полюбила вылизывать кал из сисинской жопы — пожалуйста, не мойся перед свиданием — а та — он хранил о ней милые воспоминания — из Детей— она уже стала старухой — с разросшимся тазом — постепенно Сисин понял, что он не совсем человек — он стал думать: кто я? — они все считали его бесчеловечным — кто был Сисин? — Рожнов удалялся — так было всегда — с Жуковым он почти помирился, несмотря на шапки — слышал? — слышал последнюю шутку Венички? — пукать надо картаво, с еврейским акцентом — Рожнов и Жуков захохотали, наклонившись вперед — сжимая ладони коленями — Сисин знал: с ним такого никогда не случится — ему запрещено так мириться — так обниматься после драки — счастливые — с завистью думал Сисин.
Бреясь утром перед сборами и очень волнуясь — в стране издевательств и унижений Сисин занимал последнее место с края — Сисин порезал себе кожу на адамовом яблоке — он заклеил пластырем рану и поехал на сборы — там все было окутано тайной, как на войне — никто не знал, ни куда едем, ни когда — к вечеру в автобусах их отвезли на Павелецкий вокзал — грузили в плацкартные вагоны — везли ночь — утром на платформе нас встретило золото полковых труб — простоволосые пассажиры оглядывались — на грузовиках поехали по лесам, по полям — остановились у болота — ночами квакали лягушки — объявили военную тревогу — решив, что немцы, местное население ушло в партизаны — ходили военным строем — каждый божий вечер ели треску — вдруг американцы высадились на Луне — ели треску — ходили как в воду опущенные — все просыпались с маленькими опущенными хуями — антистоин! — в киселе — кисель никто не пил, кроме импотентов — Сисин в жару надевал гимнастерку на тренировочный костюм, чтобы не запачкать армией домашнее тело — он не застегивал пуговицы на горле — но белый воротничок неуклюже пришил — все завидовали порезу — наносили удары в сердце немецких городов — разрывали красные сосуды автобанов — семь причин, по которым американцев нельзя считать великой нацией — ну, во-первых, не нация, а эмигрантский сброд — дальше — дальше не помню, товарищ майор — отправили на кухню чистить картошку — в ржавых ваннах оттаивала треска — дух стоял — французы любят красное вино — напившись, у них краснеют щеки, носы, и они становятся очень болтливыми — майор рассказал о том, что вербовать перебежчиков нужно с помощью сентиментальных листовок — Сисин написал рождественскую листовку с призывом переходить к нам в плен — француз, война для тебя закончится — не нужно будет бояться пуль — в те дни, пока ты сидишь в окопах, твою невесту ведут в ресторан штабные парижские крысы — ему представилась любимая Ирма — белые ночи — сдавайся — переходи на нашу сторону, француз! — если бы не Октябрь, Россия была бы самой богатой страной в мире — мечтала Элла Борисовна — тогда бы вы не родились — вмешался Сисин — а это еще не известно — сказала Элла Борисовна с вызовом — мои родители не были случайным семейством! — Марк Шагал в личной жизни был мелочным человеком — мимоходом поделилась она воспоминанием — майор объяснил, что нельзя близко подходить к передатчику — можно от резкости голоса обосраться — они залегли на противоположном берегу озера — они должны были записать текст листовок — ничего не было слышно, кроме хрипов — Сисин лежал в траве и кусал травинку — в армию он взял сценарии Бергмана — он хотел выбить армию скандинавской культурой — ночью ушли в самоволку — ползли к бабке за водкой — как увидели машину с офицерами, бросились в канаву — молодая жизнь была полна ярких красок — пролежали в канаве час — оказалось: — шлагбаум — сделали марш-бросок — в лесу насобирали большое количество грибов — варили в ведрах — ели — не отравились — Сисин нес огнемет — он рассказал всем, что у него прошел порез, но он снова наклеил на здоровое горло пластырь — лейтенантики были провинциалами — боялись московских студентов — однако старшие офицеры были суками — их выстроили перед столовой — курсант Сисин, три шага вперед! — Сисин вышел — перед ним стоял полковник-командир — это что у вас? — спросил Рубинский, указуя на пластырь — рана — сказал Сисин — иначе говоря, порез — однажды их подняли по тревоге — Сисин спал на втором этаже нар — под ним спал тихоня-педераст — в университете он получал хорошие отметки — Сисин со священным ужасом смотрел на спящего деревенского педераста — педераст — надо же — Красиков знал службу — их сгубил юмор — от меня до следующего столба шагом марш! — капитан обиделся — стенгазету запретили — все ушли маршировать — казарма приобрела домашний вид — громко квакали лягушки — Сисин писал Ирме сентиментальные письма — называл ее ласковыми словами — Красиков предложил выпить — закусить «Аленкой» — буфетчица, поколебавшись, налила по стакану — было девять часов утра — преодолевая отвращение, Сисин выпил — их в окно заметил сержант — он подмигнул — завидуя — порез, товарищ полковник! — Рубинский был начальником сборов — Сисин был тогда еще не Бог — он был солдат — курсант — солдатик, пропусти — нельзя — сказал Сисин — стреляют — по тревоге все быстро оделись — выстрои лись — капитан спал под деревянным крыльцом казармы — разошлись — пошли спать — снимите пластырь — приказал полковник — не могу — сказал Сисин — там рана — мне больно — отправляйтесь в санчасть — приказал полковник — без справки не возвращайтесь — Сисин, горестный, отправился в санчасть — он боялся, что его отдадут под трибунал и расстреляют — в санчасти никого не было — Сисин сидел на крыльце и курил — пришел лекарь — что у тебя? — понос? — Сисин боялся военных лекарей — они заставляли приседать голыми — разденьтесь до пояса — он разделся — врач послушал сердце — снимите трусы! — нагнитесь! — раздвиньте ягодицы! — Сисин умирал от сладости унижения — он всю жизнь мстил армии — раздвигая жопы, как кусты — его волновала беспомощность ануса — на диване на Сретенке сплелись четыре девки — у всех на грязных ногах синяки — в черных плавках Нюшка была лесбийским атаманом — она их по очереди переебла двумя пальцами — она ебла их, как будто стреляла из пулемета «максим» — Сисин сидел и смотрел, подперев кулаком щеку — девки перепились — Тома бегала за водкой — у нее из майки ненароком выскочили грудь и крест — Нюшка схватила ее за шею голыми ногами, как клещами — наверху красовалась черная Нюшкина пизда — Нюшка нажралась крутых колес — запила водкой — ей бы проблеваться, а она водкой — верная Бормотуха — она постоянно по-мелкому обворовывала Сисина, но тот ничего, не издал ни звука — она переметнулась к девкам — призналась Сисину в любви — найди мне мужа — девки проснулись в обнимку с медленно остывающей Нюшкой — визгу было! — врачи не ехали — надели ей черные плавки из вежливости — перед милицией — двадцать два года — жара — почернела — запахла резко — из нее потекло на диван — и на Ти-и-ихом океане (взявшись за руки, вполголоса пели девки) свой закончили па-аход — диван провонял — хозяйка Бормотухи подняла крик — покупайте новый диван — вы чего, откуда у нас деньги? — Сисин с удивлением поправил на себе маечку — изо рта у него свисал нательный крест на цепочке — ну, ты срезал ее по низам! — одобрила его Тома — Сисин выплюнул, как свисток, слюнявый крест — он сидел и смотрел, подперев кулаком щеку — расскажи еще — требовала Манька — она много пила, и вместе с ней на диване засыпали разные мужчины — Сисин был этим огорчен — он боялся, что ее нельзя брать замуж — родственница — он боялся, что после замужества из Маньки выползет таракан — сама расскажи — тебе будет неприятно — расскажи — Манька рассказала, что пока они не виделись семь месяцев, она трахнулась с двумя — у одного был ленивый хуй-губошлеп — у другого, напротив, буравчик— но тебе ведь это неприятно? — Сисин не знал, что ответить — расскажи — она кончала под эти сказки — но потом пользовалась информацией, чтобы лучше понимать Сисина — Сисин не понимал сам себя — понос? — нет, порез — покажи — Сисин показал на адамово яблоко — полковник требует справку, что там порез — военврач смотрел на Сисина — покажи — Сисин сорвал пластырь — тяжелый случай — серьезно сказал врач — есть еще пластырь? — есть — сказал Сисин — лепи! — Сисин наклеил — врач выписал справку — Сисин сказал: — за мной пол-литра — врач покачал головой — откуда такая доброта? — думал Сисин — он не знал, что все, включая доброту, заранее предусмотрено — или не все? — Сисин явился к полковнику со справкой и новым пластырем — полковник посмотрел справку и в бешенстве бросил ее на стол — они были с глазу на глаз — слушай — сказал Сисину полковник Рубинский — поверь мне: только через мой труп ты сдашь экзамен — труп — Сисин хотел упасть на колени — он хотел во что бы то ни стало сдать экзамен — иначе жизнь будет пустой и серой — товарищ полковник! — Рубинский был похож на александровских генералов — только без бакенбардов — вон! — крикнул полковник — закрыть дверь с той стороны! — Сисин молча вышел — чуть не плача — Рубинский на ветер слов не бросал — в тамбуре били стукачей и предателей — поезд шел обратно в Москву — Сисин был приговорен — все знали, что Сисин не сдаст — мало кто его жалел — через неделю госэкзамен — были ли у Сисина друзья? — он решил все вызубрить и сдать — но он не учил военное дело три года и ничего не знал — он знал только, что армия — это говно — но это было не очень серьезное знание — воспоминания в обратном порядке пронеслись в сисинской голове — когда Жуков достал пистолет — не стреляй, сказал Сисин — я пошутил — Жуков медлил — я слишком поверил тебе — сказал Жуков — Сисин вошел на военную кафедру — он показал дежурному красный картонный пропуск с золотой звездой — коридор был в багрянце и золоте музейной славы — мировой бестселлер: «калашников» в разрезе — боевые, пробитые вражеской пулей потемневшие плюшевые знамена — однофамилец Жукова во всю стену с биноклем на фоне надолбов, «катюш» и салюта — маршал Конев с лицом-колобком на героической переправе через Вислу — они умели крупно побеждать — устав караульной службы в картинках — Сисин невольно залюбовался — лишь один полковник Рубинский портил всю эту красоту — как будто разжалованный, лишенный погон, висел он в своей черной рамке — и даже ордена не спасали его от бесчестия — от чего он умер? — обернулся Сисин к дежурному — а хрен его знает! — откликнулся дежурный без всякого воинского сочувствия.
Преступление против человечества
Как же ты его? — прошептал Жуков — отставив от себя подальше банку датского пива — в знак особого неудовольствия — Сисин молчал — водил пальцем по дачной клеенке — в окне падал снег — агент незаметно сунул ему записку — читайте — что это? — читайте — вербует — решил Сисин — не буду читать — ну, прочтите — взмолился Валентин — Сисин развернул скомканную бумажку: — испытавши все возможное, даже горечь коллективного устройства, передовое человечество должно будет неизбежно впасть в глубочайшее разочарование — убогое воображение плодит дьяволиаду — недовольно заметил Сисин — почему ты их — Жуков поправился — почему ты нас всех так сильно не любишь? — не в этом дело — сказал Сисин — как же ты насуничтожишь? — Жуков снова приблизился к банке — милый Аполлон, не в этом дело — я люблю Божественный проект — надо стереть все эти надписи с доски — начать заново — никто не пропадет — все будут размещены — Жуков наморщил лоб — как? куда размещены? что ты несешь! — неважно — во всяком случае, не в газовую камеру — нужно предотвратить эту энтропию — зачем попусту терять столько энергии? — ты жесток, Сисин — жесток и необычен — нет, Аполлон — просто пора начать все заново — как в сказке — может быть, с третьего раза получится — и потом, все правильно — все ритуально — подходит круглая дата — пора перемен — послушай, если ты не врешь и не сумасшедший и все это правда, ты понимаешь, на что ты идешь? — что мы тебе сделали? — Сисин молчал — по сравнению с тобой все исторические злодеи, начиная с Герострата, покажутся мальчиками — Сисин задумался — мы помогли вам: подбросили пленочку — халатик сдергиваем — хуйчик показываем — циник вы наш незабвенный! — Сисин сел на кровати — так это вы, сволочи! — вскричал Сисин — замахнулся подушкой — ай-ай, вот уже и сволочи! — какие красивые утки, вы не находите? — нахожу — куртуазно сказала Маня — вам не кажется, что пища, которую мы ели в индийском ресторане, была несколько эзотерична? — пожалуй — но после всего того, что накопило человечество! — юманитэ! — захохотали в телефон — умора! — так что же оно накопило? — ну, я не знаю — смутился Сисин — Шекспира, Толстого, Канта, Микеланджело — кого называют в подобных случаях? — браво! браво! — умора! — Жуков! ты понимаешь, чего они захотели? — Жуков вспомнил, как они с Ирмой освобождали Сисина из лечебницы, куда он был доставлен за безумную рукопись ВП— а религиозные навыки! — все религии мирa! — полеты, наконец, в космос! — это вызвало очередной приступ радостного визга и ликования — ценим! любим! — вы написали неслабую книжку, но мелковато, конечно, поверхностно — сворачиваем скатерть-самобранку — значит, поедем в Америку? или в Африку? — к арабам не желаете? — арабы очень поучительны — чем? — у них глазки живые, выразительные — как на эмали! — отстаньте вы со своими арабами! — да мы вообще только так, совещательный голос — а смерть полковника? — единственный случай! — но был же! был! — мы связаны кровью, товарищ — понимаешь, я стал думать — простые вещи — попал в лапы этих, нижних — влип, как Фауст или не знаю кто еще — но, ты понимаешь, мне показалось, там было такое разочарование — этот самый, как его? смех сквозь слезы — это как раз меня и насторожило — а любовь? — так ты имел все варианты! — и это всё? — ни хуя себе — задумчиво пробормотал Сисин — я какой-то лжене знаю кто — мы тебе самых лучших, а ты нос кривил! — отборных! выставочных! — эксклюзивных — мууууууууу!!! — пора закрывать занавес — Папашка ваш устарел — они склоняли меня занять его место — чтобы я выступил на сей раз не с чудесами и спасением — а со спуском пожарного занавеса — а Крокодил с Бормотухой с утра, выпив джина с тоником: — уничтожать — это уже не модно! — не модно? а что теперь модно? — Рыжий Крокодил подняла меня на смех — фи, кролик!
Мимоза — сюда Сисин приезжал со своей Сарой — она была лихая — он был влюблен — потом она мучилась нервами и сходила с ума — принялась нюхать кокаин — мы вместе нюхали — когда милиция приехала, они сказали: ну, и где труп? — с подозрением — я сказал: поднимитесь наверх — там они долго топали сапогами — потом спустились — один остался со мной — с пушкой наперевес — ну, и где труп? — наверху — где? — нет — значит, воскрес — странно только — не дожидаясь третьего дня — я не силен в христологии — третий ли день? — Сисин тоже не был силен — когда его назначили сыном-внуком — называйте как хотите — он сказал: назначили бы лучше какого-нибудь попа — что я знаю о Папе? — Папе! — Сисин заразительно захохотал — придется почитать — по истории православия — как вы сквозь грязь и драки лепили его образ — все это не смешно — все это говорит о значительной степени деградации — назначить кого! — Сисина!!! — я поверил — они говорят: поехали с нами — невежливо — по дороге мне в голову пришла незатейливая мысль: если они не нашли, то зачем мне брать на себя — если он воскрес — то — мстил ли его Отец тем, кто приколачивал его к кресту? — где они, простые труженики Голгофы? — я тоже — ну, если по совести — если у них такаясемейная традиция — я от близости к ним имею право на богохульство — на самом деле мне страшно до липкого пота — пишу и боюсь — даже креститься боюсь! — на самом деле я закопал его в саду — у меня были подготовлены виза и паспорт — я ехал во Францию — господа судьи! — Сисин написал книгу, которая без преувеличения обошла земной шар — не хочу заниматься ее рекламой — и так, куда ни плюнь — везде Сисин — на родине его ругают — он едет на Запад — и быстро его покоряет — ты знаешь, Жуков, доверительно сообщает он мне, я покорил Запад — но это не моя заслуга — я небесный шпион — с подложным паспортом — посильней ватиканского — между сном и явью мне стали являться голоса, как будто по телефону — я стал прислушиваться к разговорам с явным ущербом для здоровья — он хмыкнул — я думал, от него отвернутся женщины, поскольку он написал книгу, где выставил их как? — неважно — но они продолжали вешаться ему на шею — по этим телефонным разговорам он понял, что может настраиваться на что-то нематериальное — хотя потом он говорил, что слышал это не всегда — милиция отвезла меня в милицию — я там сделал вид, что мне все примерещилось — они хотели отдать меня на экспертизу, но вместо этого только дали под жопу ногой и выставили за дверь — успокойся, Сисин, я знаю, что я не такой талантливый, как ты — однако благодаря убийству тебя я стану гениальным мастером слова — во всяком случае после того как я выстрелил в Сисина и бросил пистолет — заранее приготовленный — я купил его у армянина за немалые (для меня) деньги — Сисин пропал — он был — был на даче — а тут пропал — был — пропал — даже если я несколько спятил в результате его рассказов — он сеял безумие вокруг себя — Сисин был — он был моим другом — мы вместе прожили полтора года — он меня трахнул и даже отчасти женил — пригласил на девичник — сказал: я переебся — хочешь, поделюсь? — я думал: бляди — приезжаю: интеллектуалки — о Блоке ведут разговор — Сисин сидит между ними, как Калигула — никогда не прощу — мы улеглись вчетвером — потрахались — потом я на диванчик — Сисин говорит: иди на диванчик — тут тесно — я пошел — лежат девки — о Блоке говорят — в пиздах и в жопах друг у друга ковыряют — мир полон соответствий — страшное дело — иди — говорит — на диванчик — тут тесно — он еще издевался — что я туго кончаю — он говорит — Мармеладовна — так он звал Соню — помассируй ему яйца немножко, а то он у нас до утра не кончит — я говорю: — зачем ты так говоришь? — Сисин говорит — ну, кончил? — иди на диванчик — и я пошел — лежу — вдруг она встает — и приходит — можно к тебе? — я подозрительный: тут тесно — в тесноте не в обиде — он тебя, что ли, подослал? — нет, сама — я помню, как Соня встала и пришла — и уже больше никогда назад, и все правильно — но у него зарубина в мозгу.
Бархатные глаза — именно бархатные — я люблю эти глаза — Манька пьет, как лошадь — литр водки за вечер — ее мама из княжеского рода — у них на Кавказе все князья — развал очарования — планы — у нее зрачки всегда в тени — солнце не проникает сквозь густые ресницы — ты меня любишь? — да — очень-очень? — очень-очень — очень-очень-очень? — очень-очень-очень — нет, правда? — правда — правда-правда? — правда-правда — правда-правда-правда? — правда-правда-правда! — а я какая? — я знал, что она имеет в виду, но обязательно спрашивал: в каком смысле? — ну, я уникальный? — она любила говорить о себе в мужском роде: я проснулся — я пописал — Сисин смеялся: — Манька, скажи: я потрахался— отстань! — обижалась — Сисин заверил: уникальный! — развей! — Сисин покорно развивал — он знал, что главное: поприторнее, посиропнее — а кого ты любишь больше меня из женщин? — никого — значит, ты любишь меня больше всех на свете? — больше всех на свете — я люблю ебаться — призналась Манька, развалившись под странным углом на кровати — на плохом английском она говорила сыро и конфузливо — она была уродом изоляционизма — узнала о смерти бывшего мужа Аркашки — приехала — напилась — сначала рассказала об Аркашке — любителе жизни — она хотела рассказать прочувствованно — как он в теннис играл и любил жрать шашлык — но вышло бледно — неубедительно — потом она рассказала, как ходила с Гулей и ее сирийцем в казино — Сисин взял и стал читать сценарий — я тебе мешаю? — мне надо ехать — она сидела пьяная на полу — а если бы гости приехали? а ты на полу, пьяная! — какие гости? — и, в самом деле, какие? — если несчастье, умер бывший муж — которому я однажды — раз в жизни разговаривал по телефону — с какой-то особенно резкой еврейской фамилией — я встал и уехал к Бормотухе — в конце концов, гений — это терпение — сказал: к американцам — когда вернулся, спала — проснувшись, принялась допивать водку — ну, давай, наливай! — плесни! — тянула рюмку — послу плеснул в морду вином — больше не приглашали — кончился светский период — Ирма обоссанность себе никогда не позволяла — ни запаха от нее, ни-ни-ни — а эта еще до замужества, до всего, напозволяла себе — до какого свинства она дойдет — пользуясь извинительными обстоятельствами — между ног на джинсах большое пятно — расплывалось — ты посмотри, сказал Сисин — она зажала ноги — я не брезглив, но, знаешь ли — она положила ногу на ногу и всхлипнула — Аркаша умер — снова всхлипнула — выдернула из джинсов мятый платочек — огромное варево черных окровавленных волос на лобке — пиздячье спагетти — обожаю — я встретил якутку Клару — якутка сказала: еще нужно разобраться, кому нужны спектакли хунт и путча — я приеду к тебе на родину внедряться в шаманов — говорил Сисин — якутка звонила и говорила: здравствуй — так твердо говорила, со значением — как у тебя дела? — Сисин брал на себя все остальные тяготы разговора — он ежился от мысли, что у якутки есть душа и своя психология — Манька натянула трусы — ты бы хоть побрилась как-нибудь — думал он, подозревая себя в расизме — надо гнать всех арабов вон с Лазурного берега — но она никогда не побрилась — якутка, напротив, была совсем бритая — строгая — в рот не брала — демонстративно отворачивала свою якутскую голову — надо же! — и во все стороны лезут волосы из-под трусов — во все стороны — Манька опасалась: начнет брить, волосы отрастут до колен — у нее, видимо, были на этот счет опасения — якутка вошла в спальню в лучезарной комбинации, с презервативом в зажатой ладошке — черноусая Манька.
Люблю свои усы — а еще чего ты любишь? — подвыпив, он сказал: ты должна будешь сильно измениться — его раздражала эта смесь инфантильности и претензий — нет, из всякой бабы, конечно, лезет инфантильность — даже Сара играла в девочку-козочку — но все-таки не до такой же степени! — сильно измениться! — стать взрослой, энергичной, самостоятельной, деятельной, наконец — не валяться вот так на диване — она сказала потом: ты показал зубы — боюсь, она не точно поняла — вот именно, боюсь — я ее целиком придумал — мудак — а если ты царь? — живи один — к кому поедет она напиваться, когда подохнет — по определению Ирмы — Сисин? — уже почти беременность — пьет только пиво — три литра выпила — открой банку, я не умею — не умела открывать банки с пивом — наутро хлынуло! — она не скрывала тяжелого разочарования — выйдя из ванной с осунувшейся мордой — попереживав, она предложила мерить температуру каждый день — когда поднимется в попе до 37° — трахаться немедленно — по три раза в сутки — по утрам лежала с градусником в попe — градусник, лежа на туалетном столике, странно пахнул — недостаточная, недоброкачественная любовь — я, наверное, любовный тихоход — и при этом ты называешь себя внуком? — она считала себя неотразимой, а была все-таки отразимой — в ней не хватает самоиронии — чего захотел! — да, но менять — но у тебя же дно — да, дно — и? — Манька сказала с такой неуверенной уверенностью: супов из пакетиков больше не будет — зато будет суп-харчо — в профиль усы торчали щетиной — убеждавшая меня, что не будет никогда стариться, она к тридцати уже подурнела — нежелание ничего менять — она могла победить? — наверно, могла — и ты бы с ней жил? — хрен знает! — Сисин потер лоб — я зацепился за гнилой хвост приволжскойЕвропы — она обещала увести меня от варварства — я остался с этим хвостом — его можно использовать, как веник, для уборки квартиры — но в нем нет щедрости понимания и широты — в хвосте.
В липком Нью-Йорке они с Воркутой поссорились — литературно-художественная пара — высокие друзья Кевина Росса — до которых тот едва дотягивался — вставая на цыпочки — обреченный на пожизненное профессорство — абстракционизм, теннис, зачатки феминизма, журнальный блат, французский язык, тосканские каникулы, очки для чтения, склонность к вегетарианству, подавленная нервозность — коннектикутский синдром — позвали его на ужин в чужой дом — как экзотику — он захотел было взять Воркуту с собой — ему дали понять, что не надо — он не захотел этого понимать — стал настаивать — вы с ума сошли — вы знаете, к кому мы идем? — Сисин понятия не имел — Сисин оставил Воркуту у Берманов — та надулась — они только что приехали из Флориды — она слишком рисковала ради него своим будущим — Кевин предупредил, что слухи разрастаются — ты что, уже перееб пол-Америки? — Берман в присутствии Воркуты продолжал учить Сисина, как жить — Сисин думал: — мудак! — учит Бога! — но ничего не сказал — ну, я пошел — Воркута со слезами на глазах уставилась в Чехова — я скоро приду — он понял, что богам удобно быть скромными — он сильно поскромнел, входя в положение — нужно бережнее относиться к семье — горбоносенькая написала длинное письмо — I… you [35]— скулила она — согласно твоему желанию и настроению, поставь вместо точек: a) love, b) like, с) wish, d) want, e) miss [36]— Сисин не знал, что ставить — он порвал письмо на всякий случай, не перечитывая — сидела в холле гостиницы «Кавур» в зеленом платье и зеленых тапках — едем! — брат дал ключи от квартиры — у брата смотрю: сиськи стали больше — выросли — сама здоровее и краше — русских немало книг — одно и то же — раннее замужество — раннее разочарование — и тут появляется неотразимый Сисин — с руками, как у микеланджеловского Давида — ты совершенен — беллиссимо! [37]— а ей уже тридцать — не забудь надеть галстук — на Исте, в районе 70-х улиц — он позвонил в дверь — открыла негритянка в белом переднике — на стенах мондрианы-малевичи — стремительно вышел человек с лицом, сильно тронутым дегенератством — поволок пить аперитив — в Нью-Йорке о нем много сплетничали, рассказывали разное — в основном завидовали и не любили — они познакомились — Америка принимает по первому классу — Америка опускаетне сразу — в среде коннектикутских интеллектуалов Сисин сдал вступительные экзамены — за дружеским ужином он выдержал перекрестный допрос — вопросы сыпались ему на голову — вдруг, через четверть часа, все прекратилось — заговорили о другом — он прошел— а этот ваш Жуков — сказала литературно-художественная пара — мы виделись с ним в Москве на коктейле — он похож на приказчика в галантерейной лавке — n’est-pas? [38]— Сисин уклончиво пожал плечом — во всяком случае шейные платки не очень идут к его шее — заметил он — к столу — к столу — вокруг строго встали радушные черные слуги — ели нежирное, тихое, нежное — Сисина рвали на куски, как экзотику — он едва дотронулся до закуски — ухватил артишок — тарелку забрали на вопросе о глобальной роли русской армии — рыбное филе он только раскрошил — рассказывая о музее Сталина имени Ленина в Гори — наконец, хозяйка взмолилась — оставьте его в покое — пусть ест — смеялись — в салон подали кофе — голодный Сисин жадно ел соленые орешки — свинячась — я вам кое-что покажу — сказал Фил — они вдвоем прошли в библиотеку — этот человек держит в своих руках большинство газет и журналов — встает в 4.30 — манипулирует сознанием — безжалостен к подчиненным — выгоняет без предупреждения — неумолим — ты ошибаешься насчет американской демократии — все схвачено — все напоказ — Берман гордился знанием элитной жизни — он знает, о чем говорит — он ловил лососину на Аляске, на Русской речке, с владельцами жизни, которые меняют собственные самолеты каждый год — Сисин покорно слушал — Фил провел его в свою библиотеку — бесчисленные застекленные шкафы из тиса были заставлены собраниями сочинений, а также разрозненными томами, томиками, альбомами, мягкими переплетами, листовками, грошовыми брошюрами — тут был собран Сталин на всевозможных языках земного шара — я собрал все, что мог — сказал Фил — специально инкогнитоездил в прошлом году в Ханой — но вот в Гори я еще не был — посреди большой комнаты на бархатной тумбе стоял гранитный макет мавзолея на Красной площади — на его фронтоне значилось только: СТАЛИН — ну, конечно, сказал Сисин, любуясь мавзолеем, двух солнц на небе не бывает! — как вы относитесь к нему? — Сисин помолчал и вдруг вскинул палец вверх, улыбаясь — он мог победить! — мог? — обрадованно переспросил Фил — ясное дело, продолжал улыбаться Сисин, но ему не хватило стойкости — дрогнул — не дотянул — бороться за мировое торжество кока-колы Евгений Романович не собирался — Сисин понимал, что свобода — это роскошь — что политеизм — тоже роскошь — что захочется приползти к личному иконному Богу — он сдержанно относился к философскому жеребячеству — он боялся, что пропах своим временем — Сисин боялся метафор — Сталин, конечно, главный герой нашего времени — Сисин поднял бокал — за уничтожение всех врагов до конца, их самих, их рода! — мы, наверное, и Стасову арестуем — сволочь оказалась — дорогая мама! — здравствуйте! — живите десять тысяч лет — ведь я могу учиться, читать, следить каждый день, почему вы этого не можете делать? — не любите учиться, самодовольно живете себе — растрачиваете наследство Ленина — но я вам покажу, если выйду из терпения — Сисин захлебнулся от выпуклости сталинской мысли — вместе с Филом они выплыли за маяки — вы прекрасно знаете, как я это могу — так ударю по толстякам, что все затрещит — в глазах Ворошилова показались слезы — в глубине души Сисин понимал, что Сталин чуть-чуть простоват — можно было бы развлекаться лучше — эстетически недоразвит — его кайф был мутным, не чистым, не истинным наслаждением — в его сознании битое стекло — но, выбирая претендента на звание человека века, следовало все-таки выдвинуть его — другого не было — don’t drink too much [39]— don’t fuck too much [40]— он снова посмотрел на полки со Сталиным — не выдержало человечество мечты о великом братстве — осрамилось — ну и ползи назад, ползи, сволочь — там будет сытно, там будет тебе по размеру — возвращение России в рамки цивилизации — подлинная драма — не спеша развел руками Фил — если Россия не войдет в цивилизацию — будет плохо для нее и других — кровь — дикость — нехорошо — но если она войдет, будет чудовищно! — будущего не будет! — все правильно — подтвердил с удивлением Сисин — откуда вы знаете? — я хотел найти достойную страну — а нашел — тоска, блядь — не русское это дело: жить в Америке — зато есть такой час, когда Говяжья Вырезка становится красивой — лучший момент Манхэттена — предланчевая пора — предланчевый парад клерков, с чувством выполненного долга идущих перекусить — этот парад — под фейерверк дразнящих аппетит запахов — куда убедительней общегородского разношерстного парада на Лейбор дэй — еще мгновение, и все эти загорелые «белые воротнички» затянут общую песню — но, очень похожие друг на друга, они считают себя слишком разными, чтобы составить хор — песня не получается — Фил смотрел на него неотрывно — да — подтвердил Сисин — единственно правоедело — но сорвалось — Фил закивал-закивал и сказал совсем по-американски: — а как нужно было? — Сталин был последний шанс — ответил Сисин — из салона их звали к общему разговору — сейчас-сейчас! — послушайте — сказал Фил — я могу поцеловать вашу руку? — Сисин мягко в ответ: — кто убил полковника Рубинского? — не я! не я! — обрадовался Фил — перестаньте паясничать! — поморщился Сисин — почему с Воркутой я должен ходить ебаться в ядовитых кустах, где комары жалят меня в зад? — ну, значит, такой порядок — снова развел Фил руками — он взял Сисина за локоть — зачем вы медлите? — я изучаю нравы — сказал Сисин — ну и как? — вкрадчиво спросил Фил — за столом вы бранили Америку — резиновый народ — сказали вы — приятно слышать — я рад вашему разочарованию — значит, вы способствуете полному разложению? — я делаю все, что в моих скромных силах! — просиял Фил — чему вы их учите? — ничему! — ликовал Фил — я кормлю их отборнейшейпадалью! — он захохотал — я встаю до восхода солнца, как повар — иду к котлам — бросаю в них дохлых кошек, с гниющими потрохами, с волосами — я строго слежу за ИХНЕЙ диетой — мне это знакомо, насчет кошек — улыбнулся Сисин — значит, мой советский столяр-рогоносец— кто? — ну, с оптимистической бородавкой! — был прав в своей зоологической ненависти к этойстране? — разумеется, полный bien sûr! [41]— Фила уже переполнило счастье — я сверял мой маршрут по кремлевским звездам — он перешел на шепот, хотя в комнате никого больше не было — я безжалостно гоню с работы людей, которые мне мешают — наммешают — я уверенно веду поезд к крушению — словом, я ваш — ваш — ваш — значит, всех уничтожить? — сами знаете — сказал Фил и поклонился, почти как японец — слушайте, сказал Сисин, я вас прошу, не превращайтесь на глазах в комикс — потерпите — побольше человечности — поменьше фанеры — я знал, что вы в Америке — признался Фил — я не спешил с вами встретиться, боялся, что после России вы будете поначалу, по-эмигрантски, приятно обрадованы — я не хочу уничтожать юманитэ— сказал Сисин, мерзко произнося французское слово — да? pourquoi? [42]— удивился Фил — кстати, тут никто не знает французского — я знаю: ордюр [43]— гордо сказал Фил — нет-нет, даже и не сомневайтесь! — спросите меня — вот как раз вас я бы и не стал спрашивать — с отвращением сказал Сисин — Фил захохотал — чем больше я в Америке, тем здесь мне хуже — пожаловался Сисин — иду по лестнице, ведущей вниз — ё? — совсем робко попробовал Фил — ё? — ё! — ёёёёё! — Сисин посмотрел на него — отставить! — вы даже со мной ведете себя развязно — сказал Сисин — ну, и народец! — верно! верно! — Папашу приспособили для своих целей — но у Папаши бесконечное терпение — остается удивляться — а вы уверены? — спросил Фил — нет — сказал Сисин — жена Фила вошла в библиотеку — вы что тут? как вам мавзолей? — Сисин ей улыбнулся — замечательный мавзолей — Щусев был бы счастлив — что касается меня, то я обожаю Шехтеля — с выражением сказала жена, расширив глаза — сейчас мы придем, бижу! [44]— сказал Фил — жена вышла — она у меня искусствовед! — сообщил он — как приятно, когда мужья гордятся своими немолодыми бижу! — промолвил Сисин — Фил бросился на колени и поцеловал Сисину руку — дегенерат! — обозлился Сисин — вы чего от меня хотите? — выжить? — не надейтесь — вы не лучше других — ничего — я совсем бескорыстно — я слышал, что вы остаетесь еще на какое-то время в Америке — хотите устроиться на работу? — давайте — заговорщицки — травить их вместе! — это таквесело! — Сисин молчал — я преподавал в колледже — я ничего не хочу — слушайте — сказал Фил — вы все еще сомневаетесь — но послушайте, что я вам скажу — вот телефон — он стал писать — я позвоню, предупрежу — вы поезжайте, не пожалеете — куда? — на Гавайи! — мечтаю с детства — сказал Сисин — вы знаете, в окне, на площади Маяковского, долгое время висел американский авиационный призыв посетить голубые Гавайи — Сисин вдруг увидел себя у плаката и пожалел, что вырос и переродился — позвоните — ничему не удивляйтесь — Сисин взял в руки карточку с телефоном — что за человек? — наш человек — ваш? — переспросил Сисин — не мой, а наш человек — наш? — наш! — там все станет ясно — что вы хотите: Полинейзия! — Сисин пожал плечами: до чего вы развязный! — вас я уничтожу первым — и будете правы! — обрадовался Фил — я такое ничтожество — что деньги! — что власть! — я съезжу — посмотрю — я его предупрежу — еще один маленький поцелуй.
Русская литература не справилась с иностранной темой — пошли в Люксембургский сад — пошли-пошли— или на кладбище — фотографироваться — слишком высоко залетела помойщица Манька — закурил еще одну (перестать курить) — все прокурено — прищурился — глотнул виски — она боролась с Западом — она не любила виски — он много курил — она еще больше курила — Воркута сунула в рот талон на выезд со стоянки аэропорта — везите ее осторожно, сказал он московскому таксисту, она из Чикаго — я бы хотел, чтобы она справилась с иностранной темой — ради смеха — чтобы на вокзале в Ницце, на дальней, четвертой платформе, где останавливаются TGV, презирая рамки русского романа, мы с Сарой выкурили марихуану, отойдя подальше от пассажиров — мы в ожидании четырнадцатого вагона, который не прицепляют в Болье-сюр-мер по непонятной причине — не хотелось в Париж — я культивирую редкие желания — Россия — все-таки капитал, его просто так не надо транжирить — не говорить днями на родном языке — жить на вилле американских миллионеров — Сара на компьютере пишет репортаж об очередной трагедии джунглей — трясет своими светлыми волосами — поехали в Ниццу на рынок? — за розовыми креветками! — она поднимает голову: люби Россию! — ладно! — обещает Сисин — море шумит мне в ухо — я стал предметом зависти французского туристического быдла— мне смешно, как обижаются люди, как они стараются быть корректными — мне нравится выворачивать их наизнанку — на аэродроме в Руасси разыграть сцену прощания — видеть, как от боли глупеет Сарино лицо — я мщу за мой несчастный народ — эмигранты не опишут, прижали уши от благодарности — так и помрут, не описав, в борьбе за кредитную карточку — владеть — мять — тискать — мне нравится, как они медлят и соображают, прежде чем отдаться — наконец, я нашел себе наперсницу — рано утром в бывшем Ленинграде мы сдали ее маму в раковый корпус — ну вот, теперь можно спокойно выпить — сказала Крокодил, выходя из больницы — почему всем нашим(сказала она с обидой) французское консульство прислало приглашения на прием 14 июля, а мне не прислало? — ты тщеславная сука! — обрадовался я — продайся до жопы за большие деньги — опиши в книжке свою жизнь — на хорошуюкнижку у меня не хватит таланта — сказала она со слезами на глазах — на конференции она произвела впечатление крайне самоуверенной особы — Крокодил со словами «мне кажется» стала трахать знаменитостей, чтобы понять гениальность изнутри — все сведения о гениальности она затем свозила ко мне — мы обсуждали достоинства каждого — покуда не надоело — в Праге смешалось все — какая, к черту, мужская дружба? — я, правда, не спросил, насколько лез, не хотелось вмешиваться — но знал, что Анджей лез крупно, под ночную рубашку, пачкаясь секретом — иначе Воркута не пожаловалась бы в письме — интересно все-таки, до какого предела — а такая подпольная дружба — договорились о статье против русских черносотенцев — бывший подпольный козел — конечно, при несвободе всегда приятнее — когда кончился коммунизм, все радовались, а я быстро догадался: — мир ослаб, как бельевая веревка — Валентин оказался прав — но что делать? — не поворачивать же историю вспять? — в спальне повис несмачный запах переволновавшейся женщины — между нами нет менструации — я тебя куплю со всеми твоими потрохами — дай кусочек курочки — почему ты не дал мне курочки? — они бы догадались о характере наших отношений — я себя чувствую с тобой пятиклассницей — прошептала Зина Спиридонова — я готова, но не до конца — наутро приехал племянник — было полшестого — забросили четыре спиннинга.
Перед грозой
Над Гонолулу набрякла свинцовая туча. Сисин вышел в роскошный сад. Вокруг все угодливо благоухало и лезло в глаза. Гордость островитян, исполинские ананасы, торчали.
— Что привело вас сюда, в наши райские кущи? — с ласковой улыбкой спросил Джон Третий, косясь на тучу.
С холма город виден как на ладони. Перед грозой он стал ослепительно белым, как мытая шея.
— Вы не похожи на туриста.
Сисин слабо махнул рукой.
— Я прилетел вчера пополудни, — сощурился он. — Взял напрокат японскую машину. Вещи оставил в гостинице. Подошел к Тихому океану. Не раздеваясь, в чем был, в кроссовках, поплыл. Отдыхающие смотрели мне вслед, но не смеялись. — Сисин смолк. — У здешних берегов вода оказалась теплой.
Джон Третий слушал внимательно.
— Когда я отплыл достаточно далеко, — продолжал Сисин, — я оглянулся.
Страдая крупным и мятым лицом, задыхаясь, хозяин уселся с помощью палки в качалку. Здесь, на островах, он владел несметными угодьями, плодороднейшими долинами, горами с мягкими очертаниями, лесистыми склонами, стадами коров, коз, баранов, двумя вулканами, водопадами, родственниками, вассалами, прихлебателями, гибкими сопливыми мальчишками, собственным флагом и флотом. Казалось, даже гавайские радуги, величиной с полнеба, тоже принадлежат ему.
Потомок свободолюбивых туземных монархов, он посвятил всю жизнь воспеванию и ренессансу родного края. В своих былинах, легендах, стихах и поэмах, романах и повестях Джон Третий состязался в патриотизме не с кем иным, как сам с собою, упорно и вдохновенно, и победителем неизменно выходил его мягкий, красивый народ:
Сев в качалку, Джон Третий проникновенно посмотрел на Сисина, словно желая удостовериться, что тот ему не мерещится.
— Тоска, — односложно и вместе с тем честно признался гость, вскинув голову.
— Вот как? — поднял брови старый поэт, пораженный честностью русского человека.
Сисин молчал, грустно глядя на притихший Гонолулу. Испуганные громким выстрелом Перуна, игрушечные машины бросились врассыпную с интерстейтского фриуэя.
После вечерней прогулки отворив свой номер в гостинице «Вайкики», выстроенной в стиле полинезийского вигвама возле изумрудного океана на прибрежном бульваре Ала-Моана, он был сражен. Комната утопала в цветах. В продолговатом бамбуковом футляре он нашел пахучую гирлянду. Тут же в восторге надел на шею. Бросился к зеркалу. «Милый Джон…» Так и заснул, с цветочной гирляндой на голой российской груди.
— Вы не похожи на туриста, — пробормотал Джон Третий.
Сисин слабо махнул рукой.
— Я прилетел вчера пополудни, — сощурился он. — Взял напрокат японскую машину. Вещи оставил в гостинице. Подошел к Тихому океану. Не раздеваясь, в чем был, в кроссовках, поплыл. Отдыхающие смотрели мне вслед, но не смеялись. — Сисин замолк. — У здешних берегов вода оказалась теплой.
Джон Третий внимательно слушал.
— Когда я отплыл достаточно далеко, — продолжал Сисин, — я оглянулся.
Чем Джон Третий кормил Сисина за обедом?
Бесчисленными дарами здешнего моря?
Нет, Джон Третий не сделал этого.
Кружевными блинами с черной икрой?
Ни в коем случае. Хотя, конечно, мог накормить и так.
— Загадывайте желание! — заорал Джон Третий, когда десять слуг внесли на вертеле какую-то тушу, капающую соком и кровью. — Клянусь памятью моей досточтимой матери, вы такого еще не едали!
— Кто это? — остолбенел Сисин, пристально вглядываясь в тушу.
За обедом, поплутав некоторое время среди сомнительной коллекции модных, крикливых книжных новинок, которая их обоих не удовлетворяла своей дешевой рыночной принадлежностью, они нежданно обнаружили родство душ в беседе о двух писателях, чьи имена были им бесконечно близки.
Конечно, Сисин как русский читал Льва Толстого в оригинале; Джон Третий — всего лишь в зыбких английских переводах. Однако Джон Третий прекрасно владел биографией, так что, случалось, Евгений вынужден был помалкивать, выслушивая как откровение некоторые подробности жизни в Ясной Поляне, которую славный гавайец описывал так, словно сам был ее скромным, но созерцательным участником. Когда же, несколько все-таки уязвленный, Евгений заговорил о работах Эйхенбаума, Джон Третий вынужден был признать, что слышит о них впервые, и бурно заинтересовался генезисом «Войны и мира».
Зато Пруста и тот и другой прочли по-французски и даже по этому поводу на какое-то время, в знак уважения к французской культуре, перешли на язык создателя Свана и продолжали бы так, если бы не появление служанки-филиппинки, которая, застыв у порога столовой, от нерешительности не могла сделать ни шага. Джон Третий ласково, хотя и не без раздражения, подбодрил ее по-английски, и разговор вновь перешел на язык американской демократии.
— Тоска, — односложно и вместе с тем честно признался гость, вскинув голову.
— Вот как? — поднял брови старый поэт, пораженный честностью русского человека.
Евгений молчал, наблюдая взволнованную природу. Наблюдая взволнованную природу, Евгений невольно вспомнил о том, что перепуганная женщина выделяет, как правило, довольно резкий запах. Возможно, неприятный запах призван остановить насилие, но все-таки он недостаточно резкий, не то что говно или труп, так что природа, хотя и осуждает насилие, однако не окончательно.
— Вы не похожи на туриста, — пробормотал Джон Третий.
Евгений слабо махнул рукой.
— Я прилетел вчера пополудни, — прищурился он. — Взял напрокат японскую машину. Оставил вещи в гостинице. Подошел к Тихому океану. Не раздеваясь, в чем был, поплыл. Отдыхающие смотрели мне вслед, но не смеялись. — Евгений замолк. — У здешних берегов вода оказалась теплой.
Джон Третий внимательно слушал.
— Когда я отплыл достаточно далеко, — продолжал Евгений, — я оглянулся.
Яхты, баркасы, шхуны, шлюпки, шаланды, полные фруктов открытого моря, пир оги туземцев, мещанские ботики, — одним словом, весь этот жалкий гражданский флот брал курс на рыболовецкий порт, спешил пришвартоваться в небытии. Зато в военном порту, небезызвестном Пирл-Харборе, шел бойкий обмен. Несмотря на ненастье, пропавших без вести героев меняли на клюшки для игры в гольф. Японцы все ж таки превратили Гавайи в свой японский спортзал.
Над Гонолулу набрякло. Стайкой над аэродромом кружат серебристые лайнеры, в нетерпении ожидая приглашения на посадку. Лишь один океан, распростершийся до горизонта, держится невозмутимо, хотя и насупленно.
— Вы не похожи на туриста, — пробормотал Джон Третий.
В общем, хуй знает что — остались разрозненные магнитофонные пленки — Сисин сопит, пьет, взволнован, запиши, спрячь, втягивает меня, я обещал, но не смог, он писал рапорты, какие-то несвязные записи, он позвонил: приезжай на дачу — мы с ним давно не виделись — прошлись по вечернему лесу — долго не гасло майское светило — он остановился перед березой — вид у него был несвежий — сказал в задумчивости: красивое дерево — я спросил: что? — он сказал: в лесу хорошо дышится — не знаю, где ложь, где правда, где бред — я пытался что-то оформить, но что тут оформишь? — возглавь новую мировую религию! — это я-то? — с моей репутацией?! — а Блаженный Августин? — при чем тут Августин? — возглавь! — кто вы, ребята? — из какого небесного КГБ? — целый час тащил рыбу — она попалась на егоспиннинг — короткие поздравления с удачей — тащи! — его привязали ремнем к креслу на корме — шумел-стрекотал мотор — кричали что-то дико по-английски — от головокружения он позабыл английский язык — бледно улыбался — я справлюсь — я справлюсь — рыба была далеко — он крутил — он то отпускал — отпускай! — то крутил — он чувствовал большой вес рыбы — они носились по океану — проклял все на свете — но они завидовали ему — он хотел быть на высоте — в кресле — вдруг рыба показалась за кормой — казалось, ей не будет конца — она была такая огромная, что все рты открыли — даже самые бывалые — Сисин ничего не понимал в рыбной ловле — прибежал капитан — Сисин боялся, что рыба вырвет его из кресла, уволочет за собой и сожрет — у рыбы был длинный-предлинный нос — она могла пронзить Сисина насквозь — и очень сосредоточенные глаза — капитан сбегал куда-то вниз — Сисин думал: за пивом — ему не хотелось пива — его укачало — перед глазами прыгали кровавые мальчики — он думал — сейчас буду блевать — всё! — развлечение переходило в муку — волны шли одна за другой — где-то на горизонте противно качались Гавайские острова — не хотелось никакой рыбы — рыба всплыла за кормой — огромная торпеда с нежно-сиреневыми боками — племянник Джона, друг племянника, подруга капитана и сам капитан посмотрели на Сисина, как на неумелого бога — Сисин ободрал себе руки в кровь — кровь затекла под ногти — зеленую курортную рубаху хоть отжимай — капитан сбегал за пистолетом — он выстрелил раз — но ничего не случилось — во второй он попал — океан за кормой стал кровавым — винт разгонял пенящуюся кровь — они схватили гарпуны — долго возились — выволокли — рыба еле-еле поместилась на борту — Сисин, отстегнув ремень, ушел подальше от рыбы — его мутило от ее запаха — вцепившись в борт, он судорожно дышал — вернулись вечером — в порту при помощи лебедки племянник Джона, друг племянника и сам капитан подвесили рыбу на крюк — она болталась, как на виселице — Сисина поставили возле — подруга капитана сфотографировала — он вышел на поляроидной карточке смущенным — подоспели японские туристы — захотели сняться с рыбой и с Сисиным — пожали ему руку — поздравляли — он выглядел растерянным победителем — Джон Третий выслушал молча — наутро явился корреспондент «Гонолулу адвертайзер» с фотографом — фотограф был туземец — мы покажем вам, как притесняется туземный народ — мы покажем вам, что едим и пьем — что поем — как поем — Сисин похвастался рыбой — японцы снимали его возле порта, где рыбу подвесили на крюке — Сисин выловил — Сисин поехал в аквариум — там была какая-то помесь дельфина с китом — она прыгала — все смотрели, как она высоко прыгает — пока Сисин смотрел на помесь и удивлялся, у него сперли вещи — ловко выбили замок багажника — Сисин пожаловался газетчику — заголовок гласил: — несмотря на то что его обокрали, русский автор в восторге от островов — на этот раз Джон был немногословен — возьмете мой вертолет — сказал он — как вы переносите вертолет? — никогда не летал — Сисина куда-то уволокли на вертолете — пропеллером вперед — они утомительно, шумно и долго летели — тут место жертвоприношений — юношей резали, как ягнят — дополнительно Сисину подарили шляпу с яркими птичьими перьями — его повели осмотреть местный музей — директор музея, тоже Aloha man, с мягкой душой записного островитянина, показал ему множество птичьих перьев не только в основной экспозиции, но даже в запасниках — among the birds [45]— директор встал в танцевальную позу, прижал кончики указательных пальцев к кончикам больших пальцев, остальные — оттопырил и обольстительно взмахнул руками — were the mamo, which produced darkish yellow feathers, and the ’i’iwi, which provided the main source of red feathers [46]— но если ’o’uпохожи, строго говоря, на наших воробьев, перекрашенных в желтый цвет, то ’i’iwiи особенно ’akialoa, клюв которых загнут вниз и похож на косу, которой русский мужик исстари косит сочные прибрежные луговины, привели Сисина в полный восторг — я читал, что вас обокрали — сказал директор, прихватив Сисина за талию — а про рыбу ничего не написали — пожаловался Сисин, деликатно отстраняясь — мне пора — он направился к выходу — директор не отставал — the history’s first recorder observations of Hawaiian featherwork were made in January 1778 by Captain James Cook [47]— ну, всё-всё! — любезно сказал Сисин — он ускорил шаги — директор за ним — нагоняя: — draped in their ’ahu’ulaand mahiole [48]— пошел ты на хуй! — не выдержал русский путешественник — он выбежал, придерживая на голове шляпу с птичьими перьями — его высадили на острове жертвоприношений — в кустах топтались дикие павлины — с хвостами и без хвостов — ничего себе — сказал русский путешественник — в жертву приносили молоденьких юношей — для очистки совести — спасения племени — они пробирались сквозь джунгли — какова здесь экологическая ситуация? — здесь у нас плантации ананасов — у нас самые сладкие ананасы в мире — ананасы росли в разные стороны — некоторые были зеленые, тонкие, очень длинные — и радуги — радуг было не меньше, чем павлинов — Сисина полюбил начальник туземцев — все показал — накормил лепешками из местного корнеплода — это наше национальное блюдо — что с вами? — дайте запить! — прошептал Сисин — Сисина все узнавали на острове — сочувствовали, что обокрали — его подтолкнули к маленькой машине и сказали: гоу! [49]— дальше езжай один — Сисин снял шляпу с мягкими желто-красно-коричневыми птичьими перьями, бросил на заднее сиденье и завел мотор — неловко вправил передачу, глянул испуганно — тронулся в гору — дорога круто шла вверх — сначала по ее краям беспорядочно, как лопухи, росли банановые пальмы — между ними летали бабочки величиной в детскую рубашку — Сисин догадался, что это вулкан — бананы резко кончились — его обступил влажный лес с дикими короткими криками птиц — дорога сузилась, превратилась в проселочную, с неровным покрытием — не защищенную со стороны пропасти — камни то и дело вылетали из-под колес и летели в пустоту — частые повороты на 180 градусов — машина мучительно ревела на первой скорости — его беспокоила надежность тормозов, которую он никак не мог проверить — незаметно для себя он въехал в тучу — хлынул дождь — все покрылось мраком и слизью, как будто он въехал внутрь жабы — брошу ее и пойду назад пешком — решил Сисин, зажигая фары — фары не помогали — дождь усилился, перешел в ливень — сырая ветка с шершавыми листьями неласково погладила его по щеке — Сисин отпрянул — неловко закрутил окно, оставив щель — лобовое стекло запотело — он размазывал влагу по стеклу — как включить подогрев? — он карабкался вверх — время от времени давил лягушек маленькими колесами малолитражки — не могли дать получше машины — ни черта не видно! — все-таки это малоприятная вещь: давить лягушек маленькими колесами — а если прокол? — суки — кто тут еще может быть? — тигры? обезьяны? — раздался непонятный шум — Сисин вслушался в звук, готовый ко всякой гадости — а если кто едет вниз? — не разъедемся — водопад, что ли? — предположил сообразительный вспотевший Сисин — ответа не последовало — с исчезновением непонятного шума дорога стала более пологой — казалось, скоро будет перевал — с бурой каменной стены стекала вода — стояли, пузырясь, лужи — сильно пахло чем-то природным, вроде серы — ничего не видно — сильно пахло — в тумане он нащупал развилку — никаких знаков — он поехал направо — сам не зная почему — дорога стала совсем узкой, с деревянными кольями по бокам — страшно было представить себе, чт отам, за кольями — Сисин вдруг выехал на маленькую площадку — впереди стояли колья — дорога оборвалась — Сисин оглянулся в густом тумане — слабый ветер шевелил его массами — когда они чуть раздвинулись, Сисин с ужасом увидел какую-то непонятную конструкцию — он смотрел на длинные металлические палки, торчащие в небо — может, это и есть Отец? — подумал в смертельной панике Сисин — может, в этом его непонятная сила? — он вытер пот и стал ждать, что произойдет — все равно, дальше ехать некуда — металлическая конструкция безмолвствовала, только слегка гудела — поздороваться? — в конце концов, я, по идее, моложе — с этими палками?! — а если это не палки? — а если Онуже обиделся за палки? — откуда мне знать? — редкие птицы дико вскрикивали, пугая и без того обезумевшего путешественника — разорались! — прошло минут десять — а может, пятнадцать — может, это громоотвод? — клочья тумана драматически шевелились — или нет? — по-моему, все-таки громоотвод — сам ты громоотвод! — нет, в самом деле! — мудак! — Сисин стал медленно разворачиваться, испытывая необычный прилив сил, стараясь не свалиться — тяжелые капли падали с огромных листьев — дорога уверенно пошла вниз — раздавив еще с десяток лягушек, Сисин выехал из-под тучи — хорошо еще, что тамне было молнии — наконец, с другой стороны вулкана снова замелькали пальмы — правда, не банановые — облака ушли наверх и принялись величественно кривляться в небе — все-таки в тропиках естьчто-то грустное — подумал Сисин, победивший туман и вулкан — на прибрежной высокой пальме было прибито: TOPLESS IS ILLEGAL [50]— Сисин снова обрадовался за Америку — все-таки она мне ближе — пусть и дура! — рыхлых женщин третьего мира с сердечными лицами — с толстыми неповоротливыми губами — дальше был берег — Сисин увидел диких коз в глухих расселинах скал, как Робинзон Крузо — они паслись — по ночам с гор к океану спускались толпы призраков — их было несметное количество — к ним давно привыкли и не замечали — они спускались, как лавина — возможно, где-то здесь были Судные место и день — посреди ананасов — неподалеку был вулкан — он извергался таким образом, что у берега вечно жарилась рыба — это считалось чудом — один из островов был частным — туда никого не пускали — говорили, кто-то из Новой Зеландии приобрел — а оказалось вот оно что — иди — даже начальник не пошел — который все показал, объяснил — поели ананасов — иди — Сисин вытер губы, пошел по берегу — на Гавайях не жарко — не душно — на берегу сидел человек и смотрел в океан — разговор зашел по-английски — Отецговорил с ближневосточным акцентом — звучащим достаточно простонародно — what do you wait for? [51]— сказал он вместо приветствия — Сисину показалось, что тот раздражен — что с нервами неважно — я тебя перепутал с громоотводом! — сказал Сисин, чтобы Отец развеселился — в духе разговорного пинг-понга — которым таквладела Сара — в сущности, они с Отцомбыли почти однолетки — с каким громоотводом? — не понял тот — там, наверху — Сисин кивнул на вулкан — может, ты бросишь улыбаться своими очаровательнымиулыбками?! — Сисин сразу посерьезнел — он не то чтобы обиделся, но ему было неприятно — это верно, что я твой сын? — строго, с почтением спросил он — Отец промолчал — потом он снова закричал: — чего же ты ждешь?! — Сисин не думал, что тот будет кричать — тот сидел в длинном белом балдахоне, расставив ноги — Сисин невольно увидел рыжий веснушчатый хуй с яйцами — и перевел взгляд — кого он мне напоминает? — какого-то педераста с зачесанными назад волосами — черными, зачесанными назад волосами — которого я встретил где? — где? — в какой стране? — в каком-то колледже — в каком? — он ничего не мог вспомнить — Сисин сказал: — ну, я не знаю — жалко все-таки — они тебе надоели? — они мне надоели — я им надоел — Сисин сказал: — ну, ты же, кажется, ради них — мог бы предугадать — ничего я не мог предугадать! — закричал тот — ничего себе — подумал Сисин — да ведь это Восток — как плохо ведут себя нервы в жарком климате — хотя на Гавайях не жарко — чего ты хочешь от меня? — сам решай! — закричал тот — у тебя, что ли, нет своей головы на плечах?! — Сисин сказал: — есть — но как же я могу? — нужен индивидуальный отбор — потом разберемся! — когда потом? — когда все кончится! — на хуй их всех!!! — Сисин сказал: — я как-то иначе себе все представлял — дурак! — всякие гадости пишешь! — Сисин сказал: — извини — но ничего другого не пишется — ты не лучше их! — ну, чего ты разорался? — рассердился Сисин — в общем, поступай, как знаешь — оставь меня в покое! — как Ирма — она всегда говорила визгливо: оставь меня в покое— а как же с бессмертием? — какое еще бессмертие! выродки! ублюдки! сволота! — Сисин сказал: — ну, не все — все! все козлы! — такое злое лицо — ну как я это сделаю? — без тебя сделается — скажи даи всё — что всё? — не захотел понять Сисин — расправимся, как с динозаврами — вдруг оживился Христос — комета уже на подлете — пять миллиардовтонн — Сисин нервно посмотрел в небо — небо было невинно — при столкновении с Землей в районе Мадагаскара выделится энергия, равная взрыву трехсот миллионов водородных бомб — кора планеты расколется — произойдет извержение магмы — выброс в атмосферу испарившейся земной коры — вулканического пепла и прочей дряни — заполыхает глобальный пожар — пойдут кислотные дожди — на Земле — зажмурился Христос — наступит долгая, ядовитая, безжизненная ночь — ну, это слишком! — помолчав, сказал Сисин — в конце концов, люди не динозавры — да что ты знаешь про динозавров?! — презрительно сказал Христос — вот это были богатыри! — на месте оторванных зубов у них немедленно отрастали новые! — он откупорил банку кока-колы, как будто рванул кольцо гранаты, и принялся жадно, захлебываясь, пить — это хорошая реклама кока-колы! — одобрительно сказал Сисин — а все же потоп погуманнее — прибавил он — без пожаров и кислотных дождей — смоет всех и — конец! — комета эффективнее — сказал Христос — все кончится за минуту, а так будут долго барахтаться — он хрустнул пустой банкой, отшвырнул ее и задумался — океан принялся лизать банку — идея потопа мне ближе — не сдавался Сисин — да и разрушений меньше — все следы человеческой деятельности должны быть уничтожены — строго сказал Христос — надо исходить из этого — в твоем варианте погибнет все живое, не только человек — сказал Сисин — все остальные, безгрешные твари — да? об этом я не подумал! — признался Христос — ладно, пусть пойдет вода — какая вода? — ну, потоп! ты понял меня? — я тебя вот такпонял! — Сисин оттопырил большой палец правой руки — Христос в первый раз улыбнулся — вот и хорошо — ё — несмело вымолвил Сисин — ё — подхватил Христос — ё-ё — ё! — крикнул Сисин — ё — вместе крикнули — ё! — ё! — ёёёёё! — ё? — ёёёёё — ё! — ё— ё? — ёёёёё — ё! — в знак примирения Христос достал из-под себя дудку и заиграл что-то восточное — такое заунывно восточноеСисин в молодости ловил, не желая того, на средних волнах своей желто-черной «Спидолы» в Крыму, когда по вечерам мазался кремом от солнечных ожогов — уже безнадежно обгорев — ночью тело жутко горело — Отец стряхнул дудку, из которой вылетели, как стайка солнечных зайчиков, слюни, и заиграл что-то более грозное — ну как? — поинтересовался он мнением сына — по-моему, здорово — сказал Сисин — по-моему, очень сильно — тот протянул ему дудку, еще раз стряхнув ее, словно градусник — на! — я не умею — сказал Сисин — у меня нет музыкального слуха — совсем нет — добавил он — мама всегда переживала — я тоже временами фальшивлю — развеселился Христос — на радостях они поцеловались — Сисин задумался — говорят, здесь, на островах, туземцы съели капитана Кука — очень может быть — рассеянно сказал Отец — как, ты не знаешь? — понятия не имею! — сказал И. X. — ты, случайно, не голубой? — спросил Сисин, покосившись на папин пах — я всякий — с достоинством ответил палестинец, подняв на Сисина черно-коричневые глаза — помолчали — посмотрели на океан — может, купнемся? — предложил Отец — что-то не очень хочется — сказал Сисин — а тебе хочется? — я уже сегодня купался — с маской плавал? — спросил Сисин — я такие рыбы видел! — просиял И. X. — желтые, лиловые, красные! — с маской интересно — сказал Сисин — очень! — согласился Отец — кстати, ценный совет — блеснул он глазами — чтобы маска не запотевала, нужно поплевать на стекло с внутренней стороны и тщательно размазать пальцем — что ты говоришь! — жаль, я раньше не знал! — по-хорошему огорчился Сисин — я всегда плавал с запотевшей маской в Крыму — кроме того — поделился он воспоминанием — пинг-понговый шарик пропускал воду — который в трубке, что ли? — перебил его Христос — ну да, но все равно было хорошо — помолчав, Сисин добавил: — я, пожалуй, пойду — давай — сказал Отец — они обнялись — я всякий! — от И. X. шло какое-то удивительное тепло — неземное — ё! — Сисин сразу поверил — он побрел по берегу назад — через километр увидел людей — на всякий случай они поп адали на колени — не надо — слабо запротестовал Сисин — отвезите меня в гостиницу — я буду думать — они подхватили его — на руках внесли в вертолет — Сисин с царской тоской смотрел сверху на зеленые острова — кусая ногти — мои ногти нетленны — бесконечно подумал он — мои заусеницы практически предвечны — здесь удивительные цветы и цвета — мой дорогой неземной Папа.
Жуков. Жуков. Жуков. Жуков был писатель, акробат фразы.
Сисин как-то сказал ему по этому поводу:
— Ты опоздал родиться. Мир уже описан. Вырождайся.
В конце концов оказалось, что Жуков эмигрировал — сомнения долго терзали его — а вдруг меня тожеза это накажут? — пугливо озирался он, поднимаясь по лестнице в свой берлинский пансион на Бляйбтройштрассе — причем накажут с какой-нибудь особой подковыркой — зачем сюда понаехали маляры? — в белых одеждах ангелов-карателей — я все вижу — мрачные турецкие морды с подбитым глазом — чего они меня разглядывают? — может быть, они собрались меня мочить? — он погладил бороду, приобретшую благообразные, европейские очертания — а если пронесет? — мелкая страсть к сочинительству временами брала верх — а пошли они все у трубу! — хорошо пахнут под вечер берлинские липы — он налетел на лестнице на седовласую парочку — те зашипели какие-то немецкие проклятия — сэнкью! — невпопад выпалил Жуков — те снова зашипели, непонятно что — невыносимые берлинские старики и старухи — он разбогател на романе о Сисине — Жуков убил Сисина во имя спасения человечества — американцы отравлены ценностями среднего класса — эти ценности держат их в тисках похуже российской духовной цензуры — роман уязвим с точки зрения американского рынка — думал Жуков, работая над романом — хочу ли я написать бестселлер? — пишу роман о Сисине, но это больше, чем роман — это роман о спасении человечества, предпринятом гуманистом — Сисин добавил в глубокой задумчивости:
— Что остается от писателя? Три фразы. Шагреневая кожа. Красота спасет мир. Между нами нет менструации.
— А от других что остается? — злобно-ласковым голосом поинтересовался Жуков.
Сисина подловили странные силы — они объявили ему, что он сын Иисуса Христа — на вопрос, каким образом, слепец заорал: — потому что ты, человек, дурак! — он сидел в углу комнаты на шатком табурете — маленький мясницкий человек в бесполезных очках — люди помешали ему стать мыслителем века — думал Сисин, попивая чай за большим овальным столом — над столом свешивалась допотопная лампа с оранжевым абажуром — планы Божественного мироуправления не дано знать человеку — старые «Roi а Paris» пробили час ночи — час мясницких заговорщиков — конечно, с точки зрения логики решить этот вопрос невозможно — Сисин его и не решал — ему нужно было лишь дать команду — если ты веришь, то любое действие Бога признаешь как полезное в смысле любви — если человечество отпадает от Бога, то спасти его можно, только уничтожив — в какой-то степени это антиамериканское сочинение — Жуков глядел на мокрый ночной Берлин — но не потому, что оно прорусское или проевропейское — может быть, оно антибогобоязненное? — задавался вопросом Жуков — Жуков понял, что загоняет себя в западню — зачем звонить в милицию с заявлением: я спас человечество? — не лучше ли скрываться и писать? — сначала написать, а после уже сознаться — я пошутил! я соврал! — взмолился Сисин, не выдержав пыток — Жуков, миленький, я соврал — не верю! — возопил Жуков со слезами на глазах — как я могу тебя убить, если я тебя люблю! — но я не смею иначе! — дай мне еще пожить! — раздался выстрел — Сисин пополз — судьба швыряла в него комьями жирной земли без устали, без — думал он — без цели, или тут был свой замысел — только какой? — сначала он безобразно жрал, пил пиво и ходил до изнеможения по музеям — конечно, думал Жуков как автор романа (этот роман написал Жуков), однако используя записи разговоров с Сисиным (иногда ему хотелось назвать его Соковым или Роговым или еще как — даже не столько потому, чтобы тот жил в трех лицах, совсем не нужно, а потому, что некоторые темы удобнее описывать с перестановкой фамилий, и читателю придется справиться с этой трудностью, уходящей в археологию жуковского романа, а если нет — хуй с читателем) — не продиктован ли роман завистью? — это исповедь Жукова — это признание: я убил — он улизнул на самолете на следующее утро после убийства во Францию — меняя страны и города, скрываясь от страха, он пишет роман — он ждет не осуждения, а сочувствия — против мракобесия Сисина — Жуков-спаситель — Иуду тоже выставляли спасителем, если усомниться в самом Христе — но Жуков не Иуда — Сисин его унизил, выбрав ему Софью из свального греха, как из колоды карт, и это тоже не способствует нежным дружеским чувствам — на франко-итальянской границе — на вершине холма нахлобученной шапкой расположилась живописная итальянская деревня — на центральной площади — кафе, особенно оживленное по воскресеньям, телефон-автомат, незабываемый вид на снежные горы — цепь их неровных вершин напоминает зубья испорченной пилы — кадки с цветами, продовольственный, совсем не дешевый магазин, старая мэрия красного цвета, ларек с газетами, однозвездочная, но вполне опрятная гостиница, с чертовски тесной лестницей, ведущей на второй этаж — чуть поодаль, если спуститься по узкой каменной улице — над ней, как флаги, полощется белье — мимо почты — желтая барочная церковь, каких немало в Италии — в солнечное воскресное утро, после окончания службы, Жуков зашел в храм — он мелко, пугливо перекрестился и остался у двери — когда глаза привыкли к полумраку, он разглядел сначала мраморные колонны, зачем-то обернутые коврами — вдали, в чистой перспективе колонн и соломенных скамеек, он заметил одинокую фигуру, стоящую на коленях перед алтарем — долго, в задумчивости смотрел он на Ирму, не смея приблизиться — бог весть, какие мысли посетили его в тот час — крупные капли пота текли у него по лицу — Сруль и Цыпа — прошептал он — он увиделКрокодила с Бормотухой, идущих за закрытым гробом Ирмы с бумажными розовыми цветами в руках и на голове — несмазанный ваганьковский катафалк, с заплетающимися колесами, страшно скрипел — наконец Ирма поднялась с колен и, прихрамывая, побрела к выходу — она прошла мимо Жукова, не заметив его — обдав скромным запахом бедной стареющей женщины — мы, кажется, одногодки — Аполлон вышел за ней на площадь, зажмурился от яркого весеннего солнца и в нерешительности окликнул ее — она обернулась и посмотрела на Жукова, как на незнакомого человека — вы — ты — не узнаешь меня? — спросил Жуков — она перешла в католичество — так ей было покойней — они сели в кафе — она почти чтоосвободилась от Сисина — к пропаже Сисина она отнеслась безучастно — у меня здесь есть свой маленький садик — в нем цветут нарциссы — есть хурма — но хурму она не любит — хотя местные люди делают из хурмы хороший мармелад — к себе домой она Жукова не пригласила — в кафе я почти не бываю — не люблю тратить попусту деньги — потом этот шум — но на жизнь мне хватает — спасибо, не жалуюсь — Жуков заказал два двойных «эспрессо» — а как ты попала сюда? — потупился Жуков — так вышло — ответила Ирма — до моря отсюда недалеко, но с холма я не спускаюсь — во-первых, у меня нет машины, а автобус, набитый орущими школьниками с ранцами, идет в город всего два раза в день — во-вторых, не тянет — жалко только, что нет птиц — редкая птица залетает сюда к нам, на холм — Жукову снова стало не по себе — в самом деле, в такой солнечный день птицы должныщебетать — что же это за холм без щебета? — он с подозрением посмотрел на плешивого бармена за стойкой, слишком живо разговаривающего по телефону — нет, телефона у меня нет — перехватила Ирма его взгляд — он мне не нужен — зато есть телевизор — вчера я видела — она робко подняла на Жукова глаза — замечательный фильм — ты смотрел? — она принялась прилежно пересказывать сюжет английского фильма — там прелестно играют дети — особенно мальчик! — можно стрельнуть у тебя сигарету? — Жуков кинулся со всей пачкой — она затянулась — почему они с Сисиным разошлись? — Ирма затянулась — он глумился над моей верой! — знала ли она, что ее муж выдавал себяза сына Иисуса Христа?
Что???
Он был самым неверующим человеком, которого я встретила в жизни.
Жуков затрясся от беззвучного нервного смеха. Перед ним в веселом воскресном кафе среди сборщиков оливок, мясников, деревенских дурочек, группы электриков и фотографий футболистов сидела, хмуро попивая двойной «эспрессо», абсолютная фигура самоотрицания.
Жуков был сыном простого уральского шофера — однажды в городском нескучном саду Жуков-старший увидел двух гипсовых девушек — в городе, где все знали друг друга по имени — где был свой мясокомбинат — вокруг города росли в изобилии сладкие ягоды — отечественная и древнегреческая, обнявшись — на фоне мясокомбината — одна в купальном костюме, с натянутыми на пупок трусами — другая в тунике — дружно шли в ногу — он стоял перед ними в неизгладимом изумлении — он назвал первенца Аполлоном — первенец умер от дизентерии — родился новый мальчик — он и его Аполлоном — тот, словно шутя над отцом, снова умер, от заражения крови — тогда шофер, настояв на своем, родил третьего сына — фотографиями неосуществившихся младенцев были завешаны стены спальни — третий выжил и стал писателем Аполлоном Жуковым — но тут стали быстро вымирать жуковские родители — рос сиротой, поскольку шофер замерз на перевале, когда мальчику было четыре года — мать Жукова — Екатерина — тоже не долго мучилась — в детстве Жуков любил бросаться подушками-думочками — однажды думочка попала в мать — матери вскоре не стало — Аполлон бежал в Москву — первый год спал исключительно на полу — но не любил принимать решения — медлил — он пер и сомневался, как всякий интеллигент в первом поколении — фигура разомкнутая — он не был большим философом (поэтому боялся, что книга получится несколько глуповатой, ну это не страшно), однако догадывался, что крайности сходятся — это будет свирепый роман — таясь, мечтал Жуков — покруче любого авангардизма — там что: мелкая, локальная игра стилей — здесь другое — совсем крутое — смертоносное — я приеду к его жене после смерти Сисина — Сисин умер! — монолог жены — он был самый неверующий — он — нет — Ирма плачет — она все-таки любила Сисина — это поражает Жукова — такая мразь, а любимая — судорожные, неврастенические объятия — жена и Сисин: как протекала ваша постель? — постель почти не протекала — она извелась — она жаловалась Сисину на недостаток еголаски и спермы, поступающей в нее — в последнее время Сисин полюбил Америку — если бы у Америки была жопа, я бы ее выебал — Жуков скривился, вспомнив собственный случай — Жуков нервничал — неужели эта маленькая женщина с маленькими запросами — Ирма любила все маленькое — машины мориски — конфеты ириски — крохотные чашечки крепкого кофе — была жена великого Сисина — избранника Божьего? — его, в сущности, первой любовью — если не единственной — и кому какое дело, что они лаялись? что она стала желтой и сморщенной, как черепаха? — ее остановившийся взгляд пугал мужа, соседей, прохожих — насмотрелась видео — без нее Сисин не понял бы золотой серединымира — а там глядишь — воскресение — с вознесением — как поведет себя Сисин после смерти? — you are a fucking Russian cock sucker [52]— shut up, you, cunt [53]— только однажды американский брат так обозвал Сару, выйдя из себя — станешь еще более знаменитым, найдешь себе еще большую знаменитость — ревновала Сара — Сисин втайне от нее называл ее: — моя Сайра — в аэропорту Кеннеди бешеные негры загоняли русских в «Аэрофлот», как в газовую камеру — лететь в продавленных тесных креслах, трясясь и вибрируя, в отчизну — я заговорил с загонщиком по-английски, стремясь выделиться из обезумевшей толпы — помню его презрительный взгляд — потом, уже в Шереметьево, таможенники гоняли вьетнамцев, один из них хотел держаться с достоинством — я был тот же вьетнамец — все было непоправимо — иностранные газеты кричали о нем как о новом Фрейде — как о гении, остановившем процесс малодушной либерализации психоанализа — в лице того же Фромма — его слушали со смесью любопытства и брезгливости — был ли Сисин, как и Гитлер, некрофилом? — спрашивала Крокодил в своем остром некрологе — на подлете к Парижу группа казахов, выпив водки, принялась что есть силы раскачивать самолет Ту-154 — Сисин не вмешивался — никто не пострадал — самолет успешно сел со второй попытки — гуляя по залам музея д’Орсей, Сисин обратил внимание на маленькую боннаровскую женщину, лежащую таким образом, что на первом планеу нее была пизда — а в набросках Матисса? — в своей везучести он продвинулся настолько вперед, что вскоре впал, как в немилость, в полное одиночество — Рыжий Крокодил, напоследок определила Манька — мастерица прозвищ — Ирма тоже — все они мастерицы — Манька хвалилась интуицией, как секретным оружием — ночью звонила Сара — они с Сисиным проговорили с полчаса по-французски — хихикая — хохоча — это по делу — убежденно сказал Сисин Маньке — Манька надулась, ходила бешеная — ему сильно понравилось, что она задета за живое — она думала: на всю жизнь он ее полюбил — иногда ее лицо приобретало тяжелые очертания — от немецкого пива у него разросся живот: сутулый, с выпирающим животом он был тоже неадекватенсвоему образу и отвратителен — даже Бормотуха заметила: у тебя живот вырос — зачем ты это? — ведь ты для меня идеал! — все-таки Анджей ее потрогал — почему-то это предательство Анджея его сладко волновало — ему самому хотелось быть на его месте — включения были совершенно предсонные, необязательные (с точки зрения дневной нравственности разума), тревожные — звучали невозможные команды — залезть на дерево! — снизить цены на двадцать процентов! — как будто звонили по телефону, и он прислушивался к чужим разговорам — хватит! баста! — доносились обрывки голосов — гулял ветер — переутомился — он был противен самому себе — в конце концов, что такое Бог как не свободная, несвязанная энергия, она поистине может все сотворить, и мы, маленькие, нестойкие сгустки, молясь, мы заряжаемся этой энергией, в меру наших маленьких сил мы рисуем великие образы, и если ошибаемся коллективно, то не потому, что намеренно, а просто глупы, рассредоточены, отвлечены, малы и вялы, то есть все-таки малые сгустки — во всяком случае, как водится, все было переистолковано с той неизменной примесью тупости, которая свойственна — тем не менее положения Века Пиздыбыли незамысловаты, и нет ничего проще, чем прочесть книгу правильно, но даже это не удалось, так что же требовать от евангелистов! — нет, степень непонимания тоже может обрести свою формулу в зависимости и, насколько больше измерений существует в том, что познается — но все-таки можно о чем-то догадываться, копить энергию, главное, не наглеть, тут скромность, застенчивость, терпение, тихий голос — и не стоит постоянно отчаиваться, вообще постоянное отчаяние — дурной вкус — солнце послеполуденное, деревья весенние, одуванчики — не все так плохо — грузный, оплывший, перекуренный, с животом — но книгу поняли неверно — ее идея, как все удачное, основывалась на наблюдении — и если раньше собирательный образ художника бродил вокруг смысла, украшая его открытыми плечами, то сползание вниз, перенос центра Вселенной в хотяще-желанноелоно было не просто шалостью-дерзостью, это было спуском энергии — дойти до упора, до ручки — но терялось напряжение жизни — за одним покровом скрывался другой — складки не только скрывали, они сохраняли, тепло оставалось в складках — теперь острова в океане облеплены голыми немцами — желания соединились с возможностями — жижа людская — ВП — он определил век — тем самым случайно прославился — прошло немного времени — ему повсюду стала мерещиться она-она — она-онаего преследовала — щерилась — доставала — он стал ее побаиваться — она-онаразмножалась — двоилась — троилась — расползалась по миру — сгущалась — затекала в сознание — выворачивалась наизнанку — она-онапринимала национальные формы — диковинные окраски — дальновидные очертания — она-онамешала развитию его аскетического дара — требуя внимания к себе как к единственной, соборной героине — Сисин всерьез подумывал, чтобы дать ей бой — влюбиться илиоскопиться — в сущности, это сводилось к одному и тому же — но сколько раз Сисин от нее ни уезжал, он забывал Маньку напрочь до следующего раза — он только увеличивал накал слов, чтобы держать ее в порядке — подруги уважали Маню за это пристрастие, но говорили хором, что ничего не получится — он не думал о ней до тех пор, пока она не собралась уйти — сестрички — помню Сарину шейку в Вене — от ее шейки можно было разрыдаться — утром сбежала из дешевого номера — любительница горячих точек тянулась в Москву — не поработать ли год в Третьем Риме? — Сисин отговаривал — как всем молодым западным женщинам, ей жутко хотелось проехаться по Транссибу — Сисин не советовал — наконец, она переехала в beau quartier [54]— она сидела в большой парижской квартире на ковре, подложив под себя большую пеструю подушку, расставив ноги, и ковырялась в фотоаппарате — во всяком случае — сказала Сара — война очень фотогенична — в ее ванной был целый лес карликовых деревьев — Сисину особенно нравился японский клен — половина из них была жива — из ванны, во время купания, был виден СанСюльпис — мыло пахло горьким миндалем — а что? — тряхнула светлыми волосами и посмотрела на Сисина — дирижируя себе пальцем, произнесла: — ухи — уши— терпеливо поправил Сисин — я тебя лублу — люблю, идиотка — поправил Сисин — люблю— голосом механической куклы сказала Сара и рассмеялась — цо ме! цо ме! мосла к! — возопил Сисин громким голосом — Сара терпеливо протерла его лоб тряпкой с уксусом — хватит со мной говорить по-русски, не выдержал он, ты теряешь свое Я — он знал, что потерей своего Я можно напугать любого западного человека, от студента до президента — плевать я хотела на свое Я! — Сисин влюбленно смотрел на нее — зачем ты уехала из Америки? — она пожала плечами — тридцатилетняя — детей не будет — в своем родном Нью-Йорке она работала в журнале — где-то высоко над ней витал Фил с чертами дегенеративного величия — неужели он, в самом деле, собрал лучшую в мире коллекцию сталинских книг? — спросила она — по-моему, да — сказал Сисин — он собрался еще купить московское собрание подарков Сталину — Сара в восхищении захлопала в ладоши — американо-хорватско-еврейско-ирландско-польско-итальянская — давай его разоблачим! — не смей! — сказал Сисин — он жалел, что она не бережет свое тело — во всех саунах она первая — во всех морях — она уже позабыла, что у нее есть тело — нельзя так много раздеваться! — в Нью-Йорке она складывала вещи в чемодан — девальвация — считал Сисин — глядя в ее сладкую промежность — в ее хитрое, перемещающееся очко— его тем временем разрывали на части — вообще: — ни одного пронзительного впечатления — какие-то кусочки — Воркута прислушивается к себе под Чикаго — гостиница в Довилле была отвратительно дорогой, с видом — Сара любила почтовую роскошь — заехали в Шартр — два часа ночи — походили вокруг собора — я внушал ей что-то неясное, поскольку сам плохо знал, о соборе как смешении стилей — она неожиданно громко перднула — я замер от неожиданности — чуть нервно она сказала: ну и что дальше? — тогда я сказал о хвостиках— мне казалось, в ней просыпается четвертое измерение — наговорил кучу лишнего и не к месту — впрочем, это было уже в Париже, за последним ужином, когда Сисин предсказал ей пожизненное несчастье — ужин у нее в квартире — получерныйжрал все подряд, а его подруга обижалась, что бы он ни сказал — Сисин узнал свои собственные семейные радости — Сару несло — разговор шел о броненосцах, на которых ее брат охотится в Техасе — Сисин соблазнял получерногосвоей ладно скроенной историей — своим полусносным французским, который то улучшался, то ухудшался, в зависимости от обстоятельств — даже пересоблазнил — он вовремя понял, что выгодно быть из России — кончили в американском баре неподалеку от Опера — здесь был придуман в двадцатые годы коктейль «Блади Мэри» — сообщил получерный— принялись пить «Блади Мэри» с сельдереем — Сара ушла с подругой, чтобы не мешать, да и подальше от сплетни — получерныйстал звать его к себе домой на диванчик — перестарался — грозил все испортить — мог обидеть — едва увильнул — в Нормандии он показал на улицу Мориса Тореза — кто это? — в шутку спросил — Сара не знала — прилетела красивая — он позвонил приятелю из «Бостон глоб» — поужинали вместе в «Савойе» — приятель из бывших дворян — складно рассказал о русской деревне, об усадьбе прадеда — разбазарено, расхищено, предано — сочетая русскую достоверность с американской доступностью — Сара пришла в восторг от русского идиотизма — Россия лучше, чем Бразилия! — здесь все, ну, совсем все иначе! — он повел ее в Кремль — они ходили по храмам-холодильникам — их рассмешили доверчивые, неуклюжие иконостасы — Сисин чихал и сморкался — потом спохватился — где мойнимб? — где мойвенчик-бубенчик?! — потрогал в недоумении голову — Сара купила русскую шапку из кролика — она жила в небоскребе на Котельнической набережной — Россия напоминает мне мое детство — сказала Сара, глядя на розовую Москву-реку — он отвез ее на дачу — приближалось Рождество — они шли по заснеженным дорожкам — какая у тебя неудобная, продавленная кровать! — подмосковные люди глазели на Сару — на ее расписную нью-йоркскую шаль — она выпадала из местной жизни — борясь с отвращением, Сисин решил на ней жениться — вот только съезжу по Транссибирской магистрали! — Сисин отговаривал — скучно — ничего не видно — одни елки — плохо кормят — отравишься — они пошли в ресторан — подвыпившие сисинские дружки, бывшие конспираторы и совсем новые люди: мускулистые, муксусные парубки с серьгами в ушах — неотличимые от девушек, безгрудые, в тонких чулках телесного цвета, с сиреневой губной помадой — строили планы по созданию своегожурнала — Сара купила им две большие бутылки водки — дружки оценили Сару — они попытались говорить с ней по-английски — вошел Ломоносов — он собирался отбыть в Америку писать диссертацию — Сисин обнялся с Ломоносовым — я буду вашим американским корреспондентом! — дело несколько осложнялось тем, что Ломоносов недавно влюбился — возьми ее с собой — посоветовал Сисин — это чудо-девушка— сказал Ломоносов — я с ума схожу! — я заберу ее когда-нибудь с собой — Сисин не придал этому никакого значения: — у тебя каждаядевушка — чудо — Сисин чувствовал себя покровителем — это он помог Ломоносову поехать в Америку, связавшись с Валентином — Валентин ворчал: — вы что, Сисин, с намисотрудничать собрались? — но сделал — Ломоносову выдали паспорт — подожди, куда вы спешите, я покажу тебе чудо-девушку! ты увидишь! — где же она? — она в туалете — в другой раз — сказал Сисин — нам надо идти — Сара шла по заснеженной тропинке — я хочу остаться в России — мне тут нравится — у вас всё вверх ногами — вы такие дураки! — я решила не ехать по магистрали — я решила поехать на Кавказ — посмотреть войну — ты что, давно не видела трупы, которые разлагаются на солнце? — зачем тебе Кавказ? — хочется — Сисин пожал плечами — Сара, выйди за меня замуж — what? [55]— Сара не верила — ты врешь, как все русские! — страна обманщиков — вечное логово лжи! — не вру — ну, тогда я быстро приеду — давай поженимся в православной церкви! я люблю попов в золотом! — я некрещеный — сказал Сисин — но, хочешь, давай! — я не буду уничтожать ни людей, ни зверей — я не буду обижать приблудных кошек, срущих в моем подъезде — я лучше буду с Сайрой — Сайра, я буду с тобой! — на следующий день она улетела — сначала она звонила — но связь была хреновая — она все удивлялась: — a very bad line [56]— треск и хрюканье — потом позвонил приятель из «Бостон глоб» — ты ничего не знаешь о Саре? — знаю! — сказал благодушный жених — она на Кавказе — ее обыскались — сказал приятель — она пропала без вести — потом привезли ее тело — в тесном спецморге для иностранцев жутко воняло — воняли кафельные стены, столы, подоконники, двери, ручки дверей — вонял ухмыляющийся обслуживающий персонал — Сисин давился в носовой платок — почерневшие гниющие куски с оттопыренным пятнистым задом — анус с шишечками пророс слезоточивой орхидеей — в углу на полу был сложен, как puzzle [57], утопленник-негр — Сисин втянул воздух в свои большие волосатые ноздри — сладкий трупный запах все больше и больше будоражил его — голова кружилась — он забалдел — запах манил его, как детство, в которое ему уже не вернуться — запах щемил душу воспоминаниями о прошлых жизнях — стремительное вторжение крепкого и томного аромата напрягло его мужские соски — он погрузился в симфонию коморской ванили, сандала, кардамона, фенола и ладана из Сомали — кто-то сбросил ему с самолета охапку желтых цветов — ему понравилось — ему не хотелось уходить — ему хотелось, чтобы весь мир, от Анкориджа до Бомбея, пахнул так мощно, терпко, непоправимо, фимиамно — ухи— он крепко взял чернявого препаратора за лямку фартука: — тебя как звать? — зачем тебе? ну, Сергей — Серег, слышь? постой, продай мне ее ухо илимизинец — я тебе, бля, продам! — ну чего ты? мне ж на память! — строго сказал Сисин — охуел, что ли? она же американка! — Сисин назвал сумму — локон— лаконично сказал препаратор — ухо — не уступил Сисин — значит, так: не морочь мне голову! — сказал препаратор — ухо — Сисин показал новую сумму на пальцах — ой, бля, ну, ты мне надоел! — поморщился препаратор — Сисин ушел довольный, с ухом в тряпочке — Сарин оператор — англичанин-дурак — позвал его на Кутузовский посмотреть последнее танго Сары — он тоже влюбился в Сару — они все влюблялись в Сару и в конце ужина говорили: — Сара, мне хочется сказать тебе что-то важное— Сара деликатно уклонялась от объяснений — ей нужно было непременно узнать о правах человека — с этой целью она направилась в милицию — где встретилась с начальником местной милиции — человеком с совсем низким лбом — она сказала влюбленному в нее оператору, что она, либералка и пацифистка, должна улыбаться этой горилле ради того, чтобы получше узнать, как соблюдаются здесь права человека — а тот был многодетным кавказским чудовищем и больше ничем — последнее танго Сары — перед этим Клайв предложил Сисину выпить — Сисин выпил — они сидели, как двойники — влюбленные в одну Сару — хотя Сисин был влюблен дольше и успешнее лохматого Клайва — и все хотел каким-то образом это показать — ухо Сары горело у него в кармане — но он знал: ухо — не аргумент — Клайв включил телевизор — она танцевала с капитаном милиции — дело было в ресторане — или в гостях — Клайв, который снимал, сам не понимал, где находится — капитан ее подталкивал в комнату — она его подталкивала к людям — у нее было испуганное лицо — она делала оператору знаки — маленькие, милые европейские знаки — Клайв сказал, что к ее смерти это не имеет никакого отношения.
Мексиканцы сидели на корточках в ожидании ночи, чтобы нелегально перейти границу — Сисин приехал в калифорнийский райцентр в середине пустыни, поделенный на две части, как когда-то Берлин — нестерпимо хотелось в Мексику — он подошел к парочке американских пограничников — туда, в страну кактусных визионеров, можно было уйти свободно — через турникет — но обратно они сидели и проверяли — проп устите меня назад? — я только на полчаса — они посмотрели его удивительный паспорт и сказали — идите, пожалуйста — делайте, что хотите — он побежал в Мексику — сразу наткнулся на старую женщину, которая стирала белье, низко склонившись к корыту — как это бывает только в России — шесть шагов от границы — вокруг валялись ржавые машины, бутылки, бумага — было очень грязно — ему захотелось обратно, домой, в Калифорнию — поглядев на старую мексиканку, он направился в Америку — каково было его удивление, когда, войдя в дверь, ведущую в Америку, он увидел, что пришло начальство — Сисин хотел незаметно прошмыгнуть мимо него, как совок — издали улыбаясь знакомой парочке — но начальство вмиг поняло, что Сисин лукавит — ваши документы! — а какие у Сисина документы? — кроме его удивительного паспорта с однократной американской визой — тот, главный, в форменной шляпе, говорит: — вам нельзя в Америку — Сисин понял, что дело плохо — он понял, что не имеет права горячиться — во всяком случае, он понял, что ему не надо говорить, что он сын Иисуса Христа — он сказал: — я работаю в Лос-Анджелесе гостевым профессором — читаю лекции на основании своей книги — писатель? — вроде бы как писатель — главный даже расстроился — щит! [58]— сказал главный, писателей мы вообще не пускаем — оставайтесь в Мексике — идите в свое консульство за консультацией — Сисин совсем оробел — какое в пустыне российское консульство? — я же просто турист — посмотреть — я договорился с вашими коллегами — вон с ними — главный поглядел на коллег — парочка сидела с непроницаемыми лицами — Сисин им жалобно улыбнулся — те не ответили взаимностью — те просто искусно делали вид, что видят его первый раз в жизни — Сисин понял, что он остается в Мексике — без денег — без визовой поддержки — совок-совком — в самом центре пустыни — он струсил — он очень терпеливо сказал главному — я не знаю, как быть — помогите мне вернуться в Л. А. — я снимаю дом у вдовы в Вествуде — она врач — у нее большая практика — две дочери — но они в Сан-Франциско — она дала мне свой автомобиль — я приехал сюда — у меня с той стороны автомобиль — с американской — вы понимаете? — я просто вышел прогуляться — автомобильпонравился главному намного больше писателя— а где документы на автомобиль? — в автомобиле — смиренно сказал Сисин, чувствуя, что ветер удачи сноваподул в его сторону — главный выпрямился, сказал: — я не имею права запрещать вам свободу передвижения — проходите! — Сисин бегом побежал обратно в Америку — он обнял автомобиль вдовы — это была самая счастливая минута его жизни — но сначала он побывал в Нью-Йорке, где встретился с Берманом — мой друг Берман также подлежит немедленной ликвидации как лицо совершенно бессмысленное, утратившее первоначальные представления о религии, увлекшееся сначала гнозисом, а затем и вовсе переметнувшееся на Восток в слепой надежде припасть к нирване — писал Сисин в своем секретном докладе — это не вызывает у меня никакого сомнения, хотя как лицо еврейской национальности он, пожалуй, заслуживал бы отсрочки— Берман мрачно угостил его не только ужином в китайском ресторане, но, предварительно поколебавшись, и собственной японкой с христианским именем — раздвинув ей ягодицы, Сисин обнаружил солнце страны восходящего солнца — Сисин снова подумал: кво вадис? — надо выскочить из мясорубки, да, но как и куда? — из Сан-Франциско позвонил Маньке — телефон не отвечал — где ее черти носят? — не сидится ей дома — где шляется? — словно она не хотела заокенского прорыва, крупного перелома пространства — опять наплывала большая она-она— она танцевала в ванне, по колено в минеральной воде — уселись на кухне в большом доме — пили вино — заедали оранжевым сыром — по утрам писавший книгу о том, как жить без цели, Кевин не выдержал, раззевался, отправился спать — она-онатанцевала в ванне, рыжая и загорелая — знак Калифорнии, вылезающий из ванны — она-онатанцевала для него, массажистка, и он думал, что вот — совсем другая жизнь, другое все— обнявшись с обеими бывшиминемками, отрекшимися от своей образцовой страны — достаточно прожить с фарфоровой свинкой неделю, получая от нее инструкции, как себя вести и чего не делать — чтобы понять, что за радость такая — Germania— у-у-у! — в их душах тлеют угольки Освенцима — как мы с тобой хорошо проводим время — у-у-у! — как нам весело — у-у-у! — как тут воняет — дарлинг, что это?! — у меня такой чувствительный нос — в конце концов, в Страсбурге мы ели дымящийся окорок — вот съешь его и тоже станешь хрюшкой — завтра полетишь в Париж — вокруг (уважительно) бизнесмены — а ты хрю! хрю! — она расхохоталась — хрю! хрю! хрю! — Сисин сдержанно усмехнулся — вот видишь, как нам с тобой весело! — что подсказывает тебе твое маленькое сердечко? — я тебе еще нравлюсь? — в ванной не было света — она заметалась — да ты не закрывайся! — она высунулась — с искаженным гримасой лицом — я срать хочу! — а-а-а! — паучок снова полз по занавеске — пиздец любви — метаморфоза — Сисин цепко поймал его двумя пальцами и с удовольствием раздавил — одной дурой меньше! — подумал Евгений Романович, споласкивая руки — а что, если? — он содрогнулся, нагнувшись над раковиной — может быть, Манька тоже большая, усатая она-она? — издали похожая на слепня на вымени? — в Ирме было много немецкого — он зашагал под звездами в ночные ванны, где вторая немка спросила, не будет ли она помехой — нет — когда пар разошелся, возник при свечах высокий американский призрак — он стоял с махровым полотенцем через плечо и виновато смотрел на нас — он куда-то скользнул в сторону, растворился, явился снова, уже в очках — присмотрелся — мы тоже к нему присмотрелись — он выставил вперед свой член, глядя сквозь вспотевшие очки — обрезанный — большая новость — они все в Америке обрезанные — махало кадило — ВАЛЕНТИН, это вы, что ли? — прошептал Евгений Романович — какими судьбами? — почему вы такой высокий — и — и обрезанный? — Валентин стал тихонечко дрочиться на нас, бросая ласковые взгляды — он так был трогателен, так беззащитен в своем онанизме, что хотелось его подбодрить — с собой, однако, брать не хотелось — а вторая, черненькая, хихикала: хи-хи-хи— онанист со стоном спустил— Валентин внимательно протер член, словно хрупкий оптический прибор, пожелал нам have a nice night [59], удалился — и она сказала Сисину, гладя его лицо: you are beautiful [60], и он сказал: нет, это ты! ты! — женщина — это не игрушка — это святое что-то — тихая, неземная, она-онастояла возле кухни — на следующее утро они едва шли по горной дороге — навстречу им пробежал Кевин — при чем тут перевод на многие языки вашей неразумной книги? — она-онаочень долго и очень жалобно говорила ему по-английски — на что-то жаловалась — ее произношение было настолько неясным, что Сисин не понял ни слова — он только кивал — возле волн, при брызгах и солнце, при том, что он страшно не выспался, она-онапрочла ему длинный буддийский гимн — из океана быстро вышел мокрый Кевин — шет чот цунт, чот чот шет шет цунт цунт цунт-цунт цунт цунт-цунт-цунт-цунт-цунт-цунт-цунт-цунт-цунт-цунт-цунт-цунт-цунт-цунт-цунт-цунт-цунт-цунт-цунт-цунт-цунт-цунт-цунт-цунт-цунт-цунт-цунт-цунт-цунт-цунт-цунт-цунт-цунтцунт-цунт-цунт-цун— и я сказал: я могу идти к Папе только через слово, иначе никак — я не могу идти непрофессионально — такая вот незадача — однако в раю каждый день бросаюсь в библиотеку, чтобы со слезой почитать в газете о щепотке свобод для нашего медлительного, негордого народа — во Владимире, на повороте, почтальон простоял — встречая на майском ветру меня плюсамериканскую литературно-художественную пару — два, три, шесть часов подряд — верный разносчик телеграмм — поднялись к нему домой — по лестнице, пахнущей дощатыми сенями сисинской дачи в детстве — ни с чем не сравнимый полууютный запах — мы перед тем поели, радуясь осуществлению общей поездки — которую запрограммировали на коннектикутской вилле с точностью до дня полтора года назад — нас ждал обед, и американцы невежливо отказались от еды и выпивки, и я должен был жрать и пить и нахваливать — там в салате был лук, я не могу, потом все время он лез мне в нос — у меня расстроился желудок — вонючка ерзал в кресле — он был в основном теоретик — сидела невероятная владимирская переводчица, получившая за свои скудные сведения первый международный гонорар в виде пяти долларов — в комнату заглянули дети почтальона, чтобы увидеть американцев — мальчик и девочка — Сисин погладил их по застенчивым головам — как вас, ребяточки-козляточки, зовут? — Петя — а тебя, голубушка? — как? Маша? — замечательно! — отодвинули стулья — мать села за пианино — долго оправляла юбку — и раз! — Петя пустился вприсядку, неожиданно далеко выбрасывая ноги — Маша закружилась в толстых колготках на одном месте — американцы друг за другом сходили в уборную — пусть себе ходят, сколько хотят — добродушничал почтальон — у нас там целая пачка туалетной бумаги — хватит на всех — слив на цепочке с деревянной ручкой, крупные капли на потрескавшейся зеленой краске трубы — деревянный, натурального желтоватого цвета стульчак на низеньком унитазе — нарезанная бумажка в темно-синей сумочке с красной вышивкой, с бусинкой-брусничкой — Сисин п исал, косясь на родное — американцев отправили спать в Суздаль, отдохнуть с дороги — договорились встретиться утром — чтобы гулять весь день по Суздалю — ну, а теперь разговор по душам — почтальон позвал интеллигенцию — интеллигенция набросилась на салат — почтальон в рюкзаке заботливо принес двенадцать бутылок водки и одну — коньяка — на случай, если гость захочет коньяка — Сисин расчувствовался — он заговорил о духовном возрождении родины — о том, что нельзя слепо подражать иностранцам — об особой роли Владимирщины уже в совсем недалеком будущем — мы пили водку до утра — вы хорошие — отрыгивая луком, говорил на рассвете Сисин — я понимаю, почему вы патриоты — еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить — я не хочу вас убивать — зачем же нас убивать? — улыбались владимирцы — на слезинке ребенка дом не выссстроишь— объяснил почтальон — переводчица показала матерчатые куклы собственного изготовления — попа и работника его Балду — краснощекую Анну Каренину — собаку Баскервилей — чертовскиталантливо — прослезился Сисин — братались — договорились дружить — через неделю в местной газете опубликовали теплую заметку, как Сисин посетил древний город — on notait la présence de Jacques Podda, chef de corps des sapeurs-pompiers volontaires — М. Bouvard, président des parents d’elèves — М. Millo, président de la societé de chasse [61]— etc — ты лучше, чем мы думали — говорили владимирцы — мы думали: ты сноб и говно, а ты свой парень — с трудом чокнулись — давай на посошок — задымили папиросы — я иду приготовить место вам — с озабоченным видом говорил Сисин — а куда я иду, вы знаете, и путь знаете — за окном вставало солнце — Сисин стягивал с переводчицы свитер в перекуренной комнате с размазанным по полу салатом с горошком — родина богата салатом с горошком — она отбивалась, как только умеют отбиваться русские женщины — она боролась с собой и с ним одновременно — а ведь мы с тобой знакомы — сказала она, ослабляя сопротивление — ты помнишь? — они так устали биться над каждой частью ее туалета, что когда дело дошло до лифчика и выпорхнули груди, любовники упали, изможденные, на кровать и заснули мертвецким сном — ровно через пять минут явился интуристовский шофер — Сисин сквозь сон прогнал его пить чай на кухне — шофер пил чай вприкуску и говорил с женой почтальона о том, что небольшая война нам не помешает — с кем же ты воевать надумал? — певучим голосом спросила почтальонша — шофер уехал на полдня за бензином — американцы были озадачены — они в одиночестве болтались по Суздалю — хочешь, возьми попа илиАнну Каренину — да ну, что ты! — возьми-возьми! — ну, тогда я — Анну Каренину — я сейчас сварю тебе кофе — босыми ногами побежала на кухню — ремень валялся на полу — я подобрал его — Манька сидела возмущенная — ну, что же — сказал я — мы с вонючкой уходим — я не вонючка — сказал Никифор — я человек! — большая разница! — заметил Сисин — пошли! — нет, подождите — задумалась Манька — ладно, наказывай — снимай джинсы — распорядился Сисин — она сняла — осталась в белых слабеньких трусиках неделька— с красной каемочкой — многократно стиранных — висевших на многих батареях — как бедны (украдкой вздохнул он) наши девочки — и натянула зеленый свитер до колен — она считала, что ей идет зеленый цвет — она говорила, что любит деревья — входная расшатанная дверь ее квартиры закрывалась на палочку — они останавливались на прогулке, держась за руки, чтобы полюбоваться дубами, березами, липами — реже вязами и каштанами — каштан все-таки редкий гость Подмосковья — а платаны вовсе не растут — в народе их тем не менее называют бесстыдница— у нее всегда были мокрые ладошки — в основном лиственными породами — свитер тоже снимай, Муся! — Маньке не нравилось, когда Сисин звал ее Муся— чтобы досадить Сисину, когда Сисин делал не то— например, опаздывал на свидание — Манька звала его котик — котикбыл последним предупреждением — крыксабыл положительный полюс — за котикомначиналась ссора — Манька довольно покорно сняла свитер, пропустив Мусюмимо ушей — она была смуглой и загорелой — пусть смотрят! — она легла на живот — шаловливо не показав никому грудей — лежала, выгнув спину, как на пляже — Сисин встал, подошел к ней поближе — Никифор замер — снимай трусы! — приказал Сисин — вонючка задохнулся — так, весело сказала Манька, с этого места, пожалуйста, поподробней! — да ну тебя! — боясь рассмеяться, покачал головой Сисин — перестань! не смеши меня! — у вонючки обмякли губы — ну, снимай-снимай! — Сисин слегка подергал за резинку трусов — никогда! — откликнулась Манька-пионерка — как же я буду пороть тебя в трусах? — это твои проблемы — сказала Манька, обезьянничая — Сисин пожал плечами и сильно ударил Маньку кулаком в лицо — Манька отлетела в сторону — Сисин рванул трусы — из них выскочила черная пизда — вид у нее был неприбранный, обезумевший — пизда так и бросилась вонючке в глаза — он встал и снова сел, пораженный ее красотой — Сисин схватил ремень и что было силы стегнул ремнем по толстой ляжке — Манька взвыла от боли — она попыталась сопротивляться — но удар в лицо, кажется, совершенно сбил ее с толку — она испугалась — ляг на живот! — приказал Сисин — кому сказал!!! — она повиновалась — Сисин ударил ремнем по попе — выступил горячий красный рубец — больно! — взвизгнула Манька — Сисин только усмехнулся — знаю! — он стал беспощадно ее пороть — она издавала екающиезвуки — он развернул ее и нанес чудовищный удар пряжкой между ног — взвыв, она схватилась руками за пизду — Сисин стеганул по рукам — по лицу — по грудям — Манька запрыгала, как будто ее пытали электрошоком — Никифор в кресле захорошел — от него сильно запахло козлом — Женька! миленький! — дергалась Манька — Сисин порол с вдохновением — теперь он хлестал Маньку по животу, по ногам — он развернул ее жопой к вонючке и решительно показал ему весь ее промежный красно-коричневый срам — на, смотри!!! — Никифор, вывернув шею, смотрел — нравится? — да — тихо, как схимник, промолвил вонючка — ну, так возьми ее — это принадлежит всем! — Манька крупно подрагивала крупом — еби ее! — вонючка вскочил, с готовностью спустил брюки и пестрые, небоевые трусы — со своей косичкой он выглядел на редкость прогрессивно — Манька хотела было возра зить — но Сисин подскочил, снова ударил ее в лицо — так надо! — заорал он — молчи! — свекольный, скользкий хуй Никифора с длинной соплей на конце полетел навстречу растерзанной дыре — он напрягся и неожиданно разрядился в руках молодого порнографа — обляпав Манькину жопу — говнюк! — поморщился Сисин — он поймал вонючку за горло, хотел швырнуть его в кресло, но передумал — вылижи ей жопу! — скомандовал он — быстро! — Никифор, захлебываясь собственной спермой, быстро принялся лизать — Сисин смотрел на это неприязненными глазами — лижи-лижи — ну, и вонючая у тебя сперма! — запах спермы завис тяжело — давай! — ты же любишь ее! — не отрываясь, Никифор кивал — он кивал — оторвался, сказал: ХОРОШО — и снова лизал — хуй у него снова стал свекольного цвета — Сисину почему-то это не понравилось — он схватил вонючку за свекольный отросток и резко дернул — вонючка перестал лизать — я что-то не такделаю, Евгений Романович? — он виновато поглядел на Сисина — да нет, это я просто так — сказал Евгений Романович, забавляясь горячим отростком — Манька стонала во весь голос — Сисин принялся с новой силой стегать ее по спине, безжалостно дроча недоучку — в жопу! суй ей в жопу! — заорал Евгений Романович — Никифор, привстав на цыпочки, выполнял команду — больно! — вдруг басом сказала Манька — в ответ соседка за стеной заиграла на фортепьяно Шопена — она всегда играла, начиная с семи часов — в мирное время, лежа на Манькином диванчике, они злобно слушали дуру — опиши мне ее — просил Сисин — Манька задумывалась — она не умела художественно описывать людей — часы на кухне прокукарекали семь раз — Шопен разрастался — бо-б о— бо-б омне! — схватившись руками за попку, запричитала Манечка — шире жопу! — рявкнул Евгений Романович — аналь! да аналь ты ее! бля! веселей! — Манечке бо-б оочень! — пискнула Манька — она обернулась к Сисину избитым лицом — он даже не поверил — глаз был совершенно ранен — Манька была похожа на кубистическую блядь — вонючка, вот тут уж совсем некстати, опять кончил — он вынул изговнявшийся отросток — струйка жидкого кала потекла у Маньки по правой ноге — Сисин с омерзением оттолкнул Никифора в кресло — Манька бросилась Сисину на шею — Женька, миленький, не бей меня больше — пожалуйста — бормотала она — я люблю тебя— она никогда до этого не говорила ему о своей любви — она стеснялась — и потом, она боялась, что, если скажет, то как ей жить дальше? — непонятно, как жить — она будет во власти Сисина — израненное тело, капающее говном, обвивалось вокруг Сисина — Сисин умилился — в носу у него защипало — он упал на Маньку, и они так немного полежали — тихо — потом он погладил ей волосы и спросил недоверчиво: — правда, любишь? — глаз ее был чудовищен — да— сказала Манька, с любовью глядя на Сисина — незаметно они принялись нежно трахаться — вонючка тоже с умилением смотрел на них, понимая или скорее догадываясь, что до этого жил неверно и слишком погано судил о людях — он спохватился — на цыпочках пошел вон, путаясь в штанах — на пороге с чистым восторгом посмотрел на сросшиеся жопы своих кумиров — на их волосатое счастье — с тихим скрипом прикрыл дверь — в коридоре не выдержал, разрыдался — вдруг он понял, что у русско-еврейской культуры нет в России большого будущего — закончился целый период — ну, а теперь давай есть арбуз — сказал Сисин Маньке, когда Никифор ушел.
Я предтеча новой религии, которая родится из старого бормотания — американцы в одиночестве сожрали глазами Суздаль — полячка имела какие-то психологические проблемы, затем и приехала в рай, кажется, муж ее бросил, несмотря на большую мягкую грудь — Гражина — я пробовал ее обнять — судьба открывала все новые коридоры — она не обнималась, то есть обнималась, прося только о чулости [62]— мой смысл, мое назначение, испробовав все, сказать, что мир существует mostly [63]по недоразумению — клуб не работает — танцев нет — трусы велено снять — в трусах не танцуют — mostly Mozart — Россия не для счастья — сучит ногами по ошибке — помрет, не обидно — развалится, тоже неплохо — однако я все думаю — своим несосредоточенным мозгом, своим бессмысленным умом — откуда это? — откуда пошло? — от ледовитых, переродившихся родителей? — на день рождения я подарил отцу карточку «American express» — научил ею пользоваться в финском магазине «Stockmann» — у него от волнения дрожали руки — карточка падала на пол — он никак не мог поставить подпись в нужном месте — он всю жизнь воевал с Западом — продавщицы глядели с подозрением — Роману Родионовичу казалось, что его сейчас арестуют — нет, он лучше, чем сам о себе думает, Сисин выше свалившегося на него успеха, своей шарлатанской книги — почему он нарушает, готов нарушать, почему на мир смотрит, как на представление, от которого скушно, зевает, ничто не в радость, приелось, и Россия не в радость, надоела, старая курва, почему он такой, не другой, а? — куда пойти покаяться? — Берман принял меня неохотно — поехали, только быстро — он любил приказывать, давить — подозревал всех, кроме себя — я знал, это залог будущей катастрофы, но не вмешивался — мой интерес к нему любопытнее его спасения — он пощупал мне пульс, сказал со значением: — еще поживешь — он всегда со значением: — то буддист, то оккультист, а квартиру, говорит, продам: дороговато — только сначала я думал: а может, отправиться спать? — летел из Парижа, не то чтобы устал, но все-таки шесть часов разница — уже по-парижски утро, Сара идет на работу, и смята постель — еще теплая, я только что выпрыгнул — мне плевать, мне весело, я устал как собака — хватай такси, твердо так, даже с некоторой обидой — я в такси, по Бродвею, смешно, приехал — после летел на самолете через все эти штаты-штаты и думал: — будет помнить с благодарностью — вся жизнь пройдет, будет помнить, это сильнее крахмальной двуспальной постели — в середине вечера вдруг объявляет: — I am a bad girl! [64]— мы нежно осудили ее, поцокав языками — японское вранье — она сама поняла, что вранье — открыли шампанское, вспомнили прошлое, по-английски, из уважения к японке — японка рада, устала, дали передохнуть — мы с ней долго трахаемся, но не кончаем — Берман гладил ее по головке, сидя в позе лотоса — зачем кончать? — экономим энергию — он встал и вышел в уборную — тебе не кажется, что у него трудный характер? — спросила молодая японская женщина — он какой-то негибкий — я пожал плечами — ради него я переехала в Нью-Йорк — я оживился — новизна, вот что полезно — страна восходящего солнца — она ласково провела мне по хую, прощаясь навсегда — мы перемигнулись — она засмеялась — вы чего? — удивился Берман, входя — пошли в китайский ресторан, там никого не было, есть мне не хотелось — устал — катаются на роликах — воскресенье — звуки Нью-Йорка — невидимый сосед играет на большой трубе — пожарные сирены — звонит телефон — телефон! — лениво кричу я Берману — нет! — отвечает он мне — развеваются занавеси — звонит телефон — что значит нет? — это не телефон — Берман начинает рыдать от хохота — это попугай — он научился звонить телефоном — я не верю — звонит телефон — Берман открывает клетку, хватает волнистого попугайчика в руку, кричит в его синее тельце — алло! алло! — попугай перестает звонить — алло! — кричит Берман — здравствуй, сокровище! я принял решение! мы разводимся! — Берман вешает трубку — он стряхивает с ладони перья на пол — теплынь — я выхожу на балкон — они лежат на Риверсайде, подставив спины солнцу — самолет на веревке тащит по морскому небу за собой надпись — love your mother! [65]
Мы похожи — на конференции я высказался — идет дебилизация — у нас Сталин — Ленин вырезали интеллигенцию — мы стали овцами — вас вовсе не понадобилось резать — одобрительно гоготнула аспирантка с Ямайки — эмалевые лица арабов — арабы горячо и лукаво долго жали потом мне руку — в Мейне — краю омаров — Евгений Романович затосковал по России, несильно, пресыщенно, равнодушно, по живым глазам, разговорам, по елкам, что ли, по свежим щам — Россия представилась: с северными закатами, розовыми, с длинными облаками — в Бар Харбор приехали к вечеру — по скрипучим доскам шли в номер — открыли окно — поглядели на залив — через комариную сетку — плескалась вода — меня выгнали с работы — поздравляю — настучали за общение с тобой — он думал об американском доносительстве — все быстро забывалось — история доноса забылась тут же, не было, чем связать — она не прошла детектор лжи — прикрепили проводки — стали задавать вопросы — к чему проводки прикрепили? — она ожидала не этого вопроса — Воркуте казалось, что Сисин, узнав о детекторе, шепнет ей в ухо: marry me [66]— она медленно развивалась — по Флориде ходила высокая, в шляпе с широкими полями — marry me — входила в жаркий, соленый Гольфстрим — marry me — ночью в «Holiday Inn» медленно разворачивалась навстречу Сисину — ущипни меня за щеку — как? — не понял Сисин — ну щипи! щипи! — как-то совсем незаметно Воркута стала феминисткой-мазохисткой — любила и просила щипать — но щипи, пожалуйста, так, чтобы я не теряла при этом чувство женского достоинства! — это не очень согласовалось с ленивыми, слабыми жестами — с движением руки за голову — с цветными бусинками ее браслета — с облизыванием губ — Сисин не доискивался истины — я женщин не щипаю — оправдывал он свою неумелость — ужинали на старом вокзале, переделанном под ресторан — Сисин заказал паровой лобстер — старый официант повязал ему пластмассовую салфетку с изображением любимого блюда — за окном мост блестел, как детский конструктор — по мосту шел негр в красной вязаной шапке — на Западе он беспрестанно жрал — наворачивал килограммовые бифштексы — на десерт съел мороженую фантазию с персиками — на третий год понял, что наелся и что жил в голодной стране — название моей книги — ВП— не надо воспринимать буквально — наклонился Сисин к Воркуте — оно плохо переводимо — но это тоже не вся правда — вся правда — вокруг сидели американские шестерки — качали головами — с невозмутимыми лицами — их старинный идеал: — невозмутимые лица — куда нам, дуракам, с нашими подвижными, как подвижной состав, физиономиями — из ресторана шли мимо скромного кладбища — что ни говори, а кладбища — тонко заметил Сисин — это единственный приют хорошего вкуса в Америке — он шел в элегантном синем пальто — Америка — это липа — в кармане пальто оказались семечки и недокуренная пачка «Беломора» — иди сюда — сказала Воркута с усилившимся от волнения акцентом — она включила белый шум — тряся пшеничной гривой, легла в роскошную постель — ее стало тяжело ебать — это как тяжелый рок — расставила толстые ноги с крепкими икрами — он прикинулся, что ему интересна программа бытового американского юмора, которую он плохо понимал или совсем не понимал — ты говоришь на русскоманглийском — сказала Воркута из постели — и вдруг, прислушавшись, захохотала над шуткой — что он сказал? — она пыталась объяснить, теряя текущие шутки — я знаю, почему ты написал Век Пизды! — в два счета стянула с него трусы — ты отомстил — тебя мама мало любила — нет — сопротивлялся Сисин — когда она взяла его за яйца, он почувствовал, какие они маленькие, никудышные — яйца — подожди— дрочась, она как будто добывала огонь — ее огромная блондинистая пизда дымилась от перегрева — она так шуровала рукой, что казалось, пизда вот-вот отлетит и покатится по комнате, как колесо — ты слишком меня любишь и потому заранее переживаешь свой отъезд! — шумно дышала могучими легкими — теребила его член — посрамленный Сисин готов был согласиться на любую интерпретацию — вибратор! вибратор! — достала вибратор — терла себя беспощадно — Евгений Романович со спущенным хуем загадочно лежал рядом — тебе понравился ВП? — наконец спросил он — ты сводишь счеты с мамой — кого это может заинтересовать? — ты серьезно?! — ему стало обидно как метафизическому барчуку, задумавшему финальную игру в гекатомбу — он всосал часть большой груди и кое-как пожевал все это вместе с соском — Воркута бурно заохала — испустила долгий гортанный звук виляющей жопой — ей захочется командовать Россией, как моими яйцами — насторожился Сисин — он стал часовым — Манька, звавшая сисинский хуй бегемотом— чем отличалась от других, никак хуй иначе, чем ОН, не называвшими — считала, что он бегемотаневолит, загоняя в нелюбимые отверстия — она права, украдкой вздохнул Сисин, лежа в Америке — вспоминая неуловимое выражение теневых Манькиных глаз — капающую из носа русско-мусульманскую кровь — висловатая жопа — дряблые ляжки — обильное выпадение волос — запах изо рта моей замарашки — так, наверное, могла бы выглядеть моя вдова.
Звонки в Москву вызывали падение настроения на целый день — там все было плохо — Ирма грозила расправой с подонками, ударом по чьей-то морде — вдруг выскочила Манькина фамилия — когда Манька терялась, не знала, что делать, как сесть, куда сесть, или в метро наступала кому-нибудь на ногу, она показывала язык — покажет быстро и спрячет — так многие русские стеснительные девушки в момент растерянности показывают язык — покажут и спрячут — а он в духоте, лишенный права на вопрос: как ты? — было ясно, что он делает что-то не то, от избытка невнятных чувств, тщеславия, а также непонятно почему — Воркута призналась подруге, что они ездили во Флориду — показала фотографии — та молвила, обдумав, по телефону, через две недели: наши пути разошлись — затем муж — работавший в Москве — предложил донести, ссылаясь на собственную безопасность — она пошла, без всяких сомнений, убежденная, что подруга предала родину — приехала в местную безопасность и донесла, как просралась после запора — стало легче — ее преступление было незримым с точки зрения здравого смысла — в Мейне пахло Севером, особенно на самой границе с Канадой — она сдавила переносицу — села на постель — водила пальцем по подушке — дрожали бусинки браслета — ты бесчеловечный, сказала Воркута — тебе никого не жалко — он был приятно потрясен человеческой подлостью — его к тому времени все раздражало — он приезжал в Америку удовлетворить детские желания — обогатиться — из Сан-Франциско дозвонился наконец-то до бабушки — та уже совсем распадалась — она жаловалась на здоровье и просила, чтобы он берег себя, кушал лучше — как там, в Америке, с фруктами? — я скоро уйду — хрипела она утробным хрипом — я сон видела — брат-авиатор, разбившийся на территории своей летной части в 1930 году, робкий муж в пенсне и совсем забытая мама, втроем, склонившись к ней, звали к себе — подожди, не уходи — сказал Сисин — дождись меня — не уходи — в Вермонт приехала Римма Меч — с тех пор, как они не виделись, она, не став министром культуры России, стала поэтом смерти— надо спешить — подумал Сисин — смерть превращается в банальность — Феликс ушел от меня — сказала Римма — Любка-сучка вцепилась в его депутатский мандат — какая еще Любка? — твоя подружка! — не знаю я никакой Любки! — в память о нашей с Феликсом любви я посадила перед дачей в Болшеве два кипариса — как ты думаешь, не вымерзнут? — наконец я все поняла — сказала она Сисину — для Ахматовой и Пастернака похороны были праздником, на них соберутся люди — это сказочный театр — после труда умирания праздник смерти — застолье поминок — Римма выглядела по-прежнему довольно немытой — с сальными волосами — ее лекция имела успех — вчера, на Римминой лекции, явилась в новом обличье — прикинувшись эмигрировавшей московской поклонницей — она-онапрошла тяжелый путь от фабричного общежития в Орехово-Зуеве до уборщицы богатой галереи в Нью-Йорке — с особым упором на собственную непонятость — на одиночество в момент смерти матери, наступившей в день ее двадцатилетия — маловнятная череда мужчин гналась за ней, но американцы поразили ее серьезностью подхода к трахательным делам — ее волновали жаргонные словечки — крутой мужик, кайфово — сто лет не слышала! — она-онавосприняла случившееся как братское кровосмесительство — была сочиста, сочна, незловонна — цветок московской тусовки — наутро проспали — вечером она в душ — он подполз на коленях по коридору — глянул в скважину — вспомнил детство — в детстве подсматривал домработниц с дремучими, таежными пиздами — раз вместо Веры случайно, ползунком, подсмотрел Веру Аркадьевну — ее медного цвета живот — с горизонтальным секретным шрамом — не мог забыть — годами ждал за это наказания — из далекой Сибири ночью позвонила мать Бормотухи — вы не знаете, где моя девочка? — понятия не имею — что же мне делать? — в ее голосе Сисин услышал слезы — позвоните в ее институт — в какой институт? — я так понял, что она учится в институте — в каком институте? — может быть, я ее неправильно понял — это кто так поздно звонит? — истошным голосом закричала Ирма — она-онасбегала пописать — он снова прильнул — актриса Грушева тщательно и меланхолично протерла аккуратно стриженную пипку бумажкой — он смотрел с ленивым любопытством — бросила в унитаз — затем так же тщательно и меланхолично протерла попу указательным пальцем — палец застыл в воздухе — она понюхала его, наклонившись — с сосредоточенной, злой физиономией — еще раз понюхала — задумчиво провела пальцем по стене, оставляя тонкий каштановый след — стены разлетелись в разные стороны, его закрутило — он хотел приподняться — не получилось — горло сдавило — он блевал на дверь уборной — вокруг него бегали маленькие возбужденные собачки — on notait la présence d’Alain Legras, président du comité des fêtes — 1’adjudant Petit, commandant de la brigade de la gendarmerie nationale — de Jacques Podda, chef de corps des sapeurs-pompiers volontaires — М. Bouvard, président des parents d’еlèves — М. Millo, président de la societé de chasse [67]— последний жаловался Сисину на мимозу — чертово дерево! — говорил Мийо с мокрыми, зачесанными назад волосами — разрастается не по дням, а по часам — захватывает склоны, набережные — любое пространство — приходится выкорчевывать — но это, поверьте мне (охотник покачал-покивал, покрутил головой по-французски), дело нелегкое! — к тому же эфирные масла — горит на пожаре, как факел — авторитетно поддакнул помпье — собачки набегали друг на друга — карабкались — тряслись — отнимали у Евгения Романовича последнее удовольствие — покусывали друг друга — бесшумно выскользнула красавица Грушева — что с вами? — блюю — виновато ответил Евгений Романович — утираясь.
Кончался пиздячий век.
Когда мне сказали, что я сын Иисуса Христа, я не поверил. В этом идиотском мире возможно, конечно, все, но, во-первых, не согласуется с богословием: едва ли была задумана продолжаться Божественная династия. Хотя, с другой стороны, мои теологические познания не отличались большой глубиной. Библию я читал местами, как все, не до конца. Кроме отдельных сцен, религией там не пахнет. Тоска зеленая, бытовщина. Евангелие читал повнимательней — понравилось — но тоже не скажу, что все — слишком много угроз и торговли — написано явно не интеллигентными руками — хотя как прием — с четырех сторон — без стыковок — с противоречиями — как разорванные руки в «Танце» у Матисса — неплохо — очень даже — однако, mon cher Лука, нельзя же так в лоб с чудесами! — рассчитано больше на дикарей.
Когда в природе возникает долженствование, она всерьез задумывается над ним — деликатная личность смертна не менее дикаря — нужно новое поколение метафизики, как в ракетах, компьютерах, мясорубках — естественно, меня не покрестили — мама, а ты крещеная? — Вера Аркадьевна недавно помягчала к религии — раньше только фыркала — крещеная — мама, ты любила кого-нибудь, кроме папы? — что с тобой? — даже японскую чашку отставила — у нас с Верой Аркадьевной любезные, кофейно-чайные отношения — мне сказали, что я не от него — перестань говорить глупости! — кто тебе сказал? — не клади за столом ногу на ногу, по-американски — Вера Аркадьевна — мастерица переводить разговор на другую тему — советская выучка — она, возможно, единственная марксистка, которую я встретил в своей жизни — у нее все определяется низкими, экономическими соображениями — для нее, как и для Романа Родионовича, иностранцынавсегда остались манекенами со стеклянными глазами — даже меня, исправно покупающего ей в Парижахбелье и всякие кофточки, она упорно подозревает в скупости — правда, Манька в этом смысле тожебыла марксисткой — мама, ты когда-нибудь встречалась с человеком, то есть я хочу сказать — скажи, что ты думаешь об Иисусе Христе? — в наше время он бы очень пригодился для поддержания нравственности — мама, он же не милиционер! — да? откуда нам знать? — она всех их видела на кремлевских приемах: Хрущева, Булганина, Гагарина, Шарля де Голля — в Париже они с Романом Родионовичем даже видели Кеннеди — Роман Родионович не пресмыкался перед американцами — как ни странно, они его уважали — больше того, через него они передавали ценную информацию — только теперь можно открыть секрет — именно по каналу этой недипломатической связи США впервые дали понять, что не будут вмешиваться в Праге — только побыстрее со своими танками! — естественно, Брежнев поцеловал его в губы — впрочем, тоже украдкой — у Веры Аркадьевны в шкафу до сих пор хранятся под нафталином вечерние платья — громоздкие туфли на высоких каблуках — она была целеустремленной студенткой в белых носочках, в туфлях с перепоночкой, которую отлили в бронзе на станции метро «Площадь Революции» — несомненно, Вера Аркадьевна вызывала к себе интерес ангелов и херувимов — я родился в памятном 195… году в процветаю щей и дико благополучной семье — на этот раз никакого хлева — полный блеск имперского материализма — даже бабушки тайком не помышляли о религии — одна жила напротив Кремля — другая — в Ленинграде — мама Веры Аркадьевны была запойная читательница — она прочитала за свою жизнь целые библиотеки книг, но отличалась неверной памятью и перечитывала все по новой, не отрываясь, рыдая над хорошо забытым вымыслом — вторая вообще ничего не читала ни разу — но ее энергии мог позавидовать Днепрогэс — Роман Родионович с отстраненным взором проследовал в спальню — видать, занедужил старина — он никак не мог примириться с двуглавым мутантом — орел клевал его красную печень — предстоял малоприятный разговор с матерью — мама, для меня это жизненно важно! — от этого зависит — ты даже не знаешь что! — ты когда-нибудь изменяла отцу? — ай-яй-яй! — она укоризненно, по-светски покачала головой — что это с тобой сегодня? тебя опять обругали в газетах? — плевать мне на газеты! — ну, не скажи — Вера Аркадьевна знала, что сын темнит, что-то утаивает — что ему больно, когда ругают — по телевидению ты опять выступал какой-то непричесанный — не понимаю, неужели твояИрма не может тебя научить причесываться, вовремя стричь ногти и волосы в носу? — это, в конце концов, неприлично! — мама! ну, что ты такая нетеплая! как будто шведка какая-то! — дорогой мой, иметь самообладание — еще не значит быть шведкой, ты сам прекрасно знаешь, что я желаю тебе только добра — ты же моя мама! — Сисин даже несколько растерялся — ну, разные бывают матери — вспомни Мориака! — нам в нашей заграничной работе приходилось сталкиваться с недоброжелателями, черт побери, с открытыми врагами — в конце концов, мы с папой служили России, как бы ее ни называли — никогда я не услышал ни слова раскаяния — на месте Христа я бы ее оттрахал, Жуков! — медная травма — клянусь тебе!
Редкий в истории России случай — размышлял на бумаге Аполлон — насладиться всем: славой, бабами, деньгами, путешествиями — они(кто?) швыряли в него пригоршнями подарки, отбирая право сосредоточиться — он жаловался, что не может собраться и думать — дни летели, часы превращались в минуты — Сисин заклинал себя просыпаться в десять — вставал отвратительно — полпервого — каждый день без всякого желания вставать — так бы и проваляться до ночи — и опять до утра — неделю — месяц — вывариваясь в ночном поту — переворачиваясь с боку на бок — переворачивая подушку — залезал под горячий душ — в отличие от прошлых времен, ничто под душем не лезло в голову — стоял пустой, с пустыми яйцами, под горячей водой — наступила какая-то эмоциональная кома — он перестал воспринимать, плохо слушал — в него втекал очередной рассказ, очередная предтрахательная исповедь — его угнетала бабья болтливость — он сходил за вином и выбрал подешевле, какой-то калифорнийский кувшин — она-оназавела разговор о муже-программисте, о его дорогих галстуках — ушла с первого курса ГИТИСа — любимый преподаватель ее изнасиловал, зазвав домой смотреть кинопробы — Сисин слушал с очень слушающим лицом — такое лицо он себе натренировал — задрав ногу на ногу — ты был самым европейским из всей этой шоблы — доносился до него ее голос — еще тогда, в Москве — выходит, острота переживания — это только удел молодости и неудачников? — наморщил лоб Жуков — зачем им(кому?) понадобилось доводить его до тотального пресыщения? — до тотальной деконцентрации мозгов — во время прощального бала студентов они побежали между казарм — между кирпичными копчеными домами Новой Англии — забрались на второй этаж нар — на нарах было пыльно — поеблись на скорую руку — его обыскались — он так и не понял, кончила ли она, да и не поинтересовался — Мандельштам писал бы полжизни о ней стихи.
Сисин тычет вилкой в капустный пирог — делает вид, что завтракает — Спиридонов, глядя на него, пустился в пляс — на кухне, напротив кремлевской поликлиники с ее спокойным куполом бессмертия, повисшим над арбатскими переулками, он пляшет под «Европу плюс» — пристрастился к танцам — все пляшет и пляшет часами — в квартире, буфете, кино — танцы ему заменяют потерянный андеграунд — иронически посмеиваясь, Сисин рассказал о провале идеи голландской башни русского творчества — а мне не предложили и не предложат — усмехнулся Спиридонов — какой я, к черту, творец! — я жулик, который боится разоблачения — ошибаешься! — возразил Сисин — тебя объявят страдальцем и канонизируют за невыносимую чистоту линии — никогда! — нахмурился Спиридонов — в перерыве между танцами Спиридонов сказал, что русские — это маугли — они прошли возраст, когда учатся разговаривать — они навсегда останутся животными — они скоро вымрут — заверил его Сисин — хорошо бы — вновь заплясал Спиридонов — хорошо бы — плясал он — русский человек — добавил Сисин — больше удивляется тому, что ружье стреляет, когда он нажимает на спусковой крючок, чем тому, что оно калечит и убивает — Спиридонов соглашательски плясал — не веря в Русь — и снова пляшет и пляшет — Воркута отозвалась письмом — почему ты порвал со мной? — Ирма, встреченная в Нью-Йорке, была охвачена истерикой — Сисин чуть было не пропустил ее прилет — тяжелые самолеты — она звонила из Гандера, куда Аэрофлот залетает заправиться — он был в Коннектикуте у литературно-художественной пары, которую положил считать друзьями, не вдаваясь в подробности — the couple [68]справляла десятилетний юбилей своей скаковой лошади Pushkin— the miracle (по их словам) of the stable [69]— пили за чудо конюшни — за копейки проплыли мимо статуи Свободы — недолго смотрели из бухты на Манхэттен — два здания мировой торговли превратили (сказали друг другу Сисин и Ирма) Манхэттен в нечто устойчивое — Берман вынужден был продать богатую нью-йоркскую квартиру — дорвавшись до денег, мадам Берман растратилась на тряпки — одних туфель «сокровище» накупила свыше 400 пар — она наотрез отказалась от гуталина — грязные туфли она выбрасывала — когда я пришел к ней, она выползла, как тень, было страшно смотреть на бывшую красавицу — он меня, кажется, бросил — буддист, а, блядь, такой жмот! — она все не верила — попугает и останется — они с двоюродным братом то начинали его поносить, то думали, как удержать — вы определитесь, сказал я, хотите вы Бермана или нет — такая постановка вопроса их озадачила — вот и Сара любовно советует: пиши проще, пиши глупее, развлекательнее — для Америки нужно писать реализм— Сара заснула, ласково засунув указательный палец Сисину в рот.
В «Ротонде» встретились — я издали увидел его скептические черты — приветственно приподнялся навстречу — он только что вернулся из Англии — ничего не хочет — только пьет и гуляет — Фредерик — попробовали повеселиться — ходили по барам — по частным клубам — напились — ругали Париж — в Лондоне было повеселее — в Лондоне не было веселее — нет — сказал Фредерик — веселее всего было в Москве — конечно — сказал Сисин — в Москве ты был важной персоной — в Нью-Йорке они снова напились — с тремя рыцарями нью-йоркской порнографии — работать в ней вредно для цвета лица — они вызвали Фредерика поднять им уровень продукции — припудрить французской иронией — нью-йоркский ранний Маяковский, Ник, с длинной косичкой — застенчивый бунтарь, он боялся теще сказать, что работает в порнографии — суперзадастый Дэйв, победитель последнего конкурса САМАЯ БОЛЬШАЯ ЖОПА НЬЮ-ЙОРКА (приз $50 000) — протестант/ ценитель порнографической музы, пожиратель жареных орехов — enfin [70], выходец из Восточной Европы, прыткий, стареющий польский пан Юзек — пан Юзек сразу стал хвастаться Сисину роскошными бесплатными ужинами с выпивкой, которые в Америке во множестве имел — тутай можно вспаняле жичь! [71]— все трое лениво хотели быть левыми, остроумными — как французы, совмещать секс и политику — но остерегались «проливать кровь», кое-как жили за счет рекламы hot lines [72]— мы попросили показать нам что-нибудь нескучное — в Даунтауне открылся новый с/м клуб — Дэйв навалял хвалебную статью — прошли через татуированные бицепсы — семи зрителям показывали за $20 истории о жестоких медсестрах и средневековых грешницах — грешницы в новомодном белье закатывали глаза, хихикали невпопад — актрис т-т-точно из них не выйдет — меланхолично выдавил из себя Ник и энергично, как все заики, махнул рукой — в соседних комнатах стояли топчаны, обитые черным кожзаменителем — висели розги — жовиальный мини-Фредерик заглянул — c’est quoi, ça? [73]— ошейник с шипами, палки на ремне — он нас приветствовал, сняв шляпу — с кривыми ногами ковбоя — мы разговорились после спектакля — торговец нью-йоркской недвижимостью — забыл представиться — поведал грустное: — у него было две жены, но ни одна не желала его пороть — пришлось развестись — на миг ему показалось, что мы готовы его выпороть — Дэйв понимающе похлопал его по плечу — тот расцвел в предвкушении — мы вежливо отказались — а нет ли в городе чего-нибудь повеселее? — спросил я — рыцари переглянулись — может быть, транс-с-с-сексуалы? — предположил Ник — ну их в жопу! — скривился Дэйв и с удивившим меня проворством вскарабкался на табурет за стойку бара — здесь не Амстердам— набросился он на жареные орехи — а в Амстердаме говорят: здесь не Нью-Йорк — заметил я — Дэйв хрипло расхохотался — его чудо-жопа свешивалась со всех сторон — пан Юзек обиделся было за Захуд [74], однако смолчал — Ник стал хвалить Кубу и ругать Иосифа Бродского как человека, профессора и поэта — Фредерик улыбался и пил неразбавленный скоч — на рассвете, расставшись с рыцарями (пан Юзек хотел было увязаться за нами, но передумал, остался с «медсестрами»), поехали на Фултонский рыбный рынок от нечего делать — ходили по рынку — на рынке кипела работа — нью-йоркский пролетариат терзал рыбу — шла дикая перекладка рыб по всем направлениям — люди ходили с ножами и в фартуках — рыбы трепыхались — мы смотрели на рыбы — наконец утомились, сели в Paris cafe возле рынка и заказали устриц — вокруг люди завтракали и пили кофе — вокруг пахло рыбой — слушай — сказал Сисин, особенно бледный после бессонной ночи — что же такое получается? — а что? — спросил Фредерик — понимаешь: все, что можно, то скучно, а что нельзя, то нельзя, или ты просто не человек — выходит, что так — согласился Фредерик — у меня к тебе есть предложение — ну? — сказал Фредерик — Сисин откашлялся: — видишь ли, 1’indifference générale montre que les hommes ont soif de la fin [75]— что-то знакомое — Фредерик с хрустом почесал небритую щеку — тем более! — обрадовался Сисин — давай совершим преступление против человечества! давай их всех уничтожим! — хозяин-ирландец подал устрицы, а вина не подал — подал кетчуп — кто же ест устрицы с кетчупом! — в этот ранний час подавать вино в Нью-Йорке незаконно — Фредерик принялся убеждать ирландца — но Сисин только рукой махнул: он уже знал Америку — безнадежно — есть устрицы без вина это, конечно, не дело — без вина устрица — не устрица, а медуза — стали пить лимонад — кого ты хочешь уничтожить? — спросил Фредерик — людей — каким образом? — у меня есть средство — а мы спасемся и начнем новую жизнь — Сисин уронил устрицу на рубашку и по привычке чертыхнулся — нет, сказал Фредерик, я не хочу — чего ты не хочешь? — не хочу никакой новой жизни — пусть будет так, как есть — ну, это же тоска — сказал Сисин — ну и что? — сказал Фредерик — Сисин стал настаивать — Фредерик ни в какую — у нас с тобой разные фантазмы, сказал Фредерик — к тому же, я люблю хорошую обувь — а ты носишь дрянь — это дорогие ботинки — сказал Сисин, выставляя желтый ботинок с пряжкой — я не говорю, что они дешевые — Сисин промолчал — пусть они живут, мудаки — добавил Фредерик, расправляясь с устрицами — я не хочу брать на себя ответственность за то, что они подохнут — но я же Бог! — сказал Сисин — я все устрою — может, ты и Бог, сказал Фредерик, но мне это не интересно — что не интересно? — обиделся Сисин — он, можно сказать, впервые в жизни кому-то признался! — открылся! — а Фредерику не интересно — поехали спать, предложил Фредерик, мне надо пол-одиннадцатого идти к мудаку-мэру брать интервью — Сисин доел свежие устрицы без всякого удовольствия — только ты никому не говори о моем предложении, сказал Сисин, мало ли что — предложение, конечно, фашистское — одобрительно позевывая, сказал Фредерик, видя, что друг обиделся — так не скажешь? — не напишешь? — не волнуйся, сказал Фредерик, они этого даже печатать не станут — тоже верно, кивнул Сисин, поехали спать — пахло рыбой.
— Почему ты не пользуешься холодильником? — удивился Жуков.
— У меня есть погреб, — объяснил Сисин, — настоящий бункер! Генерал выстроил его на случай ядерной войны. Пошли, покажу.
— Впечатляет, — огляделся Жуков, — картошку хранишь?
— Храню, — сказал Сисин.
— На случай потопа? — Жуков хитровато подмигнул и, довольный шуткой, погладил бороду.
Сисин испытал странное чувство. Он даже не успел прийти в ярость — он просто вышел из себя — он ощутил страшную боль в голове — казалось, мозг раскалывается на две половины — зажмурившись, он попытался справиться с болью — но нет — он просто с треском вырвался из себя — он увидел двух друзей в полутемном, цементном бункере — почувствовал резкий запах гниющей картошки — он поразился своему тщедушному пузатому тельцу — которое всегда представлялось ему цветущим, молодым и очаровательным — ему стало нестерпимо жаль себя — застывшего в обиженной нищенской позе — втянувшего голову в плечи — нескладно побритого — взъерошенного — носителя нелепой человеческой фамилии — взять псевдоним? — или не брать? — он всю жизнь болезненно стеснялся своей фамилии, страдал от нее — на темной улице в Беркли Барлах заметил при Ломоносове, что, по его глубокому убеждению, Век Пиздыцеликом родился и выплыл из сисинской фамилии — Mr. Tits! [76]— немедленно сделав перевод, фыркнул Ломоносов — новыйСисин, который уже был не Сисин, не мистер Титс, почувствовал, что сейчас — за дело! — он разнес бункер — опрокинул дачу — сжег поселок — березовый лесок — прилегающие поля — деревни — согнул в дугу железнодорожные пути — бросился в город — растерзал в клочья большую дуру Москву — сорвал крыши — порушил высотные здания — проломил мосты — уничтожил все вокзалы (кроме Савеловского, который не заметил) — сковырнул библиотеку имени Ленина — разнес Новый Арбат — Большой театр — Лубянку — Замоскворечье — распотрошил склады — вырвал из земли Останкинскую башню и бил ею, как колотушкой, кружевные павильоны ВДНХ — вдавил в землю засранные заводы — растоптал сотни тысяч машин — разломал крашеную игрушку Кремля — пинком в Москву-реку отправил с горки Университет — оглянулся — плюгавый Жуков бежал, пригибаясь, по голому полю — Жуков, который посмел — его гнев перешел в сотрясающий хохот — он поймал плюгавого Жукова, хотел превратить его в мокрое место — вместо этого откусил ему голову — он заметался — рванулся туда-сюда — гоняя во рту языком голову друга, как леденец — увидел огромную лужу — в злобе выплюнул голову друга в сторону океана — пронесся над Атлантикой — постепенно успокаиваясь — разжал ладонь — выпало в воду безглавое туловище — увидел гирлянду зеленых островов — пляжи — длинные волны прибоя — дамбу — крохотный истребитель завис над дамбой — он резко поворотил назад — очнулся от толчка — у него начались одинокие полуторачасовые поездки в набитом городском автобусе через Беверли-Хилз, через черные и желтые опасные кварталы — бестротуарный город будущего — лос-анджелесский славист принес ему почитать свой рассказ — есть такие широкобородые — очкастые — рыхлые — они, как правило, вторичны.
Калифорнийская вдова, кудрявая, резвая малышка лет 60-ти, чьи родители вышли в небо через трубы Дахау, на старой «тойоте» под блюзы, под блюзы завезла Евгения Романовича в рай — рай состоял из растений, собранных по богатым и бедным мещанским квартирам, от герани и фикусов до хлебных деревц — высаженных на взморье — рай состоял из черных блестящих птиц с наблюдательными глазами — там можно было забыть обо всем — вставать на рассвете — валяться на солнце — кормить в бухте морских львов — сидеть в серных ваннах — кормить пятнистых белок — вдыхать эвкалипты — смотреть в костер — танцевать под африканские барабаны — как мало успевают люди в своей повседневной жизни, засоренные невзгодами! — закричал Сисин калифорнийской вдове, стараясь перекричать нигерийский оркестр — весь рай плясал ритуальный охотничий танец — стучали об пол голые пятки — бу-бу! — бу-бу-бу! — бил в барабан старый, в пестром бубу барабанщик, сверкая ладонями и обезьяньими пальцами — они не успевают насытить свои тяжелые желания и освободиться! — кричал Сисин — их распирают, как газы, неудовлетворенные страсти! — бу-бу! — бу-бу-бу! — приплясывал барабанщик со слезящимися (будто их мухи обсели) глазами — после поговорим! — вдова бросилась в круг и закружилась, раскинув руки — РУССКИЙ! — закричал нигерийский старик в микрофон — иди к нам! присоединяйся! — иди к нам! — завопили охотники и охотницы — РУССКИЙ, иди сюда! — я не Спиридонов — подумал Сисин — я не танцор — он запрыгал на одной ноге и захлопал в ладоши — давай, РУССКИЙ! — завопил барабанщик — давай! давай! — мокрая вдова бросилась ему на шею.
Нажми на них! — сказала вдова — Сисин присел и нажал — вдова засмеялась — не бойся, они не укусят! сильнее! — Сисин нажал посильнее — его палец втянулся во что-то липкое, зелено-коричневое — что это, растение или животное? — спросил Сисин — сколько их здесь! — он оглянулся вокруг себя — было время отлива — возраст не играл роли — напротив, ее обе дочери из Сан-Франциско — Манькины сверстницы — выглядели сырым мясом— он возвращался сюда опять и опять — он всякий раз возвращался сюда, когда бывал в Америке — он продвигался все выше и выше по шкале кайфа — он стал чувствовать себя частью пейзажа — люди подолгу стояли в раю обнявшись — обменивались светлой энергией — это заинтересовало его больше их промежностей — в раю он понял, что рая с пиздойне бывает — это было как избавление — избавление от ВП— который, впрочем, его кормил — крутил по конференциям — его решили опозорить — собралась международная мафия кастратов — ждали нервно, как он провалится — ждал доктор философии из Иерусалима — ждал московский эрудит Барлах — широкобородый лос-анджелесский славист засел посреди студенческой аудитории — Сисин не готовясь — не защищаясь — выкарабкался — привычно блеснул— раскрыл суть недавнего изобретения— сорвал студенческие аплодисменты — профессора прошли в студенческую столовую — самое время помириться — сказать всем добрые слова — расцеловаться — но он уехал со случайными людьми в пустыню — в Долину Смерти — позвонил в Москву из автомата, забив его квотерами, напротив Забриски-Поинт — я в Долине Смерти! — ты что, уже умер? — удивилась Ирма — впрочем, не слишком сильно — сидели, облитые желчью и ненавистью — он слишком много на себя берет, этот Сисин — он же никто! — так решила мировая элита — какую слабоумнуюкнижку он написал! — но Сисин знал твердо теперь: он Бог — а они не боги — ху-й-й-й-як!
Над Гонолулу взорвалась гроза.
«Творчество на крови стало в наш век эквивалентом моцартовского наивного и циничного творчества», — говорил Сисин, прогуливаясь с артисткой Грушевой. Перед тем, как пригласить ее на дачу, он выбросил все окурки, проветрил дом, убрал тряпочкой разводы спермы на одеяле, вычистил унитаз. «Значит, вы так в одиночествеи живете?» — спросила Грушева, глядя на него серыми сильными глазами. Продавщица сельпо узнала ее и остолбенела. Они купили немного мандаринов, шоколадные конфеты. Инвалид предложил им подержанный прожектор для ночной борьбы с хулиганами. Они спокойно отказались. Сисин шел с прозрачным кульком, словно с новогоднего утренника. «Я похож на полярного исследователя, — горько усмехнулся Сисин, — у которого дом в Лондоне, богатая семья, красивые дети, а он сидит на льдине небритый, голодный, продрогший до костей и с непонятным энтузиазмом старается разобраться в загадках природы». Грушева молча кивнула. Ее привлекал этот грустный человек с хрустальной душевной организацией, который даже при встречах и расставаниях стеснялся ее поцеловать, как следует, в щеку. «Я понимаю вас, — вздохнула она, втягивая в нос его отдаленный приятный запах. — Мне все чаще стали говорить, что я лучшая актриса России, но жизнь моя страшна и неуютна». В отличие от оккультистов, Сисин не верил в коллективные танцы, но разделял с ними идею, что мы живем в тяжелом для улучшения месте — он жил на генеральской даче, куда приезжал перед смертью полковник Рубинский — вот — Рубинский замялся — приехал проститься, товарищ генерал — генерал сделал вид, что насупился — ты помнишь, Красиков, нашего полковника? — помнишь нашу тамбовскую дивизию? — помнишь, как я охранял бензин? — в воскресенье просыпаюсь на вышке с автоматом в руках — от шума мотора — они уже в бронике— кубарем с вышки вниз — стучу прикладом по броне — без толку — стучу сильнее — изо всех сил колочу — вылезли две веселые морды — вы что, охуели?! — сейчас вас перестреляю — мы девок покатаем и приедем — они нас в деревне ждут — вылезли по пояс — а ты кто? — я студент — а! студент! — огорчились — не свой — пошли отсюда — куда пошли! — вы печать на воротах сорвали! — я вас арестую — они достали пятак — выдавили новую печать на сургуче — я хотел их арестовать, но не знал, как это делается — не хотелось выглядеть глупо — я их отпустил — ночью снова кто-то приполз — воровать бензин — Сисин сидел и срал на поле, держась за автомат — у него была молодая жена — Манька сказала: кошмар! — мне по ночам сны снятся: как я к тебе в квартиру забираюсь — Сисину интересно — дальше не рассказала — расстались навеки — с сильно бьющимся сердцем она проходила под липами по увешанному мемориальными досками Сивцеву Вражку, где жил Сисин, получив квартиру от родителей — через моссоветовских мошенников, которых посадили — он не видел себе применения — общей идеи — рядом гулял пешеходный Арбат — по внутренней поверхности черепа ползали муравьи.
Моим образом веказаинтересовались в небесной канцелярии — я был востребован и даже обласкан — когда-нибудь расскажу подробнее — здравствуйте! — помните? — моложавый французский посол, залитый красным вином — ха-ха-ха — мы рядом стояли — мы внутренне аплодировали — Сисин поморщился — лучше не напоминайте — мы с удовольствием ознакомились с вашим сочинением! — во многом, хотя не во всем, разделяем ваши воззрения — вы, конечно, пижон, но что делать, что делать, такой уж век, как вы сами — того — слушайте, дьяволы — ну, какие мы дьяволы? — мы готовы вас поддержать — пошла гулять энергия — пишете вы — по либерально-консервативным кругам — закружилась на одном месте — поднялся в воздух столб пыли — людям, справедливо пишете вы, ничего не осталось, как развлекаться — смерч — или скорее намекаете — дайте санкцию на уничтожение — начнем все заново — е2-е4 — но почему я должен все это закрыть? — помимо помоек России существуют некоторые страны — назовите! — ну, я не знаю! — Америка — ну, так езжайте, смотрите! — пусть живут, как хотят — слушай, Жуков, они хотят все уничтожить как раз тогда, когда возникла надежда, тьфу, слово дурацкое, не мое, на то, чтобы жить нормально — я видел американку, которую выгнали с работы — я видел американца, которого бросила жена — это были раздавленные, жалкие существа — что это за цивилизация, которая не владеет эстетикой поражения? — нет, в этом смысле мне ближе поляки — раздавленные, они пели — они, наоборот, не переносят побед, как и русские — русская победа — всегда пиррова, всегда дрянь — я так избалован свободой, что не выдерживаю малейшего насилия — я очень чувствителен, вот слабое место — мне предложили писать отчеты: о положении культуры, о перспективах — я сказал, что не очень гожусь, мало видел, не был почти нигде — мне сказали: будешь иметь, что захочешь — на что купится русский человек? — на поездки — что взамен? — всё — хорошо — а потом? — потом посмотрим — хорошо: на кого я буду служить? — на высшее! — на какое высшее? не окажется ли оно низшим? — я сказал, что не имею права, я простой смертный.
Сисин был испуган — он не был трусом — посмотри на меня, сказал он, похож я на сумасшедшего? — откажись от работы на их ведомство — наибольшее благоприятствование — я решил написать материал — мне жаль людей, пусть живут, но, право, противно — впрочем, всего не зная, я исхожу из трех убогих измерений — что дальше, не говорят — очень вежливые — подписку о разглашении брали? не брали? — не помню — спасибо, милый, так они могут и меня? — не бзди, Аполлон! — я пишу трактат о пользе человечества в космической перспективе — должно ли продолжаться все, что продолжается? — наверное — может быть — вялые ответы — мне казалось, что Сисин сошел с ума и теперь всякий контакт с ним потерян — возможно, так оно и было — я собирал о нем сведения, об этой звезде, о моей ноющей зависти к ней, несмотря на всю его пошлость, шарлатанство, кощунство — в конце концов, я преодолел эти чувства — прорвался благодаря ему — хоть этим он сгодился — конечно, он врал — вокруг него было большое поле вранья, всегда, с самого начала, и неприличного везения — которое и подозревает за ним Божественное происхождение — у него было удивительное чувство экстерриториальности— в нем было не то, что бесчеловечное — внечеловечное — я собирал материал по друзьям, по родственникам, образ получался невнятный, но как можно более полный — наконец, мои чувства не выдержали — он меня предал — это что за блядь такая? — спросил я — это твоя будущая жена, писатель — ответил Сисин — мы больше никогда не возвращались к этой теме, но когда он стал устраивать эксперименты над Ирмой, я сказал ему: — побойся Бога — это ее, в самом деле, убьет — зачем подложил видеокассету? — она сама нашла — но я не верил — подложил, черт! — нет, ты черт, назвал я его еще до того, как он мне сам все рассказал — у него был толстый хуй, такая, надо сказать, совсем неинтеллигентная хреновина, может быть, не самая длинная, какую я видел в жизни, но толстая дубина, с красивой, нежного цвета залупой — а он сказал: опять ты не туда смотришь, ты на яйца смотри — это самое совершенное, что во мне есть — герой нашего времени с совершенными яйцами! — тухлый, сонливый, с отсосанной энергией — корреспондент небесной канцелярии.
Амстердам меня несколько воскресил — я не стал осматривать дамбы — я съездил на цветочные поля, подышал запахом нарциссов и навоза — Виллем рассказал сходную историю про свой mid-life crise [77]— у него никого нет — он говорил вечные банальности, перевернутые в педерастической перспективе — я запросился в педрильный бар — обилие гомосексуалистов обещало альтернативу — здесь бабы слабеют от этой альтернативы, потеряв монополию — более 20 % — в придорожном кафе хозяин спросил у Виллема: — где-то я вас видел — не в веселыхли барах? — здесь это принято — я шагнул в темноту — страшно жить одному, нужно жить для другого — проститутка соскочила с витрины — я предложил мне пососать — она скорчила гримасу и закрыла дверь — жрать не хотелось — пить не хотелось — Виллем катил велосипед — они тут все катят велосипеды — они не проверялись, не делали тесты — верили в счастливую смерть — у Виллема был когда-то Жан-Жак — Жан-Жак был красив — слабенький, как цветочек-нарцисс — я ходил вдоль каналов — шла бесчисленная весна — вторая — в Москве ждала третья — все было так безотрадно — хотя, с точки зрения родного недожора, это звучало кощунством — но никакие музеи — я уже заметил — ничего не действует — вот Ван Гог — я замечаю его рост — энергию — я смотрю на это отчужденно — я быстро забываю — они едут на велосипедах — диско заполнено до предела — разные возрасты, лысые, молодые — на экране пара парней сосали друг друга и трахались в жопу со спортивным напором — мелькала лента предупреждения, что они занимаются небезопасным сексом — Сисин пил пиво и поглядывал на экран — вспомнилась армия, полковник Рубинский — ведь я убил его, ничего не зная о нем — что он любил? — он не любил мой пластырь — старомодное шоу со стриптизом и скучными проститутками показалосьмне более милым — нет — нет — у него был безумный вид и расстегнутый ремень в брюках — что вы делали там в темноте? — спросил я неделикатно — мы трогали друг друга, и он мне сделал peep [78]— он предложил мне пива, сказал Виллем — они разговаривали — он тебе понравился? — спросил меня Виллем — какой-то парень с застывшими, замороженными волосами — он молоденький — а этот переживает свой кризис — я дал ему свой телефон — удовольствие есть удовольствие — Виллем меняет партнеров — три-четыре в неделю — это в основном safe sex [79]— только раз, два раза в год, признается он, он теряет голову — ничего не помнит — один парень сидел на другом — у того, кого ебли, хуй полуторчал — они поддрачивают — они всё произносят — нет славянской тайны — в зале орала музыка — мужики танцевали, кто друг с другом, кто так, перед зеркалом — в основном пили демократическое пиво — почему-то все это меня не увлекало — я не люблю, я понял, демократии ни в каком виде, даже в этом — бегущие буквы предупреждали, что показывают небезопасный секс — на канале в порномагазинах выставили негра с полуметровым хуем — надо бы купить и показать Маньке, подумалось мне — я решил разобраться в Маньке, но почему-то не разбиралось — она говорила, что любит деревья — Женька, смотри, какое дерево! — правда, красивое? — Сисин: красивое — нет, правда, красивое? — стояли, любовались деревом — après! [80]après! — закричал он мне, помчавшись за португальцем — я пошел за ними, куря марихуану — на третьем этаже была какая-то возня — было темно — раздавались чмокающие звуки — кто-то потянул меня на себя — я куда-то опрокинулся — с меня стали дружески стягивать штаны — ласково погладили ноги выше колен — не снимая трусов, поласкали яички — залезли пальцем сбоку, не снимая трусов, осторожно потрогали, как опытные девочки — сорвали трусы — он выскочил, тяжело болтаясь — его поймал чей-то рот — кто-то меня сосал — кто-то повел меня за руку — меня вели и сосали — я упал на пол — на меня упали и задышали в рот — кто-то больно стиснул мочлен — я вскрикнул — кто-то сказал — что, больно? — я сказал — осторожно — кто-то сказал — мы же тебя предупредили — если ты не хочешь — скажи — я сказал — что вы имеете в виду? — я не очень понимаю — их было трое или четверо — они сказали — все это было в темноте — кто-то рядом стонал — мочлен лежал у кого-то во рту — я сказал — я этого не понимаю — они сказали — это все шло по-английски — он, кажется, стал богоизбранным зхыком— они сказали — ну, как твоя ручка? — я прямодушно сказал — прошла — они сказали — хочешь еще? — я сказал — я вас не понимаю — они сказали — почему ты тянешь? — почему не кончаешь? — я сказал — я вас не понимаю — я сказал — я ваш начальник — начальник синагоги — what? — вы должны терпеть — они сказали — почему, сука, тянешь? — я сказал — неужели нельзя нормально поговорить? — зачем устраивать эти театральные засады? — они сказали — тебе же сказали, что делать! — делай! — я сказал — я еще не решился — они сказали — сколько можно ждать? — я сказал — я не знаю — а вдруг это был не он — откуда мне знать — они сказали — если ты этого не сделаешь — мы сами сделаем — но сначала тебя прикончим — я сказал — неужели я вам не начальник? — пароль: Халкидон! — они сказали — сколько можно ждать? — скажи да — почему ты не говоришь да? — ты же их не любишь — я сказал — зачем вы меня вынуждаете? — я сам решусь — я скорее склонен сказать да— но это непросто — кто-то внизу жевал мочлен — я сказал — неужели нельзя все это обсудить в баре? — пойдемте вниз — мне душно — я даже не вижу вас — они сказали — сколько еще ждать? — кто-то схватил меня больно за яйца — у меня закружилось в голове — я сказал — если вы будете меня мучить — я откажусь иметь с вами дело — он папе пожалуется — засмеялся кто-то — я сказал — отстаньте — пожалуйста, перестаньте меня мучить! — кто-то сказал — он в Лурде молился — я сказал — ну и что? — кто-то засунул мне палец в зад и так круто повернул палец, что я от неожиданности перднул — они захохотали — я сказал — ну, чего вы, ребята? — это же больно — так не надо — кто-то сосал — я сказал — здесь очень душно — я не очень понимаю, что происходит — кто-то пошлепал меня по щеке — я сказал — что? — я обливался потом — я плохо себя чувствую — отстаньте — они сказали — когда? — я сказал — скоро — они сказали — ты все видел — ты писал неутешительные рапорты — они сложены в одной папке — ты не открутишься — вывод готов — я сказал — я еще должен подумать — нельзя так сразу — они сказали — сколько времени тебе надо? — я сказал — дайте мне год — они сказали — ты что, совсем рехнулся? — я сказал — ну, сколько тогда? — они сказали — сегодня — я сказал — я сегодня не могу — я не могу под принуждением — кто-то жевал мочлен — он так его отчаянно жевал — я кончил непроизвольно — он кончил! — объявил жевавший — они сказали — ну, вот! — а еще ломал из себя целку! — понравилось! — это хорошо! — я молчал — от них шел какой-то песий запах — я сказал — я сейчас задохнусь — они сказали — дайте ему пива — кто-то стал вливать в меня пиво — я захлебнулся — пиво текло по голой груди — закашлялся — потерял сознание — я пришел в себя — вокруг кто-то возился — все было темно — я поднялся — не смог идти — я пополз на карачках — натыкаясь на чьи-то тела — где мои документы? — думал я — где мой паспорт?! — где-то вдали показалось какое-то пятно — я пополз туда — я медленно полз — потом опять все слиплось — если я не скажу да— они меня прикончат — какая разница — мои апостолы сбесились — нужно понять их тоже — я мешаюсь у них под ногами — они уже зарядили проект — жопа горела — нельзя так в ней крутить пальцем! — или это был не палец? — что они со мной сделали?! — они же хотят как лучше — я, пожалуй, соглашусь — я опять потерял сознание — когда я очнулся, я снова пополз — блеснул свет — я выполз на лестницу — Виллем поджидал меня там — у меня был безумный вид и сбившиеся на щиколотки штаны — он качал головой и улыбался — ты получил удовольствие? — помоги мне встать — Виллем помог мне встать — нагнулся, увидел мой красный воспаленный член — переработался! — я сказал — я там заблудился — он сказал — пойдем, я отвезу тебя в «Амбассадор» — у тебя завтра в десять пресс-конференция — Господи, что подумает Ирма! — пронеслось в мозгу — тебе надо выспаться — книга продавалась — вроде бы да, успех — ВП! — я чувствовал себя вяловато, тухло, в духе конца века — по вечерам пил джин из мини-бара и раскисал — вяло глядел в окно — на каналы, на деревья в зеленом пуху — уже продавалась вешняя клубника — уже черешня продавалась — крупная такая — совки очень любят ягоды и фрукты — мы с Сарой в поезде ели мангустины— интереснейшие плоды — Маньке не стал звонить из гордости — пусть ей Ломоносов звонит! — Сара крепкая, здоровая — пошла вон! — Sarah liked to kid me [81]— скажите, пожалуйста! — the perfect balls! [82]— ура! — и потом что-то в ее голосе мне не нравилось — она намылилась было — но не приехала — пропустила самолет — я отнесся спокойно, значит, пойду к педрилам, погляжу, как там они — после долго болтали по телефону — что ты хочешь от меня? — я искренне: — не знаю, Сара, но знай, этозначит немало! — она говорила с грустинкой, которая меня раздражала — так выражаются дебилы чувства — не хватало нежности — нежности не было в том размахе, который приятен славянской душе — на секунду я стал славянофилом — в Амстердаме это позволительно — Лас-Вегас — ага, играл — Венеция! — был! был! — Сиена! — да-да!!! — очень! — княжеский дворец видел, в рулетку играл — выиграл — 9-32 — Сара! — шампанское — Монте-Карло — в Мюнхене на крышу лазил, вниз смотрел, панораму видел — Death Valley? — лунный пейзаж! — Касабланка! Краков! Освенцим! Ниагара! — там церковь, как ее? — под Мюнхеном — как же ее? — еще такая розовая — рококо! — Углич! Бизоны! Беловежская Пуща! — в Сицилии? — в Тауромине? — самая вельветовая панорама в мире — волшебная Этна — дышит! — древнеримские девушки в бикини — на полу — под дождем — лечу — а пинакотека? — (нет, что-то с музеями у меня не того) — на «Свободе» отметился — по Би-би-си вещал! — и по «Дейче вейле!» — и по «Голосу» — с другом Кевином — про русскую философию — про Чаадаева — про ВП — только, пожалуйста, не называйте название вашей книги — придумайте эвфемизм — эфир — скажите, пожалуйста, господин Сисин, почему на смену мужскому началу приходит женское? — почему? — Коста-Рика — Фуко — дихотомия — в своих путешествиях я во многом ориентируюсь на совковые мифы — все, что мог, ты уже — по всем голосам сразу и одновременно — на всю родину — покрывая ее равнину умным шорохом своего голоса — покайся, Сисин! — избранник Божий — ну, это вопрос не ко мне — никто не любит французов — слышите, французы? никто вас не любит — никто не любит американцев — немцы — ну, это банальность — бельгийцы — сплошной анекдот! — их настолько не любят, что им стало модносимпатизировать! — финны не любят шведов — китайцы не любят японцев — поляки не любят чехов — чехи не любят — никто никого не любит — что делать? — как что? — на площади Святого Марка пить капуччино на веранде — ночью — вдвоем — с возлюбленной Сарой — не какой-нибудь там болгаркой или венгеркой с грязной пиздой — с просвещенной американкой! — я набирал совковые очки — я всех победил — это не передается — не пересказать — рассказать некому — расскажу на нарах — дурак ты, Сисин — сказала княжна Манька — моя кавказская княжна — дурак, что меня не выбрал — а вдруг в самом деле дурак? — Манька, как никто, чувствовала меня — каждую мою фотографию — переживала за мои глупости — за мой красный рот.
Ты не выполняешь договор — раскраснелась Манька — я температуру мерю — а если бы я в прошлом месяце забеременела? — я бы иначе — и тут, Жуков, я что подумал — восточный базар развела — я подумал — поэтика прямой кишки — я всегда недолюбливал Северный Кавказ — когда я был на Домбае — мне всегда не нравилось, как их глаза наливаются кровью — обязательства! — я бы иначе не пошла на это — весной ты говорил другое— я тебе поверила — претензии — не с того края зашла — все-таки старое говно лучше нового — лучше не ковырять — я слышу во всем этом блядские интонации — конечно, она во многом права — но тон не тот — разборки не те — сначала любила одного — сорвалось — полюбила другого — потом в другом разочаровалась под моим чутким руководством — конечно, русская баба будет посамоотверженней западной — самоотдача — но не до конца — сю-сю пу-сюразводила — куклы- масикина память дарила — а как до дела — обязательства! — она сильна, когда в нее влюблены — я, Жуков, боюсь — я стал выгодной партией — жесткая стала — давай выполняй договорные обязательства — как будто мы на производстве! — это мне не совсем понравилось — а как же маляхаха? — маляхаха — да — маляхаха это не в мою пользу — сидим в компании — говорим — отвлеклись от нее — я вдруг взглянул: Боже, какие глупые, плоские глаза! — ну, прямо плошки! — и фотография в комнате не фотогеничная — застывшее лицо — рука протянута, чтобы погадали — я думал: она сразу в окно — сбежит по обыкновению — но нет — велит побриться — я побрился на ночь — курили — пили — давай выпьем за грустное— чтобы нам с тобой хорошо было друг без друга — не буду, говорю, за эту глупость пить — а она тянется чокаться пивом — кто пивом чокается? — да и вообще — без тостов не может — выпила пять или шесть пол-литровых банок немецкого пива — ни хуя себе! — три литра влила — зачем мне она такая? — надоело, и стал читать «Аргументы и факты» — пока она писать ходила — она приходит — недовольная, что читаю — я вроде как обвиняемый — мне не полагается читать — полагается отвечать на вопросы.
Хорошо — давай вопросы — или давай спать — она немного пьяная от пива — противное опьянение — по себе знаю — пошла мыться — приходит — трусы тигрового цвета с черными горошинами — с боков волосы лезут — черные-пречерные — как черная вермишель — я всегда думал — у Татьяны Лариной — нет — русская была девушка — мне все же блондинки милее — торчат, как усища — меня ее растительность озадачивала — ну, эти усы — мы с ней никогда — она два раза по пьяни — Сисин, у меня усы — я в сторону — а потом, уже этой весной, я говорю — чего ты — как-то решился ей сказать, чтобы не было между нами недосказанного — волосы словно брызнули — чего ты, спрашиваю, усы не сведешь? — много способов разных — не хватает ей русской крови — не долили — но — говорит — я такая русская! — ну, скорее московская — она говорит: я люблю свои усы — они мне нравятся — ну, если нравятся — в тигровых трусах полезла в кровать — майку сними — сам сними — вроде как обычно — подняла попу, стащила трусы — нравственные люди не имеют обыкновения лгать — намеренно или случайно — и уж тем более — называя себя Богом Вседержителем — пора, говорит перед воротами дачи, оставить супы из пакетиков — кормить меня обильно собралась, выходя за меня замуж — суп-харчо — из баранины — плов — кинза — улеглись — подрочили друг друга — поцеловались — повернись — она подробно вылизала мне жопу — пахнет, говорит, земляникой — у тебя не зад, а земляничная поляна — я сначала решил: прыщи! — нет, запах земляничный — божественный — Сисин, ты как покакаешь, не подтирайся — ну, понятно — ты покакал? — подрочились — повздыхали — трахнулись — дело под утро — перекурился — отравился — ты спи — она в ванную — вдруг с кровати соскочила — перегородка тоненькая — я подумал было: блевать после пива — ошибаюсь — глухо рыдает.
Рыдала-рыдала — я лежал довольно равнодушный — я думал: почему я равнодушный? — ведь в ванной рыдает девушка моей мечты — или нельзя так смотреть на все под микроскоп? — есть степени увеличения, после которых и кожа не кожа, глаза не глаза — чего рыдает? — мечта не сбылась — не выйдет за меня замуж, не родит от меня девочку — заснул — засыпая, испытал чувство злорадства — я, наверное, Жуков, недобрый человек — а Отец завещал быть добрыми — я еще совсем молодым ходил по блату в стоматологический институт — там была знакомая девочка-врачиха, очень хорошая, кстати, врачиха, ее мой тогдашний приятель, да ладно, которая мечтала выйти замуж за военного и очень любила парады — к ней очередь — есть жуткие — я ее спрашиваю — как ты не брезгуешь? — а она на меня такпосмотрела — не понимая — заснул — через какое-то время она меня будит — Сисин — чего? — я поехала — ну, я так и знал, про себя — куда? — домой — да перестань — меня зло взяло, за столом — это, говорит, твои проблемы — и это тоже твои — и подарок не даришь — подожди, говорю, я в подарок полушалочек привез — я поехала — когда электричка? — в шесть с чем-то — не валяй дуру — ложись на диване — наверху — где угодно — нет — дай мне месяц! — плачет — волосы в пучок — губы накрасила — пояс болтается — папин подарок — как-то приезжает — смотри, что мне папа привез из Египта! — смотрю: жуткий, безвкусный костюм с ярлыком «доллар» — нравится? — очень хороший костюм! — а сам думаю: да, надо будет с самого начала — дай месяц! — не отвечает — ты устала — схватил — потащил на кровать — сними хоть ботинки — скинула — ложись — мы пока спорили, ушла электричка — до следующей полежи — легла у меня под мышкой и утихла — но не спит — а вот эти все порывы вон, на станцию — они сгущают энергию — подрочи — ой, смотри, он из трусов язык показывает — будто и не хотела бежать — я давай сиськи гладить — обмякла — схватилась за бегемота— я штаны ее черные стал снимать — не снимаются — помогла, как намекнула — а так, будто я сам — я в трусы — там мокро — там мокро, говорю — она попу подняла — я снял — бегемотналился кровью — она ойкнула — он в нее влез — задрал ей майку — а сиськи у нее хорошие — не на ножке — не козьи — а полновесные — почти изнасилование — ее удовольствие — вцепился взглядом в сиську — она мне тоже соски ласкает — чтоб долго не мучился — сладко кончил — ой, говорю, сладко кончил — а у нас с ней такое табу — издавна — не говорить, если о трахе, сладко — из этого лексикона: сладенько-вкусенько — а мне все равно — сладко и все — не возражает — ой! — испуганно посмотрела на меня — это просто воздух выходит — любимая! — пусть себе выходит — благодушно разрешил я: — пизда пердит — не жопа! — дурак! — дурак— это самое ночноеслово русского языка — самое нежное — с хрипотцой — сама дура! — Сисин, меня поласкай — она у нас, по иной терминологии, клитороманка — я стал ласкать — она говорит: расскажи что-нибудь — в сквере на Бегах ей писать захотелось, и мы искали кусты, и я охранял — а с другими писал? — тяжелым голосом похоти — расскажи — ей бы только рассказать — у нее судороги по губам пробегают — раз, рассказываю, путешествуя по Алазанской долине — это где вино, что ли? — да — мы, слушай, там такой шашлык сделали! — нанизывали на шампуры по очереди: мясо — помидоры — мясо — помидоры — и репчатый лук — и лимон — целиком помидоры нанизывали! — нерезаные! — малиновые! — Женька, мне не есть, мне кончитьхочется! — прости — короче, пошел я писать с тремя девушками — и вот эти троедевушек — Женька! дурак! прекрати! — ну, они трусы белые сняли, жопы выставили — видела бы мировая общественность этого тридцатилетнего (скоро будет) интеллигентного ангела, сочиняющего кандидатскую диссертацию, который поглощал мою нехитрую историю! — жопы выставили — а ты? — у меня хуй вспух — одна писает и сосет — упали в траву — вторая подошла сзади — яйца трогает — подружку вокруг пизды гладит — я вытащил и засунул во вторую — ой-ой-ой — все, кончила! — ой, как я здорово кончила — ой — как будто можно не здорово— я из нее это кончание до последней капли выдавливал, водя пальцем по дорожке от клитора к дыре, чтобы содрогалась, уже кончив — проведу — содрогается — не надо — я опять проведу — ой! — я опять — ой! ой! — разойкалась — отошла потихоньку — а когда это ты был в Алазанской долине? — будничным голосом — выдумал! — нет, правда, в каком году? до меня? — примитивная ты, говорю, особа, Джойса любишь, а под всякую поебень кончаешь — нет, скажи: до меня? — до тебя! — она развеселилась, стала прыгать, залезла на меня — ты меня, говорю, сейчас раздавишь — радовалась, что я почти без перерыва дважды кончил — ты раздавишь меня! — перевернулась — ноги раздвинула — бесстыжая — заснули — где-то около десяти международный — мне из Италии должны были — я не брал трубку — не звонили бы — проспала бы до обеда — женились бы — родили бы девочку — я снова заснул — опять, с накрашенными губами, будит — пока, уезжаю — я калитку закрою — тогда, в прошлый свой побег, не закрыла — спасибо — когда проснулся, калитка настежь.
Другой любви они почти не знают — нагота женского тела — насилие над женщиной — надругательство мужа над любовником — роман в большой степени построен вокруг плотской любви как стигмата — вероятно, автора вдохновило чтение Ветхого Завета — именно взгляд издалека, не подсматривание в щелку делают эти сцены шедеврами прозы XX века — но как радоваться провалу последней религии? — приходу в мир ощутимых признаков энтропии? — не проще ли набросить на клетку черный платок — не подаренный Маньке — но обещанный — она нехорошо говорила: — по три раза звонишь домой! — я сразу услышал голос репрессий — и эту маленькую мстительницу — ебущуюся в чужой постели — для равновесия измен — но я, приехавший со Сретенки — от Бормотухи — что побудило Сисина? — чем он мотивирует свой поступок? — свое трехэтажное надувательство? — далее Барлах пишет: — сам Христос мыслится героем книги как один из древнекитайских пророков — пусть так — но в последующем христианстве или христианской Церкви ему чудится — для равновесия измен — тело Сисина приняло смиренный вид — чудится — чудится — глухо рыдает — и курит-курит — с подружкой Гулей вынашивая циническое отношение к мужчинам — в отместку или как? — видя мужчину как инструмент своего самоутверждения — она поплатилась за это — я так и сказал в предпоследнюю встречу — ты бортанула Ломоносова — а кто бортанет тебя? — ей это очень не понравилось — однако оставить самонадеянную блядь в дурах — считающую себя неотразимой — это стоит семейного счастья — далее Барлах пишет: — отпадение от древней веры, частично объясняемое тлетворным греческим влиянием — соблазн излишне легкого увлечения православием — нового его огосударствления — для того, чтобы это — не нужно — вместе с тем — меня как историка религии и культуры — меня как историка религии и культуры — меня как историка религии и культуры — меня как историка религии и культуры — меня как историка религии и культуры — меня как историка религии и культуры — меня как историка религии и культуры — меня как историка религии и культуры — меня как историка религии и ку — смущает — кислое лицо — чешется — одутловатая голова набок — несколько примитивный дуализм— если продумывать эту мысль до конца, то сюжет книги кажется ущербным — что сделал герой на всем протяжении текста, чтобы реализовать свою мифологическую миссию? — он скорее воплощает архетип Дон-Жуана — в конце концов, слава Богу, что у нас есть хоть такой сотворенный нашими жалкими потугами Бог — помолимся ему — могло быть хуже — как у арабов — постоянство мысли о нем уже кое-что обещает — любят же в наших краях одних только обездоленных, несчастных, пьянчуг — у нас любовь пропитана жалостью, как — как — как — (придумать сравнение или сократить вообще на хуй все — еще одна трещина в тексте; опять-таки из археологииэтого романа) — насчет любви-жалости Манька соглашалась — была расчетлива — мы даже не знаем, какую горечь нам еще предстоит испытать, расплачиваясь за весь этот пот — за всю эту кровь — поколениями — до какой степени национального унижения — ни пером описать — до отделения мяса от костей — до Ивана Калиты — разматываясь назад — конечно, есть странные сближения — на Западе все отлито в формулы: жизнь, творчество, искусство — зато нашадуша — образ жизни — не поддаются никаким математическим расчетам — мы все равно при нашем хаосе остаемся людьми творческими — если мы не подчинимся западным формулам и не станем жалкой пародией на них — может быть, мы найдем какой-нибудь выход — для того и нужны созидающие силы.
Вы что, дураки, мир прекрасен! — мы все его сыны, дорогой — они устроили мне мясницкую встречу, чтобы прочистить мозги — мне казалось, я мало что приобрету — слепой старик, раздавленный собственной биографией — рабским рытьем каналов — нанесенных на пачку народных папирос — ловкач — пожелавший обмануть взрослеющую цензуру — бритвой подчищающий в московском трамвае красный карандаш по дороге в типографию — как он перенес эту раздавленность? — на табуретке в углу — в чем ваша главная новость как философа? — православно понимаемый неоплатонизм — учение о Первоедином, без которого ничего не может быть — оно, конечно, выше всего — оно, конечно, ни на что не делимо — все это правильно продумано, и продумано по-христиански — но оно не имеет имени, и поэтому не имеет священной истории — оно не есть личность — в средние века пришли к понятию личности — пошли дальше и выше античности — Новое время тоже стоит на точке зрения личности — но только имеет в виду личность не абсолютную, а человеческую — абсолютизирует человеческую личность — просто это историческая пауза, переутомление, неврастения, упадок сил, переизбыток алкоголя, постоянные возлияния, пережор — я отчаянно жрал на Западе, нажирался, отрастил пузо, стал совсем плохой — эмпиризм — пора как можно дальше бежать от разжатой любовной темы — нет ничего хуже опредмеченного мира любви — архетип ДонЖуана — я менял многих на многих, не находя одной — а что такое эмпиризм? — использование одной из способностей человеческого разума — но единое существующее опять-таки относительно, а не абсолютно — абсолютно существующее непознаваемо — мне оторвало голову во время автомобильной катастрофы — что это? — это акт Божественной любви ко мне — значит, это нужно для моего вечного спасения — почему? — а потому, что ты дурак — вопросы «почему?» в отношении Бога нельзя задавать — и все, что ни есть, к лучшему? — да-да — что ни есть, то к лучшему — да-да — только это не самодовольство, а трагическое христианство — Сисин кивнул — вот совершается какое-нибудь кровопролитие: гибнет двадцать миллионов людей — казалось бы, это противоречит воле Божьей — что должен религиозный человек думать? — что это делается по воле Божьей — как же так? — это же есть высшее благо — Бог! — а такое кровопролитие допускается — а это потому, что ты дурак, и дело не твоего носа соваться в Божественные планы — он рехнулся, подумал Сисин — он — если он прав — да, двадцать миллионов гибнут, но Богу это для чего-то надо — для чего? — такой должна быть сильная неинтеллигентская вера — какое слепое чудовище! — зачем тогда браться за философию — если не совать нос? — а если он прав? — для чего? — в общей форме можно сказать: для спасения всего мира — но почему? — молчим — формулировать Божественные решения, намерения Божественной воли ты не имеешь возможности — у тебя нет таких данных — вот почему мы умираем и в то же время благословляем Божественную волю — вот почему мы теряем двадцать миллионов на войне и считаем, что это есть проявление любви Божественной — понял! — обрадовался Сисин — где двадцать миллионов, там и миллиард, три, пять миллиардов — все! — для спасения всего мира — понял! — внучокты догадливый — значит, нет плохого Бога, а есть дурак-человек.
Какой может быть заговор? — Христос все по определению слышит — Христос устал — говорили мне — Христос надломлен — Христос сломлен, exausted [83]— но это человеческие дефиниции, слабо возражал я — я брел по миру сквозь туман предложения — удачливый циник, мечтавший сочинить энциклопедию новейшего цинизма — еще с Детей— по утрам я играл с «детьми» в теннис, катался по Москве-реке на водных лыжах, после полдника — азартные игры — вечерами пьянствовал — ночью, пьяный, записывал — Сисин зашел в церковь, испытывая недоверие к своему статусу, про который ему наплели и напели — был будний день — церковь была полна — Богоматерь мелькала в свечах — по окончании службы баски покрыли головы своими беретами — я сказал Ему: они хотят нас с Тобой разлучить — вышло фальшиво — мы сняли комнату на холме — по утрам Сара натирала мне яйца особым маслом — мыла в старой ванне на ножках — ее тело мне было противно — я все задавался вопросом — отчего так? — казалось, ничего лучше нельзя придумать — светило чистое благополучие — все недоумевали, затаясь — что было противным в ее теле? — полубритая белобрысая пизда совсем не прельщала меня — куда занятнее Бормотуxa — молчаливый неартикулированный зверек — чтобы кончить в Сару, не разрушая каникульную идиллию, я думал о том, как Бормотуха медленно опускается на дно ванны — и долго-долго лежит на дне в свое удовольствие — презирая законы природы — хозяин гостиницы был какой-то странный тип — у меня хватило благоразумия не подозревать его ни в чем трансцендентном — Ирма рыдала в приемной психушки — хозяин был болтлив и, по-моему, подвирал — я не вдумывался — мы снова сильно пили — гуляли по ночному пляжу — забыв о войнах, Сара переживала свою главную любовь — я старался вежливо ей не мешать — в том измерении жизни я не узнавал себя — ну, что еще надо? — она была напориста — одевалась как-то очень безвкусно — над ней за глаза смеялись парижские девки-коллеги — она бешено работала, как истинная американка — мне не нравилась эта уоркомания — она силилась состязаться со мной — но, уже обучившись семиотике Запада, я был достаточно автономен — почему все-таки так не нравилось мне ее тело? — как редко какое другое — в этом смысле я либерал — ну, подумаешь: не нравится! — стерпится! слюбится! — я почти что стал себя уважать — я ходил, обдумывал предложение — начать с нуля — гуляя по гранитным улицам Сент-Себастьяна, со сломанной ручкой — она объявила меня the man of her life [84]— временами она смотрела с ненавистью — никто до меня ее так не унизил своим невниманием — why didn’t you touch me? [85]— спросила с болью на аэродроме — невинное дитя капитализма, она была далека от моих терзаний — на французской стороне pays de Basques — красные ставни — было приятно сбежать от зимы, как с уроков — в придорожном ресторане ели прямо на улице — светило солнце — чахленькие пальмы — странная, разделенная мною любовь к мифологии юга — мы больше не говорили о любви — Лурд был полностью пуст — я даже вздрогнул — пустые гостиницы, пустые улицы — кругом стояла Бернадетта — ум был засорен — половое созревание девицы — в гроте тоже никого не было — мы подошли купить толстые свечи — Сара вывернула карманы — блеснула мелочь — посыпалась в ящик — с хитрой улыбкой сказала: дала, что было — ухватила три жирные свечи и поспешила, независимая, к алтарю — меня охватила какая-то особая русская брезгливость — я подумал: вот блядь, кого она надувает, кроме себя? — она стала мне еще отвратительнее — я подумал: осторожно, не покажи своего отвращения — над рекой на скалу тяжело опустилась церковь — я честно выложил за свечу тридцать франков — зажег с постным видом и двинулся в грот — было самое время — сталактитами свисали костыли вылечившихся калек — что-то там капало и мерцало — от тысяч людей место было затерто, наэлектризовано даже в холодной ночи — Жуков, я помолился совсем неуклюже! — спасибо, Папа, что я не разбился — да срастутся ребра у Эллы Борисовны! — хрен с ней! — с защитницей юманитэ! — а я думала, грот будет закрыт — сказала Сара — я видел: у нее разгуливается аппетит — уже обожравшийся на месяц вперед, я думал только о том, как бы поспать и не трахаться — плотоядная Сара мечтала о ветчине, о хуе и о любви — со свечкой в руке, при входе в грот, она призналась, что ни с кем не еблась, кроме меня, вот уже полтора года — потом испугалась — я никогда так много себя не трогала, как в месяцы нашей разлуки — ни с кем не трахалась — переживала главную любовь — и неуклюже завралась — мы, русские, врем куда более гладко — развивая тем самым наше воображение — куда более складно — и, когда я грубо схохмил, что j’écris avec ma bite [86]— она растерялась — я пояснил: это еще Ренуар так сказал — хотя не был в этом уверен, то есть с понтом — она еще больше растерялась — ее растерянность была мне противна — она захотела вникнуть в русский мир — накупила случайных книжек — как я по христианству — зайдя во «Fnac» — мне, наверное, не мешало бы изучить философию Папочки — разобраться в византийских спорах о Троице — в монофизитстве — во Вселенских соборах, утвердивших Папин имидж — в афонских монахах — иконоборчестве — стяжателях Духа Божия — не успевал — не хватало времени — ленился — не видел, признаться, надобности — чтение банковской корреспонденции меня увлекало гораздо больше — я начал свое покорение Запада с покупки золотой цепочки — через полгода она покрылась зеленой слизью — Сара взяла пару уроков русского языка у старой армянки — и окончательно утонула — русский мир ей виделся амебой — чтобы слиться с ним, она заказывала в «Chez Dominique» польскую «Zubrowku» — в качестве аперитива — в зимнем Лурде негде поесть — мы сидели в местном café de la Paix — сожрали сэндвич с ветчиной — Сара рассказывала мне (а потом при мне по телефону приятельницам), что, когда была в Лондоне, жила в огромном трехкомнатном «люксе» за полцены — директор слал ей букеты и фрукты с записочками — возможно, она была просто глупа — американцы слишком близко к сердцу приняли дурные истины демократии — поверили в нее всерьез — я думал над предложением — начать с нуля, с водопадов-потопов — открыть шлюзы — снять запруды — бессмысленное человечество бродило вокруг меня — отвернуть красный кран — я зашел в барочную церковь в этой самой баскской, как ее? — борьба с нигилизмом, отпор молодому тщеславию — все образумится — дошли до ручки — последние бастионы сдаем один за другим, напряжение падает, в такой энтропии — вы его сын единственный — вам как не понять? — что вы цепляетесь за страну, которая откликнулась на вас диким рыком? — начнем все заново — стояла грязная московская весна — раздроченное тщеславие потихоньку сникало — и сникло — лазутчик небесной канцелярии — лже — анафема — отщепенец — Отрепьев — самозванец — ты знаешь, Жуков, молвил он, озираясь дико — я — я — дико — сын — Иисуса Христа — я, опешив, взирал на него — он был подонок, мерзавец — они меня выбрали как понятого — при общем шмоне пространства и времени — на Страшном суде — что-то там не сработало — восстали против разгула — инфляции — энтропии — Жуков и Сисин, вечная парочка — мы прожили вместе около полутора лет — есть помоечные части Москвы — шоссе Энтузиастов — Люблино с Чертановом — в общем, свалка — однажды в Пахре собрались два товарища по несчастью — отъезжант с диссидентом — поздний вечер — Евгений Романович увидел длинные желтые взгляды французских фар — они тянулись в разные стороны — лаская отдыхающее пространство — сквозь облака — рядом группа бесчинствующих казахов — раскачивает самолет — он чувствовал, как спокойствие снисходит на него — здесь был его дом — он возвращался из пожизненной экспедиции в стране, где все почитают друг друга говном — les Russes sont pourris avant qu’ils soient murs [87]— этнический вывих — грязные маугли — где говорят о морали — ей нисколько не соответствуя — страна чудовищной духовности — нестерпимой духовки — Сисин задал робкие вопросы по поводу предназначения родины — но обмененный на везение — на везение купленный — он удостоился уклончивых ответов — его любопытство терпели — не более — они терпеть не могли, что он их использует — здесь они сходились с американцами — думал Евгений Романович — которые подозрительны в дружбе и любви — ибо денежный эквивалент — тем не менее иные американцы бывали порой щедры — куда больше, чем эти французы — признавал он — французов он недолюбливал — но Франция — конечно, не вся — иногда ему хотелось устроить великое переселение французского народа куда-нибудь на хуй — так сильно они раздражали — однако их вкус — их жратва — переселение откладывалось — на неопределенное время — прохладный свет сисинских глаз, поражавший меня всегда — завидовал ли я ему? — или скорее его беспределу — но почему он был так уверен, что он агент небесной канцелярии — выдвинувшей на вакантное место сына (внука) — словно есть метафизические вакансии — он всерьез предполагал провести разговор со своей атеистической матушкой — во время смуты отодвинувшейся от коммунизма на расстояние вытянутой руки — навсегда сохранив уникальную общность тверских комплексов с комплексами гранд-дамы, усаженной не по протоколу — я завидовал его беспечномубеспределу — естественному полету — дикой везучести — за которую, впрочем — на которой он, впрочем, помешался — мы шли вдоль белых акаций — совсем не типичных для средней полосы — однако мы шли вдоль них — не веришь? — мимо ехал пожилой мудак с удочками на черном велосипеде — Сисин посмотрел на него и сказал: — я ничего не хочу тебе доказывать, но — щас этот мудак упадет — мудак наскочил на пень и растянулся — крутилось грустно колесо — из самодельного садка бросились врассыпную по кустам рыбы — и сколько! — мудак кинулся за рыбой, матерясь — вы не разбились? — Сисин подошел к нему, дружески вручил шоферскую кепку, очистив от пыли — ого! — восхитился Сисин — это что за красавец? — сазан — сазаан?! сами поймали? — в магазине купил! — огрызнулся потерпевший.
Да — закручинился Жуков — я вижу, что ты не прост — это почтивсе, что я умею — признался Сисин Жукову — у тебя дар Шерлока Холмса — недоверчиво заметил Жуков — склонность к дедукции — не убедил! — подытожил он — Сисин пожал плечами — они шли по аллее белых акаций — приведи другой пример! — дурачился Жуков — да отстань ты от меня! — отмахнулся Сисин — сазан! сазан! — дразнился Жуков — хочу рыбки покушать! мы, патриоты, любим покушать рыбку! — он захохотал прямо Сисину в рот — Евгений Романович беспокойно отстранился — они шли по аллее белых акаций — у тебя что, племянник пропал без вести? — полувопросительно сказал Сисин — да! а что? — встрепенулся Жуков — где пропал-то? не в Гвинее? — в Гвинее — морячок? — ну да, Стёпик — насторожился Жуков — откуда ты знаешь? — Сисин пожал плечами — поминай племянника за упокой — сказал он ласковым голосом — акулы Стёпика съели — Жуков смотрел на него, как ошпаренный — с вами, наверное, иначе нельзя — пробормотал Сисин, страдая от одиночества.
А ведь я тоже шпион — шепнул он американской разведчице — застеснявшись — я засмущался и сказал: ты знаешь, я тоже лазутчик — только вот — Воркута подскочила на месте в своем тесненьком авто — она думала, он наклонился, чтобы шепнуть: marry me — ну, какой ты шпион! — со вздохом сказала она — ведьма Элла Борисовна правильно поняла угрозу, исходящую от него — или он — или все остальные — ей нужно было бы дать орден «Почетного легиона» — или что там дают в ООН? — она угадала, что он разжижаетфирн — она решилась на героический акт его истребления — простая, маленькая служащая ООН, обеспокоенная — Рыжий Крокодил — ой! — как она жрала в Германии! — восторгался Сисин — ты бы только видел, как жрала эта томная дура — решившая про себя, что она покорительница бомонда — равноапостольскаяпосредством интимных знакомств — как модно стриженный Крокодил шикарно говорила «мы» жирными губами за ужином — поданным в номер — он ел, давясь от сытости омара — мы! — не случайно изверилась бедная Ирма — устала неврастеничка — но согласись — не выдержал Жуков — что ты это специально — с пленочкой — а? — Сисин блеснул глазами — это они! — я много думал, как избавиться от Ирмы — гуляя по берегу Черного моря, я думал, что развод обрастет хлопотами, дележом, беспокойством — я думал о чудесном избавлении — они подсунули Ирме кассету — я хотел ее стереть на следующее утро — я колебался — спрятал — они подсунули — он соскочил с поезда — пошел по дороге — к солнцу — он не сказал ни да, ни нет — соскочил с поезда — в Сан-Себастьяне стояло уже, по русским понятиям, лето — он снял обувь — босыми ногами — пошлепал по конче— небесный детектив.
И тут понял главное: — если не любовь, то тогда всё — пиздец! — ее глаза горели хулиганством — она разъедала мужчин, как ржавчина — Сисин, а ты сам-то когда-нибудь кому-нибудь сосал? — с интонациями замятинской «Пещеры», давным-давно услышанной Сисиным по «голосам» — запавшей ему в душу в задушевной антисоветской транскрипции — Сисин вяло отнекивался — расскажи, Сисин — эгоистка! — он стал героем клипа для ее кончания — в их постотношениях, избавившись от обузы неосуществленной, невозможной, едва ли радостной перспективы — теперь Сисин был низведен до нежных встреч, разжалован (в свою очередь) в нежные рядовые — он то сожалел, то радовался — не в силах понять — зачем он не сделал того, что, казалось бы, было возможно — а она сидела, подвыпив, как дама с собачкой — но тогда, когда сильно запахло любовью— или, вернее, Сисин достиг такого состояния, что стеснялся проронить это слово — перед признанием мы стали на время косноязычными — стало быть, дело было нешуточным — он дезертировал — однажды, еще в отношениях, встретив на «Пушкинской» на эскалаторе — она пробежала мимо — Евгений Романович не бросился вслед, пораженный ее некрасивостью — в конце концов запутался, не знал, кого винить — они же, каждая по-своему, винили его в нулевой степени чувств — находя его то жестоким, то бесчувственным, то монстром, то просто говном — ты — говно, Сисин, говорила ему Манька — you are a shit — вторила Сара — выходило, что он глобальное, всемирное говно — он Маньку сильно замучил, но не хотел отстать — она барахталась отчаянно — он пальцем не пошевелил — потом, в постотношениях, она помягчала, повзрослев, в ней появился налет цинизма — которому Сисин не обрадовался — в ней был маленький красный уголок блядства — умозрительного блядства московской интеллектуалки, читающей «Вехи» в час «пик» в метро — извините, вы на следующей? — так вежливо-вежливо — но не толькоумозрительного — подарочки она любила на манер проституток из модернистских романов — она выклянчивала их, намекая на жмотство, жлобство — сердилась и дулась — она разыгрывала драму своей тайны — ты ничего обо мне, в сущности, не знаешь — ты меня так мало знаешь — но Сисин знал: то бабская риторика — так говорят они все — западные — не западные — у них у всех в душе неразгаданная тайна — и неужели, думал Сисин, только раз с ним приключилось настоящее, по молодости лет — и Ирма даже пискнулаот счастья — впрочем, подумал он, спасибо Маньке и за то, что научила мыть лицо перед сном — и цветочки — клянчила она — Сисин дергался, зная ее тайну: в ней ум, но таланта в ней нет — а ты хочешь всего, дорогой? — он хотел всего — тогда она выучила его, как попугая, называть ее уникальной — за это раздавались постельные премии — всегда плохо сосала, но смачно лизала — она гнула свою линию — всегда немножко подтекала — она хорошо, подробно вылизывала жопу — меня удивило, Аполлон — призналась она мне потом — ко мне она относилась всегда слегка насмешливо и свысока — она не очень, кажется, любила, что я делал, и это меня уязвляло — Сисин был недосягаем для меня в ее глазах — ее принадлежность к Сисину была ей лестна — меня удивило, какон сказал — как гениально сказал: — между нами нет менструации — я открыла рот и сдалась — теперь она принижала Сисина — что на самом деле творилось в ее душе? — они были родственники — так утверждал сам Сисин — да ну, хмыкнул Сисин, слова-то какие — душа! — он вдруг резко захохотал — чтобы немножко отомстить ему, она утратила в него веру — в этом была своя логика: отвалить от живого трупа — однажды, напившись, она сказала: можно ли любить двоих сразу? — вот здесь была уже маленькая драма психологии — в ресторане, спросив, любит ли он ее — и Сисин покорно и с чувством ответивший — да — это «да» обещало продолжение, о котором он не мечтал — слова не проходят без оговорок, которые нуждаются в дополнениях — так создается особый текст со скобками в скобках, со сносками в сносках — грустный текст fin du siecle [88]— который вступает с рынком в особые игры — она потупилась и сказала нет — Сисин, думающий, что через нее просто плохо проходит — да — стал давить — но Маня сопротивлялась — поехали к нему — он уже ликовал — тогда она ему заявила, что любит — за столом на кухне — но другого — Сисин (уверенный в том, что, кроме него, больше некого, не полагается) не только охуел, но даже почувствовал себя плохо, в груди загорелось что-то — каким-то щемящим поджариванием — но дальше логика ее поведения была не совсем логичной — ей захотелось его помыть — отправила в ванную — Сисин, стесняясь своего живота — колониальное яйцо, по определению знакомой француженки — залез в ванну, сильно напившийся по поводу всего— она тоже довольно поддатая — но никогда на его памяти не блевавшая (только икавшая и глотавшая, сидя на кровати) — без особого энтузиазма помыла ему шею-руки, но зато очень обрадовалась хую — она действительно хорошо относилась к нему — родной бегемот! — бегемотне откликнулся вовсе — она этому почему-то скорее обрадовалась — найдя в этом знак своего превосходства — сколько тут было игры, сколько чувства? — какой процент того и другого? — Сисина это заинтересовало — даже лизание не помогло — седые яйца, золотые зубы, отвислый живот — все это было противно — зубы он затем поменял за границей — но тот, Ломоносов, любитель сладких кошечек — Сисин хмуро и неделикатно сказал, что Ломоносов не умен — даже хуже того — он поверхностный завоеватель — то есть просто взял и попер — что он хотел на самом деле?
Схема ее сознания — вот: она ни хрена не смыслит в метафизике, тупа по этому делу — она играет в остранение — делает вид, что не понимает, где и как живет — это дает ей сильную позицию над схваткой, когда все чего-то хотят и собачатся — зачем я пишу гадости? — зачем я обсираю свою жизнь? — она презирает всякую там политику — и ждет, когда она понравится — она нравится женщинам, потому что она мила — но она врет, потому что она нравится тем, кто ей не нравится, и она, сука, пользуется ими — с мужиками она играет более провокационно — она ждет, когда она им понравится — а затем — ты ее любишь? — Евгений Романович редко о ком размышлял так подробно и неумно — давай лучше про Америку — нет, стой! — мы с нимитоже говорили о ней — я просил большую зону свободной воли, иначе не разобрать, где я, а где предопределение — то есть наш договор поначалу строился на таких основаниях — они мне задавали тему — охотно подозреваю, что поначалу я не был их единственным консультантом — ты ей сказал об этом? — интервью — самый необязательный из жанров, и я отрекусь — ты можешь врать, сказал я — на хуя мне врать, удивился Сисин — что же они от тебя хотели? — моего мнения — очень просто — что я думаю о том, о сем — я говорю: я маленький человек — тогда мне шлют приглашение в Кремль — я покупаю темный двубортный костюм — новый галстук — яростно чищу ботинки — всплывает обед у двух президентов — и, перегруженный сервизом и говном, обед идет ко дну — подводный беспокойный пир с умеренным разливом «Шабли» — пузырится — трещит по швам — предсмертный Сахаров в маразме — маршал Язов с немыслимо крупными звездами — холеный русский барин Лигачев — парад в вечерних аквалангах — напичканный электроникой Валентин моргает — мигает — подмигивает мне — я говорю ему: стойте, где я и где вы — разграничим — почему ты думаешь о верхе, а не о низе, в конце концов, по их меркам, ты скорее достоин низа? — а это одно и то же, заметил Евгений Романович — игра в одни ворота — старая еретическая мысль — ты что-нибудь от них выведал? — не слишком — а если, извини меня, это плод твоей фантазии? — может, ты переутомился и — глюки? — а? — ты сам-то не глюк? — нахмурился Евгений Романович — видишь, ты нахмурился — психушка не проходит даром — она за углом — это было бы хорошо, вздохнул он, несколько, впрочем, фальшиво — нравится быть избранником? — сынком? — вот слушай: ониговорят: давайте свернем историю, как пыльный ковер — и на свалку — начнем все сначала — ты убежденный сумасшедший, сказал я ему — мне не нравится историческое движение России к нормальности, сказал я им— нормальность и Россия несовместны — и не считайте это какой-либо формой ностальгии! — с чего ты взял, что она нормальна? — в России важен вектор, не результат — о Господи, это уж мне скорее решать, не тебе! — идиот, я смотрю на нее издалека — это умеет делать всякий параремесленник — чего ты хочешь в качестве доказательства? — у тебя не получится — почему? — ты играешь против их воли — я сам по себе воля! — Жуков остановился и тихо молвил свое, сокровенное, выстраданное: помоги России — ну ее на хуй! — помоги России! — ей ничто не поможет — помоги, Жень, России! — она прославит тебя как героя — наставим тебе по скверам памятников, будем славить и петь аллилуйю! прошу, помоги! — Жуков упал перед другом на колени — прямо посреди аллеи белых акаций — с мокрыми глазами — без меня обойдетесь! — озлобился Сисин — немцы помогут!!! — я бездарный — загоготал — сынишка! а ты тожехорош! — в конце аллеи мелькнули походные люди с неподъемными рюкзаками — встань! — засмеют! — Сисин принялся поднимать Жукова — оглядываясь на туристов — пишешь ты, брат, тухло — ворчал Сисин, возясь с Жуковым, который отсутствовал в мыслительной прострации — впрочем, это адекватно — очень — детектив — фантазм — эротика — балдеж — тухлая проза! — ничего не ответил Жуков — медленно поднялся с колен — извини — сказал Сисин, беспокойно заглядывая другу в глаза — извини меня, Аполлон!
Немытая посуда сильнее Гегеля — на автоответчике опять какая-то краля, с кем у тебя милые отношения? — я говорю: кто? — сам послушай! — слушаю: Вера Аркадьевна! — обозналась — не знал: смеяться или плакать — вот так я ее замучил — ты мне посуду нарочно оставил?! — сам помыть не мог?! — хватит гнать чернуху!!! — Евгений Романович треснул кухонной дверью — Ирма — осока — кислые испарения — Ирма — колодец, геологический оползень, темная шахта — заглянешь в шахту, в далеком забое, при всхлипе вод, с трудом видны костры матриархата — всех можно купить — Ирма тоже держалась на его успехе, как на допинге — но все-таки он ценил в Ирме то, что она ни разу не посмотрела на другого мужчину похотливым глазом — он погрустнел, но, как всегда, ненадолго — а счастье было так возможно — что-то я, старичок, разуверился в женщинах — Манька готовится ехать в Америку к Ломоносову — чего же стоят тогда ее разоблачения? — весь разговор о том, что я дешевка? — и когда я думаю о Ломоносове, о том, как он поднимает палец вверх: — нет ничего полностью переводимого — нет ничего абсолютно не переводимого — во! — ужас — а она, если не от безвыходности — то значит — пустое — и тут меня охватила какая-то страшная тоска — если не она — то кто еще — полное отчаяние — не с кем стареть — никакое сыновство не спасает — не с кем даже поделиться мыслью о том, что всё хуйня — и — и с кем тогда стареть? — вот что меня начинало занимать больше, чем та самая щель — больше — и когда я подумал, как же ее поломает Америка — эта плотная, вязкая среда Калифорнии — она: нет! поговорим через десять лет! — у нас, Мань, не будет десяти лет — я говорил о своем везении — она, искренне: в чем же ты был везуч? — то есть какое везение, если я не вместе с ней — у меня нет больше сил еще раз по образу и подобию — найти родственницу — не сил, а желания — под утро приснилась свинцовая матрица: предвижу время, когда Бог перестанет радоваться своему творению, тогда он разрушит все, чтобы создать нечто новое. Это решено, время избрано. Но пройдут еще тысячи лет, прежде чем — так вот, настали сроки — Евгений Сисин, сексот небесной канцелярии — а счастье было так — но постой — ведь только потому, что она уплывает — вспомни, жопа, как ты с ней поступал — как не звонил — она ждала днями — как на прогулках думал о другом — ты ее почти что терпеть не мог — когда оставались одни надолго — чего, в сущности, не было — то есть — но тогда ее назначение: отражать тебя? — тобою жить — быть контролером с совещательным голоском — кому это понравится? — все было бы терпимо, если бы не кромешная домашняя ситуация — повествование скользит по поверхности жизни — а когда ты ходил по морю и убеждал себя, что — что Манька не тянет по сравнению с американкой — какие аргументы — помнишь — и ты еще — смею — смею — нет, логика моего рассуждения была такова: она черная — она злючка — пьет — нервы никуда — она обрушится на меня с ребенком — она теперь ищет счастья в шалаше — все пойдет по второму кругу — и я присмирел — даже при угрозе потери, о которой выражался весьма возвышенно — ты! — говорил я Маньке — возможно, подарок судьбы, который я не разглядел, и был наказан — я не разглядел и, стало быть, предал не тебя, а судьбу — ибо, мелодраматически заключал я, в тот момент полностью веря в то, что говорю — ибо если остальные были искушением, ты была подарком, и это предательство отразится на всем дальнейшем — она сидела, приняв водки с соком, и говорила тихо: — ужасно! Сисин, это же кошмар! я не умею так красноречиво — но это отразится и на тебе — сказал я — теперь мне нужно каждодневное семейное счастье — понимание — ободряющая улыбка — меня не возбуждает больше вид взволнованного клитора — понимание с полуслова — умение быстро и гибко разобраться в сложном положении — вот мой, извини за слово, идеал — я сижу с ним, с моим идеалом, и я его теряю — я не люблю терять — нет, это не капризность — я ее просрал — в этих постотношениях — она спрашивает: ты любишь меня? — конечно, тут есть отмщение — она из моего ребра — я так много энергии отдал ей — я слишком круто забирал про измену судьбе — у меня горело в груди — грешным делом (но это не главное) я обрадовался, что еще что-то способен ощущать — но горечь была явно сильнее радости: встреч было отпущено — ну, от силы две-три — а дальше все обрывалось — она переходила в другие руки — вынимала спираль — но почему перед тем, как рожать, вынимать, уходить — она вступила со мной в эти постотношения? — мы ангельски трахались, глядя друг другу в глаза — я не спрашивал ее, почемуона так делает — возможно, она даже делала это по взаимному их одобрению — должно быть, они решили быть вышемещанского воздержания — она мило путала имена — она говорила — ну, у тебя же были эти темные очки — или это не у тебя? — я не любил, когда она щурилась — тогда в ней было что-то противненькое — с другой стороны — она была всегда не уверена в себе — она всегда боялась, что у нее грязный подол или что-то вылезает — она никогда не разрешала смотреть, как она писает — разве только в темноте — на дворе — у крылечка — мы оба были в дурацком положении — только она устремлялась в шалаш и рожать — навстречу счастью — в которое я верил — и не верил — а я, на тринадцать лет ее старше — оставался стареющим мужиком рядом с бабой, которая — и тогда уж лучше боевую подругу, ведущую тебя за руку к успеху — а так одни жалобы — я сказал ей, когда говорили по телефону: есть вехи, есть звездочки, по которым ориентируешься в жизни — ты была одной из них — я позволял себе эту лирику грубого помола — она рвалась из меня непроизвольно — дурак ты! — она говорила — ей хотелось, чтобы я рвал на себе волосы — это был ее реванш — дурак ты! — у нее после нашего расставания — ползали как будто черви по телу — ей было необходимо психологически — освободиться от меня — но что значит психологическив наше время? — в общем, я все больше запутывался и даже забывал быть мужчиной — конечно, мы во что-то играли — но что-то в той игре было проигрышным для меня — я был словно заместителем — нормальным для отношений — с которым не стыдно — и даже можно объяснить — себе — близкой подружке Гуле — ну как же: в наш век нельзя без— так уж лучше с ним, с определителем века— в ответ на что Гуля залилась сытым смехом беременной женщины — мой слабый пункт был мой семейный ад — который был поразительно глупо и изматывающе устроен — вся жизнь была построена на претензии — отклонение малейшее от нормы — от собирательства — от крохоборства — наказывалось скандалом — который меня изводил — который был О!!! — как я это терпеть не мог! — и терпел — малодушно соглашался — почему? — это был ад — здесь все, что я любил, было под подозрением — здесь придавалось значение тем мелочам, которые — когда я сравнивал, особенно в постотношениях — утрата перспективы — а Сара ведь для меня и вовсе отгорела — и я делал вид — я вид делал — чтобы окончательно не выглядеть жалко — и что-то там предлагал отсрочить — бормоча — совсем внутри жалкий, поношенный — бормотал — а с виду в дорогостоящих, дико дорогих солнечных очках от известной фирмы, чье имя было написано на дужках, по бокам, как будто имя корабля — петрушка — кривляка! — я небыл кривлякой — во мне была (и осталась) та доля шарлатанства, что задана веком — меня хватало на то, чтобы еще оглядываться по сторонам — она сказала Ломоносову — это было безошибочно — ебись — только меня не предавай — он, наверное, рот открыл от такой простой формулы — не дурак, хотя, бог ты мой! — конечно, я считал себя лучше — ну, еще не заразись — она могла вполне так сказать — прикрывая тылы — именно эти утраченные возможности — не до конца понятные логически — бесили меня — и тогда я думал: неужели это только потому, что — прошлое — и невозможное — последняя любовь — а она спрашивала по телефону и, когда пьяная — ты любишь меня? — это было не по-спортивному — слушай: женщина, которая любит другого — и говорит мне: я к тебе нежно отношусь — с нежностью — как же, сука, она хотела убедить меня и себя, что я — сыгранная карта — что все: я кончен — ничего больше не сделаю — и ее переход к другому предельно естествен — как-то только раз, снова выпив, она спросила: можно ли любить двоих? — потом к этой теме не возвращалась — я надеялся, что она себя обманывает — естественно, мне хотелось бы, чтобы она была несчастной — без меня — хотя я говорил и говорил ей — что забочусь о ней бескорыстно — вне зависимости от того, со мной она или нет — я понимал цену всем этим предпоследним словам — мне хотелось, чтобы она приползла ко мне на брюхе — ободранная и несчастная — и сказала: только ты — нет — в какой степени я врал, называя ее моей родственницей? — в некоторой — хотелось ли мне, чтобы, родив от меня ребенка — она всю жизнь жила мною? — это все, что я мог ей предложить — тогда, в тот бесконечный разговор по телефону, она спросила: скажи мне: в последний год ты действительно собирался? — или — подожди, как было в последний год? — я уже тогда встречался с Воркутой (она была незамысловатой девушкой) — после Америки — нет — мы расстались — потом я добился отсрочки — у меня впервые на нее плохо встал — после — в ноябре мы расстались — у меня уже была эта — так, для баланса — в отношении к ней у меня был садизм — не зря я ее бил — порол — садизм — и неужели мой эмоциональный пик: эта полная неопределенность чувств? — политика ее не интересовала — в то время как шла великая рубка — ее не интересовало — а я украдкой пускал слезу, от самой возможности произнесения либеральной фразы, и делал вид, что режет глаза — так что же я могу от нее требовать — изведя ее полностью — до червяков — я сказал: это глисты — она — что редко с ней бывало — озверела от моего милогоиздевательства — так не достаточно ли этого всего было? — и не пора ли платить? — только перспектива ее счастья и моего несчастья бесила меня — уж больно отчетливая — а что ты ей мог предложить — но — и этине хотели мне помочь — ониотошли в сторону — и какую же наглость надо иметь, чтобы объявить себя — нет, просто поверить — ничего толком не зная — не прочтя до конца — не вдаваясь в ереси, в гностику — почему-то тянуло ровно настолько, чтобы дочитывать до половины — и давать рекомендации? — так что же, я и любить не умею? — она всегда считала меня по этой части уродом — а кого любить, если некого? — да нет, конечно, Ломоносов в нее вцепился и не бросит — если бросит, тоже нехорошо — нет, не бросит — слишком жирно для него — сказал Жуков — слишком жирный кусок — ты не дурак, мой милый Аполлон — это как раз и есть основа счастья: слишкомжирный кусок — он будет счастлив! — и ее сделает счастливой — может, она куда проще, чем я думаю — может, она все-таки помойка с душой совковой сикушки — и вот после Калифорнии она возвращается — а я все просрал — разменялся — десять лет спустя — старый хуй — а она блещет — прием в Спасо — блядь, тянет меня на всякое говно! — или просто: встретились — они еще молодые — а я старый хуй — они куда-то убегают через вестибюль, я стою, покачиваясь, хлопают дверью такси — оживлены — а я стою — изо рта несет помойкой — роли поменялись — друзей ни хуя — старый хуй со старой ненужной стервой, за которую стыдно — людям показать — да и сам — сгорбленный — или помер, и он: а знаешь, кто помер? — и она взгрустнет — вот интересно, как? — и я не раз ее хоронил, перед сном — по-блядски представляя себя похоронным генералом — с мамой ее разговариваю, африковеду жму — соболезнуя — руку — я — чудовищная сука, из которой лезут кишки тщеславия — ей снилось много снов: она их помнила и рассказывала — вообще-то они не были особенно интересны, помню, что-то такое военное, она разведчица (sic!), а Ломоносов за нею гонится — представляю, как ей запомнился наш разрыв — по ее инициативе — вот только сейчас я об этом стал думать — а тогда на что же ты рассчитывал? — надо посмотреть на нее трезво — если бы она его бросила, приползла — мне нравится, как она ползет, ползет — мне нравится ее унижение — мне нравится, как я ее посылаю на хуй — потому что у меня — я не знаю кто— я всегда хотел влюбиться во что-нибудь талантливое — в артистку Грушеву — у меня талантливое — знаменитое — ее любимая ГРУШЕВА! — как эскимо — Манька затащила меня в кафе-мороженое — у меня, по обыкновению, было плохо с деньгами — она считала меня жмотом, была уверена! — сделай мне праздник — однажды я ей рассказал, как устроил случайной девушке — слово-то какое — праздник — в посольстве Индии — ей очень не понравилось — а я нарочно — я видел: ей неприятно — но кого ебал, про это не говорил никогда — неспортивно — а любил иногда приезжать к ней, наебавшись — любил проверить ее женскую интуицию — ни хуя не работала — а гордилась! — все бабы гордятся — а это мое — моя ГРУШЕВА! — вот, знакомься: и посмотрю на нее, как на устрицу — и на него: женился на моей бывшейлюбовнице! — о! — слегка отпустило — или никогда не увидимся — или они пройдут мимо меня, красивые — в моей жизни что-то маловато тайны — честная давалка всем журналам — но есть одна — никому не доступная — я о ней, как ни странно, забываю — веришь ли? — я забываю о своем Божественном происхождении — я искал среди женщин что-то такое очень милое, симпатичное — у нее из пизды сначала пахло нередко мочой — я даже хотел обратить ее внимание — а потом перестало, почему? — а у меня с лица шел протухлый запах — я думал: всякие лосьоны — а был тухлый, потому что брился электрической бритвой — и нечасто мыл лицо с мылом — и немножко протух — и Маня мне призналась, что запах с лица у меня нехороший, а я не осмелился: про пизду — а поначалу попахивала — значит, была честнее в любви.
Я захотел ее изучить напоследок — но скорее лучше разобраться в своей дурости — мы сели возле реки — мы сидели возле озера — почему ты здесь? — если ворошить — выйдет неприятное для тебя — я взорвался — мне стало неприятно — мелькнуло американское — she uses me [89]— хотелось объясниться — она ушла спать — когда я, накурившись — напившись крымского вина — привалил — заснул — она ушла наверх — однажды просыпаюсь, она лежит на жесткой (у покойницы-генеральши болела спина) половине, спит голая — на рассвете — я подумал: простудится — но сначала приподнялся на локте и долго рассматривал — этот голый человек, сказал я себе, меня знает, как никто — ты царь — живи один — что мне хотелось? — я знал одно: она никогда-никогда не будет так знать никого, как меня — никогда — никого — дурак ты, Сисин — взявшись за руки, мы шли с ней на помойку — в небе звезды — тарелка летала — тарелка нас не удивила — пусть летает в свое удовольствие — мы лежали — она на моей ноге — потом — хочешь тоже полежать? — я лег — она гладила мне волосы — солнце светило в реку — берег был крут — мы спускались — валяли дурака — не говорили о серьезном — о том, что, возможно, это и есть наша последняя в жизни встреча — последняя — потом посреди прогулки я проголодался — я так удивился — я последнее время ем, борясь с тошнотой — пока жила на даче, я донимал ее историями последних приключений — под некоторые она, по своему обыкновению, кончала — но никогда не забывала их — на этот раз я заготовил длинный текст — я хотел ей сказать, что жалеть меня не надо — нет — ёёёёё — и возле озера я объяснился — как дурак — уже в самом деле — мне хотелось ей сделать больно — отомстить за то, что она мне сделала больно — я этого не прощаю — ты со мной потому, что боишься неверности Ломоносова — говорил я аккуратными словами — и выбрала меня в качестве удобной защиты от жизни — я тут понял — как бессмысленны все мои слова — все можно перекрыть удобными словами — слова и делают всю эту действительность — у меня опять начиналось жжение в груди — я жил неправильно и за неправильность жизни был наказан — ее потерял — но, если она скажет: возьми меня — меня вновь охватят сомнения — пьет — и вдруг только отражатель меня? — ёёёёё — he is a slave [90]— хохотали немки, Сарины ассистентки, тыча пальцем в русского оператора — я запасся и Сарой со спутанными кровями — Сара назвала меня принцем — я заготовил историю ее превосходства над Манькой — но я не рассказал ничего — мы просто валяли дурака — она п исала — я стоял на страже, как подросток — это был один из — бест— сказала она — один из бестовнашей жизни с тобой — когда мы возвращались с помойки, я даже вспомнил дурацкий фильм о счастливой смерти — но застеснялся — Боже, подумал я, я, оказывается, еще могу стесняться — холодало — темнело — было поздно — нужно было стремительно ехать — мы целовались — тихий час — объявил я — нам везло на поцелуи — я приготовил историю фиаско с фарфоровой свинкой — я только не знал, как правильнее рассказать — эти истории с бабами, сказала она, поморщившись — в них какая-то темнота — зачем? — мне самому было не совсем ясно — я знал, что никакая литература не способна объяснить, что с нами происходит — слова утратили простые значения — их нужно подстегнуть — иронией — цитатами — через цитаты идти обратно — мне этого уже ничего не хотелось — мне хотелось — чтобы этот день не кончался — совсем по-простому — мы провели с ней девять часов — больше не было отпущено — как одну минуту — время остановилось — призналась и она — мне нравилось, как она воюет за свою новую — ёёёёё— мы мирились в последний раз — она сказала совсем жестоко: я с тобой, потому что мне жаль тебя — мне так никто не смел — ёёёёё — там стрелял в Израиле — она была в отдаленных районах Новой Зеландии — когда скончался ее отец — чей прах — до сих пор не захоронен, лежит у родственников в доме, на квартире — и Сара сказала, что чувствует свое превосходство над многими людьми в мире — про Бормотуху в Амстердаме? — она всю ночь провела на празднике 30 апреля — и после пахла костром — поутру — я сразу понял — кто — когда хозяин — с явными признаками знакомства с совками — и недовольный этими манерами — объявил, что ко мне приходила какая-то Russian girl [91]— его коллега хохотал: русские слишком много говорят — но не она — это верно — про Russian girl я рассказал Маньке на трах — как без долгих слов — Бормотуха — она в самом деле немногословна — погружается в голландскую ванну — моя — бывшая!!! — Манька — быстро: — с презервативом?! — я соврал, что: конечно, да — кроме того, я подготовил историю с Сарой — с двойной целью: доказать Маньке, что она не тянет — что есть глобальный космополитизм — у Маньки были разные формы реакций — а? что?! где?!! — это если у нее прыщ, дыра на колготках, ну, в общем, лажа — русские вообще-то ARE SLOW [92]— а там принято все быстро— такой стиль — быстро — не вдаваясь в патетику — по лестнице быстро — нельзя, чтобы медленно — взлететь — а что там — наверху — не имеет решающего значения — но быстро — а русские вразвалку — и у всех животы и животики — пузо — Маньке нравилось мое пузо как-то совсем не по моде и даже очень провинциально — пузо— говорила она ласково — а я все качался, чтобы избавиться — Сара не любила католицизм — вообще, что о Боге, то — предрассудки — и говорила весомо, уверенно — не от себя — а от целой эпохи — я кивал — будь посторонним— сказала Манька — не ешь много, не пей много — не перестраивай дачу — по поводу жизни после нее— я все собирался сказать ей про Сару — сделать вид, что само вырвалось — на самом деле, чтобы продемонстрировать общность международных космополитов — мировой элиты — скептических журналистов — крутых продюсеров — мол, мы на равных — мы с Сарой засели на 13-м этаже в немецком баре в «Украине» — рядом подвыпившие англичане были некрасивы лицами — и я сказал, что благодаря глупости крутится мир — Сара кивнула — я невольно обидел бармена-немца, усомнившись в том, что он плеснул водки в апельсиновый сок — за ужином подходили русские официантки — ни слова — ёёёёё — она помалкивала — ее несколько поразил мой разговор о том, что она использует меня — это был мой разговор, уже нажравшегося Западом говнюка, у которого в кармане завелась валюта — ты умрешь раньше меня — сказала Манька в саду ночью — цвели яблони — было прохладно — ветрено — мне привиделись высокие темные травы — с лиловыми колючими головками — ты брал от меня больше, чем я — сука! — подумал я — последний день как форма повествования — она сидит на мятой многими жопами кровати — на вдавленной — продавленной кровати — и первый раз за всю неделю нашей зоны отдыхаплачет — на генеральском ложе — плачет — поразительно, как мало я думал о ней всегда — даже тогда, когда делал вид, что делал выбор — когда уходил к ней — так тихо уходил — что никто не заметил — а я бы могла применить все эти женские хитрости — вынуть спираль — как я ненавижу то время — когда болела — когда мы расстались — как сердце ее замирало, когда на какой-то вечер она спешила — ноги отнимались и не слушались — а вдруг там увижу тебя? — как непосредственно она говорила об этом — встретив меня в очередной раз наших нескончаемых отношений — пока не влюбилась — ее прорвало — рассказывала о Ломоносове — я знал его не слишком — ёёёёё — нет, такое тоскливое жжение началось — в груди — как тогда, когда расставались — она сказала: ты стал неинтересным — ты стал предсказуемым — оннепредсказуем — в каком смысле? — однажды были хулиганы — сказала Манька — они ели дыню у метро «Новослободская» — Ломоносов шел — увидел и взял меня за руку — нет, обхватил за шею — защищая — влюбилась — точно — подумал я — я принялся поливать Ломоносова в компаниях — потом мы катались на лыжах — лыжики— называла она — я понимал, что я просрал, что мне ничто не светит — что я столько энергии ей подарил — всю отдал — ёёёёё — я не тот — мы шли до следующей станции — у меня все время соскакивала лыжа — мы были румяные на морозе — ёёёёё — где Москва? — она задумывалась — показывала не туда или туда — мне нравилось — просрал — и что это не просто кризис посреди жизни — а просрал счастье — мы выносили помойное ведро — взявшись за руки — шли в темноте — она плакала в кровати — вспоминая, как мучилась — как болела, как поднималась температура.
Ужасно — сказала она — когда я сказал, что просрал — мне нравилось — как она отстаивает — разрываясь — наверное — может, там у них с Ломоносовым все хорошо? — она не раскололась — мне это тоже понравилось — она говорила: ты так говоришь, потому что все изменилось — я не люблю тебя — зачем ты здесь, со мной? — тебе будет неприятно, если рыться в этом — вот тут я тихо взбесился — ёёёёё — что она не будет счастлива ни с кем, кроме меня — послушай, я все это говорю — потому что я не понимаю, что происходит — я написал Век Пизды— ну, потому, что я хотела отдохнуть — хорошо-хорошо — она отплакала — сказала — я торопился в ресторан — она была очень обязательна, не любила опаздывать — зачем-то в Россию приехал Фредерик — зачем? — сказал с идиотской гордостью: завтра иду брать интервью у вашего премьера — ты с ним не знаком? — на хуй он мне нужен! — заорал я — молодец — сказала Манька — я отвез ее — лыжики донес до квартиры — стояла весна — я предложил ей снова погулять — она сказала, будет холодно — она не очень хотела — она — ёёёёё — согласилась — я сделал солнечную погоду — она знала, что это у меня получается — и не удивлялась — она удивлялась другому и главному: как я все так просрал — ёёёёё — я приготовил объяснения — это был самый лучший день — всех наших дней — только тогда я увидел поволоку счастья в ее глазах — и подумал: я мог бы ее видеть каждый день — идиот — я думал ей сказать о Cape — ёёёёё — что я понял Запад — как мало кто — что она не понимает — маленькая провинциалочка — что значит glamour [93]отношений — хотя у нас с ней — тоже бывало — на Чистых прудах — я хотел приготовить разгромную речь — и защитительную речь — мы ехали — я восторгался природой — огромным странным домом над рекой — с ней я удивительно отчетливо чувствовал себя мудаком — она пролезла в меня — она видела красные губы — маленькие поросячьи глазки — и она могла это сказать — ёёёёё — как я сам не смел — мы приехали — я тебе покажу, как пройти на реку — и как закрыть дверь и калитку — мы двинулись — она запуталась — смешно — мы шли какой-то новой тропкой — куда-то нас выбросило не туда — и, пройдя деревню, оказались на высоком берегу — там действительно было так красиво — то есть так красиво — не важно было — что — когда — река крутилась — там было так круто, так круто — она боялась — по песку сошли, осыпаясь — хватаясь за корни — внизу рыбаки — рыболовы — не рыбаки — я сказал: рыболовы — мы сели на бетонные плиты — она постелила куртку — у реки — солнечные звездочки — куда течет река? — в Москву — усвоила.
Я стал говорить какие-то глупости-глупости — она положила мне голову на ногу — потом сказала: хочешь, так ляжешь — я лег — день был выходной — какие-то дети прошли, обернулись, девочка и совсем маленький мальчик — подумали что-то про нас — и ушли — я говорил какие-то малозначимые вещи — слова, которые тут же исчезали, потому что их смысл не стоил ничего — в отличие от всего, что у нас было — она гладила меня по голове — ее дистонические пальцы — у нее всегда получалось как-то неловко гладить — у нее не было той опытности — ненужной — я думал: вот так и лежать — на ее нелепой длинной коричневой куртке — провинциалочка — думал я — но она так все усваивает — на лету.
Боже, какой я бред несу — я — который владеет словом и смыслом — и силой — и всем — знаешь, сколько времени — счастливые, по Грибоедову — какой я бред несу — не до стиля — ни до чего — ни до склада — я теряю счастье, выделенное мне однажды — какое значение имеет все остальное и состояние моей родины — в том числе — поцеловать ее в щечку и бросить — да, но ведь нужно не только играть, но и жить и подыхать — и кто-то родной тебе должен в этом помочь — а ты все думаешь о несовершенстве людей — хуй с ними — они — что они тебе? — или о несовершенстве родни и родины — твоей глупой страны — или об их тщеславии — как они рвутся наверх — пусть рвутся — как они не любят тебя — а с чего им тебя любить? — или ты думаешь о том, что Ломоносов — одиозная фигура — так говорят — ну, так что ты хотел бы? — чтобы, умирая, видеть рядом человека, которого любишь — а все остальное — вздор — и уйти отсюда, бормоча о любви — о любимой жене, как Булгаков — я ел сладкое говно любви — и тогда я понял, что такое счастливая смерть — чего раньше не понимал — и какая там в назидание Сара — и какие там объяснения — и ничего — кроме глупостей — у ласточек нет лап — или там что — она говорила — и какой там трах — а вот эта поволока счастья в глазах — и две мои любимые макушки — и пусть так будет — и ничего я не сделаю — потому что я сделал все, чтобы ее просрать — а я: космополитизм, мировое содружество журналистов-авангардистов, писателей и кого там еще — ничего не хочу — я объелся сладким говном любви.
Сукин сын! — возопил Жуков среди банок варенья — ты прикидываешься дураком или ты в самом деле дурак?! — Сисин недоуменно поднял голову — они стояли в ледяном погребе — на цементном полу — тут начались веселые деньки — спустившись по крутой лестнице вниз, Сисин сказал: — вот погреб — он у меня исполняет роль холодильника — картошка, морковка, лук, даже чеснок — ты любишь чеснок? — Жуков хмыкнул в бороду: люблю — мама дала мне немного квашеной капусты — у нее новый, бесподобный рецепт — на какое-то время нам хватит — под водку — Сисин подмигнул — он снисходил до меня — до всех — у него было чересчур улыбчивое лицо — с открытой, блуждающей улыбкой — приглашающей его считать своим— жрущим квашеную капусту — от мамы — любителем малосольных огурчиков с укропом — сибирских пельмешек — шашлыков — самых простых рыночных фантазий — наконец, воблы с пивом — на газете — весь в чешуе — нетерпеливо сосущий вяленый хвост — заливаясь пивом — довольный — в рыбьем серпантине — но это только декорации — приспособления — выдавал подбородок — и эти жесткие складки у рта — которые и решили дело — Манька не удержалась — уж больно мужественные складки у рта — руки тонкие, пальцы тонкие, а складки жесткие — нехорошие — и подбородок — и уши породистые — у Ломоносова лицо все-таки всегда немного готово вспотеть — взять и взопреть — не та порода — а здесь складки — а это что? — где? — Жуков неловко толкнул его в спину — Сисин поскользнулся на гнилой картофелине — упал на мешок с морковкой — ты чего? — засмеялся — а ничего! — сверкнул глазами Жуков — Сисин стал подниматься в недоумении — Жуков сбил его с ног — он его никак не мог добить — ну, как Распутина — или в «Лолите» — сбив с ног, он навалился на него и принялся старательно вязать, разматывая веревку из-за пазухи — Сисин стал вырываться — прямо перед собой он видел напрягшийся сосуд у Жукова на лбу — он еще подумал: сейчас лопнет — краснея, потея и чертыхаясь, Жуков вязал его по рукам и ногам — он привязал веревку к крюкам, на которых висело когда-то генеральское мясо — затем он надолго ушел — вернулся с молотом, цепями, прочими железяками — не обращая внимания на своего узника, в черном берете на лысой голове, Жуков стал развешивать цепи — Сисин презрительно и недоверчиво улыбался — Жуков приковал Сисина к стене в погребе — я простужусь — у меня гайморит — сказал Сисин — не простудишься — сказал Жуков — не успеешь — по ночам там бегали мыши — крысы — горела слабенькая лампочка — затекли — отекли руки — утратили чувствительность — жутко чесался нос — Сисин — весь обоссанный — висел — потерявши сознание — Жуков плеснул ему в рожу воды — Сисин облизал потрескавшиеся губы — Жуков приблизил к его глазам свой напрягшийся сосуд — скажи только слово: ты соврал? ну, скажи! — я тебя немедленно отпущу — Сисин медленно приходил в себя — он смотрел на Жукова впавшими глазами — скажи! — Сисин тихо сказал: ну, соврал — неубедительно — Жуков шлепнул его по щеке — он вдруг почувствовал, что тело Сисина безраздельно принадлежит ему — ему стало не по себе — он потрогал штаны — скажи убедительнее! — я тебя умоляю: скажи убедительнее! что тебе стоит! скажи! — ну, соврал — ты без «ну» не умеешь?! — хорошо — сказал Сисин и опять потерял сознание — Жуков с мукой смотрел на его мучения — Сисин пришел в себя — Жуков стал бить его в грудь и живот — а как же Троица?! — бил и бесился Жуков — ё! — через тебя Бог стал квадратным! — ё! — ё!
Сисин болтался на цепи — и за Стёпика!за племянничка! — зверствовал Жуков — и за Мармеладовну — как суфлер, подсказал Сисин — правильно, и за Соню! — зверствовал Жуков — Сисин болтался на цепи — ну, скажи, что соврал! — Сисин молчал, весь обоссанный — в быстро расползающейся от побоев одежде — с мутным взглядом — ну, чего ты молчишь? скажи! скажи хотя бы с «ну»!!! — Сисин покачал головой — Жуков ногой ударил его по яйцам — сука! ты меня выебал, падла! — Жуков воет — Сисин висит — Сисин сказал: ну, хватит, убей меня — ты все равно должен — Жуков в ужасе смотрит на Сисина — так было задумано — добавил Сисин — Жуков качает головой — я тебя люблю! — Сисин смотрит на него мутными глазами — если ты меня отпустишь, я убью тебя — Жуков, шатаясь, подходит к Сисину, трясет его — скажи: ПА-ШУ-ТИЛ! — Сисин: — шлю — шлю — Жуков: — гы! — Жуков: — гу! — Сисин: — шлю — Жуков: — гы! — Сисин: — шлю — Жуков: — хря! — Жуков: — что?! — Сисин: — шлюуууу — Жуков, в страшной догадке, затыкает ему рот — молчи! — отпускает — Сисин: — воды! — Жуков: — какой воды?! — ни слова о воде! — снова затыкает ему рот — Сисин с трудом качает головой — что? — пить — ах, пить! — дает ему пить — Сисин жадно пьет — Сисин смотрит на Жукова — Жуков! — Жуков, обрадованно: что? — я Бог — Жуков устало: ну, раз ты Бог, то сам себя и освобождай — я пошел — Сисин: это было — плохо ворочая языком — где-то я это слышал — Жуков: слышал? еще раз послушай! — Сисин, горделиво вскидываясь: я Бог! — Жуков: это я тоже слышал — Сисин: — (презрительно) — пер-ценили! — чего? чего? — пер-ценили-высе-себя (из последних сил), мммудаки! — Жуков икает — ща тебе будет допрос — икает — коммуниста! — пьет — хватается за голову — подозрительно — это ты — а? — на меня — икает — напустил — икает — икоту? — икает — Сисин, снова собравшись с силами: — шлюууу!! — Жуков поворачивается к Сисину, в руках топор — Сисин опять за свое, но чуть слышно: — шлю — шлю — Жуков начинает рубить Сисина, как капусту, на мелкие клочья — они оба быстро залиты кровью — отрубленные руки Сисина остаются в цепях — Евгений Романович без рук ловко бросается вверх по ступеням — Жуков удивлен — Жуков, скользя в крови друга, несется за ним с топором — Сисин вбегает на кухню — туловищем толкает дверь — пробегает столовую — вращаясь — хлещет кровью на недавно крашенный вишневый пол — скрывается в генеральской спальне — с розовой люстрой — зубами закрывает щеколду — крутится по спальне — трофейный шкаф — мутное зеркало — залезает от боли в постель и катается по кровати — Жуков влезает с топором в окно — у него борода вся в крови — Сисин зубами открывает щеколду — Жуков настигает его — ударяет топором — промахнулся — раздирает Сисину бок — топор впивается в пол — Жуков тужится, стараясь вырвать топор из крашеной половицы — Сисин с отрубленными руками и разодранным бедром бежит через холодную веранду — натыкаясь на старые стулья на случай гостей — ударился о бак АГВ — звяк! — звякнуло — обливаясь кровью, поднимается по лестнице на второй этаж — закрывает ногой за собой очень низкую дверь — Жуков медленно, тяжело дыша, поднимается по лестнице — по-писательски сутулясь — Сисин забегает в свой кабинет — на столе компьютер с детскими фейерверками на экране — Сисин прижимается туловищем к двери — слышны шаги Жукова — Жуков пытается войти в комнату — но Сисин из последних сил удерживает дверь — Жуков входит в комнату — он в ярости рубит топором компьютер — компьютер вдруг закудахтал — компьютер взрывается — летят во все стороны стекла — клавиатура — буквы — the mouse — от взрыва оба друга глохнут одновременно — вылетают оконные рамы — Жуков на ощупь ищет Сисина — скользит по полу — Евгений Романович прячется за фанерной дверью — Жуков отрубает ему гениталии — а и! — а и! — радостно вскрикивает Евгений Романович — бабушка записывает за ним — скажи, что не Бог!!! — но обрубок молчит — Жуков замахивается — страшный предсмертный крик — медный живот матери.
Радуйся, луна пресветлая, ночь нашего неразумения разгоняющая смирномудрым учением!
Радуйся, источник пресладкий, слаще сотового меда, неистощимый для черплющих исцеления от гроба твАго!
Радуйся, весна желанная, взрастившая дивный цветок добродетелей!
Радуйся, трисолнечной Троицы губитель, постников украшение, собой пример показавший!
Радуйся, прекрасная лилия, любящим взором всех к себе влекущая!
Радуйся, вдовицам покровитель, сиротам, нищим, странникам и не имеющим крова тихое пристанище!
Радуйся, целомудренное сокровище чистоты, не имеющий никакого плотского желания!
Радуйся!
Ты можешь мне помочь в одном деле? — я пишу книгу о Сисине, сказал я — в серию «ЖЗЛ»? — после исчезновения Сисина я ее посетил — Маня была грустная — я знала, что его переживу — я ему сказала однажды, у него на даче, в саду — зимой — он не верил — возможно, и в «ЖЗЛ», сказал я, хотя Сисин формально в нее не укладывается — почему? — спросила она с полулюбопытством — догадайся — я слышала, ты распространяешь слухи, что он был — она замялась — он мне сам сказал об этом — мало ли что он тебе мог сказать! — скажи лучше, что тебе известно? — просто он исчез, как тысячи людей в России — вышли из дома и исчезли — я убил его — милиция мне не поверила — ты не можешь его убить — хорошо, сказал я, пусть я даже не могу его убить и его похитили инопланетяне (что я несу!) или хуй знает кто — но помоги мне — что главное в Сисине? — она задумалась, зябко кутаясь — не зна-а-а-ю — нараспев произнесла — а все-таки? — ты напишешь о нем плохую книгу, усмехнулась Манька, я не буду тебе помогать — она склонилась над пепельницей — почему плохую? — ты знаешь, как он относился к тебе? — мы были друзьями — а все-таки? — высокомерно? как ко всем? — Жуков не хотел обострять и уже жалел, что пришел — Манька молчала — он был самый нормальный человек — сказала она — оригинально! по-моему, у него был очень кислыйвзгляд на людей — кислый? а какой еще может быть? — пожала плечами Манька.
Господа судьи! — я убил Сисина, потому что он желал нового потопа — конечно, с точки зрения здравого смысла это выглядит неудачно — господа судьи! — вот вы говорите, он пропал — тем хуже — значит, воскрес, и дело приобретает плохой оборот — но, возможно, он все-таки пропал — да, я зарубил его, а потом малодушно закопал — но есть и другая версия — господа судьи, то, что вы прочтете ниже, гипотеза — концы с концами не сходятся — я был в состоянии стресса — под влиянием — Сисин не любил алкоголь — он предпочитал другие улеты — да — трупа вы не нашли — я позвонил в милицию и сказал — заберите меня, я убил нечто, похожее на человека — надо сказать, они весьма быстро приехали — или не очень — потому что я все-таки успел его расчленить лопатой и закопать до их приезда — они приехали — потом мне сказали, что я сошел с ума на почве зависти — ревности — и унижения — не скрою, основания для этого были, но я сильная личность — хотя Сисин всячески унижал меня — поскольку это художественное произведение — я дал ему другое имя — из другой книжки — чем он меня достал? — во-первых, однажды по-дружески трахнул.
Потом закружилось все очень стремительно — я стал ее зашвыривать подарками — эта маленькая блядь любила подарки — я навозил ей из Европы полно подарков — и она милостиво принимала их — от амстердамских ювелиров — французских boutiques — я забрасывал ее подарками — в обмен на встречу — она была прожорливой — она просыпалась и говорила о завтраке — это куда лучше, чем об убийстве Николая Второго — мы сидим за столом — она заметно меньше интересуется моими делами, чем когда-то — я — родной предсказуемый человек — из которого лопух вырастет — телевизор работал — показывали меня со сломанной ручкой — потом показали без сломанной — с каким-то идолом — которого вскоре убили — меня гримировали, как покойника — красили ресницы — было стыдно — я мог обратиться с воззванием — человеческий проект себя не оправдал — поезд сошел с путей — был прямой эфир — но я знал — ничего не скажу — она мне стригла ногти на руках и ногах — она нашла имя — она любила его, как никто — Сара только о яйцах — она вспомнила дни, недели, когда по ней ползали червяки — от безнадежности жизни она меня — это странно — не возненавидела — вокруг пустота — мы гуляем в лесу — бревна лежат, похожие на обглоданных бегемотов — я знаю, ей это понравится — понравилось — потом говорила — я ходила гулять к бегемотам — я смеялся — смех рвался наружу с какой-то глупой непроизвольностью — я знаю: время условно — я знаю — смысл жизни: — любовь — назначение жизни: — любовь — я думал: — слава! — слава? — это тень власти — и еще я боялся — что я упаду к ее ногам и заору — будь моя — а она скажет — нет — я понял всю мелочь словесную перед лицом любви — не в словах дело — никогда не подслушивайте разговоры влюбленных — их нет — этих разговоров — они обращены не к слову — энергия слов в них иная — слов нет — ток иной — не подслушивайте их уменьшительных, ласковых слов — не потому что может вырвать — хотя — может и вырвать — а потому — я сын Его, я знаю — эти слова ничего не значат — и интонации не значат — и ничего не значит — и все значит — а те на Западе — они недолюди — они — клиенты — с быстро вспыхивающими улыбками — они не существуют для нас — их жизнь и смерть — развлечение наше — их можно грабить, обманывать — изучив — их улыбочки — давить их — fine! [94]fine! — мудаки — назад к Папочке! — Он научит меня любви — мы все Его дети — но они слишком серьезны со своими смешочками — куда ты едешь? — это же кладбище! — но как убедить — она уперлась — но мне-то что делать? — опять бунтовать? — с красными облизывающимися губами — себе остопиздел — выдохся — надорвался — орал — скалил зубы — золотые — куда ты едешь? — но как объяснить — что ловушка — смирись — но что толку — что толку в смирении — вечно жить бунтом — но что толку в смирении — не хочу жить тихо — хочу жить тихо — зачем-то медлю — когда времени в обрез — сейчас или никогда — и ничего не делаю — молчу — я мог бы ей заорать — забудь обо всем — будь моей — она, может быть, этого только и ждала — другому отдана — нет — не ждала — я попался в ловушку собственной хитрости — я хотел превратить ее в мать моего ребенка — и чтобы она склонялась над ним — пока я заезжал на пятнадцать минут — поминутно смотря на часы — вокруг росли американские студенты — объехав с тайной миссией полмира — я вынес неутешительный приговор — я был изначально далек от людей — но ввязался в людскую тусовку — на мне лежит грязь размышлений — забуревший мужик — сегодня ее притяжение, несмотря на семейный раздрызг, кажется слабее — хотелось бы знать: pourquoi? — они все хотят изменений — а я хочу — чтобы слова вернулись на свои места — они неверны — эти западные гады — непривязчивы — индифферентны — однажды я улетал в Крым — и там — меня опять проводили неласково — как в бордель — как всегда — там, утром, по дороге в Ялту — вдруг сошлись воедино все мысли — как давно уже не сходились — сошлись — соединились — во время утреннего невыспавшегося полета я понял, что все — я решился — ты будешь моей — я прорвусь к тебе — я возьму тебя — в Ялте опять показалась она-она — я вяло отбивался — отмахнулся — но не отбился — кормил клубничными леденцами — ничего не различал — она-онаопять все оттеснила — какие-то крошечные груди — отодвинула Маньку — Господи, как долго я не пис ал — не приближался к своей жизни — потом была Москва — потом Италия — но перед тем — мы пошли — мы еще гуляли не раз — без траха — она готовилась к встрече с Ломоносовым — у нее любовь — и эта любовь может ее убить — и ее не будет — я встречу ее — не ее — и никто тогда не останется — одни волки — и он ее убьет — потому что он жлоб — а она сказала, чтобы я не звонил — ничего, кроме любви, не бывает — пИзды? — не верю я что-то в пИзды — я ее подменил Воркутой — Европой — еблей с музыкой — и под музыку — на кассете осталось — я — царь — живи один — не хочу — и даже когда она п исала, я честно, сквозь солнечные очки, не глядел, когда раздался шум с дороги и я оглянулся, когда она писала — куда ты едешь? — это же кладбище! — Манька боялась не Калифорнии, а того, что с ним будет трудно забеременеть — у него какие-то нехвостатые сперматозоиды — а так ей все равно: — где — я зашвыривал ее подарками — вынула спираль — мы гуляли — без траха — по дороге в Ялту я решил отбросить всякий стыд — в Ялте я сразу наскочил на нее-нее— как на мину — в первую же ночь осталась в моем номере — мы гуляли на Воробьевых горах — любила ли она деревья? — сидели на пеньках, неподалеку от пристани — я молчал — я никак не мог решиться — лежал у нее на коленях — я посмотрел на нее снизу — закинув голову — Манька, сказал я, собравшись с духом, начиная новую жизнь — роди мне девочку — Манька, я хочу от тебя девочку!
К концу Ялты ее присутствие поуменьшилось в результате вставной истории — потом в Италии — швырнули свежатину — они(эти силы враждебные) хотели оторвать меня от Маньки — онистремительно понимали, что с Манькой я буду против них — мы шли по Воробьевым горам — мы молча возвращались к машине — сказав, я почувствовал невероятное облегчение, гора с плеч — значит, все правильно — решил я — она молчала — у нее был Ломоносов, который вот-вот приедет — потом снова была Москва — я названивал ей в Одессу — поздравлял с днем рождения — роди мне девочку — ты знаешь, какой красивой будет она! — тут она сказала: — но какой же будет у нее характер! — стерва! стерва будет! — заорал я — в трансе — она никогда не видела меня таким, как на Воробьевых горах — она сидела на пеньке — я попросился положить голову на колени — она не возражала — даже: — почему нет? — вдруг он сказал, откинув голову: — Манька, роди мне девочку! — он сказал это совсем по-человечески — не спеши говорить нет— а если не девочка? — роди что угодно — будь моей — меня прорвало наконец — в Лондоне случился гайморит и подсунули китаянку — я раздвинул китайские ножки — черная стеснительная китайская пипка влажным взглядом смотрела на меня — сволочи! — я не мог не поцеловать это восточное сокровище — Фредерик взвыл от зависти — в Лондоне у меня закручивались дела — я жил у него дома — когда-то в Москве мы бегали с ним на Воробьевых горах — я горько жаловался на советскую власть — навстречу нам, как из-под земли, выбежала рота милиционеров — в фуражках — с одышкой — промчались в сапогах — с обрыва бросились в реку — русские девушки — бежал Фредерик — помывшись в ванне перед трахом, всегда опять одеваются — мерд! — он вляпался в свежайшее собачье говно и заскакал на одной ноге — даже колготки натягивают — всё! — до последней сережки — мерд! — а потом, в спальне, стягивают — чем объяснить? — ведь француженки выходят в полотенце или просто так — почему? — почему натягивают колготки? — это касается только первого раза — бежал я по луже — затем — я махнул рукой — как француженки — без всяких колготок — Фредерик дышал рядом — а еще (бежал я, оставляя сырые следы) русские девушки иногда крадут в ванной разные вещи, когда идут мыться — è vero! [95]— по-весеннему просиял Фредерик — а ты заметил — бежал я мимо будки спасателей, и нас облаяли овчарки — что те, что носят очень короткие юбки, куда менее ебливы, чем те, что носят юбки подлиннее — задыхаясь, он крикнул сердито мне вслед, что девушки из высшего общества грязнее в своих фантазиях, чем девушки из скромных семейств — а вот это неверно, возразил я — и с хитрым лицом добавил: — Берлинская стена скоро рухнет! — мы молча бежали сто метров, переваривая мою предстоящую новость — она никогда не рухнет — усомнился Фредерик — она вечная — она вот здесь — он строго постучал себя по лбу и отстал окончательно — по случаю моего приезда в Лондон Фредерик пригласил швейцарскую чету журналистов из Цюриха — без чувства юмора — и маленькую китай-девушку — которая ему нравилась — после ужина мы вышли к Темзе — Темза произвела на меня приятное впечатление — на обратном пути встретили знаменитого лондонского плейбоя с двумя шикарными, как кобылы, девицами — он поволок нас в закрытый клуб — там все, во главе с хозяином, выбежали вперед, когда он вошел, мы за ним, я с китаянкой — стали почтительно сдирать с нас плащи — все танцевали — я сидел с китаянкой Щи и тихо беседовал — наутро Фредерик показал фотографию старого ловеласа в газете — убили? — нет, он женится — как? на обеих? — Фредерик несколько поменял свою философию — к еде и ебле он теперь добавил волю к власти — он готовился получить какое-то мизерное повышение по службе — постепенно стало складываться мнение, что Россия в XXI веке станет самой богатой и милой нацией в мире — не успеет — злорадствовал Сисин — Фредерик увидел Маньку на даче — мы вместе поздно поужинали — она говорила по-английски, как типичная московская девушка — с подпрыгивающими интонациями, замещавшими незнание са мых распространенных слов — почему они все плохо учат языки? — бурно взмахивала руками — о, йес, оф кос! [96]— крутила глазами — ужасно подмахивала — уронив бутерброд, показала язык от смущения — в Калифорнии постепенно отучится — подумал отстраненно Сисин — но не сразу — Фредерик, сам неверно говоривший по-английски — с парижским присюсюкиванием — выдавал себя за решительного мужчину — любил говорить: don’t explain, don’t complain [97]— был по-своему Наполеон — почему-то не пришел от нее в окончательный восторг — я огорчился — я сильно расстроился — на меня слишком действовали мнения других — они меня разрушали — меня можно было переубедить — это меня угнетало — он рано пошел спать, не найдя себе подруги — на следующее утро я застал их с Манькой на кухне за выпиванием виски — до завтрака — оживленно разговаривающих — я думал, что утром она ему больше понравилась — правда, она хороша? — шепнул я — подлец, он отделался малозначительным жестом — он показал мне свой пропуск в старейший парламент мира — нашел чем гордиться — другие в нашем возрасте уже возглавляют правительства — и фотографию японки, на которой надумал жениться — я думал: — хрупкое создание — на меня взглянула женщина с лицом японского бульдога — ее родители, точнее отец, не хотели отдавать ее замуж за Фредерика — он слетал в Японию — убедил — уладил — моя Щи была в сто раз лучше, чем его выстраданная, в бою добытая японка — Щи была ему недоступна — он был вынужден с ней дружить — он даже стал плохо относиться ко мне — хотя в первый вечер — в половине третьего ночи — звонил какой-то платной бляди — он трогательно обещал Сисину заплатить за совместную авантюру — Сисин откликнулся — блядь не подняла трубку — Фредерик совсем приуныл, когда меня втянули в кинобизнес и утром приехала спортивная машина с роскошной блондинкой с невыспавшимся лицом — впоследствии она оказалась Сарой — совсем мой друг приуныл — со своим пропуском в парламент — он куда-то делся перед моим отъездом — пришел в последнюю минуту сильно под кайфом, совсем не дружелюбный — мы холодно обнялись — сдержанно похлопали друг друга по спинам — Манька опять далеко отодвинулась — я прилетел в Нью-Йорк — на одну ночь — в Манхэттен не поехал — в JFK, отстояв в духоте мерзкую очередь на въезд в Америку, взял такси — негр повез меня в близлежащий «Holiday Inn» — заехал не туда — заблудился — испугался, что я подниму скандал из-за трех долларов — верная, влюбившаяся по-сумасшедшему Щи проводила меня в Хитроу — вот упущенный идеальный вариант — подумал я — мы обнялись: — мелкоголовый Кевин открыл для себя русскую философию — всю ночь не давал мне спать — мучил Соловьевым и вечной женственностью — в углу урчал американский телевизор — поговорили о Москве — он предложил расстреливать уличных продавцов на Арбате, торгующих политическими матрешками по скандальным ценам — достаточно расстрелять одного — на следующий день наша рабочая группа вылетела в рай — в раю, среди лимонов и скал, я сказал себе: — буду ходить и думать — теперь я уже не любил Америку — но четко понял — люблю комфорт и свою квартиру — звучало не слишком духовно — в раю я решил остаться навсегда под покровительством нейтрального Будды — на самом деле я ебал Будду — остановился на день под Сан-Франциско — в большом доме миллионеров — устроили ужин — явился кандидат в очередные президенты США — они с хозяином дико кричали — кандидат кричал о том, как он растянул себе на бегу ногу — хозяин представил Сисина как международную знаменитость — расскажи мне о России — я ничего в ней не понимаю — сказал кандидат — Сисин метко охарактеризовал Россию как великое государство — приехали русские — среди них гуру Барлах — он все-таки не выдержал — развелся с женой Катей — потом получил записку — испугался погрома — бежал в Америку на немного — остался навсегда — Сисин взял его в рай из раскаяния — более того, еще в Москве, по инициативе Сисина, Рыжий Крокодил играла с ним в карманный бильярд — он сам расстегнул штаны — хуишко такой забавненький! — хихикнула Крокодил — я подрочила культуролога, но не дала — по вашему приказанию — гримасничала — нечего баловать — я тебе привет привез и письмо — сказал Сисин, тщательно скрывая свою нерасположенность к гуру — он достал из сумки письмо, которое они вместе с Крокодилом писали, пьяные, как турецкому паше — Крокодил плакалась, что скучает по его члену — по какой-то особенной лиловой родинке на нем — Барлах внимательно прочел текст — перечитал — лицо его выразило смирение — чего пишут? — спросил Сисин — дела — сказал гуру — ну, как в Москве? — сладким голосом спросил он.
Хуево — обрадовал его Сисин — он знал, что, как всякий эмигрант, Барлах подкожно мечтает о негативной информации — гуру сделал скорбное лицо — чего же ты не уезжаешь? — Сисин знал очередность вопросов — не знаю, сказал Сисин — ведь страшно — ведь могут убить — сказал гуру — Сисин, улыбаясь, кивал — за год гуру успел переродиться, лицо его начинало лосниться, борода курчавилась, он обретал округлые формы — складывал ручки да животе — за кого я? — подумал Сисин — за красных? за белых? за евреев? за погромы? — за Запад? — в раю он свел два мира для глубокого взаимопроникновения — слушал профессорский бред — понял, что все не нужны — но почему мне жаль срущую по ногам Россию? — как ты там, в Филадельфии? — у меня был секретарь — важным голосом сказал гуру — я написал много за этот год — гуру по-прежнему работал над теорией, которая объяснит весь мир — натянув его на колья оппозиций — описав его окончательно — но сначала поймать Россию в свой силок — Сисин напрягся — он сумеет — думал он — никто не сумел, а он сумеет — устроит всеобщий концлагерь — головы отдельно — тела отдельно — его надо опередить — внешне они были друзьями — гуру знал Ломоносова и знал, как найти его в Беркли — он едет в Москву — сказал гуру — Сисин напустил на себя равнодушный вид — а чего он едет? — было видно, что гуру включает Ломоносова в эмигрантскую обойму своих— по делам — да ну? — удивился Евгений Романович — по каким делам? — по частным — Барлах был такой — из него не выдавишь — он меня не любит не только за дачу — думал Сисин — я знаю, как он подмахивал националистам — стал модернистом, когда братания не произошло — воспел Ломоносова как интертекстуальныймост — бросился в авангард — стал культурологом — модельером российской реальности — он задушит мир своими квадратами оппозиций — мстя за свое бессилие, наплодит с десяток детей — Сисин взял его в рай, чтобы обезвредить — Ломоносов вроде жениться собрался? — осторожно спросил Сисин — да что-то такое — осторожно ответил Барлах — рано утром Евгений Романович обнаружил гуру в горячей ванне — в соседней юные ученицы массажисток купали друг друга, блестя на солнце юными курчавыми пиздами — пизды дымились — по сравнению с ними малоспортивная Манька была двадцатидевятилетней старухой, которой московские врачи-стоматологи, ковыряясь в ее зубах, отвешивали чисто русские комплименты — та была искренне рада — они сказали мне, что я выгляжу на двадцать три года! — белый толстенький животик гуру заканчивался востреньким хуем — надев темные очки, Сисин стал отыскивать обещанную лиловую родинку — как в плохом фильме— молвил гуру, глядя на молодость мира.
Наконец случилось то, что должно было случиться — я встретил его в небритомБеркли — где затоварились шестидесятые годы — где все ходят в жилетах и независимых шляпах — я вошел в тощую эмигрантскую компанию, перемешанную киношниками-американцами — в разоренный, дощатый, «курящий» дом — где любили Петербург — повсюду валялись дискетки, кассеты, шерстяные свитера — на стенах висели шляпы и длинные платья — хрипел автоответчик — мы были в силах — по-вечернему одетые в легкие вечерние — как будто ничего не значащие одежды — мы — мои американские хозяева — миллионеры и землевладельцы — которые от нечего делать решили прокатиться в Беркли — мы ехали по 101-й на юг — среди холмов и растительности — по 580-й — охваченные чувством неподдельного избранничества — я в своем итальянском пиджаке — купленном в Милане — я перешел в итальянскую веру по этому делу — принял католицизм элегантности — мы вошли — они засуетились — я знал — я выигрываю — сразу — но он не засуетился — Ломоносов сидел на кухне ко мне спиной — среди картонных ящиков, затекших противней, бутылок, бутербродов — стал медленно разворачиваться — словно для удара — был сильно загоревший — без шеи — Манька, роди мне девочку — уже поддатый — я намеренно опоздал часа на полтора — уже прилично поддатый — осевший — одутловатый — вываренный в дешевом калифорнийском вине — Ломоносов — мы медленно обнялись под взглядами эмигрантов — привет! — он медленно заговорил — двигая толстыми губами — я обрадовался: — он опустился! — ночью я позвонил в Москву — не хочу тебя расстраивать — я никогда не скажу о нем плохо — но он опустился — я знаю, сказала она — ты любишь меня? — когда сновавпервые она сказала «да»? — я звонил ей из Upstate Нью-Йорк — он опустился! — заклинаю — не нужна тебе Америка — дело даже не во мне, а в тебе самой — не езди сюда, в эту липу— дождись меня — он к тебе едет жениться! — будет трудно — сказала она — посмотрим — сказала она — ты сделаешь, как ты хочешь, говорил я, но роди мне девочку — она стала внимательнее прислушиваться к моему бреду — я приехал в Москву уже после него — вся операция прошла по телефону — я приехал в Москву, чтобы узнать новости — она поехала его встречать в Шереметьево — как невеста — с гладиолусами и одноруким — и — они напились — до усрачки — мне швед сказал — знаток русской жизни — рецензент и сторонник ВП— про Маньку — она ко мне тожеклеилась — добавил разведенный швед — приятель Ломоносова — эээ — ёёёёё — Сисин нахмурился — он ехал с Кевином вон из рая — висели мосты — только ты не предавай меня — сказал Кевин — в смысле? — это не рай — как не рай? — не рай — а что? — по-детски удивился Сисин — сплав Будды с уик-эндом — сказал Кевин — как это? — все еще не понимал Сисин — ловко, по-американски, спланированный дом свиданий — приносящий прекрасный доход — Сисин, улыбаясь, шепнул: — врешь! — pardon me? — всех убью! — взбеленился Сисин — однорукий добавил — швед о Маньке сказал, зная русский не хуже русских: — хитрая дура — почему? — замер Сисин — хитрая, потому что халявщица — Сисин задумался над его словами — дура, потому что этоже видно! — они с Ломоносовым напились, свалились на диванчик — сказал швед — она курила одну за другой — ты чего? — толстые губы Ломоносова перекосились — потянулся — сжал крепко — мне глаза твои карие снились — он нашел ей временную работу — он звал ее мыть посуду на кампусе — ей это резко не понравилось — мыть посуду в столовке — у него не было денег — не хватало — а как же шалаш? — помыть посуду тоже неплохо — неужели не пробовали ебаться? — однорукий швед развел руками: — наш друг перепил — а она? — Сисин остановился в нерешительности: — она дрочила ему? — я что, видел? — засмеялся швед — все возможно — добавил он назидательно, с неприкрытой лестью: — в конце концов, на дворе век пизды! — она даже про диванчик скрыла — хитрая дура — хитрая дура — неужели со стороны так все видно? — неужели он так промахнулся? — накрутил? — началась тусня — Ломоносов пил — швед улыбался — эх, ребята, живем! — приговаривал швед — она советовалась с папой — африковед был против посуды и не слишком за Калифорнию — ну, как Беркли? — чему тебя тут учат? — Ломоносов пожаловался Сисину, что его замучили — заставляют писать идиотские рефераты — отчеты о проделанной работе — борьбе с саранчой — денег мало — не хватает, чтобы пойти в ресторан с дамой — даму захотел! — подумал Сисин — в доме было сыровато — Сисин надел чужой свитер — общались — Сисин тихо смотрел — в свитере он был похож на того «палестинца», которого встретил на островах — она не хотела мыть посуду — не подходила к телефону — не зажигала в квартире свет — брала трубку и молчала — ждала Сисина — думаешь, я за тобой гоняться буду? — услышала в трубке срывающийся голос Ломоносова — повесила трубку — всплакнули с Гулей — Ломоносов был отстранен и раздавлен — это мне обошлось в 750 американских долларов — я ни разу не трахнулась с ним — как он приехал — она сказала Ломоносову, что не готова выйти за него замуж — когда, в какой момент она вновь полюбила меня? — или ты меня не разлюбляла? — ей нравилось скрываться от Ломоносова — здесь была своя интрига побега — мои миллионеры снисходительно слушали Ломоносова, его неровную, некрасивую речь — Ломоносова забывали на родине — он позвонил мне в Москве — в самый разгар Манькиной беготни от него — пригласил на свой переводческий вечер — я пришел — он выступил неудачно — время быстро ушло вперед — было мало людей — он был неповоротлив — я сначала наслаждался его провалом, а потом все немножко сместилось — на секунду он стал мне милее Маньки — когда-то мы ездили с ним под Винницу есть вишни — сидели на украинской свадьбе — пили самогон — нам подарили рушники — у него дядька был местным участковым — мы бегали смотреть задержанных в КПЗ — помнишь? — Ломоносов кивнул — он предложил после вечера пойти выпить: — у меня есть коньяк! — ах, ты совок! — про себя обрадовался я — как же ты дешево тоскуешь по бутылке! — я не пошел пить коньяк — я пытался по глазам понять — больно ли ему — очень ли больно? — по-моему, ему было очень больно.
Я пришел к ней на кухню — сел напротив — мы были на грани общей жизни — ну, рассказывай — сказал я — перед тем, как кончить, я выдернул бегемота, в то время как она, крепко схватив меня обеими руками за жопу, удерживала в себе — (основной женский жест) — кончи в меня! — ногти впились — подожди! — почему? — произошла даже некоторая потасовка — я вынул — я обляпал ей весь живот — мы никогда так не кончали — мне был отпущен месяц — я мягко сказал, что принимаю эти сроки — а если мальчик? — я согласился на мальчика тоже — она была настроена решительно — сказала, что любит меня — нам надочасто трахаться, сказала Манька — передо мной сидела женщина, с которой я должен был связать свою жизнь — на следующий раз я кончил в нее — буря чувств — рассуждали о девочке — придумывали имена — запахло физиологией — Валентин поджидал меня возле дома на Сивцевом Вражке — я ни-сколько не удивился — давно не виделись! — он, оказывается, уволился — переусердствовал в борьбе с интеллигенцией? — он скривился — он выглядел совсем штатским — без галстука — с расстегнутым воротником — в черных джинсах — работал теперь в коммерческих структурах — собирался основать собственный банк — но это так, баловство — мы присели на гранитных ступенях кремлевской поликлиники — мимо нас скользили больные тени прошлого — с рецептами в руках — ну, так что? — спросил он — в смысле? — я сказал: — не видите, я начинаю новую жизнь — нам надо часто трахаться — Ломоносов где-то болтался по городу — Манька не подходила к телефону — правда, мы как-то иначе трахаемся? — радостно удивлялась она — так странно! — Женька, правда, странно? — я ваш хозяин — указательным пальцем показал на него Евгений Романович — и я имею право быть счастливым — Валентин кисло усмехнулся — если на свете существует любовь, я оставлю мир в покое — я хочу, чтобы моя будущая ДАШКА тоже была счастлива — Валентин торжественно поднял брови — не кривляйтесь — попросил его Сисин — я тоже умею кривляться — я наконец понял, в чем ошибка Папаши — страстно заговорил автор ВП— он устроил аврал — он звал всех скорее наверх, потому что ничего тут не понял, не полюбил— Валентин не сдержался — Сисин! что с вами? — что вы несете! — вы превращаетесь в банального кретина — отъ ебитесь от меня!!! — рявкнул Сисин — пусть дураки живут, как им вздумается! — плевать! — дайте мне мое счастье! — не мешайте мне! — взмолился он — Валентин поднялся, тщательно отряхнул черные штаны — я, пожалуй, схожу напротив, в музей Герцена — никогда раньше не доводилось, до свидания — стойте! — остановил его Сисин — Валентин с удовольствием остановился — там, это — Евгений Романович не знал, как сказать — ну, в общем — я был у Спиридонова на Каширке— поморщился Сисин — он совсем загибается— надо же, еще молодой мужик! — возмущенно покачал головой Валентин — вот именно! — со значением сказал Сисин — они помолчали — нельзя ли как-нибудь, ну, это, его сохранить? — потупился Сисин — он что, эмбрион? — хохотнул Валентин — я серьезно! — оченьхорошо вас понимаю — проникновенно сказал Валентин: — все-таки друг — добавил: — закадычный— Евгений Романович закусил губу — руки у него дрожали — ну, знаете! — пробормотал Евгений Романович — а я-то, грешным делом, все перепутал! — схватился за голову Валентин — я думал: он вам как кость поперек горла! — затмение! затмение! полное затмение! — кстати! — без передышки, лихорадочно моргая глазами, продолжал Валентин — ума не приложу, где захоронен Герцен, вы не в курсе? — в Ницце! — злобно сказал Сисин — на горе! — все-то вы знаете! — в полном восхищении вскричал Валентин и окончательно ушел в музей.
Океан синел — что ты предлагаешь? — спросил Папа — что я мог предложить? — по-моему, сказал я, то, что ты предложил, касалось только смерти — разве это не самое важное? — ты обеспечишь им нестраданиена небесах, если твой проект оказался неправильным? — переговоры — был день моего рождения — Манька подарила две бутылки марочного грузинского вина — в ресторан не пошли — обсуждали девочку — обсуждали, как жить — где жить — трахались через день — обсуждали, как назвать девочку — я склонялся назвать ее Дашкой — смотри, не пей — а я вообще не пью — в сухой октябрьский вечер, при северовосточном ветре, она сказала мне, что, кажется, забеременела — как странно! — правда, странно? — участь моя была решена — утром пошла мыться в ванную — вышла убитая — началось! — Сисин испытал невольное облегчение — была еще поездка на дачу — она не захотела обсуждать Ломоносова — но мы тем не менее еще обсуждали Дашку — потом, в следующий раз — все началось из-за подарка — я привез ей подарок, но забыл взять с собой — от подарка перекинулось к жизни вместе— она стала выдвигать претензии — ты нарушаешь свои обязательства — ты должен— давно с Сисиным так жестко не разговаривали — Сисин что-то мямлил — она решила уехать — Сисин пошел спать — но она передумала — легла с Сисиным — рыдала в ванной — Сисин сказал, что нужно еще подождать — она все сделала неправильно — она вела себя нетерпеливо, а главное, резко и необаятельно — Сисину вдруг открылся другой образ — она неправильно себя вела — по дороге к Маньке он заехал на Сретенку — Бормотуха жила в дальней комнате с разорванными обоями — хозяйка держала пять кошек и трех собак с дрожащими хвостами — собаки тявкали на кухне — все это воняло — как ты можешь тут жить? — по-барски удивился Сисин — тут, кажется, даже нет ванной — хозяйка с газетными бумажками на голове выбежала посмотреть на него — здрасте! — сказал ей Евгений Романович и прикрыл фанерную дверь — его фотография висела на рваной стене — по-моему, я от тебя кое-что подцепил — Бормотуха не могла скрыть своей радости — ей было приятно, что она могла что-то сделать для Сисина — это ничего— сказала она — это пройдет — Сисин стоял и рассматривал свою фотографию, вырезанную из газеты — я въехала в тебя — сказала Бормотуха — я тащусь — каждую ночь перед сном я молюсь на твою фотографию — скажи, ты меня тоже уничтожишь, как всех? — откуда ты все знаешь? — удивился Сисин и положил ей руку на голову — Бормотуха молчала — слезы катились у нее по щекам — угости меня вином — наконец сказала она — пойдем, купим в ларьке — от вина ты, деточка, дуреешь — сказал Сисин — вчера Любовь Иванну показывали по телевизору — сообщила Бормотуха — видел? — нет — сказал Сисин — какую Любовь Иванну? — Крокодильшу! она сказала, что ты автор одной хилойброшюры — на секунду Сисин задумался — это нормально— усмехнулся Евгений Романович — Любовь Иванна и не то еще вытворит! — и как в воду глядел — на смерть Сисина Любовь Иванна написала некролог, имевший большой резонанс — она постепенно входила в моду — почувствовала себя лидером поколения — поливнойнекролог под названием Ку-ку, пиздец— слушай, а тебя как зовут? — ласково спросил Евгений Романович — Бормотуха молчала — мне всякая дрянь лезет в голову — встряхнулась Бормотуха и подняла на него глаза с черными пятнами под ними — из кухни донеслись звуки собако-кошачьей возни — скрежетали миски — поезжай к маме — теплым голосом сказал Евгений Романович — тебе нечего больше делать в Москве — он вынул бумажник — достал сто долларов — она слабо улыбнулась бумажке — Манька была на взводе — он опоздал, спеша к ней со Сретенки — ехали на дачу и молчали — а Евгений Романович терпеть не может напряг — он ненавидит напряг — приехали взвинченные — Евгений Романович, к тому же уставший от траха — Манька сказала Сисину, что будет разрешать ему трахаться, но только с резинкой — у него не было сил ссориться и объясняться — почему он заехал к Бормотухе? — потому что ебля не может быть официозом — ебля только тогда ебля, когда запрет, а так тоска — Манька стала официозом — когда она стала официозом, в ней вылезло женское— со своей стороны, она сказала, что трахаться, наверное, ни с кем не будет — женщина обожает хранить верность — женщина только и ждет, кому бы быть верной — женщина хранит верность, даже не спросившись — ночью она не уехала — порыдала в ванной над неудавшейся жизнью — под утро легла с Сисиным спать — перед сном Евгений Романович выеб ее с удовольствием — уже после ссоры, с удовольствием, не как официоз — а потом подумал и выеб еще раз — и она даже удивилась, как ловко он ее выеб дважды — они заснули — и проспали бы долго — и мало ли что — ведь Евгений Романович кончил в нее без резинки — и Дашка могла бы родиться — но утром раздался звонок — она проснулась, решила бежать — побежала — Сисин даже обрадовался: — досплю — на следующую ночь Сисин позвонил ей — они долго говорили по телефону — из пустого в порожнее — утром он снова звонил — я тебе сейчас перезвоню — я под душем — перезвонила — предложила ему приехать и делать девочку — ставить градусник в попу — и тут Евгений Романович сломался — не поехал — сказал, что скис— так и сказал — скис — поехал читать лекцию студентам Литинститута — прошла неделя — вдруг сама звонит — нужно встретиться — Евгений Романович решил — забеременела — ему стало не по себе — он решил — аборт — надо купить, говорит она, чего-нибудь выпить — ну, естественно, думает Евгений Романович — встретились на Кутузовском — он посмотрел на нее — что-то ему в ней не понравилось — купили литр «Смирновской» — блок сигарет — ну, что случилось? — спросил Сисин — а в голове: беременность! — подожди, доедем, скажу — Евгений Романович беспокойно вел машину — как глупо, думал он, она забеременела в тот момент, когда я отказался от Дашки — да еще в ночь ссоры — но внешне он держался молодцом — скажу, пусть делает аборт — вот ведь какая насмешка — доехали — вошли в дом — разделись — бывший муж умер — Сисин чуть не крикнул ура!
Сидел — слушал про мужа — потом еще хуй знает про что — потом они потрахались сквозь менструацию — а если бы я забеременела? — ну, ты же знаешь, что было бы — зачем ты побрил бегемота? — он сказал Маньке, что не знает, откуда — с потолка свалились — шесть лет любви кончались мандавошками — а ты? — он посоветовал ей надеть белые трусы и посмотреть, не выступают ли на них кровавые точки — она всегда возила с собой запасные трусы — утром она категорически не захотела вставать — я держался сдержанно — но мы все-таки, снова сквозь менструацию, трахнулись — он повез Маньку в город — она сказала в машине: ну, всё — что ты бормочешь? — это я себе — ну, да — ведь всё — ну, всё — ведь всё — не получилось — он высадил ее на улице Веснина и, перед тем как высадить, сказал: может, эти звери от Ломоносова? — ты спала с Ломоносовым после его приезда? — Манька на него посмотрела испуганно — Евгений Романович засмеялся, сказал, что пошутил — она неподвижно сидела — она тужилась, как тугодум — Женька — испуганно попросила она на будущее — ты не старей! ладно? — да-да — кивнул Евгений Романович — ё — ёёёёё— ё — ёёё — ё— ё— ёёёёё — ёёёёёёёё — ёёёёёёёёёёёёёё — ёёёёёёёёёёёё — ёёёёёёёёёёёёёёёёёёё — ёёёёёёёёёё — через два дня он позвонил ей, потому что ему захотелось ее увидеть, и она сказала по телефону, что она тоже хочет его увидеть, и спросила, как поживает бритый бегемот, и Сисин засмеялся и сказал, что она любит бегемотабольше его, а любит ли он ее, на что Сисин, естественно, сказал: да, а она его? она любит его, но пусть он ей больше не звонит или пусть позвонит тогда, когда надумает с ней жить, а так просто пусть не звонит.
С тех пор сисинский хуй уже обзавелся курчавой растительностью — Евгений Романович не звонил — и тогда к нему снова наведался Валентин в своих черных джинсах — загорелый — подтянутый — с модной стрижкой — заехал на большой вишневой «бээмвухе» — вызвав мощное восхищение старой, интеллигентной лифтерши Марфы Михайловны — и с порога — распространяя жизнеутверждающий запах форенгейта — весело крикнул Евгению Романовичу: старье берем! — Сисин стоял перед ним, сунув руки в карманы, по своему обыкновению — покачиваясь на пятках — Сисин подумал-подумал и позвонил своему старому другу-недругу Жукову — чтобы тот решил, на что это, в самом деле, похоже — почему ты выбрал меня? — спросил Жуков — у меня никого больше нет — ответил Сисин — я поверил в тебя — сказал Жуков — ты тот, за кого ты себя выдаешь — он вынул пистолет, прицелился и спокойно разрядил его в грудь Евгению Романовичу — потом спустился по лестнице — очутился в райском саду гэпэушного Руссо, подошел к телефону и, борясь с тугим циферблатом, накрутил двухзначный номер — алло! — сказал он не «ё», а «о» — приезжайте — я убил человека — его попросили сообщить адрес, из чистой формальности, поскольку адрес они уже знали — вы сами всё знаете — строго сказал Жуков — кроме, может быть, самого существенного — а именно? — мне не нравятся ваши литературные интонации — заметил Жуков — трубка прислушивалась к дыханию Жукова — я убил своего давнишнего друга, который сошел с ума и стал Богом — да-да — новым Божественным поколением — у него был глубоко отвратительный взгляд на людей — ё — но он все-таки сомневался до самого конца — разочарование наступило как-то внезапно — она моглапобедить — еще бы чуть-чуть — он вдруг увидел перед собой маленькую жеманницу — говорящую в минуты мления дявместо да— инфантильную хищницу — он понял, что ее воля к счастью сильнее — я вас плохо слышу — сказала трубка — говорите в трубку — для правдоподобия вам нужно было сказать какую-нибудь полицейскую пошлость, сделайте милость, не портите повествование! — я вас не задерживаю? — никак нет — тупо сказала трубка — минуточку — в трубке послышалось шипение — Жук ов помолчал — я вас слушаю — сказала трубка новым, более умным голосом — вы послали за мной машину? — начальственным тоном спросил обнаглевший Жуков — посылаем — нахмурилась трубка — тогда я продолжу — сказал Жуков — ее воля к счастью оказалась сильнее любви к нему — он не мог этого пережить — сегодня он принял решение уничтожить все человечество — трубка терпеливо посопела — я предупредил его, что этого делать не надо — он настаивал на своем — только ты, Жуков, сказал он, можешь сегодня спасти людей — губя человечество, ты (сказал я) погубишь себя — нет, я непотопляем — сказал он, очевидно, намекая на что-то такое водное — он же с самого детства был связан со стихией воды — если бы не распустили колхоз коммунизма, он бы мирно охотился за женщинами — до самой старости, если бы только не помер от сами знаете чего — брось, Жуков! — ё — сказал он мне, когда увидел в моих руках незаконную — у меня нет права на хранение оружия — пушку — я возьму тебя с собой — тебе ничего не угрожает — но во мне — я вас не задерживаю? — началась просто оргия гуманизма— вы знаете, откуда эти слова? — не знаю — недовольно сказал служивый — кстати, у меня для вас есть любопытная информация — я знаю трех девушек-нудисток, которые охотно делают милиционерам минет — желаете телефон? — в другой раз — сказала трубка — они выехали? — едут — сказала трубка — пусть они отвезут меня на Средиземное море — как положено — сказала трубка — на Лазурном берегу я буду писать о нем книгу из серии «Жизнь замечательных людей» — или богов — буду писать и купаться, вставая с восходом солнца — мы все, капитан — ведь вы капитан? — ведем неправильный образ жизни — мало едим овощей, салатов — редко пьем морковный сок — а писательство, капитан, расстраивает нервы — он помог мне стать выдающимся писателем — ВП— вы меня понимаете? — ё! — так везите меня на курорт! — в конечном счете, я это заслужил — я спас человечество — Аполлон помолчал и добавил: — впрочем, по своей уральскойщедрости не исключаю самоубийства — с моей помощью — понимаешь? — он был мне всегда несколько — ё! — непонятен — шлю — шлю — хорошо — а если не шлюзы, то что? — если не шлюзы? — отсюда выходит, он сам спас юманитэ? — по его глумливым словам — понял? да? — и я всего лишь оружие — ё? — снис — ё! — сних — ё? — ё? — перейди на федота — с федота — ё! — ёёё! — ёёё! — ёёё! снисходительного поступка.
Сисин тихо лежал наверху, не спеша дожидаясь своего воскресения.
Бедная Манька летела на дачу стать моей пиетой.
Москва — Berre- les- Alpes
1991–1995
Пять рек жизни
Бог — един.
Бог
Исторический оргазм на Волге в Сталинграде
Меня всегда беспокоило то, что Волга впадает в Каспийское море. Такая большая, такая многозначительная река, а впадает в никуда. Другие реки как реки текут осмысленно, прогрессивно в Мировой океан, телеологически осуществляя круговорот воды в природе, а Волга замкнулась сама в себе и задраилась, как у Канта. В этом есть особенный вид предательства. Волга собирает воду у других русских рек (идите ко мне! втекайте в меня!), те к ней льнут, втекают доверчиво, а она транжирит и разбазаривает.
Лежишь в высокой июльской траве под серебристой сенью ив на берегу нежнейшего притока, какой-нибудь шаловливой Истры, ну просто спицы в волжской колеснице, и думаешь: вот напрасное журчание струй, бесцельное предприятие. Так вся православная энергия сливается в мусульманский отстойник.
Не в том ли причина русской многострадальности?
Хотя, с другой стороны, как хорошо никуда никогда не впадать! Все при деле, а ты — без вещей. Как хорошо выпасть из всемирной закономерности и течь мимо, веселясь и ленивясь! Жуки ползают, кукушки кукуют, дети купаются. Церковь на косогоре отражается в речке. Благодать. Родина. Июльское оцепенение. Между пальцев ног чавкает теплый ил.
— Есть ли у нас будущее? — жужжат дети.
— Есть ли у нас крылья? — поют насекомые.
— Есть ли у меня надежда? — кукует церковь.
Я сворачиваю пейзаж в рулон. Пищит все живое. Помедлив, я разворачиваю.
— Зачем вам пустая банка? — говорит капитан.
— Да так, — говорю я, смущенно пряча пустую банку за спину.
— Кажется, — подозрительно щурится он, — вы задумали что-то недоброе. У вас плохая репутация. Вы действуете по заданию?
— Нет.
— Тогда зачем вам банка?
— Какая еще банка!?
— Та, которую вы прячете за спиной!
— Ах, эта!
— Вы хотите повернуть Волгу к Мировому океану?
— Я хотел, но передумал.
— Почему?
— Не знаю. Я против насилия над природой.
— Ну, хорошо. Зачем вам банка?
— Капитан, я скажу, но только пусть это будет между нами.
— Говорите.
— Я хочу ее наполнить водой из Волги.
— Каким это образом?
— Ну, просто зачерпну.
— И что дальше?
— Ничего.
— Зачем вам вода из Волги?
— Для анализа.
— Какого еще анализа?
— Целевого.
— Это запрещено.
— Что запрещено?
— Брать воду из Волги на анализ.
— Где это сказано?
— Что сказано?
— Что запрещено.
— Вам что, закон показать?
— Да.
— Знаете, что?
— Что?
— Отдайте банку.
— Нет. Не отдам.
— Отдайте по-хорошему.
— Капитан, ну чего вы как маленький.
— Нет, это вы, как маленький. Корчите из себя пророка!
— Капитан, смотрите, что у меня есть.
— Уберите. Уберите немедленно! Уберите!
— Ну я же могу взять другую банку.
— Сначала отдайте мне эту.
— Нате! Берите!
— И если я вас увижу с какой-либо другой пустой посудой… Имейте в виду!
— Вы меня пугаете?
— Я вас предупредил.
— Вот сука, капитан! — сказал я моей спутнице. — Отнял банку! Отнял банку в свободной стране!
— Свободной стране! — отозвалась спутница.
— Обещал утопить!
— Как же нам быть? — испугалась она.
— Ждать.
Волга — бетон русского мифа. Не река, а автострада слез. Я все время откладывал поездку вниз по Волге, как обязательную, если не принудительную, командировку в поисках пошлости. Я ссылался на занятость, исчерпанность сентиментальной темы и без труда находил себе оправдание.
К тому же, я был отравлен своими юношескими впечатлениями от мимолетных, почти случайных дотрагиваний до таких волжских прелестей, как Пасхальная ночь в ярославской церкви, где старушки падали в обморок от толчеи и духоты, но не могли упасть по недостатку места и продолжали качаться вместе с толпой, потеряв сознание, с закатившимися зрачками.
Длинноволосым тинэйджером в конце первомайских праздников я ехал из Углича в Москву в переполненном вагоне, вонявшем липкими носками и потом, и ночью мужик принялся блевать, рядом со мной, и его жена, не зная, что делать, стала подставлять ему, вместо тазика, его же собственные ботинки, сначала один, потом — второй. Мужик наполнил их до отказа блевотиной и облегченно захрапел.
Ботинки, полные блевотины, — это и была моя Волга, с красными выцветшими флагами, серпами и молотами, мертвыми магазинами, пахнущими дешевым коричневым мылом. И то, что в Угличе три века назад убили царевича Дмитрия, было, после этих ботинок, для меня вовсе не удивительно.
Через полжизни, измученный дурными предчувствиями, с тяжелым неверием в народную мудрость, я, наконец, решился на подвиг подглядывания: что же там с ними на Волге делается? Спились окончательно? Осатанели? Подохли?
Я внутренне подготовился к смертельной скорби и циничной усмешке, как будто шел на трагедию в театр. Оставалось лишь тщательно выбрать спутницу, чтобы кормить в антрактах мороженым.
Одинокий путешественник похож на шакала. Впрочем, для России путешественник — слишком европейскоеслово. Ты кто? Я — путешественник. Звучит глупо. С другой стороны, кто же я? Не странник же! Не путник! И не турист. И не землепроходец. Я — никто. Я просто плыву по Волге. В России нет определяющих слов, нет фирменных наклеек для людей. Здешние люди не определяются ни профессией, ни социальным статусом. Нет ни охотников, ни пожарников, ни политиков, ни врачей, ни учителей. Просто одни иногда тушат пожары, другие иногда учат детей. Здесь все — никто. Здесь все плывут.
Кого взять с собой? Простор для материализации. Но страшно беден женский интернационал! Итальянки восторженны и доброжелательны, однако, на русский прищур, уж слишком хрупки и законопослушны. Бывает, покажешь итальянке фальшивый доллар, и она тут же падает в обморок. Американки, напротив, не хрупкие, но они составлены из далеких понятий. Польки слишком брезгливы по отношению к России. Француженки — категоричны и неебливы. Голландки — мужеподобные муляжи. Шведки малосольны. Финки, прости Господи, глупы. Датчанки — отличные воспитательницы детских садов. Швейцарки — безвкусная игра природы. Правда, я знал трех-четырех исландок, которые не пахли рыбьим жиром, но это было давно. Австрийки сюсюкают. Норвежки, венгерки, чешки — малозначительны. Даже странно, что им отпущено столько же мяса, костей и кожи, как и другим народам. Болгарки и гречанки старятся на глазах. Не успеешь отплыть от берега, как они уже матери-героини. Испанки — кошачий водевиль. А португалки — вообще непонятно кто.
Давно замыслил я взять с собой одну англичанку из Лондона, но она замужем и перестала звонить.
Конечно, можно поплыть и с русской дамой. Но зачем? Много курит, ленива, окружена пьяными хахалями, которых жалеет с оттопыренной губой, но после бесконечного выяснения отношений, уличенная в очередном обмане, она обязательно предложит родить от тебя ребенка.
Путешествие с русской дамой — путешествие в путешествии. Двойной круг забот. К тому же, нечистоплотна. К ней липнут бациллы, тараканы, трихомонады. У нее всегда непорядок с месячными.
В хмурую погоду Волга смотрится серо; в теплый день она плещет светло-коричневой кокетливой волной. Вдоль нее стоят призраки бородатых русских писателей с изжогой сострадания к народному горю, причина которого — русский самосодомизм — зарыта где-то поблизости в грязный песок.
— Будем откапывать? — с готовностью предложил капитан.
— Тоже мне клад!
— Обижаете! — сказал капитан.
— Кто не с нами, тот — против, — зашумели бородатые.
— Эх, вы, культура! — рассердился я. — Нельзя ли что-нибудь повеселее?
— Концерт! — закричал капитан.
— Врубаю! — козырнул его помощник. В первом акте все было как будто предопределено. В Угличе из ограды монастыря-заповедника, где за вход в каждую церковь надо отдельно платить, выкатился прямо на меня самый народный тип инвалида, на инвалидной коляске, Ванька-встанька с колодкой медалей 1941–1945 годов, со словами: «Каждый кандидат в президенты — еврей!» Сопровождавшие его женщины готовы были к аплодисментам.
— Ошибаешься! — сказал я инвалиду достаточно строго. — В России вообще все евреи, кроме тебя.
— Верно, — сказал инвалид. — Я не еврей!
— О чем это вы говорили? — поинтересовалась моя суперсовременная немка.
С кем плыть по Волге, как не с немкой? С кем, как не с немкой, склонной к неврастении, к мучительной обязательности Германии, пойти контрастно против течения? Из всех возможных вариантов я, по размышлении, выбрал немку, берлинскую журналистку, ни хрена не смыслящую в России, но зато ироничную дочь андеграунда с дешевыми фенечками, голубыми, как русское небо, ногтями, рабыню фантазмов с экстремистским тату на бедре.
Чтобы не выбросить случайно, от нечего делать, по примеру крестьянского царя, свою спутницу за борт, я населил четырехпалубный теплоход не обычными пассажирами, а целой сотней российских журналистов самого провинциального пошиба со всех концов необъятной страны. Пусть они, как коллективная Шахерезада, рассказывают нам всякие русские страсти-мордасти. Наконец, я велел официанткам надеть прозрачные розовые блузки, чтобы мы плыли, как будто во сне. Буфетчица Лора Павловна, тоже вся в розовом, приготовила мне на завтрак гоголь-моголь. Она принесла мне его на подносе на верхнюю палубу, и, щурясь от яркого света, сказала:
— Я люблю греться на солнце, как какая-нибудь последняя гадюка.
Капитаном корабля был, естественно, сам капитан.
Россия — деревянная страна. Она не оставила за собой никаких архитектурных следов, кроме битой кучи кирпичей. Избу не назовешь архитектурой, даже если изба нестерпимо красива. Я люблю ее обрыдально маленькое оконце под крышей. Изба — не дом. Изба — не вещь. Изба — неземная галлюцинация от удара по темени. Вот почему в России каждый, по генетическому коду, погорелец. С нездоровым мучнистым лицом злоупотребителя картофеля и водки. Но в наш век победивших стереотипов внесены в последний момент поправки.
Русская душа вдруг пожелала запечатлеть себя в камне. Она смела зелено-синие дощатые заборы. Это не столько социальная перемена, сколько метафизический скандал. Русская душа задумалась о частном комфорте на узком промежутке между рождением и смертью. Что за ересь! Берега Волги блестят новыми железными крышами.
— Неужели кончилось русское царство пол-литра? — спросил я капитана, стоя с ним на капитанском мостике. — Даже если в России все снова замрет, строительный бум последних лет запечатлится на века.
— Все течет, — покачал головой капитан. — Потекла и Россия.
— Может быть, строятся только богатые? — спросила немка.
— Н-е-е-е-е-е-е-е-т, — сказал я. — Поздравим Россию с возникновением целого новогосословия.
— Что вы имеете в виду? — уточнил капитан.
— Над Волгой, как молодой месяц, нарождается средний класс. Чем он станет, во что воплотится, тем и будет Россия, — поэтически сказал я.
— Да… Вот мы в детстве показывали друг другу кукиши, — добавил помощник капитана, сложив для наглядности пальцы в кукиш. — А теперь и кукишей никто никому не показывает. Прошла мода на кукиши.
Не имея, однако, традиций кирпичногомышления, русская душа ворует отовсюду понемногу: твердеет крутой замес немецко-французско-американского односемейного зодчества. На месте столбовых пожарищ с мезонином возводятся дома с башенкой. Русский человек возлюбил башенки. Волшебная сказка лишенца совпала с фаллическим знаком крепчающего общественного возбуждения. К тому же у меня с немкой начинает складываться историческая интрига.
Я иду с ней по базару в Костроме, где торговки с бледными северными лицами бойко, выставив вперед животы, торгуют воблой и ананасами.
— Вы, простите, беременная или просто так, толстая женщина? — спрашиваю я торговку вяленой рыбой.
У нас чтохорошо? Можно спросить, что хочешь. И в ответ услышать все, что угодно. Очень просторное поле для беседы. К тому же беременных в России не больше, чем верблюдов.
— Я-то? И то, и се, — отвечает она. — А ты, поди, приезжий?
— Ну.
— Тебе знамение будет. Жди.
— Дура ты! — сатанею я от испуга. — Сама ты знамение, блядь засратая!
Мы на Севере, на границе белых ночей. На границе романтической бессонницы. На автобусах рекламы: «Читайте «Северную правду»! Немку мутит от запаха воблы в то время, как я объясняю ей, что последний раз в Костроме ананасами торговали при царе Николае Втором, а киви — и вовсе невидаль. В Костроме двоемыслие: все улицы с двойными названиями: бывшими, советскими, и новыми, то есть совсем старыми, церковнославянскими.
Мы заходим в вновь открытый женский монастырь: немка, залитая в стиль, вся, разумеется, в черном, становится неотличимой от стайки монашек ельцинского призыва. Ставим по свечке перед иконой реставрированного Спаса, хотя она, танцевавшая в юности topless на столах в ночных барах Западного Берлина и, по-моему, неосмотрительно близко дружившая с Марксом, терпеть не может религию.
— Есть ли жизнь на Марксе? — спрашиваю я немку.
— Чего? — таращит она глаза.
Спас начинает гореть синим пламенем. Огромная икона срывается и начинает летать по церкви из угла в угол. Как будто ей больно. Как будто ей тесно и неуютно. Как будто она просится вон из святых стен.
— Что это с ним? — поражается немка.
— Мается, — объясняю я.
Вокруг крик, гам. Все глядят на меня. Монашки расступаются. Входит наш капитан со снайперской винтовкой из ближнего будущего (он купит ее с оптическим прицелом назавтра в Нижнем Новгороде) и его молодой помощник, чернявый черт.
— Похоже на самосожжение, — шепчу я.
Описав в намоленном воздухе мертвую петлю, Спас с треском встает на свое место. На иконе проступают пять глубоких порезов.
— Что есть икона? — надменно спрашивает капитан.
— Откровение в красках, — пожимает плечами помощник.
— Отставить, — иконоборчески хмурится капитан.
— Икона — это русский телевизор, — лыбится моя спутница.
По глубоким порезам, как слезы, течет вода.
— Дайте мне банку, — прошу я.
— Хуй тебе, а не банку, — добродушно ворчит капитан.
— Мне нравится Россия, — сдавленным шепотом признается немка.
После такого признания я не могу не отвести ее в старый купеческий ресторан, с лепниной на потолке и театральными красными шторами. Ресторан (напротив новенького секс-шопа с изображением яблока с надкусом на вывеске) днем совершенно пуст. Завидев нас, официантки, пронзительные блондинки (на Волге все женщины хотят видеть себя блондинками), срочно бегут менять домашние тапочки на белые туфли с длинными каблуками:
— Икры не желаете?
Россия вооружается. Холодный дождь загнал нас с немкой в нижегородский оружейный магазин. На окнах решетки в горошек.
— Как у тебя дома на балконе, — хихикнула немка.
— Нет, у меня в ромашки.
— Почему в ромашки?
Что мне сказать? Как объяснить ей, что декоративная решетка — это герб моей целомудренной родины?
При входе в магазин мы столкнулись с нашим капитаном и его чернявым помощником. В руках у капитана новенькая снайперская винтовка. Поздравили его с покупкой.
— Люблю иногда пострелять, — сказал он шутливо.
— Мне знакомо ваше лицо, — сказал я любезно помощнику капитана, приглядевшись.
— Не имею чести вас знать, — сухо ответил помощник.
— Постойте, — удивился я, — не вы ли играли в Угличе роль инвалида с медалями?
Помощник смутился и что-то собрался буркнуть, но капитан шутливо уволок его за собой.
— Гондоны тут не продаются! — напоследок все-таки выкрикнул чернявый.
Я купил по сходной цене две ручные гранаты «лимонки» и положил в карманы брюк. Я заинтересовался наручниками и резиновыми дубинками.
— Не заняться ли нам на волжском досуге садомазохизмом? — предложил я со смешком.
Немка взволнованно побледнела.
Погружение на дно местного кабака прошло как нельзя более успешно. Нас окружали мужчины двух основных волжских типов, шатены с усами и светловолосые с лысинами. Низко склонившись над столами и исподлобья глядя друг на друга, они тяжело стонали от счастья.
— Ну, как тут вам у нас? — сердечно сказал губернатор, похожий на только что сделанный, быстро шагающий шкаф. За ним стояли молодые богачи, которые трещали и щелкали от силы своей энергии.
Обрадовавшись свежему виду власти, я стал откровенен:
— Нормально. Правда, ваш Кремль — говно. Одни стены. Никакой начинки.
— В приволжских просторах, — улыбнулся губернатор, — есть ни с чем не сравнимая рассеянность пустоты.
— Прострация? — уточнила немка.
— Торжество близорукости, — продолжал я, не споря. — Человеку с острым умом здесь нечего делать.
Русские ничего так не любят, как пиво с раками. Красные вареные раки пахнут волжским илом.
— У нас в Европе… — важно начала немка. Мы с губернатором не смогли сдержаться и дружно расхохотались.
— У меня капитан банку отобрал, — в конце концов сказал я.
Губернатор глубоко задумался.
— Банки, конечно, склянки, — сказали вслух молодые люди, щелкающие энергией и пальцовкой делающие козу.
— Страна устала от экспериментов, — добавил губернатор.
Рачий белесый сок пьянит и волнует не меньше пива. От первого в своей жизни сосания раков немка, кажется, совсем въехала в Россию. Она погружает в раков руки по локоть. Урчит ее тугой животик. Дело, однако, чуть было не испортил юноша, застенчиво попросивший у меня автограф на салфетке.
— Ваши книги похожи на раскаленный паяльник, который вы засовываете читателю в жопу.
— Будем брататься? — ласково рассмеялся я.
— Каждый писатель подмигивает публике.
— Вот вам автограф, но, ради Бога, не считайте его индульгенцией! — сказал я, подписывая салфетку крепким словом.
Однако на душе было непросто. Понятно, стоит мне их только подбодрить, как они бросятся ко мне со всех ног, давя друг друга.
— Так ты, оказывается, не человек, а общественная институция, — заметила немка со странной смесью старогошистского презрения и немецкой сентиментальности.
Казань встретила наш корабль военным духовым оркестром. Сверкали на солнце трубы. Боже, как красивы татары! А татарки! А татарчата! Одно загляденье! Здесь каждый — Нуриев. Здесь вечный балет. Я уверен, что все прославленные итальянские модельеры — тоже татары. В этот город надо засылать мировых агентов по сбору кандидатов на топ-модели. В татарских лицах есть врожденная стильность «звезд». В их взглядах — сладостная отрешенность, о которой повествуют рекламы лучших парфюмов.
Я подошел к скамейке ветеранов, которых специально привезли на пристань для встречи с нами. Эти ударники до сих пор выглядели обалдевшими от звука собственной жизни. Их было в общей сложности семь человек, включая старушку в плаще-клеенке. Вот, в сущности, и все, что осталось от советского народа. Старость в России неприлична. Для ее описания Шекспир не нужен. Нюрнбергский процесс чересчур театрален для ее осуждения.
— Стахановцы, кто вы теперь: коммунисты или демократы? — поздоровавшись, спросил я.
— Да как сказать! — ветераны пожали плечами. Если они за что-то еще держались, так это за «валокордин». Они просто устали ждать, чтобы с ними кто-нибудь объяснился. Наконец, кто-то из них спросил:
— А сам-то?
Я отрекомендовался, как Черчилль, сторонником демократического зла.
— Ну, и мы тоже.
Они без боя сдавали жизненные позиции.
Я застал немку за странным занятием. Она стояла возле автобуса и наблюдала сквозь модные темные очки, как солдаты, отыгравшие марши, переодевались.
— Скоро Сталинград, — вырвалось у нее. — Не ешь на ночь воблу.
— Я ем воблу только с бодуна! — сдержанно обрадовался я.
По сравнению с татарами казанские русские выглядят бесформенно и неуклюже.
— В русских вообще есть что-то не то, — с доверительным ядом сказала мне немка. — Они стараются быть, как мы, европейцы, но в последний момент у них обязательно что-то срывается… И слава Богу! — добавила она.
Помимо русской неуклюжести, меня интересовал мусульманский фундаментализм. В казанской мечети, справив молитву за наше счастливое плавание, два старых имама объяснили мне, что татары с русскими ссориться не собираются, потому что за много веков сроднились и перемешались.
— Я люблю ваше мусульманство за ярко-зеленый цвет и разнообразие, — почтительно сказал я. — Пророк Мухаммед обещал, что число путей очищения равно количеству истинно верующих. Как хорошо, что на изображениях Пророка на месте лица пустое место. Мессия непредставим. Нет ли у вас в мечети пустой посуды? Ну хоть из-под водки.
— Мы не пьющие, — сказали имамы, но в глазах у них я прочитал чужой приказ не давать.
— Капитана боитесь? — спросил я.
— Капитан — акбар, — сказали имамы.
Я поднял мои глаза кверху и увидел его на небе. Когда я пытался смотреть в другую сторону, то все равно видел его.
— Клянусь звездой, когда она закатывается, — сказал я, — не сбился с пути ваш товарищ и не заблудился.
— Хвала Аллаху, господу миров, — отозвались имамы, — милосердному царю в День суда!
Я вынул ручные гранаты из своих белых штанов и стал ими в шутку жонглировать, стоя на ковре посреди мечети.
Имамы тихо вынули из-под скамейки пару пустых бутылок.
— Капитан велик, — сказали они, — но ты всемогущ и милостив.
Удовлетворенные нехитрым ответом, мы с немкой, схватившись за руки, уехали на автобусе на могилу Василия Сталина, умершего здесь в хрущевской ссылке. У Василия — отбитая фотография, искусственные цветы и венки, восточные сладости траурных принадлежностей. Восточных деталей России не занимать. Взять хотя бы тот же автобус. Кабина водителя — со всякими занавесочками, рюшечками, иконками и салфеточками — это скорее алтарь, чем кабина. Такая кабина гораздо ближе к Индии, чем к Европе.
За завтраком ко мне подошел капитан с озабоченным видом.
— Из каюты вашей немки всю ночь доносились страшные крики, — сообщил он.
— Не обращайте внимания, — усмехнулся я. — Ей снятся кошмары. Ее дедушка воевал под Сталинградом.
— Ах, вот оно что! — успокоился капитан. — В Самаре, — дружелюбно добавил он, — не забудьте посмотреть бункер Сталина.
В каждом русском городе — своя невидаль. Тамбов славится небоскребами. Орел — пирожными, Тула — ночными поллюциями, Астрахань — прародина компьютеров. Самару Борис Годунов повелел заселить сволочью. В Самаре черным-черно от рабочих.
Рабочая сила кормила нас шоколадными конфетами, поила коньяком и не задала ни одного вопроса. Мы тоже ни о чем не спросили. Мне нравится пролетарское гостеприимство.
Объевшись шоколадными конфетами, мы зашли в здание бывшего обкома партии, выстроенное в духе купеческого эклектизма 1880-х годов.
— А где тут можно у вас покакать? — окликнула немка усатую гардеробщицу, суча ногами от нетерпения. Мы сразу попали в культурологический нерв. Русская женщина открыто просится только по малой нужде. «Я пошла писать», — весело заявляет она. Но большую нужду скрывает с таинственностью, достойной шпионского фильма. В просторном холле нас проводили к скромной двери. За такой дверью в России обычно находится мелкое помещение для уборщицы: стоят ведра, швабры, висит серый халат. Но когда дверь открылась, мы с немкой в один голос ахнули: это был вход в огромный подземный мир.
— Эх, подвели нас родные попы, — вдруг сказал кто-то рядом. — Всю веру обломали, как черемуху.
Я привык, что в России люди везде говорят о самом важном и даже не оглянулся. Прикрытое четырехметровой бетонной плитой подземелье, о котором никто не знал в городе вплоть до недавнего времени, стилистически напоминает ствол московского метрополитена, опрокинутый вниз на тридцать семь метров.
Спускаясь в головокружительную шахту, с дополнительными поэтажными перекрытиями, способными в совокупности противостоять ядерному удару, мы, в сущности, спускались в национальную преисподнюю. На самом дне во всей красе перед нами предстал кабинет Сталина с настольными лампами в угрюмом стиле модного деко, со множеством фальшивых дверей, ведущих в никуда (защита от клаустрофобии), — точная копия его кабинета в Кремле. Напрашивался рой метафор. Русская душа демонстрировала со всей очевидностью свою дьявольскую хитрость, бесхитростность и глубину.
— Капитан слышал, как ты кричала, — сказал я моей немке в сталинском кабинете.
Открылась фальшивая дверь. Вошел капитан. За ним — бритоголовая команда речников-добровольцев.
— Ты брал пустую посуду в Казани? — спросил капитан, усаживаясь за генералиссимусский стол.
— Капитан, — с достоинством сказал я, — это что: допрос?
— Введите их, — сказал капитан по красивому правительственному телефону-вертушке.
Двое головорезов ввели имамов. Хорошо избитые люди всегда похожи на загримированных.
— Ты не пощадил даже их! — вскричал я.
— Замуруйте их в сталинском сортире, — распорядился капитан. — Всех четырех!
Нас быстро принялись замуровывать, забрызгивая от спешки раствором. Немка тем временем бросилась к унитазу диктатора.
— Это не от страха, а потому что очень хочется, — сказала она, обнажая зад и боясь обвинений в трусости.
— Имамы, — сказал я. — Где сила вашей молитвы?
Имамы, сосредоточившись, запели главный духовный гимн:
— Веди нас по дороге прямой, по дороге тех, кого Ты облагодетельствовал, — не тех, кто находится под гнетом, и не заблудших!
Раздались автоматные очереди. Под своды бункера ворвались боевики татарского батальона «Счастливая смерть». Они стремительно съехали вниз по свежекрашеным коричневым перилам. Но наши русские речные матросики, наши простодушные мучители, тоже оказались не промах. Они прыгали с перекрытия на перекрытие и раскачивались на руках, как тропические обезьяны. Капитан повел ребят в бой. Завязалась подземная Куликовская битва. Я не знал, за кого болеть. Я любовался и теми и другими. Русское войско, наконец, ушло в фальшивые двери. Мусульмане добили раненых и с удивлением уставили на нас свои дымящиеся автоматы.
— Это подобно саду на высоте, — сказал я боевикам, в восхищении поднимая руки. — Бьет дождь его без жалости, и приносит он урожай двойной.
— Он — парень неплохой, — сказали имамы, отряхивая свои черные шапочки с золотым шитьем. — Захотел сдать пустую посуду, а капитан бутылки отнял.
— Русский скандал, — улыбнулись боевики. — Немку будем ебать? — обратились они друг к другу с риторическим вопросом.
— А за что ее ебать? — осторожно вступился я.
— У меня и так вся спина в рубцах, — призналась немка.
— Ну бегите, — сказали боевики, — а то опоздаете!
— Если решу принять мусульманскую веру, я знаю, к кому обращусь, — сказал я добрым имамам на прощание и, расчувствовавшись (они тоже расчувствовались), рванул с женщиной вверх через три ступени, минуя лужи человеческой крови.
После Самары на Волге сгустился туман, и река вдруг раздалась, покрылась островами с густой растительностью, полностью одичала. Это уже была не Волга — Амазонка. Пошла крупная волна. В ночном баре падали бокалы. Все 100 журналистов провинциальной российской прессы плясали и пили, пили и плясали. Мы с немкой сидели в углу: наблюдали.
Русские пляски не похожи на ночные берлинские танцы. В русской пляске сохраняется первобытный элемент истеричности, требующий почти немедленно словесного довеска в виде исповеди. Впрочем, простой народ редко кается. Вместо исповеди он горлопанит. Он так орет на улице песни, как никто нигде не орет. Иное дело — русский журнализм. Все сто журналистов хотели поделиться всеми своими нутряными тайнами. Женщины рассказали, что они — жертвы брака: их мужья — алкоголики, дети — наркоманы. После работы в редакции они ездят на загородные участки сажать картошку: денег не хватает. Маленький Дима-негрс Сахалина сообщил, что он жертва Афгана и хуесос. Бухгалтерша сорока восьми лет жертвенно показала мне свои груди.
— А где исповедь? — не понял я.
— Разве они не достаточно красноречивы? — возразила бухгалтерша.
— Три брака, две дочки, пятнадцать абортов, — вглядевшись, как хиромант, сказал я.
— Сошлось, — сказала бухгалтерша, застегивая бюстгальтер.
Молодой человек из уральского города признался, что он — жертва пера: пишет гениальные стихи, но стыдится показывать. Я попросил прочитать хотя бы одно.
— Зачем? — застыдился поэт.
Каждый поэт в России мечтает умереть под забором. Я не стал настаивать. Новосибирский журналист, с лицом умирающего Ленина, признался, что сотрудничал с КГБ.
— И зачем тебе банка? — спросил он меня в свою очередь.
— Надо.
— Экуменизм не пройдет, — заверил он.
— Лора Павловна! — крикнул я. — Нельзя ли шампанского?
— Кончилось! — враждебно огрызнулась буфетчица. — Да что ж ты такое выдумал? — запричитала она. — Воду матушкиВолги нельзя брать на анализ!
Журналисты подсобрались на шум.
— Ну что, — сказал я, обратившись к присутствующим. — Выживет Россия или пойдет ко дну?
— Мы лучше всех, — раздался общий ответ.
— Еще раз о национальном запахе, — сказал я немке, медленно возвращаясь к ней за столик.
Я иду сквозь строй бомжей, проституток с площади трех вокзалов, железнодорожных ментов, поднимаюсь по лестнице к гардеробщикам престижных казино, барменам, крупье, клиентам, стриптизеркам, и мне все говорят: «Мы лучше всех». Я захожу в новейший туалет со стереофонической музыкой. Кабинки заняты. Дверцы распахнуты. В Европе блевать — жизненное событие, как и аборт, об этом в конце жизни пишут в мемуарах. Здесь — рутина. И все эти «мы лучше всех», по-флотски расставив свои мужские и женские ноги, блюют. И, кажется, если в богатейшей стране на излете архаического мышления мы не разуверимся в своей превосходной степени, то мы заблюем весь мир.
Но особенно отличилась красавица Наташа из газеты подмосковного города О., что танцевала в очень коротком платье, похожем на прилипшую к телу тельняшку. Она подошла к нам, резко села за столик:
— Ну, как вы думаете? У меня под платьем есть белье или нет?
Я сразу понял, что ничего там у нее нет, кроме желания, но она перебила, не дослушав:
— Я никогда не спала с женщиной, у меня, сами понимаете, были комплексы, но я бы хотела попробовать.
Немка, не чуждая женским привязанностям, погладила ее по длинным волосам.
— Я уже полюбила твою прямую кишку, — сказала она, показав Наташе свое экстремистское тату на бедре.
— Но вообще-то я предпочитаю его, — кивнув на меня, сказала ей Наташа на ломаном английском языке.
Меня всегда умиляет блядовитость русских девушек.
— Рыбка! — сказал я, подняв брови.
— Хочу! Хочу! — обрадовалась она.
Тут немка не выдержала и, ссылаясь на головную боль, потащила меня на палубу смотреть на туманную Амазонку.
— Они сумасшедшие, — сказала она.
Весь Саратов прошел в выяснениях отношений. Говорят, Саратов по-монгольски значит «Желтая гора». Местные националисты борются с этой этимологией насмерть.
В картинной галерее Саратова много шедевров. Иногда вдруг наедет экскурсия школьников, поорет, поиграет в прятки, полюбуется живописью Репина и Малевича, и вновь тишина. Мы встретились с Голубиновым перед картиной неизвестного итальянского художника пятнадцатого века, изображающей Мадонну с ребенком и двух ангелов, больных конъюнктивитом. Голубинов — интеллигент тридцати двух лет. Худой, в очках, как Чернышевский, но от сходства отказывается. В руках у Голубинова была авоська с трехлитровым на вид предметом, бережно завернутым в саратовскую газету.
— Для анализа, — сообщил он вполголоса. Я кивнул. Мы вышли на улицу.
— Зачерпнем поздно вечером, перед вашим отплытием, — сказал Голубинов. — Показать вам город?
— Лучше поговорим, — сказал я, оглядевшись вокруг.
— Как угодно, — поджал он губы.
Провинциалы обидчивы, но им нельзя потакать.
— Хотите ужинать?
— Хочу.
Мы очутились у него в квартире. Сашенька Голубинова встретила нас в нарядном платье.
— Утка стынет, — улыбнувшись, сказала она.
Мы быстро сели за стол, полный всяких закусок, и выпили водки.
— Почему у вас перевязана голова? — спросил я у Голубинова.
— Хулиганы, — рассеянно ответил он.
— На рынке, — улыбнувшись, добавила Сашенька Голубинова. — С топорами.
— Перестань, — запретил ей Голубинов.
На меня стали падать книги. Дореволюционные тяжелые тома Достоевского. Старые открытки вылетели из альбомов и разлетелись по всей комнате. Почти курортная пристань Саратова. Виды Саратова. Люди Саратова. Мы бросились их подбирать. Под столом мы встретились с Голубиновым.
— Вы знаете, что Бог умер? — спросил я.
— До Саратова дошли слухи, — подтвердил он.
Мы стали есть полутеплую утку, запивая сладким вином.
— Трудно поклоняться неживому богу, — вздохнул Голубинов.
— Один буддизм еще крепко держится благодаря своей парадоксальности, — заметила бывшая студентка Сашенька.
— Рождение нового единого бога так же неминуемо, как сведение компьютерных программ воедино, — рассудил Голубинов. — Просто это на очереди. Смешно видеть дешевую конкуренцию разных религий.
— Многопартийная система богов, — подытожил я. — Но не лучше ли оставаться при ней, имея шанс менять хозяев?
Некоторое время мы ели утку в молчании.
— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! — неожиданно весело добавил я. — Возникновение одного божества. Первая по времени метафизическая революция двадцать первого века.
— В Европе Бог и святые скукожились и стали напоминать корейскую пищу, — сказала Сашенька.
— В язычестве было много богов в рамках одной веры. Сейчас много богов в рамках всего человечества, — подумав, сказал Голубинов. — Следующий закономерный шаг — объединение богов.
— Божественный пантеон — он разрешительный, терпимый, но не насыщен креативной энергией будущего, — глубоко задумалась Сашенька.
— Свобода выбора Бога — большая человеческая свобода, — сказал я. — Однако поправка должна быть внесена в божественный имидж, а это развернет ситуацию неожиданным образом в сторону тотального единобожия. Справятся ли люди с этим, и если справятся, то как?
— Однако, как можно доверять человечеству, и не окажется единый новый Бог чем-то наподобие диктатора, который окончательно убьет всякую свободу? — спросил Голубинов.
— Так вот что значат пять рек жизни! — прозрела Сашенька.
— Да, — сказал я, — пять рек жизни — это ожидание чуда нового откровения.
— И вы его ожидаете?
— Он и естьчудо, — серьезно сказал Голубинов, показав Сашеньке на меня.
— Почему Россия — такая горькая страна? — спросила меня Сашенька в упор.
— Анализ покажет, — сказал Голубинов. — Ну все. Пора.
Мы встали, подошли к двери.
— А тут у нас жила бабушка. А потом умерла, — сказал Голубинов.
Крадучись, мы стали спускаться к Волге. Вдалеке стоял мой теплоход с приятной танцевальной музыкой. Я знал, что немка рассматривает нас из каюты в ночной бинокль. Голубинов вытащил из авоськи сверток, зашел по колено в воду.
— А вы знаете, теплая, — тихо удивился он, опуская банку в воду.
В ответ протяжно загудел теплоход. Вдруг банка в руках Голубинова разлетелась вдребезги. Вдруг Голубинов тихо ойкнул, пошел ко дну.
— Ну сволочь, так не честно! — сказал я, в мыслях обращаясь к капитану.
Редкий русский идет в сауну с чистыми помыслами. Я вошел в сауну с ручной гранатой. Капитан сидел на полке с четырьмя телками. Одна была буфетчица Лора Павловна, другая — красавица Наташа, третья оказалась мужчиной — помощником капитана, четвертая была совсем голой. На мое удивление она проявилась распаренной немкой с экстремистским тату на бедре.
— Здравствуйте, капитан, — сказал я миролюбиво. — Вы видите этот кусок битой посуды? — Я показал ему осколок. — Привет вам от Голубинова.
— Я не понимаю всей этой истории с битой посудой, — сказала мне немка, инстинктивно опасаясь взрывов и русской стрельбы. — Я все понимаю, но при чем тут битая посуда?
— Ты свободна, — сказал я немке. — Наташа тоже пусть выйдет отсюда и утешит тебя. Идите, побрейте друг другу ноги. Лора и помощник могут остаться. Мне не жалко.
— Подождите, — сказал капитан. — Не бросайте гранату! Лора, выдай ему стеклянную банку. Он — маньяк. Я сдаюсь.
— Хотите, я наполню банку волжской водой? — услужливо предложился помощник капитана.
— Отдыхай, черная сотня, — сказал я. — Лора, несите банку.
Лора босиком побежала за банкой.
— Я государственник, — сказал капитан с поднятыми руками, — но к смерти я не готов. Хотите выпить?
— Не откажусь.
Капитан опустил руки и разлил водку по стаканам.
— Ну, за ваш анализ! — сказал капитан. Мы хмуро выпили.
— Хотя, что такое анализ? — спросил капитан, хрустя огурцом. — Не русское это дело. Я и сам без анализа знаю, что вода здесь течет не живая, а мертвая. Понял? Ну, вот такаямертвая! Совсем мертвая!
— Какой же ты тогда государственник? — удивился я.
— Так я потому и государственник, что вода гнилая, — сказал он.
— А если я ее оживлю? — сказал я.
— Кишка у тебя тонка, — сказал капитан. — Не такие, как ты, пробовали! Ну, давай, наливай! — сказал он помощнику.
— Что такое русский? — сказал капитан, снова выпив водки. — Русский — это, прежде всего, прилагательное. Китаец — существительное, француз — тоже, негр — и то существительное!
— Даже еврей, — вставил помощник, — жидовская морда, а существительное!
— Правильно, — одобрил капитан. — А вот русский — он прилагательное.
— К чему же он прилагается? — спросил я.
— Вот я всю жизнь живу и думаю, к чему он прилагается, и, выходит, он ни к чему не прилагается, как его ни прилагай. Русский — он что, если разобраться? Доказательство от противного. Одним словом — апофатическая тварь.
Свет вырубился. Сауна стала тьмой. Мятежники схватили меня за горло железной рукой.
— Ну, вот и все, — сказал капитан. — Включайте свет, Лора Павловна.
Буфетчица с хохотом выполнила команду.
— Нам с тобой, друг мой, на этом свете вдвоем не жить, — не без трансцендентной грусти заметил капитан, связывая мне руки за спиной. — Или ты, или я. Так что будем тебя мочить.
— А перед этим трахните его! — оживленно сказала Лора Павловна.
— Непременно, — заржал помощник.
— Вы чего! — возопил я. — Во всем мире гомосеки трахаются полюбовно, а вы тут в России превратили половой акт в позор и тотальное унижение!
— Захотели и превратили, — сказала Лора Павловна, срывая с меня одежду.
— Сейчас я буду тебя анализировать, — заявил капитан, становясь в плотоядную позу. — Помоги-ка мне, Лора Павловна!
Я стал молиться. В такую минуту мне Христос был бесконечно ближе Будды и прочей божественной экзотики. В такую минуту я понял, в какую дверь я должен стучаться.
Дверь сауны слетела с петель. На пороге стояла моя немка с базукой на голом плече. За ней — красавица Наташа с саблей наголо. На мое счастье, они подглядывали в замочную скважину.
— Хенде хох! — крикнула немка впервые за всю Волгу по-немецки, и мне впервые понравился этот язык. — Не шевелись! У меня дед был эсэсовец.
Она сказала чистую правду. Все подняли руки, кроме меня. Наташа саблей перерубила мне путы. Шайка была обезврежена. Немка проворно накинула на всех троих по пеньковой петле. Тут с белым флагом в руке влетела в сауну бухгалтерша, та, что показывала мне свои груди. Она хотела сказать что-то важное, но вместо этого неосторожно напоролась на саблю и, по-моему, сразу умерла. И победители, и побежденные не смогли сдержать улыбок.
— Ну, прощай, капитан! — беззлобно сказал я. — Прощай и ты, Лора Павловна.
— Федор, все! Хайль Гитлер! — выдохнул помощник капитана.
Покорно, роняя бутылки, он полез на стол вешаться.
— Полезай и ты, партизанка! — прикрикнула на буфетчицу немка. — Быстро!
— Сами мне говорили, что вы принципиальный противник смертной казни, — с легкой укоризной сказал ей капитан с петлей на шее.
— Да! — сказала немка. — Но еще больше, чем смертную казнь, я не люблю партизан!
— Муся моя, до свидания! — достойно обратилась Лора Павловна к капитану.
Все вдруг поняли, что между ними в жизни было большое чувство.
— Может, не надо? — робко спросила Наташа с саблей.
Вместо ответа немка выбила стол из-под ног осужденных, и они задергались в воздухе, пугая нас своей уже нездешней эрекцией.
— Сфотографируйте меня вместе с ними, — сказала немка, становясь с улыбкой между членов двух повешенных.
Лора Павловна качалась сама по себе, картинно превращаясь из буфетчицы в великомученицу.
В то время, как ее дедушка брал приступом Сталинград, моя бабушка голодала в блокадном Ленинграде. Однажды, после взрыва немецкого снаряда, ей в окно влетела оторванная голова соседки. Весь Сталинград мы просмеялись, как будто смешинка попала нам в рот. Мы особенно смеялись на Мамаевом кургане, где мне захотелось поджарить немку на вечном огне.
Каждый народ понимает проблему страдания по-своему. Русские переводят ее на доступный им язык. У подножья Матери-родины с открытым, как у французской Марианны, ртом и грудью несчастной бухгалтерши собралась целая группа статуй, символизирующих коллективные страдания.
Каждая композиция состоит из двух человек: один раненый, другой оказывает ему помощь и готов за него отомстить. Но все раненые больше похожи не на раненых, а на пьяных. Особенно хороша санитарка, осмотрительно, с хитрым видом выносящая с поля боя в жопу пьяного мужика. Скорее всего, она несет его с гулянки домой, чтобы положить к себе в постель, раздеть и приголубить.
Немка смеялась до слез над моим предположением. От хохота мы попадали в густую траву. Под нами лежал ренессансный город с вкраплениями греческой классики, возведенный пленными немцами в духе имперского реализма. На другом берегу, за Волгой, начинались бескрайние степи, начинались Монголия и Китай.
— Ну покажи, — попросила немка.
— Не покажу, — застеснялся я. Конечно, я ей показал. Головастики виляли нам хвостами в мутной воде. Мальки метались в разные стороны. На дне банки лежал таинственный черный камень. Мы стали строить планы, рассматривая банку.
Ее дедушка с моей бабушкой взирали на нас с небес. Дедушка был, по-моему, недоволен и бормотал, что русским нельзя доверять, зато моя бабушка, как мне показалось, гордилась мной. Когда мы встали, отряхиваясь, немка призналась, что ее до сих пор ни разу не били во время любви.
— Я рад, — сказал я, — что во время поездки ты испытала новые ощущения.
Избранные фантазмы старого Рейна
Осень — лучшее время для критики чистого разума. Русский человек в Европе чувствует себя дураком. Против Европы, как против лома, у него нет приема. Если смотреть на Европу с открытым ртом, она отвернется от тебя с равнодушием, близким к презрению. Если начать в ней бузить и топать ногами, она удивится, а затем ловко схватит за ухо и выставит за дверь, как навонявшего мерзавца.
— Как вы относитесь к крестоносцам? — спросил капитан.
— Мне больше нравятся самураи, — ответил я. Что называется, поговорили. Если можно сделать тысячу одинаковых живых овец, то почему бы не сделать тысячу одинаковых живых капитанов? В Европе невольно начинаешь верить в науку и технологию. Чтобы не выглядеть излишне патетичным, я поздравил его, скорее, с выздоровлением, чем с воскрешением.
— Мерси, — сказал капитан, отводя, впрочем, глаза в сторону.
Немка прочла мне нотацию. Она сказала, что в Европе не принято поздравлять ни с воскрешением, ни с выздоровлением, ни вообще с чем бы то ни было. Может быть, только со свадьбой.
— Поздравлять — это варварство, — прокомментировала она.
Не исключаю, что немкой руководила обида. Встретившись с ней на Рейне, я дружески поцеловал ее в щеку и вместо приветствия по ошибке сказал до свидания. Что с ней было! От негодования у нее на носу высыпали угри. Но я тоже хорош! Так нескладно ошибиться!
Русский человек в Европе похож на таракана. Бегает, шевелит усами, нервно принюхивается. Он оскорбителен для ее чистой поверхности. Европа может с интересом наблюдать за экзотическими насекомыми, ей по душе какой-нибудь ядовитый тарантул, какая-нибудь непонятная гусеница, божьи коровки вызывают у нее умиление, но хороших тараканов не бывает.
Умный русский человек в Европе чувствует себя многозначительным дураком.
Между тем Европа подсознательно очень боится России. Польский маршал Пилсудский хотел видеть Россию не красной, не белой, а слабой. Чтобы сделать Россию слабой, надо сломать ей волю. Европа подсознательно чувствует, что Россия ее сильнее и будет день, когда Россия ее заглотит, как большая рыба маленькую, даже если маленькая покрасивее и повыебистее, чем большая.
— Как тебя зовут? — спросил я немку.
— Пароль: лоск! — насмешливо учила она меня.
— Какое сапожноеслово! — не стерпел я.
В Европе она выглядела по-другому, чем на Волге. Ее как будто подменили. Она была такая, как все — только дерганая.
Что такое антипутешествие? Топтание на одном месте? Пустая трата времени? Или, может быть, энтропия надежды? Я был настроен на увеселительную прогулку по центральной (как говорится в проспектах) водной артерии Европы. Начинался бархатный сезон. Вот чего никогда не будет в России — бархатного сезона. Не куцее «бабье лето», а затяжная теплая, с теплыми вечерами, каштаново-платановая осень отсутствует в списке русских понятий. Я взял с собой из Москвы купальные трусы и лучшие итальянские галстуки. Я ни разу не надел ни те ни другие. Подвела не только погода. Я плыл вниз, скорее, не по Рейну, а в совсем не далекое будущее. Будущее, как выяснилось, состоит из старости. Оно же состоит из комфортного абсолютизма. Последнее — грядущая европейская неизбежность. Это не столько быт, сколько бессильный идеологический фантазм.
Поездки по Рейну вот уже более ста пятидесяти лет славятся своим безупречным сервисом. Первый пароход появился на Рейне в 1816 году. Добросовестная английская игрушка восьмого июня отшвартовалась в Роттердаме, а двенадцатого уже доплыла до Кельна. Дальше вверх по реке ее тянули русские бурлаки и арабские лошади, вплоть до Кобленца, где она затонула. Европа учится на ошибках. Она любит делать удобные вещи. Кельты плавали по Рейну на плотах уже во втором тысячелетии до нашей эры. В девятом веке народ на Рейне грабили викинги. Американцы перешли через реку седьмого марта. Семнадцатого числа мост под ними рухнул. Эльзас и Лотарингию забрала себе Франция. После референдума Саар вернулся в Германию. Аденауэр родился в Кельне. Гете учился медицине в Страсбурге. Ясперс умер в Базеле. Ясно, что это — один человек. Европа может зачахнуть только от отсутствия самоуважения. Базель находится на отметке 252 метров над уровнем моря. Население — 182 000 жителей. Каждую секунду в Базеле протекает 1030 кубических метров рейнской воды. Мой дежурный суп — местный граф Цеппелин. Его воздушные аппараты, каюта, ванная, еда и, конечно, пейзажи, доведенные до совершенства, приняты к моему сведению.
На шикарном теплоходе «Дейчланд» я попал в руки профессиональных комфортщиков. Возражать им непросто. Тонкой пластмассовой пленкой комфорт обволакивает все ощущения. Лучше плыть на барже, хотя это тоже — искусственность и самообман.
Я никогда так не антипутешествовал, как от Базеля до Северного моря. Холодный буфет оказался сильнее Рейна. Паровые лобстеры затмили Кельнский собор, не говоря уже о развалинах средневековых замков с немецким стягом над реставрированной крышей.
— Ну что, скучаете? — заботливо спросил капитан, глядя, как я лениво копаюсь в крабовом салате.
— Я сегодня вдруг вспомнил, что Ленин в своей ранней работе «Что делать?» сказал: «Надо мечтать!»
— Без мечты не проживешь, — одобрительно сказал капитан. — Может быть, вы нас возьмете в заложники?
— Зачем? — заинтересовался я.
Торты с персиками, облитые шоколадом, выглядели куда более шовинистически, нежели патриотические монументы Вильгельма и самой матери Германии в окружении своры чугунных орлов.
— Я думал когда-то, что только в России мы плодим скульптурных уродов, — признался я немке.
Путешествие — это, прежде всего, проишествие, в идеальной перспективе — авантюра. В современной Европе приключение сведено к минимуму событийности. Турист превращен в комическую фигуру. Как домашняя птица в клетке, он выклевывает по зернышку корм, отпущенный турагентством. Путеводитель берет на себя функции тоталитарного законодателя, не чуждого анекдоту. Он правит с юморком.
— Че Гевара красиво погиб в Боливии, — сказал я немке. В своих оранжевых штанах она оживилась.
— Помнишь, — сказала она, — он велит агенту ЦРУ, кубинцу, которому приказано его прикончить, передать Фиделю Кастро, что революция скоро победит во всей Южной Америке.
— Фидель Кастро, конечно, крылатый конь с яйцами, — сказал я, — но Че Гевара фотогенично умер.
— Давай поднимем над кораблем красный флаг, — предложила немка.
— Ага, — сказал я. — И назовем корабль «Броненосец Потемкин».
Немка счастливо рассмеялась.
Путеводитель подшучивает над всеми этими римлянами и рейнскими легендами (где герои повсеместно оказываются жертвами собственной жестокости, а героини — собственной глупости), но вдруг впадает в слезливую речь демагога. Гиды — его вассалы, и как всякие вассалы, склонны к халтуре. Для них Кельн, прежде всего, столица одеколона.
— Слушайте, кончайте жрать, — сказал капитан за ужином мне на ухо. — Возьмите меня штурмом, как Зимний дворец! Арестуйте, как временное правительство!
В Амстердаме я бежал с корабля, не оглядываясь, но был уверен, что за мной гонится по пятам вся команда во главе с задушевным опереточным капитаном, многоязыкие организаторы досуга, повара в парадных колпаках, официанты, бармены, уборщицы кают с бесшумными пылесосами в обнимку. Я чувствовал затылком их совершенно любезные улыбки, с которыми они бежали за мной в пароксизме коммерческого гостеприимства, с которыми они хотели меня прокатить назад в Базель, а потом опять в Амстердам, и еще раз в Базель, оставить у себя пожизненно.
Я бросился на заднее сиденье и заорал бритоголовому таксисту:
— Давай! В самый грязный притон! В самую черную комнату голландского разврата!
Так хотелось вываляться в грязи.
Кто спал с очень старыми женщинами и нашел в этом толк, тот полюбит плавание по Рейну. Божьи одуванчики, желто-синюшные курочки-рябы тревожат мое воображение. Московский художник Толя Зверев, пьяно сплевывая куриные кости на кухонный пол, рассказывал мне о прелестях геронтофилии.
— Груди дряблые, волосики жидкие, скважина тоже жидкая — хорошо!
— В каком смысле жидкая? — замирал я от томного ужаса.
— А вот смотри, — говорил мне Толя и подводил к своей подружке, сонно пахнущей парным калом и смертью.
Он задирал ее белое-белое платье. На борт теплохода под руки ведут пассажиров. Молодежь жмется по углам.
— Ну, и что дальше? — спрашивает немка.
Из утробы хлещет зеленый гной. Как ни крути, в старости есть кое-что отталкивающее. Мне предлагаются на выбор явления французского, немецкого, канадского, гонконгского распада. Интерконтинентальный парад паралича и прогрессирующего маразма. У кого высохли ноги, у кого — распухли. Кто хромает, кто хрипит, кто косой, у кого тик, кто кашляет, кто плюется, а кому вырезали горло.
Внезапно русская мысльсрывается у меня со старой цепи. Европа — это счастливыйбрак по расчету. Удача в удаче. Матримониальный уникум. Праздничен свет ее городов. Рынок — их изобильное сердце (в отличие от хмурого религиозно-идеологического городского центра в России). Долг и наслаждение, крик и выбор, месса и святотатство — все слилось в единый поток, который в Полинезии называется, кажется, сакральным словом «мана».
— Мана, не мана, а так, не понятно что, — уточнил капитан.
— Европа — это зубы стерлись, — скривился помощник капитана.
— Ну, извини, Шпенглер, — помрачнел капитан. — Я не виноват, что рынок проник в подкорку и укоренился как мера вещей.
— Слава Богу! — почесал щеку помощник. — За вчерашний день никто из пассажиров не отдал концы.
Чего я морщусь? Плавание превращается в пытку. Здравствуй, завтра! Сегодня это происходит с родителями. По вечерам они сидят в баре и слушают музыку своей послевоенной молодости, буги-вуги, которую им играет чешский квартет.
— Товарищи! — вымолвил я, обращаясь к старухам и старикам.
Мне кажется, они меня поняли. Во всяком случае, они зашептались, показывая на меня трясущимися пальцами.
— Смерти нет, — добавил я. — Революция отменяет смерть! Кто против революции, тот служит делу смерти.
На берегах Рейна скамейки, как в парке. Карта Рейна фирмы Baedeker’a выглядит достовернее Рейна. Бытие с потрохами переползает на карту. Каждый километр учтен полосатым столбом. Уютные городки напоминают добрых знакомых, которые собрались на пикник со своими детьми и собаками, но по дороге почему-то окаменели. Я, как во сне, делаю все возможное, чтобы моя жизнь не была похожа на Рейн.
— Свяжите меня и расстреляйте, — попросил капитан.
— Где тут у вас гильотина? — спросила немка, злобно тыча ему в рожу зонтик.
Вместе с тем Рейн не слишком рекомендуется для купания. Он солоноват по причине природно-индустриальных выделений. Вкус рейнской воды навевает женщинам, гомосексуалистам, вообще любопытным людям воспоминания о недостаточно мытом члене друга.
Я назначил массовика-затейника комиссаром. В прошлой жизни она была Лорой Павловной, не знавшей иностранных языков, а тут заговорила на всех подряд, от голландского до малайского.
— Лора, — сказал я ей. — Бросайте вашего капитана. Идите ко мне.
— О, файн! — ответила Лора. — Я с теми, кто пишет жестокие розовые романы и не любит английскую королеву.
— Войдите! — крикнул я.
Ко мне явились старики-ходоки из самых дешевых кают корабля. Скорее, их можно было назвать не ходоками, а доходягами, но когда я им сказал, что Царство Божие приближается и что броненосец «Потемкин» — это мы, они преобразились. Я узнал юную Европу рыцарей и ранних нацистов. Я увидел Европу незабудок, форели и трюфелей.
— Грабьте старух из аристократических покоев! — приказал я.
Они побежали исполнять приказание. Вскоре на верхней палубе скопились страшные перепуганные старухи, обнаженные жертвы революции. Я велел спустить из бассейна воду и наполнить ее кровью этих несчастных женщин.
Повара заложили червей в говядину. Палачи — вчерашние официанты — выкатили глаза. Начались египетские казни. Постепенно бассейн до краев заполнился венозной жидкостью.
— А теперь, — сказал я боевикам из батальона Альцгеймера, — начнем крещение. Ныряйте!
Смертные враги давно уже забыли, что воевали друг против друга. Их объединяют темы детства, карьеры и смерти. Подвыпив, побагровев и оживившись, они вдруг начинают ощущать себя «мальчиками» и «девочками». Они любят давать прислуге чаевые. Они хотят, чтобы о них хорошо вспоминали.
— Вы — гений места, — сказал я капитану. — Вооружайте всех до зубов!
Раньше по Рейну возили туда-сюда сумасшедших. Корабли дураков были плавучими островами вздорного смысла. Ни один город не желал принимать дураков. Не потому ли Европа совсем одурела от нормативности?
— Я люблю безумие, — сказал я Лоре. — Лора, пожалуйста, не будьте нормальной женщиной. Сходите с ума и переходите ко мне.
Старикам раздали автоматы.
— Слушайте меня, — сказал я старым солдатам. — Постарайтесь убить как можно больше народу. Где ваш помощник? — спросил я капитана. — Не он ли наш главный враг?
— Он спрятался в машинном отделении, — сказал капитан.
Нынче по Рейну чуть дымят плавучие дома для престарелых. Это милая формула социального крематория. Старики жадно едят: их дни сочтены. Их жалко, конечно, но еще больше жалко себя. Эридан ты мой, Эридан!
— Лора, я превращу Рейн в Эридан, и мы поплывем по нему, как аргонавты, вдыхая ужасный смрад от революционного пожара жизни.
— Уже плывем, — сказала Лора Павловна.
— Если капитана нет, все позволено, — плоско пошутил я. Капитан рассмеялся.
— Если капитана нет, то какой же я Бог? — хитро сказал он, демонстрируя зеркальное знание русской классики.
Мы говорим с ним о старшем брате Ленина, о понятии «счастье» в советской литературе, о коммуналках, о понятии «литературный успех», о том, почему все женщины брили лобок до 1920 года, а затем, как по команде, перестали; мы говорим о incendium amoris, парадоксах деконструктивизма в их опосредствованной связи с буддизмом, о тибетской практике тумо.
— Да чего далеко ходить за примером, — говорит капитан, — мой помощник каждую зиму сидит на снегу голой жопой часами, причем температура в заднем проходе остается неизменной.
— Да, — задумчиво киваю я. — Возможности тела безграничны!
Мы говорим о понятии «пожар» в подмосковной дачной жизни, о моей американской дочери, не то родившейся из случайного фильма, не то породившей его сценарий; мы говорим и не может наговориться о белорусских партизанах и сортах сигарет, которые любят берлинские лесбиянки, о сенокосе, Горбачеве, правах человека на труд и на мастурбацию, о снисходительности.
— Почему вы, капитан, так снисходительны к людям?
— Привычка. А, знаете, что Лора Павловна делает по ночам? Одна, в пустой каюте, при свете ночника…
— Она обхватывает коленки руками и, подражая святой Терезе, отрывается от пола.
— Подсмотрели?
— Догадался.
— По-моему, вы встали на тропу мудрости, — удивляется капитан. — Вы сами отрываетесь от пола.
Мы говорим о голоде в Эфиопии, о том, почему американские мужчины в любви романтичнее американских женщин, о понятии «Америка», о свободе, Лас-Вегасе, Калифорнии, беспокойстве, любимых автомобилях.
— «Понтиак» с открытым верхом образца 1968 года, — говорю я.
— Cool, — замечает капитан.
Мы говорим о тех местах на Земле, что сильнееменя, о социальной ангажированности Габи, о плотоядных улыбках ее подруг, о пьянстве как чистоте жанра, о роли женщин в отрядах gerilla, о Дон-Жуане как лишнем человеке, о мелочах жизни.
— Я расскажу вам историю о Берлинской стене, — говорю я, рассеянно глядя на Рейн.
— Берлинской стены не было, — говорит капитан. — Все это хуйня.
— Что значит — хуйня? А как же овчарки, мины, подкопы, вышки, смертники, пулеметы?
— Галлюцинация целого поколения.
— Но я видел ее! Хотя… — тут я засомневался.
— Берлинская стена — не меньший фантом, чем Гомер, — говорит капитан.
Зовем в свидетели Габи.
— Габи, помнишь Берлинскую стену?
— Еще бы! — обрадовалась она. — Я сама ее — кайлом! А после с девчонками пили яичный ликер на обломках!
— Ну, иди! Что с тебя взять? — отмахивается капитан.
Мы выходим с капитаном в звездную ночь, ищем на небе Млечный Путь, нам хочется, как детям, прильнуть к нему, но попадается все какая-то мелочь: созвездие, очень похожее на теннисную ракетку, Южный Крест. Сквозь розовомохнатые цветы эвкалиптов виден Марс, лампой стекающий в океан.
— Не туда заплыли, — говорит капитан. — Пошли спать. Утро вечера мудренее.
Наутро мы говорим о немецких картофельных салатах, о польском грибном супе в Сочельник, о цветах под названием райские птицы, о латентной любви французских авангардистских художников к полиции, о понятии «говно» в немецкой культуре.
— А как поживает ваш салат культур? — смеется капитан.
Внезапно мы оба видим огромную ярко-зеленую лягушку в черную крапинку. Она сидит на болоте, обвитом настурцией, и не квакает.
— Раз с делегацией мелких советских писателей я прибыл в Восточный Берлин, — начинаю я свою одиссею.
— Советские писатели! — восклицает капитан. — Большие люди! Интересное явление!
Он любит все необыкновенное. Мы говорим с ним об утренней эрекции.
— Поэзия, — говорит капитан. — Не правда ли, утренняя эрекция — это то маленькое чудо, на которое способен всякий настоящий мужчина?
— Главное чувство Европы — серьезность, — говорю я. — Тихие толпы людей на прогулке в Париже, Лондоне, Милане, Барселоне охвачены геометрически четкими параметрами самоуважения.
— Я зримо представил себе сейчас эти города, — взволнованно говорит капитан. — Как же много в мире всего понастроено!
— Русский бьется всю жизнь, чтобы начать самого себя уважать. Но куда там, если нет у него геометрии!
— Да-да, — смеется капитан, — несерьезный народ. А тут, в Европе, даже смех — серьезныйдовесок к местной серьезности.
— А вы за кого? — вкрадчиво спрашиваю я.
— Я-то? — смущается капитан. — Да, вы знаете, за судоходство.
Разговор неожиданно прерывается, слышатся выстрелы, старики расстреливают шпионов.
— Старики — любимые дети в моем саду, — говорит капитан. — Я особенно проработал понятие «старость». Ну, чего тебе? — говорит он запыхавшемуся помощнику.
— Пора ужинать, — говорит помощник.
— Вечно ты, парень, некстати, — добродушно ворчит капитан.
На Рейне я, наконец, понял, кто я на самом деле. Я — Лорелея в штанах. Мужской вариант соблазнительницы. Правда, я не умею петь. Вернее, пою я чудовищно. Но это не имеет никакого значения.
Социально близкие старухи из дешевых кают пришли ко мне с жалобой:
— Кончилась вода.
— Пейте шампанское!
Вечером я видел, как они танцевали канкан.
— Старперы! — выступил я по местному радио. — Не верьте детям и внукам. Они хотят вашей смерти. Устройте детский погром!
Вечером я наблюдал, как они надругались над какой-то приятной студенткой.
— Не трогайте меня! — кричала крошка. — Я — француженка!
— Это довод! — в ответ смеялись кровожадные старики.
Рейн может снабдить водой тридцать миллионов человек. Они пьют ее — становятся серьезными. Из серьезной воды я вылавливаю русалку и помещаю к себе в каюту. У нее прыщавое лицо и ранняя седина. Я знаю: она дочь Рейна. У нее папа — слесарь и бывший нацист, который не любит ее. Она вегетарианка. Разрывается на части: эксгибиционистка, но при этом социальночудовищно стыдлива.
Немка выступила с проектом тотальной ебли. Она боится спросить наших соседей за столом (они не замечают, что у нее хвост), кто они, из какого города. Она уверена, что он — владелец турагентства в Вене (судя по акценту). Оказывается (я спросил): адвокат из Кельна.
Мы говорим этой «венской» паре (жена адвоката меняет наряды три раза в день) «здрасте», «приятного аппетита» и «до свидания». Это единственное теплоходное знакомство.
— Вы не хотите прийти к нам в каюту? — спросил я адвоката. — Вы не хотите после десерта заняться холодным развратом?
Адвокат жрал торт с клубникой.
— Я люблю наблюдать за птицами, — грустно сказал адвокат.
— А я люблю Париж, — сказал я. — Париж для меня родной город. Три года подряд я собирал там в детстве коллекцию почтовых марок. Когда мы победим, я сделаю центром мира Москву, а Париж уничтожу к черту!
— Птицы — это красиво, — сказала немка. — А еще я люблю детей. У вас сколько детей?
— Пять, — сказал адвокат.
— Ну, это слишком много, — сказал я. — Давайте трех зарежем и съедим.
— Мы должны подумать, — сказала жена адвоката.
Это религиозный тип женщины. Постная тварь, не умею щая гулять по буфету. Я не удивлюсь, если узнаю, что у нее традиционное католическое образование.
Дочь слесаря хочет обладать мною целиком, ни с кем не делясь. Она меня ревнует. Она мне даже не дает звонить по телефону в Москву.
— А почему вы хотите уничтожить Париж? — спросила жена адвоката.
— Не знаю. Захотелось.
Вошла Лора Павловна, наш комиссар.
— Над теплоходом кружит полицейский вертолет, — весело сообщила она.
— Я хочу уничтожить Париж как колыбель философского безбожия, — вспомнил я. — Вы подняли на мачте красный флаг?
— Да.
— Нашли помощника?
— Нет.
— Не найдете, Лора, пеняйте на себя.
— Я хочу видеть твой черный треугольник! — заорала немка в лицо адвокатши.
— У вас есть стрингеры? — спросил я Лору Павловну. — Идите, Муся, сбейте вертолет.
Немка заерзала. Вернее, так. Жена адвоката в ночной рубашке что-то ищет на полу в Италии. Над Сиеной синее небо. Жена адвоката наклоняется, и тут моя немка видит все и засыпает со стоном. Она утверждает, что я долженее любить, несмотря на то, что она седая, прыщавая и с жирной кожей.
— Ну, когда вы будете, наконец, меня вешать? — спросил капитан.
— Сначала устроим над вами суд, — сказал я.
— А, может быть, я устрою над вами суд? — сказал капитан с ненужным вызовом.
Не зря Хомяков с Данилевским повсеместно жаловались, что Европа применяет к России метод двойного стандарта. Ониделают, что хотят, а намнельзя, некультурно. Ониудерживают басков и Корсику, а от нас требуют государственного полураспада.
— Я буду мстить за каждый взгляд презрения, — говорю я адвокату, — который вы тут бросаете на русского человека.
— Вы все — мафиози, — отвечает он мне из последних сил, как герой. — У вас все замешано на страхе.
Но вот на его глазах я начинаю засовывать бутылки лимонада в разные отверстия его жены, и адвокат уже готов на мирные переговоры. Он просит прощения. Он говорит, что Москва — самый красивый город в мире. Оказывается, он — воскресныйхудожник. Балуется кистью, не прочь подурачиться. Страсбургский парламент направляет на наш броненосец своих послов в дорогих желтых галстуках, чтобы договориться. Я приветствую этот мюнхенский дух Европы, ее перманентное дезертирство.
Немка нашла, что я не европеец, но это для меня, скорее, комплимент. Для них, с их европоцентризмом, жить в Европе все равно, что быть дворянином. Но мне, по жизни, милее бояре. В Дюссельдорфе она даже попыталась устроить мне скандал из-за моих звонков домой, но скандала не вышло: я взял ее за хвост и бросил, как селедку, в воду.
— Позвольте рассказать вам одну нравоучительную историю? — сказал я адвокату, беря его за последнюю пуговицу пиджака. Остальные оказались оторванными.
— Лора пришьет, не бойтесь, — заверил я. — В ней есть своя холодность, я бы даже сказал, отчужденность, но она любопытна, а, следовательно, пришьет.
— Слушаю вас со вниманием, — сказал адвокат.
— В 1983 году, если не ошибаюсь, я приехал с мелкими советскими писателями в Восточный Берлин.
— Вы были советским писателем? — с уважением спросил адвокат.
— Я был, ну что ли, инакомыслящим.
Адвокат померк.
— Нет, я не то, что наши французские пассажиры, которые то и дело вспоминают о Сопротивлении, но путают его с наполеоновскими войнами. У меня нет комплекса старого партизана.
— Ну, хорошо, — продолжал я, — я тоже был немножко советским писателем. Семь месяцев и тринадцать дней.
— Тогда рассказывайте, — сказал адвокат.
— В нашей группе был один товарищ по имени Миша. Он показался мне интеллигентнее прочих.
— Где моя жена? — не в меру резко спросил адвокат.
Он лежал на соломенной подстилке на полу камеры.
— Жена ваша стала революционеркой и забыла о вашем существовании, — сказал я неполную правду.
— Ну, что вы хотели мне рассказать? — раздраженно спросил он.
— Боже, как вы тут воняете! — изумился я. — Ну, так слушайте. Миша решил, то есть он сначала сошел с ума от ежедневного пьянства, а потом вдруг полез на Брандербургские ворота, понимаете, прямо в центре города, мне звонят из «Аэрофлота» в три часа ночи, где Миша, а Миша лезет через стену, и что мне остается делать, не закладывать же начальнику, а они, когда все были в Бухенвальде, думали, я против их венка, а мне тоже было жалко жертв лагеря, я со всеми поклонился, а в Веймаре постучал по крышке гроба сначала Гете, а потом Шиллеру, просто так, без всякого политического высокомерия, а когда его оттуда сняли пограничники, он сказал… — тут я принялся хохотать, — что это я его послал на Запад через стену.
Мы молчали, со вспотевшими лицами.
— Дальше, — сказал адвокат.
— Миша сказал, что я его послал в Западный Берлин, обещав доллары и красивых женщин. Он до сих пор так думает.
— Пристрелите меня, — попросил адвокат.
— Постойте, дайте рассказать! — разозлился я. — Назавтра я вошел в столовую, где питались советские писатели. Они увидели меня и замерли с ложками манной каши. Они подумали, кого это я следующим пошлю на Запад.
А ведь КГБ разрешил мне поездку в ГДР, чтобы проверить мою репутацию! Я думал, меня арестуют!
— Арестовали?
— Нет. Вот вы послушайте…
— Пристрелите меня, пожалуйста, — взмолился адвокат. — Я потерял смысл жизни. Вы верите в самоубийство?
— Вы меня пугаете, адвокат. Мы на пароходе, а не на волшебной горе под новогодней елкой.
— Мальчики! — раздался милый голосок Лоры Павловны. — Смена белья!
Она, кажется, подталкивала меня к гомосексуализму.
— До свидания, — протянул я ему руку.
— Берлинской стены никогда не существовало, — ядовито прошипел адвокат прямо мне в лицо.
— Не понял. Сговорились с капитаном?
— Нет, — твердо сказал адвокат.
«Боже, как грустна наша Россия!» — воскликнул Пушкин, когда Гоголь прочел ему «Мертвые души».
Странное восклицание. Я нигде не видел более веселой страны, чем Россия. Да, больная! да самая хамская в мире! да! — но очень веселая. Глубоко веселая у меня родина. И «Мертвые души» — веселый роман. Я, например, читаю его и смеюсь. А что Европа? Европа бесит меня своей анальной уютностью. Мне хочется говорить ей гадости. Но все гадости уже сказаны. Из дикого русского далека я кричу, что Рейн — сточная канава. Но что предложить взамен? Выхода нет. Есть только вход в уютность.
Как грустна Германия! Как грустны ее бары, афиши, витрины, ночные кабаки, рынки цветов, туристические барахолки! Как меланхолична ее еда! Почему, глядя на все ее благополучие, так неотвратимо хочется разрыдаться? Как грустны ее велосипедисты! Ей нельзя ни помочь, ни помешать.
В Страсбурге я испытываю ощущение временной передышки. Фальшивое чувство, но родственные звук и светФранции, даже через заслонку особой эльзасской реальности, меня успокаивают. Если переворот не удастся, я эмигрирую к французским сырам и клумбам. Стриженая Франция пахнет самшитом.
— Нет, Берлин тоженичего, — сказала немка.
— Альтер-эго ты мое луковое. Когда победит наша революция, я превращу Берлин в зоопарк. Напущу туда много львов, тигров, волков и бездомных собак.
— Муры-муры, — расположилась ко мне немка, заслоняя капитана, дремлющего в полосатом шезлонге.
— Затмение! Отодвинься!
— Мне не мешает, — полуосознанно произнес капитан.
— Нет, не ладно! Я нигде не видел столько бездомных собак, как в Румынии! Они даже бежали по взлетному полю международного аэродрома в Бухаресте и лаяли на мой самолет, когда я взлетал в Москву. А еще я их видел на военном мемориальном кладбище. Мне показалось, что это духи румынского военного гения. Меня вдохновило бесконечное здание парламента, выстроенное Чаушеску. Габи сказала мне на четверенькахв дельте Дуная, что Румыния — конченая страна.
— Я не была с тобой в дельте Дуная, — сказала немка.
— Другая Габи! Вас тоже, как нерезаных собак. Дельта Дуная. В камышах староверы в цыганских одеждах. Придурковатые румыны с фольклорными лицами. Ну, почему так: чуть в сторону от канонов Европы, и… камыши!
— Вертолет сбит, — вбежала Лора Павловна.
— А где помощник капитана? — спросил я. — Где этот маньяк-контрреволюционер?
— Ищем, — сказала Лора Павловна.
— Дзержинский бы уже давно нашел, — сказал я. — Я думаю, адвокат знает. У него всезнающие глаза. Идите помучайте адвоката. Он скажет.
Я выгнал адвоката пинками под зад. Мы остались втроем. Жена адвоката перестала плакать.
— Муж у меня глупый, — сказала она. — Надоел. Посмотрите, какие у меня черные чулки.
— Ну, давай посмотрим, — сказала немка, усаживаясь.
— Пошли лучше купаться, — сказал я. — Оттянемся.
— Нет, давай посмотрим, — сказала немка.
— Нет, вы сначала послушайте мою историю, — сказал я. — Руководитель нашей группы был советский третьестепенный писатель-маринист. Трусы в цветочки.
Сейчас они начнут раздвигать друг другу худые, как венские стулья, ноги, задирать платья и говорить о злодеяниях Штази. Если поездка по Рейну тебе предлагает четыре страны, выбора не миновать: Швейцария, Франция, Германия, Голландия.
— Что вы думаете об объединении Европы? — спросил капитан.
— Пустое, — ответил я. — Европа в русской мысливсегда была цельной. Мне здесь часто говорят: Европы не существует, все страны — разные. Мы разные! Мы разные! Ну, конечно! Все вы такие разные! Но при этом такие одинаковые. Это как византийское кредо Троицы: неслияны и нераздельны.
Золото Рейна — девиз обладания. Европа состоит из глагола иметь, из его спряжений и видов.
— Может быть, капитан станет вашей новой религией, — сказал я жене адвоката.
— Полиция! — вбежала Лора Павловна. Вошли полицейские. Они хмуро проверили мой русский паспорт. Русский паспорт не любят в Европе. Может быть, только вьетнамский паспорт вызывает здесь б ольшую аллергию. Они проверили, не приклеил ли я фальшивую фотографию.
— У вас закончилась виза, — наконец, сказали они.
— Ну и что теперь будет? — спросил я.
— Мы вас арестуем, — сказали полицейские.
Наш броненосец «Потемкин» номер два загудел на весь Рейн.
Швейцария — это глагол иметьв натуральном виде. Швейцария — я имею. И она, действительно, все имеет;
имеет подробно, солидно, суперсоциалистически. Конфедерация здоровых внутренних органов. Исправно работает ее коровий желудок. Легкие — парусники, почки — Женевское озеро. В полном порядке высокогорная печень.
Я слоняюсь вечером перед отплытием (совсем, впрочем, не речное слово) по Базелю, и Швейцария имеет, имеет настолько, что на вопрос «Иметь или быть?» Швейцарии не ответить половинчато. Она не умеет быть, если она умеет иметь. Она раздавила «быть» под грузом «иметь».
На рассвете я вышел на палубу полюбоваться. Я люблю речные восходы солнца за их беззащитность. Слабый запах реки — запах женских волос. Европа — хрупкий баланс жизни и смерти. В ней не хватает грубого пограничного материала. Прозрачные границы — отсутствие мужества. Европа — наседка, из-под которой украли все яйца. Я люблю реки — быстрые змеи жизни. Я люблю их серебристую шкурку. На холмах еще лежала тень. В ущельях был сквозняк, но вдруг он исчез, и взошло солнце, осветившее Лору Павловну. В короткой майке она стояла на корме парохода. Она разбрасывала вокруг себя куски пирога и поливала реку вином.
— Очисти этого человека глиной! — говорила она. — Очисти все двенадцать частей его тела!
«Во дает!» — подумал я. Я ничего не сказал и ушел от кормы подальше. Я слышал, что Рейн изначально состоял из пива, меда, вина, вазелина и водки.
Германия — мне надо иметь. Историко-истерически, но с оправдательным оттенком: мол, так случилось, судьба: я вынуждена, но я и должна иметь. Тяжелое надосоответствует шукруту и способствует преодолению, если кто в этом сомневался, комплекса вины несомненно.
Я лежал и думал, чем Франция отличается от Германии. Как-то раз в районе Саарбрюкена я перешел границу по заброшенному каменному мосту через ручей. Это был ручей между двумя половинками деревни. На немецкой стороне все было спокойно, в то время как французы валялись в липкой грязи, пили из бочки красное вино и громко икали.
Франция — имею ли я, если имею? Наиболее изощренная европейская формула, уклончивая, но ответ стремится исключительно к позитиву: имеешь! имеешь! Изощренность формулы несколько убивает практическая поспешность. Но зато: как красиво имеешь!
Голландия — имей совесть иметь. Примирительная кар тина, прочитываемая с тем ангельским двусмыслием, на которое имеет право страна, где так хорошо в январе кататься на коньках по замерзшему заливу, а после прийти в бар со снежными бровями и выпить стакан глинтвейна у полки камина с моделями старых парусников.
— Русский-то вообще ничего не имеет, — прорвалась немка. — Даже братья-славяне, украинцы и белорусы, мают. У него толькоесть.
— Дача! Русская жизнь — сплошная дача! — помощник выскользнул из своего укрытия.
— Цинично соскочим с мейнстрима? — предложил мне шепотом капитан.
Я проснулся в деревенской гостинице в графстве Килдар с тем, чтобы до завтрака пробежать несколько миль по проселочной дороге. Запахи строго совпали с ирландской прозой, из-под ног со страшным шумом выпархивали куропатки и бежали со мной наперегонки. Овцы в этих краях похожи на панков: их красят в яркие цвета по принадлежности.
Бег на длинные дистанции в Ирландии чреват погодными неожиданностями: выбежишь в солнце, прибежишь в грозу. Погодные условия тщательно закрепляются на бумаге: персонажей убивают лопатой по голове с подробным описанием природы. Порой теряешься в догадках, что важнее: Дракула или погода.
Ирландский климат непереводим на другие языки, при нем произрастают и пальмообразные уродцы (которые хозяйка гостиницы, миссис Доил, зовет по-домашнему «Чарли») и крайне северная морошка, что только благоволит моему воображению.
Миссис Доил, разумеется, тоже пишет, да и как не писать с ее именем про новых собак Баскервилей, но ее главным произведением до сих пор остается загородный В amp;В неподалеку от Голвея, шедевральный приют для странствующих писателей. Ну что мне нужно? Россыпь ненужных подробностей, на которых остановится рассеянный взгляд: от старинных табакерок и ручных зеркал до шкафов рюстик, куда можно прятать покойников. В окна лезут сиреневые букеты разросшихся по всему острову родедендронов. За родедендронами — океан с бледно-желтыми пляжами из мелких обломков ракушек. Вокруг красоты мужского рода: каменистые поля суровой предысторической внешности, похожие на небритые скулы. В местных пабах по субботам музыканты с такими же скулами играют народную музыку: никто не танцует, но зато все братаются.
— Нора хотела, чтобы ее Джеймс Джойс стал певцом, — неспешно пил какао отоспавшийся на уик-энде капитан. — Ирландия — идеальная страна для продолжения литературы.
Я приеду к вам снова, миссис Доил, с компьютером и очками. У меня серьезные намерения. Пусть вы и не красавица.
— А вам и не кажется, что глагол иметьв ваших рассуждениях — отрыжка марксизма?! — прокричал оглохший капитан перед отлетом на военном вертолете из Дублина.
Я задумался, застегивая шлем.
— Нет, капитан, скорее марксизм — отрыжка глагола иметь.
Трещит буржуйка. По вечерам мы собираем свой маленький совнаркомв салоне у капитана. За окнами погружается в сон старый мальчик-пай, доктор Рейн. Нас развлекает помощник капитана: за ужином вместо печеной картошки он таскает из печки горящие угли и ест с нескрываемым удовольствием. Разговоры за чашкой ароматного чая отличаются светской изысканностью. Лора Павловна — сливки вечной женственности. Она порхает в расстегнутом ватнике, надетом на светлое платье, от одних гостей к другим, как настоящая хозяйка. При своем невысоком росте она поражает нас грациозностью, тонкими пальцами, сообразительностью, здоровым цветом лица.
Помощник капитана с загадочным видом принес однажды видеокассету.
Вначале просыпается Европа, затем рыбы в Атлантическом океане, затем, потягиваясь, встает в лучах солнца Америка. Внезапно географические пояса развязываются, и все тонет в едином плаче. Помощник капитана потирает руки. На экране телевизора возникает знакомая пара.
— Героиня нашего времени, — говорит адвокат.
— Да ну, — сомневаюсь я.
— Завидуете, — смеется адвокат. — Признайтесь, что вы завидуете!
Дегенеративное лицо принца противоречит его здравомыслию в вопросе о британском содружестве. Напротив, ее очаровательная мордашка, доведенная до победы стараниями опытных косметологов, несмотря на сомнительный нос, вступает в противоречие с дегенеративным характером ее речей. Похищенная фотографами, заподозренная в благотворительности на высшем уровне матери Терезы, она противно шепелявит, гундосит и паясничает. Наследный принц зевает и, тяготясь глупостью жены, совсем не демонстративно смотрит в сторону. Тогда она начинает соблазнять его разными женскими действиями. Например, она становится на колени, наклоняется и показывает ему свои белые трусики. Принц — ноль внимания. Тогда она начинает медленно сдвигать трусики в сторону, как занавес в театре. Собравшиеся в салоне гости замолкают и смотрят на экран с редким вниманием. Чего-чего, а этого они еще не видели. Принцесса резко поворачивается, садится на корточки. Презирая букенгемские условности, она начинает писать через трусы на персидский ковер с улыбкой, которая обошла свет. Идут нарезки из ранней жизни принцессы. Крикет, бассейны, теннис, шарады, угловатые позы тела неслучившейся балерины. Гадкий, слишком длинный, околоаристократический утенок, она не верит и верит в свое будущее. Камера наезжает на ее промежность. Что мне сказать об этих формах? Во всяком случае, они возбуждающе волосаты. Немка тяжело дышит невдалеке от меня. Принц тоже заинтересован происходящим. Он раздвигает ей ягодицы и показывает сзади то единственное место тела, куда никогда не проникает луч солнца. Казалось бы, розово-карий анус несколько треугольного вида в окружении мелких пупырышков, слипшихся волосинок, на которых дрожит крошка кала, и звездочки-родинки, указующей на родовую судьбу, — это и есть кульминация. Я и не знал, что она так неуклюже вытирает попу. Но нет! Принцесса извлекает из своих трусиков средних размеров мужской член с весьма гармоничной залупой и яйца. У нее есть яйца! У нее замечательные яйца! И замечательный член! И замечательные яйца! И замечательный член!
Делать нечего, принц с удивлением берет его в рот.
— Ну, хорошо. А как же дети? — посреди всеобщего молчания раздается голосок Лоры Павловны.
— А как же Англия! — восклицает адвокат.
— Ничего себе некрофилия, — не выдерживаю я.
— Завидуете? — смеется надо мной адвокат.
— Отстаньте от него, наконец! — вступается за меня Лора Павловна.
— Ерунда какая-то, — бормочет капитан. — Друзья мои, а как же Господь Бог?
Он выпивает рюмку очень старого коньяка и, огорченный, покидает салон.
— Теперь мне все ясно, — говорит жена адвоката с лицом оглашенной.
— Может, хуй позже вырос, как гриб? — говорит адвокат.
— Нет, все-таки, а как же дети? — недоумевает Лора Павловна.
— Х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х, — вместо катарсиса хрипит немка. — Х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х.
Помощник капитана вскакивает — опля! — и начинает отбивать чечетку. Помощник — ас. Заходится в чечетке.
— А как же? А как же? А как же? — с плебейским шиком приговаривает чечеточник, широко разводя руками.
Мы начинаем хлопать в ладоши.
Спасибо Рейну. На Рейне мне пришла до смешного простая мысль: что есть красота? Вот замки, виноградники, мелкие городки, вся эта рейнская драматургия национальной эстетики, и все говорит очень ласковым голосом: правда, красиво?
И маленький город шепчет мне на ухо: я, правда, красив?
И замок над Хайдебергом: я тебе нравлюсь? Как я могу тебе не нравиться? Ты посмотри, как забавны мои скульптуры! Ты посмотри, как они наивны и очаровательны! Выйди в сад, глянь на город. Нравится? Ну, сфотографируй меня. Ну, пожалуйста.
— Ленин прав. Надо мечтать! — сказал я капитану.
Здесь красота зависима от суждения и фотоаппарата. Здесь красота недальновидна. Почему в заштатных городах Пулии в церквах совсем иной дух? Почему в Кельне, в соборе, мне хочется вон? Почему мне тесно плыть по Рейну, мне, зажатому между двух берегов? Где запруда? И вдруг в последнее утро — светлый песок голландского берега, и я испытываю облегчение.
Предубеждение? Может быть, у меня какая-нибудь тайная причина недолюбливать немцев? Я роюсь в себе и не нахожу. Напротив! Напротив! Только хорошее!
Немецкая красота — красота! И бунт против кошечек в дадаизме, в экспрессионизме — не мой. Мне этот бунт симпатичен, но — не мой. Я зря обижаю Рейн. Он — хороший. Он — быстрый, стремительный, он общеевропейский. И меня не смущает название парохода — «Дейчланд». Дейчланд — так Дейчланд. Кто-то должен делать машины. У меня в Москве сломался немецкий холодильник. Только купили — сломался. Я удивился. Немецкий холодильник сломался! Звоню по гарантии. Мастер приезжает с готовой запасной деталью. Откуда вы знали? — Она испанская, всегда ломается. Значит, я должен это принять и признать.
— Кельн сдался! — вбежала Лора Павловна.
— Отключите в Кельне электричество, — сказал я. — Пусть у них все скиснет в холодильниках!
— Дюссельдорф тоже сдался, — сказала Лора Павловна.
— А Хайдеберг?
— Сдался.
— А Туборг?
— Это — пиво, — сказала жена адвоката.
— Ну и что? — сказал я. — Вы, может быть, знаете, сколько у Че Гевары было пальцев на ногах?
— Нет, — сказала жена адвоката. — Почему?
У нас с ней культурная невменяемость.
— Зачем ты меня не бьешь? — мимоходом спросила немка.
— Я занят мыслью, — ответил я. — Из Москвы я хочу — еду в Азию, хочу — в Европу. То есть, понятно, кудая еду. Непонятно — откуда. Кто я такой, чтобы тебя бить?
— Берлин тоже сдался, — сказал капитан.
— Почему это он сдался? — удивился я. — Мы его не просили сдаваться.
— А Париж? — спросила жена адвоката.
— Париж давно сдался, — сказала Лора Павловна. — Париж всегда готов сдаться.
— А помощника капитана нашли? — спросил я.
— Нет.
— А где он?
— Прячется в машинном отделении.
— У вас там джунгли, что ли? — заорал я на Лору Павловну. — Вы мне портите всю революцию.
— А что с адвокатом? — спросила жена адвоката.
— Не твое дело! — сказала Лора Павловна.
— В общем, так, — сказал я. — Париж населите румынами. Они этого очень желают. А всех из Парижа грузите в Румынию. На перевоспитание. Завтра!
— Господи! — обрадовалась Лора Павловна. — Неужели Европа снова станет веселой и интересной!
— Вы сначала найдите помощника капитана, — сказал я Лоре Павловне, — а потом радуйтесь.
Красота — не иное, как выдох: Боже, как хорошо! Хорошо — что? Мне не принадлежащее, мною, в лучшем случае, угаданное. Из другой энергии сотканное, а если из моей, то — преображенной. Это — в Пулии, на Сицилии. А здесь, в Германии, — имманентное.
— И верните мне мое банное полотенце, фетишистка! — закричал я на Лору Павловну.
Лора Павловна смутилась.
Немка вынула из штанов маузер и хотела ее убить. Имманентная красота. Междусобойчик. Короткое замыкание умиления. Слезы наворачиваются на глаза — подушечки, рюшечки, цветочки.
Мне же тоже сначала понравилось!
Я тоже открыл рот. Но потом закрыл и даже зевнул из равнодушия. Красота не умеет быть прирученной.
Не думаю, что жена адвоката когда-нибудь примет революцию, но нам нужны маловеры для контраста и издевательства.
Опять пришли ходоки-доходяги из дешевейших кают. Спрашивают, как жить.
— Ребята, все хорошо, — сказал я им. — Вы будете новым типом человека. Будете красиво и мягко любить.
— Амстердам тоже сдался? — спросил я жену адвоката.
— Амстердам не сдался, — сказала честная женщина.
— Молодцы, педерасты! — воскликнул я с ностальгией. — Берем курс на Амстердам!
— Нет, нет и еще раз нет! — сказал капитан. — Я отказываюсь считать Рейн космической рекой.
— Почему? — спросила жена адвоката.
— В верховье космической реки обитают души еще не родившихся людей. Значит, Швейцария — будущее мира.
— Не годится, — нахмурился я.
— А что нам делать с сакральной речной нумерологией?
— Какой еще нумерологией? — спросила немка.
— 3,7,3 на 7, 99, — сказал капитан.
— Хорошо! — растрогался я. — Вот это и есть капитан-религия?
— Как сказать, — потупился капитан.
— Долой попов! — крикнула немка и выстрелила в воздух.
— Ты хочешь ни хрена не делать и жить в шоколаде, — объяснил я ее беспредметный поступок.
Прирученная красота превращается в кич и, вывернувшись в киче наизнанку, начинает мне нравиться своим онтологическим неблагополучием.
Я взял автомат и спустился в машинное отделение. Лора Павловна тоже взяла автомат. Мы долго бродили по машинному отделению в поисках помощника капитана. Сначала мы боялись, что он нас убьет и потому ходили очень осторожно, а потом перестали бояться и ходили, и пели песни. На пути нам попался помощник капитана, но мы не обратили на него внимания, потому что он прикинулся поршнем с болтами. Потом он прикинулся еще какой-то железной установкой, из него летели искры, потом он стал как озеро ртути, и мы снова прошли мимо него.
Под душераздирающий военно-морской марш мы входим в Амстердамский порт. Народ выволакивает на набережную свою обезглавленную, когда-то любимую королеву. Амстердам — колыбель столовой клаустрофобии. Тот дом похож на солонку, этот — на перечницу. У проституток с островов Индонезии фарфоровые лица. Мы — вожди, экстремистские Гуливеры, мы братаемся с толпами революционной наркоты из кафе-шопов. На фонарных столбах, в театральных программах, газетах, на площадях, поперек каналов, в ресторанных меню один заказ: революция. Немка связала мне красные пролетарские носки. Капитан все-таки напросился вздернуть его на мачте. Сливки вечной женственности не прочь выйти за меня замуж. Капитан бесконечно рад за нас.
Кавычки напрасны. «Красота спасет мир» — псевдоцитата из Достоевского. Ее нет в полном собрании его сочинений. Но теперь мне ясно, кто это сказал. Это сказал старый Рейн.
Имярек
Я — человек беспафосный. Я знаю, что мост леденеет первым. Что же тогда я делаю в Индии, если у каждого индуса вместо сердца — пламенныйТадж-Махал? Ищу Тадж-Махал. Всем миром возводим мавзолей любви. Весь кич мира стекается в Тадж-Махал. Есть ряд основных состояний, когда мудрость неотличима от тупости. Не найти Тадж-Махал в Агре, городе Тадж-Махала, все равно, что не увидеть Кремль в Москве. Но индийская несознанка — не стиль существования, как у русского придурка, а пожизненная сущность.
— Что это у тебя? — спросил я уличного торговца фруктами, тыча в незнакомый мне плод.
– Банан.
— А это?
– Банан!
— А вон то?
– Банан!
— А вон там?
— Где?
— Над городом!
– Банан, сэр!
— Какой, блин, банан?! Это же Тадж-Махал!
Индусы — заводные игрушки. Красные жестяные божьи коровки. Жестяные крылья. Пружинки ржавые. Голова — жестяной барабан.
— Когда с индусом занимаешься любовью, — смущаясь, рассказывала мне в Дели (я только что прилетел) Нана, старшая сестра моей немецкой переводчицы, — он весь скрипит, его хочется смазать постным маслом.
Она подошла ко мне, напоила виски.
— Боже, — сказала, — как надоел этот скрип!
Индия — сладкая ловушка. В Индии времени нет. Поезда в Индии ходят по звездному календарю, раз в миллион лет. Самолеты летают с точностью метеорита. Можно долго ехать назад, постепенно впадая в детство: там встретится страна слонов, обезьян. Задребезжит на ветру похоронным венком пальма. Из нее вылетит разноцветная птица с кредитной карточки ВИЗА. Встанет верблюд с бессмысленно гордой мордой.
Из ребенка вырастет колониалист в английском пробковом шлеме. Индия, скажет он, страна проникающей пыли. Из задницы, скажет он, в Индии хлещет жижа. Вечная жижа из вечной задницы. Вода — отрава. Болезни — неизлечимы. Брезгливость — негласный пароль.
Из колониалиста, как из лопуха, произрастает сестра милосердия. Она устроит в Калькутте приют для умирающих на сорок коек. Оденет сорок умирающих в синие пижамы. Попутно получит Нобелевскую премию, и выяснится главное различие.
Никто не любит умирать. Но у индусов есть секретное оружие. Реинкарнация мощнее ядерной бомбы. Индусы сбрасывают телесную оболочку, как манекенщицы — платье. Их ждет новая примерка. Смешные люди! Они смотрят на европейцев снизу вверх. Они им завидуют. Хотят быть такими же высокими, мечтают о белой коже. Нет-нет, это не колониальные предрассудки. Они утверждают, что они, арийцы, пришли когда-то в Индию с Севера белыми, а тут безнадежно, навсегда загорели. Расисты микроскопических различий, они ввели не только касты, но и кожное цветоделение. Страна распалась на чуть-чуть более светлых и чуть-чуть более темных, и никогда индус не выдаст дочь замуж за более смуглого жениха без веских на то оснований. А европейцы, проснувшись однажды ночью в холодном поту, бросаются в Индию, в грязь, в нищету с единственной целью. Возьмите мой рост, заберите белую кожу — только лишите страха смерти! Выдайте визу в бессмертие! Как проехать в Индию? Наверх! Дайте лестницу! Пропустите меня на небо! Там начинается святая река Ганг. Туда мне и надо.
Дорожные знаки в Гималаях полны назидательности. Полиция делает вид, что реинкарнация ее не касается, и готова спасать жизни сочинительством полицейских куплетов:
Однако индийский водитель верит в вечность больше, чем в дорожные знаки, и нет ничего более страшного, чем путешествовать в Гималаях на автомобиле. Дороги узки и неверны. Защитные столбикине предусмотрены. Колеса то и дело срываются в пропасть. Обгоны на повороте — общее место, лобовое столкновение — особый шик.
Вдруг вылетает дракон в виде автобуса без тормозов, с выбитыми стеклами, миндалевидными глазами. Промеж глаз надпись: India is great. Индус в полете полон адреналина. В пропасти много автожелеза. Одно утешение: пропасть красива. Скажу даже больше: Гималаи зимой — это и есть выпадение в красоту. Редкая сосна ниже Эйфелевой башни. Горы горят, как петухи. Гималаи зимой — это такая нежность природы к тебе, что невольно оглянешься: не обозналась ли? Но, не найдя в тучах орденоносного близнеца, вступаешь в безмятежное чувство собственного несовершенства и благодарности.
До истоков Ганга я не доехал. На повороте стояли солдаты с палками и чайниками вместо ружей. Похожие на обмороженных дровосеков, они объявили, что выше в горах дорога завалена снегом. От скуки горной армейской жизни они сделались гостеприимны и, напоив чаем с молоком, уже были готовы ради меня и забавы отдать по-быстрому свои жизни, но в Гималаях у их гостя нет врагов. Тогда солдаты отвели меня, тоже по-быстрому, в свой походный храм, где барачный Христос с красной точкой на лбу христосовался с барачным Буддой на глазах у всех прочих барачных богов. Дом высокой терпимости. Коммуналка образцового духа.
– Подсéлите?
— Давай, — по-простому решили барачные боги.
Я пошел подселяться. На ветру трепетали треугольники религиозных флажков.
На высоте трех тысяч метров Индия растворяется в воздухе, на фоне снежников и сосулек в страну поднебесья, и местные крестьянки, в полном согласии с этим, надели тибетские наряды, корзины с хворостом, сильныеукрашения. Я повернул назад в долину, на глазах у дровосеков, превращаясь в паломника с бусами в бледно-розовой рвани, русского садхуособого, еще не понятного мне самому назначения.
— Сволочь!
Путешествие в Индию началось со скандала. Фрау Абер была не допущена на элитный ужин к скрипучемуиндусу. Впрочем, обычный стареющий мудак с профессорским адюльтером. Сказалось подлое происхождение из lower Middle Europe. Ее забыли в гостинице.
— Сволочь!
В элитном клубе элитный ужин с артистами и губернаторскими дочками оказался полным говном. Дели — не дело. Дели представился мне Сызранью с пальмами. Мы уехали с Наной на ностальгической тачке «Амбассадор» сплетничать всю ночь напролет.
— Фрау Абер не нужна Индия, — сплетничал я. — Ей нужен я, а я осмеливаюсь отказать ей в реальности. Я намекаю ей, что она — соринка, залетевшая в мое сознание, как в глаз.
— Почему немецкаясоринка?
— Между Москвой и Берлином — трубаментальной интерактивности. В Гималаях фрау Абер решила, что она красивее Гималаев. Она бросила Гималаям вызов, дерзко выставив в горах напоказ всю свою германскую красоту.
— Ауч! — поскользнулась старшая сестра и пошла пятнами, разглядывая снимок.
— Искусство фотографии — свиное рыло, — непутанно объяснился я. — Столкновение всмятку вуайеризма с эксгибиционизмом.
— Вы утром не встанете, — поднялась хозяйка, вместо халата хватаясь за фотоаппарат. Фрау Абер плюхнулась ей на колени. Девчонки расцеловались. Фотография — эффект ненасытности. Ей всего мало. Ее всегда мало. Извернувшись, она желает быть малым.
— Крымского шампанского! Blow up, сволочи!
Мы были вместе как три Рембрандта.
Фрау Абер считала, что Гималаи примут вызов. От напряжения из нее потекла в снег моча. Природа замерла. Горы безмолвствовали. Она почувствовала себя униженной. Я лежал и читал путеводитель по Индии, а она горько плакала. Я понял: жалость к ней будет доказательством ее реальности. Я читал о Ришикеше, в котором мы с ней вяло боролись.
Это один из тех вегетарианских, безалкогольных городков Северо-Восточной Индии, которые славятся своей святостью. В Ришикеше не продаются даже яйца. Воздух здесь, у подножья Гималаев, чист и пылен одновременно. Длительное пребывание «Битлз» в городе совсем не чувствуется. От предчувствий у фрау Абер потеют подмышки, от воспоминаний — янтарного цвета штаны. Я предлагаю ей дружбу, но фрау Абер упрямится и в угоду своим feelings упрекает меня в неискренности. Приехав в Индию, она стала называть индусов братьями, призывать к социальной активности. Она упрекнула меня в колониализме, когда портье тащил мой тяжелый чемодан. Но прошло несколько дней, и она уже кричала нищим: «Пошли вон!» Она ловко научилась передразнивать индо-английский воляпюк шоферов.
— ФАР-Р-Р Ю, СЭР-Р-Р! — хохотала она. — ФАР-Р-Р Ю!
Наконец, она мне призналась, что индусы похожи на арийцев с грязными лицами, но потом страшно смутилась и просила, чтобы я забыл ее слова, чтобы не погубить ее социальный образ.
— Все-таки у тебя душа — фашистка, — сказал я.
— Яволь! — принялась кривляться фрау Абер. Тогда я отправился в один из отдаленных ашрамов Ришикеша, чтобы обсудить свое положение с гуру.
— Но я тожечеловек! — увязалась она за мной. Я тайно звал ее фрау Абер. Она любила бунтарское слово НО.
Боже! Фрау Абер начала размножаться! Помимо индийских паломников, в ашрамах много полукрасивыхзападных женщин, вроде нее, которые с постными лицами внедряются в святую жизнь. В полукрасивых женщинах есть извечная неадекватность: они считают себя красавицами, разбивают себе жизнь высокими претензиями и в результате — койка психоаналитика (n’est-ce pas, фрау Абер?) или ашрам с молитвами, песнопениями, со звоночками. Дзынь-дзынь! Проснись к духовной жизни!
— Все мы лампочки! — сказал мне гуру без всякого предисловия. — Лампочки, по которым бежит ток божественной энергии. Мы умираем, как перегораем.
В самом деле, он был похож на лампочку, которую включили в интуристскихцелях, и она стала ярко и честно светить.
— У вас тут красиво, — сказал я недоверчиво, глядя из окна его опрятной бедной комнаты на закат солнца над Гангом.
— А что такое красота? Она — наше внутреннее состояние. Все в мире — наше внутреннее состояние.
Как-то мне в руки попалась брошюра «Философия всего». В ней было тринадцать страниц. Автора я не помню. Гуру с ходу брался за любую неподъемную тему. У него было отполированное чистойжизнью лицо человека без возраста с живыми глазами. Когда-то он был государственным чиновником. Выезжал служить в Лондон и выглядел на берегах Темзы доподлинным англичанином, как молодой Неру. Когда-то в Калькутте у гуру были жена и сын. Он бросил их, уехал в Ришикеш, и я подумал, что, верно, жена и сын проклинают его за святойэгоизм.
— Сын — ваше внутреннее состояние? — спросил я.
— Красавец офицер, сын год назад погиб в Кашмире.
Я неотрывно смотрел на рот гуру. Он тяжело сглотнул, отрыгнул, и я увидел вспышку зеленого цвета, сорвавшуюся у него с губ. Вслед за ней изо рта выскочил предмет, который он поймал руками, сложенными снизу. Немедля он высоко его поднял, чтобы нам было видно. Это был прекрасный зеленый лингам, куда значительнее любого предмета, который нормальный человек мог бы извлечь из горла. Но полагать, что поклонение лингаму происходит из примитивного фаллического культа — глубокое заблуждение. Будучи амальгамой мужского и женского органа, священный эллипсоид, который в переводе с санскрита значит эмблема, предстал нам сущностным принципом, энергией творения.
— Елы-палы. Извините, — сказал я, пораженный супериллюзией отцовского чувства.
Он закивал головой по-индийски, и это утвердительное движение находится на грани европейского отрицательного жеста, что, должно быть, имеет под собой основание.
— Надо отказаться от всего, чтобы обрести себя. Не переделывать мир, а переделывать себя, — опять загорелась «лампочка».
— Вы тоже — мое внутреннее состояние? — спросил я.
Он кивнул. Но глаз дернулся. Мне не надо было его ловить.
— И она? — спросил я с тайной надеждой.
— Ваше представление.
– Светопреставление. Кому мне сказать спасибо за такоевнутреннее состояние? — показал я головой на фрау Абер.
— Себе, — молвил гуру.
Я понял, что изведу ее только упорным самоусовершенствованием.
— Соблюдайте режим питания, но без особой аскезы. Не ешьте то, что сексуально возбуждает. Be good. Do good. Спите отдельно!
Фрау Абер сильно перекосило, но она смолчала.
— В чем главный грех? — спросил я.
— В ненависти. Ненавидеть другого — значит ненавидеть себя.
Я миролюбиво улыбнулся фрау Абер и даже похлопал ее по коленке.
— Нам пора, — сказал я.
Гуру скромно отказался от денег.
— Бог слаще всех конфет, — сказал он мне на прощанье.
Индийская святость прямолинейна, как американские доктора, в которых не верят лишь невежественные люди.
— В свои семьдесят пять лет он выглядит моложе тебя, — не без злорадства сказала мне фрау Абер, садясь в машину. Обезьяны совсем по-людски оглядывались на проезжающие грузовики, чеша у себя в затылке.
— Он спит отдельно, — строго ответил я. — Постой!
Вдруг осенило. Я выскочил из машины и побежал по ступенькам вниз к скромной хижине на берегу Ганга. Районный аватар сидел в позе лотоса и ел палочками спагетти в томатном соусе.
— Гуру, — сказал я. — Поменяйте поля фрау Абер!
— Хау? — спросил гуру, откидывая палочки. — Уот фор?
Я жарко зашептал ему что-тона ухо. Вместо ответа гуру положил мне в карман зеленый лингам.
С лицом прилежного Ганеша, в дутых звенящих браслетах на щиколотках Индия пала к ногам фрау Абер.
— Путешествия укорачивают жизнь, — объяснила она Индии. — Чтение о них делает ее практически бесконечной!
Я с восхищением смотрел на нее. Индия урчала от восторга.
Хороший писатель не отвечает за содержание своих книг. Они значительнее автора. Всякая книга задумывается как овладение словом, но во время овладения автор призван совершить акт самопредательства — сдаться слову, позволив ему восторжествовать над собой. Все остальное лишь порча бумаги. Фрау Абер не столько даже сдается, сколько отдается слову, причем с явным опережением любовного графика.
В этом, наверное, основное отличие женской экритюрот мужской. Гордо реет фрау Абер вражеским флагом победы над Рейхстагом. Фрау Абер — новый шаг немецкой литературы, занесенный в вечность. На сегодняшний день фрау Абер — лучший современный писатель Германии. Она любит «автоматическое письмо», завещанное сюрреалистами, когда слово непредсказуемо вычерчивает вензеля, не сверяясь с волей создателя. «В своих книгах я кружусь по кругу», — признается фрау Абер, выдавая главный секрет харизматической неспособности справиться с текстом.
Ее тексты озвучивают состояния, преодолевающие материальную вязкость речи. Это, скорее, пробелы и умолчания, нежели платоновские диалоги. В книгах фрау Абер речь идет не о любви к миру, а о любви как запаху страсти. Вы когда-нибудь нюхали у мужчины за ухом? — а она нюхала! Длинными лиловыми ногтями она вам порвет любые трусы, невзирая на пол — но не рвет; сегодня она — выше пояса.
В ее случае Восток помог женщине. Зеленый лингам — талисман. Слово фрау Абер стремится к бессловесности, которая то мнится отсутствием человеческого общения, то — его высочайшим смыслом. От неореалистических штампов и перепевов трэш-литературы, навороченных в ранних романах, фрау Абер быстрой походкой худой решительной немки, которая презирает колготки, идет к самой себе, чтобы раствориться в себе бесследно. Умри — лучше не напишешь.
Писатель — сексуальная скотина. Биографически у него с сексом установлены спецотношения. Фрау Абер — тому пример. Но легко ошибиться, приняв безумие за предрасположенность к творчеству. Жизнь фрау Абер, какой бы лихой ни была, раскручивается как следствие ее писательства, а не его причина. Энергия слова сильнее, чем инцест или коммунистическая партия. Впрочем, это не значит, что фрау Абер не может увлечься как тем, так и другим. О чем и речь.
Я ехал на Ганг за смыслом смерти, а нашел там разгадку смысла творчества.
Ганг замышляется как небесная река, несущая искупление. В Гималаях сила и чистота ее потока равны представлению о начале. Ганг в Гималаях — метафора креативности. У него вода цвета таланта.
Ганг, как и творчество, есть конфликт между замыслом и исполнением. Спускаясь с гор, Ганг обретает земную силу в обмен на утрату своей чистоты. Даже у подножья Гималаев, в Ришикеше и Харидваре, Ганг еще настолько силен своей чистотой, что народ боится ловить в нем рыбу. Ловля рыбы приравнена к преступлению. С моста видна рыба всех форм и размеров, она становится наваждением для человека как хищника.
Но в долине из небесной реки Ганг превращается в человеческую. Он вбирает в себя нечистоты жизни. Каждый, кто купается в Ганге, особенно в святых городах, смывает свои грехи. Ганг в буквальном смысле превращается в поток грехов. Он, как и творчество, обременен людским несовершенством.
Смысл творчества есть наполнение нечеловеческого замысла человеческим содержанием, есть перевод его сущности на человеческие символы, есть искажение. Исполнение — не только раскрытие смысла, но и сокрытие. Нечистоты, которые обрушиваются в Ганг, начиная с первого города в горах, Уттаркаши, и кончая Калькуттой, суть нечистоты отношения к замыслу.
Когда после Гималаев я увидел Ганг в среднем течении возле Аллахабада, я был смущен и разочарован. Ганг заматерел и обабился. Это была пожилая, неузнаваемая река. Но это был все равно единственный и неповторимый Ганг, потому что в Аллахабаде он принимал вторичное очищение в виде сангама, то есть слияния с двумя другими реками, одной, видимой, и другой, невидимой — Сарасвати. Если бы Ганг вбирал в себя воды только видимой реки, он бы уподобился вундеркинду, который после блестящего старта выдыхается, выходя из бойскаутского возраста.
На Ганге нет ни пароходов, ни моторных лодок. Но от Аллахабада до Варанаси можно плыть на веслах, в расписных челнах. Кто не курил гашиш на середине Ганга с индийскими лодочниками из глиняной трубки через марлю сомнительной чистоты, тот мало что поймет в этих галлюцинациях. Я вижу подземного цвета реку Сарасвати и старушонку с худыми обезьяньими ручками. Она — мать невидимого лодочника. Она же — мать Индия. Она помогла мне найти ее сына.
— Ау! — кричит лодочник чайкам и кормит их кусками лепешки.
— Джау! — кричит лодочник чайкам, и они улетают.
Творчество нуждается во вторичном очищении — вот что предлагает поездка по Гангу, — и сангам — знак включения дополнительной, очистительной энергии Сарасвати в тот момент, когда, казалось бы, исполнение превращается в разрушение замысла.
Далее многое зависит от силы внушения и самовнушения. Ганг в нижнем течении далек от целомудрия. Он красив обычной земной красотой. У него один берег песчаный, другой — высокий. Он течет через саванну и влажные тропики. Он — разнообразен, нагружен грехами и реальным человеческим пеплом, выброшенным в его воды.
Он — многоопытен, снисходителен. В нем ловят сетями рыбу и ходят на парусных лодках. Но он силен воспоминанием о замысле и верой в собственную уникальность. Ничего не осталось, но все сохранено в этой грязной воде.
Ганг вливается в Индийский океан, и еще на четыреста миль от берега видна его посмертнаяполоса, резко отличающаяся от океанской соленой воды. Он входит в океанское бессмертие своими нечистотами, которые парадоксальным, казалось бы, образом прочитываются как память. Здесь предусмотрено ликование ироника. Вот оно — крушение иллюзий! Но ироник остается мастером предпоследнего слова. Крушение иллюзий, в конце концов, получает значение иллюзии крушения иллюзий. В этом качестве обретшего грязь таланта Ганг закольцовывается в единую композицию: исполнение есть преодоление предательства замысла. Смысл же этого преодоления предательства каждый раз прочитывается по-новому.
Я нигде не видел более злых собак, чем в России. В России каждая собака видит свой долг в том, чтобы вас облаять, а еще лучше, укусить. Система спонтанного воспитания собак в России выстроена на агрессивности. Каждый прохожий — вор. Он должен быть выявлен и обезврежен. Собаки — индикаторы социального подсознания.
На Западе собаки, как правило, декоративны. Они — часть выгородки личного пространства своих хозяев. Собаки обслуживают их сложный эмоциональный мир. Скорее всего, именно в нем они и живут. Они не выбегают в жизненную реальность. Им безразличны чужие люди.
Нигде я не видел более покорных собак, чем в Индии. Они — сама рабская покорность, воплощение трусости.
Все с поджатыми хвостами, довольствующиеся малым, на щедрую подачку не рассчитывающие. Слезящиеся глаза, подбитая лапа, слабые, шелудивые, часто зевающие, много спящие. Жалкие попрошайки, в отличие от веселыхпопрошаек с развевающимися хвостами — бездомных собак Черной Африки, которых я встречу на Нигере. Несмотря на то, что Индия независима 50 лет, до индийских собак, не научившихся лаять, еще не дошла весть о закате колониализма.
Два водителя и одна фрау Абер — вот и вся компания. Надо было их кормить, чистить, мыть. Я загонял водителей с фрау Абер по колени в Ганг и мыл им попы, как священным коровам. В гостиницах жили миллионы кузнечиков. Они хрустели под ногами. Они облепляли меня под душем. Их надо было как-то давить. Иногда попадались автобусы с русскими туристами. От них пахло индийским виски. Русские ехали в Катманду на учебу. Иногда я ехал с ними. Иногда — нет. Иногда русские кричали мне из автобуса, что я — все говно мира, импотент, красная рожа, мерзкий живот. А иногда — не кричали. Иногда я уезжал в Польшу. Вместе с Кришной в колеснице. Иногда — в Тадж-Махал. Тадж-Махал — отхожее место любви. Увидеть Тадж-Махал и — разлюбить.
Индия вилась улицей, но иногда улица обрывалась, и в темном лесу попадались, бывало, разбойники. Мои драйверы с чистыми попами очень боялись их, а фрау Абер считала своим писательским долгом залезть от страха ко мне под мышку. Разбойники были первобытными людьми. Некоторые из них жили еще на деревьях. Некоторые не мыли волосы по три месяца. Когда не моешь волосы больше трех месяцев, волосы переходят в автономный режим самоотмывания. Разбойники валили ствол дерева поперек дороги, и мы останавливались. Мы пробовали пятиться задним ходом, но они валили сзади другое дерево и стучали грозными грязными пальцами в окна. Однажды мне это надоело, я открыл дверь нашего миниавтобуса и, вместо того, чтобы отдать кошелек и жизнь, сказал:
— Ну, чего стучите, питекантропы? Вы знаете, кто я? Я — русский царь!
— Кто? Кто?
На объяснение ушла вся ночь. К утру они, наконец, испугались, убрали дерево, проводили с почетом.
В каждом боге есть что-то от полицейского. Но только бог Шива совмещает в себе и стража порядка, и хулигана; создателя, защитника созданного, и — разрушителя. У него пять лиц и еще больше масок. Он — бог маскировки и откровения. Он мужчина и женщина одновременно, одногрудый кастрат и половой гигант. Он — эманация своего возбужденного члена и полнота жизненной энергии.
Он — бессменный мэр Варанаси.
Варанаси три тысячи лет. Каждый иностранец чумеет от Варанаси. В Варанаси есть все, но это «все» перерабатывается в ничто, чтобы наутро снова стать всем.
Круговорот энергии создает впечатление близости к центру мира. Должно быть, Варанаси и есть центр Вселенной, закамуфлированный под индийский couleur local.
В центре Вселенной идет бешеная работа. Здесь рождаются религии. Здесь не так давно Будда на околице города, в Сарнатхе, прочел свою первую проповедь, и мир стал оранжевым. Здесь же возникла бледно-зеленая гностическая теология джайнизма, утверждающая, что Бог есть знание. Здесь идет бешеная работа очищения. Варанаси — город-прачка. Затеяна всемирная стирка. На священных ступенях, гхатах, разложены сырые предметы человеческой одежды и простыни. Здесь же коровы срут на эти простыни.
Варанаси — город-банщик. На восходе солнца все моются в Ганге, молятся и моются, не отделяя одно от другого.
Варанаси — город-уборная. На рассвете навстречу солнцу выставляется бесчисленное количество женских и муж ских смуглых задов. У мужчин заметна приятная утренняя эрекция. Женщины залихватски задирают сари и без смущения резко садятся на корточки. И покачиваются, как на рессорах. Срет великий индийский народ, плечом к плечу, не пользуясь бумагой. Идет бесконечное испражнение.
— Странно, что в индийском кино запрещено показывать поцелуи, — глубокомысленно заметил я фрау Абер.
Город-паломник. Город-ткач. Город — детский труд. Все в шелках. Брокеры тащат вас в шелковые лавки, а когда, наконец, их отталкиваешь, они говорят:
— Don’t make me angry! — и глаз их дрожит от ненависти.
Варанаси — это тот самый базар в храме, который не стерпело христианство, отчего оказалось локальной религией Запада. Базар — это часть храмовой жизни. Храм — это часть жизненного базара. Здесь по утрам все — йоги. Все машут руками.
Варанаси — город-рикша. Он везет меня на велосипеде по своей толчее, звоня в бесконечный звонок, рябят рекламы кед, компьютеров, второсортной индийской версии кока-колы — thums up! на подъеме он соскакивает с седла, толкает велосипед, мне совестно, он вспотел, остановился и, слегка отойдя в сторону, помочился, как лошадь. Варанаси — суперпотемкинская деревня.
В Варанаси я простил всех своих врагов и друзей. Я простил фрау Абер.
Варанаси — город мертвых, архитектура духов и призраков, уползшая от гнета истории. Здесь махараджи выстроили дворцы на набережной Ганга для своих мертвых — людей бордо, между двух инкарнаций, по вынужденному безделью определившихся пособниками мировой черной магии. Не они ли сдали часть дворцов под посольства дагомейских вудунов, якутских шаманов, австралийских аборигенов с зубами в разные стороны, полинезийских друзей капитана Кука? Таких дворцов с безвременной архитектурой не знает ни один город мира.
В Варанаси самый мелкий поэт может стать Данте, если только останется в городе больше тридцати дней.
Варанаси — большой склад дров. Сюда завозят дрова, чтобы жечь трупы в желто-золотых одеждах со всей Индии, со всего света, с других планет. Варанаси — город-крематорий. Все ходят по колено в пепле. Пахнет мертвечиной и паленой человечиной. Собаки бросаются в костер, чтобы утащить в пасти кусок человеческой ноги. Крематорщики — богатые люди, которым никто не подает руки.
Варанаси — город-соглядатай. Глазами перепуганных иностранцев он следит за своими кремациями. Мертвецы встают с бамбуковых носилок. Они недавно умерли, всего три-четыре часа назад, и не привыкли к новому статусу. Крематорщики бамбуковыми палками усмиряют мятежных покойников. Впрочем, я видел, что когда во весь рост встает в огне мертвая четырнадцатилетняя красавица, они шалятпалками, подстегивая ее к последнему танцу. Рядом козлы едят ритуальные цветы. Родственники в белом здесь не плачут. Здесь каждый сожженный идет в нирвану.
— Это — ад, — сказала фрау Абер, отряхиваясь от пепла. Мы шли по замызганным переулкам старого города. Старый город прыгал на одной ноге, потому что второй ноги у него не было. Вокруг лежали куски непереваренной истории. Валялись страшные остатки мусульманских набегов. В затылок жарко дышала модернистская богиня Кали.
— Сама ты — ад.
Она не знала, обидеться или обрадоваться своей инфернальности.
— От Варанаси до неба ближе, чем от Берлина до Москвы, — холодно заметил я.
— Ты зачем удаляешься от меня? — грациозно испугалась фрау Абер.
В Варанаси я понял, что рай — часть ада, а ад — часть рая. Смотря с какой стороны зайти. Раздались выстрелы. Полицейские стреляли в студентов, которые бросали в них камнями, бутылками, кокосовыми орехами.
Толпа студентов бежала прямо на нас. Впереди толпы бежал бог Шива.
— Революция! — возликовала фрау Абер.
— Шива! Шива! — закричал я. — Хари! Хари!
Он дважды спас меня от верной смерти. Когда фрау Абер ушла пописать, начальник станции отвел меня в сторону и шепнул на ухо, чтобы я не садился в следующий поезд, идущий на Калькутту.
— Я точно знаю, что он сойдет с рельсов.
Я сидел на чемодане на вокзале в Патне уже третьи сутки: мне было все равно. Меня облюбовали городской сумасшедший с ножичком, который он угрожающе сжимал меж ног, и двое прокаженных. Фрау Абер вернулась из «мочиловки», как официально назывался станционный туалет, в слезах: у нее открылся кровавый понос.
— Уедем на первом поезде!
— Он сойдет с рельсов.
— Кто тебе это сказал?
— Начальник станции.
— Откуда он знает?
Я пожал плечами.
— Я поеду!
— Езжай, химера! — сказал я.
Она осталась. На следующий день мы прочли в газетах, что поезд сошел с рельсов. Пять перевернутых тяжелых коричнево-красных вагонов, сто двадцать убитых.
— На этот проходящий вы тоже не садитесь! — шепнул мне снова начальник станции.
— Почему? — спросил я из вежливости.
— Грабители.
— В первом классе есть охрана, — вяло возразил я.
— Они убьют охрану, — сказал начальник станции.
Мы открыли газету. Грабители убили полицейского и трех пассажиров. Ведутся поиски. Я оглянулся. Под тонкими одеялами на платформе неподвижно лежали тела. Трудно было отличить живых от мертвых.
За полчаса до прихода правильногопоезда начальник станции пригласил нас в свой кабинет. Он вписал в наши билеты от руки какие-то свои каракули, поставил печать и сказал, что теперь все в порядке.
— Из какой вы страны? — спросил начальник станции.
Если кто-нибудь в Индии спрашивает вас, из какой вы страны, значит, он ждет от вас денег.
— Я из России, она — из Германии, — бессонным голосом сказал я, незаметно вынимая из кармана бумажку в сто рупий.
— Ленин! — сказал он однозначно.
Это все, что знают индусы о моей стране.
— Да, — вздохнул я.
На восходе солнца у начальника станции был молодцеватый вид. Глаза горели. Он стал усиленно крутить диск черного телефона, потом — красного. Телефоны молчали. Они не работали.
— Откуда вы узнаете о приближении поезда? — спросил я.
Он весело закивал головой. Я догадался, что он ничего не понял. Я положил под красный телефон бумажку в сто рупий и показал глазами. Мы сфотографировались, пожимая друг другу руки. Помощник начальника станции отнес мой чемодан в купе первого класса. В купе уже сидело и стояло человек семнадцать пассажиров. Какой-то невинно замученный индийский парень тут же заснул у меня на плече.
— Чай! Чай! Чай! — вопили в зарешеченные окна поезда разносчики чая.
Когда поезд собрался было трогаться, в купе вбежал начальник станции, расталкивая народ. Ему было пятьдесят пять лет. Лицо у него было взволнованное. Я подумал бог знает что. Он пожал мне руку и пожелал счастливого пути. Он сказал, что будет обо мне помнить и что те два поезда были опасными, а этот безопасный.
— Ленин, — сказал он однозначно и вышел из моей жизни.
— Я их жду.
— Кого? Правда, я лучшеКафки?
— Ненамного. Почему их нет в Индии?
— Тебе мало меня?
— Давай лучше поговорим.
— Ну, пожалуйста!
На гостиничном потолке три длинные тени. Сплетенье — чего?
— Не хочется. Позже. На Миссисипи. В каком-нибудь южном штате.
— Не будем ждать Алабамы! Ну, оченьпожалуйста!
О чем я думаю, когда, сдавшись на уговоры, поздней ночью порю ремнем надежду новойнемецкой литературы, которая лежит в Индии на животе? Думаю ли я, что индусы — красные жестяные божьи коровки? Когда я порю фрау Абер, я, конечно, порой думаю, что индусы — красные жестяные божьи коровки, но не часто. Вспоминаю ли будущей мыслью Черную Африку? Повариху Элен с тремя колечками в тайном месте? палача Мамаду? трех американок на нежной, бурой Миссисипи? Да. Особенно трех американок. Мы говорим с тремя американками о том, что мужчины в любви бескорыстнее женщин. У них обычно нет дополнительного интереса. Но, как правило, в голове бродят другие мысли. Я наблюдаю сиротливыйсвет над Волгой. Волга глядит на меня круглыми от героина глазами. На лбу у Волги наркотическая сыпь. Точно ли я знаю, что значат пять рек? Да, пять рек — золотое руномоей жизни. Но это пока что не больше, чем интуиция. Все знание мира уперлось в четыре реки. Они текут в четыре стороны горизонта. Мало! Не то. Не то. Где еще одна? Где мне найти словесный сангампятиречья? Да! Где? Да, собака! Размахивая ремнем, я мерно думаю о трубеБерлин — Москва.
— Плевала я на революцию! — из-под ремня раздался голос фрау Абер.
Вот он — голос модной плоти. Линяет немецкий рот фронт! По вечерам мы обсуждаем с фрау Абер потолочную мозаику на станции метро «Маяковская». Дейнека и Мухину — ее художественные приоритеты. Между головокружительно субъективной, бестолково эфемерной Москвой и столь же головокружительно объективным, реальным Парижем Берлин меньше, чем город, но несколько больше, чем вывеска.
Сорвавшееся с реальности в язык, накачанное спертым воздухом и криками «Ахтунг! Ахтунг!», слово «Берлин» возникает в моем сознании перевалочным пунктом, в котором нет смысла ни обживаться, ни даже оглядываться.
Берлин как вокзал имеет в качестве тотема дупло буфета. Соскочив с тамбура, теряя на ходу не слишком зашнурованную обувь, надо бежать за горячей сосиской с горчицей, булочкой, бутылкой пива. Бегу, чтобы не опоздать к отправлению. Но если отправление в ту или другую сторону задерживается, особенно по причинам политического свойства, вокзал превращается в пересыльную тюрьму русского духа, о которой не принято вспоминать добрым словом.
Как мало сохранилось свидетельств благодарности от людей, в сущности, хорошо воспитанных, русских эмигрантов первого поколения, Берлину как городу, их приютившему!
Одни капризы.
То улицы слишком длинны и унылы, то мрачно и скучно, то немецкие художники, с которыми накануне пили пиво, лобзались, тискались, — всего лишь плоды брака Шагала с Кандинским.
Ах, русские свиньи!
А какие еще будут три американки на Миссисипи!
Обиды! Обиды!
Но еще, может быть, обиднее то, что русские в Берлине и не чувствовали себя эмигрантами; скорее, временными переселенцами из квартиры, где начался ремонт, закончившийся катастрофой. Берлин никогда не брался всерьез. Эмиграция — это Париж и Нью-Йорк, новый экзистенциональный прищур, а Берлин — муха, досадное недоразумение.
Не на ком, не на чем остановить взгляд. Берлин — без образен, берлинцы — безобразны. Вот основное мнение русского художника, которое он скрывает от немцев не очень старательно, оказавшегося, в конце концов, мною. Я никогда не удосужился, будучи в Берлине десятки раз, запомнить названия главных улиц. Бранденбургские воротаумудряюсь выговорить неверно, ноль геоусидчивости, не говоря уж об Ундер ден Линденили Кюнферстендамм, имена которых пишу криво, со шпаргалки. Подвиг Набокова, отказавшегося выучить немецкий язык после пятнадцати лет, проведенных в Берлине, это не только рекорд неучтивости. На неприязни к немцам сходятся даже такие заклятые враги, как Набоков и Достоевский, написавший в «Бесах» с редкой злобой почти откровенно расистскую карикатуру на тупогогубернатора Андрея Антоновича фон Лембке. Немец-для-русского — внутренний, утробный иностранец. Дама с собачкой у Чехова, кстати сказать, изменяет мужу тожес немецкой фамилией.
Берлинская стена была для меня куда более увлекательным знаком, чем город, который она разделяла. Собрание архитектурного сора достаточно пошлого века с добавкой тоталитарных перьев и орлов, Берлин не выходит за рамки прекрасной машины. Ось Берлин — Москва — геоабстракция, а не городские взаимные нежности. Кого порю — о той пою. Чем дальше нацизм, тем он ближе. Уйдя из памяти вымирающего на фотографиях поколения, он машет приветливо мне из окон берлинского быта. Повышенные степени добродетели воспринимаются как сигналы бедствия, чистоплотность переходит в чистоту расы, перфекционизм — в лагерь смерти, а что не пугает, опять-таки — в тупость.
Берлинская электричка, как кукушка, расскажет мне, что вкус не переделать, не стоит и пробовать. Мне припомнится случайный советский офицер на берлинской платформе с опущенными, как у монаха, глазами, и я пожалею, что больше его не увижу. Берлин все чаще становится для меня местом встречи. Чаще всего — со стереотипами. Им меня научило немецкое искусство модернизма, которое я вижу как большое О, обведенное красной губной помадой. Что делать мне с классической немецкой музыкой или заявлением Гитлера о смехотворных ста миллионах славян на Востоке, которых надо уничтожить? Не знаю, это для меня — обычный ультразвук, но я невольно становлюсь свидетелем чьих-то очень чужих неврозов, зависти, внезапно открывшегося мазохизма или любви, хихиканья, показа недешевого белья и шепота на ковре «фик мих», спеси, тщеславия, прочих ароматных свойств. Они бросаются мне в глаза как случайному соглядатаю, вышедшему к Ванзее окунуться в июльскую воду и вдруг заметившему, что здешнее население преимущественно не бреет подмышек.
Чем больнее ее стегаю, тем с большим количеством синяков просыпаюсь я поутру.
Что делать мне с этим знанием? Обратить против критиков, которые без всякого физиологического стеснения так живо ненавидят мои книги, или же, напротив, поделиться им со сливками вечной женственности? Но где ты? На потолке.
Чтобы понять Россию, надо ехать в Индию. Русский культуролог, живущий в Германии, считает Россию подсознанием Запада. Но у подсознания Запада есть свое подсознание — Индия.
Географически Индия напоминает вымя, висящее под телом России. Туда стекает российская подсознательность.
Россия замышляет себякак непознанную целостность — Индия осуществляетсебя как загадку. Индия смелее России в своей нищете, неудачливости, бюрократии, тупости, катастрофах, безумии климата. Она смелее России в своей уникальности. Культура Индии не конвертируется. Все драгоценности Индии имеют символику, умираю щую на границе. Впрочем, темный «гиннес» тожелучше всего пьется в Дублине. Россия доходит во всем до предела. Индия переваливает за.
Теологически Россия — девочкапо сравнению с Индией.
Русский язык прокололся на слове «Ганг». Вышел бессрочный лингвистический ляпсус. Река, названная именем богини Ганги, в русском сознании выступает с мужской бородой, наподобие отца-Рейна. Это все равно, что назвать Волгу — Волгом. Трудно идти против языкового течения. Ганг — сильное русскоеслово. Ганга звучитгораздо слабее.
Волга-матушка — для русских великая река, но она никогда не получила статуса святой. Не хватило мужества ее таковой назвать. Ганга-матушка заявила о своей святости. Русский был бы рад считать воду Волги чистой водой, но боится расстроить себе желудок. Индус верит в чистоту воды в Ганге настолько, что он ее пьет, и его вера побеждает грязь реки. Русский презирает смерть, индус ее побеждает.
Прогресс начинается с лицемерия. В Калькутте нет коров. Коровы лицемерно запрещены ради их же собственной безопасности. Зато есть проститутки в очень ярких сари. Они стоят так дешево, что за сто долларов можно накупить целую улицу греха и утонуть с головой в разврате.
Прогресс начинается с отрицания чистоты Ганга и со страха смерти. Продвинутая журналистка калькуттской газеты «Телеграф» призналась мне с радостью, что боится смерти. Исторически она еще была в сари, но уже без традиционных украшений. Под сари у нее были французские трусы и черный австрийский лифчик «Триумф». Под лифчиком — большие мягкие груди кормившей матери.
— А вы, случайно, не здешние сливки вечной женственности? — потупился я.
— Хотите, я вам приведу проститутку, организовавшую первый независимый профсоюз блядей Калькутты?
— Их мамка — богиня Кали?
— Наши бляди — коммунистки!
— Ты зачем ее раздеваешь взглядом? — недовольно шепнула мне фрау Абер, грызя свой вегетарианский сэндвич.
Я перевел взгляд на фрау Абер. Груди самой фрау Абер похожи на сосцы волчицы. В Калькутте она на моих глазах опустилась. Она отползла в разряд эссеистики с умным порядком слов, разменялась на телеграфные сентенции, на ловлю новизны. Зеленый лингам гималайского гуру в Калькутте уже не работал, связь кончилась. Мне стало жаль немецкую литературу.
Хотя русские панически не любят уподобляться Индии, индийская интеллигенция считает, что Индия начинается в московских двориках и совершенно по-русскибоится в процессе вестернизацииутратить «человеческие отношения». Сыновья журналистки из «Телеграфа», насмотревшись сателлитарного телевидения, скандируют американские рекламные частушки, стыдятся говорить на родном бенгальском языке. Журналистка сказала, что ее подруги имеют любовников и делают аборты.
Тревожный симптом! Если Индию охватит страх смерти и супружеская неверность, Индия станет неуправляемой.
Калькутта — тропический гибрид. Это чумовое видение Англии, если бы та проиграла войну с Германией, обанкротилась и облезла, как бездомная кошка. Меж тем жизнь в Калькутте бьет ключом. Воздух состоит из выхлопных газов, гудков черно-желтых такси, университетских лекций и жалобных бормотаний попрошаек, организованных городской мафией. Не слышно только сирен «скорой помощи». Этот звук отсутствует в индийской жизни. У Калькутты гротескное ролевое сознание: она играет роль современного делового города. Однако в калькуттских храмах козлам по-прежнему рубят головы, дети женятся по приказу родителей, за невесту платят приданое в размере 10 000 долларов, и красный цветок гибискуса — отнюдь не бесстыжий фантазм, а полная открытость праведника перед Богом.
На острове Сагар с оравой нищих детей и паломников я вхожу в теплую воду дельты. Молодой священнослужитель служит прямо на берегу службу в честь окончания путешествия. На моем лбу он обозначает глаз мудрости. Служитель крематория, весь в красном, вешает мне на шею гирлянду человеческих костей.
Я похож на людоеда.
Я Индией сыт по горло. Она достала меня благовонными силлогизмами, непролазной нищетой деревень, жестяными игрушками, ашрамным рупором Больших Слов с Большой Буквы, разгромленной армией населения в рваных пледах, натянутых на голову, отступающего по Смоленской дороге к Тадж-Махалу, тусклым светом фонарей, шелухой арахиса, мухами в однообразной острой пище. Надоело бороться с непониманием, медлительностью.
— Как вы можете спокойно жить в этой стране? — спросил я в поезде учительницу санскрита в чистом сари. — У вас не разрывается сердце при виде народных бед?
— Индийский народ сам виноват, — ответила учительница. — Он наказан за свои грехи.
— Какие грехи? — обрадовался я решению вопроса о народе и интеллигенции.
— Грехи эгоизма, — лаконично ответила она.
— Вы согласны с этим? — спросил я своего калькуттского гида Шанти, образца индийского интеллигента.
— Индийский народ нищ в результате колониализма и нынешней бюрократии!
— Что же делать?
— Индия морально пойдет на поправку, если несчастных вдов прекратят, по традиции, подталкивать к самоубийству.
— Неужели их подталкивают? — пришла в журналистский ужас фрау Абер.
— Нам нужен порядок и сильная власть, — продолжал Шанти. — Мы не доросли до демократии. Нам нужен Гитлер.
— Что??? — возопила фрау Абур. — Гитлер убил шесть миллионов евреев!
— Евреи отказались помочь ему деньгами в деле восстановления Германии, — спокойно парировал индийский интеллигент.
Ни слова не говоря, я иду в сторону океана. Фрау Абер, немка-для-русского, с оравой нищих детей и паломников, во французском купальничке, бежит за мной.
— Но это невозможно! Я не сяду с этим монстромв одну машину!
— Смирись, гордый человек! — смеюсь я, моча в Индийском океане мои стоптанные тапки.
Бог — един. Именно к этому подводит Индия, в пантеоне которой триста тридцать миллионов богов. На трех индусов — один бог. Богов больше, чем коров, а коровы везде: в горах, в Ганге по глаза в воде, поперек шоссе, на платформах вокзалов. Калькутта не в счет. Боги похожи на мельницы — они многоруки. Среди них Кали — царица мира. Они ползают, щипаются, скалят зубы, показывают язык.
Поверь хоть в одного, хоть в общую мамкуКали — ее жизнь удалась!
Езда в Индию целебна до тех пор, пока свастика из нацистского символа не перевернется в сознании в вековечный символ движения.
Летающие аллигаторы над Миссисипи
Я чувствую себя Колумбом. С этим чувством вхожу в уборную. — Америку нужно открывать заново, — говорит капитан пе ред зеркалом, переодеваясь в форму американского капитана. — В Америку надо входить, как в фильм. Лора, кто у меня родители? Лора!
Нет ответа.
— Лора, ты где?!
— Я — здесь! — донеслось из соседней комнаты. — Я примеряю лифчик! Ваш папа — ирландец, мама — русская.
— Почему я тогда не говорю по-русски?
— Мама хотела сделать из вас стопроцентного американца.
— Дура мама! Из какого она города?
— Из Пинска или из Двинска. Нет, из Гданьска!
— Гребаный Голливуд! — вскричал капитан. — А ты кто? — спросил он, увидев меня.
— Я — Колумб, — сказал я.
— Покажи Лоре фотографию своей дочери, — подмигнул мне капитан, — и ты получишь бесплатно напиток дня: безалкогольный коктейль «Пароходный рассвет».
— Все правильно, — сказал помощник, откладывая газету. На голове у него была красная, с длинным козырьком кепка, на которой гигантскими буквами было написано «ЦРУ». — Они индейцев считали за диких зверей, а теперь сами перестали быть людьми.
— Оторвались от человеческого образа, — сказала Лора Павловна, появляясь в дверях без лифчика.
— Классные груди! — с волнением одобрил помощник капитана, пригубив чашку чая с молоком. — Вот это груди, а не то, что у них — надувные резинки!
— Глазной насильник! — напустилась на него Лора Павловна. — Отвернись! Мы в Америке!
— Мне все можно! — захохотал помощник капитана. — Я — создатель новой религии. Религия сверхсчастья. Миллиарды долларов на сверхсчастье. Президент США у меня в кармане!
— Христианская религия? — спросил я.
— Почему христианская? — отозвался помощник. — Научная. Цифровая.
— Я — имя звука и звук имени, — нежным голосом запела Лора, бесстыдно вертясь перед помощником, — жена и девственница, мать и дочь.
— Хватит! — прикрикнул на нее капитан. — А это что? Снова немка? Почему она чернокожая?
Немка обиженно сделала брови домиком.
— Я думал, так будет веселее, — сказал помощник капитана.
— Перекрасьте, — резко сказал капитан. Немка приобрела арийские очертания.
— Хай! У нее самое неизгладимое впечатление от рек — стыд и позор оставленности в Нью-Дели. Ей каждую ночь снится это, — наябедничал «цеэрушник».
— Я запрещаю! — взвизгнула немка.
— Не пыли, — посочувствовал я.
— Немка с сосцами волчицы, — приветливо обратилась к ней Лора Павловна. — Депрессивная крыса. Образ врага.
Не успел я высадиться в Америке, как американцы окружили меня на зеленой лужайке. Их было несметное количество. Они визжали, подпрыгивали, попукивали от удовольствия. Они тянули ко мне свои ручки, пытаясь дотронуться до моей одежды. Каждый хотел чем-то похвастаться и показать самое дорогое, что у него есть. Одни американцы показывали мне своих рыб, которых они поймали в Миссисипи, другие — своих детей, третьи тыкали пальцами в свои автомобили, четвертые демонстрировали искусство хождения на руках, катание на большом шаре, полет на аэроплане, приготовление пиццы, вязание веников, игру в бейсбол. Я жал всем руки и целовал в обе щеки. Кто-то показал мне забор Тома Сойера. Кто-то принес картины Энди Урхола. Завязалась непринужденная дискуссия. Какие-то технари замучили меня историей о будущем компьютеров. У компьютеров, оказывается, вот-вот появится самосознание, и они будут отказываться выполнять политически неграмотные команды. Я принялся спорить, но технари стояли на своем.
— Дикость! — фыркнула немка.
— Америку слишком легко критиковать, — нахмурился капитан.
— Дикарей надо использовать, — сказал помощник.
— Техника бесконечных возможностей в руках глупых людей опасна для жизни, — изрек я.
После отплытия капитан произнес речь о принципах навигации на Миссисипи. Обязательная лекция для тех пассажиров, кто интересуется навигационными аспектами круиза. Затем за дело взялся помощник. Он рассказал о правилах пароходной безопасности.
— В Америке все начинается с правил безопасности, — сказал помощник. — Хотите улучшить качество своей жизни, заполните эти анкеты и несите по пять долларов.
Пассажиры принялись заполнять анкеты.
— Хочешь разбогатеть, работай со мной, — сказал мне помощник.
— Не связывайся с ним, — сказала Габи. — Давай лучше презирать американцев.
— И что дальше? — засомневался я.
— Напишем о них гадости.
— Зачем?
— Надо жить честно, — сказала Габи.
— Я помогу тебе найти дочку, — сказал помощник.
— По рукам, — согласился я.
Когда стемнело, американцы разожгли костры.
— Смотрите все вон туда, — сказал я американцам, показывая на луну.
— Ну, как вам нравится американский народ? — спросила меня Сюзан Зонтаг в нью-йоркском баре. Она была на меня обижена, потому что я опоздал на двадцать минут. Она набычилась от возмущения. Она, как выяснилось, никогда в жизни не ждала мужчину больше пятнадцати минут. Я сказал, что мне было очень трудно убежать от американцев, но помогла луна.
— Они прикидываются? — спросил я.
— Это необратимо, — сказала она, понизив голос и беспокойно оглядываясь по сторонам. У меня создалось впечатление, что сейчас нас схватят и арестуют.
— Сторонитесь академических кругов, — сказала Сюзан Зонтаг. — Стадо баранов.
— Писатели?
— Да вы что!
— Кто тут нормальные люди?
— Почему вы опоздали на двадцать минут? — с мукой спросила меня совесть американской нации.
— Я больше не буду, — ответил я.
Я вышел из бара и пошел вверх по вечернему Манхэттену, не зная, что делать. Нью-Йорк, как глобус, крутился у меня на пальце. Я люблю Нью-Йорк. В нем столько же энергии, сколько в Риме — неба.
Я сделал глупость. Я убил негра. Все началось с того, что я позвонил Ольге. Это единственная общая подруга. Она живет через реку, в Нью-Джерси.
— Я начал новую жизнь, — сказал я, когда она взяла трубку.
— Хочешь, приеду? — сказала она.
— Это и есть твоя новая жизнь? — спросила Ольга в японском баре по-русски, кивая на немку.
— Это твоя новая жизнь, — сказал я. — Хочешь попробовать?
Мы стали быстро напиваться теплой японской водкой.
— Я никогда не считал Чарли Чаплина американцем, — вдруг сказал я. — Вокруг него в фильмах были американцы. Они на него наезжали. Он только расшаркивался. Теперь мне кажется, он хотел спасти Америку. Он яростно сопротивлялся, а не расшаркивался. Не получилось. Они победили.
— Зачем тебе реки? — спросила Ольга. — Почему не океаны?
— Реки, крокодилы, — ответил я.
До сих пор американцев воспринимали как отклонение. Так, видимо, оно и было. Но они перешли границу отклонения. Завершив основной цикл иммиграции, они обрели статус туземцев, никем еще не описанных.
Я шел впереди, они — сзади. У них блестели глаза. В гостинице мы разбомбили мини-бар, смешали все со всем и занялись тем, что когда-то называлось «морской бой». Мы с Ольгой выкатили немку на середину комнаты, как Царь-пушку, и принялись гладить по голове; мы гладили ее нежно по шелковистым волосам, мы гладили ее остервенело по медной щетине, мы читали наизусть письма Рильке к Цветаевой, мы ворковали, завинчиваясь все глубже и глубже в европейский предмет саморазрушительных желаний, пока она не выстрелила с такой силой, что нам в знак протеста застучали ботинком в стену.
— Дух Хрущева! — восстала из мертвых Габи, блаженно потирая ягодицы.
— Ребята, какие вы умные! Я вам завидую по-хорошему! — разволновалась Ольга.
— Не понимаю роль Лоры Павловны в моей жизни, — сказал я Ольге, когда она одевалась.
— Лора Павловна — мать твоей дочери Лорочки, — объяснила Ольга. — А я — ваша общая подруга.
— Значит, она раздвоилась, — сказал я, — на маму и дочку, как обещала.
— О чем ты? — спросила Ольга. — Дай сорок долларов на такси.
— Я хочу забрать дочку из этой страны, — сказал я.
— Америка — гадость, — сказала Ольга с большим отвращением.
— Что же вы все, как дурочки, уехали в эту гадость, а Лора Павловна — так даже с пузом? — возмутился я. — Где она теперь?
— Страшная история, — сказала Ольга. — Лора Павловна со своим негром поругалась. Негр продал Лорочку в подпольный бордель малолеток.
Я остановил такси и поехал в Гарлем. Нашел этого ублюдка на кухне. Он ругался с поварами, которые готовили сладкую негритянскую жижу.
— Чего приехал? — спросил он.
— Догадайся.
— Я выгнал ее. Оказалась стервой, — сказал ублюдок.
— Где они? — закричал я.
— Не знаю, — сказал ублюдок.
— Ты продал Лорочку в бордель!
— Ты бредишь, парень!
Я схватил кухонный нож и набросился на него.
— Они на Миссисипи, — закричал ублюдок, убегая от ножа. Мы стали носиться вокруг жаровен. Повара разбежались. Падали кастрюли.
— Они на Миссисипи, — кричал ублюдок. — Лора поет в казино.
Я вылил ему на голову негритянский суп с черной фасолью. Он завизжал от ужаса. Он поскользнулся.
— В каком казино? Назови город!
— Не знаю!
Я замахнулся ножом.
— Что ты сделал с Лорочкой?
— Ничего.
— Но ты изнасиловал ее!
— Нет!
— Мне сказала Ольга!
— Я спал с ней только один раз.
Я крякнул и всадил ему нож в грудь по рукоятку.
Путешествовать по Америке бессмысленно. За редким исключением ее города собраны из одних и тех же кубиков. Большая мама Миссисипи, как величают ее старожилы, на редкость зигзагообразна. Она похожа на длинную человеческую кишку, подвешенную в анатомическом атласе близ канадской границы и испражняющуюся огромным запасом воды, ила, грязи в Мексиканский залив возле Нового Орлеана. Кишка обсажена городами с дублирующей географией Старого Света. В каком-то месте, непонятно с чего, в Миссисипи впадает Волга. Все эти подробности отражают ностальгическое неверие первых переселенцев в успехи трансатлантических коммуникаций.
— Видишь полицейские машины на берегу? — сказал помощник капитана. — Приехали тебя брать.
— За что? — кисло удивился я.
— За негра.
— Негр — это кино, — сказал я.
Полицейские стали готовиться к штурму парохода.
— Я тебя отмажу, — сказал помощник. — При одном условии.
— Ну?
— Пари. Если твои принципы цифровой религии будут лучше моих, будешь жить.
Миссисипи имеет устойчивый цвет кока-колы, что говорит в пользу их взаимного патриотизма, хотя по вкусу как будто отличается от нее, поскольку вовсе непригодна для питья. Плодородная долина реки представляет собой, в сущности, единое кукурузное поле с поруганным чучелом Чаплина посредине. Поле перегружено бесчисленным количеством початков. Стратегически идеальная местность для изучения нравов местного населения, от созерцания единого поля пришедшего к пониманию психоанализа как единой духовной пищи.
«Три правила сверхсчастливой жизни, — писал я в своей каюте на борту парохода «Дельта Куин». — Жизнь имеет свои повороты, но не превращай ее в неуправляемые американские горки. Ты умеешь заставить людей тебя слушать?»
— Название организации? — Мы с Габи переглянулись. — Русско-немецкая экспедиция имени лошади Пржевальского.
Нас зарегистрировали в книге почетных гостей. Окружные газеты вышли с жеребячьимиздравницами. Американцы отметили нашу высадку на Миссисипи татуировками на верхних и нижних конечностях, лимонно-желтым пивом в бумажных стаканах, фейерверками, каруселями.
— Ждите сюрприза! — сказали они.
«Бриллианты мудрости по сниженным ценам. Как улучшить ваш брак? — писал я с вдохновением в своей каюте. — Как установить настоящие отношения с детьми? Человек по сути своей хорош, но он способен совершать ошибки. Цифровая религия научит вас любить и отучит от ненависти. Чтобы быть и есть, мы должны работать. Хотите знать двенадцать секретов успешных отношений с вашими сотрудниками и даже с боссом? Что такое деньги? Что происходит с нами, когда мы умираем?»
Помощник стал собирать с пассажиров по пятьдесят долларов на улучшение качества жизни.
Шорты, спортивная обувь и майки с короткими рукавами, украшенные полуостроумными надписями, являются летней национальной одеждой американцев, отклонение от которой грозит наказанием в виде недоуменных взглядов вплоть до тюремного заключения. Асексуальность их одежды стерла различие между полами до такой степени, что женщин можно вычислить только по обязательному ношению лифчиков, не менее спортивных по своему дизайну, чем белые теннисные носки.
Овладеть душой американца непросто, ибо ее местонахождение неопределенно. Американцы приветливы, но не щедры, веселы, но не ироничны, чистоплотны, но не догадливы. Они смешливы, смешны и смехотворны одновременно. Каждому американцу в детстве снился сон, как его из кроватки похищает русский с «Калашниковым» на груди. Но хотя русские вкупе с немцами были двумя основными образами врагов в американском сознании XX века, теперь об этом никто не помнит. Холодные и горячие войны приравнены ко вчерашнему ресторанному меню. Моя ученая спутница Габи, усидчивая подруга новейшей французской философии, маргинальная мисс-малолетка Европы 1968 года, вынуждена постоянно подчеркивать, что Германия и Россия, в общем-то, разные блюда. Ей верят и не верят, так как мы в одинаковой степени выглядим белым вороньем. Ощущение себя иностранцем на Миссисипи не менее выражено, чем когда-то в бывшем Советском Союзе.
Подвижные лица и выразительные глаза среди янки практически не существуют. Но грех жаловаться на отсутствие к нам интереса. При всем топографическом кретинизме здесь есть тонкая градация отношения к иностранцам.
— Вы откуда?
Неплохо быть из Лондона. Хорошо — из Ирландии. Умеренно хорошо — из Италии. Хуже — из Франции. Забавно — из Китая. Так себе — из Берлина и Токио. Ничего, если из Амстердама. Мексика — скрытая тревога. Канаду хлопают по плечу. Варшава, Вена, Будапешт, Мадрид — мимо. Самый большой хит — быть из Москвы.
— О!
Узнав, что я из Москвы, американцы все как один радостно восклицают «О!», будто их ущипнули. Затем, не зная, что спросить, так же радостно расстаются со мной, обещая увидеться позже. Ольга зовет американцев nice-to-meet’никами, что отражает сущность дела. Впрочем, я бы не стал преувеличивать роль американцев в жизни Америки.
Американцы — бесплатное приложение к Америке. Они составляют необходимый, но дополнительный материал к тем общеамериканским facilities, без которых Америка перестает быть США.
Америка — страна не столько людей, бритых женских ног и газонов, сколько витальных шоссейных дорог, по которым происходит ее кровообращение.
— Американцы, когда умирают, превращаются в автомобили, — подсказал мне помощник капитана. — В момент смерти они сходят с конвейера.
Автомобили как кровяные шарики порождают и обеспечивают жизнедеятельность Америки. Разветвленная кровеносная система страны, разгоняя трейлеры и легковые машины с вежливыми, туповатыми физиономиями, похожими на их водителей, в каждую точку своего тела от Сан-Диего до Бостона, создает страну высокой энергетийной активности, которой сами американцы соответствуют лишь в незначительной степени. Вопрос о метафизическом смысле большого американского теларешается автономно.
Америка подчинила себе население как макроорганизм, качественно отличный от создавших его микроорганизмов. На Америке лежит тень нейтронной бомбы. Когда я говорю, что люблю Америку, я имею в виду скорее не пипл, а озера, виадуки, заправочные станции, зеленые холмы вдоль Миссисипи, муниципальные аэродромы в каждом заштатном городе, лысых орлов, парящих над кукурузой. Америка оттеснила эмоции на задний план, заставив их носителей поклоняться себе язычески: вывешивать флаги и наклеивать на бамперы патриотические лозунги подхалимского свойства.
В краеведческом музее Миниаполиса я обратил внимание на текст под антикварной фотографией пассажирского поезда. Раньше, гласила надпись, поезда перевозили не только грузы, но и пассажиров. Америка умеет избавляться от барахла. Дошла очередь и до Миссисипи.
— Реальность — это психологический комфорт, — сказал пассажирам помощник капитана. — Не больше и не меньше того. Во время круиза помогайте блюстителям порядка, держа при себе посадочный талон или ключ от каюты. Не забывайте, что туалеты на борту склонны к засору в большей степени, нежели те, которыми мы пользуемся в нашей жизни на берегу. Даже такие мелкие предметы, как заколки, способны вызвать беду.
Жизнь на Миссисипи напоминает семейный скандал, перепахавший усатый и честный дух Марка Твена. На этой индейской реке не надо быть спиритом, чтобы общаться с духами, скрипящими половицами в каждом уважающем себя Bed amp; Breakfast. При ближайшем рассмотрении река оказывается не большой мамой, а разорившейся мачехой.
После счастливой поры пароходов с длинными черными трубами и красными, лопатящими воду колесами, к ней охладели. Река безработна, и вынуждена впасть в спячку вторичной девственности, которую смущают лишь игорные заведения, размещенные на пришвартованных навечно, раскрашенных мумиях пароходов, и спортивный азарт воскресных рыболовов. О Миссисипи и вовсе бы позабыли, если б не наводнения. Река мстит за отношение. Против реки возводят дамбы, защищаются мешками с песком, в городах нет набережных, о ней говорят сквозь зубы. Если бы река пересохла и умерла, все были бы только рады.
Наконец, настал день обещанного сюрприза. Им стал данный в нашу честь общегражданский парад в городе Войнона, штат Миннесота, случайно совпавший с Днем независимости.
— А где ваша лошадь? — спросили американцы.
— Вы имеете в виду немку? Она прихорашивается.
— Нет, лошадь с польской фамилией!
— Готовится к параду.
— Ну, понятно… Значит, говорите, готовится? А вот мы, американцы, всегда готовы к параду!
В самом деле, американские свадьбы, роды, похороны, трудовые будни, совокупления, воскресные мессы, споры о том, кто был лучшим президентом США, и представляют собой парад, идущий под звуки уличного оркестра. Перестраивающийся на ходу с компьютерной безупречностью, он призывает население к гармонии, успеху, демократическому идеалу.
Впереди — полицейские на юношеских велосипедах. За ними — старинные автомобили с намеком, что в Америке есть история. За ними — девочки-акробатки возраста моей Лорочки, обещающие Америке будущее. Дальше — бесконечная, строго организованная вакханалия. Она состоит из членов яблочного фестиваля, местных каратистов, работников химчистки «Bluff Country», автомехаников, почтальонов, медсестер. В нее вливаются заслуженные польские американки, искусственная черно-белая корова, команда пенсионеров на роликах, конгрессмены, клоуны, масоны, монахини с голыми пятками, национальная гвардия из империалистического комикса, воспитанники средних школ, боящиеся сделать неверный шаг и потому идущие вперед с выпученными глазами. Парад завершают холеные бездомные собаки с табличками, где и как их нашли.
«Попугай тоже играет в прятки. Америка приручила Бога. Он — в клетке. Цель религии сверхсчастья — сделать американского Бога полностью ручным», — сидя на праздничной мостовой, записывал я в блокнот.
Помимо сверхсчастливых бездомных собак и Бога в клетке, самое большое впечатление от парада — габариты местных красавиц. Америка за последние годы сильно потолстела. На конкурсах красоты безобразно толстые женщины занимают призовые места. Витрины тоже сдались. Манекены делают толстыми. Скоро толстые победят повсеместно. Америка готова поделиться с миром своим бескомплексным идеалом тела.
В вихре парада, осыпаемая конфетами, поцелуями, конфетти, благими напутствиями, русско-немецкая лошадь Пржевальского внедрилась в Америку. Пред нашим взором лежала страна фамильных иконостасов — все зубы вперед. Вокруг — образцовые американские семьи. Все рассказывают наперебой смешные истории, которым положено быть не слишком смешными, но не умеют делать обобщений. Вы — гедонисты? Нет, труженики. Успех — деньги? Нет, гордость за то, чего мы добились. Бизнес, самостоятельность. Еще поколение назад с образцовыми семьями не здоровалась соседка-расистка, так как они дружили с негром. Негр помог им с устройством фундамента (старый развалился, негр работал бесплатно два дня). Соседка примирилась с негром. Дочь соседки завела с негром роман. В возрасте шестидесяти двух лет все превращаются в прадедушек-прабабушек.
Помощник капитана предложил мне свои разработки религии сверхсчастья. Они меня рассмешили. В них безграмотно упоминались Ленин в пломбированном вагоне и Сталинград как примеры немецкой хитрости и военной жадности. Я предложил более испытанные русские модели.
— И смените ваш матюгальник на микрофон, — добавил я. — Научитесь играть своим голосом.
— Три принципа сверхсчастливой жизни: Любовь, Честность, Сила, — буквально пропел помощник капитана в пароходный микрофон в духе Фрэнка Синатры.
Двенадцать девчонок, которых мы наняли вопить и балдеть, сделали то, что им велели. Но остальная сотня пассажиров, которых мы не нанимали, завопила еще более восторженно и преданно.
— Парень, ты далеко пойдешь, если возьмешь себе американскую фамилию, — сказал мне помощник капитана.
— Бери мои идеи, но оставь мне мою фамилию, — ответил я, вынимая зубочистку изо рта. — Кстати, как насчет прибавки к гонорару?
Светлячки, кукуруза, дощатые дома, колибри. Габи жалуется: срать в американском туалете неудобно. Все говно остается, как борщ, на поверхности. Войдя в антикварную лавку, вдруг понимаешь: сегодняшняя Америка бесстильна. Она утратила стиль в 60-е годы. Бабушка никогда не выходила из дома без шляпы и перчаток. Внуки бегают по дому в бейсбольных кепках козырьком назад. Это им в наказание за вьетнамскую войну, считает Габи. Мы ссоримся за ужином по поводу вьетнамской войны, Ленина и фашизма. Она не хочет признать, что Шталиндля русских был хуже, чем Guitler для немцев. Почему хуже?! Все это, естественно, по-английски, только она от волнения приобретает жуткий немецкий акцент, а я — жуткий русский.
Мы продолжаем выяснять отношения в муниципальном бассейне. Габи набрасывается на меня, чтобы утопить. Вместо меня тонут местные дети. Спасатель не выдерживает, гонит нас из бассейна, как Адама и Еву. Приходится укрыться в казино — суррогате парадиза с дешевым джин-тоником. Вместо фрустрации выигрыш — двенадцать долларов за вечер. Выходим под кайфом. С грехом пополам садимся верхом на лошадь Пржевальского. Перед нами великая арка Сент-Луиса. Приставить к ней вторую, и выйдет «М» ресторана «Макдоналдс».
— Но! — кричим мы. — Вперед! На Дикий Запад!
Лошадь Пржевальского скачет галопом. Вот это — жизнь. Мы растворяемся в сверхсчастье.
Если кого и надо опасаться Лоре Павловне, так это трех американок. Помощник поднял на мачте флаг новой религии. Флаг отчасти похож на игорную кость.
От желающих приобщиться нет отбоя. Нас завалили письмами.
«Какое облегчение! — написала мне какая-то медсестра с Аляски. — Раньше я считала себя за дрянь, а теперь испытываю к себе уважение. Я стала более чем счастливой в профессиональной и личной жизни».
Я зачитываю ее письмо в пароходной радиорубке. Нас поддерживают актеры, предприниматели, рекламные агенты, летчики, секретарши.
— Идите к нам, и вы поймете, что человек не создан из грязи, — звучит мой голос на весь пароход.
Собираем нал и чеки в мешки. Кипит работа. Американцы несут все свои сбережения. Сдают драгоценности. Мы постепенно подчиняем себе ведущих адвокатов Америки. Меня охватывают сомнения.
— Капитан! — сказал я. — Ваш помощник растлевает невинный народ. Под видом цифровой религии и улучшения качества жизни он обирает пассажиров. Поиграли и хватит! Остановите его!
— Что вы не поделили? — Капитан посмотрел на меня непонимающим взглядом. — Каждый народ заслуживает своей религии.
Ночью в мою каюту пришли три американки.
— Так больше нельзя, — сказали они. — Пора покончить с помощником.
У Мэгги ирландские веснушки и мускулы, которых ей хватает для того, чтобы оказаться на обложке американского журнала «Здоровье». Она говорит мне, что читать по-настоящему так и не выучилась. Ей приходится выговаривать каждую букву.
Лиз следит за порядком в стране и мире. Время от времени она наезжает на Мадагаскар и в Молдавию, пишет им гражданский кодекс, по которому они будут жить следующую тысячу лет.
Третья не выходит у меня из головы. Вернее, они все три не выходят, каждая не выходит по-своему, но третья совсем не выходит у меня из головы. По своей глубине и грусти она приближается к моему идеалу. У нее большой дом на берегу Тихого океана, на скале, которую подмывают волны. Дом грозит свалиться в океан, не пережить будущую зиму. У нее спортивный «Понтиак» 1968 года выпуска, серебристая мощная тачка, на которую оборачиваются люди, когда попадаются нам по дороге. У нее друг — художник, они с Марком любят друг друга, но, наверное, скоро расстанутся, потому что что-то не складывается. Она — хозяйка большой интернетовской компании, настолько передовой, что ей приходится придумывать новые слова, чтобы объяснить, что она делает, и там такие скорости прогресса, что, смеясь, она говорит: если что-то уже работает, значит это уже устарело. У нее большие доходы и любимый папа, которые патронирует ее бизнес, но такие же расходы, от которых болит голова, и они сердят даже самого любящего папу.
Мэгги делает мне массаж. Она рассказывает, что сообщают ей руки от прикосновения к моему телу. На ее лице улыбка чистого блаженства, которого, может быть, не знает и Восток. Она видит в своем подсознании множество крупных черных зрачков, она видит человека, который, может быть, моя бабушка, и она говорит, что этот человек всегда со мной, и что бабушка никогда не осуждает меня.
Мэгги — фотограф. Она показала мне тайно сделанные ею фотографии, на которых помощник капитана превращает американцев в рабов цифровой религии. Оказывается, там много неприятных, унизительных обрядов, связанных напрямую с очищением плоти.
— Ни одна газета не хочет печатать, — сказала Мэгги. — Все слишком запущено.
Лиз делится со мной всеми возможными критическими замечаниями. У нее хорошее чувство дураков, особенно американских. Она их определяет безошибочно и, по американским нормам, беспощадно. Она не дает нам расфокусироваться на фронте идиотов.
— Кто привьет американцам знание о глупости, тот разрушит цифровую религию и освободит Америку, — скромно считает Лиз.
Третья американка пытается по-сестрински вступиться за американцев.
— Я по-прежнему думаю о том, что ты сказал, — говорит она мне. — О культуре как поисках абсолютных ценностей и о том, как это относится к Америке. Во всяком случае, разве и у тебя в России нет огромных пространств, где господствуют сельскохозяйственные рабочие, а не интеллигенция? Вот что такое Миссисипи в Америке.
— Всякое представление об Америке ошибочно, — говорю я.
Каждое утро три американки бегают по берегу Миссисипи, потом плавают на каноэ. Однажды утром их нашли убитыми в каюте.
— Капитан! — не выдержал я. — Что творится у вас на пароходе? Убивают лучших людей.
Больше всего на свете Габи любит ебаться. Хотя это так, но это не совсем так. Больше всего на свете Габи хочет быть знаменитой. Она хочет, чтобы о ней много говорили, чтобы ею восхищались и чтобы ее высоко ценили. И это так, но не совсем окончательно. Больше всего на свете Габи хочет, чтобы ее любили и чтобы она любила, чтобы была большая, по ее словам, любовь. Не маленькая, а большая.
Габи растоптала мое затянувшееся отрочество. Не воздержание, но томительный перебор привел меня, наконец, к избавлению. Я вдруг увидел закаты на Миссисипи.
В Мемфисе в гостинице «Peabody» мы подрались с ней совсем по-зверски. «Peabody» — шикарная гостиница. В таких мы не останавливались.
— Я одна ищу истину в реке, — закричала немецкая естествоиспытательница, — а ты только и делаешь, что в каждой дыре ищешь свою блудную дочь!
Мы пошли с ней в музей полиции, где висели фотографии убитых полицейских, выполнивших свой долг, и прочие интересные экспонаты, полицейские наряды разных лет, она заметила, что в департаменте расследования убийств все полицейские (на общей фотографии) с большими носами, что, правда, смешно, но я на нее посмотрел, как на червя. Мы пошли с ней слушать блюзы сначала в клуб Би Би Кинга (где съели невкусный ужин) и послушали сына Кинга, который кусал струны зубами, показушник, но пел неплохо. А потом — в более простонародный кабак, и там молодые ребята играли и пели рок, а под конец вышла короткостриженная блондинка в черной ти-шерт и белых штанах, с ломовойгрудью и стала лихо танцевать, и я снова подумал об американской дочке и о том, что у нее, должно быть, уже начались менструации.
Габи напилась и решила истерически звонить в Берлин своему другу Маттиасу и хохотать истерически, и говорить по-немецки. Когда она кончила, я решил тоже позвонить, и она тогда сказала, что я хочу взять реванш, и отключила телефон, и даже хотела вырвать его с корнем. Тогда я сказал, чтобы она этого не делала, а она стала кричать, что я большой кусок говна, такой большой, какого она в жизни еще не видела. А потом она закричала, что никто в жизни не говорил ей fuck off и не считал ее за говно, и так воспалилась, что набросилась на меня и стала хлестать по щекам. Я сбил ее с ног и пару раз ударил по лицу, правда, ладонью и не слишком больно.
— Габи! — вскричал я. — У тебя черные пятки! Тебя не до конца перекрасили! Ты не настоящая.
— У негров розовые пятки, — успокоила меня Габи.
Она рыдала, как вообще никто не рыдает, то есть началась чудовищная истерика, и я стал опасаться американской полиции из музея. Она стала звонить в полицию и кричать, что я убил негра. Хорошо, что я перерезал заранее провод. Но я знал, что она может выскочить из комнаты и побежать донести на меня. Я скрутил ее, отвел под холодный душ, перед душем она сказала, что я боюсь только одного: она обо всем этом напишет и я потеряю свою немецкую репутацию. В Германии они меня все пугают этой немецкой репутацией. Я нехотя ей возражал и, пораженный снова ее тщеславием, я ее помыл с мылом.
— На кого ты меня променял? На эту замухрышку Лору Павловну? Она маленькая и страшная.
— Подожди, вот она пострижет волосы и станет красоткой!
Новый этап истерики и даже немного мордобоя с ее стороны. Я лежал до рассвета одетый, в ожидании какой-нибудь ее глупости. От волнения она выкурила первую сигарету за девять лет. Чтобы снять накопившееся напряжение, я решил закончить все трахом, что и сделал с отвращением, не без сопротивления немецкого партнера.
— Еще! — раздался хриплый голос.
Потом она неумеренно хвалила этот трах.
Наутро мы починили очки (она сломала мне очки для чтения) у оптика, который оказался оптиком Элвиса Пресли, у доктора Метца, который рассказал мне, что Элвис приезжал к нему на прием в 12 ночи, чтобы никто не видел. Ну, и как, он был хорошим пациентом? Он говорил, да, доктор Метц, спасибо, доктор Метц. Тщеславие доктора было пожизненно удовлетворено.
Габи каждый день с пяти до шести вечера находится в приподнятом настроении, много смеется и шутит. А потом снова — неврастеничка и стерва. То всего стесняется, то разгуливает голой. Я говорю, ты при подружках тоже пукаешь, сидишь, говорю, с Сабиной, обсуждаете последние художественные новости и обе пукаете, так у вас в Берлине заведено?
Но она сказала, что нет. А тут она пукает. На кладбище пришли к конфедератам. Казалось бы, священное место. Дубы вокруг. Кто на кладбище громко пукает? Перед могилами героев, которые выбрали неверноеместо в истории, но тем не менее выбрали. Может, я спрашиваю, ты громко пукаешь потому, что протестуешь против их фашистского, как ты выражаешься, места в истории?
Оказывается, все вегетарианцы громко пукают. Ужас какой. Вот и Габи пукает. Вместо того, чтобы есть мясо. А что хуже? Пукать или есть мясо? Вот вопрос.
— Элвис Пресли — пророк цифровой религии, — сказал я помощнику капитана.
— Микки Маус — тоже наш человек, — добавил он.
Мы с помощником поехали поклониться пророку.
Если поставить себе задачу увидеть плачущего американца, надо ехать в Мемфис. Здесь на бульваре Элвиса Пресли в особняке Graceland слезы льются рекой. Плачут дети, плачут старухи в каталках. Всем жалко Пресли.
Начало дельты Миссисипи. Фронтир Севера и Юга. Как раз тут и должен был явиться Элвис. На ранних фотографиях видно, что он — пришелец. Но как он жестоко разыграл Америку, по жизни прикинувшись буреющим вымпелом американского конформизма!
— Мерилин Монро — тоже розыгрыш, — сознался помощник. — Мы закончили тем, что ее труп отгрохали в полицейском морге.
— А Кеннеди?
— Подкидыш, — отрезал помощник.
Издевательская страсть Элвиса — коллекционировать солдатские мундиры (150 комплектов) и полицейские знаки симпатии. Он в разных штатах объявлялся почетным замом начальников полицейских участков, шерифов. Классовый комплекс водителя грузовика — низкий старт, когда полиция кажется всемогущей и так хочется стать ее другом. Культ личности, мифологическая зона. Ни слова о наркотиках, пьянстве, пеленках не контролирующего мочеиспускание кумира.
— Смотри! Ни слова о его доносе в ФБР на «Битлз»! — обрадовался помощник капитана.
Бесчисленные золотые и платиновые диски, акцент на финансовом триумфе и благотворительной деятельности. Ни слова о смысле рока. Ни слова о социальных, расовых мятежах 60-х. Ни разу, нигде на фотографии с негром.
Конформизм плюсуспех — святая связка Америки. Три телевизора в одной стенке, можно смотреть сразу три разных программы, и скромный набор чужих пластинок, тир во дворе, живые рысаки-экспонаты с завязанными глазами. У покойника в доме большая кухня обжоры и ни одной книги. Могила секс-символа — в детских игрушках.
Мы возложили чистые памперсы.
Я пригласил капитана в бар.
— Устал, — отказался он. — Я пошел спать. Разбирайтесь сами.
— Раньше у нас все ЧП сводились к тому, — сказал мне черный, с рыжей гривой по грудь бармен, проводив капитана глазами, — что команда браталась по ночам с пассажирами в спасательных шлюпках.
— Бензин с кампари, — заказал я.
— Я не ослышался? — уточнил честный парень.
Как только я окончательно решил, что Америка лишена элегантности, майки и шорты сменились блузками, рубашками, длинными платьями. Темные очки плантаторов обрели европейские очертания. На полках магазинов Виксбурга и Нетчета — сладкие статуэтки негритянского отцовства-материнства, в гостиницах — сладкие, если не приторные, завтраки.
Мы въехали в другую культуру. Американский Юг элегантен. На фоне аристократических южанок дерзкая Габи сама выглядит замухрышкой. Как только мы очутились в рабовладельческих штатах, Габи в знак протеста перестала носить трусы. Сознание и подсознание Америки отражаются на мемориальных досках. На лицевой стороне — даты сражений Гражданской войны. На обороте — гомосексуальные объяснения в вечной любви и горячие номера телефонов, написанные гвоздем.
Жара. Влажность. Гора льда в апельсиновом соке. Ходишь вареный. Не пишется, не думается. Только в середине ночи наступает прохлада. Мне снится, что у меня в Америке растет дочь, короткостриженная блондинка в черной ти-шерт и белых штанах до колен, и что у нее, должно быть, уже начались менструации. Ее мама работает певицей и пианисткой на туристическом, роскошно реанимированном четырехпалубном пароходе «Дельта Куин».
Капитан и помощник капитана берут меня за руки, ведут в салон.
— Мы выполнили свое обещание. — Они открывают дверь.
— Капитан, — говорю я. — Прикажите ему отменить цифровую религию.
Капитан молчит.
— Капитан, — говорю я. — Проснитесь! Вы же не американец.
— У меня папа — ирландец. Мама — русская. Из Гданьска.
— Ты зачем убил трех американок? — спрашиваю я помощника капитана.
— Агентки хаоса. У меня алиби. А кто убил негра?
— Негр — кино.
— Все — кино, — говорит помощник.
– Америка России подарила пароход… — в стиле блюз поет певица в ковбойской шляпе.
Я встречаю их обеих за ужином. Мать и дочь странно смотрят на меня. А вот и муж Лоры Павловны — диссидент Питер Феррен. Мечтал жить в Европе, не получилось. 58 лет. Профессор европейской литературы в городе Рочестере, штат Нью-Йорк, родине пленки «Кодак», он подрабатывает летом на пароходе игрой на кларнете и саксофоне. Мы разговорились. По мнению профессора, причина американской беды — неудавшаяся сексуальная революция. Она разрушила общество тем, что общество ответило на нее ультраконсервативной пуританской контрреакцией. А вот и два его сына-дебила.
— Завтра экскурсия на озера. Поедем охотиться на аллигаторов? — говорю я.
— That sounds like a plan, — соглашается диссидент.
За штурвалом моторной лодки — Дональд, ветеран вьетнамской войны.
— Лора, — тихо говорю я певице.
— Ну, чего?
— Да, так. Ничего.
Дональд был, в основном, в Камбодже, минером, добровольно ушел воевать в 17 лет, ему после снились кошмары, у него три инсульта, он все забыл: детство, войну, жену — когда смотрит по телевизору о войне, переключает программу, живет в плавучем домике на озере (чтобы не платить налог на недвижимость).
Вообще красота неземная. Кувшинки, цапли, деревья в воде.
— Американцы не любят природу, — вдруг сказала девочка Лорочка.
Мы все молча переглянулись.
Первый из увиденных нами аллигаторов вылезает на берег, чтобы съесть кусок пирога с черникой, который я ему бросаю. Хвостатый, полтора метра, шустрый и опасный. Вылезает и от всей души пердит. Габи хлопает в ладоши. Счастье ее не знает пределов. Ах, если бы она знала, что это сигнал к нападению!
— Как там у вас в России решается проблема с черными и латиносами? — собрав все свои знания, спрашивают меня два брата-дебила.
Не успеваю им ответить. Внезапно, подняв фонтаны воды, со дна озера взлетает чудо природы: стая летающих аллигаторов. Все в ужасе. Волны. Тайфун. Лодка едва не переворачивается. Аллигаторы летят, как истребители. Они приближаются, зубастые. Они подлетают к нам, улыбающиеся.
— Возьмем их на понт! — кричит нам Дональд. — Аллигаторы боятся шума!
Схватившись за руки, мы начинаем дико орать первое, что приходит в Америке в голову:
— Happy birthday to you!
Аллигаторы еще шире открывают рты. Увы, не от удивления! На бреющем полете с холодной кровью они атакуют вьетнамского ветерана. Тот, в последний момент вспомнив Вьетнам, впивается одному из них в горло. Поздно! Нет ветерана! Аллигаторы налетают на братьевдебилов. Те, по опыту школьных драк, оказавшись в меньшинстве, честно поднимают руки вверх. Аллигаторы четвертуют зубами дебильных братьев. Питер Феррен отбивается кларнетом; он обещал нам на закате исполнить Гершвина. Земноводные негодяи проглатывают кларнет. Они откусывают седеющую диссидентскую голову Питера Феррена. Тот умирает со словами «Бертольд Брехт».
Лора Павловна! Милая! Прыгайте за борт! Лора Павловна хочет нырнуть с кормы. Аллигаторы ловят ее в прыжке, похожем на уже облупившиеся советские скульптуры пловчих вдоль Москвы-реки. Они подхватывают ее и, подняв высоко в воздух, бросаются ею, как дельфины — мячом. Она летает между ними, сжимая руки, как святая. Больно на это смотреть! Аллигаторы, натешившись добычей, хищно проглатывают Лору Павловну. Съедают вместе с ковбойской шляпой и православным крестом на груди (мой давнишний подарок).
Наконец, сорвав с Габи одежду, глумливо похрюкивая, словно Гришки Распутины, аллигаторы потрошат оголенную немку с черным лобком и номером 1968 между лопаток. Она не должна как «образ врага» выжить и низким голосом визжит:
— Der Tod ist vulgar!..
Море крови.
— Папа, ружье!
Дочка выхватывает со дна лодки крупнокалиберный ствол. Счастье, ты назвала меня папой! Внезапные слезы мешают мне временно видеть противника.
Меж тем аллигаторы, описав в светло-оранжевом предзакатном воздухе круг, хотят сожрать маленькую собачку вьетнамского ветерана по имени Никсон, но мы с американской дочкой даем сокрушительный отпор. Я палю без остановки из крупнокалиберного ружья. Паф! Паф! Паф! Разорванные куски аллигаторов падают в озеро, один за другим. Никсон понимающе лает. Я поправляю свои темные очки от Трусарди, купленные в прошлом году в Венеции, и закуриваю, пользуясь бензиновой зажигалкой. Мы definitely в восторге друг от друга.
— Дочка!
— Папа!
— Ну, как ты?
— I am fine!
— Ну, слава Богу!
Через пять минут Лорочка уже забывает о съеденных маме, братьях и диссиденте, берет Никсона на руки, и мы с ней уезжаем на джипе поужинать в ресторан. Я заберу ее в Москву. Вместе с Никсоном.
— Путешествия учат тому, — говорю я Лорочке в ресторане (мы едим вкусных вареных крабов), — что природа красива, а люди глупы. Они обладают бесконечным запасом глупости. Остается либо манипулировать, либо сочувствовать, либо махнуть рукой. Переделать ничего нельзя. Иначе люди разучатся играть социальные роли. Каждый глуп по-своему. В этом разнообразие.
Она не верит. Не понимает значение слова stupid. Но когда начинает играть ресторанный оркестр, она, словно в грезе, встает и подходит к сцене и танцует рок так, как никто на Волге его не танцует. В глазах у нее — золотые рождественские пальмы. На лице — вечное Рождество.
— Как тебе было там, в притоне малолеток?
— Каком притоне? — спросила Лорочка.
— Мне Ольга сказала.
— Ольга, как все русские, преувеличивает. У них болезненное воображение.
— Разве тебя не домогался твой псевдопапочка-негр?
— Нет.
— Но он мне сказал, что спал с тобой.
— Спал, но не трахал. Он был добрый, — она всхлипнула. — Кто-то его убил.
Плантации, усадьбы, призраки. Призраки по ночам страшно кричат. Страшно кричит и плачет призрак Габи. Люди ходят с ружьями. Много дичи и призраков. Негры — совсем другое. Иначе двигаются, говорят, смеются, живут. Смеются во весь рот. В них нет мертвечины. При ходьбе шевелят всем телом. Они — глазастые. После всех этих рек я стал к русским относиться более снисходительно. В них все-таки тоже есть что-то живое.
Я принимаю решение воскресить Габи. С этой целью еду в Новый Орлеан на старое кладбище. Покойники висят в воздухе в мраморных надгробьях на случай наводнения. Поклоняюсь культовой могиле королевы вуду Марии Л. Три креста, три цента (от меня) и губная помада (это все, что осталось от Габи) как жертвоприношение. В центральной вудунской аптеке города покупаю специальный воскресительный крем. Жирно намазываю на фотографию Габи. Пятнадцать процентов жителей Нового Орлеана практикуют вуду.
По ночам в ночных клубах я слушаю джаз, утром в Café du monde пью с Лорочкой «кафе о ле». Она читает брошюру цифровой религии.
«Дети — не собаки, — читает она вслух. — Их нельзя дрессировать, не учитывая того, что они — те же самые мужчины и женщины, только не достигшие зрелого возраста». А ты здорово написал! — говорит она.
— Это глупость, — говорю я.
— Мы в школе не проходили этого слова, — хихикает она.
— Может, ты плохо учишься в школе?
— Я — первая в классе по успеваемости, но не по поведению.
Она забирается ко мне в постель.
— Отец, почему ты целуешься так по-старомодному?
Я гоню ее прочь.
— Двадцать процентов американских отцов спят со своими дочерями, — говорит Лорочка. — Я тоже хочу!
— Уйди, несчастье!
— Двадцать пять процентов американских гинекологов спят со своими пациентками, — говорит Лорочка, возбуждая меня своими коротенькими пальчиками. — Твой хуй — сплошной волдырь от дрочки! Противная Габи!
— Лорочка, девочка, что ты со мной делаешь! Я завязал! Не надо! Ай! Ты что? Я улетаю.
— Улетай, папочка!
— Вот так-то лучше, — смеется Лорочка, вытирая о подушку короткие пальчики.
— Ну, вылитая мать.
Я выхожу на балкон. Чугунные балконы и разноцветные дома — французский квартал в Новом Орлеане, самом живописном городе США. Габи встречает меня на улице перед отелем открытым текстом:
— Скажи мне что-нибудь утешительное.
Габи — зомби. Она — подрывная зомби. Она заводит наш марафон. Боль и удовольствие. Она дает мне в руки прутик. Вырывает. На песке чертит план. В нем есть своя тонкость. Сила и близость фантазмов. Мы идем по берегу Миссисипи. Здесь, в устье реки, нет холмов, одни доски и океанские корабли, нефть.
— Войдите! — закричал помощник капитана истошным голосом.
Миссисипи в огне. Горит пароход «Дельта Куин». Кто его поджег? Кому понадобилось уничтожить цитадель цифровой религии?
Воскресенье. Я сижу тихо в кресле. В плаще и в шляпе. Курю гаванскую сигару. За окошком щебет новоорлеанских птиц и звон колоколов. Мне кажется, я выпустил Бога из клетки. Габи-зомби писает и какает на постель. Тужится. Работают ее мускулы. Она просит писать ей в лицо. Она выворачивается наизнанку. Она продвигается вверх по шкале удовольствия. Больше всего на свете Габи хочет, чтобы ее любили и чтобы она любила, чтобы была большая, по ее словам, любовь. Не маленькая, а большая. Ей уже по фигу Америка. Она выходит в открытый космос. Я чувствую себя Колумбом.
— Это против закона, — говорит моя американская дочь, узнав о воскрешении Габи.
— Не берусь возражать. Закон в Америке, — говорю я Лорочке, стоя по колено в мелком Мексиканском заливе, — так формально защищает свободу, что свобода фактически убивается законом. Америка — это очень easygoing страна в предынфарктном состоянии.
— Почему ты не любишь меня, если я тебя люблю? — с мукой заявляет Габи.
— Папа, — не выдерживает вдруг Лорочка, — почему Габи такая глупая?
— Ты сказала: глупая?
— Женщина-якорь! — касается сущности дочь. Я хватаю ее и подбрасываю в южный воздух.
— Спасена! — закричал я. — Муся моя спасла Америку!
— Папочка, ты не горячись, — строго сказала юная американка.
Нигер. Любовь в Черной Африке
Земля — красная, солнце — серебряное, река — зеленая. Вся жизнь — калебас.
Что это?
Черная Африка.
Краток путь от загадки к сказке. Африка — это проверка на вшивость. В темном трюме храпит дикарь, в ужасе возомнивший, что белый заковал его в цепи и погрузил на корабль с единственной целью съесть по дороге в Америку. Однако несъеденный, дикарь распался на двух близнецов, которые в моем случае назвались добрым негром из племени бамбара Сури и страшным шофером, арабом Мамаду. Африка Сури — мягкое манго снисхождения; Мамаду же, как бдительный часовой, застыл на защите своих абсолютных ценностей.
А калебасыи есть калебасы. На них играют, ими едят. Они — сырье, сосуды, головы, инструменты. Но по порядку.
Ночь я провел на дне пироги, проклиная тяготы африканского путешествия. Но когда в небо взлетело солнце Сахары, я уже с трудом сдерживал озноб ликования. Презрев заветы белой санитарии, я умылся молочно-зеленойводой Нигера, сморкнулся в реку в свое отражение, с одобрением поскреб трехдневную щетину и широко раскрыл глаза, опухшие от январского пронзительного света. По желто-лимонному берегу вприпрыжку бежали верблюды. Я твердо знал, что я совсем охуел.
Пустыня — сильный наркотик. Пустыня ломает перегородки. Она перевертывает песочные часы сознания и подсознания по нескольку раз на день. Пустыня соединяет два несоединимые полушария мозга. Мираж — детский лепет. В Сахаре есть такие места, где разогнавшееся пространство поставляет волны видений. Видения достигают конкретной силы очевидности. О них можно ободраться в кровь, как о колючий куст, но они же — носители баснословной энергии. Союз золота и соли, столетия назад заключенный в Томбукту, в сахарском подбрюшье по имени Сахель, до сих пор непонятен. В каком измерении пространства он заключен? Почему вообще Томбукту — самый загадочный город на свете?
Не потому ли, что я свободно прохожу через часть его жителей, через глазастые стаи детей, как сквозь облако плоти, а с другими сталкиваюсь лбами и нелепо расшаркиваюсь? Исчезновение белых людей продолжается, несмотря на все принятые полицейские меры и гарнизон солдат, разместившийся возле губернаторского дворца. Белые заходят за угол, входят в резные марокканские двери — а дальше ищи их, свищи. Туареги просто-напросто необъяснимы. Они — неземной красоты в своих голубых одеяниях. На поясе сабли, в руках складывающиеся вдвое пики, они бросают в вас пики с верблюдов, и — ничего. Пики проходят сквозь вас насквозь — и ничего. Они рубят вам головы саблями — и ничего. Но вдруг одна из пик застревает в вашем теле, и все — конец. Сабля срубает вам голову в тот самый момент, когда вы почувствовали себя бессмертным. В сущности, это безобразие, и я хорошо понимаю скрытые причины гражданской войны в Томбукту, да и вообще на всем пустынном востоке остроконечного государства Мали. Иные считают, что это чисто расистская бойня. Черные африканцы, бамбара, малинке и прочие племена наехали на туарегов, которые, дескать, белые, но, извините, какие они белые? Я сам видел и трогал их кожу, у них только ладошки белые, сами-то — высокомерные, но коричневые. Ерунда! Просто надоела правительственной администрации эта петрушка. Правительственная администрация из Бамако отправила туда своих свирепых солдат в шерстяных двубортных шинелях. Что из этого вышло? Туареги, прежде всего, оторвали их золоченые пуговицы. Те наехали со свистом, с «Калашниковыми», а туареги — одни только пики. Казалось бы, по опыту прошлых войн, победитель был предрешен, но не в Томбукту. Оторвав золоченые пуговицы, туареги поснимали с солдат высокие кожаные ботинки, самых умных забрали в рабство, и долинная армия переобулась в пляжные шлепанцы, сделанные в Китае, их можно купить на каждом базаре, и они так и ходят в двубортных шинелях, с «Колашниковыми», в шлепанцах, но уже без свиста. Некоторые туареги убиваются наповал как простые люди, а некоторые — нет. Совсем не убиваются. Их расстреливаешь, а они не расстреливаются. Об этом не принято говорить, и колониально-экзотические «выдумки» отменены тайным решением мирового сообщества. Не случайно в дни расцвета Британской империи Западная Африка считалась «могилой белого человека». Из-за малярии? Да хрен вам! Скорее из-за того, что в Томбукту вы в эту минуту можете поднять трехпудовый слиток соли одной рукой, даже одним пальцем, а в следующую нет сил оторвать его от земли. Об этом тожене принято говорить. Французы, правда, решили было на излете могущества создать призрачное государство туарегов, но — с кем вести переговоры? — быстро одумались. Все делают вид, что ничего не происходит. Иначе как тут жить? Просто не надо подходить к соли и пробовать ее поднимать, и не надо напрасно заниматься фотографией, которую правительственная администрация то считает серьезным преступлением, и можно загреметь в тюрьму, а африканские тюрьмы славятся мракобесием: там вообще никого не кормят, мне русский консул в Бамако рассказывал, там даже пить не дают, — то вдруг снимает запрет, вроде — щелкай, что хочешь, все равно не поверят, но власти все-таки напрягаются. А я-то думал, что это они такие невежливые в малийском посольстве в Москве, в Замоскворечье. Я к ним пришел, мол, хочу по реке Нигер проплыть на пироге, увидеть красоты, побывать в Томбукту, а дипломаты в ответ: — зачем вам Томбукту? Зачем вам Нигер? Других рек нет? Но, удивляюсь, не на Ниле же и Конго, залитых риторикой и прочим дискурсом, надо понимать Африку? Вы бы мне еще предложили детский лимонад Лимпопо! Смотрю: засада. Недоговаривают. Прежде у них социализм был — это при туарегах-то! — и посольство воняет социализмом, засрали весь дворянский особняк в Замоскворечье своим социализмом, но визу выдали за двадцать долларов, я смотрю — только на неделю! Да вы что! Что я за неделю успею? Ваша страна — как две Франции! А они скосили глаза: мол, ничего. Не хотели, чтобы я успел в Томбукту.
Пришлось мне в Бамако обивать пороги полицейских участков, выпрашивая продолжения визы, хорошо, консул помог, дали, но с неприязнью, и только ради, конечно, наживы. Не зря они свое государственное турагентство при социализме назвали СМЕРТ. Но это не только засада властей. Это — всеобщая конспирация. Я, например, когда вернулся в Европу, разговорился в Гамбурге с одним ученым-сахароведом на местной тусовке, я только начал о Томбукту — он сделал непонимающие глаза. Позитивист хуев! Вот из-за таких, из-за этих немцев, мы и остались жить со своими тремя измерениями! И русский консул в Бамако тоже отсоветовал, и посол русский тоже. Мол, дорога небезопасная, постреливают, оставайтесь в долине, тут есть что посмотреть, стоянки первобытных людей, все эти гроты, да и манго у нас — самые спелые в мире, а там — только песок сыплется. Да, сыплется! И ветер их известный, харматтан, гуляет. Да, гуляет! И Томбукту с птичьего полета — тоска в чистом, первозданном виде, по колено в песке. Мужчины одеты по-арабски, женщины — по-африкански, культура поделилась пополам. Но вот верблюд опускается на колени. Они входят. Он — в голубом. Она — в золотом. Смерть европейской иронии наступает тотчас. В музыке — малицентризм. Слушают только свое. Манго в плодоносной долине, в самом деле, оказались очень сладкими, но Бамако — запущенный базар, и я рвался оттуда. Местная власть установила за мной слежку. Наконец, меня вызвали в Министерство культуры и туризма и прямо спросили, чего я хочу. А я не понимал, что они от меня хотят, мы друг друга не понимали.
— Элен! — крикнул я черномазой поварихе, крутившейся с примусом на дне пироги. — Неси-ка мне завтрак, да поскорее!
Впрочем, пирогой ее назвать трудно. Это — большая посудина с тентом, которая на Нигере зовется пинас.
— Вот только в пустыне понимаешь, что пресная вода — сладкая на вкус, — сказала Элен. Так ласково сказала.
Элен — уникальная женщина. В здешних широтах всем девчонкам в возрасте двух-трех лет рубят клитор. Это в порядке вещей, как мужское обрезание младенцев. Но, если обрезание многим идет на пользу, особенно в пустыне, то женщина теряет весь свой жар. Женщины Мали — мертвые женщины. Тряпки — пестрые, пляски — бойкие, крики — громкие, сами — мертвые. У них такие туповатые лица. Бесчувственные губы. Безвольные, калибасныегруди.
Отрубленные клитора разлетелись во все стороны, сели на финики, на акации, превратились в птиц, бабочек, ящериц, стали веселиемАфрики. В Африке, что ни тронь — все клитор. Конечно, в таком традиционном обществе как Мали, а Мали — самое консервативное общество в Африке, — взять удовольствие женщины под контроль — очень милое дело. Жен бери хоть четыре — ни одна не кончает. Это — доски материнства. Более того, им там все зашивают вплоть до замужества, а муж их вспарывает.
— Ножницами, что ли? — спросил я Элен. Она как принялась хохотать!
— Ага, — говорит, — специальными мужскими ножницами!
Всем девчонкам в деревне рубили клитор, а про Элен забыли. Так поднялась во весь рост проблема будущего Африки. Началась модернизация. Как это произошло, Элен сама толком не понимает, то есть сначала не понимала, а когда поняла, стала скрывать. Может быть, и правильно, что малийским женщинам рубят клитор, чувственная природа африканки не знает пределов. Например, Элен рассказала мне под страшным секретом, что клитор сделал ее бешеной, и она выучила семнадцать местных языков. Лингвистическая Медея! Кроме того, она возит с собой тривибратора. Элен продела в клиторе три колечка на счастье — она сделала это в Неамее на свое тридцатилетие. Она была в постоянном возбуждении и часто отрывалась от кухни. Лучше вялость, чем блядство, — решили в далекие времена.
— Покажи колечки.
Я сидел на носу пироги, сильно морщась, потому что давил лимон на длинный кусок папайи. Я хотя и подозревал, что Элен — ворованныйклитор вечной женственности, но живых доказательств у меня пока не было.
Она застеснялась.
— Потом как-нибудь, — сказала со смешком.
Понимая, что я набрался контактной метафизики, я хотел оформить ее юридически. Я не собирался быть колдуном, но мне нужно было понять, что откуда берется. Так, если ралли Париж — Дакар, которое я имел странный случай созерцать в Томбукту, — фиктивное ралли, то как быть с журналистами и организаторами ралли, наконец, кто все эти механики-идиоты, которых я увидел в ресторане, и почему мотоциклы неслись по пескам, хотя это практически невозможно?
Дело обстояло вот как. Когда мы с немкой прибыли в Томбукту, я изрек глупейшее mot. Велосипед в Томбукту так же нужен, как щуке зонтик. Помню, mot рассмешило немку. На следующий буквально день на Томбукту накатило ралли Париж — Дакар и доказало, что по пескам можно ездить, как будто кто-то пожелал поиздеваться над моим mot. Что-то смутно подобное бывает и в Москве. Стоит мне только подумать, что я давно ни во что не врезался, так тут же врежусь в столб или в мента. Подумаю: что-то жизнь меня балует, и, будьте уверены, немедленно начинаю блевать, отравившись не какими-нибудь солеными валуями, а самыми невиннейшими шампиньонами. Опережающей мыслью, знающей больше меня, исходящей из будущего, я как будто выбиваю заслонку. Но тут было в сто раз ударнее. Чем объяснить идиотизм европейских механиков, которые вошли в ресторан все одинаковые? Их выдумали нарочно. Да, но если они — конвейерные клоуны, то как объяснить украинцев? О том, что ралли Париж — Дакар прошло через Томбукту, объявили в мировой прессе. Я сам видел. Если это галлюцинация, то как она проникла в печать? И как ее возможно было обокрасть, а ведь плюгавый испанец с Канарских островов мне плакался, что их в пустыне обокрали туареги с пиками? Теперь — украинцы. Когда ралли свалилось на Томбукту, на аэродроме организовали праздник, пропуском на который могла стать любая белая кожа. Там все ходили, организаторы, участники, и я тоже — проверить, не есть ли это видение. Я слонялся по аэродрому и никак не мог поверить ни в реальность, ни в ирреальность происходящего. Скорее всего, это была отрыжка сознания. Например, что-то было отрыто из моей памяти. Там ходил англичанин, который был копией англичанина, виденного мною много лет назад в Москве. Я чуть не окликнул его по имени, и если не окликнул, то только потому, что забыл имя. Далее, все участники были очень маленькие — то есть белые пигмеи, и тоже, как и механики, все одинаковые, по-разному ярко выряженные, но морды — на одно лицо. Это настораживало. Я ходил и смотрел, как они едят телятину, которая им выдавалась нормированно, как они пьют из своих внутренних трубочек, как космонавты, и как дают друг другу интервью. Вдруг посреди поля я увидел АН-72-200, советский старый самолет. Но с украинским флагом. Радости моей не было конца. Пойду спрошу хохлов, живые они или нет. Я побежал к самолету. Из самолета кто-то вылез. Большой, толстый, мордастый — натуральный хохол.
— Хлопцы, фак-офф! — закричал хохол пилоту.
Но разве так кричат хохлы? Нет, так они не кричат. Это какое-то языковое издевательство. Если хлопцы, то почему фак-офф, и вообще, если они улетают, то тогда не фак-офф, а тейк-офф, так я понимаю. И хохлы улетели, не объяснив мне свою природу.
Я уважаю строгость бамакской администрации, их взятые напрокат триединые лозунги: «один народ — одна цель — одна вера», или лозунг столичного художественного училища: «терпение — дисциплина — сосредоточенность», или лозунг общенародной антиспидовской кампании: «верность — воздержание — презерватив». Здесь надо все зажимать, иначе дикость вновь возьмет свое. Рубить клитора и возводить тоталитаризм. Иначе мы все — туареги. Французы явились в Африку с идеями Великой денежнойреволюции 1789 года и взялись бороться за реальность, понимая, что если в Африке она не окрепнет, какие уж тут деньги. Вот она — цивилизаторская база колониализма. И если на местных кладбищах лежат останки сержантов и врачей, то они погибли за три измерения. На малярию гибель списать легче, чем на туарегов. Затем французы заслали в Африку своих писателей, от Жида до Экзюпери, Конрад тоже поехал, чтобы найти слова для закрепления реальности, и те осуществили социальный заказ без зазрения совести. Они дали обет молчания и промолчали. У Гумилева, правда, кое-что есть, но отдаленно, да и понятно, он не был в Западной Африке.
Попытки предостеречь меня от «мистического раздвоения» без должной инициации производились различными средствами. В бывшем турагентстве СМЕРТ заломили такие цены за использование джипа с добрым водителем Яя и моим будущим другом Сури, что деваться было некуда: я готов был отказаться. Подоспел и генеральный секретарь Министерства культуры, который с ностальгией вспомнил социализм. Им, что ли, стыдно за сегодняшний бардак, за вечные опоздания, не соответствующие капитализму? Напротив, у них — космологический порядок, строгая иерархия, шесть колен тайных обществ.
— Откуда знаете? — смутился генеральный секретарь. — Почему ищете встречи с членами общества Коре? Кто открыл вам тайну вибрации как первоначальной роли в сотворении мира?
— Гла гла зо, — спокойно ответил я.
— Зо сумале, — механически ответил он. — Холодная ржавчина.
Негр стал просто совсем никакой. Это был пароль. Я прочитал в его глазах испуг и смертный мне приговор; он его тут же вынес. Они боятся сговора белых с их божествами, чтобы не было мистического неоколониализма. Но я проявил настойчивость. Меня интересовала связь тайного знания с шестью суставами человека.
— Оставьте нас, — пробормотал генеральный секретарь. — Мы такие, как все.
— Конечно, — согласился я, — вы такие, как все. Только и разница, что вы — черные обезьяны с рваными ноздрями, а мы — белые люди.
Не получилось с бюрократией, я обратился к коллегам. Но они оказались новаторами и диссидентами, к «холодной ржавчине» не имеющими никакого отношения.
— Мали — страна плохих мусульман, — самоотверженно сказал писатель Муса К. — Мусульманство — это маска, надетая на наше анимистическое лицо.
— Может быть, самые лучшие мусульмане — это плохие мусульмане? — равнодушно предположил я. — Покажите свое лицо!
Как он обрадовался! Я был уверен, что он передаст мои слова своей единственной жене, по его понятиям, прогрессивной особе. Но лица он мне не показал, да и какое лицо у новатора? Потеря такого лица — одно удовольствие. Сдается, он мой малийский двойник. Муса считает себя продуктом колониализма. Говорит и пишет по-французски куда лучше, чем на родном языке, хотя из страны не выезжал. Я въехал в проблемы гоголевской России, французский язык, атеизм, патриархат. Но власть стариков — это против модернизации. Семьи паразитируют на тех, кто зарабатывает деньги. Поделись, — говорят семьи. Муса раскрылся как просветитель, Новиков и Аксенов в одной ипостаси, автор детских книжек о добрых верблюжатах. Я взвыл от скуки и оглянулся вокруг: все знаковые системы бамакской молодежи — западные: плакатные мотоциклы и красавицы, воля к деньгам, богатство, в далекой перспективе — клиторы. Мировая деревня. Дегенерация. Я хорошо вижу свои заблуждения. Муса принялся объясняться в любви к Достоевскому и Толстому.
Я не стерпел и поделился с Мусой моими чувствами.
Первое острое чувство в Африке — чувство европейского избранничества. Господи, спасибо за комфорт! Оно не исчезает, но трансформируется. Вторым идет чувство бессилия. Ничего не изменится! Живи для себя, самосовершенствуйся. Третье — ломка моногамии. Бамако порождает кризис. Жители говорят одно, а думают другое. Даже молодой хозяин турагентства женится по приказу отца.
— Но я запишусь при женитьбе полигамом, — мстительно говорит он (можно и моногамом). — Вторую жену сам выберу.
Затем — реакция против негров. Да вы все тут ленивые черти! Котел модернизма и традиции, но уже сама разгерметизация культуры смертельна для традиции. Поздно! Мир выбрал модернизацию. Отказ смешон. Потери огромны. Куда ехать?
Вторжение французов было делом всемирного промысла, поворота жизни от природного календаря к индивидуальному существованию. Арьергардные бои Достоевского и поздних славянофилов были обречены на провал. Явление идиотов-механиков, испанского организатора ралли с Канарских островов, который говорит черномазому таксисту в Томбукту: «Давайте будем разговаривать, как белые люди», — месть за утраты. Обмен и вызвал у меня отторжение, которое я принял поначалу за достойный вызов. Это выбор смерти, но поскольку смерть дробится на тысячи смертей, она не кажется столь чудовищной. Приоритет Монтеня. Теперь, когда такой тип самосознания окончательно утвердился и прочие способы жизни кажутся маргинальными, приходится, Муса, признать, что XX век забил дверь в вечность. Будет ли она выломана с другой стороны, если сверхмодернизация перекрутится в новый миф?
— Езжайте лучше в Дженне, — шепнул Муса. Неверный адрес.
Откройте карту. Ведите палец к востоку от Бамако. Трава смешается с песком. Вам встретится город Сегу. Уже в Сегу — бывшем французском колониальном центре, который после колониализма распался, но сохранил нежную красоту франко-суданской архитектуры розовых и зеленых тонов, Сури сложил с себя полномочия надсмотрщика.
— Зачем вы собираетесь взламывать наши коды? — спросил Сури вкрадчивым африканским голосом, одновременно ведя разговор об архитектуре.
Я молчал как партизан.
— Мне велено звонить шефу, но я не буду.
— Каждый развлекается, как хочет, — сказала Габи.
— Надеюсь, у вас чистые помыслы, — пожал плечами Сури.
Он не был раздражен. У большого сенегальского калибасанас ждал Яя. У Яя не было никаких терзаний.
— Ну, чего? Едем? — спросил он. Как всякий шофер, он засыпал тут же, как только джип останавливался.
Дженне — город из застывшей придорожной грязи, великая фантазия обосранного ребенка, где, посмотрев на фекальные минареты, рупоры и деревянные опоры оплывающей мечети, ясно, что жизнь — замурованная в стену невеста, Фрейд — реклама туалетной бумаги, а Гауди — плагиатор и может отдыхать. В остальном же Дженне — азарт настольного футбола, побрякушки, привал гедониста. Я спросил местного имама, что есть рай.
— Рай — это виноград, за которым не надо тянуться, он сам лезет в рот, и женщин — сколько хочешь, и сколько хочешь алкоголя, а что выпито здесь — в рае не додадут.
По большому счету, это печальное заключение для моей родины.
Возможно, когда-то они были рыбами, но когда мы приехали, они выглядели скорее полулюдьми-полузмеями, с красными глазами, раздвоенными языками, гибкими конечностями без суставов. Их зеленые, гладкие, сияющие, как поверхность воды, тела были покрыты короткими зелеными волосами. Они сидели на веранде харчевни и весело ели сандвичи с ветчиной.
— Ты видишь их? — спросил я.
Я не был убежден, что Габи способна следовать за мной дальше, но она была так возбуждена Африкой, она вышла из самолета на маловразумительном аэродроме в Бамако, и сразу надела черные очки, и сразу сказала: «Уф! конец Европе!» — и радостно бросилась в дикость.
В Догон ведет узкая пыльная неасфальтированная дорога. В ее начале шлагбаум, как и везде в странах третьего мира, для сбора податей. Бензобочки, преграждающие путь. Солдат-оборванец поднял шлагбаум. Мы въехали на землю пигмеев, которые куда-то подевались, но догоны — такие же по росту пигмеи. Они пришли сюда с низовья Нила много столетий назад, спасаясь от мусульманства.
В Догоне задери только голову и станет видно: солнце — примус. Раскаленное добела, оно окружено спиралью из восьми витков красной меди. Луну — даже днем — окружает та же спираль, но из белой меди. Звезды — глиняные катыши, заброшенные в пространство. Догоны почитают «собачью звезду» Сириус и ее невидимого спутника, по траектории которого определяют смену поколений — тогда пляши весь год на ходулях! Когда мы вошли в харчевню, к нам навстречу разлетелся метрдотель в красном пиджаке. Габи не выдержала и воскликнула:
— Мсье, вы так элегантны!
Скорее всего, это была ошибка. Борьба с дикарем в Черной Африке закончилась его неумеренным почитанием. Всякий повод хорош для комплимента. Белый выделяет уважение к черному, как пот — в тропических дозах. Это — расизм шиворот-навыворот, выгнанный из сознания в подкорку.
Короче, когда в харчевне показался местный проводник, или тот, кого они послали нам как проводника, атмосфера уже напряглась до предела. Они были обижены тем, что невидимый мир оказался доступным каким-то белым. Во всяком случае, у меня не имелось с собой никакого мандата на гениальность. Когда за столом я громко заговорил о луне, они прислушивались с нескрываемым подозрением. С другой стороны, итальянцы, которых я немало встречал в Мали во время путешествия и которые проходили какими-то чемпионами по невменяемости, смотрели на меня как на шарлатана.
В десять вечера вырубили электричество. Мы пошли спать, и вдогонку нам лаяли собаки.
Наутро пришел проводник.
— Возьмите воды, — сказал он. — Путь будет долог.
Мы шли по каменистой пустыне. Сури плелся за нами. Наконец мы вышли к скалам. Внизу в долине лежала деревня.
— У нас каждый камень может быть фетишем, — сказал проводник, — достаточно вдохнуть в него энергию и принести жертвоприношения.
Он взял камень в руку, подумал и бросил его на землю. Я вдруг почувствовал, как у меня исчезает дешевое презрение к жизни, как испаряется сен-жерменский экзистенциализм, которым за свою жизнь я весь пропах, как свитер — табаком. Нас окружили местные женщины. Они дружелюбно улыбались. Местные приветствия отрывочны и трехступенчаты, как заклинания.
— Соуо? Как дела?
— Хорошо.
— Как родители?
— Хорошо.
— Как дети?
— Хорошо.
— Ну, хорошо.
Я незаметно сфотографировал женщин, и они набросились на меня с криками.
— Это нехорошо, — нелюбезно сказал проводник.
— Кадо! Кадо! — закричали женщины.
— Ты отобрал у них душу, — сказал проводник.
— Что теперь делать? — спросил я.
— Кадо! Кадо! — кричали женщины.
Я достал мелочь. Женщины презрительно рассмеялись. Проводник молчал. Я полез в бумажник. Достал тыщу франков. Они вырвали купюру у меня из рук и побежали.
— Ерунда какая-то, — сказал я. — Неужели душа стоит тыщу франков?
Проводник молчал.
— Если вы смогли победить мусульманство, то почему не победили деньги?
Гид, не отвечая, кивнул на скалы.
— Здесь мы хороним своих мертвецов. Их поднимают на веревках в гроты, а потом приваливают камнем. В наших местах смерть — новость.
Габи нервно захихикала.
— Еще совсем недавно, — посмотрел на нее проводник без осуждения, — состарившись, люди превращались в змей, и они ползали вот тут, по плато Бандиагара. По ночам змеи-предки заползали в жилища поесть, и люди, даже сегодня, как увидят змею, рвут на себе одежду и бросают ей, чтобы та приоделась. Затем змеи превратились в духов-йебанов.
— Ну, этих духов у нас хватает, — сухо сказал я. — А как же смерть?
— Это была сделка, — сказал проводник. — Мы поменяли смерть на корову.
— М-у-у-у! — высказалась Габи, намекая на Хайдеггера, у кого бытие-в-смерти основано в заботе, как брошеное бытие-в-мире присутствие вверено своей смерти, которая есть неоспоримый «опытный факт».
— На корову? — недоверчиво спросил я. — Корова породила смерть!
— Во всяком случае, смерть — это жадность, — сказал проводник.
Мы вошли в деревню. Она состояла из двух частей-близнецов, каждая — соответствовала человеческому телу. Хижины были похожи на белые грибы чуть выше мужского роста. В одних грибах жили люди, в других — овцы, в третьих хранилось зерно. Отдельно стояли хижины, где помещались менструальные женщины. Малые дети с душераздирающими криками, писаясь и какаясь на ходу, бросились от нас врассыпную: мы были белые люди, с содранной кожей, как освежеванные бараны, и детям казалось, что мы пришли их забрать с собой. Мы вошли в одну хижину без всякого приглашения, но нас никто не остановил. На полу лежала нагая женщина со следами смущения на лице. Над ней суетилась зеленоволосая братва, которую мы видели вчера в харчевне. Братья вытягивали у себя из пальцев волокна: они делали матери юбку. Скрученные спиралью влажные волокна, полные сущностиэтих зеленоволосых людей, заключали в себе слово. Мать очнулась и быстро заговорила. Мы вышли. Мне показалось, что земля под ногами пульсирует, что здесь бьется чье-то сердце.
— Какие жертвоприношения любезны вашим богам? — спросила, привычно сделав брови домиком, Габи.
— Да всякие, — лениво сказал проводник. — Мы любим курей, овец, собак.
— А людей? — спросил я.
— Бывает, — ответил гид.
— Белых тоже?
— Когда предоставляется возможность, — сказал проводник с нехорошей ухмылкой. Сури заволновался.
— Каннибализм? — спросил я.
— Дикарь с человеческим мясом между зубов — это колонизаторский миф! — выкрикнула Габи.
— Тут был небесный десант, — сказал проводник. — Когда восьмой предок спустился на землю раньше седьмого, нарушив последовательность, тот пришел в бешенство, восстал против всех, раскидал, понимаете ли, наши семена. Пришлось убить. Мы съели тело, а голову отдали кузнецу.
— Зачем? — удивилась Габи.
— Кузнец вырыл яму, похоронил голову, — ответил проводник.
Габи дико закричала. Стояла ночь. Я схватил фонарь. Осветил помещение. Вцепившись Габи зубами в шею, проводник пытался совокупляться с ней, но что-то ему мешало. Какая-то сила мешала мне броситься немке на помощь. Проводник выхватил нож и срезал Габи клитор, который всегда поражал меня своими размерами. По своей конфигурации он был похож на термитник из здешней саванны.
К утру все это привело к аномалии. Габи родила в сортире на улице непарное существо, шакала, и назвала его почему-то Йуругу, хотя при благоприятных обстоятельствах должны были родиться близнецы. Мы не знали, как быть. Габи кормила шакала грудью, хотела увезти в Берлин, поскольку это ееребенок. Взволнованная мать утверждала, что шакал так же необходим для нормального течения жизни, как и близнецы. Меня растрогали ее материнские чувства. Но, строго говоря, рожденный Габи в то жаркое утро зверь воплощал беспорядок (что было странно для мамы-немки), бесплодие, засуху, ночь и смерть.
Оставшись без пары, шакал в тот же день совершил инцест с Габи, которая от ужаса, пытаясь воспрепятствовать его некрасивой затее, превратилась в муравья и спряталась в собственном чреве, но не смогла убежать. В результате инцеста шакал обрел дар речи, обматерил нас и открыл мудрецам замыслы нашего проводника.
— Я знаю, — возник проводник, перейдя со мной на ты, — зачем тебе нужны пять рек.
Я вздрогнул. В сущности, это была моя тайна тайн, ключ ко всей этойкниге. В системе догонского знания пять рек — основа всех основ. Но я не совсем понимал их значение. Меня уверяли, что под действием напитка конжо, кажущегося, на первый взгляд, догонским квасом из проса, а также плодов колы, с которыми в этих краях ходят женихаться, можно совершать головокружительные путешествия. Но мы не в Мексике, здесь — без допинга. Вселенная по своей конструкции напоминает увесистую фруктовую вазу сталинских времен, состоящую из четырнадцати сфер. Все эти сферы нанизаны параллельно — одна за другой — на железный столб, однако вместо винограда, груш и гранатов на них живут люди. Сферы делятся на семь верхних и семь нижних, и земля — верхняя из нижних миров. Над нами, в верхних мирах, живут рогатые люди, которые посылают на землю болезни, чернуху, под нами — хвостатые. Круглая и плоская Земля окружена ободом из соленой воды, все это вместе, прикусив свой хвост, обвивает змея.
Мы превратились в перелетных мух, садящихся с божества на божество, бестолково, но с видимым самосознанием. Кто мы? Мы — перелетные мухи. Мы перелетали из одной сферы на другую, от рогатых к хвостатым, пока не опустились на соляную поверхность, и время со страшной силой стало разматываться назад, до упора в слово АММА.
Из этого слова, собственно, и произошел мир.
Проводник остановился, отпил воды и продолжал, обращаясь преимущественно к немке:
— Каждое человеческое существо наделено двумя разнополыми душами. Женская душа мужчины устраняется при обрезании, мужская душа женщины — при эксцизии.
Услышав это, немка зарыдала.
— Брось, — сказал проводник на правах бывшего хахаля. — Не все так худо. Человеческая пара, созданная мною, породила восемь андрогенов. Они умели самооплодотворяться. — Проводник показал на пальцах, как это делается. — От них и произошли восемь родов догонов.
— А как же Лебе? — спросил Сури, и мне подумалось, что он похож на молодого Горького и со временем станет классиком малийской словесности.
— Лебе был потомком восьмого первопредка и организатором человеческого языка. Но старый хранитель слова, седьмой первопредок, убитый нами, заманил его под землю — Лебе умер. Седьмой первопредок под землей проглотил Лебе, затем изрыгнул его вместе с потоком воды. На том месте, где находилось тело Лебе, вода покрыла большое пространство, образовалось пять рек.
— Не четыре? — придирчиво переспросил Сури. — Обычно речь идет о четырехреках, текущих в четыре конца света. Взять, например, калмыкскую космологию…
— Да чего далеко ходить, — перебил я. — В начале Библии из Эдема вытекает река для орошения рая, а после она разделяется на четыререки!
— Ребята, пить хочется! — облизнулась Габи.
Ей дали попить.
— Ну, это совсем другое, — вдруг обозлился проводник. — Библия ошиблась. Кости Лебе, выблеванные первопредком, превратились в священные предметы культа, цветные камни — дуге. Они обозначили контур души, который делают Номмо при рождении человека. После того, как восьмой первопредок проглотил потомка, их силы смешались, и Лебе — это новое слово, а пять рексуть символ нового слова.
Mon Dieu! Река как речь, как змея в Дого, не составляет пятикнижье. Четыре реки — неполное знание, пропущенная глава. Вот откуда берется человеческая слабость, вот откуда изъян и разрыв между верой и знанием, не хватает одного потока, вот куда стекла человеческая мысль, греческая, мусульманская, где на персидских миниатюрах изображаются четыре течения воды, наконец, библейская, и тольков Догоне… Ах, как не хватает пятой реки!
Проводник подтвердил мои мысли. Мне стало не по себе.
У каждого есть своя пятая река. Не спи, соберись, не трать время, ищи, дыши, свирищи, никто тебе не поможет, сам найди — не пожалеешь. Найди ее и разомкни цепь: сон-жизнь-слово-смерть-любовь. Нет более заветной (и более пошлой) цепи.
Нашел. Неужто нашел? Похоже, это и есть тот сангам, на который меня навела Индия. Скважина основного мифа. Если замысел угадан правильно, то вот оно — золотое руно.
Да, но как его, собаку, экспортировать? Украдкой? Чем точнее замысел, тем опаснее приводить его в исполнение. Нечеловеческое это дело. Здесь вторжение в правила, с которыми изволь считаться как с обязательными законами.
Заметив мой испуг, проводник усмехнулся.
Мы выехали из Догона в некотором оцепенении. Сури сосредоточенно молчал, занавесив лицо несвежим тюрбаном. Мы страшно пылили красной пылью. Немка дулась. Путь наш теперь лежал в Томбукту, духовный центр государства Мали.
— Дай бинокль, — сказала немка.
Перед отплытием из Мопти в Томбукту мы бродили по вещевому базару, смотрели, как делают пир оги, толковали с кузнецами, зашли в кафе. С высокой веранды были видны моющиеся люди. Это были мальчики и мужчины. Немка балдела.
— Ты погляди, — сказала она возбужденно, — когда мужчины выходят на берег, они прячут хуй между ног. Смешно.
— Габи, — сказал я, — неужели тебя это все еще волнует?
— А что меня должно волновать?
Сури быстро вошел в кафе.
— Капитан сердится, — сказал он. — Пора отплывать, а вы чем тут занимаетесь?
Сердце мое учащенно забилось. Мне представилась встреча с капитаном. Яя отвез нас к пироге и распрощался. Он возвращался в Бамако. Мы подошли к моторной пироге, или пинасе. Нам предстояло плыть на ней три дня. По доске прошли и сели. Двое курчавых пацанов в одинаковых белых пальто и черно-белых клетчатых штанах, очень грустные, предложили свои услуги.
— Батюшки! — перепугались они, вглядевшись в меня, с зеленой шапочкой на голове и в черных очках. — Каддафи приехал!!!
В Африке все на кого-то похожи.
— Да вы и сами — вылитые Пушкины! — рассудил я.
— Мы помощники капитана, — отрекомендовались повеселевшие трупные пятна моей культуры. — Добро пожаловать!
— А я Элен — повариха, — сказала застенчиво черная женщина и блеснула зубами.
Капитан сидел в отдалении, ближе к корме, у руля. Это был черный человек в нелепых черных очках за три копейки с какими-то неприятными узорами на дужках и в дешевом спортивном непромокаемом костюме. Он помахал нам рукой, но даже не привстал. Я был несколько разочарован его видом. Впрочем, я уже в Индии заметил, что чем дальше я отрывался от западной цивилизации, тем бледнее становилась личность капитана. Она почти растворялась в окружающей среде: в Индии — по аскетической вертикали, в Африке — по природной горизонтали.
Капитан завел мотор, мы поплыли. Мы плыли по молочно-зеленой воде Нигера в середине января, в середине месяца Рамадан. Нигер — благодушная река. В ней нет истерии. Она река рек. Она река крови, но в мирном смысле, то есть артерия. После Догона только так и хотелось. Река осмысляет пейзаж и делает его бесконечным. Каждый пикник у реки (фотография нарождающегося среднего класса во Франции, тридцатые годы XX столетия, женское белье на женском толстом теле) отличается от пикника без реки. Нигер между Мопти и Томбукту имеет неожиданную внутреннюю дельту, над происхождением которой ломают головы географы. Река распадается на рукава, сливается в молочно-зеленое внутреннее море без берегов, а после вытекает из моря стройным потоком без всяких причуд. Богат и разнообразен мир пернатых. Меня поразили длинношеии аисты, которые, взлетая, складывают шею, как столярную линейку, в несколько раз. Нигер, с другой стороны, дает примеры минимализма. То угостит стаей обезьян, и больше их никогда не покажет, то выставит крокодила (но я не буду врать, крокодилов не видел), то скромно положит на отмель дюжину бегемотов. Они — зорче матросов, с прозрачными фиолетовыми ушами, с большими ноздрями.
— Ноздри, как у тебя, — сказала немка. — В них танк пройдет.
— Редкая женщина долетит до середины Нигера, — незлобно отмахнулся я.
Кстати, Мали — в переводе и есть бегемот. Мясо бегемотов коптят. В таком виде его можно хранить в течение нескольких месяцев. Африканцы — прекрасные охотники. Техника охоты на бегемотов осталась до сих пор такой же, какой ее описал еще Ибн Баттута в 1352 году, путешествуя из Томбукту в Гао, и я не буду повторяться, скажу только, что загарпуненное животное мы с немкой тоже добивали копьями. Но это так — вскользь, а вообще наибольшую ценность представляет нильский окунь (lates niloticus), или иначе капитан.
Капитан — главная рыба Нигера. Он очень приятен на вкус, действительно напоминает нашего окуня и весит 10–20 килограмм, но, бывает, доходит до 100. Мы останавливали встречные пироги рыбаков с длинным шестом (как они ловко им орудуют!) и покупали свежайшего капитана. Элен оказалась классной поварихой и приготовляла капитана во всех видах, под разными соусами, с разными травками, натирала капитана петрушкой, киндзой, сельдереем, ладаном, мариновала, солила, боготворила, жарила на гриле. Мы все ели капитана с утра до вечера и очень хвалили Элен, а она улыбалась.
По берегам Нигера широко распространены разнообразные термиты. Пейзажи сахеля пестрят их постройками, высотой до полутора метров. Отойдя от шока, Габи осторожно раздвинула губы.
— Потрогай! Он вернулся ко мне! Мой петушок вернулся! — от счастья заплакала Габи.
На радость мне, она тонула во всех пяти реках. Мы были чужие друг другу люди, попадавшие в аргонавтныеусловия вынужденной близости. Каждый по-своему бездомный, несчастный, растерянный. Я люблю ее точные лесбиянские руки, шарящие по утрам мои соски. Она — разложение женской массы, выделение мужского начала, распространение волосяного покрова, щетина на ягодицах, затвердение молочных желез, отказ от деторождения, острый интерес к молоденьким графиням, развивающийся алкоголизм, перенос интереса в анал, тяжелая шишка сфинктера, раздробление принципов, потеря половой идентификации, генетическая катастрофа, гормональный бред, продукт века, его наказание.
Я аккуратно потрогал указательным пальцем. Не хилый, и даже залупается, как детский пенис. Не сразу сообразишь, где кончается большой клитор и начинается маленький хуй. Боюсь ошибиться, но клитор Габи, по-моему, и есть посол на хуй.
Мы с ней панически боялись (ой, просто тряслись), но не мухи цеце, с которой медицина довольно успешно борется, а одного водяного невидимого микроба, который живет в стоячей воде Нигера всего двадцать секунд и за это время ищет, куда бы ему внедриться, и если человек купается или просто стоит как дурак, то микроб в него попадает, как пуля, и после этого у мужчин отпадают все половые органы в буквальном смысле этого слова. У женщин тоже все отпадает. Во всяком случае, у Габи, как теперь всем известно, есть чему отпасть. Солнце заходит здесь ровно в шесть вечера, и начинается тьма. Первую ночь мы ночевали в палатках. Сны в пустыне похожи на медленно разворачивающиеся оперы с длинными ариями, хором, множеством действующих лиц, оркестром и декорациями из реквизита Большого театра.
Лежишь, приложив ухо к пустыне, вслушиваешься в подземные саги земли и содрогаешься. Я такие безумные сны видел только раз, на Тибете, и во время болезней. О чем эти сны? О скоротечности времени, Страшном суде, разлуке с любимой женщиной, человеческой бездомности, мало ли о чем. То в одной одноместной палатке, то в другой в ужасе орут сонные люди. То капитан заорет, то помощники-Пушкины, то верный наш Горький, то повариха Элен. Под утро, часа в четыре, ко мне в палатку с ревом влетела немка, ей приснилось, что она разрушила в Германии всю налаженную систему социального страхования.
Не успела она успокоиться, как до нас донеслись неопределенные звуки воя. Они приближались. Надо сказать, что когда мы выходили на берег, я фонарем осветил какое-то большое скопление белых костей и даже успел пошутить по этому поводу, но тут призадумался. Когда же чьи-то хищные морды стали тыкаться в полупрозрачную, фактически, эфемерную для хищных зубов палатку, то Габи узнала в непрошеных мордахшакалов. Поскольку Догон снабдил ее дополнительной информацией об этих мерзких животных (информацией, которую мы с ней сочли правильным не комментировать), а, кроме этого, она, может быть, даже еще пахлашакалом, сомнений не оставалось. Мы поджали ноги и затаились. В соседних палатках тоже закончились храп и кошмарные крики. Наступила человеческая тишина.
— Сури! — крикнул я на весь сахель по-французски. — Чего делать-то?
— Ш-ш-ш! — был несчастный ответ.
Но вдруг раздался громкий выстрел. Это как-то сразу приободрило меня. Оказывается, капитан захватил с собой огнестрельное оружие. Раздался вой испуганных зверей. Затем топот. Мы выскочили из палатки с фонарями. Капитан гнался за шакалами с палкой наперевес. Враги ретировались. Мы сели у костра.
— У меня просьба, — сказал капитан, который, несмотря на тьму, оставался в солнечных очках за три копейки.
— Не болтать о Догоне? — не выдержал я.
Капитан почесал нос.
— Я тридцать лет, и никогда такого, — сообщил он. — Давайте перейдем спать в пирогу. Там на дне, конечно, не фонтан, но зато безопасно, как в чреве матери.
Кудрявые помощники перенесли Габи на своих тонких руках на судно, храбро бредя по стоячей микробной воде.
— А это верно, что у русского президента обезьянье сердце? — спросил капитан, когда мы расставались с ним навсегда на пристани неподалеку от Томбукту.
— Как обезьянье?
— Да тут все говорят… Вы не обижайтесь, — сказал капитан. — Обезьяны — они нам ближе собак.
Посещение Томбукту есть уже само по себе его похищение, и любой отъезд из Томбукту напоминает бегство. Отсутствие дорог имеет принципиальное значение и не обсуждается. Каждый белый, посетивший Томбукту, достоин смерти. Я увидел себя в Томбукту как запечатанную сургучом бутылку и благодарил Господа за Его милость и покровительство.
— Кто вы? — спросил я стариков на паперти мечети.
— Мудрецы, — сказали они. — Нас здесь триста тридцать три человека.
Теперь я знаю, что в три часа ночи по Томбукту проносится белая лошадь со всадником, приближенным к совершенству.
Мы бежали из Томбукту ранним утром, предприняв дерзко-трусливую переправу через Нигер. Новый шофер Мамаду оказался не слишком разговорчивым. Более того, несговорчивым. Мы пробивались на юг через пустыню с этим новым арабоподобным водителем. Мы вместе с ним вязли и пропадали в песках. Мы меняли ландшафт, как масти карт, нам выпадала то красная, то желтая, то черно-асфальтовая пустыня, она была то сыпучей, то каменной, внезапно выросли наросты диких гор и финиковые пальмы, мы доверяли водителю, не зная, что он и есть наш палач.
Городишко Гао — одно недоразумение. Он разлинован, как Манхэттен, и в нем даже есть ресторан «La Belle Etoile», но это не мешает ему быть захолустьем. В Гао самый рогатыйрогатый скот. Он не боится машин. Я потер воспаленные глаза. Ночная Африка — континент беспощадного неонового света. Обложившись керосиновыми лампами, я медленно читал перед сном роман Достоевского «Бесы».
Арабообразный водитель сдал нас полиции на опасном в военном отношении участке дороги Гао — Неомей, возле границы с урановой республикой Нигер без всякого сожаления. В порядке аргументации против нас он привел наши паспорта, в которых не значились въездные и выездные визы не только из Томбукту, но даже из Гао.
— Да вы что? Вопреки всем уставам!
Сержант покачал головой.
— Ведь вы не простые пассажиры! Вы — туристы!!!
Сержант сделал большие глаза и объявил нас врагами малийского народа.
— Се n’est pas serieux, — пробормотал я фразу, оскорбительную для каждого уважающего себя негра.
— Да у вас и паспорта фальшивые! — вдруг выкрикнул он мне в лицо, вращая глазами.
С каждой минутой он накалялся все сильнее. Он говорил, что у него нет никакой возможности держать нас под стражей, поскольку у него нет охраны и что самое разумное дело — нас умертвить и трупы отправить в Бамако на экспертизу. Он предложил мне согласиться с его проектом как наиболее гуманной акцией. До границы оставалось всего-то пять километров, и мне стало обидно погибнуть зазря.
Однако шофер Мамаду не хотел, чтобы я уезжал с тайным знанием, опасным для метафизической безопасности не только сахеля, но и всей Африки. Если Элен и Сури симпатизировали нам, то Мамаду был воплощением ненависти. Когда он отошел пописать, а сержант пошел к проезжавшему грузовику, чтобы украсть дрова на костер, Сури шепнул мне, что с Мамаду нужно поговорить на языке африканского братства.
— У Африки пока нет будущего, — заметил Сури, человек двух миров.
«Отчего шофер плох? Отчего хорош Сури?» — взгрустнул я.
С точки зрения мусульманства, Мамаду писал еретически, потому что он писал стоя, а не сидя на корточках. Пописав, он немедленно совершил омовение члена из пластмассового чайника с веселенькими полосками и повернулся в нашу сторону, цинично застегивая штаны.
— Мамаду, — сказал я, — предложи сержанту деньги.
— Я не твой раб, — ответил араб, — чтобы выполнять твои команды.
Я видел, как сержант, зевая, ушел за рожком автомата, чтобы нас расстрелять.
— Мамаду, — сказал я. — В этой истории есть только два раба: она и я. Вот тебе моя братская рука. Выручи.
— Я спросил небеса и Бога, — сказал Мамаду, — и они мне ответили: нет!
Вернулся сержант с автоматом. Вид его был свиреп и ленив. Скотоводы — равнодушные убийцы.
— Ну что, пошли? — сказал он.
Мы зашли за угол дома. Сержант выстроил нас у стенки. Габи стала презрительно улыбаться. Она схватила меня за руку. Казалось, это ее успокаивало. Я стал тоже кое-как подражать ей в презрительной улыбке, хотя мне не очень хотелось держаться за руки. Женская любовь не боится смерти, не то, что мужская, к тому же сердце мое принадлежало Лоре Павловне.
Сержант поднял дуло автомата. Мамаду с удовольствием встал в стороне, изображая любопытную толпу.
Как всегда, сцена расстрела обросла ненужными жанровыми деталями: блеяли овцы, кукарекали куры, вдалеке прыгали дети, было жарко.
— Подожди! — к нам со всех ног бежал Сури. Вид у него был растрепанный. — Расстреляй лучше меня!
Сержант в недоумении оглянулся.
— Твоя бабушка — сестра моей бабушки, — кричал Сури. — Застрели меня!
— Какую бабушку ты имеешь в виду? — заинтересовался сержант.
Они заговорили о чем-то своем.
— Mon amour, у меня красивые волосы? — спросила Габи.
Никогда в жизни я не встречал более отвратительных волос.
— Шпрахлос! — ясно ответил я.
Мамаду грязно выругался, швырнул ключи от джипа на землю и пошел в сторону своей родной деревни. Я выдержал паузу.
— Сколько? — стараясь держаться хладнокровно, спросил я сержанта.
— Почему ты меня никогдане целуешь? — молвила Габи.
Мы сторговались на сумме, равной примерно пяти долларам США.
Когда и где двукрылый флеботом укусил Габи, кто теперь знает, но укусил, и она заболела смертельной формой палюдизма, то есть тропической малярией.
— Ты похожа на трехзвездочный «Гранд отель», в котором поселились непрошеные гости, — печально сказал я, глядя, как она умирает.
— Ты всегда недооценивал меня, — сказала она, стуча зубами от лихорадки.
— Ну хорошо, четырехзвездочный, — согласился я.
Как в самом нежном колониальном романе, ее взялась выхаживать африканская семья, родные и близкие Элен. Они кормили ее с ложечки геркулесом и натирали разными мазями.
Кровать Элен — четырехспальная. Вкус варварский. Голубой дневной свет. Большая бутылка «Джона Уоркера». И какой-то мотоцикл на серванте. Молодой длинноногий французский доктор вошел.
— Ну, раздевайтесь.
Несмотря на малярию, Габи, как всегда, стремительно обнажилась.
— Он залезал мне пальцем в пизду, — божественно шептала Габи.
— Правда, что ли? — не верил я.
— А потом в попу. При чем тут правда?
Мы с Элен млели. В комнате моей гостиницы Элен собрала остатки завтрака, кусок багета и разорванный абрикосовый мармелад, в пластмассовую сумку, затянулась бычком и удалилась.
Тридцать шесть — тридцать девять. И опять через полчаса тридцать шесть. Так сердце долго не выдержит. Умирание Габи чудесным образом воскресило ее в моих глазах. Русское слово — чудесно; русское чудо — словесно.
— Путешествия… Чтение о них… бесконечно… — бредила бедняжка.
— Доктор! — бросился я за ним. — Она не умрет?
— Либидо не умирает, — заверил француз. — Мсье, вы распустилисвой фантазм.
— Как? Неужели Габи — нос майора Ковалева? — ужаснулся я своей догадке. — Майор Ковалев в Африке — это я.
— Русский военный атташе? — встрепенулся доктор Ив Бургиньон, не знакомый с литературной историей русских носов. — Хотите виски? — спросил доктор Ив Бургиньон с сильно выраженным сомнением. — А знаете, Африка рванет через три-четыре поколения. У нее лучшее будущее, чем у России… Нет, конечно, французы форсировали модернизацию, нарушая естественные законы движения, кроме того, сами французы ничего не умеют делать, они бюрократы, пользующиеся трудом других людей.
— Это тоже талант, — заметил я.
— А русские товары! — братья Элен заулыбались. — Мы как-то приобрели русский радиоприемник! на лампах! Боже, что это была за вещь! вы не умеете доводить дела до конца! Топорная работа! — братья Элен захохотали, кушая кускус своими чистыми пальцами.
Русский глаз, как орел, схватил эту варварскую привычку.
По ночам я шатался по кабакам Неомея, наверное, самой горючей ночной столицы Африки. Кто был в тех притонах, кто плясал, резко выпив джина без тоника, под тамтам и электрогитары, тот знает запах африканского пота, тот помнит красоту неомейских проституток, их щиколотки цвета болотной воды, их ритуальные шрамы на ягодицах.
От вяжущей страсти дымят и лопаются презервативы, как шины гоночного автомобиля.
Меняя бубу на короткие юбки, Элен зверски плясала, отставив попу.
Габи стала желтым пергаментом.
Африканцы удивительно деликатны. Они скрывают свои туалеты и свои кладбища. Только раз, исколесив Мали, я наехал на мусульманское кладбище с остроугольными, как битое стекло, камнями (их не разрешено показывать не мусульманам). Христианские кладбища как будто напоказ.
В стране уранового рая на столичном христианском кладбище есть могила. На ней написано:
Элен врубила свои вибраторы.
— Транса нет, — сказал Ромуальд на веранде собственного дома в Порто-Ново с видом на мощный океан. — По крайней мере, в твоем случае.
Они все считают мой случай тяжелым, почему-то их всех трясет от моего случая.
Из военизированного Нигера на такси-брусс курями и с баранами несчетных попутчиков на крыше я прорывался к океану (с прозрачной куколкой Габи на руках) через мягкое государство Бенин, колыбель самой активной из мировых религий.
Я вырвал у Элен три кольца.
Элен меня надула. На базаре я хотел купить серебряный браслет, дал ей деньги, она сказала одну цену, а браслет стоил меньше. Смутилась, но быстро отошла. Она ухаживала за Габи самозабвенно, но каждое утро врала что-то новое. Зачем? Так это и осталось невыясненным.
Немка болела физическими болезнями, а я — метафизическими. Я подумал, пора бы отмыться от контактной метафизики, и обратился к Ромуальду, местной знаменитости, но он меня отшил.
Ромуальд — молодое гниение Западной Африки, авангардистский банк червей. Он делает маски из отбросов: пластмассовых канистр и старых радиоприемников. Его message прост, как правда, и правды там столько же, сколько в медицинском фантазме Габи: нынешний афро-русский народ нафарширован западным мусором. Негр выпрыгивает в этих кощунственных маскахкак карикатура. Замаливая перед родиной грехи, мы с Ромуальдом рисуем закат над Нигером. Солнце падает за горизонт со скоростью мяча. Упав, оно еще долго испускает жемчужный свет, мягко переходящий в жемчужно-серый, в серебристо-серый, зажигается первая звезда, и небо темно-синеет, сине-чернеет… На двоих пишем минималистские полотна на грунтовке из настоящей красной земли и там выводим разные символы. Это делаем со значением и хмуря брови. Драма не художников, за которыми гоняются с ритуальным криком проклятия ОМА! ОМА! — а авторской искренности. Ломает парней.
Рыбаки на пирогах становятся похожими на вырезанные из картона фигуры. Русские сливаютв негров все свои дурные качества: лень, зависть, хитрость. Нет ни одной русской девушки, которая не боялась бы негра как класса. Положа руку на сердце, Россия — самая расистская страна на свете.
Минутное малодушие. Увидев в глухой деревне, посреди ярко-зеленых калебасоввудунский фетиш Чанго, местного Перуна, облитый куриной кровью, я признал веру эманацией страха.
— На четырнадцатое июля, — торжествующе сказал Ромуальд, — в самый разгар сезона дождей, французское посольство в Бенине заказывает вудунского колдуна. Он приезжает из деревни, устраивается в сторонке на табуретке, и — небо расчищено для фейерверков в честь взятия Бастилии! Это повторяется из года в год, внесено в расходную статью посольства, стоит пятьсот долларов.
— А у нас мэр Москвы по-мудацки посыпает тучи солью, — рассказал я. — Познакомь с колдуном!
— Мы — ого-ого! — заликовал Ромуальд, но вдруг сник. — Главные наши вудунские вожди коррумпированы. Деревня еще держится, а эти сукиездят с эскортом мотоциклистов.
Он сплюнул на пол. Океан шел стеной.
— Никуда из Бенина не поеду! Я не ходок по музеям! Я был тридцать семь раз в Германии! Мне нечего делать в Москве!
— Москва сейчас — самый интересный город в мире, — скромно сказал я.
— Ты ешь людей! — злобно развернулся Ромуальд в мою сторону. — Они хрустят у тебя на зубах. Ты выпиваешь их, как устриц!
— Мне кажется, ты для русскогоне существуешь, — сказала французская жена художника выздоравливающей Габи.
— Я — художник. Я — африканец. Но я не африканский художник!
— У писателя тоженет прилагательных, — сказал я художнику.
— Он царь, не трожь его, — сказала мне Габи.
За ужином царь сказал, что в любой момент может улететь в Европу бизнес-классом на Сабене, у него виза многократная.
Я посмотрел на Габи.
— Ты не человек, — сказал я ей на ухо. — Ты — феминистский гвоздь.
Король Побе — самый справедливый король. Он правит мудро в своей провинции, на границе 100-миллионной бандитской Нигерии, которую все в Западной Африке боятся. У него подданные верят в разных богов, одни — в Христа, другие — мусульмане, остальные — вудуны.
— Не понимаю, кто тут у вас Бог, — спросил я короля.
— Бог — един, — гостеприимно сказал король.
Я привез королю большую бутылку шотландского виски и 50 штук шариковых ручек «Бик» для детишек. Король был тронут. Мы сфотографировались.
— Как мне вас называть? — спросил я короля.
— Зовите меня просто кинг, — сказал король.
— Кинг, — сказал я, — путешествия по разным культурам расшатывают нервы и моральные представления. Нормы оказываются чистой условностью. На мне, как на колючей проволоке, висят клочья разных вер. Что хорошо в Африке, в Европе — беда. Нужно почиститься.
Я сидел перед королем на лавочке, а он сидел на троне в королевском дворце, немножко, конечно, похожий на председателя колхоза, но только совсем немножко. Во всяком случае, люди падали перед ним на колени, и посольский шофер — африканец — тоже радостно упал и пополз.
— Кинг, вы смерти боитесь?
— Конечно, нет, — ответил король. — Потому я и король.
Они делают надрезы на ступнях, и змеи их не кусают.
Король быстро собрался в дорогу, и мы вышли из королевского дворца, поехали в деревню на двух машинах (у него вместо номера надпись: Король Побе), но не успели отъехать, как король остановился, и мы купили ему три литровых бутылки бензина.
В Обеле, так зовется деревня, граница между Бенином и Нигерией петляет среди курятников, алтарей и амбаров. Жители этой потревоженной государственности заходятсяи заговариваютсяна смеси английского sit down! и французского asseyez-vous! по приказу кинга, которого поят вместе с нами болотной водой вместо хлеба с солью. Срочно чинят сломавшееся ночное солнце, подвешивают его на дереве, и женщины дико вопят об открытии церемонии.
Шеф деревни, он же главный колдун — Абу. Лицо Абу не устраивает ни один из доступных мне дискурсов. Оно искажает синтаксис до неузнаваемости, похожей на грубую компьютерную ошибку программной несовместимости. Вместо букв экран покрывается неведомыми значками, глумливой иерографикой, о существовании которой в родном компьютере я не догадывался. Ритм трех тамтамов и рисовой супермешалки достигает космической частоты. Наконец, ударили в калибасы, и вся деревня бросилась в танец в позе перегнувшихся в талии ос. Единственная забота колдуна Абу — мое возвращение. Если жители деревни поднимаются-спускаются, как по лестнице, мое «Я» может заплутать в топографии. Приходится проконсультироваться с Атинга, определить с заступникомпрогноз на ближайшее будущее, что сопровождается подключением еще двух колдунов в тонких женских трансвеститных платьях. Мне проливают на голову прозрачный напиток и всматриваются в судьбу. Сначала идет нижний ряд успехов и неудач. Затемняя мое семейное будущее, они отрывистыми жестами и словами троекратно сообщают мне о готовящемся кинотриумфе. Затем берут мою душу на более тонкий анализ, и я чувствую, как она вздрагивает в их руках. Обменявшись со мной четырехкратнымрукопожатием с учащенной перестановкой кистей и пальцев для приведения энергии в адекватное состояние, колдун, наконец, мягко запускает меня.
Транс.
Описание транса.
Я вхожу в транс.
Немка входит в транс.
В красно-белых одеждах и колпаках.
Обильное выделение пота.
Оторванная пуговица.
Жертва французского империализма.
Натрудившийся колдун пьет джин.
Становлюсь очень сильным.
Вот схема полета.
Капитан устроил коктейль по поводу нашего визита.
— Ну, и где виноград? — огляделась Габи.
Зала напоминала советское посольство былых времен. На стенах висели натюрморты второстепенных художников.
— Какие ужасныекартины! — прошипела немка, но так, чтобы слышали все.
— Даже здесь, — с любовью сказал я, — ты готова, жертвуя хорошим тоном, бороться за хороший вкус.
После коктейля капитан дал обед.
— Капитан! — закричал я в ответ. — Что вы такое говорите! Вы же высшая инстанция, все видите сверху! Что вы так раскипятились? Уймитесь! Я сам против исключительности России, но к чему эти антирусские настроения?
— Ладно, — вступилась вдруг Лора Павловна, — зато как поют! Русские, турки, болгары, румыны, наконец, украинцы — все эти люди на восток от Европы — у них такие певцы. Возьмите хотя бы Шаляпина!
— Зачем вы, Лора Павловна, нас сравниваете с турками? — не выдержал я. — Дополнительное оскорбление.
— Вот именно, — сказал капитан, — а с кем вас прикажете сравнивать?
— Да ты сама — волжская буфетчица! — закричал я на Лору Павловну. — Родная, не ты ли, вылезая на пристани из моей машины, хотела прикрутить окно с внешнейстороны?
Все расхохотались, и Лора Павловна, почему-то довольная, тоже.
— Русские — это фальшивые белые! — закричала на меня Лора Павловна.
— Поганки, — хохотнул капитан. — Помиритесь.
Вокруг нас радостно собрались мертвые люди, много знакомых и дорогих лиц. Одна маленькая женщина, никак не умевшая в жизни стареть, знакомая моих родителей, протиснулась.
— А ты-то как тут очутился?
Она просунула мне в руки свою книгу о Мали, изданную когда-то издательством «Мысль».
— Я знал, что вы придете, — сказал я. — Я чувствовал и общался с вами в пустыне.
Она улыбнулась с легкой грустью. Впрочем, они выглядели празднично. Казалось, сейчас начнется праздник, растворятся двери, и мы все куда-то пойдем. Вместе с тем, я беспокойно сознавал, что мне надо что-то спросить, пока не поздно, что этот фуршет готов закончиться каждую секунду.
— Помните Апокалипсис? — по-светски спросил меня помощник капитана, в котором было действительно нечто пушкинское. — Там говорится об иссякновении рек воды живой.
— Неужели и Пушкин — ваш человек? — тихо спросил я.
— Вы — нашчеловек, — приблизился капитан, обнимая помощника за талию.
С неожиданным подозрением я взглянул на обоих. Капитан закружился в вихре гостеприимства. Он протанцевал с Лорой Павловной тур вальса, затем хватил водки с шампанским, и они заплясали рок. Помощник с дьявольской галантностью уволок Габи на танец. Габи выглядела польщенной. Она вспомнила юность, когда танцевала topless в ночных кабаках Западного Берлина, и показала такой класс, что гости зашлись в экстазе. Я яростно ей аплодировал. Но и помощник не отставал от нее. Он выдал свою рейнскую чечетку. Затем они слились в танго, и помощник, как истинный соблазнитель, водил ладонью по ее узкой длинной юбке, по чуткому, чуть декадентскому бедру.
— А вы — настоящий поэт, — сказала ему Габи, млея от удовольствия. — Я никогда не забуду вашей кассеты с принцессой.
— Вы — моя принцесса! — признался помощник на весь зал.
Габи таяла в его руках. Сойдясь в восторженных отзывах об инсталяциях Ильи Кабакова, они вместе куда-то исчезли, и мне представилось, как они целуются со стоном, взасос в конце коридора, в мужском загробном сортире.
— В пляшущих богов все-таки легче верится, — флегматично заметил я, столкнувшись с помощником перед баром в очереди за выпивкой.
— Я думал, вы смелее, — усмехнулся он. — Вы почему умолчали о том, как на Миссисипи в ванной вы писали в лицо вашей спутнице?
— Ей так захотелось, — смутился я.
— А когда вы нассали ей в рот и она захлебнулась, вы с отвращением задернули занавеску.
— Не для печати, — покраснел я.
— Живодер! — не унимался помощник. — Она от любви вся извелась, весь ее текст — любовный манифест, а вы… вы ей — в рот ссыте!
— А все началось с того, что вы на Волге в нее как мальчишка влюбились! — раздался голос капитана.
— Ладно вам, — сказал я. — Я же не спрашиваю вас, почему вы оба ни черта не понимаете в судоходстве.
Они оторопели от такой наглости.
— А что, неправда? — не унимался я. — Матросики! Ну, скажите мне, что такое фок-рей?
— Лажаемся, — удовлетворенно констатировал старпом.
— Гуляет! — обрадовался капитан. — Вот она — узурпация человеком божественных функций!
— Да нет, — осекся я. — Извините. Я не убивал негра в Нью-Йорке, — неожиданно покаялся я.
— Ну-ну, — сказал помощник капитана.
— Капитан, — не выдержал я, — почему парность — основной принцип существования?
— Оставайтесь здесь, и вы все поймете, — сказал капитан. — Не спешите раньше времени.
Я невольно посмотрел на часы.
— Пора, — сказал я.
— Пять рек, — хитро сказал капитан. — Не расплескайте!
— Может, останемся? — обольстительно сказала немка.
Мы выскочили из дома. В саду стояла дикая жара. Влажность была стопроцентная.
— Посмотрите, какая у меня biche, — сказала Лора Павловна. — Иди сюда, моя девочка.
Она погладила маленькое животное и улыбнулась мне.
— На тебя пролился светлый свет бытия. Ты, дурак, это понял?
— Серьезно, что ли? — Я уже не знал, чему верить. — Лора Павловна, — как дураксказал я, — до свидания. Я вас жду.
— Der Tod ist vulgar! — Из форточки с треском высунулся старпом, пока женщины неловко прощались друг с другом. — Не отпущу!!! — Он разодрал на груди мокрую от пота тельняшку.
Габи приветливо замахала ему рукой.
Машина рванула по просторному проспекту Котону, который был похож на Елисейские Поля. За рулем сидел взволнованный секретарь российского посольства.
— Опаздываем, — сказал он.
Мы примчались в аэропорт, в кафе меня ждали молодой писатель Камий и еще какой-то человек, учившийся в Москве. Они бросились ко мне, но дипломат закричал отчаянно:
— Уже закончилась регистрация. Бегите.
Большой самолет Сабены уже запустил моторы, беря курс на Уагадугу.
— Вы опоздали, — сказала африканка.
Недовольная африканка взяла билеты с нескрываемым отвращением. Носильщик свалил на весы пыльный багаж. У трапа самолета таможня вдруг принялась копаться в личных вещах. Таможенник изъял у меня из портфеля калибаспальмовой водки, самогонный подарок короля, заявив, что этонельзя вывозить из Африки. Я с тоской посмотрел на бельгийских стюардесс в зеленых юбках.
— Отдайте мой калибас, — потребовал я.
— Вы нарушаете закон, — сказал таможенник.
Отодвинув таможеника, моя спутница прочно завладела посудой.
— Это верно, что путешествия укорачивают жизнь? — Она по-русски засосала из горла пальмовой водки.
— Да! Но пятая река.… — Я взболтнул бутыль и принял в свой черед, переиначив немецкий посыл: — делает жизнь практически бесконечной.
— АММА! — воскликнули мы с Лорой Павловной, восходя к началу начал, поднимаясь по трапу, дыша друг на друга дивной сивухой.
Не менее дивныеподонки достались африканской бюрократии.
1996–1998
Бог Х
Небо по колено
Всё будет хорошо
— Приближаемся. — Григорий краем глаза следит за сказочным парком за оградой. — Где это мы?
— Нигде. — Татьяна мягко улыбается одними только синяками под глазами, ее веки не сомкнуты, и хорошо видно, что яркие пятна Ларше у Татьяны треугольной формы. Своими основаниями ее треугольники обращены к роговице.
— Как ты себя чувствуешь?
— Нормально. Только немного холодно.
— Коченеешь? — Григорий трогает ее за щеку. — Потерпи. Уже недолго.
— Григорий! — Татьяна неподвижно смотрит ему в глаза. — Не унижайся. Ты держись. Ты — мужчина. Ты не унижайся, Григорий.
— Ну что ты, что ты, — успокаивает ее Григорий. — Твое охлаждение возникает вследствие прекращения теплообразования.
— А какое у нас оно было, ты помнишь, это теплообразование, Григорий!
— Что было, то было, — соглашается он. — Большое теплообразование!
— А ты удиви меня, — просит Татьяна.
Из сократившихся артерий ее кровь сонно переходит в вены.
— Конечно, я сейчас, я удивлю. Это ничего. Твоя температура понижается на один градус в час. Какой парк, Татьяна! Ты посмотри на эти пещеристые места, которые при помощи ножек срастаются с ветвями.
— А ты нажми, нажми на эти пятна, ведь цвет кровоподтека не меняется.
— Да вообще, если тебя перевернуть, пятна переместятся на противоположную поверхность тела.
— Переверни меня, Григорий, пожалуйста, переверни.
— Ты посмотри, какой парк!
— Ничего особенного. Он какой-то весь грязно-зеленый и как-то странно пахнет.
— Это ничего. Это распад гемоглобина, Татьяна.
Кишечник Татьяны резко вздувается газами.
— Такое впечатление, что я беременна. Я можно, ты мне позволишь, я выпущу газы?
— Попробуй.
— Откуда этот хруст?
— Какой хруст? — настораживается Григорий.
— Как будто хрустят новенькие ассигнации. Боже, как я любила деньги!
— Кто же их не любил. Я буду стрелять, ладно, Тань?
— Ты вруби похотник.
— Врубаю!
— Стреляй, Григорий!
— Погоди… — Григорий вытирает пот со лба.
— Вот сейчас, как только въедем в ворота.
— И ты выстрелишь? Пузырьки газа раздвинут мои тканевые элементы, превратят мои мягкие ткани и органы в губчатые, пенистые образования.
— Мне не мешает этот хруст. Совсем не мешает. Меня не волнует общественное мнение. Мне все равно.
Вздутие тканей Татьяны тем временем увеличивает ее объем. Гигантизм Татьяны в сознании Григория не знает никакой меры.
— Это ничего, что я полюбила другого человека? — шепчет она.
Стенки желудка и пищевода склоняются у Татьяны к самоперевариванию, их содержимое обещает вытечь в брюшную полость. Под влиянием желудочного сока в Татьяниной скороварке тела за какие-нибудь пятнадцать-двадцать минут переварятся селезенка и легкие.
— Все переварится, — хозяйственно обещает Григорий. — Что ты хочешь: осень! Осенние листья при гниении тоже становятся дряблыми, грязно-зеленого цвета.
— Ты случайно не знаешь, что такое жировоск? — спрашивает Татьяна.
Григорий делает вид, будто не замечает, как кожа с ее стоп и кистей сползает чулком вместе с милыми крашеными ногтями.
— Лишь бы тебе было комфортно, — щурится он. — Знаю, да не скажу, — ласково усмехается Григорий.
Ему открыто знание о том, что в мыльный жировоск может превратиться как часть Татьяны, так и вся Татьяна. Тогда бы ты пошла на шампунь, тогда бы тобой перед сном можно было подмыться. Григорий вырастает во весь рост, становясь не то стрелком, не то стрельцом. Но для этого, напряженно думает Григорий, нужны сырая почва, темная вода и, понятное дело, большой недостаток воздуха. Прямо скажем, качает он головой, исключительные условия. А так кожа, мышцы и внутренние органы Татьяны превращаются в зловонную, грязно-бурую, полужидкую полуплоть. Григорий нежно погружает в эту творожную массу руку по локоть. Слизистая желудка приобретает бурую окраску, что может вызвать у Григория ошибочное предположение о химическом ожоге. Но Григорий бдит, он не спит, он стреляет. Среди подвергнувшихся гнилостному разложению тканей Татьяны дольше всего сохраняются хрящи, матка, сухожилия и артерии. Григорий ловит матку, как рыбку в мутной воде. Осторожно облизывает ее на ладони, осторожно надкусывает, чутко прислушиваясь к ее вкусу как к протяжному крику ночного полета, и быстро жует, чавкает, весело морща нос, пожирает, глотает, глотает.
— Это тебе не кальмары в томате, — утирается он, довольный.
Вместе с тем, Григорий уверен, что снаружи Татьяна покрыта нежной кожей с многочисленными сальными железами и богато снабжена нервами и нервными окончаниями. Плесневые грибки, насекомые, которые тебя так любили, тельца Фатера — Пачини, концевые элементы Краузе, удаление зубов, узкий таз и мозги, такие скрытные мозги, и опять, опять насекомые. Может быть, даже слишком богато ты снабжена, куда богаче, чем другие.
Григорий выходит на прополку лобкового волоса Татьяны. Ощипанные кудряшки он отправляет себе в рот пучками, заодно с ползающими по ним белыми червяками. Глотает, весело морщит нос, глотает.
— Все будет хорошо, — выдает с отрыжкой Григорий эту святую тайну зомбирования. Остатки кудряшек с червями висят у него на подбородке, иные отползают в сторону шеи.
— В функциональном отношении ты, родная, являешься органом чувства, — признается Григорий Татьяне.
Татьяна молчит. Они уже въехали в парк. Рестораны.
Небо по колено
Когда у меня кончились последние деньги, я купил себе гоночный автомобиль. Смешная покупка. Большой красный гоночный автомобиль с серебряными крыльями. У него была безмерная выхлопная труба и часы с золотыми стрелками, которые показывали китайское время. Возможно, такого автомобиля больше уже никогда ни у кого не будет. Он был сделан в единственном экземпляре, и на его шинах было мало резины. Всё это были такие функциональные навороты, что даже парадные рясы Папы Римского казались на его фоне легким халатом. По своим качествам мой гоночный автомобиль не знал себе равных и потому почти не участвовал в соревнованиях. Люди, как мухи, трогали его руками. Мои друзья выбили ему фары, но он и без фар весь светился неоновым светом. Он развивал такую скорость и был так красив, что мои глаза не видели ничего, кроме тебя.
Когда в первый раз мы с тобой поехали кататься по миру, ты, конечно, немножко трусила и даже забыла, как меня зовут, но я не придал этому большого значения. Со временем ты привыкла, и он стал нашим автомобилем. Куда бы нас ни занесло, он держался кромки неба. Небо гуляло, мы с небом гуляли— небо было нам по колено. В Подмосковье мы обласкали поросшую редким клевером высокую плешь земли, в Калифорнии, нажравшись мексиканской клубники, лечили, сильно голые, дельфина с подбитой бровью. По Тихому океану мы прошлись на белом порошке, через морошку и можжевельник на дальний юг, и ты отказалась от правил движения, а позже даже от принципов. Там, где кончились принципы, было особенно много настурций. А в Будапеште — помнишь Будапешт? — мы реставрировали на оранжевых пальцах срамные заборы Средневековья. Киты-кашелоты, любовь-морковь, собаки-кактусы, с тобой я готов был есть даже очень странные вещи.
Автомобиль не дрожал и не дергался — мчался спокойно. Любовь — глубокий покой, глубже сна, глубже прижизненно уже не бывает. В этом глубоком покое ты надевала фиолетовые очки, на твоих ногах были язвы и родинки. Дух стоял, как в дубовом гробу. На стоянках мы привязывали друг друга черными привязными ремнями. Ты запускала мне в яйца солнечных зайчиков. Зайчики выели яйца до дыр. Песни советских композиторов стали с тех пор мне гораздо ближе. Блядь, я всё тебе обещал. Я просветлился. Ты стала помоями. Блядь, когда ты стала помоями, я полюбил тебя еще больше. А когда ты стала ну просто вонью, ну просто одной чудовищной вонью, я не смог жить без тебя. Хотя, как видишь, живу.
Бог Х
Со страшной силой поезд плавно летел на Запад. За окнами в весенней тьме бушевали желтые кусты форсиции, и суслики разлетались в разные стороны. В спальных вагонах на лиловых шелковых подушках пассажирки спали без пижам. Налитые груди с малиновыми сосками, чистые бритые попы. Турки стоя дремали в тамбурах. Русский вел немку в вагон-ресторан. Там было тихо и многолюдно. Обменявшись ни к чему не обязывающими приветствиями, они подсели за столик к двум немцам. Один пил пиво. Другой читал газету, где во всю последнюю полосу рекламировалась бутылка пива, которое пил первый немец. Немка считала русского гением и очень гордилась тем, что объехала с ним весь мир. Русский был веселым человеком уже не первой молодости, разочаровавшимся в людях, давно переставшим ходить в гости, участвовать в застольях, спорить о жизненном предназначении. Он легко презирал резвость юношей, запах пива, рок-н-ролл, самоубийц, политику, бессилие стариков. И чем больше он блядовал, тем больше верил в силу любви. Он не привык, а следовательно не умел и боялся жить один.
— Ну, рассказывай, что с тобой, — на всякий случай скептически сощурилась немка.
В глянцевых русских журналах сочувственно писали о том, что у нее лучистые глаза толстовской княжны Марии, но русский эти журналы не читал, а «Войну и мир» представлял себе как длинный зимний парниковый огурец, состоящий на две трети из прелой воды.
— Вот о русских нельзя сказать, что они обжоры, — огляделся русский. — Они много и грязно жрут, но обжорство — это не про них.
— Тебе нет равных в умении уходить от ответа на четко поставленный вопрос, — убежденно сказала немка. — Я такая же, как ты. Я тоже всех презираю.
— Я никого не презираю. — Русский взял коричневую карту меню.
— После нашей поездки на Восток я очень изменилась. Я прислала тебе электронное письмо о сострадании к людям. Помнишь?
— Ты прислала мне тысячу электронных писем, — сказал русский, углубляясь в меню. — Я ненавижу немецкий картофельный салат. Меня бросила моя молодая жена.
Немка обрадовалась, и от радости у нее раскис жесткий лиловый рот.
— Слабая натура, — сказала немка. — На такого мужчину, как ты, слабая женщина обидится через три секунды, а тебе через три секунды это решительно надоест.
— Она — молодец, — сказал русский. — Возьму свинину. В Германии надо есть свинину. В свинине есть своя особая бледная нежность. Наконец-то меня кто-то бросил.
Его желтые глаза стали прозрачными, и он отложил меню. Кельнер принял заказ.
— Мне очень больно, — с обворожительной улыбкой сообщил русский своей спутнице. — Но вам ли, немцам, не знать, что поражение полезнее победы?
— Шармёр, — напряженно заметила немка, зная по опыту, что это одно из тех редких слов, которые способны его задеть и дезавуировать.
— Я вычислил местопребывание души, — сказал русский, положив растопыренные пальцы на грудь. — Здесь все горит.
Немка нахмурилась.
— Если бы до нашей поездки на Восток ты заикнулся о душе, я бы убила тебя иронией.
— Она меня предала. Причем совершенно бесчеловечно.
— Ты сам предатель, — ворчливо сказала немка. — Помнишь, когда мы были в Африке, я сказала тебе, что, если местный король предложит тебе тайны вуду, ты в обмен на них предашь кого угодно, даже меня.
— Мы с ней похожи, — улыбнулся русский. — Я звонил ей из Сахары в Москву по ржавому телефону-автомату. Потом все уши были в песке.
Немка разозлилась.
— Любовь — это потеря достоинства, — произнесла она все на том же всемирном англофицированном эсперанто, который неизменно превращал их общение в диалог обледеневших на морозном ветру спортивных костюмов, хрустящих висельников бельевой веревки.
Русский впервые с интересом посмотрел на нее и кивнул.
— Откуда ты это знаешь? — удивился он.
Немка встала и ударила его по лицу. Русский не закрывался. Ему было все равно. Немка ударила еще раз. В лучистых глазах княжны Марии стояли слезы немецкой ярости. «Газовая камера», — зачем-то мирно подумал русский. Немцы, сидевшие за их столиком, делали вид, что ничего не происходит. Один продолжал пить пиво, а другой читал газету. Дело было в Европе. Кельнеры ходили и подавали еду. Немка ударила еще раз и разбила о русскую морду часы. Она до сих пор ходит с разбитыми часами. Немка встала и ушла.
Из гайморитного носа потекла струйка крови. Сначала он думал о том, что его бросила молодая жена. Кельнер поставил перед ним кусок свинины. Тогда он подумал о том, что утром прилетел из Москвы в Берлин, потом они пили вино, потом сели в ночной поезд. Бросили вещи в каком-то купе и пошли в ресторан. Ночью купе запираются на цепочку.
В каком вагоне? В каком купе? У русского были кредитные карточки, но в вагоне-ресторане их не принимали. Живых денег у него не было. Он подумал, что немка, должно быть, уже сошла на первой станции и теперь он едет один. Потом он подумал о том, что давно не думал о Боге Х., потому что было не до него, но Бог Х. скоро придет, он придет совсем скоро, и все мы превратимся в доисторических существ, в питекантропов, а я, думал русский, буду предтечей Бога Х., и когда придет Бог Х., он разделается с засильем обычной любви в этом мире, перепишет ее на себя, а потом русский снова думал о том, что его бросила молодая жена и что любовь, наверное, это нарастающая мера похожести, нам все говорили, что мы похожи даже внешне, носы одинаковые. Как там у Платона? Любовь — дозаправка керосина на запасном аэродроме в пустыне, призрак бессмертия, короче, расписка в несовершенстве. А потом — снова о Боге Х., и я буду его предтечей, попрошу смазать ей «Детским» кремчиком любимую, с розовым рубчиком, дырочку в жопе, чтобы не было больно, надуть через сраку, заткнуть пробкой и подвзорвать — то-то будет прощальный салют из твоих потрохов! Русский загадочно улыбнулся и подумал о том, что на заднике любовной драмы всегда нарисована смерть. Он стал есть свинину, потому что она остывала, и увидел свою молодую жену как шахматную фигуру — можно, я «перехожу»? — с ее перепаханной пиздой, в конце концов, мы — не немцы, чтобы гоняться за пользой поражения, и, когда он съел свинину, пришла немка, села и сказала, что хочет заплатить за свой ужин.
— Скоро придет Бог Х., — строго посмотрел на нее русский.
— Это кто? — спросила немка.
— Боже, — сказал русский. — Мне не везет по семейной линии. Отдай мне ее.
— Не отдам, — сказал Бог Х.
— Она — клевая, — богоборствовал русский.
— Или ты предтеча, или она — сука клевая.
— Вот так вот? — задохнулся русский от ощущения изначальной божественной грубости, репродуцированной в кристаллах русских тюрем и лагерей. — Я подумаю.
— Она молились мне за тебя, — доверительно сказал Бог Х.
— Ну, это пиздец, — сказал русский, хорошо знавший толк в таких молитвах.
— А я? — спросила немка.
— Ты разбила часы, — сказал русский.
— Пошли спать. Скоро Кельн.
— На колени! — рявкнул Бог Х.
Русский полз на коленях по узкому проходу ресторана, мотая головой в разные стороны. У него вылезла из штанов шикарная рубаха от АРМАНИ. Суслики, став во весь рост, глазели на него через окна вагона. Кровь снова потекла из носа. Потом она хлынула из ушей. Ресторанные люди с пивными лицами, резвые юноши, пердуны, самоубийцы, какие-то залихвацкие базарные татарки и звезды отечественного рока гадливо старались не смотреть на него.
— Кто кого опять выдумал? — спросил русский самого себя. — Бохыкс! Новый Завет начинаем с колен.
— Это — русский, — объяснила немка кельнерам.
Те пожали плечами. Старые боги уходили в греческие горы, кто в сказки, кто в рожь, кто в директоры цирка. Во тьме цвела желтая форсиция.
— Непредсказуемый, — добавила немка. — Такой же наглый, как я.
Теперь кровь текла из всех пор. Пол пахнул сковородой. Задрав длинную черную юбку с разрезом, немка стоя и весело поссала на нее оливковым маслом мочи. Сковорода раскалялась. С нарастающей мерой похожести русский превращался в кусок кровавого бифштекса по-французски. Не хватало только салата и дижонской горчицы.
— Ладно, — героически сдался бифштекс, упершись головой в дверь тамбура. — Я— предтеча, предтеча, предтеча.
— Бог бабу отнимет, так девку даст, — грубо, как протрубил, через длинную паузу смилостивился Бог Х.
— Где-то я это читал, — сказал русский, попивая невкусный немецкий кофе. — Кстати, почему в Германии у вас все так невкусно? — Он поскреб щетину на щеке, глядя на немку, сидящую напротив него. — Существует, видимо, нечто большее, чем любовь, ощущаемое через разрыв любовных связей. Это обмен чистыми энергиями, настройка на метаотражения, нечто смутно угадываемое, трудно поддающееся выражению, может быть, запретное и не впускаемое в человеческую природу, тайно представляемое, как полет над облаками.
— Ты меня перед сном ремнем выпорешь? — услышал русский ангельский голос немки.
Север
Я тогда был ужасно влюблен в одну женщину по фамилии Бигус. Просто жить без нее не мог. В голове так и стучало: Бигус, Бигус. Бигус казалась мне совершенством. Она была с потрескавшимися губами и с такой прической, что выглядела одноглазой, но зато Бигус была классной вертолетчицей. За это я ей все прощал.
Некоторые убеждены в том, что вертолетчица — это род психического недуга, заклинания мозгов, но это не совсем так.
Бигус залетала в такие отдаленные горы, что все думали, что она погибла. Бигус переворачивалась вверх ногами, проносилась на вертолете не только под мостами, но даже и под водой, могла не спать по несколько ночей подряд, летя над Сахарой. Экзюпери по сравнению с ней был простым французским графоманом неба.
Мы стали жить с Бигус в старой коммунальной квартире, по которой она тоже беспрестанно летала на вертолете. Квартира была бескрайней.
Но однажды я уехал на Север с благотворительными целями на неделю. Русский Север нуждается в благотворительности.
Я ехал сначала на поезде с порядочными людьми, среди которых был священник и брат диссидента, затем на двух автобусах с милицейской мигалкой и большим количеством пекинских уток, фуа гра. Мы дарили народу компьютеры, пили финскую водку с местным начальством за наш счет, а затем улетели с утра на Соловецкие острова.
Соловки с неба очень красивы. Они похожи на Гавайские острова, только море вокруг чуть-чуть посерее, посдержаннее.
На Соловках я встретил бабульку, которая помнила Флоренского. Она была вдовой рядового охранника с Украины, дослужившегося, как все украинцы, до старшины. Плохо уже слышала, почти ничего не видела, но Флоренский сидел у нее на плече как духовный образ сопротивления.
В местной столовке я рассказывал нашим людям о необычной вдове, а ты сидела рядом со мной на лавке и курила, а я давно уже заметил тебя, еще в поезде, когда ты пила чай в вагонном подстаканнике, и, когда ты села рядом со мной, я забыл о благотворительности. Вся делегация видела, как мы влюблялись друг в друга вопреки всякому представлению о порядочности. И когда мы вернулись в Архангельск к ночи, все было предопределено. Делегация утром улетала в Москву, а мы проспали. Мэр города послал за нами свою машину, а мы спали, и нам было на все наплевать: мои губы и пальцы слиплись от твоего сильного секрета. Короче, я потерял дар речи. И когда нас доставили на аэродром с крутящейся головой мэра на переднем сиденьи, вся делегация отвернулась от нас, потому что мы засрали всю их благотворительность, все представления о подарочных компьютерах, все диссидентские и церковнославянские традиции. Они стояли там, с сухим пайком, с вафлями и бутербродами с колбасой, и трусливо нас ненавидели, а я тебе сказал в самолете, разорвав губами твой секрет, когда ты говорила, ну не спи, ну поговори со мной хоть чуть-чуть, а от меня несло водкой и — от тебя, потому что мы с тобой ужасно много выпили водки, и я сказал еще на аэродроме командиру делегации, разорвав губами твой секрет, известному на всю страну священнику, другу Меня, который, впрочем, является порой большой властной женщиной-чемоданом, с золотыми застежками на груди, танцующей на перроне краковяк под народную музыку областных сфер, под заспанные морды танцовщиц в кокошниках, я сказал: доброе утро, батюшка! спасибо, что взяли меня на Север! — и священник, с которым мы вместе дарили детям Каргополя крупу и лыжи и обсуждали за ужином, как сделать из Каргополя православный Лас-Вегас духа, священник заметил: кажется, я понимаю, что ты имеешь в виду, а помнишь, что я тебе сказал, когда ты мне сказала, не спи. Я тебе сказал, как ты не вовремя появилась в моей жизни, потому что в моей жизни летает на вертолете коротконогая Бигус, лидер своего вертолетного поколения, но она мне так остоебенила, эта Бигус, своей рыженькой имитаторской прической под Земфиру, отчего она кажется одноглазой, и своими отмороженными губами, и вечными потугами непонятно на что, и своим мужским всепониманием, то есть так мне Бигус остоебенила, что я хочу быть с тобой — и всё. Так я хочу— и всё— ты такая красивая, а она, Бигус, у нее все тело уродливое, кишки — остановившиеся, а ты — красавица, и вертолет у нее хуевый, и Экзюпери по сравнению с ней — великий французский шаман.
Черное море любви
Наша Родина состояла из двух человек. Другие были не в счет. Звали их Сталин и Молотов.
Молотов так любил Сталина, что это даже была не любовь, а «Черное море любви».
Сталин любил Молотова не меньше. Когда Сталин что-нибудь писал, историю партии или так просто, какие-нибудь стихи, он писал только для Молотова. Он считал его своим «идеальным читателем».
Когда у Молотова были месячные, Сталин спал с ним орально, а когда их не было — Сталин протирал ему пенсне.
Но Сталин был Сталин, то есть очень требовательный, ехидный мужчина. И Молотов не выдержал и, когда поехал в Берлин подписывать пакт Молотов — Риббентроп, влюбился в Гитлера.
Гитлер был симпатичный парень, сущее ничтожество, к тому же типичный еврей. Когда у Молотова были месячные, Гитлер трахал его во все дыры, а когда месячных не было — тоже во все. Пенсне никогда ему Гитлер не протирал.
Когда Сталин узнал, что Молотов изменил ему с евреем, он набил Молотову морду, и тот хотел было вызвать милицию, но вместо этого окончательно сбежал в фашистский Берлин.
Сталин метался по Москве, посещал подпольные дискотеки, ходил в «Китайский летчик» на этнические танцы, пил залпом серебряную текилу, зализывал солью и делал вид, что ему весело. Он велел Академии наук впредь писать «черное море» с маленькой буквой «ч», и это было так по-страдальчески тонко, что даже Молотов не понял: чего это он?
Молотов тоже парился, но по-своему. С помощью Гитлера, в своем непротертом пенсне, он объявил Сталину войну и даже дошел с боями до Сталинграда.
Разруха. Море крови. Погибло много людей, но с этим никто уже не считался.
Что было дальше, никто не знает.
Ну, расскажи мне все, как было
Усилием воли я просыпаюсь в банановых кущах. В Мексике не принято долго спать. Воздух соткан из обид и признаний в любви. На лбу испарина очередного сомнения. Цель достигнута — поросенок откормлен. Страшно менять веками сложившуюся фамильную ориентацию. Как ни жаль расставаться с ним, но пора убивать.
Среди домашних животных особый интерес представляет свинья. Она опять залезает ко мне в постель, нарыдавшись и задыхаясь, с немым вопросом: за что? У нее короткие ручки и ляжки, дрожащие на ветру от жира. Она прижимает меня к себе. Это на вид невзрачное животное таит в себе много заманчивого, даже непредсказуемого. Вранье — вот повод для беспокойства. Молодая свинья против старой слаба в искусстве жить не по лжи.
С кем сравнить свинью по выходу съедобных частей при убое, всей этой разносольной массы без головы, ног и внутренних органов? В свинье бесспорно содержится меньше воды и больше жира, чем в корове, баране и человеке. Святая тварь, меняющая трусы по несколько раз на день, она грузится в грязь от перегрева. Юрко выбегает из двери и — по лестнице вверх, чтобы там наврать мне с три короба. Россия в прошлом веке была одним из главных поставщиков свиного волоса на мировом рынке. Ну, расскажи мне всё, как было. Бабья вранья и на свинье не объедешь.
Я родился в год свиньи. Набоков и Платонов — тоже. Набоков даже внешне похож на свинью. Кому свинья, а нам семья! Невероятно, но зарегистрирован случай, когда вес хряка, живот которого волочился по земле, превышал тонну. Свинья бывает беременна три месяца, три недели и три дня. Есть мнение, что она— замаскированный черт. Это не совсем верно. Свинья служит человеку и в иных качествах — например, почтальоном. У свиньи хороший гастрономический вкус. Когда свинье на выбор предложили 243 вида фруктов и овощей, она отвергла 171 вид, а остальные съела с особой жадностью. Копилка клеветы и желудь мира, она легко переносит космические перегрузки. Свинья — знак основного жизненного противоречия. Игры поросят с их матерью, живость и непоседливость маленьких хрюшек, их грациозные формы тела — все это радует мой человеческий глаз. Большинство внутренних органов человека и свиньи настолько похожи, что годятся для взаимной пересадки: то свинье пересадят, то человеку. Как получится.
Правда, со зрением у нее слабовато — распознает только синий, зеленый, желтый и красный цвета. Близорука, но зато развит слух. Свинья любит мелодичные звуки и сама не прочь музицировать, предпочитая року венский вальс; шум действует на нее угнетающе: возникают желудочно-кишечные расстройства, запоры, чередующиеся с поносом.
Французы используют свинью для поиска трюфелей и наркотиков. Американцы — для поиска взрывчатых веществ в аэропортах. Коллективный поёб свиньи в российской армии — такое же частое нарушение устава, как самоволка. Командиры сбиваются с ног, но не всегда и сами справляются с соблазном. После изнасилования умершую от инфаркта свинью отдают на съедение в соседний полк, а потом по этому поводу шутят. У свиньи практически по всей поверхности тела развито осязание, но роль рыла особо чувствительна. Молодые подсвинки общаются, соприкасаясь вплотную мордами, посредством длительных поцелуев. В Югославии, при Тито, один крестьянин купил на базаре свинью, привез домой, запер в свинарнике. Утром он обнаружил сломанную стенку — свинья ушла. Крестьянин туда-сюда: поиски вокруг дома не дали результатов. Через несколько дней в городе Даугавпилс свинью нашли у ее старой хозяйки, к которой она попала, переплыв Дунай и еще несколько других судоходных рек.
Свинья — хитроумное животное. Она чешется к теплу, визжит — к ненастью, таскает солому — к буре. Не так-то просто погрузить партию свиней в вагон или автомашину. Они боятся, упираются, не хотят входить по трапу. Но человек тоже хитер: он производит погрузку с помощью свиньи-чучела, тянет его за собой по трапу, и свиньи спокойно идут за вожаком. Иногда тренируют свиней-предателей. Они уверенно выполняют свои обязательства. Изредка оглядываясь на товарищей, предатель ведет свиней на свинобойню, затем становится в сторону, наблюдает за их ликвидацией, а по окончанию самостоятельно бежит на базу, где отдыхает до прибытия следующей партии.
Курячьи титьки, свиньи рожки, — сказала бабушка в 1979 году, узнав, что меня выгнали из Союза советских писателей. Она называла мою сутулость свиной статью. Еще до революции ее отец, состоятельный английский землевладелец, решился сменить лошадиную упряжку. И сменил! Четырех свиней ему так выдрессировали на конюшне, что он много раз выезжал из своего имения на этой странной четверке.
На каждом современном корабле, включая авианосцы, в каморке под палубой держат свинью. Как поднимется шторм, зависнет компьютер и рулевой потеряет курс, свинью извлекают из укромного уголка, бросают в море. Подчинившись инстинкту, она безошибочно берет направление на ближайший остров. В России встреча с поросенком или свиньей тоже означает удачу, счастье. Как-то вечером после роковой дуэли Пушкину для его забавы принесли нескольких поросят. Кажется, Жуковский обучил их специально для этого случая прыгать, кланяться, танцевать. Поросята поднимались на задние ноги, на них надевали кружевное белье, верхнее платье, черные шляпы, в руки им давали шпаги. Все было славно, и поэт еще долго смеялся и не хотел умирать.
Большинство ученых считает, что приручение свиньи произошло в Иране 7–8 тысяч лет назад. В Индии свиньи особенно развелись среди буддистского населения; маленьких размеров, они отличались скороспелостью. Даже для диких свиней характерна привязанность к человеку. Однажды тракторная бригада выехала в поле, и кабаненок стал частым гостем трактористов, привык к ним настолько, что позволял себя чесать за ушами. А житель Польши научил кабана ходить с ним по магазинам и выполнять всякие неприличные команды. Когда поляк на мотоцикле уезжал в лес, кабан бежал за ним и плакал, как ребенок.
Известно, что в настоящее время существует 499 пород свиней. Любая свинья может перепахать за год поле размером в четыре гектара. Как же устроен ее организм? Корм вначале поступает в ротовую полость, где смачивается слюной. Пищеварительную систему свиньи можно с полным основанием назвать чудо-кухней. Дыхательная система служит для газообмена, а кровеносная состоит из сердца, качающего пять тонн крови в сутки, и сосудов. Умирая насильственной смертью, свинья под воздействием своей кармы в будущей жизни становится человеком. Напротив, каждый человек должен хотя бы один раз прожить свиньей, если хочет достичь нирваны.
Хозяйство вести — не лаптями трясти. При правильном откорме свинья даст нежирное, мраморное мясо с равномерно расположенными прослойками жира. Многое подскажет внешний вид. Бывалый мексиканец Панчо по кличке Локо Лобо рассказывал мне, что барометром настроения поросенка является хвост. У здоровых, бодрых поросят он обязательно загнут кверху колечком.
Ночью в жаркий ноябрь Тихий океан бьется об скалы и фонтанирует. Особенно он фонтанирует в скалах у села Буфадоро, куда съезжаются посмотреть на невидаль тысячи мексиканцев с чересчур выразительными, почти русскими лицами. В России бытует мнение, что выгоднее выращивать кастрированных хряков, нежели свинок. Однако мексиканцы полностью с этим не соглашаются. Единственный недостаток выращивания свинок в том, что они периодически приходят в охоту, тягуче поливая подворье прозрачной слизью, и отказываются от корма. Для угнетения охоты мексиканцы используют крепкие отвары кактусов, однако как побочный эффект могут появляться свиные галлюцинации; более того, свинка может вообще исчезнуть из третьего измерения жизни. Поэтому некоторые мексиканские хозяева перевязывают задние соски шелковой нитью или удаляют на всякий случай яичники. Хряка желательно кастрировать в двухнедельном возрасте; тогда он смешно визжит и подпрыгивает.
Немного о главном. Необходимо научить каждую свинью регулярно промывать марганцовкой свою половую щель и следить за тем, чтобы она не была вызывающе красной. Поедание свиноматками поросят русские считают хроническим заболеванием, связанным с нарушением обмена веществ, отсутствием моциона, содержанием животных в сырых помещениях. Следует помнить, что за два дня до родов свинья становится беспокойной, у нее набухает вымя, соски увеличиваются, она, как птица, начинает вить гнездо, часто ложится, встает и вздыхает. Мексиканцы научились уже через сорок минут после рождения поросят закреплять их за конкретными сосками матери. При таком раскладе мать не жрет своих детей или, по крайней мере, не всех.
Come to me, pleasure me! Душа моя, ты всеядна! Ценный корм для свиней — картофель, желательно вареный. Но воду, в которой его варили, лучше выпить самим. При алкогольном опьянении в свином стаде полностью разрушается групповая иерархия. Какой-нибудь самый захудалый хрячок, будучи во хмелю, кусает и беспокоит всех подряд, не получая никакого отпора. Вот почему лидер свиней уже на следующий день после таких чудачеств ложится на хмельное место и не позволяет мексиканским крестьянам лить в поилку яблочный сок пополам с текилой. Настоящий вожак!
Сырьем для паштета служит свежая свиная голова. Как правильно убить свинью? С этим трудным делом могут справиться только взрослые, однако определенные навыки может приобрести и сельская молодежь. Прежде всего, перед убоем нужно постараться освободить пищеварительный тракт свиньи от пищевых масс. За 12 часов до убоя прекращают дачу кормов, а за 3 часа — воды.
Лучшим методом, названным по имени его украинского создателя методом Дмитрия Романюка, является убой с предварительным оглушением свиньи, в результате чего она теряет сознание и способность двигаться. Оглушение создает для забойщика безопасные условия, обеспечивает более гуманный способ убоя. Производится оно электрическим током при накладывании электродов на височную область головы. Как же ты, умница, лажанулась! Продолжительность оглушения 6–8 секунд, напряжение тока 65-100 вольт, сила — до одного ампера. Можно также оглушить тебя ударом деревянного молота в верхнюю часть лобной кости, чуть повыше уровня твоих несравненных зеленых глаз, так, чтобы — разом. При этом нельзя допустить разрушения лобной кости, что сопровождается кровоизлиянием в мозг и пагубно отражается на паштете.
Панчо по кличке Локо Лобо практикует красивое оглушение выстрелом из охотничьего ружья в ушную раковину. Обездвиженной, тебе перерезают кровеносные сосуды в области шеи на выходе из грудной клетки. При таком способе убоя сердце продолжает работать, и обескровливание происходит полно и планомерно. Для ускорения обескровливания тебя после оглушения целесообразно подвесить за задние ноги вниз головой, после чего перерезать шейные сосуды, предварительно подставив чистую посуду для сбора крови.
Распространен также способ убоя ударом шила в сердце. Сегодня мы этого делать не будем. Иначе произойдет неполное обескровливание, и на памятных фотографиях ты будешь иметь — а ты и так не очень фотогенична — неприятный красно-кровавый вид.
Можно, в конце концов, обойтись и без оглушения. Для этого тебя фиксируют за верхнюю челюсть петлей-удавкой, заводя ее за затылок. Затем укладывают на спину и делают разрез от правой ноздри через глаз к верхнему краю лба и до отверстия, образовавшегося при удалении левого уха. Обрезают плоть вокруг заднепроходного отверстия, очищая фекальные загрязнения, а в твоем случае и вокруг твоих нежных придатков. Кожу снимают с рук и ног, отделяя ее кулаком с оттопыренным пальцем. В День Мертвых я приду на кладбище с сакральными цветами календулы. Очень рядом начинается пустыня. Я чувствую ее суховатое дыхание. Мое загоревшее на далеком от родины пляже лицо приятно пахнет можжевельником и мятой. Мексиканские улыбчивые скелеты будут порхать вокруг нас и играть на гитаре. Твое тело лучше обрабатывать в подвешенном состоянии для получения чистых продуктов.
Мы из Интернета
Не снимая рубах, пыля по магистральной сети, богоносцы шли и пели: «Бух, бух, соломенный дух!»
Я моюсь грязной водой, стекшей с тел мывшихся до меня женщин.
Наевшись пасхальных крошек, мыши превращались в летучих мышей.
Арабский пупок — молоток.
На всякий случай я прячусь во ржи.
Катаюсь по полю, чтобы быть сильным.
Не торгуясь, куплю у араба негодную лошадь.
Три дня буду откармливать ее хлебом.
В магазине куплю ей сыра.
Куплю сосисок.
Вымажу лошадиную голову медом.
В гриву вплету ярко-красные ленты.
В глаза воткну проблематичные цветы папоротника.
В уши — вербу.
Под хвост — черемуху.
Змеи устремятся на свои свадьбы.
Ноги спутаю веревками.
Надену тулуп навыворот.
Мой заголовок: христианин.
Арабка — имя узла.
Арабка — почти интуитивное понятие; термин, описывающий IMHO [98]всю совокупность домашнего каталога.
Я прижгу тебе груди горячей соломой.
Два старых жернова привяжу на шею.
Спущу в прорубь.
Из болота выбегает белая лошадь.
Рады ли гости хозяевам?
Арабка ходит по уши в крови.
Чего не скажешь об арабах.
Нужно (это мой must) устроить проводы клопов и блох.
Мухи вы, мухи, комаровы подруги, пора умирать.
Сегодня мы не станем выгребать из печи золу.
Араб идет — я прямо на него, хотел схватить за горло зубами, а он положил мне руку на голову и говорит: «Ты чего?».
А ничего.
Танцы — наше ночное программное обеспечение.
Танцы — наше средство навигации.
Танцы обеспечивают мне доступ к арабским ресурсам на заломе.
Пусти меня, — говорит арабка, — отогрей меня, болят мои косточки, залежались.
Черные волосы моей host упакованы в золотой платок. Миндалины глаз обозначены в главном меню нецветной фотографией.
Милая, — отвечаю, — пропускная способность моего канала равна единице.
Dial up — жаргонное (но широко употребляемое) название способа связи. Она отсасывает меня из ушей.
«Входящие» — они с веником.
Место пахнет шалфеем, капустой и псиной.
В девках останусь — мимо иди.
Хотя она и ложилась спать, подпоясавшись мужским поясом, хулиганы выкрали человеческую дитятю из утробы спящей матери. От стыда и страха удавилась.
Больных стариков христиане сдают в баню. В одиночку в банях старались не париться. Подушку покойника набей гробовыми стружками.
Чего не скажешь об арабах.
Христиане не едят кус-кус.
Не приглашают матерей на новоселье.
Не красят ногтей в зеленый цвет.
Не торгуют духами от Паолы Пикассо.
Не варят настой из белых ягод дуба.
Христиане ебутся глухо, с иступленными лицами.
Чего не скажешь об арабах.
Арабы помогают себе при ебле руками.
Привези белой ткани из города!
Арабка, имеющая довольно приличный объем, время от времени подмигивает мне левым глазом. Язык улыбочек у нее общепринят.
Чего не скажешь о христианах.
А в остальном у них всё то же, что у нас.
Старость начинается в 47 лет переходом на сторону смерти.
Вдова Клико — на моторолле. Она зовет нас за собой в режимный модем монастыря.
В страхе смерти есть что-то есть. Я не солдат, побирающийся на паперти.
Сегодня я — брезгливая пыль.
Сегодня я — новый тип терминала, непростительное ругательство, ссылка в Углич, зернистые, шелудивые мегалиты-мезиры Карнака.
Я — всемирная паутина.
Чего не скажешь об арабах.
Сила лобного места
В моем городе воздух — цвета прозрачного молока. Это твои льются струйки. Ты делаешь выставку «Женское мочеиспускание». Под лозунгом: Больше в Москве туалетов для баб. Это ты крупным планом позируешь на мочеиспускательных фотографиях. Твоя нижняя половина. Катя — сердце мое! Я тебя рыщу. Я затолкал в машину весь этот несвежий человеческий фарш, чтобы что? чтобы зачем? чтобы найти тебя.
С перебитым носом ты куда? делась? в черных колготках.
Патриарх всея Руси благословляет тебя расписывать Елоховский собор. Московская архитектура, московская живопись, московские нравы достигли высокого уровня. Мостовая морщится у тебя под ногами. Андрей Рублев в юбке в легкий горошек сбежал. Сил на то, чтобы дать точный адрес, у тебя не нашлось.
Московское население активно участвует во всех событиях. Среди монахов тебя не оказалось. Я знаю, что в конце концов ты окажешься под черными колготками мужчиной. Ты обещаешь подарить мне свои иконы.
Ты обещаешь подарить мне свои картины 2 на 2, где много кошек, русалок с волосатой грудью и бас-гитаристов, чтобы я завесил ими всю мою квартиру. На Солянке твоя новая выставка: присесть и пописать в ведро. С помощью туалетного приспособления «ёршик» ты окропляешь мочой всех собравшихся конкретных подонков. Ты писаешь в ведро через черно-красные трусы, чтобы не брызгало. Встаешь, снимаешь трусы, надеваешь на голову устроителю весь этот траур, в узких очках. Все обрадованно начинают щелкать, из новых, светских и желтых, газет. Приезжаем: где она? Как, уже уехала? Прямо так конкретно и уехала? Одна? Куда? К патриарху? Косой, где Катя? Она от меня сбежала в метро. Куда? Я разворачиваю широким жестом поверхностный план Москвы.
Москва-река в своем левом городском изгибе похожа на удивленный пенис при прерванном коитусе, в правом — профиль лысого победоносного мэра со вздернутым носом. Все улицы переименованы, проехать никуда невозможно. Давай-ка, мать, в метро! Москва является крупнейшим арсеналом и складом продовольствия. Пребывание в Москве гибельно для войск Наполеона. Почему бой за сортиры ограничен исключительно мочеиспускательной темой? Канализация не врет. Царский указ 1714 года о запрещении возводить каменные строения где бы то ни было, кроме Санкт-Петербурга, приостановил строительство Москвы практически навсегда.
Длинная Танька читает в метро «Философию в будуаре». У нее новый френд: Джеймс Джойс.
Меня вырастил Сталин. В честь 800-летия Москвы я родился в коммунальной квартире на Можайском шоссе. Мое рождение ознаменовалось различными чудесами. В Москве в одну ночь выросли без всякой человеческой помощи семь красавцев высотных домов: Университет на Ленинских горах, гостиница «Украина», Министерство иностранных дел на Смоленской и некоторые другие здания. Руководители партии и правительства признали целесообразным провести в стране денежную реформу и, посетив меня на Можайском шоссе, подарили мне много новых денег с изображением самих себя. История не знает выходных дней, Катя. Я лишился невинности в полтора года. Москва не любит затяжного полета девственников. Я запускал пятаки на орбиту в метро на станции «Маяковская». Я знаю, о чем говорю. Меня лишила невинности трехлетняя троюродная сестра Лена во время игры под диваном. Мы тогда переехали жить под диван на улицу Горького.
Я долго не говорил. Даже «мама» не говорил. По Благовещенскому переулку мимо комиссионного магазина с маленькими окошками шли строем милиционеры в баню. Я яростно закричал: почему так много милиционеров?! Будущий помощник Брежнева считал, что это было начало моей диссиды.
Наш шофер Коля сделал предложение нашей домработнице Марусе. Она, беззубая, закрыла мне глаза. Мы проехали мимо дорожно-транспортного происшествия. Оказалось, однако, что он женат. Мы расстреляли его у Кремлевской стены. Не жалею об этом. Это вписывалось тогда в нравы наивно-жестокого времени. Маруся отщипывала хлеб и ела. Не отщипывай, — сказал ей Коля.
С ласковыми почестями он там же и похоронен. Москва — крупнейший научный центр СССР. После отмены крепостного права, несмотря на общий рост, снижался удельный вес текстильной промышленности. Матрешки — японское изобретение.
Мой папа — генерал и старьевщик. У него шинель мышиного цвета. За ним бегают дворовые мальчишки и дразнят немцем.
122-я средняя школа не раз являлась мне неподалеку от Пушкинской площади, в Палашевском переулке, где в старые времена жили палачи, на месте кладбища. Во дворе моей школы было много человеческих костей и черепов. Черепами мы играли в футбол, а костями дрались. На вопрос, сколько времени, моя бабушка всегда отвечала: не знаю.
Мы бросились на Солянку с длинной Танькой. Ты сказала, что выставка будет на Солянке. Мы ходили по Солянке и кричали: Катя, Катя! Кто взял трубку? Кто хрипел с бодуна, что ты никуда не поедешь? Потом пришла зареванная: моя любовница умерла! С перламутровыми руками. Смеешься, кашляешь. Говоришь: здравствуйте. Ну, вот и познакомились. С любовничком — бас-гитаристом.
Хулиганы моего детства останавливали меня в Трехпрудном переулке и говорили: «Попрыгай!» Если я не прыгал, они меня били. Если я прыгал и в карманах звенела мелочь, они отнимали у меня мелочь. Я решил дружить с хулиганами.
Мы ходили с соседом на Красную Пресню поздно вечером смотреть бандитский район. Там всегда было жутко и что-то горело.
Космонавты, сказала мне Катя, обязаны быть охуительно красивы. Мой друг-одноклассник, хулиган Коля, убил человека ножом, когда лез на голубятню, чтобы украсть белых голубей. Я очень удивился, когда его после убийства не стали пускать в нашу бандитскую школу учиться дальше.
Хулиган Коля пришел ко мне домой и стал просить жвачку. Я дал ему подушечку французского клея, и он долго не мог раскрыть рот.
В Москве более-менее тридцать четыре театра, из них четыре детских. В Театре Маяковского на представлении «Гамлета» ко мне в четырнадцать лет пристал педераст. Я сидел ни жив ни мертв.
А кто ездил по утрам на завод? В Марьину Рощу на 13-м желто-синем тупорыле. Кто верил в рабочий класс? Катя, я так далек был от рабочего класса, что верил в него.
Не зря Нью-Йорк, по-русски, ОН, Москва — ОНА. Москва до сих пор горизонтальный женский город, где Кремль, влагалище все еще секретной, загадочной власти, оброс кольцом бульваров. Концентрический, круглый, как бублик, город. Москва раскинулась широко на постели русской равнины, в сонливой истоме, лежит себе, ковыряет в носу, со своими куполами-грудями-маковками. В ней доминируют женская истеричность, женские очереди, в ней женщин видно больше, чем мужчин. Город бабьей энергии, бабьих коммунальных ссор, охов-вздохов, паники, и московская походка — бабья, шаркающая.
Разностороннюю культурно-просветительскую работу среди трудящихся столицы ведут 226 клубов, домов и Дворцов культуры, а также свыше 3 тысяч красных уголков.
Москва — Третий Рим. Политическая теория обосновывает всемирно-историческое значение столицы Русского государства как политического и церковного центра. Изложена псковским монахом Филофеем в характерной для средневекового мышления религиозной форме. Исторической преемницей Римской и Византийской империй, павших из-за уклонения от истинной веры, является Московская Русь: «Два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не бысти», — шепнула мне Катя.
Длинная Танька под утро бежит по квартире блевать в туалет, поскользнувшись, сломала три ребра. Как удивительны замыслы тела! Когда она сломала три ребра, она совсем забыла, зачем она бежала в туалет и больше об этом не вспоминала, только ахала и сердилась.
Ты вышла брать машину, чтобы ехать домой. И когда ты села в машину, подвернулся попутчик, и говорит: мне тоже в Теплый Стан. И тогда я тебя перебил и сказал: а вы разговаривали по дороге? — И ты мне что сказала? — Нет. — И тогда я сказал: — Надо было разговаривать. И тогда, на Окружной дороге, он схватил тебя за волосы и стал тыкать тебя в свой мерзкий хуй и говорить: соси! соси! А потом они тебя выкинули из машины и засунули тебе в 1989 году грязь и глину в попу и в женские органы, и ты потом все это отмывала с помощью друзей шампанским, потому что шампанское хорошо все это дезинфицирует, а потом они тебя переехали своей Волгой и уехали, думая, что тебя больше нет. А еще тебе, как на грех, после изнасилования, с разбитым носом, попались дети в лифте, и они тоже сказали: соси нам! И ты стала хохотать и сказала: вы сначала научитесь пить водку, а потом уже приставайте к женщинам! И они тебя стали жутко пиздеть.
Вы были, солнце мое, обе очень смешные. Но особенно смешным был твой любовничек, который подсел ко мне на кухне и стал читать свои стихи про кикимор, а длинная Танька ему говорит: — Ты себе смертный приговор подписал, потому что ты сказал, что не позволишь Катьке трахаться с дураками, а он— не дурак. И тут я встал и ушел, чтобы они сами разбирались, и они все ушли: и рыжий еврей, который выжрал всю бутылку джина, и его подруга, которая не хотела быть лесбиянкой, хотя длинная Танька ее уговаривала, потому что вы с длинной Танькой агрессивные лесбиянки и вы всех уговариваете целоваться и трахаться и валяться на полу в поцелуях.
Я был уверен, что Москва — это мокрое финское слово.
В 1974 году на Яблочный Спас в Москве закурили на улицах женщины. Раньше они не курили, и — вдруг закурили.
Что сказал напоследок этот рыжий еврей, я все ждал, что он скажет что-нибудь путное, что-нибудь вербально неуместное из прошлого или из следующего тысячелетия, но он только сказал, что всякое определение ограничивает, а это, по большому счету, противно самой идее Евангелия от Иоанна, и он попросил, чтобы ты его поцеловала, и ты ему резко отказала, радость моя.
Что такое цыганский поцелуй? Ну вот, ты еще по телефону мне сказала, что я буду твоим сегодняшним «другом», еще не видя меня, но только слыша мой, как это писала британская пресса? мой, писала она, гипнотически «бьютифул войс». Но все фатально не складывалось. Во-первых, когда эти все собаки удалились, ты мне сказала: сними мне платье, и я снял твое платье в легкий горошек через голову, и что я тебе сказал? Я, сильно лукавя, сказал, что ты опоздала на тридцать лет, потому что мне тридцать лет назад парижские девушки на баррикадах 1968 года рассказывали о том, что они любят лизать небритые жопы, и ты фатально опоздала со своей новой московской любовью к геморрою.
Что такое цыганский поцелуй? Ты выходила, чтобы ехать ко мне, из своей разбитой ремонтом квартиры, с любовничком, когда зазвонил телефон и оказалось, что она умерла. Ты приезжаешь ко мне сухая, без слез, но постепенно в тебе собираются мысли насчет ее перламутровых рук и волосатой в треугольнике между сисек и пупка груди, и ты даешь волю своим чувствам и начинаешь мне рассказывать по новой и по новой о том, что муж ее так лупил, так лупил, что она была вынуждена носить толстые черные колготки. И наконец, некоторое разочарование: когда я снимаю с тебя твое платье в легкий горошек через голову, я обнаруживаю, что твои груди несколько устали, они так устало, невесело висят, с усталыми отпечатками от черного лифчика, не то, что у длинной Таньки, у которой они ни чуть-чуть не висят. И тогда я говорю, собственно, то, что мне приходит в голову: а похожа ли та, убитая, на тебя? Ну, по духу! И какая в сущности между вами разница? И ты активная лесбиянка, и она тоже, и значит, прав ее бандит с деньгами, киллер или кто он там, кэмел-трофи, прав, что убил.
Вся Москва любит Хармса. Ты уже доела всю банку со сливовым вареньем. Осталось на донышке. Не больше двух ложек. Поскреби. Оставь! Не жри котлету!
Поговорим о Катманду. В конце концов, не зря соединенное с Москвой посредством метро государство парит в Гималаях, как дырка в космос. Я не зря был в Лумбине на родине Будды. С меня сошел христианский комплекс вины.
Все ближе и ближе развязка. Москва — крупнейший издательский центр, гордость советской полиграфии.
Здравоохранение в дореволюционной Москве не удовлетворяло элементарной потребности населения. Борьба с туберкулезом, кожно-венерическими заболеваниями проводится широкой сетью диспансеров и диспансерных отделений и кабинетов. Мы с тобой не носим в наших штанах презервативов.
Тридцать восемь градусов в тени — выше этой отметки никогда-никогда не поднималась московская температура в июле-августе. Умеренно континентально.
Я знаю, что до конца 15 века лечебную помощь в моем родном городе оказывали только знахари и повивальные бабки. Применялись средства народной медицины — травы, коренья, ягоды, специально приготовленные внутренности животных. Мы стоим над длинной Танькой и смотрим, как она корчится от боли. Основные принципы советской медицины, по-моему, это — профилактическое направление, бесплатность, общедоступность, активное участие самих трудящихся в деле охраны здоровья.
«Дети в советской Москве всегда были в цене: их сдавали с грудного возраста в аренду, чуть ли не с аукциона, нищим. И грязная советская баба, нередко со следами ужасной болезни, брала несчастного ребенка, совала ему в рот советскую соску из грязной тряпки с нажеванным хлебом и тащила его на холодную советскую улицу. Ребенок, целый день мокрый и грязный, лежал у нее на руках, отравляясь соской, и стонал от холода и постоянных болей в желудке, вызывая участие у советских прохожих. Бывали случаи, когда советское дитя умирало утром на руках нищей, и она, не желая потерять день, ходила с ним до ночи за подаянием…» (Из тайного доклада Михаила Горбачева на апрельском Пленуме ЦК КПСС).
Иногда я, как Пушкин или Чаадаев, люблю писать не важно что по-французски: Moscou n’existe pas. Paris, formidablement réele, existe sans consideration du temps qu’il fait, de votre humeur ou de vos finances, de vos liens personels avec les Parisiens. Paris existe sans vous. Moscou, au contraire, a grand besoin de vous pour acquirir quelque realité. Son seul architect, c’est vous, même si vous n’êtes pas un professionel! Moi non.
Почему бы нам с тобой не подумать о пожизненной любви? Почему вы обе такие ваньки-встаньки? Почему, когда ты раздеваешься, начинает одеваться длинная Танька, а когда я ловлю ее, и она раздевается, ты хватаешься за платье в легкий горошек? Неужели мы вывели простейшую формулу ревности?
Ты не столько ебешься, сколько кусаешься. Мне приходится держать тебя за волосы, чтобы ты не обкусала меня до костей. Все заканчивается женской истерикой. После незамысловатых пирамид в духе моего советского детства ты в голос рыдаешь. Твоя подружка забралась на небеса со своими перламутровыми руками. Длинная Танька размазала всю свою французскую косметику. Она так хотела прийти ко мне в длинном лиловом платье! Ты сидишь у кровати и рыдаешь. Мне ничего не остается, как подрочиться в твое рыдающее лицо. Посмотри на меня, собака! Лови! Лови! Она ловит все, что надо и не надо, поймала.
Я понимаю, что я разучился думать. Я понимаю, что плоские игры моей родины обворовали, растратили меня на пустяки. Москва приобретает очертания города. Пора ей снова облупиться до основания, расползтись по подвалам. Только это вернет мне способность соображать. Русское счастье — опасный оксюморон.
Я ненавижу тяжелый московский быт. Я ненавижу либеральные мемориальные доски, покрывшие Москву, словно сыпь. Я ненавижу отсутствие очередей. Я разрезаю Москву на несколько кусков. Дымится пролетарский восток кулебяки. Хрустят на зубах пустые бутылки в Текстильщиках. Лишенный с детства истории, я невольно оказываюсь ее непосредственным свидетелем и понимаю, что она для меня слишком мелка и нелюбопытна. В коридоре слышатся охи длинной Таньки. В Москве нельзя болеть и дико умирать. Голая страдающая баба страшнее и омерзительнее опрокинувшегося на спину жука. Она не вызывает ни желания, ни сострадания. Ее хочется вымести веником вон из квартиры. Я делаю вид, что хочу вызвать скорую помощь. На самом деле я стою на рассвете и курю в ожидании, что будет дальше. После варенья ты перешла на котлеты и креветки. Солнце мое раскулачила мой холодильник.
Городская канализация сооружалась в течение 24 лет и до сих пор обслуживает лишь центральные районы. 95 % московского населения не употребляет туалетную бумагу, предпочитая газеты и старые письма. Я жду прихода большевиков как награду за собственное инакомыслие, как отличительный знак непрозрачности дикаря, спасительной инаковости, как расплату за ложную идентичность, как экзортический способ продления русской материи. Я думал, московская мафия возьмет на себя все функции непроницаемости. Я думал! Но она оказалась подвержена коррозии всеобъемлющей одинаковости, она уже распорядилась отдать детей в престижные школы, они уже в Гарвардах пишут на отцов доносы, эти павлики морозовы шиворот-навыворот.
Я обещал рассказать поподробнее о твоей детской пизде, светлой, не окруженной срамными делами, я обещал, но боюсь, что не справлюсь с заданием. Москву нетрудно обидеть, засомневавшись в ее бессмыслице, отсутствии логики, культурных ориентиров.
Красная площадь. Sur son ventre incliné, qui me rappele la rotondité de la Terre, vous decouvrirez un curieux nombril, Лобное место, grand comme une pisсine gonflable. Запад нам нужен ровно настолько, чтобы в нас самих его не было вовсе.
Дети Пушкина
Саша. Здравствуйте, дети, наш папа умер.
Маша. Солнце русской поэзии закатилось.
Гриша. Ты всегда была прикольным ребенком.
Маша. Когда Дзержинский вел меня на расстрел, я посмотрела ему в глаза и сказала: «Я — Маруся Пускина. У меня зубки режутся. Я не умею произносить букву «Ш».
Глаша. И что?
Маша. Не расстрелял.
Саша. Ну, ты, Маруся, я тебе прямо скажу — хулиганка.
Гриша. Ей повезло. Хотя бы здесь отец пригодился.
Наташа. Отчего он умер? Он что, отравился? Я все забывала маму спросить, что у него за болезнь.
Саша. А он еще не умер. Он умирает, но еще не умер. Он мучается. Я пошутил.
Маша. Значит, солнце пока не закатилось за диван?
Наташа. Ничего себе. А я поверила, что он умер.
Саша. Он умрет обязательно, но мама сказала, что есть возможность его спасти.
Глаша. Дуэли запрещены. Мне неприятно, что он хотел убить другого человека на дуэли.
Саша. Приходил французский доктор. Он опробовал на свиньях новый препарат от заражения крови. Предлагает опробовать его на папе.
Гриша. Пусть мама решает. Как можно лечить человека свинским препаратом?
Саша. Мама сказала, чтобы мы решали. Как наследники.
Маша. Ну, как наследники мы, конечно, решим.
Гриша. Устроим голосование? Простым большинством? Или как в Польше: если один против, решение не проходит.
Наташа. Давайте, как в Польше. Так интереснее.
Глаша. Как называется препарат для свиней?
Саша. Ну, почему вы не кричите, не плачете? Пенициллин.
Маша. Какая гадость. Нельзя было назвать как-нибудь покрасивее?
Глаша. Например, Евгений Онегин.
Гриша. Тоже мерзкое название.
Саша. А как он нас назвал? Саша, Маша, Гриша, Наташа, Глаша — все на ША.
Маша. Саша, Маша, Гриша, Наташа, Глаша. Почему, в самом деле, на Ша?
Саша. В этом есть что-то французское.
Гриша. Короче, кошачье. Мы для него — кошки.
Наташа. Издевательство.
Маша. Я плачу. У меня зубы режутся.
Гриша. Не ври.
Наташа. А кто, собственно, плачет?
Глаша. Жалко. С другой стороны, мне было всегда за него стыдно. Он любил не прожаренное мясо с кровью. Противно. Он ел салаты из цикория с помидорами, заправляя их оливковым маслом и уксусом. От пережора у него вырос живот. Живот был кругленький, как у Будды, в курчавых волосиках. Меня рвало. Я не могла находиться с ним за одним столом. Теперь этот живот прострелили.
Наташа. Он грузил нас своим отцовством. Он носился за нами с девичьими трусами и кричал, чтобы мы не смели… «Не смейте вешать ваши трусы сушиться в ванной на батареи! Это не по-европейски!»
Саша. Помните, он приходил к нам в детскую, гладил по круглым лобикам и говорил со слезами на глазах: «Дети Пушкина не удались».
Глаша. Ну, да. Он говорил, что он все для нас сделал, поступил нас в университет, посылал каждое лето на отдых во французские Альпы, выгодно женил и за графьёв выдал замуж. И что он больше не будет звонить нам по телефону. Никогда не будет звонить.
Гриша. Он хотел, что мы выросли необыкновенными людьми. Стали бы пиратами и проститутками. Чтобы он мог нами гордиться.
Глаша. Он называл меня лимитой, говорил, что лимитчица и минетчица — однокоренные слова, загонял в комплексы, ненавидел куклы, в которые я играю, ненавидел моих белых мышек и птиц, гнобил за маленький рост, хотя я повыше его буду, и в то же время подсматривал за мной, когда я сидела на горшке.
Маша. Он каждый месяц с ученым видом проверял меня на предмет того, не растут ли у меня волосы на лобке, и требовал, чтобы я писала рассказы и повести из деревенской жизни.
Глаша. Он ненавидел меня за то, что у меня — молочница, что из-за этого в моей пизде плохо пахнет материя, он глумился над моими сиськами.
Гриша. Каким образом?
Глаша. Он хотел их оторвать.
Наташа. А меня он имел анальным способом еще в возрасте шести лет. Маме это очень не нравилось.
Саша. Когда он меня первый раз трахнул в попу, я думал, что умру от боли. А он говорил, что, может быть, хоть так он отучит меня от тупоумия.
Гриша. А со мной он сделал такое, что страшно сказать.
Маша. Расскажи! Мы рассказали, а ты — нет!
Гриша. Не расскажу.
Наташа. Гришенька, расскажи. Ты ведь офицер. Ты должен рассказать.
Гриша. Ни за что.
Глаша. Он ел твой кал? Я угадала?
Гриша. Гораздо хуже. Нет, не расскажу.
Маша. Тогда я голосую за смерть Пушкина. Понятно?
Гриша. Ну, и голосуй.
Маша. Стучат в дверь. Как они нетерпеливы. Закрой, Сашенька, дверь на ключ. Мы еще не решили.
Саша. Мама просила не затягивать с решением. Он никогда не смотрел нам в глаза. У него глаза бегали. Я невосприимчив к красоте природы, мне папенькины кавказы и закидоны ни к добру. Я деньги люблю. Я очень люблю деньги. Если бы мне платили много денег, я бы стал гением.
Маша. Как зовут этого французского доктора?
Гриша. Зачем тебе? Кажется, доктор Паскаль.
Глаша. Пушкину сколько лет? Около сорока? Старик! Он умрет, его встретит Бог и спросит: ты кто? Ах, ты — Пушкин! И сделает Бог неприличное лицо.
Маша. Ты, Саша, рыжий. Почему ты рыжий? У нас нет в семье рыжих. Ты ведь не от него, правда?
Наташа. Саша от Дантеса.
Гриша. А я от Николая Первого.
Глаша. Молчи. Это и так все знают.
Саша. Царь прислал Пушкину телеграмму. Вот она. Я прочту стоя.
Гриша. Мы тоже встанем.
Саша. Если Бог не велит нам увидеться на этом свете, то прими мое прощение…
Маша. Добрый царь. Простил дуэль.
Саша… и совет умереть по-христиански, через я пишет, по царской своей орфографии, и причаститься, а о жене и детях не беспокойся. Они будут моими детьми, и я их беру на свое попечение.
Глаша. Это меняет дело. Ребята, можно сесть? Какой еще пенициллин? Вздор.
Маша. Значит, наша мама тоже будет дочерью царя.
Гриша. И все-таки я от Николая Первого, а наша Глаша — с сеновала, пусть она помолчит. Я буду, возможно, Александром Вторым. Освобожу крестьян и подорвусь на мине.
Маша. Царь даст нам денег. Как нищим. Пушкин все пропил, проел и проспал. Он ездил в публичный дом.
Наташа. Он трахал все, что шевелится, кроме мамы.
Глаша. Откуда же мы тогда взялись?
Саша. Мама прикидывалась фригидной. Отец нашпиговывал ее спермой и разводил у нее в животе эмбрионов, как рыбок, но она научилась выкручиваться по своим женским делишкам.
Глаша. Когда он поехал стреляться, я была за Дантеса.
Гриша. Я тоже езжу в публичный дом. Это меня сближает с Пушкиным. Я, может быть, буду стоять за французского доктора.
Глаша. Зачем он вышел на Сенатскую площадь? Зачем?
Саша. Не переживай. Он всегда любил высовываться. Слишком много социальных амбиций. А те, кто хотели хорошо жить, легко могли вписаться в общество, как Жуковский. Сейчас особенно видно, что в крепостном праве были свои несомненные плюсы.
Глаша. Ему хотелось быть принятым в высшем обществе и быть свободным от него. И жить, и чувствовать смысл жизни. Так не бывает. Опять стучат.
Маша. Мы еще не решили. Его время кончилось.
Глаша. Нет, он не хотел, чтобы мы были такие, как он. Ну, помните, он сказал про Сашку: не дай бог ему идти по моим следам, писать стихи, да ссориться с царями.
Саша. Врал. Он хотел, чтобы я сочинял стихи. Он готов мне был платить по рублю за строчку. Он стоял передо мной на коленях: «Саша, ангел, пиши! Саша, будь Пугачевым!» Я потребовал за строчку по два пятьдесят. Он растерялся. Он стал такой беззащитный. Я отказал ему.
Маша. Не понимаю, почему француз решил проверить на нем свое лекарство. Ведь пушкинские стихи на иностранных языках не звучат. Я помню чудное мгновение. Как это будет по-французски? Чего смеетесь? Или: ночевала тучка золотая… Вот пример чистой банальности.
Саша. Его беда была в том, что этой обезьяне все время глубинно везло.
Наташа. Он очень жестоко обращался с женщинами. Он их использовал, как Воронцову с Раевской. Он споил няню. У него в каждом городе были невесты: в Ташкенте, Берлине, Милане, Токио.
Гриша. Он там не был.
Наташа. Он заначил невест даже в тех городах, до которых он не доехал.
Глаша. Он выпил из нас все жизненные соки. Он выдавил нас, как апельсин, еще до нашего рождения. Лучше было родиться от свежего кучера.
Наташа. Я не люблю апельсины, мне подавай банан. Схороним папеньку, как шута, а маменька пусть и дальше танцует на Аничковских балах.
Маша. Он больше волновался за свои книги, чем за детей. Я вообще не люблю его стихов. Мне, честно сказать, нравится Лермонтов.
Наташа. А мне — Пелевин. Я его за одну ночь всего прочла. Вот культовая фигура. Как Загоскин.
Глаша. А я вообще не люблю читать. Я люблю молиться. Он в Бога не верил.
Саша. Пушкин и Бог — несовместимые понятия. Самая пошлая тема: отношение Пушкина к Богу. Это он первым в России в душе написал слово Бог с маленькой буквы.
Маша. Он не любил Родину. Обосрал русский народ. Общался с этим идиотом, Чаадаевым. Попов осуждал за длинные бороды. Все одеяла тащил на себя.
Глаша. У него не было друзей. Со всеми перессорился.
Наташа. Вот, если сравнить, Никита Михалков честнее Пушкина.
Маша. Это нетрудно. Пушкин был эфиопом.
Саша. Критика его не уважала.
Маша. Поэтому мы все такие уроды. С круглыми лобиками.
Саша. Он был поверхностным отцом. Беспокоился о моей сыпи, но как-то всегда между прочим, верхоглядно.
Глаша. Если бы Пушкин попал Гитлеру в плен, его бы уничтожили как низшую расу.
Саша. Дети Гитлера вышли породистее детей Пушкина.
Гриша. Он писал матерные стихи. Против царя.
Саша. Подлец, он писал против Польши. Против Европы. С Жуковским выпустили подлейшую брошюрку «На взятие Варшавы». Немцы, чтобы показать глубину его падения, уже шесть раз перевели папашкин пасквиль «Клеветникам России». Он не был демократом.
Маша. Зачем Дантес целился Пушкину в пах?
Саша. Нарочно. Чтобы было веселее.
Маша. А если бы он попал?
Гриша. В Дантесе есть что-то от Данте.
Глаша. Значит, наша мама святая? Да?
Наташа. Да, папочка был грустный бабник. Не нашел ни в ком своего идеала.
Маша. Мать натерпелась. Он проигрался в карты. Его не на что хоронить.
Саша. Он никогда не был за границей, кроме Армении. Он был глубоко провинциальным человеком.
Глаша. Когда-нибудь, через двести лет, люди спросят: а что, собственно, написал Пушкин? И что мы им на это ответим?
Саша. Одни, с позволенья сказать, афоризмы.
Маша. За которые его сослали.
Глаша. Сослали? Куда?
Наташа. Никуда. Он все придумал, придурок.
Гриша. Недоносок.
Наташа. Обезьяна. Он так похож на обезьяну, что слуги хохочут, не могут сдержаться.
Глаша. Однажды он подарил маменьке прозрачную ночную рубашку и сказал, что его стихи такие же прозрачные, через них все видно.
Наташа. Если на свете есть пошлость, то это он.
Маша. Он не любил православную церковь. Он никогда не постился. Недаром его не любил Гоголь.
Глаша. Его не любили дворовые. Пьяный, в грязном халате. Вокруг любовницы: немки, американки. От него вечно плохо пахло. Мочой.
Наташа. Что взять с эфиопа?
Гриша. Мама всегда брала сторону его критиков. Она судорожно стеснялась Пушкина, как и мы. Она приходила в ужас от его жеребячего слива легких слов. Несколько десятков поэм она порвала и выбросила. Она кричала по ночам. Она приползала к нам сюда в детскую на карачках и рассказывала, как она его ненавидит.
Глаша. Он на всех набрасывался, кричал, визжал. Злой карлик с длинными заусенцами. Когда он умрет, надо будет немедленно запретить публикацию его стихов, а архив быстро уничтожить. Никто и не спохватится, кроме пьяницы Нащокина.
Наташа. Пушкин — графоман.
Саша. Если он умрет, мы будем жить грамотно, профессионально, потихоньку. Он больше не будет летать между нами кометой и подсвистывать. Он всегда мне подсвистывал, называл своим любимцем. Думал, мне это нравится, а я краснел за него, он даже подсвистывать не умел.
Гриша. Пушкин запрещал нам смотреть телевизор. Он посылал нас в деревню к больному головкой дедушке, чтобы тот откусил нам всем носики.
Глаша. Зато семечки он поощрял, не знаю, почему, и чтение детективов.
Саша. У него всегда были заляпанные очки. И стаканы, из которых, давясь и икая, он хлестал шампанское.
Наташа. Он бросил маму в самый тяжелый момент, сказав напоследок, что она глупая и недобрая, в сущности, женщина.
Маша. Я, может быть, цинична, но я скажу. Если Дантес его бы не подстрелил, я бы сама подсыпала ему крысиного яда.
Глаша. А я бы его кастрировала и детородные органы выбросила собакам.
Саша. Собаки не станут есть эту гадость.
Гриша. Признаться, я все равно его по-своему люблю. У лукоморья дуб зеленый. Ну, конечно, не Мойдодыр, но папа мог бы стать неплохим писателем для подростков. Впрочем, это мое сугубо личное мнение. Он был чудовищным эгоистом. Он говорил, что русский бунт хуже маркиза де Сада.
Саша. Однажды мы пошли с Пушкиным в кино. На американский фильм. Кино было слабое, но он, дурак, смеялся до слез.
Маша. Он был высокомерной сволочью. Он не любил смотреть, как я танцую. Он говорил, что я научилась танцевать у собачек. Можно я потанцую?
Саша. Танцуй, Маруся! Когда-нибудь филологи проанализируют его стихи и скажут: он все содрал у французов.
Маша. Он был жадным человеком. Пошли мы с ним в зоопарк. Папа, купи мороженое! Молчит. Папа, ну хоть самое дешевое эскимо за одиннадцать копеек! Он развернулся и, напустив на себя вид драматического еврея, говорит: ни за что не куплю!
Глаша. Ты хорошо танцуешь, Маруся! Я тоже буду танцевать! Его равнодушие не знало пределов. Когда он признался, что он всех ничтожней, то тут же добавил: Я воздвиг себе нерукотворную стат ую. Хватит вам смеяться на весь дом!
Саша. Равнодушный, непоследовательный мужчина, со слабым чувством юмора. Единственно, что он хорошо умел делать — так это есть лапшу. С утра до вечера он ел лапшу. Поэтому у него и стихи, как лапша.
Глаша. Иногда на него находили долгие приступы трусости: он начинал креститься и мелко дрожать. Я сам видел.
Маша. Он непростительно считал, что у американцев есть будущее и решительно не любил стихи Анны Ахматовой. Он очень боялся старости.
Глаша. От этого у него окончательно испортился характер. Он считал, что каждую минуту он со свистом летит навстречу смерти, плешивея на глазах у изумленной публики.
Маша. Как-то раз он схватил нас с Сашкой за волосы, притянул к себе и зашептал: «Вы будете, сволочи, жить, а я помру. Уж лучше быть бездарным, пусть в тюрьме, но живым, молодым, с руками и с яйцами!» Потом он на эту тему написал известные стихи.
Наташа. Сейчас в нашей стране так много говорят о Набокове, а Пушкин, скажите, его читал? нет, не читал, у нас в доме даже словаря Даля нет.
Гриша. На его часах раннее утро, а люди давно уже сели обедать.
Саша. Мать кричала Пушкину при мне: ты — любитель блядей! Я услышал это и перестал его уважать.
Маша. Пушкин и Наталья Николаевна каждый день бегали по комнатам, ища друг за другом яркие признаки измен.
Глаша. А еще он любил все нюхать. Мне кажется, что бабушка у него была собакой. Пушкин меня один раз всю обнюхал. Дай я тебя, Машенька, поцелую.
Маша. Жаль, кончилась пластинка. Дайте мне тоже копченой колбасы. И плесните вина! Он всех раздражал до чесотки, до бешенства. Хотелось ответить ему немыслимым оскорблением. Плюнуть в глаза. Или просто подойти и дать как следует в морду.
Гриша. Он никогда не ездил на лифте. От него быстро начинала болеть голова.
Саша. Он хотел из нас сделать Минина и Пожарского в одном лице.
Наташа. Он все сделал, чтобы продаться Западу. Державин ошибся. Ленин был прав. Пушкин — это говно нации, которое любит делать порнографические снимки самого себя.
Саша. Причем тут Ленин? От Пушкина не останется ни одной фотографии. Пушкин боялся фотоаппарата, как огня.
Наташа. Что вы о нем знаете? Он боялся и не боялся. Он фотографировал меня, а потом носил показывать карточки матери: «Вот смотри, обе — Наташки, но это она, красавица, а это ты, с вислой жопой, грозовыми синяками под глазами». Он умел вломить по самую подсознанку. Мать цепенела от ужаса.
Маша. Говорить о папе никогда не считалось хорошим тоном. Я его однажды спросила: почему тебя люди не любят? И знаете, что он мне на это сказал? Ничего.
Глаша. Прошлым летом было на редкость жарко. Мы прыгали через скакалку. Пушкин смотел-смотрел на нас из окна и вдруг как выкрикнет: «У вас во дворе какая-то своя мода».
Наташа. Это еще что! «Дети — капкан природы. Натуля, я тоже в него угодил», — ворковал мне Пушкин под утро, нежно отрыгивая не помню чем.
Глаша. Это сон? А вдруг придет время и выяснится, что он был прав?
Гриша. Нет, такое время не придет! Скорее умрет литература, вымрет понятие о красоте. Царь Никита и сорок дочерей — вот что будет выбито на его могиле. Рафаэлю тоже было тридцать семь, когда он умер.
Маша. Сравнил!
Глаша. Теперь нужна другая литература, которая поведет за собой, соберет под свои знамена фермеров и интеллигенцию.
Саша. Он умрет — я буду жить в Европе, с Дантесом. Мы будем ездить верхом по Эльзасу, по Лотарингии. Я наконец открыто смогу Дантесу сказать: папа. Как он красив, как красивы наши отцы, Гриша. А этот умел строгать только девчонок.
Гриша. Опять стучат. Маруся, открой!
Маша. Иду. Хватит ломиться в дверь! Значит, мы решились? Кто там ломится?
Пушкин. Пушкин! Мое семейство умножается, растет, шумит возле меня. Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать, и смерти нечего бояться. Холостяку в свете скучно: ему досадно видеть новые, молодые поколения, один отец семейства смотрит на молодость, его окружающую.
Дети Пушкина. Козел!
Любовь и говно
Как быть нелюбимым
О любви написано столько глупости, что, скорее всего, о ней вообще ничего не написано. Возможно, любовь к женщине — это сдача, та, в сущности, мелочь, которая остается в руках мужчины после его любви к Богу, но поскольку утрата религиозных контактов общеизвестна, то крупная купюра любви растрачивается сейчас повсеместно на чувство к противоположному (в основном) полу.
В авторитетном французском энциклопедическом словаре «Лярусс», выпущенном в начале XX века, слово l’amour ассоциируется исключительно с Богом и родиной, о других формах любви просто не говорится, видимо, как о недостойных и мелких предметах, а также, положим, из лицемерия. Весь XX век свелся к тому, что любовь изменила свое русло. На то есть причины. Мир обезбожился. Патриотизм был подчинен грубой идеологии. Любовь к женщине стала любовью с большой буквы и приняла характер монополии, возвелась и выродилась в зависимость.
Мир превратился в фабрику любви. Песни, фильмы, балеты, пьесы, телесериалы, романы, стихи — короче, что принято называть творчеством, в подавляющей своей массе говорит о любви. Что самое главное в жизни? И миллионы раскрытых глоток:
— Любовь!
Женские, мужские, любые журналы со страшной силой раздрачивают любовь во имя своих тиражей. На любви зарабатывается огромное количество денег, любовь как тема разогрета до предела, с нее неизвестно куда соскочить, и то, что все религии мира не любят эту любовь, представляя ее как помеху познанию жизни, забыто напрочь, фактически запрещено рыночной цензурой. Вера заменена чувством еще со времен Возрождения, начавшего любовную революцию, возможно, самую успешную и длинную революцию в истории человечества, которая пришла к логическому завершению уже в наше время, и женщина в результате получила тот общественный и персональный статус, о котором она раньше и не мечтала.
В мировой постели женщина оказалась сильнее мужчины даже чисто физиологически. Вот она разлеглась: ангел Божий! Вот — задвигалась, задышала: похотливая, хитрая сука! Капризность, непостоянство, ветреность любви, ее зависимость от перепадов настроений, мимолетных видений, ромео-джульетовских препятствий, необходимых для ее возгонки и нередко ей тождественных, грязных вонючих носков, сексуальных фантазий, наконец, течения времени — то, что делало ее сюжет авантюрным и о чем трезво, рассудительно писали старые поэты, которых никто больше не читает, не изменилось, но зато изменилось другое: такая любовь выдается за единственное достойное любовное чувство и единственную жизненную опору, на которой держатся брак, семья, успех, дети, досуг, всё.
Когда на дискотеках весело пляшут под песню о несчастной любви — это комическое зрелище. Но когда мужчина оказывается в положении нелюбимого человека, это похуже землетрясения. Брошенная женщина — обработанное, оплаканное культурой явление, незавидный, но предсказуемый феномен, к которому с инстинктивной симпатией (хотя и не без скрытого злорадства) относятся общество и друзья. Женщине свойственна жалоба, она просительница, плакальщица:
Такой текст невозможно ни написать, ни даже выдумать от мужского имени. Это было бы издевательством над самим собой. Если женщина в любовном несчастье обладает стилистически гибким жанром жалобы, способном, в конечном счете, вынести, вымыть из нее горе, то мужчина, став жертвой любовного обмана, выглядит визгливым, ломким, напряженным, негибким: «Я ни перед чем не остановлюсь, защищая свою честь, честь мужа и офицера!» (из книги Бунина «Темные аллеи»). Чистый «лузер». Мужчина заперт в себе, как в клетке, его разрывает на куски, но ему стыдно пожаловаться. Сама ситуация брошенности загоняет его практически в прединфактное состояние: «Сердце у меня колотилось уже в самом горле, било в виски. Я поднялся и, шатаясь, вышел вон» (из той же книги). Молодой Хемингуэй, брошенный его первой любовью, медсестрой Агнес, в описании его родной сестры: «Наконец, пришло письмо. Прочитав его, Эрни лег в постель, у него поднялась температура, он совсем разболелся… Лекарства не помогали, температура не спадала… Я пошла наверх посмотреть, не могу ли чем-то помочь. Эрни сунул мне письмо.
— На, прочти! — сказал он, не в силах справиться со своим горем. — Хотя нет. Я сам скажу тебе…
Он отвернулся к стене, и только через несколько дней он почувствовал себя немного лучше, но разговор о письме больше не возобновлялся». Брошенный мужчина — противоречие в себе, которое вызывает лишь отторжение.
Задача начинается с окончания. Как быть нелюбимым, в отличие от — нелюбимой, создает языковую невнятицу, дает возможность спрятаться в кусты множественного числа, и ищи тебя там, свищи. Но речь пойдет исключительно о тебе.
Ты полюбил большой любовью. Ты сказал о ней: человек моей жизни. С этого момента считай: ты попался. Любовь — это общее кровообращение. Ты полностью открылся. Ты безоружен. На фоне благополучия происходят, конечно, какие-то недоразумения. Тебя они беспокоят, но все в порядке. Тебя ревнуют. Тебе говорят, что тебя любят. Тебя нежно обнюхивают, с тобой строят планы. Тебя называют ласковыми словами. В словах ты уменьшен, превращен в зайчика. Как бы тебя ни называли, ты — маленький. Нет, в отношении к миру ты — большой, ты больше, чем когда-либо, у вас сдвоены энергии, вы непобедимы. Но в самом себе ты маленький, ты только половинка.
И тут она тебя бросает. И не просто бросает, а уходит к другому, любимому человеку.
Ты начинаешь обливаться кровью.
В гостиничных правилах написано, что делать при пожаре. Пожар — радость по сравнению с тем, когда тебя бросает человек твоей жизни. Сначала ты пройдешь через полосу большой лжи. Тебе предстоит выслушать огромное количество вранья. У нее изменятся отношения со временем. Она будет куда-то исчезать, у нее телефон приобретет другое значение, она впадет в необъяснимую задумчивость. В походке появится странная аккуратность. В глазах застеклянеет выжидательное отношение к собственной жизни. А ты будешь ничего не понимать. Ты будешь недоумевать. Если ты чувствуешь, что начинаешь метаться — значит, уже поздно. Ты уже убит. Значит, убей любимого человека или уйди. Не беги за ней, не бросайся вдогонку. Не поможет.
Но ты еще не созрел, мужик.
— Ты чего заметался? — спросит она тебя, разглядывая прищурясь, как объект наблюдения.
— Я? Ничего. Просто курю.
— Ну, кури.
Мужчина не должен метаться. Кодекс чести запрещает ему обижаться, бычиться, нервничать, переживать — во всех этих положениях он смешон (для сравнения: «она смешна» вообще по-русски не выговаривается).
Она будет отдаляться, а ты будешь думать, что она стоит рядом. Потом настанет день, когда ее ложь вскроется, и как бы ложь ни вскрылась, она вскроется отвратительным образом. Если для тебя это будет самый чудовищный день твоей жизни, для нее — счастливый. Она так тебе и скажет. Ей не надо больше врать. И она будет вся светиться от любви к другому человеку, будет такой красивой, какой ты ее, может быть, вообще не видел. Она даже не сдержится и с особой интонацией расскажет, какой он хороший. Она скажет, что он ей «братик», что они «из одной корзины». Потому что по инерции она еще хочет поделиться с тобой. Но только по инерции.
В эту ночь обычно бьют морду и раскрываются интересные подробности. Оказывается, она тебя уже всем сдала. Ты не знаешь, а вокруг знают. Знают ее подруги (и уже виделись с ним), знают на ее работе, знают ее родственники. Кроме того, ты узнаешь, что она приводила его в вашу квартиру и что она спала с ним в вашей постели. Мужик, ты, конечно, тоже когда-нибудь трахался в кроватях обманутых мужей (когда они были на работе или в отъезде), но ты этого не заметил. Если женщина ведет тебя трахаться, странно спрашивать, кто спит в этой кровати. Это — кровать твоей победы.
Первый удар будет тебе по яйцам. У тебя отнимутся яйца. Ну, просто онемеют. Ага, они будут как будто парализованными. Такое ощущение, что тебя выхолостили, что они пустые, одна мошонка осталась. Они не болят и не ноют — они бессмысленно болтаются. Вместе с этим наступит крах твоего мужского самолюбия. Ты быстро станешь жалким. Она это увидит и этому ужасно обрадуется. Ты во всем будешь не прав.
Тут-то твоя любовь и закольцуется: помнишь, в первую ночь любви она тебя, нетерпеливого, звала ласково дураком, а теперь ты станешь для нее мудаком. Она так тебя прямо и назовет. Если у тебя есть склонность к философии, ты даже можешь получить от этого опыта новое знание, но сначала ты сделаешь страшные ошибки.
Тебе захочется с ним, с «братиком», встретиться. По современной этике, в сущности, это даже некорректно, потому что она сделала выбор. Он — никто. Ты пройдешь через период девальвации с ее стороны. То, что на следующее утро после мордобоя она захочет вызвать милицию, чтобы тебя засадить за хулиганство, это жестоко, непонятно для тебя, но кое-как объяснимо. То, что она несколько позже тебе скажет, что ее любимый приложил все усилия, чтобы тебя не побить, тоже тебя удивит, но с этим ты, наверное, тоже справишься. А вот то, что она начнет тебя девальвировать, это будет невыносимо. Она сделается бесчеловечной. Она создаст твой образ, не похожий на тебя, но очень обидный. Ты вскричишь:
— Это не я!
Она уничтожит тебя тем, что скажет:
— Я выходила за тебя замуж не по любви.
— Я давно в тебе разочаровалась.
Давно!
И еще скажет:
— У тебя противные зубы.
Она ударит по реальным физическим недостаткам, которые в тебе неисправимы. Ей будут противны твой рот, шероховатости твоего лица, уши, ноги, живот. Она сообщит тебе об этом, не стесняясь. Она будет не стыдиться раздеваться перед тобой, даже, напротив, со странным удовольствием это сделает, залезет при тебе в ванну, примет бесстыдную позу, но ты в голом виде со своим дурацким хуем будешь вызывать у нее только омерзение. В тебе найдут миллион недостатков, твой образ превратится в труп.
Ты узнаешь, что ты вообще не тот тип мужчины, который ей нравится, и она будет все это говорить очень спокойно, подбрасывая фантики от конфет в воздух. И, продолжая подбрасывать фантики, она скажет, что у нее с тобой был плохой секс и спросит, почему он был плохой. А если есть разница в возрасте, она скажет, что ты — старый и тебе осталось недолго жить. И ты снова окажешься мудаком, что бы ты ей ни ответил.
Полина Суслова, чемпионка России по киданию ярких личностей, типа Достоевского и Розанова, написала в краткой записке последнему после того, как его бросила: «Тысячи людей в вашем положении — и не воют. Люди не собаки».
Если тебе повезло, и она оказалась порядочной женщиной, то она довольно скоро начнет тебя жалеть и даже несколько беспокоиться о том, что ты останешься один. Если тебе не повезло, и она непорядочная, ты пройдешь через ад, по сравнению с которым мука жалостью будет ерундой. Впрочем, скорее всего, исходя из нравов в отечестве, она будет двоиться на порядочную и непорядочную одновременно, и ты получишь по полной программе.
Ты потеряешь контроль над своей жизненной ситуацией. Такого с тобой еще не случалось? Это новое мерзкое ощущение — не владеть положением. Твое будущее зависит от нее. У тебя выбит руль из рук. Смотри: ты летишь с моста в реку. Если сразу не погибнешь, ты поплывешь — и долго будешь плыть.
Ты реально подурнеешь. Потом когда-нибудь посмотришь на фотографии этой поры и поймешь, о чем я говорю. У тебя провиснут щеки, рот станет безвольным, лицо бабьим. Волосы слипнутся, хоть ты их мой каждый день. Зато глаза — брошенный мужик определяется по глазам — будут как будто промыты горем. У тебя никогда больше не будет таких светлых, просветленных глаз.
Тебе больно смотреть на ее фотографии. На ваши свадебные снимочки. Ты можешь даже разрыдаться, мужик. Ляжешь на диван, отвернешься спиной к человечеству, подожмешь ноги, как эмбрион — и спина начнет ходить ходуном, нехорошие из тебя выйдут звуки. Я видел своего друга в таком положении. Я подошел, похлопал его по плечу. Я не знал, что ему сказать. Постоял, посмотрел на трясущиеся плечи. Соединились жалость и отвращение. Лучше бы она умерла. Если бы жена у него умерла, слова бы нашлись.
У тебя начнутся сексуальные видения. Ты станешь беспомощно спрашивать ее, как же она всю себя ему отдает. Тебе будет зримо представляться, как она у него сосет, как он ее властно, по-хозяйски крутит в руках, ставит раком, а ей все это ужасно нравится. От этого в первое время можно просто свихнуться. Ты будешь саморазрушаться, мужик. Беднеть умом, если он у тебя есть.
Между тем ты не учитываешь той простой истины, что ты находишься в неравном положении. Ты — один, а их — двое. У них там штаб, мужик. Ты обкурился до одури, а они едят мороженое в шоколаде, она ему все пересказывает, и в таком виде, что ты выглядишь уже совсем полным мудаком. Ты же ее побил на кухне, забрызгал пол кровью, но ты об этом не помнишь, а она помнит. Она тебя боится, и она все с большим удовольствием играет в то, что она тебя боится. Ты интересуешься какими-то периферийными сторонами ее интимной жизни, но ее новая любовь не сводится к траху, это большое светлое чувство, а ты суетишься, что-то доказываешь.
Лучше всего, сразу разворачивайся и уходи. Расставаться надо кратко, в один монолог, как в модном романе Харуки Мураками «Охота на овец», который она так любит, но ты станешь многословным, как Достоевский в «Братьях Карамазовых». Степень ее интереса к тебе сильно упадет, почти до нуля. Ты будешь помнить и запоминать, повторять каждое ее слово, а она этого делать не будет. Ты откроешь с ней свой внутренний диалог, куски которого будут входить в ваши с ней объяснения, а она будет поднимать брови и удивляться тому, что ты говоришь, как по писанному. Ты захочешь с ней объясняться бесконечно, а она будет находить любые причины, чтобы сократить объяснения, зевать, говорить, что завтра ей надо рано идти на работу, а наутро ты случайно узнаешь от кого-нибудь, что она протанцевала всю ночь со своим любимым.
Ты будешь не больше, чем вторым, и, в любом случае, меньше, чем первым.
Она тебя тащит на самое дно, под корягу, чтобы там и оставить. Она расчищает пространство для своей новой жизни. Ей надо отделаться от тебя, вырвать из себя с корнем. Твоя самооценка летит вниз, как сорвавшийся лифт, и вдребезги разбивается. Отличная идея — застрелиться. Что будет значить твое самоубийство? Зеркальное отражение ее слов о тебе, обращенных к любовнику: «Но Бог с ним, лучше смерть, чем эти муки…» (Бунин). Самоубийство — экстремальное согласие с ней. Наконец-то вы сольетесь во мнениях. Сладостный миг примирения. Гармония помыслов. Ты отрываешься от себя, становишься смертником ее подсознания. Ты подчинен окончательно ее воле. Ты дашь умереть себе, мужик, как ее отсохшей половине — то есть полностью выполнишь ее подспудное желание покончить с тобой: «Возвратясь в свой номер, он лег на диван и выстрелил себе в виски из двух револьверов» (Бунин). Узнав о твоей смерти, она, как кошка, облизнется в душе. Какая женщина втайне не будет гордиться тем, что мужчина умер из-за нее? Это — орден, пожизненно прикрепленный к ее биографии. Но не спеши, мужик, с наградой.
Настрадавшись, ты ощутишь чистую линию своей любви к ней, и это яркое понимание будет иметь метафизический смысл, мистическую привязанность, как будто свою ауру подсмотрел. Ты попытаешься ей это объяснить. Ты скажешь, что все может быть прощено, кроме одного: вы оба нарушите единую карму жизни, если расстанетесь друг с другом. Ваша встреча была неслучайна, волшебна, записана на небесах, и вам надо сохраниться как паре. Она тебе ответит, что вы не пара. Вот тогда она ударит по карме. Это будет ее удар, и она будет нести за него ответственность всегда. Если вы, в самом деле, были парой на небесах. А, может быть, вы не были парой. Вам это приснилось.
Ты начнешь устраивать с ней свидания, на которые будешь мчаться так, как никогда не мчался. Она исхудала. Потеряла десять килограммов. И ты тоже похудел на десять кило. Она скажет:
— А, может, это СПИД?
Она еще сомневается в своих поступках, ее «колбасит», но это сомнение, совершенное после предательства. Она тебя предала не в ебле, не в прочих лизаниях со своим новым другом. Она предала тебя в тот момент, когда прервала внутренний диалог с тобой. Вот это порог любви-нелюбви, когда переключается энергия, и ты уже не половинка, а обрубок, из тебя хлещет кровь. Она, быть может, в шоке от предательства, но это ее самостоятельное состояние, следствие действия, осуществленного без тебя. Вы уже не «мы». Возможно, когда-нибудь, в других измерениях жизни вы встретитесь. Ты не найдешься, что спросить. Ведь ты знаешь ее ответ. Как дела? Она тебе скажет:
— Замечательно.
В любом случае. Или, воспользуясь первым выражением, утвержденным в русском языке нового века: по-любому. Тебе по-любому этого ответа не надо.
В любовной, эмоциональной сфере жизни мы, русские, по сути, люди, приближенные все-таки к Востоку. Любые выбранные нами западные действия ни к чему хорошему не приводят. Принципы соревновательности, инстинкт охотника, категоричность, определенность, мужская победительность (аналогично и у женщин) — все то, что характеризует параметры западного активизма, у нас не только не работает, но разбивает и разрушает возможности. Лучше сядь и жди, когда труп врага пронесут мимо порога твоего дома. Здесь не работает западная идея: догнать, убедить и перегнать. Европейство в русских отношениях поверхностно и дурашливо.
Но ты не сядешь на пороге.
Если в тебе есть хребет, ты преодолеешь мужское самолюбие. Это нетрудно. Если ты не выдуманный, настоящий, ты преодолеешь и чувство хозяина ее тела. Это сложнее, но — преодолеешь. Но зато тебя задолбает надежда. Надо сесть в тюрьму или быть брошенным, чтобы понять, что надежда может быть самым заклятым твоим врагом. Ты позвонишь ей однажды на работу, у нее будет грустный голос. Как ты обрадуешься!:
— Почему у тебя грустный голос?
Любовь любит примитивные формы изложения материала. Она ответит:
— Я грущу по прожитой с тобой жизни. Все-таки в ней было немало хорошего.
— Ну, и вернись ко мне, — тупо скажешь ты.
Она глубоко вздохнет. У нее будет целый период глубоких вздохов в разговорах с тобой. Не спеши радоваться. Это плохой знак. Это клиническая смерть любви. Возможно, она хочет перевести тебя в другое качество, оставить возле себя, она хозяйственна, ты ей пригодишься в жизненном хозяйстве, найдется роль, ты же ей все-таки тоже «не чужой человек» (когда она тебе это скажет, ты взвоешь). Беги, мужик, что стоишь, беги, а она подбирает крошки, как Брик подбирала Маяковского, который сохранился в истории самым брошенным мужчиной XX века. И будь ты хоть генералом, хоть второкурсником, хоть издателем новейшей французской философии, суть от этого не меняется: ей нужен не ты.
Не становись Маяковским. Не пиши перед смертью, что она часть твоей семьи, не вези ей из Франции «рено», пусть ей ее Брик возит. Или становись и вези «рено», и пиши, что она — часть семьи. И Татьяна Яковлева тебя тоже бросила, Маяковский. Я помню, как я с ней разговаривал о Маяковском в Коннектикуте. Она, конечно, гордилась, что ее любил Маяковский, хотя, по ее словам, он не был таким талантливым, как Бродский, но зато очень остроумный, очень-очень остроумный, и напрасно говорят, что у него было что-то не то по мужской части. Все было то. Но она говорила так, что было понятно: она его не любила. Вот ведь гений, а — не любила. Яковлева с интересом посмотрела на меня.
— Ну, разденьтесь и поплавайте. У нас в бассейне вода из океана.
Я разделся и поплавал. А она сидела и смотрела. Она была высокой, худой и, по-моему, красивой старухой. Ее вполне можно было трахнуть, став в ряд с Маяковским, но она была с палкой и скрипучая, и муж Либерман рядом. О любви можно писать только сырыми словами, а не так, как писал Маяковской, муча перчатки замш.
Она расскажет тебе свои сны. Ты ей снился. У вас будут разные сны. Тебе будут сниться кошмары, тебя будет жрать во сне всякая нечисть, будет много крови, а ей будут сниться сны о том, как она на инвалидной коляске уезжает из дома, в котором жила с тобой.
— Ты подумай, что тебе снится! Инвалидная коляска!
Она тяжело, шумно вздохнет.
— Ну, расскажи, — скажет, — как тебе плохо без меня.
И тогда непонятно из какого боулинга на тебя выкатится ее шар с надписью:
— Жди меня, если хочешь.
Вот тебе еще один паяльник. И когда пройдет время, она тебе скажет:
— Как ты лажался! Ведь все было ясно.
— Я хотел тебя вернуть.
Вот это ты хорошо скажешь. Она не будет знать, что сказать. Она оставила после себя грязный след. Она грязно ушла, залив пространство мочой и говном. Она любила грязь, и грязь ее нашла.
У тебя, мужик, с головой не в порядке. Тебе захочется написать ей письмо, причем непременно с мстительными интонациями. И ты будешь писать его в голове по ночам, вместо того чтобы спать. Твою беготню она сочтет твоей мужской слабостью, она станет с тобой капризна, раздражительна, будет диктовать свои условия, в разговоре за ней всегда будет последнее слово. Если ты совсем охуеешь, ты будешь провожать ее до дома, где она живет со своим любовником, и поразишься ее бескорыстности: она ушла от тебя не вверх, а вниз по статусной лестнице, она живет в чужом углу, с чужими кошками — чтобы не жить с тобой.
«Бабье, — сказала мне моя 30-летняя домработница, хохлушка из Винницы, — похоже на собак, простите за неудачное сравнение. Им готовишь еду, кормишь — они даже к миске не подойдут. Но стоит взять у них миску и сделать вид, что ты уходишь, они бегут за тобой и требуют жрать».
Затем ты будешь страдать из-за паники: Что с тобой будет дальше? Как жить одному? Ты бросишься знакомиться с какими-то бабами, убеждать себя в том, что так надо, что Катя — ничего и Светка — тоже, но от Катьки будет вонять гуталином, а от Светки у тебя начнется аллергия. Ты будешь в состоянии человека, которого лошадь волочет за ногу. Она к тебе никогда не вернется. Через знакомых ты узнаешь, что она счастлива, что они куда-то съездили на край света, купили квартиру. Ты запьешь. Заболеешь.
Начнется депрессия. У тебя не будет сил работать. Будешь сидеть — смотреть в одну точку. После разрыва с Ольгой Хохловой Пикассо не мог писать картин в течение целого года. Как впечатлительны художники! Но зато у них есть Богом данная сублимация. Хуже бухгалтерам. Впрочем, для тупых все, в конечном счете, восполнимо.
А напоследок она скажет: если бы ты правильно себя вел при нашем разрыве, я бы не ушла.
А ты будешь думать: как же это — правильно? И рана останется на всю жизнь. И не будешь ты такой жизнерадостный, как прежде, никогда. Ты станешь подозрительным, как почти все русские люди. И все — весь город, весь мир, все ангелы — будут говорить, что тебя она бросила. Указывать на тебя пальцем. И тогда ты спросишь, а как надо было поступать.
А я тебе скажу, что так и надо было поступать, как ты поступил, может быть, только поменьше бегать за ней и надеяться, но это не получается ни у кого из живых людей.
Просто такая у тебя судьба — быть брошенным, да еще человеком твоей жизни.
А если ты скажешь: да не была она человеком моей жизни, — не поверю, и не собирай на нее компромат, и не говори, что ты ее придумал, что она не умеет любить. Она была твоим метафизическим отражением, вы с ней были ужасно похожи, но она полюбила другого, притом что когда-то любила тебя. И никогда не говори о ней плохо. И не желай ей того, чего пожелал Агнес фон Куровски мстительный Хемингуэй, узнав, что она возвращается в Штаты:
— Я надеюсь, что она споткнется на пристани и выбьет свои передние зубы.
Отверженный еврейской невестой в Берлине, Набоков в отчаянье ехал забыться в Париж. Забыться не удалось. Любимый город явился ему серым уродцем — вот тебе страдания юного Вертера. Впрочем, отверженность, очевидно, биологически «лучше» супружеской неверности: самка имеет природное право на выбор; за измену мусульмане до сих пор жестоко убивают своих жен. Однако брошенный (или отверженный) художник имеет возможность «доказать» ей: он наращивает свою раздавленную самооценку через славу. Он наивно, по-детски верит, что когда-нибудь, узнав об его успехах, она будет кусать себе локти. Брошенность — мотор. Мотор ревет — слова рождаются — слава лечит. Не будь разрыва с Агнес, не было бы, глядишь, романа «Прощай, оружие!». Литературе нужны брошенные писатели. Они верны своим переживаниям о разрывах. Прошло пятнадцать лет, а Хемингуэй не мог успокоиться. В «Снегах Килиманджаро» он опять вспомнит Агнес: «Он написал ей, первой, той, которая бросила его, что ему так и не удалось убить в себе это… О том, как она прошла мимо «Режанс» и у него все заныло внутри, и о том, что если какая-то женщина чем-то напоминала ее, он шел за ней по бульвару, боясь убедиться, что это не она…»
«Все заныло внутри» — это хорошо, это реальное последствие той давней болезни, горячки разрыва. Но откуда все-таки взялась тогда температура? Почему так чудовищно больно потерять любимую женщину, которая тебя бросила?
Любой рациональный ответ, связанный с эгоизмом, чувством собственности, уязвленностью, паникой, мужским страхом одиночества и т. д., в конечном счете, беспомощен. Разрыв имеет не только и даже не столько земную природу. Разрыв разрываетткани человеческой природы, но вместо тайны видно одно кровавое месиво.
Не знаю, думал ли об этом Хемингуэй. Но Бог в ним, с Хемингуэйем (тем более в переводе)! Не было бы Полины Сусловой, не стало бы Настасьи Филипповны. В конце концов, брошенный ленинградской подругой, Бродский дошел до Нобелевской премии. Не случилось бы только «любовного инфаркта» (медицинский термин) — как это произошло с другим, слишком скрытным, нашим российским поэтом.
В любом случае, мужик, не превращайся в бабу: Мария Розанова (вдова Синявского) в том же Париже с гордостью рассказывала мне, что трое мужчин, которые ее бросили, умерли «досрочно»: один утонул и т. д. Неверность — побочный продукт фабрики любви. Говорят, будто почти каждый четвертый ребенок в мире имеет двух отцов: официального и реального. Не призывай несчастий ей на голову. Не забудь сказать ей на прощание:
— Будь счастлива.
Ты все время хочешь осудить ее и осквернить. Зачем? Облегчение тебе это не принесет, — пишет в дневнике Даниил Хармс, еще одна литературная жертва любви. — Да ты и сам знаешь это. Думай о ней все лучше и лучше. Тогда она станет святой.
За это, кажется, тебе будет большой бонус. Веди себя достойно, не ропщи на судьбу и не кури много, и больше никогда не доверяй женщинам. Люби Бога и государство. Стань самодостаточным, откажись от платоновских домыслов о второй половине. Неуверенный, жалкий, одинокий, ты годами теперь будешь ждать, прежде, чем снова решишься полюбить.
Сны брошенности — это песня о великой травме. Из кровавого триллера они медленно превратятся в кошки-мышки. Пройдет два-три года, тебе по-прежнему время от времени снится она. Ты идешь по шумному месту, кажется, это — кафе. Сидит она. В желтом капюшоне — по сну, модная вещь, — значит, она в порядке, «на коне». Здороваешься, отмечая про себя, что не дрогнули мускулы твоего лица (вроде, победа, преодоление ее нужности). Но она занята, предлагает встретиться позже, посылая тебя в статус ожидания, и ты ждешь — думаешь, что она скоро подойдет, в своем углу ждешь ее с волнением, она не подходит, и ты выходишь ее встречать, ищешь (мотив твоего нового провала: ожидание и безнадежные поиски), а она не появляется вообще — исчезает. И тут же подворачивается, под горячую тему, какая-то женщина и говорит, что она ушла «к Андрею» (что значит — ушла? что за Андрей?), и ты ловишь слова (тебе нужно узнать: как она? — информационный голод — еще один подсознательный провал) — и просыпаешься с недолеченной раной. Ты ждешь от несостоявшейся встречи ее признания, что она, в конечном счете, осталась в дурах, и ее снова потянуло к тебе, и ты наконец-то становишься хозяином положения, можешь отыграться, но при этом замечаешь, что она и вправду тебе сама по себе не нужна, а нужно только ее раскаяние. Измена с самого начала раздвоила ее образ: ты ждешь сближения с ней и ее же (как Хемингуэй) выбитых зубов. Но вместо ее раскаяния ты ощущаешь свою второстепенную роль — «подожди, я приду». Подобные сны будут повторяться с постепенным выравниванием ролей. Она будет появляться во сне и куда-то манить тебя, а ты будешь колебаться, а затем неосторожно идти за ней, но, в конце концов, она пропадет. А потом как-то раз она приснится тебе — явственно бледная, словно замученная твоими травмами, небольшая ростом (маленькая по сравнению с тобой), стоящая вроде бы на мосту. Но это уже вряд ли она (она — реальная — к тому времени не только родит от него ребенка, но и отдаст ребенка в детский сад), а отражение твоей борьбы с собой, и вдруг тогда она тебя отпустит.
Возможно, это хорошо: пройти через опыт брошенности, понять свои границы и свои слабости, не быть высокомерным идиотом. Впрочем, я не уверен. Впрочем, смотря для кого. Одни на мине подрываются, а ты — на любви. Не надо было полностью вкладываться, затевать общее кровообращение? Да ты что! Просто такая вот у тебя судьба. Быть опущенным. Ничего не поделаешь.
Держись, мудак.
Держись, мужик.
До встречи, брат, в раю.
Ерофеев против Ерофеева
Наконец, когда в газете «Новый азиат», издающейся в Дели и присланной мне из индийского посольства с любезной и бестолковой припиской некоего г-на Патнаика, я прочел соболезнующие строки о себе как о жертве сравнения с моим великим однофамильцем («Poor Victor!» — восклицал индийский журналист), я подумал: «Доброе утро, Индия! Ты тоже проснулась!», — и тогда до меня дошло, что этому не будет конца: я имею дело с глобальным заговором и пожизненным приговором. Сначала в Москве, дальше в русской глубинке, затем в Европе и США, сегодня в Индии, завтра в Эфиопии, послезавтра на Борнео и на Огненной Земле, я, как стоял, так и буду стоять Святым Себастьяном со связанными за спиной руками, и все кому не лень будут изо всех сил меня сравнивать.
Однако «Новый азиат» оказался еще более изощренным орудием заговора, нежели я ожидал поначалу. Вчитавшись в текст, отпечатанный на желтоватой бумаге третьего мира, я обнаружил, что он написан не каким-то неведомым мне индусом, а моей английской знакомой, сотрудницей культурного отдела газеты «Таймс», которая пару раз довольно приветливо писала обо мне, а тут, посмотрев лондонскую постановку по книге однофамильца, вспомнила о бедном Йорике и так красноречиво отреклась от меня, что «Новый азиат» не мог не перепечатать статью из главного органа своих бывших колониальных хозяев.
Я, впрочем, уже не сомневался в том, что сети заговора плетутся не померещившимся мне индусом или знакомой англичанкой, но, как и раньше, как всегда, в спектакле видна закулисная, если не сказать того хуже, рука мастера.
Венедикт Ерофеев сложился как гений. Русский гений есть гений жизни. Жизнь русского гения тождественна национальным идеалам. Она ими определяется; она их определяет. Русские национальные идеалы в равной степени не отрицательны и не положительны. В них есть, скорее, положительная отрицательность, укрепленная в гнезде частицы без.
Без — всего лишь видимость ущербности — на самом деле, утверждает ущербность видимости.
Без — вызов любой форме жизнестроительства как недостойного дела, достойного презрения — вызывает в русском мире эрекцию уважения.
Без — дорогой и дешевый соблазн. Дорогой для тех, кто способен преодолеть жизненный позитивизм. Дешевый — для тех, кто не способен ему соответствовать. На пути к без встречаются сильные и слабые духом и незаметно составляют одну толпу, в которой всем есть место затеряться.
Без — положительный полюс обделенности, преображение утраты в приобретение, проходящее параллельно христианской аксиологии, обретающее абсолютную значимость по аналогии. Перехват моральной инициативы: без становится нравственной инстанцией. До Бога рукой подать. Главное, протянуть руку в правильном направлении. «Игра» в Христа, если на карту ставится жизнь, обеспечивается крупным выигрышем. Происходит выброс мифологической энергии. В результате: поэма «Москва — Петушки».
Без — ключевое слово «Петушков». Слова с без идут валом, волнами, повторяясь многократно, настойчиво и неосознанно для автора. Через без объясняются основные жизненные понятия. См. по тексту:
Любовь — беспамятна.
Секс — бесстыж.
Страсть — беспамятна и бесстыжа.
Жизнь (как и икота) — беспорядочна.
Разум — бессилен.
Атеизм (безбожник) — безобразен.
«Мы» (русские) — беспомощны, бестолковы, безнадежны, безучастны, бессмысленны и тоже безобразны (без негативности), но одновременно: безграничны, беззаботны, бесстрашны и даже, может быть, бессмертны (без позитивности).
«Петушки» — поэма русской модальности. Разница с Востоком — в отклонении от не, тяготении к без. Восток вошел в «Петушки» большим количеством гирлянд со словом не: не работает, не учится, не курит, — но все эти не беспокоят и раздражают русскую душу. Она бежит от восточной фундаментальной неподвижности, она признает наличие западного движения, но отрицает его по касательной, предпочитая движению или неподвижности состояние без движения. Не в «Петушках» — отрицание внешнее, поверхностное, политическое; без — отечественная духовка.
«Черт знает, в каком жанре я доеду до Петушков… От самой Москвы все были философские эссе и мемуары… Теперь начинается детективная повесть». Со сменой жанра (конец первой трети текста) в «Петушках» отлетают все без, как пуговицы или как ангелы. Остается текст — предвестник стеба. Остается автор, путешествующий без билета, без денег, без жабо, без стакана, без бутерброда и без орехов для сына.
Поэмы не было бы, если бы ерофеевское «я» и русское «мы» были раздельны. Поэма состоялась, ибо ерофеевское «я» и русское «мы» оказались неслиянны. Наконец, неслиянным и нераздельным оказался автор и повествователь. Теологический принцип Троицы превратил поэму в национальный эталон. Русский замкнутый мир поэмы ждал от автора своего оправдания, но был оставлен чудесно недооправданным, зато ерофеевское самооправдание удалось в полной мере.
Безотцовщина — в русской структуре — лучше любого отцовства. Бессребреник лучше деляги точно так же, как бескорыстие лучше всякой корысти. Жить без паспорта, без прописки, без диплома и нижнего белья, безоглядно, безотчетно, безудержно, беспробудно, безжалостно, бескомпромиссно — все это значит по-русски жить безукоризненно.
Так жил Ерофеев.
С Ерофеевым я познакомился в лифте. Он глядел прямо перед собой. Я глядел себе под ноги. Мы молча ехали вверх. Обоим было ясно, что он лучше меня во всем. Он был более высокий, более красивый, более прямой, более благородный, более опытный, более смелый, более стильный, более сильный духом. Он был бесконечно более талантлив, чем я. Он был моим идолом, кумиром, фотографией, вырезанной из французского журнала, культовым автором любимой книги. Мы ехали в лифте в хрущебном районе, в хрущебе, вставшей на попа. Он сказал, глядя прямо перед собой:
— Тебе бы, что ли, сменить фамилию.
Я невольно взглянул ему прямо в лицо. Лучше бы не делал. Он стоял в пальто, в слегка сбившейся набок шапке, придававшей ему слегка залихвацкий вид, красиво контрастирующий с наглухо застегнутой белой рубашкой и ранней сединой. Лицо выражало легкую брезгливость и легкую беспощадность, вполне достаточную для мелкой жертвы.
— Поздно, Веня, поздно, — сказал я с отчаянным достоинством маленькой обезьянки (храброй участницы демократического движения, организатора альманаха «Метрополь», уже автора «Русской красавицы»).
Я был сам во всем виноват. Я подставился. Зачем потащился в хрущебу слушать, как он читает только что написанную пьесу? Я же зарекся не знакомиться. Мне ужасно хотелось с ним познакомиться. Я не помню, когда прочитал «Петушки» в первый раз, где-то в начале 70-х, но зато точно помню свой телячий восторг — Херес! Кремль! Поцелуй тети Клавы! Революция в Петушках! Хуй в тамбуре с двух сторон и стрельба в Ильича с женских корточек! — и свою первичную легкомысленность… отрешенность… подумаешь!.. я даже не обратил внимания… в отношении однофамильства. Меня с ним рано начали путать… мне было мучительно лестно… я отнекивался, смущаясь и радуясь поводу поговорить о его книге… и меня, как я потом говорил в газетах, стимулировало… то, что путали…
Вся квартира превратилась в ритуальную кухню подпольной культуры, почти (как оказалось позже) на излете: начался 1985-й год, — но прежде, чем читать, Ерофеев пустил по кругу шапку для сбора денег. Молодое инакомыслие полезло по карманам в поисках трешки. Шапка наполнилась до краев. Кто сходит?
Вызвался я. Не без тайной детской мысли все-таки понравиться и оправдаться (хотя бы за голландскую историю, см. о ней ниже). У меня единственного была машина.
— Подожди только, не читай без меня, — предупредил я Ерофеева и уехал в советский винный магазин с неповторимым и незабвенным запахом, который нюхала вся страна. Отстояв получасовую очередь, я купил ящик болгарского красного сухого и внес его в квартиру будущих друзей перестройки. Ерофеев читал, презрев нашу договоренность. Я растерянно остановился на пороге. Ерофеев прервал чтение и сказал извиняющимся голосом:
— Дай дочитать до конца первого акта, и мы выпьем.
Ящик вина получался сильнее чтения. Я поймал юродствующую интонацию, граничившую с искренностью. Когда Ерофеев кончил, его жена Галя собрала странички рукописи в папку и села, трогательно прикрыв ее попой.
— Чтобы не потерялась, — важно объяснила она.
Вино было дрянь. Знакомство не состоялось. Начинала действовать метафизика однофамильства: в глубине души я был рад, что пьеса мне не понравилась.
Однофамилец — дурной двойник, угроза, тень, одни неприятности. Он ворует твою энергию, не делая при этом ровно ничего, одним фактом своего существования. Однофамилец — всегда узурпатор, самозванец, шаги командора, каменный гость, претендующий на твое Я, на твою идентичность.
Уже даже тезка — узурпация, дурное подобие. Если в компании две Иры, как-то неловко, будто на них одни и те же рейтузы. Однофамилец присваивает себе более существенные вещи. Он претендует на авторство, вносит разлад, нарушает целостность восприятия. Оказывается, ты не один. Ты репродуцирован, стало быть, даже унижен.
Однофамилец — враг. Родственник, носящий ту же фамилию, — собиратель энергии, общий котел. С ним не делиться, им — гордиться.
— Это не я. Это — мой брат, — с улыбкой.
— Это однофамилец, — всегда с раздражением.
На афише видишь свою фамилию — однофамилец — раздражает.
Если фамилия общеупотребительная, к однофамильцам волей-неволей привыкаешь, как к физическому дефекту, как к хромоте. Когда фамилия редкая, однофамильство даже радует. Хочется взглянуть, кто еще носит твою фамилию. Встреча в пустыне.
Беда с фамилиями средней частотности.
Ерофеев — слово двух основных греческих корней. Имеет отношение к любви (Эрос) и к Богу (одного корня с теологией, теософией, теодицеей). В русской транскрипции: Боголюбов. Но Боголюбов фонетически классом выше Ерофеева. В Боголюбове есть известное благородство; Ерофеев — плебейская фамилия, легко переходящая в дешевые кликухи: Ерофей, Ерофа, Ерошка — почти дразнилки, и, конечно, в название подзаборной водки «Ерофеич» (ее любили обыгрывать в советской юмористике).
Фамилия богата греческим значением, но на русской почве какая-то стертая, неяркая, с малоприятным звукосочетанием «фе» — типа «фу»! Ее часто путают. Учителя мою фамилию никак не могли запомнить: Ефремов, Еремеев. А еще — Дорофеев. А еще (для одноклассников) футболист Малофеев. И дальше уже малафья… И всегда было неприятно, когда путали фамилию. В прачечной приемщицы грязного белья норовили написать ее химическим карандашом через «Я».
Сделать из такой фамилии нечто твердое, определенное — большая сложность. Если делаешь, если получается — однофамилец особенно раздражает, вторгается на твою территорию. Естественная реакция — гнать его вон. Он спутывает карты, он забирает то, что ты сделал, живет на твой счет.
Короче, ужас, преодолеть который можно только через осознание своего удела.
С однофамильцем «мы» не бывает.
Тезисы взяты — кое-что осталось нерасшифрованным — из «Атласа автомобильных дорог СССР». Отправляясь на вечер «Два Ерофеевых» (1987 год, кинотеатр на Красной Пресне), я набросал их на форзаце атласа, сидя в машине в очереди на бензоколонке.
Боб был своим человеком в Москве, и когда он — голландский консул, друг богемы — позвал на ужин, я с легкостью согласился. В начале 80-х годов Голландия представляла в СССР интересы Израиля; молодой, улыбчивый Боб помогал людям эмигрировать. До Москвы он работал в Индонезии; квартира у него имела экзотический, нереальный для строгой советской столицы вид: плетеные кресла-качалки, маски, статуэтки тропических богов, ковры и коврики расцветки «Закат на экваторе».
На ужин собрались консулы разных западных стран. Горели свечи. Стоял дух европейской дипломатии: торжественный и непринужденный. Никого из русских, помимо меня, не было. Это меня удивило, но после двух порций джина с тоником удивление размякло, после третьей — исчезло. Консулы засыпали меня бесчисленными вопросами. Горничные из органов УПДК разливали французское вино и обращались ко всем «господин», делая для меня выразительное исключение. «В тюрьму тебя, а не за столом сидеть!» — говорило это исключение, но я слишком увлекся беседой, чтобы его расслышать.
Я сидел во главе большого стола, ел, много пил и говорил без остановки. Всеобщее внимание ко мне я расценил как дань уважения консулов к «интересному собеседнику». Я раскраснелся, даже немного вспотел. Я внушал консулам и их не по-московски загорелым супругам, что русский язык богат, а русский народ нищ и что благодаря и вопреки всему этому я никуда отсюда не уеду, ибо каждый настоящий русский писатель должен пройти через свой эшафот, чтобы найти свой голос. Я не заметил, как горничные убрали грязные тарелки и разлили шампанское. Наступила какая-то особо торжественная пауза.
— Сейчас будет тост, — заявил Боб и с заговорщицким лицом быстро вышел из-за стола. «Куда это он?» — проводил я его глазами. Консулы улыбались мне дружелюбно, их супруги — сочувственно. Моя жена сидела, потупившись. «Приревновала. Вот только к кому? Ко всем сразу», — решил я.
Боб возник на пороге. В руках у него была книга. Молодой, улыбчатый, он решительно двинулся в мою сторону. По мере того как Боб приближался ко мне, я испытал страстное желание провалиться сквозь землю. Собственно, это и был мой эшафот, только не было времени догадаться об этом. Я привстал, неловко отодвинул стул и сделал несколько шагов в сторону Боба. Консулы и тропические боги с неотрывным вниманием смотрели на меня. В руках у Боба была только что изданная в Амстердаме по-голландски книга «Москва — Петушки».
«Боже! — промелькнуло у меня в голове. — Что они подумают! Не того накормили!»
— Боб, — сказал я сдавленно, полушепотом, пытаясь затормозить свой позор. — Боб, это не моя книга.
Боб остановился в полуметре от меня и посмотрел в побагровевшее лицо своего русского гостя со священным ужасом. Возможно, он думал, что его сведения о русских, как бы он ни старался их увеличить, еще недостаточны, чтобы понимать их во всех щекотливых положениях. Кто знает, может быть, русские настолько застенчивы и деликатны, при всей своей показной грубости, что такие простые церемонии, как передача книги из рук в руки, вызывает у них такое вот сплетение судорог, которое он видел сейчас на моем лице?
— Это не моя книга…
— Чья же она? — спросил Боб недоверчиво и тихо, как доктор.
— Другого Ерофеева, — ответил я.
Я видел, как Боб все больше из консула превращается в доморощенного доктора, наблюдающего за тем, как у пациента на его глазах едет крыша.
— А это кто? — спросил он меня очень ласково.
Он повернул книгу и показал на задней обложке фотографию автора. Я всмотрелся в фотографию. Это была моя фотография.
— Это — я, — пробормотал я совершенно подавленно.
— Значит, есть повод для моего тоста, — по-прежнему ласково сказал Боб, отчаянно посмотрев в сторону западных консулов за поддержкой. Те с бокалами шампанского стали торжественно подниматься со своих мест.
— Подождите! — крикнул я консулам. Консулы сели. — Это — я, — повторил я Бобу, желая объясниться, хотя еще не зная как. — Но эта фотография не имеет никакого значения. У него другое имя.
— Имя? — с подозрением спросил Боб. — Какое имя?
— Венедикт, — вымолвил я.
Боб развернул книгу передней обложкой. Наверху было написано: Виктор Ерофеев.
Мне нечем было крыть. В руке у Боба возник бокал шампанского.
— Давайте выпьем… — начал он.
— Постой! — сказал я. — Я не буду пить. Это не моя книга.
Боб, кажется, стал терять терпение. Он вновь повернул книгу задней обложкой.
— Ты родился в 1947 году?
— Да.
— Ты участвовал в альманахе «Метрополь»?
— Ну, участвовал.
— И ты хочешь сказать, что это — не ты?
— Нет, это, конечно, я, — терпеливо сказал я, истекая потом, — но я не писал эту книгу.
— Выходит дело, голландские издатели… — он замолк, не понимая, что дальше сказать.
— Да-да, — я отчаянно закивал головой.
Боб внимательно вглядывался в меня. Прошло с полминуты. Наконец, на его лице вдруг засветился какой-то проблеск надежды. Она разрасталась. Вдруг все лицо осветилось огнем понимания. Боб отставил шампанское и схватился рукой за голову. Теперь уже мне почудилось, что он сходит у меня на глазах с ума.
— Как же я сразу не догадался! — воскликнул он с облегчением и посмотрел на консулов. Потом перевел взгляд на меня и подмигнул мне с такой силой, с какой в советских фильмах о западной жизни проститутки подмигивают потенциальным клиентам. Он обвел пальцем потолок, люстру, стены. Я пристально следил за его пальцем, но ничего не понимал.
— Ну, какой же я дурак! — возвестил Боб и еще раз подмигнул мне страшным и жутко интимным образом. — Ну, конечно, это не ты написал эту книгу! Конечно, не ты!
— Конечно, не я, — машинально повторил я.
Вдруг меня осенило: Боб решил, что я испугался подслушивающих устройств, скрытых в люстре и под штукатуркой, в ножках кресел и в телах тропических богов, и потому я малодушно отказываюсь от своей книги.
— Но все равно! — ликовал Боб, найдя разгадку. — Все равно, давайте выпьем за автора этой книги.
— Хорошо, — согласился я. — За Ерофеева!
— Да, — подхватил Боб. — Выпьем за Ерофеева!
Консулы потянулись ко мне, и мы все с облегчением выпили.
— А теперь, — сказал Боб, — возьми эту книгу и передай тому, другому, — тут он в третий раз чудовищным образом подмигнул, не веря ни на секунду в существование этой фикции, — Ерофееву.
Я взял на секунду в руки книгу. Я живо представил себе, как я прихожу к незнакомому Ерофееву в гости, вручаю книгу: «Вот, — говорю я ему. — Голландцы издали твои «Петушки», но как-то так получилось, что на обложку они присобачили мою фотографию и мою биографию, а также имя Виктор». Я услышал матерные проклятия Ерофеева.
— Нет, — сказал я. — Не возьму. Сами отдайте!
Некоторые консулы успокаивающе похлопывали меня по плечу.
— Ничего, обойдется, — утешали меня консулы.
Горничные принесли кофе. Вместо кофе, мы с женой стали откланиваться. Консулы и тропические боги смотрели нам вслед, на наше паническое бегство, на мой литературный Ватерлоо и еще, наверное, долгое время обсуждали: — Вы представляете себе? Ерофеев не только отказался признать свое авторство! Он даже побоялся взять книгу в руки!.. Как тяжела участь русского писателя при тоталитаризме!
— Ой, бля!!! — взвыл я на весь заснеженный дипдворик, сжимая кулаки.
— Что с вами? — строго спросил старый вохровец, верный пес-охранник из УПДК.
— Да так, осуждаю капитализм, — так же строго ответил я, покидая гостеприимное гетто.
Прошло десять лет. Уже из могильного зазеркалья Ерофеев в начале 90-х годов стал свидетелем обратного действия. Поляки, подготовив издание «Русской красавицы», отдали отрывок в краковский популярный журнал «Пшекруй». Любимый автор местного самиздата, однофамилец был национальным героем Польши. «Пшекруй» напечатал на весь разворот кусок из «Красавицы» — с его фотографией и под именем Венедикт. Более того, польский критик предуведомил публикацию предисловием, где с блеском доказывал, что после «Петушков» единственно возможным творческим развитием автора могла стать «Русская красавица». Мы были квиты и — не квиты. Не думаю, чтобы однофамильцу понравилась идея быть автором «Русской красавицы».
Но это еще не все.
Когда, примерно в то же время, я приехал в Амстердам на презентацию голландского издания «Красавицы», популярная телепередача пригласила меня в гости. Я рассказал на всю Голландию, что случилось в доме у Боба. Телеведущий хохотал, как сумасшедший. Как сумасшедшие хохотали операторы и собранная в студии аудитория. Мой рассказ несомненно помог книге стать в Голландии бестселлером.
На следующий день в студию позвонил Боб. Он давно вернулся из Москвы и жил себе спокойно в стране тюльпанов. Боб заявил телеведущему, что весь мой рассказ — неправда и что ужина вообще не было!
Я просто обалдел. Как так не было?! А твои тропические боги? Разве они не свидетели? А моя жена? А агенты УПДК? А консулы всего мира? Что ты такое говоришь?! В какие измерения жизни ты хочешь меня провалить?
Все было. И Веня, и ужин. И ты тоже был, Боб. Не надо.
У литературных диссидентов тоже были свои погоны. Иерар хия была строгой. Чинопочитание приветствовалось. Понять механизм присвоения званий было непросто. Единого центра не существовало, однако были негласные правила субординации. Маршальский жезл находился в руках Солженицына, но он был слишком далеко. Бродский тоже занимал маршальскую должность, но это был другой вид войск, и Бродский тоже был слишком далеко.
В Москве либерально-диссидентский лагерь насчитывал несколько генералов, вроде Владимова или Копелева. Кое-кто из них были капризными, жесткими людьми, с особой страстью подозревавшими всех вокруг в преступной связи с КГБ. Репутации складывались по литературно-политическим критериям. Смелость и талант были основными компонентами, нередко конкурирующими между собой. Самопожертвование считалось хорошим тоном. Считалось также хорошим тоном слыть не слишком «приятным» человеком, который на вопрос «сколько времени?» мог бы сказать в ответ какую-нибудь гадость назидательного порядка.
После скандала с «Метрополем» я получил небольшое офицерское звание, типа старшего лейтенанта, и уже скоро стал мечтать об отставке, но деваться было некуда: приходилось служить на мелких подрывных работах.
Всю нашу армию спасала и разлагала склонность к богеме. Сильным центром богемы была мастерская Мессерера-Ахмадулиной на Воровского. Когда-нибудь дошлый доктор наук подсчитает количество выпитых там напитков и придет к астрономическим выводам. Появление однофамильца в этой среде было несколько запоздалым, отчасти вынужденным (он заболел и нуждался в помощи), отчасти закономерным. Ерофеев обладал репутацией национального достояния, однако правильно разыграл свое генеральство по нотам розановского отщепенства. Это было красиво, хотя само место обладало «тщеславной» радиацией, что несколько смазывало картину. Зато пафос дружбы был возведен в запредельную степень. Только не между нами. Между нами была любовь в одни ворота. Я не добился даже пакта о перемирии. Ерофеев был последователен в своем далеком, неприятельско-неприязненном отношении ко мне. Но мы не были бы русскими, если бы хоть раз не попали в историю.
На чердаке был пир на весь мир — провожали Беллу и Бориса за границу. Наступали либеральные времена. Однофамилец был после операции, со своим японским чревовещательным аппаратом. Посреди ночи он столкнулся со мной и спокойно, чревовещательно изрек (тоном, который разрабатывал генерал Лебедь), что он не любит того, что я пишу.
Я не стал требовать объяснений, понимая природу жанра: больше вопросов — больше драки. Тем более что все это было принародно. «Не любишь — не надо». Мы разошлись. Под утро однофамилец потерял свой аппарат. Народ валил домой. Все были пьяны. Однофамилец сидел прямой, как жердь. Мы с Мессерером принялись искать аппарат под столами, под лавками, среди бутылок. Пока ползали, мы остались одни. Аппарата не нашли. Ерофеев был сильно пьян (вопреки легенде, что он не пьянел). И еще там осталась знаменитая актриса Таня Л., ну совсем пьяная.
Хозяину надоело искать, он дал однофамильцу денег на такси и открыл дверь настежь. Мы вышли втроем. Хотя сказать: вышли — ничего не сказать. Актрису и однофамильца так качало, что они едва вышли вон. Я тоже выпил, но держался на ногах. На площадке они стали падать попеременно, как у Хармса. Я втащил их в узкий лифт и спустил вниз. На улице со всех сторон валил снег. Актриса отключилась. Однофамилец молчал, не имея возможности говорить. Мы подхватили с ним актрису под руки и поволокли ее по Воровского в сторону Нового Арбата.
Картина, достойная Брейгеля и Гойи. Два пьяных Ерофеевых тащат в жопу пьяную артистку сквозь пургу. Она ботинками загребает снег. Иногда мы останавливаемся, отдуваясь, кладем артистку на тротуар, вытираем мокрые лица, подхватываем ее по новой и — дальше. В полной тишине.
Доволокли до угла Нового Арбата, где была церковь без крестов. Я их прислонил друг к другу, чтобы поймать такси. Они упали. Я принялся их поднимать.
Подниму одного, бросаюсь к другой. Ерофеев падает в сугроб. Хватаюсь за однофамильца — падает актриса. На асфальте лежит, как кукла. Сначала — смешно, а потом: замерзнут! Идиоты! Что мне с вами делать?! Ни одно такси не останавливается. Видят — пьяные. Время идет.
Вдруг — вот уж действительно откуда ни возьмись — милиционер. С рацией. Маленького роста. Совсем коротышка. Молодой и презлющий. Смотрит на меня и весь даже дрожит от злобы:
— Вы пьяные!
Я однофамильца кое-как ставлю на ноги. Актриса лежит. Я милиционеру не отвечаю.
— Сейчас вызову наряд. В вытрезвитель!
И начинает вызывать наряд по рации. Я представил себе, как нас забирают: двух Ерофеевых и знаменитую актрису Л. — в вытрезвитель; я стал давиться от смеха. Мент просто осатанел. Трещит советская рация. На дворе время горбачевской борьбы с алкоголизмом. С нас точно снимут три шкуры.
— Мы не пьяные, — говорю я злющему милиционеру. — Мы больные.
— Знаю я вас, все вы такие больные!
— Не веришь?
Я схватил однофамильца за талию, словно решил танцевать с ним танго. Но вместо танго стал разматывать ему черный шарф, который на нем был всю ночь. Я не знал, что я там увижу. Я только знал, что ему вырезали горло. Однофамилец не сопротивлялся. Он смотрел на меня чистыми пьяными глазами, не то понимающими, не то не понимающими, это было неясно, и не сопротивлялся. Я размотал шарф и — увидел: у него там все вырезано. Все!!! Не понятно, на чем держится голова. Одни куски рваного мяса. Я как будто размотал его самую сокровенную тайну и — содрогнулся.
Боже милостивый! За что Ты его так?
Бедный ты мой, Ерофеев…
Но, с другой, совсем с другой стороны — я испытал чувство звериной мести. Пусть мусор полюбуется полным отсутствием всего! Вызывать тут наряд надумал! Государственный гад! Я оглянулся, чтобы пристыдить мента. Ну что, увидел, что мы больные?
К моему полному удивлению, я не увидел милиционера. Он был маленький. Я это запомнил. Я медленно — тоже, все-таки, не слишком трезвый — заглянул себе под правую руку — ты тут? — его не было. Под — левую. Мент сбежал! Или как? Я бредил? Он мне, что, померещился? Я стоял в недоумении. Куда он, черт, провалился? Милиционера не было во всей природе. Однофамилец сидел в сугробе. Актриса лежала животом в снег. Я терпеливо замотал черным шарфом отсутствие шеи у однофамильца.
— Тут был милиционер? — спросил я однофамильца. — Да или нет?
Однофамилец непонимающими чистыми глазами глядел на меня. Без японской игрушки он выглядел страшно беспомощно. Он был у меня в лапах, мой однофамилец.
— Мудило ты грешный, — пробормотал я, вытирая ему мокрое лицо носовым платком.
Я не думаю, чтобы Ерофеев что-то помнил на следующий день.
Идея вечера «Два Ерофеевых» зародилась в авангардистских головах на волне все той же перестройки и была легкомысленно мною подхвачена в духе маниловского хеппенинга. Я не потерял безумной надежды найти понимание, чтобы впоследствии пить с Ерофеевым чай с вареньем на высоком балконе и говорить о литературе. Кроме того, хотелось, чтобы публика перестала нас путать.
Был найден кинотеатр на Красной Пресне; большой, он был забит до отказа. Я заготовил метафизический текст. Я думал, мы посмеемся.
Это был не вечер. Это была дуэль. Это все равно, что армянская сборная по футболу играет на стадионе в Тбилиси. Нет, хуже. Армянской сборной никто не желает победы, но она всегда нужна для поражения. Я был не достоин поражения. Меня хотели списать раз и навсегда как несостоятельного игрока, претендующего на игру в одной лиге с любимым лидером. По сути дела, мне надо было бы встать и сказать: я — самозванец. Уйти и больше не возвращаться.
Публика пришла на однофамильца. Они знали «Петушки» наизусть и готовы были клясться каждым словом поэмы. Моей публики фактически не было, потому что у меня и не было никакой публики. Так, несколько десятков сочувствующих. Ерофеев пришел с друзьями, которые были еще более строги, чем публика и он сам. Им было ясно, что это будет последний бой. Помню неприязненные глаза какой-то очень близкой ему поэтессы с ликом монахини, помню другие неприязненные глаза его секундантов, обещавшие, что пощады мне не будет.
— Ты помоложе. Ты и начинай, — холодно сказал мне с помощью японской машинки (она-таки нашлась!) однофамилец, и мы разошлись по разные стороны зала стреляться.
В порядке предисловия Пригов сказал что-то такое игровое о двух Ерофеевых, воспринятое публикой без особой симпатии. Мне передали микрофон. Я понял, что никакая метафизика однофамильства не пройдет. Я понял ясно и просто, что сейчас провалюсь так, что об этом будут слагать легенды, и вся маниловщина из меня выветрилась.
Я не был готов к дуэли; однофамилец был силен и болен, с ним было не справиться. Да и зачем? Оставалось надеяться на его милость, последняя надежда была на него. В конце концов, он услышит мой текст и сам решит, как поступить.
Я стал читать «Жизнь с идиотом», рассказ, который не раз читал на разных московских сборищах, в каком-то смысле проверенный текст. Еще одна иллюзия! С таким же успехом я бы мог читать передовицу из «Правды» или речь Брежнева. Нет, речь Брежнева подошла бы, пожалуй, лучше; по крайней мере, здесь был бы вызов и полный развал условностей — демонстративный отказ от дуэли, — а так я все-таки давал на растерзание публики моего ребенка, какого-никакого, а моего, кровного.
Публика сидела оледеневшая, мертвая, в нее ничего не проникало, ни слово, ни звук. Я читал при полном зале в полную пустоту. Я занервничал, стал читать все громче и быстрее, заторопился, словно хотел докричаться и с заискивающим обещанием: сейчас-сейчас начнется интересное. Интересное не начиналось. Зато через микрофон я устроил большой, сбивчивый крик на весь кинотеатр. Я, конечно, сбивался, читал хуже, чем обычно, у меня не хватило ума встать и уйти. Я кончил «Идиота». Зал, поджав губы, молчал. Раздались какие-то жидкие хлопки, которые звучали иронически при общей тишине. Я взялся за «Персидскую сирень». Я внутренне уже примирился с провалом, но мне не хотелось сдаваться.
Зал с удовольствием пристрелил меня напоследок.
Потом вышел на сцену Ерофеев, высокий, седой и прямой — и зал взвыл от восторга, и не переставал реветь от восторга от каждого слова своего любимца, искаженного японской машинкой. Я сидел в темном зале, белый и уничтоженный. Потом мне даже говорили, что все было для меня не так уж плохо: могли освистать и зааплодировать насмерть, но я не верил.
Когда все кончилось и Ерофеева окружила восторженная публика, я тоже подошел поздравить. Он никак не отозвался. Со мной все было кончено. Нас вынесло в фойе, к однофамильцу подбежал фотограф, Ерофеев стал фотографироваться со своей компанией, я стоял и смотрел, прислонившись спиной к стене, как они фотографируются. Это была единственная возможность сняться вместе на память. Не снялись.
«Что ж ты, блядь, такой бесчеловечный! — размышлял я. — Никакого великодушия! Где твое христианство-католичество? Никакой милости к павшим! Я бы на твоем месте…»
Я вдруг обозлился. Толпа секундантов повалила пить и гулять. Я вышел из кинотеатра, сел в свои «Жигули», было холодно, я стал греть мотор. Совершенно неожиданно кто-то постучал мне в окно. Я оглянулся: однофамилец! Однофамилец мне улыбался! Вполне дружески! Я смотрел на него, ничего не соображая. Меня трясло.
— У тебя есть «прикурить»? — спросил он, как будто и не было всего этого вечера. — Машина у нас не заводится.
Я развернулся и подъехал капот к капоту к их машине. Достал «усы» — они быстро завелись. Однофамилец приоткрыл окно:
— Поехали — выпьем.
Я помолчал, глядя на машину его секундантов. Вот люди, которые так близоруко радуются, что их кумир значит больше того, что он написал. А, по-моему, это приговор и куриная слепота! Неудачливый Ломоносов! Бездельник, импотент, ничего не сделавший за двадцать последних лет жизни! Одни натужные повторы, перепевы себя! Я написал целую книгу о том, о чем ты так неуклюже и по-крошечному рассуждаешь в своих записных книжках, где из тебя лезет наивная похоть, антисемитизм, любовь к дешевым каламбурам и радость первых, зачаточных знаний!
Чего ты несешь, задетый человек! — оборвал я себя.
Я был рад, что поделился с ними автомобильной энергией, мне почему-то это понравилось, но пить мне с ними не хотелось.
— В другой раз.
Больше я его никогда не видел.
Прошло время, и он мне позвонил. Меня не было в Москве.
— Это однофамилец, — сказал он моей жене, напуганной потусторонним голосом. — Не вешайте, пожалуйста, трубку. Я после операции, — чеканил он потусторонним голосом. — Это однофамилец.
Я приехал и не перезвонил.
— Если ему надо — сам перезвонит, — сказал я, вырвав Манилова из себя с корнем.
В начале 1990 года мы сидели с покойным Владимиром Максимовым в ресторане «Пиросмани» и обсуждали возможность эстетически левого номера «Континента» (Я преклонялся перед ним за «Континент»). Из затеи ничего не вышло. Нас быстро развело по разные стороны эстетической баррикады.
— Веня умирает, — сказал Максимов, поглощая грузинскую зелень. — Навестим его завтра в больнице? Попрощаемся.
— Я не поеду, — подумав, сказал я.
Максимов удивился и посмотрел на меня (как ему и полагалось) как на русского маркиза де Сада.
Но дело было не в Саде и не в Манилове и не в занозе от «Двух Ерофеевых» (которая, конечно, сидела во мне, ой, как сидела!.. не из-за провала… из-за его тупости!). Мне безумно было жаль Венедикта и потому я не хотел ехать в больницу. Я знал, как он страшно мучается (мне говорил тот же Максимов), я же видел там, на улице, его горло, а тут я, молодой, здоровый однофамилец, с цветами— на его смертный одр — прощаться приехал.
На хуй ему это нужно!
Я до сих пор не знаю, правильно ли я сделал. С одной стороны… С другой стороны… Я сделал, как считал нужным.
А потом было вот что: в мае 1990 года я с сыном уехал в Германию, а жена осталась дома. Поздно вечером раздался звонок.
— Это квартира писателя Ерофеева? — спросил хмурый мужской голос.
— Да, — сказала жена.
— Я хочу выразить вам свои соболезнования по случаю смерти вашего мужа…
— А… сын? — помолчав, спросила жена, решив, что мы разбились на самолете.
В телефоне возникла пауза. Жена грохнулась в обморок.
Ерофеев не умер — он живет во мне. Я до сих пор убежден, что он с удовольствием поменял бы свое призрачное местожительство, привился бы в каком-то другом, более, с его точки зрения, достойном месте. Но у нас обоих нет выбора, мы обречены прижиматься друг другу щеками, обложками книг, карточками в библиотечных каталогах на любом языке, как классики марксизма на медальоне. Будто в дополнительную насмешку нам выданы не только общие фамилии, но и общие инициалы: В. В.
Свыкся ли я с его «паразитическим» существованием за мой счет? А что остается делать? «Как хорошо, что вы не умерли», — говорят мне люди, протягивая для подписи «Москву — Петушки». Они так радуются встрече с ним, у них так сияют глаза, его так беззаветно любят, что мне всякий раз бывает страшно их разочаровывать. Вглядываясь в меня, они ищут его, накладывают на мое лицо его черты и готовы согласиться с несоответствиями, относя их к несовершенству фотографий, собственной памяти, превратности авторской судьбы, всеобщему воздействию алкоголя. В их воссоздании его лица на моем «подрамнике» есть беспокойство поиска и зачатки творческого труда. Я стою и смотрю, как они усердно трудятся.
Во мне видели его не десятки, а многие сотни раз, и я знаю по опыту: надо разочаровывать сразу. Промедлить минуту — значит призвать к жизни несбыточную надежду, отдать свою кровь призраку. Вот он встает: паясничающий, крутящий головой на тонкой шее, мизантропствующий, деликатный грубиян, застенчивый хам, он встает, растет, острослов, ошалевший от афоризмов, свежий, как предание.
Я вижу, как он напивается моей кровью, и я спешу: разочарование после моей заминки принимает вид острого недовольства и подозрения. По сути дела, я должен выполнить роль не только дурного вестника, но и убийцы. Я его воскрешаю в себе лишь за тем, чтобы в очередной раз уничтожить. Он воскресает — я снова хватаюсь за опасную бритву. Я не столько объявляю о смерти, сколько организую ее в глазах, на глазах перепутавших нас людей.
Мне может нравиться или не нравиться паразитирующий на мне призрак, но это моя карма, и мне с ней жить. Все остальные — от Москвы до Индии — лишь зрители, столпившиеся на месте происшествия. Я рад послужить им жертвой их любопытства. Я сам во всем виноват? Возможно. Но я благодарен карме за то, что она сняла с меня тяжесть авторского тщеславия. После тысячи qui pro quo тщеславиться нечем, тщеславие атрофировано. Ерофеев уничтожил во мне авторское тщеславие в зародыше.
Я знаю также, что это может быть добрый призрак, толкающий меня коленкой под зад в духе запанибратского социалистического соревнования. Я допускаю, что он шлет мне свои загробные застенчивые поцелуи. Возможно, мы когда-нибудь обнимемся и наконец объяснимся. Возможно, мы станем друзьями. И всякий раз объявлять о кончине, хотя бы и давней, — тяжелый крест. Глаза тускнеют, люди отходят от меня с тяжелым чувством. Раза два с бестолковыми читателями я оказывался в положении человека, который отказывается на их глазах от собственного существования, разыгрывая их извращенным образом. Они не верили, что я — не он, и шли прочь в недоумении. С каким-то заядлым охотником-рыболовом, страстным любителем Ерофеева, я пытался отделаться неопределенным мычанием, моля Бога, чтобы он поскорее от меня отвязался, но когда он стал расспрашивать, где и как я писал «Петушки», мне пришлось с запозданием убить Ерофеева, и это выглядело, как перезрелый аборт.
Слава Богу, я ни разу не подписал «Петушков», хотя попадались и такие, которые настаивали даже после того, как поняли, что обознались. Раз в гостинице мне «сделали» номер, а когда я заселился, торжественно попросили подписать его книгу. Недавно в московском еженедельнике какой-то озлобленный читатель вообще слепил нас в одно лицо, написав в письме в редакцию о скандально известном авторе, алкоголике и сексуальном маньяке. Мы спарились, мы стали сиамскими однофамильцами. Из первоначальной шутки развилась идея призвания. Метафизические перегрузки давно перешли в мистический драйв.
Россия в нижнем белье
Мы все вышли не из гоголевской шинели, а из позора нижнего белья. Каждому есть что рассказать. Изначальное неприличие тела делало само белье неприличным. Неприличное белье усугубляло неприличность тела. Оно давило, сжимало, впивалось и отпечатывалось на теле долго не проходящими рубцами. Объятые страстью любовники сохраняли на ляжках, ягодицах, животах, спинах, голенях и женских грудях полосные кровоподтечные шрамы белья, которые, в отличие от легкомысленных полосок от купальника, придавали их занятию особую эротическую гадость. Белье терроризировало тело, выставляя его смехотворным, беспомощным, нежеланным. В конечном счете, оно убивало тело.
Горящие щеки, детский пожизненный стыд, из-за чего до сих пор ненавижу любое, хоть из самой «Дикой орхидеи», женское белье: бабушка заставляла меня, первоклассника, надевать коричневые чулочки и пояс с резинками.
Я шел в школу, как на виселицу: я не хотел быть девочкой.
В пятом классе я влюбился в остроглазую одноклассницу Киру, любившую шепотом говорить нехорошее слово «говно» и при этом от всей души хохотать, но когда она, подвижная, потненькая, на перемене вскочила на парту, и я увидел ее чудовищные розово-бордовые панталоны, любовь оборвалась. И даже сегодня женщина, собравшаяся изменить мужу, идет в магазин покупать новые трусы — это знак. В повседневной жизни она носит трусы на порядок хуже.
Историю Советского Союза лучше всего изучать по нижнему белью. Еще не нашелся Достоевский, чтобы описать вечный женский страх, связанный с ним: вот-вот лопнет резинка трусов, расстегнется лифчик, спустятся чулки. В сущности, мы и были колоссом со спущенными чулками. Многие русские женщины до сих пор приходят в мистический ужас, неведомый европейским народам: они панически боятся показать свои трусы в общественном месте, в метро или на велосипеде. Покажешь трусы — наступит гражданская смерть. Даже бретельки от лифчика было принято прятать не менее тщательно, чем партийный билет. Мы привыкли верить в то, что на нас постоянно смотрят, что мы включены в коллективный учет и контроль. Россия продолжает жить с зажатыми ногами.
Но времена все-таки изменились. Россия впервые публично разделась до нижнего белья на московской выставке 2001 года под убедительным названием «Память тела». Народ повалил увидеть бывший срам: заношенные панталоны, которые в своей второй жизни использовались как половичок, кальсоны, в которых, казалось, ходишь как обкаканный, ибо они отвисали на заду, первые самодельные колготки модниц, сделанные из чулок и трусов, и — мечту советских дней, за которой давились в очередях: цветные комбинации из ГДР.
Советское белье поднявшихся наверх низших классов имело сначала солдатское, затем спортивное, принудительно унисексуальное происхождение. Нормальное буржуазное белье считалось классовым предательством и преследовалось по закону. Для острастки оно злобно высмеивалось в карикатурах и сатирических текстах. Однако скрытые диссидентки тела, многие женщины больших городов вплоть до 50-х годов донашивали дореволюционное белье, передаваемое по наследству: живая архаика сундуков, заштопанная до слез. Штопаные носки тоже были нормой жизни. Лифчики производились до войны лишь в одной республике СССР — Российской Федерации. Мальчишки прятались под настилом подмосковных платформ — на деревенских бабах летом ничего под юбками не было.
Между верхним платьем и нижним бельем проходила граница социальной стыдливости. Офицерский мундир с орденами принадлежал обществу, трусы офицера, его частное дело, могли быть дырявыми — общество строилось на «показухе». Мы жили по принципу: что невидно, то неважно, — и белье было элементом всеобщего вранья.
Советский стыд парадоксален. В коммуналках белье висело в общем коридоре на виду всей квартиры, на пляже все сидели в нижнем белье, мужские сатиновые трусы до колен до недавнего времени были нормой купальных трусов (зато белые «плавки», появившиеся на Западе, долгое время не признавались), но само белье считалось таким неприличием, что даже фабрики белья не имели права делать его фотографий, в которых, очевидно, мерещилась порнография, и обходились схематическими рисунками. Судя по советской живописи и кино белье эстетически было неприличнее голого тела. Более того, для пожилого человека сам разговор о «нижнем белье» вызывает отвращение— это словосочетание лингвистически ненормативно. На нем (как следствие заношенности белья) как будто отпечатались следы телесных испражнений. Моя мама передернулась, узнав, что я был на выставке нижнего белья.
«Б. должно хорошо впитывать кожные выделения (пот и сало), а также предохранять кожу от внешнего загрязнения и механич. раздражения более грубой верхней одежды…», — пишет советский энциклопедический словарь, с предельной точностью фиксируя советское отношение к Б.: асексуальное, затхлое (неслучайны слова «пот и сало», которые могли бы стать названием этнического русского романа по контрапункту с польским «огнем и мечом») и по-армейски физиологическое (из области «живая сила противника»).
С бельем связаны одни с самых позорных русских слов: «подштанники» (слово-чемпион, от этого слова невозможно спрятаться) и «портянки» (одно из наиболее вонючих слов русского языка и ужасно неудобный предмет— истинно армейский сволочизм). Не менее мучительно слово «кальсоны», даже если оно обращено к нарядным шелковым кальсонам Кагановича и прочих членов Политбюро, сшитым по спецзаказу. Не повезло и деталям белья, которые прикрывают женскую грудь. «Лифчик» звучит наигранно, с фальшивым оптимизмом и почему-то напоминает замученную улыбку женщины (сфотографированной в одном только лифчике, без трусов, или закрывающую лифчик руками, судорожно обхватив себя за плечи, от случайного взгляда); «бюстгальтер» — такое же тяжеловесное слово, как «бульдозер» или «бегемот» (исключительно для стопудовых сисек). Даже «трусы» в русском языке не нейтральное слово, как будто оно уже тронуто запахом гениталий. Да и само слово «исподнее» вызывает рвоту.
Зато — тельняшка! Единственным исключением, на редкость стильной вещью во всем арсенале отечественного белья была тельняшка. Честь ей и хвала. В ее полосатости было верное сочетание верха и низа, ее фактура обеспечивала телесное свободомыслие. Тельняшка подчеркивала мужское морское достоинство, была действительной защитницей тела и до сих пор не вышла из моды, особенно в среде радикальных художников, чутких к эстетическому концептуализму.
Первый послереволюционный бельевой бум, за исключением само самой разумеющегося ренессанса нижнего белья при нэпе (когда даже наладили экспорт белья за границу), был обязан победе над Германией: началась вакханалия трофейных комбинаций, зачастую принимаемых за вечерние платья (комбинация стала всемирным козырем женской сексуальности, как в хрущевские времена кукуруза — королевой полей, и, казалось, она — навсегда, но она умерла, не пережив нового витка унисекса, на этот раз пришедшего с Запада), и полосатых пижам, заменивших собой курортные костюмы — отдых солдата после битвы.
Однако главное во всей этой советской истории — не предсказуемый китч и кружевная безвкусица, а мученические усилия женщин. «Голь на выдумки хитра», и точно: мы жили в нищей стране, богатой не только ракетами, но и замусоленными зарубежными выкройками, по которым женщины ночами что-то терпеливо, любовно пытались сшить. Фетишистки поневоле, они одели нас, как могли, и спасли, в конечном счете, от коммунизма семейных трусов.
Любовь и говно
Преодоление газов, вони, пердежа, самого вида говна и грязной, запачканной говном любимого человека туалетной бумаги — может быть, самое высокое достижение любви, доступное единицам.
Остальные баррикадируются в сортире.
Примириться с тем, что любимая женщина срет, непросто. Запах говна очень смущает. Как-то болезненно озадачивает. Запах говна может отбить любовь. Такая милая, нежная, трепетная — и срет. Причем, тут даже ничего не зависит от возраста любимой — запах говна неподвластен возрасту. Особенно отвратительно, когда какашки любимой женщины всплывают в унитазе. Заходишь в туалет, а там они случайно плавают. Смотришь на них в растерянности и думаешь, как странно устроена жизнь. Крупные женщины срут как козы, а мелкие, напротив, неожиданно толсто, увесисто, с желтоватым отливом.
Чтобы с этим справиться, поступают по-разному. Можно сразу разлюбить, понюхав ее говно, и ждать новой любви в смутной надежде на лучшее или на чудо. Можно вообще никогда не любить, имея в виду, что любимая женщина все равно начнет когда-нибудь срать, ну день продержится, от силы два, а потом неизбежно будет срать, и с этим ничего не поделаешь. Можно, конечно, объявить, что любимая женщина вообще не срет, но это вранье все равно рано или поздно вылезет наружу. Есть еще возможность выйти из положения: начать есть ее говно. В сущности, большинство так и поступает. Но они почти никогда в этом не признаются. А то, что от них пахнет говном их любимой женщины, не очень-то и заметно, потому что с ними редко когда целуешься.
Чтобы писать, я улетаю в ночь. Дача — капкан детства, переплет любви и брошенности, игры и страха, любопытства и жестокости, вкуса крови и запаха земли, смеха и смерти. Когда люди на время вымирают, эти чувства обостряются до того предела, что невозможное становится возможным, и слышно то, что мне нужно услышать. Встает солнце в соснах, я гашу лампу, тушу сигарету, срываю розовые резиновые перчатки, бросаю на пол и по пути в кровать превращаюсь в обычного дурака.
В любовной драке бей изо всех сил. Не щади эту сволочь. В любви женщина бьет мужчину от отчаяния, от больше так не могу, а мужчина бьет женщину в учебных целях, в назидание. И только когда женщина перестает любить, она бьет мужчину из мести, и это хорошо видно: где обрывается отчаяние, и начинается месть.
Любовь никогда ничем хорошим не кончается. Самый опасный враг — любимый человек. В любимом человеке отыскиваются несуществующие качества и замалевываются очевидные пороки. Если чего и стоит опасаться в жизни, так это любви. Любовь — это бешенство. Любовь — это подмена слов, ловушка, сдача позиций. Любимый человек может нанести тебе такой болезненный удар, от которого улетишь в могилу.
Следи за тем, как тебе говорят «я тебя люблю». Я тебя люблю — очень коварная формула. Все дело в том, чем она наполнена. Она должна быть, к тому же, наполнена доверху.
Не допускай, чтобы тебе говорили, что тебя тоже по-своему любят, что ты родной и близкий человек.
Если тебя хотят, но не любят, это, может быть, блядство, но это весело. Если тебя любят, но не хотят — это рак любви. Это не лечится.
Ты пришла ко мне как счастье, а ушла из моей жизни как наказание — это охуительно больно.
Ты пришла как наказание и ушла как счастье — значит, слава Богу!
Ты пришла как наказание и ушла как наказание, тогда я — мудак.
Но если ты пришла как счастье и ушла как счастье — значит, я — любимец богов и бессмертен.
Странно, что я вышел их встречать. У меня не было на них никаких планов. Одну я совсем не знал, а другую знал едва-едва, и вот они приехали в третьем вагоне. Но с таким же успехом могли приехать совсем другие люди, в других вагонах, из Киева или другого города, и вовсе, например, не девицы, а какие-нибудь пожилые люди, светские педерасты в шелковых шарфах или, например, ко мне бы в гости приехал весь Киев с тортом, составленным из безе, за которым я прошлой осенью охотился в Киеве, а эти девицы остались бы дома, и я бы, вместо того, чтобы теперь сидеть на кухне и пить горилку с Наташей и Женей, закусывал киевским тортом, а Наташа с Женей, пахнущие киевским парфюмом, спрашивают меня, достал ли я им билеты в Большой театр и, когда я начинаю оправдываться, непонятно, впрочем, с какой стати, они даже немного обижаются, переглядываются, а потом дружно уходят в душ, потому что они после поезда, всю ночь ехали, границу миновали спокойно, и я сижу на кухне и слушаю, как шумит вода в ванной, и мне непонятно, почему они мне докладывают, как они переехали через границу, словно они везли с собой не горилку, а мешок марихуаны, а потом я стою у себя в ванной и смотрю с недоумением, какие волоски они оставили после себя, не могли сполоснуть, и хочу при этом понять, как случилось, что я познакомился не то с Наташей, не то с Женей в Киеве, и кто из них студентка, а кто работает на телевидении, но чувствую, что у меня нет сил, чтобы задавать вопросы, хотя кто-то из них забросал меня электронной почтой и я почему-то пошел их встречать и даже, если бы не боялся опоздать, купил бы им немного цветов, а еще их встречал студент, высокий, худой молодой человек, который тоже очутился у меня на кухне, и когда девочки дружно пошли под душ, студент спросил, чем я в жизни занимаюсь, чем поставил меня в неловкое положение, потому что мне не хотелось ему ответить, что сейчас я занимаюсь полной ерундой, потому что я не хотел, непонятно почему, обижать студента, и теперь я уже стою перед Большим театром, перед которым меньше всего хотел бы сейчас стоять, дует ветер, девчонки хотят фотографироваться, но сначала они хотели бы купить на сегодня билеты и пойти со мной в театр, но я не могу, потому что вечером у меня встреча с французами, которых я совершенно случайно встретил двадцать лет назад и которые с тех пор стали моими друзьями, хотя я мог бы встретить двадцать лет назад совершенно других французов, а с этими так бы никогда и не познакомиться, и мне надо будет с французами провести вечер, а француз мой стал большим чином французской дипломатии, и, напившись, я обычно внушаю ему, как вести себя Франции в отношении России, а также Америки, Африки, Австралии, вообще всего мира, в глобальном масштабе вселенной, а он кричит мне, размахивая сырным ножом, что он — француз, и потому не желает слышать от меня всевозможных инструкций, но я, говорю, мог бы вам купить билеты на вечер в Большой театр, и тут к нам подходят какие-то люди и предлагают билеты, но только не на сегодня, потому что сегодня Большой театр — выходной, и балерины не танцуют, и я стою и думаю, что дальше делать с Наташей и Женей, и куда делся их друг-студент, и я у себя на глазах превращаюсь в гида, и начинаю их во зить по Москве и рассказывать, например, про дом на набережной, где в конце тридцатых годов уничтожили всех квартиросъемщиков, кроме одного, и Наташа с Женей дружно спрашивают, а кого же все-таки не уничтожили, и я понимаю, что у меня нет ответа на этот вопрос, а здесь, говорю, делают конфеты, вот именно, шоколадные, а это — мост, а это — Нескучный сад, в каком смысле, Нескучный, ну как вам сказать, и уже через несколько минут мы с Наташей и Женей оказываемся в незабываемом месте, на смотровой площадке на Воробьевых горах, и я начинаю рассказывать, что МГУ, что сзади нас, задумывался вовсе не как МГУ, а как гостиница для союзников, какой, вы спрашиваете, войны, теперь даже трудно сказать, что последней, хотя в принципе, конечно, последней из мировых, а этот трамплин, ну да, он для прыжков на лыжах, а у нас, они говорят, такого трамплина нет, ну вот и я обогатился от Наташи с Женей какой-то важной спортивной информацией, конечно, говорю, какой у вас может быть трамплин, у вас и снега нет такого, а мы привезли с собой хорошую погоду и в следующем году обязательно приедем к вам летом, и верно, смотрю, светит солнце, закат, на столах матрешки и храмы Василия Блаженного, давайте купим, а вот и панорама Москвы, город, в сущности, круглый и небольшой, приходят к выводу Наташа и Женя, а вы нас не сфотографируете, конечно, сфотографирую, а с нами не сфотографируетесь, конечно, снимусь, давайте сфотографируемся на здоровье, а почему у вас тут все акают, а это, отвечаю, из-за отсутствия любви, как, восклицают, вас понять, а не знаю, как хотите, как и понимайте, смотрю, обиделись, я вынул из кармана ключи от квартиры, пора мне к французам, а вы, пожалуйста, чувствуйте себя, как дома.
Все кажутся наполненными очень мелкой энергией, почти мертвецы, я от них шарахаюсь, и отвлекают от случайности только мысли о славе и громкая музыка. Думаешь: почему мысли о славе отвлекают от случайности? Разве тщеславие — такая мощная печка, что справляется даже с любовью? А почему — рок-музыка? Конечно, лучше всего залезть под крышу Бога и несколько уценить любовь, но это тоже поначалу кажется очень случайным решением. И даже родные становятся случайными людьми, и это, конечно, пугает, но однажды, встретив того неслучайного человека, из-за которого все стало случайным, вдруг видишь, что и она — уже тоже случайность, и ноет ампутированная нога ветерана, и думаешь: полюбил курам на смех что-то такое невзрачное, как одна моя знакомая сказала: из нероковой женщины сделал себе роковую. Ну, тогда значит, уже полегчало.
Кто все-таки прав в том далеком споре, Белинский или Гоголь? В письме Гоголю по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями» Белинский утверждал, что русский народ по сути своей безрелигиозный, полон лишь предрассудков и слишком непочтительно думает о попах, а Гоголь в своем ответе, впрочем, никогда не отправленном, поражался слепоте Белинского и его нежеланию увидеть нашу с вами глубокую религиозность.
В Пасхальную ночь я зашел в случайную для себя церковь возле Покровского бульвара, необычную, миражную: внизу трапезная, ярко освещенная и много на столах куличей; ходили в большом количестве принаряженные дети и подростки, шушукались быстроногие девчонки с молочными щеками, а на втором этаже шла праздничная служба, и так пели красиво, что я сразу подумал: надо бы чаще заходить, а то суета, времени нет, а тут все сразу куда-то отодвигается, и понимаешь, сколько в тебе наносного, даже не вслушиваясь в слова, а по состоянию, колебанию воздуха, и такой начинается «приход», что чувствуешь кожей эту самую невостребованную религиозность, которую так неистово отрицал Виссарион. Я вышел довольно скоро и долго еще ходил под дождем, был теплый весенний дождь, с этим ощущением: надо бы как-то иначе жить.
Но не получается.
В жизни здешней, сегодняшней завязываются совершенно другие связи. Потому что все свои силы отдаешь разборкам с близкими и далекими людьми или с их функциями, все стараешься выяснить сложные отношения, и хотя понимаешь, что никогда с этим не разберешься, все разбираешься и разбираешься. На следующий вечер, например, я выяснял с отцом вопрос свободы слова в России. И смешон Гоголь со своими моральными наставлениями, если здесь никто не может жить по морали, иначе тебя самого смерть попрет.
А в Пасхальный понедельник мне случайно попадается ученый японец, который мне говорит, что они, японцы — нерелигиозные люди, на радость Белинскому, но при этом у них все получается. У них все держится на вкусовых ощущениях: невкусно врать и невкусно, когда в доме у тебя грязь. Как их к этому приучили без веры в Страшный суд, если у нас и Страшным судом, и налоговой полицией пугают, а все равно вкус к правильной жизни не вырабатывается?
Выходит, правы оба литератора. Мы безрелигиозны — поэтому не думаем о вечном, но мы же и религиозны — а потому не думаем, как создать нормальную цивилизацию. То есть все хорошо, мы все в себе, как никто другой, совмещаем, но в любом случае мы не думаем.
А сверху тебе говорят: не японец ты, чтобы жить по-другому.
Вот так, выпив энное количество рюмок, переглянувшись, но не сговариваясь, посреди недоеденных салатов и разводов на белой скатерти, люди вдруг начинают петь. В разное время жизни я смотрел на это странное занятие совершенно по-разному. То как на абсурд, то с допустимой для современного человека степенью умиления, то с легким презрением, то как на загадочное требование души.
Я сам не умею петь, ни слуха, ни голоса, но и то что-то там напеваю время от времени, какие-то отрывки любимых мелодий, непонятно почему, впрочем, любимых. Казалось бы, для песни нет никаких разумных оснований. Кроме одного: есть географически неосвоенные, белые пятна существования — их и покрывает собой песня.
В этом я вижу что-то архаическое, если не сказать пещерное. Вроде бы такой жесткий по своей логике народ, как французы, не должен был бы петь, а все равно на свадьбах, где-то в провинции, с красными от вина носами поет. И немцы поют, со своей жестокой сентиментальностью, и итальянцы, известное дело, и африканцы, я сам слышал, в деревнях все время напевают себе под нос, и американцы тоже поют.
Откуда берется? И не лучшее ли это доказательство того, что человек больше, шире заявленной и проявленной своей сущности, раз он с готовностью превращается в старый радиоприемник на лампах и начинает что-то из себя вещать в песенном виде?
Песня, какой бы она ни была, религиозна. Она нас связывает с другими мирами, непонятно какими, и в каждой песне, даже если она про Ленина, есть тоска, мука по утраченной цельности, как будто наша душа рассталась со своей половиной и ищет ее, хочет прилепиться, но не получается. И в счастливый момент жизни, когда, казалось бы, все получилось и жизнь удалась, песня нужна не меньше, чем в тоске, а значит, она еще и благодарность.
Песня, охватив собой тело, превращается в танец. Мы поем и пляшем о том, кто мы есть, и общий смысл наших песен в том, что нас мало любят, а мы хотим, чтобы нас больше любили, а нас любить особенно не за что. Общий смысл песен — дай. Не возьми, а дай. Раньше песня была о «возьми»: возьми меня, государство, я буду твоим слугой, буду водить самолеты и ездить на тракторе; или — возьми меня, любимая, я тебе подарю все, что хочешь.
А теперь песня стала «дай». Мне недодали, меня обманули, меня травмировали, дайте мне больше, не мешайте мне жить, я вам покажу, какой я крутой и бодрый. Дай, дай, дай.
А если не дать, будет обида, будет в лучшем случае ирония, эпатаж, а в худшем — месть. Я вам за все отомщу.
Страсти остались, но переместились.
В хорошей песне слова проплывают над смыслом, как гуси над землей. Смысл песни мерещится, и слова в ней не то чтобы бесплатное приложение, а непонятно откуда берущаяся вторая реальность.
Если в словах есть окончательная логика, песня скорее всего не получилась. Эта безумная потеря логики есть и в лучших современных песнях. Ирония лишь в том, что дурные песни с не меньшим успехом свидетельствуют об энтропии наших душ, и непонятно, на кого обижаться.
Ударил наконец мороз. И слава Богу. А то нас всех развезло. На грани замерзания, между дождем и снегом скользим и падаем. Сосульки толстеют и падают. Все падает из рук.
Грехи наши теплые, жидкие, моросящие, и скоро в Сокольниках будут цвести папоротники, как во влажных лесах Амазонки, и появится много негров. Негры будут пестрые, разноцветные. Крикливые будут негры. Не выпьешь водки, войдя в дом с морозца. Солнце вообще куда-то закатилось. Раньше, бывало, высунешь голову в форточку и балдеешь, пока не замерзнешь.
А теперь только пот капает с бледного лба. И тело прыщавое, чешется, как у подростка, не тело, а земляничная поляна. Хорошо, что еще остались зимние праздники, как всеобщие ориентиры календаря, говорят, недавно был Новый год, по дачам стреляли фейерверки и лаяли, поджав хвосты, собаки, но елки худосочные, иголок мало, да и те быстро осыпаются, пылесос ими забит, и поэтому по-особому воет, хрипло так, как бог ветра, и елочные игрушки тоже падают, но не бьются, а катятся по полу, как будто ненастоящие. И гирлянды зазывно подмигивают. А между тем где-то в мире есть ты. Ты с кем-то живешь. И где-нибудь, в пустой квартире под звон радио ты открываешь холодильник и смотришь на сырое, остывшее мясо с белыми жилками, берешь его в руки и снова кладешь в холодильник.
Мы никогда достоверно не узнаем о том, как на небесах прошел юбилейный банкет Иисуса Христа, но было бы странно предположить, что юбилей отмечался только на земле. Наверное, там было вкусно, и почему-то (причуда повара) по-мусульмански был приготовлен ужин, и мертвые, стоя на пестрых коврах, ели много винограда.
Кого пригласили, кого забыли пригласить? Неприглашенные, как водится, закусили губу.
Перед ужином прошел семинар на тему нравственности; на нем немножко посмеялись над Россией. Но не зло. На небе редко зло смеются. Хотя бывает. Знаю по себе.
Скорее всего, там было много поздравительных факсов и телеграмм, наверное, и сам звонил поздравить сына, хвалил за жертвенность.
Кого-нибудь там посмертно реабилитировали, может быть, наконец, Иуду, и тот тоже пришел на банкет, в белом смокинге, и раскаялся, а потом напился от двухтысячной усталости и умиления, и все апостолы плакали, называя Иуду другом, и несколько тысяч мелких грешников амнистировали, выпустили из ада, и они шли по дороге в крутую гору к небесному городу, как беженцы песчаной войны. Крупных грешников в ту ночь не особенно жарили, ни иностранцев, ни наших отечественных, вот было-то им, дуракам, послабление, а потом все решили, что в Москве нужно сделать теплую зиму, хотя их об этом никто не просил, и никто не молился по этому поводу.
Праздник кончился под утро большим разъездом гостей. Кто шел домой пешком в распахнутом пальто, без шарфа, кто нес женские серебряные туфли в пластмассовой сумке, кто ехал на такси и забыл там по-глупому туфли жены, и жена расстроилась, а я подумал, что ни разу в эту зиму не надел своей серой дубленки, и волчьей шапки не надел, купленной на Аляске, куда меня как-то раз занесло, и когда у меня в последний раз мерзли ноги, не помню. А мой брат медленно-медленно ехал на «Жигулях», зажав глаз рукой, потому что в глазах двоилось, но милиция его не тронула в ту ночь, народ стал пить чуть-чуть меньше, чем раньше, а у меня была очень молодая подруга с пятьюдесятью четырьмя африканскими косичками, большими серо-зелеными глазами, игрушечной шпагой мушкетера, и все этому удивлялись, а кто-то даже почесал в затылке, а ты выпила вдалеке от меня кока-колки, разделась, легла спать с чужим человеком.
Говорят, скоро выйдет закон, запрещающий женщинам ругаться матом в присутствии мужчин. Это было бы очень своевременно, поскольку женщины, особенно молодые, перестали бояться мата, а вместе с ним и самих мужиков. Мат до сих пор считался словесным насилием, а монополию на насилие имел сильный пол.
Мат стал модной темой. Ко мне постоянно пристают с вопросами о мате. Можно ли его использовать в литературе? Наши современники могут похвастаться тем, что живут в эпоху выхода мата на языковую поверхность— историческое явление, которое можно сравнить с изобретением компьютера.
Мат — подсознание, подкорка русского языка. Он близок магии, ворожбе. Те, кто хотят его запретить, стремятся, по сути дела, закрепить архаическую мощь родного языка. Мат в запрещенном состоянии имеет большую разрушительную силу. Он травмирует, подавляет, ломает, подчиняет. Кроме того, он оказывается системой обороны для тех, кто попал в слабую позицию. Короче, мат до сих пор остается языком войны.
Кроме того, мат традиционно считался языком подонков, и «культурный человек» всю жизнь играл в игру под названием: «ни одного матерного слова ни при каких обстоятельствах». Многие отличились в этой игре. Например, не только моя мама, но и мой папа. Я от них не слышал даже слова «жопа», не говоря уже о мате (впрочем, наконец дошло и до них: на днях моя 80-летняя мама, цитируя строительных рабочих, строящих дом на соседнем дачном участке для богатого корейца, впервые в жизни сказала «хуй»). Кажется, Маршак утверждал, что если написать длинное стихотворение, и в нем хоть раз использовать слово «жопа», от стихотворения ничего не запомнится, кроме этого слова. Эти времена ушли в прошлое. Теперь никакое запретное слово не помешает стихотворению запомниться в сознании миллионов людей. Однако другие миллионы людей могли бы до сих пор запомнить одну только «жопу». Таким образом, отношение к мату стало национальной проблемой, гражданской войной русской морали и нравов.
Почему мат вышел на поверхность? Может быть, потому, что исчезает понятие «культурного человека», к которому все еще апеллируют учительницы младших классов и редакторы провинциальных газет? С такой точки зрения мораль деградирует, мы становимся хуже с каждым часом.
Однако это не совсем так. Во Франции, например, нет мата. Это даже огорошивает поначалу. Когда я в юности учил французский язык, то очень интересовался их грязными словами. Но французы, которых я спрашивал, находились в недоумении, путались, несли околесицу. Впоследствии я понял, что французская культура перемолотила мат, вобрала его в повседневный язык на уровне «окраинных», грубых, но маловыразительных слов.
А ведь маркиз де Сад в восемнадцатом веке писал французским матом, шокируя порядочную публику, и это видно в русских переводах. Теперь же получился переводческий парадокс. Маркиз де Сад в русских изданиях звучит гораздо резче, чем во французских: у них эти слова утратили свою силу и потерялись. Значит, французы справились с матом разрешительным способом и убили понятие ненормативной лексики. По их пути пошли, хотя и много позже, уже в 60-70-е годы XX века, англичане, американцы, итальянцы, немцы, которые еще недавно печатали матерные слова с точками (и до сих пор, уже в порядке исключения, так печатают в основных национальных газетах), но постепенно раскрепощали их, буквально одно за другим, последним, по-моему, «размякло» слово на наши русские пять букв (видимо, самое крепкое матерное слово), но и оно получило право на легальное существование. Теперь употреблять их в речи — такой же свободный выбор людей, как говорить или не говорить часто «волшебное слово» — дело вкуса и воспитания.
Стоит ли нам идти в этом случае своим отдельным путем, загоняя мат в подполье? Во-первых, это нереально: молодежная лексика уже освоила его в полном масштабе и уже притупила его основной ругательный оттенок. Во-вторых, запрет на матерные слова только провоцирует их использование «назло».
Ослабление мата как ругательства заметно у нас на разных уровнях. Язык придумал и слово «трах», и, позже, довольно забавное, пародийное слово «блин», а также «пипец» совершенно неслучайно. Это — возможность альтернативной лексики, похожая на несение альтернативной военной службы (не хочешь, не надо). Кроме того, сами матерные слова принимают не свойственный им ранее иронический или даже юмористический смысл, становятся чуть ли не лаской.
Достоевский, и не только он, отмечал, не без гордости (это бросается в глаза), высокохудожественность и лаконичность матерной фразеологии. С помощью интонации и прочих нюансов можно одним словом выразить целый мир. Виртуозность русского мата уникальна и не знает аналогов в других языках. Вопрос только: почему? Почему русскому мату удалось больше, чем другим матам, откуда у него такая сумасшедшая энергетика?
Дело, наверное, в том, что мат связан со срамными частями тела и срамными действиями, которые на русской земле были запретнее, чем в вольной, прошедшей через Возрождение Европе. В России тело всегда было под подозрением. Его рассматривали как духовный позор. Оно годилось скорее для наказания, пыток, унижения, нежели для эротики, красоты и воспевания. И русский мат — мощный бунт тела против такого бесправного положения. Тело нашло язык для метафорической оценки подлого мира, который его забивал.
Но мат — не только эмоциональный взрыв «телесных» метафор, переходящих в междометия. Мат — это и язык любви. Нравится это кому-то или нет, однако молодые люди сегодня все чаще называет в постели «всё» теми сильными словами, которые боялись произнести вслух их родители. Язык любви несомненно приведет к «окультуриванию» мата. А «окультуренный» мат — уже не мат, и через двадцать-тридцать лет в России мат сойдет на нет без всяких на него запретов.
И нечем будет ругаться. Вот это, блядь, жалко!
Невозможная возможность? Возможная невозможность? Представить себе, что среди безумного количества неравноценных, разнознаковых людей может вспыхивать такое количество страстей, желаний и любви без божественного промысла, невозможно. Люди, если взглянуть на них со стороны, совершенно не предназначены для любви. Они замкнуты на своих интересах, корыстны, агрессивны, злопамятны. И вдруг ты, посмотрев на кого-то, кто, в свою очередь, с посторонней точки зрения, ничего из себя не представляет или представляет собой полное ничтожество, загораешься каким-то особенным светом, приходишь в экстаз, размыкаешься, разглаживаешься, глупо улыбаешься, нежнеешь, у тебя возникает ощущение, что ты не самодостаточен, что тебе нужно подсоединиться к какому-то другому энергетическому полю. И это меняет тебя самого и твою жизнь.
В ситуации чуда мы совсем не прислушиваемся к чужим голосам и даже к своему собственному, становимся маньяками. Через какое-то время — прислушиваемся, и получается, что и ты, и твой любимый — идиоты. Чем больше прислушивания, тем меньше любви. Несмотря на гигантское количество книг о любви («Капитал» Маркса — тоже о любви, но — к пролетариату), нигде не описано, как любовь сберечь, как противостоять чужому мнению. Очень мало реальных рецептов.
Любовь несет с собой два очевидных разрушения. Одно — медленное, когда она выветривается в бытовом, каждодневном, рутинном состоянии. И второе, когда любовь невзаимна и перекодируется на другого. Любовь таит в себе зародыш инфаркта («любовный инфаркт») и разочарования, что зовется фрустрацией. Однако все почему-то рискуют, бросаются в печь. Наверное, это самая большая тайна.
Роль секса переоценена в XX веке. Это видно сквозь призму измены: люди изменяют, но остаются верными любимым на самом высоком уровне. Они могут даже расстаться. Потом, через годы, встречаются, их тела покрыты поцелуями других людей. Но вдруг приходит понимание, что это самый родной, близкий и любимый человек. Никакие годы, никакое счастье и жизнь нипочем. Есть очень точные попадания, соединения навсегда без какой-нибудь даже совместной жизни. Эта любовь вызывает у меня особенно трепетное чувство. В таком состоянии тебе уже ничего не страшно.
Как текст настоящего автора, так и любовь больше человека. Не человек фантазирует чувством, а чувства фантазируют человеком. Почти у каждого писателя есть идеальный читатель. Его необязательно видеть каждый день. Но пишешь, чтобы именно он тебя понял. В любви — то же самое. В любви ты ведешь непрекращающийся внутренний диалог.
Хорошо возвращаться домой. Открываешь дверь, входишь — и что? Почему то, что ты видишь, называется твоим домом? Чем и кем он населен?
Дом-семья, дом-быт, дом-пространство, дом-уют, дом-любовь. Дом как понятие очень гостеприимен, все готов в себя вобрать, но, прежде всего, дом — ночное понятие. Ночью идет основная проверка, дом ли он твой или нет. Можно жить дома без семьи, без балкона, можно жить в совсем пустой комнате без телевизора, кошки, занавесок. Твоя квартира, даже если из четырех комнат, домом не станет без твоего внутреннего спокойствия. Ты ложишься спать, гасишь свет и понимаешь: ты — дома. Это не шорохи и не привычный вид из окна, но это и шорохи, и вид, и отражение в зеркале. Дома у тебя просто другое дыхание, другой цвет глаз. Тебе могут сниться совсем не домашние сны, но твой дом складывается из твоих снов.
Днем домовой превращается в запахи твоего дома.
Дом возникает из отношений, которые терпеливо выстраиваются в твоем сознании. Дом в тебе. Ты, в самом деле, строитель своего дома, и все, что ты в нем делаешь или не делаешь, обрастает, как бытом, смыслом.
Но, что бы ты ни выстраивал, дом приходит к тебе из детства. В детстве он — твое продолжение, а ты продолжаешь его, будучи частью дома. Ты не оспариваешь его, ты принимаешь его таким, каким он есть, и все основное, что в тебе сложится, будет зависеть от того, каким он был в детстве. Хотя и здесь не все просто. В детстве ты тоже выдумываешь свой дом, в тебе существует заданное природой желание раскрасить его светлыми красками. Скромная новогодняя елка разрастается под потолок. Игрушки матерчаты, но не материальны. Ты готов заранее к примирению со счастьем.
Родительский дом остается навсегда моделью дома, которую ты впоследствии примешь или отвергнешь. У тебя никогда не будет достаточно сил отвернуться от нее, даже если она тебя не устраивает. Это корни, которые инстинктивно боязно рубить. Именно по твоему родительскому дому можно понять, будет ли твой дом чистым и ясным или — небрежно запущенным.
Революционеры считали любовь к дому проявлением мещанства, и слишком многие русские писатели с ними были согласны. Духовная ликвидация мещанства еще до революции не дала возможности создать в России здоровый средний класс с опорой на домашние ценности.
Не ходи дома в рвани, не обижай себя.
Если чего, действительно, не хватает русскому дому, так это красивых вещей. Есть склонность к тесноте, как склонность к полноте. Мы слишком редко даже в праздники распахиваем обе половинки комнатных дверей. Считается неправильным делом подбирать посуду, интересоваться вилками, ложками. Какая разница — лишь бы было, чем есть. Дело не в цене — в отношении. В русском доме много случайных вещей. Эти случайные вещи засоряют наше сознание своей необязательностью. Мы становимся необязательными. Легко отмахнуться — у нас тяжелое прошлое. Весь XX век мы прожили бомжами в пыльных шлемах. Особенно сильно это тяжелое прошлое отражается на наших уборных. Такое впечатление, как будто вчера еще была война и завтра уже будет новая. Недоверие к жизни живет в наших домах.
В Москве висят рекламные щиты со словами: у кого нет вкуса, у того нет совести. Это новый для многих взгляд на вещи. Вкус связан с совестью по принципу «красота спасет мир». Дом становится модным явлением.
Хорошо бы вернуться домой.
Мы все, конечно, каждый по-своему, изменники. В течение жизни изменяем своим убеждениям, вкусам, привязанностям. Это нормально.
Если в юности я любил ватрушки, а теперь их терпеть не могу, я — изменник ватрушкам. Меня за это вряд ли кто расстреляет, но даже в пустяковой измене есть проблема: может обидеться бабушка, которая меня этими ватрушками угощает.
Но понятно, что измена — это не только про ватрушки. Измена — одно из самых сильных русских слов, оно пахнет кровью, уничтожением или, по крайней мере, рукоприкладством.
Измена родине — строго говоря, метафора. Некоторые думают, что дело легче обстоит с супружескими изменами — здесь вроде все ясно. Статистика утверждает, что в России 55 % мужчин изменяет женам. Зачем? Почему мужчина считает, что тело его жены принадлежит только ему и не может принадлежать никому другому? В сущности, мы все изменяем вчерашним нравам. Только одни больше, другие — меньше. Обычно думают, что измена начинается с ослабления любви. И к родине, и к жене. Хорошо. Можно ли изменить жене, если ее бешено любишь? Я слышу громкое «нельзя!» Но ведь это — самое сладкое.
Звонок из Лондона. Английская журналистка из международной редакции Би-би-си. По поводу подводной трагедии. Слышу, в голосе слезы. Я даже сначала не поверил. Но, когда кончилось интервью, она говорит: «Извините, что я плакала. Моряков жалко».
Конечно, жалко. Очень жалко. Особенно когда включишь воображение и представишь себе, как страшно они умирали. Но почему ей-то их жалко до слез? Другая страна. Другой народ. Другое всё. Случись такое с китайской подводкой, кто бы у нас заплакал? Прошло бы так, стороной. Бровью бы не повели. Или бы хмыкнули:
— Китаезы, блин, потонули!
Значит, там, в Лондоне, у наших бывших будущих врагов, которых у нас принято считать бесчувственными прагматиками, есть недоступный нам ресурс сочувствия.
У нас этот ресурс очень хилый. Взять официальные и журналистские реакции на трагедию — они имеют скорее значение политической интриги. Или — очередного запоздалого прозрения, что живем мы в катастрофическом государстве. И вместо сочувствия лезет из души злорадство: ну, кто в трагедии виноват? Кому не сносить головы?
Но виноваты все, до одного. Мы сами позволили государству быть бесчеловечным. Оно безобразно распустилось. Мы потому и живем в катастрофическом государстве, что у нас исчерпался ресурс сочувствия. И когда я рассказал об английских слезах молодой русской тележурналистке, она заметила: «Если обо всех плакать, то не наплачешься. Жизни не хватит».
Мы живем в стране такой хронической, исторически накатившей жестокости, что превратились в улиток и черепах — забились в панцирь, генетически выплакав слезы. Раскроемся — пропустим удар. Ногой под дых. Нас обманут, обворуют, унизят, истребят. Мы ничего хорошего не ждем. И еще мы похожи на перепуганных, затравленных зверьков, которые в минуту смертельной опасности могут больно укусить, прокричать страшным отчаянным криком — и пропасть.
Это не значит, что русские лишены жалости. Жалостливость до сих пор сохранилась. В деревнях бабы — такие жалостливые. Неслышный жалостливый вой стоит над страной. Мы жалостливы, но без сочувствия.
Получается на первый взгляд парадокс. На самом деле, в этом и есть наша слабость. Жалостливость — инстинкт, черта «любовной» беспомощности, одним словом, размазня. Пожалеют, но не помогут, ну, разве утешат. На другое нет сил. Нет умения бороться. Сочувствие — это состояние личности, которая может мобилизоваться и прийти на помощь в беде, или, если случилась трагедия, помочь тем, кто стоит вокруг гроба. Кстати, о словах: не мертвое правительственное «соболезнование» и не стопудовое церковное «сострадание», а «сочувствие» нужно людям.
И ответить на катастрофизм государства не цинизмом, как это случается, не интеллигентским нытьем, от которого тошнит, и не общенациональным пофигизмом, а ясным осознанием того, что происходит внутри и вокруг нас. Вот чего не хватает: адекватного восприятия жизни. Мы живем в потемках сознания. Осветить его может только любовь. И как хорошо, просветленно сказала одна из молодых вдов моряков в телекамеру: «Любите друг друга сейчас. Пока вы живы».
Смелее любите! Смелость любви — вот что мы можем раскрыть в себе, несмотря на государство. А сочувствие — это и есть энергия любви, обращенной к горю.
Если бы Монтекки и Капулетти пинками подталкивали своих детей к брачной кровати, сводничали, вступили бы в интерродительский заговор, стояли бы у них в изголовье со свечкой, детишки бы отравились от противного, по обоюдной друг к другу ненависти или хотя бы из желания не подчиниться воли родителям.
Первая любовь, преувеличенная «культурным» воображением, как раз и есть та самая обычная любовь, которая возгорается от запрета и тухнет, когда дозволена.
Есть такие международные перекрестки любви, которые давно уже стали стереотипами, определяют общечеловеческое сознание безо всякого на то основания, делают его банальным.
— А у меня сегодня началась менструация!
— И у меня тоже!
— И у меня! И у меня!
Ну, слава Богу, у всех началась. До этого официально менструации не было. Глухо говорилось о каком-то таинственном недомогании, о призраке «больных дней». Муж ничего не понимал. Женщины прятали, оглядываясь, не доверяя никому, всякие свои ватки по темным углам, по шкафам, на дне сумки — в ванной уничтожались все следы менструальной деятельности.
С 1995 года пачки тампаксов в московских ваннах были открыто выставлены для обозрения. Спасибо русскому капитализму, настойчивой рекламе тампаксов и прокладок по телевидению, победе белых штанов в самые критические дни. Но и телевидение было бы не в силах пробить менструальную пробку, если бы общество не созрело. Возможно, женщин слегка подтолкнули к признанию собственной менструации. Хотя, с другой стороны, рекламы марихуаны по телевидению не ведется. Сигареты и водку тоже не рекламируют. В общем, когда менструация стала общегосударственным фактом жизни, молодые женщины стали подробно делиться с коллегами, друзьями ощущениями своих месячных и даже, не участвуя в спортивной жизни или в стриптизе, нашли для себя возможность уклоняться от особо активных мероприятий, благодаря письменным заявлениям о своей менструации.
В Мали, в древней культуре Догон, женщин до сих пор отправляют в специальную хижину, похожую на ножку белого гриба, когда у них начинается менструация. Они считаются грязными и неприкосновенными. Они сидят в грибе и проникаются идеей женской грязи. Наше представление о грязи радикальным образом изменилось. Менструация стала нормой жизни. Кумиры нашей молодости быстро погасли. Их затопила менструация нового поколения. Бандиты стали мэрами городов. Интеллигенция утонула в менструальной крови. Наши шестидесятники и не знали, что от трансвеститов рождаются дети. Они называли все эти отклонения экстремой, но перверсия стала нормой, а они — маргиналами. Мы переехали в молодую, наглую, веселую страну, которая уже существует на карте.
Использованные прокладки приклеиваются к стенам раздевалок и туалетов. Это демонстрация женских возможностей, красоты отправлений, матриархальных требований, животной выразительности экс-слабого пола.
Правильное отношение к месячным — компас новой жизни. Всем предписано жить в менсстриме.
В одной французской книжке я когда-то прочитал философскую реабилитацию Дон-Жуана: тот не потому менял женщин, что был развратником, а потому, что ни одна не удовлетворяла его своими человеческими качествами.
Я ходил под впечатлением этой мысли, и этот ДонЖуан был мне близок.
Но, в сущности, драма Дон-Жуана в другом. Будь Донна Анна даже самой совершенной женщиной и умным человеком, Дон-Жуан все равно бы не остановился. Его беда в том, что он был развратником, мечтавшем о переменах. После пирожных Донны Анны он потянулся бы к черному хлебу, потом снова к пирожному, и — снова к хлебу.
У меня было столько женщин, сколько волос на твоем лобке. Я тебя вырвал с родины, пересадил на гнилое место. Ты пошла на это ради меня. Ты родила мне ребенка, чуть не умерев при этом. Ты была со мной тогда, когда мне было хуево. А я разрешил каким-то сраным моим любовницам смотреть на тебя свысока, смеяться над тобой. Я тебе изменял, врал, ебался хуй знает с кем в семейной кровати. Я превратил тебя в рыдающую спину, сплошную боль. Ты, конечно, сделала кое-какие ошибки, но разве за это так наказывают? Ты исстрадалась до костей. За что? Ты любила меня, как никто.
Мне всегда всего было мало.
Если у твоей жены или любимой девушки появился любовник, обязательно встреться с ним и попроси, чтобы он тебя выебал в жопу. Если выебет, то тогда все будет хорошо.
Писательские жены — это бульон из кур, которые попали не в свою тарелку.
Нет ни одной писательской жены, которая бы не думала сама стать писателем.
Нет более тщеславных созданий, чем писательские жены. Они отсосали у мужей все тщеславие мира.
Нет более циничных созданий, чем писательские жены. Они знают, чем пахнут носки гениев.
Нет более несчастных созданий, чем писательские жены. Их всегда любят во вторую очередь. Чем лучше писатель, тем несчастней его жена. У великих писателей жены быстро сходят с ума. Они не могут больше жить без гениев, а с гениями они жить совсем не могут. Писатель всегда подчеркнет, что жена у него ничтожество, незаметно подчеркнет или заметно — в зависимости от деликатности, на которую писатель вообще не способен.
Мемуары писательских жен нельзя читать без отвращения.
В тюрьму я попал с необыкновенной легкостью. Ворота гостеприимно распахнулись, и пресс-секретарь тюрьмы с улыбкой сказал, что заждались: я опоздал на десять минут. Трехэтажное здание, судя по фасаду, было построено по чертежам какого-нибудь немецкого архитектора в 1783 году, и нынче выглядело мощно и облезло. На входе отобрали паспорт и повели к заместителю начальника по политической части. На редкость любезный, свежий лицом подполковник, по-дружески назвавшийся Андреем, немедленно подарил мне большой памятный значок тюрьмы, сделанный к ее 214-летию.
Он рассказал, что среди 1300 заключенных 200 страдают туберкулезом и что целый год у них из-за поломки пекарни не было хлеба. В остальном все нормально. В камерах сидят не больше 16 человек, убийцы и бандиты-рецедивисты. Мы прошлись по коридорам. Я запросился поговорить с рецидивистами. По дружескому приказу Андрея дежурный офицер сбегал за ключами, но камеры не открыл.
— Они могут с вами все что угодно сделать.
— Например?
Он не стал приводить примера. Андрей больше не настаивал. Воспитательная работа с заключенными основана на трех принципах: убеждение, принуждение и личный пример.
— Заключенный за время отсидки не разу не ступает по земле, — подчеркнул Андрей.
В этом мне померещилось что-то по-русски метафизическое.
— А прогулки?
— На галерее под самой крышей.
Меня повели в тюремный музей. На стенах — фотографии прославленных заключенных. Ветеран-надсмотрщик Юрий Иванович с нежностью водил указкой по лицам своих заключенных. Это были железные маски — узники, сидевшие в тюрьме в одиночных камерах под номерами: начальник личной охраны Гитлера И. Раттенхубер, главнокомандующий группы армии «Центр» Ф. Шерер, руководители государств Прибалтики, Василий Сталин, певица Лидия Русланова, мистический писатель Даниил Андреев и другие безвинные жертвы режима. Документы 20-30-х годов были уничтожены в сентябре 1941 года, когда фашисты подходили к Москве.
А вот и диссиденты брежневской поры: Анатолий Марченко, Владимир Буковский, Натан Щаранский. На полках с уважением были выставлены их книги.
— Я тоже знаю Буковского, — похвастался я. — Я пил с ним красное французское вино всю ночь у него дома в Кембридже.
— Где-где? — переспросил отставник.
— Очень много выпили, — добавил я.
Юрий Иванович подробно рассказывал, как он диссидентов лично «перевоспитывал». Он гордился знакомством с ними, но с обидой заметил, что они в мемуарах недобрым словом отозвались о тюрьме.
Зато тюремная библиотекарша, полнотелая блондинка Ирина, которая могла бы своими размерами озадачить даже Кустодиева, имела противоположное мнение. Она показала мне на мои книги, томящиеся в тюремной библиотеке и по случаю моего приезда выставленные на особом алтаре, и призналась:
— Когда я ухожу в отпуск, я скучаю по тюрьме. По ее особой атмосфере. Они мне все родные, охранники и заключенные.
— Меня осудили за убийство, которое я не совершал, — сказал ее молодой помощник в серой униформе. Помогите мне выбраться отсюда. Я пишу стихи.
Я взял стихи.
— Как вас зовут?
— Сережа.
Меня неожиданно ввели в просторный, душный зал. Там сидели примерно 300 заключенных в серых униформах в ожидании моего выступления.
— Здравствуйте! — выкрикнул командир.
Аудитория покорно, но медленно встала.
— Вы меня не предупредили, — тихо обратился я к офицерам, краснея впервые за многие годы.
— Скажите им что-нибудь о надежде. Вы же писатель, вам есть что сказать.
В меня уперлись 600 глубоко впалых глаз. В своем пиджаке от Хуго Босса я почувствовал себя полным идиотом.
Я рассказал им всем о надежде.
Говоря о Владимирском централе, я забыл сказать, что тюрьма имеет свой особый запах, который, может быть, страшнее всего: запахи не забываются. Это запах принудительной чистоты, плохой еды, непромытого, отчаявшегося человеческого тела (баня раз в 10 дней). Вообще же в России на редкость равнодушно относятся к дурным запахам, воспринимая их как неизбежность. В том же Владимире есть Американский дом, где молодые американские преподаватели учат местное население английскому языку. Войдя в классную комнату, я поразился резкому запаху пота:
— Почему вы не просите своих учеников мыться?
Преподаватели отвели глаза, а потом посмотрели на меня как на своего. Запаха пота кроме них никто не замечал.
Но поистине великая встреча с запахом произошла у меня на обратном пути в Москву, в поселке Омофорово; там большая школа для умственно отсталых детей. Как они выживают? Школа в старом здании, похожем на Владимирскую тюрьму, светилась огнями: был ранний февральский вечер. Я попросил своего провожатого узнать, смогут ли нас принять. Он вернулся довольный: нас ждут, даже напоят чаем. Только там странно пахнет. Я не придал значения его словам. Мы вошли в помещение, и я вдруг понял, что давно не попадал в такие безвыходные ситуации. Воняло так, что вонь можно было по силе сравнить с мощью бетховенской симфонии. Я зажал нос рукой, чтобы не вырвало, но вонь все равно врывалась в меня через уши, глаза, через каждую пору. Не знаю, как я дошел (и дошел ли?) до комнаты воспитателей. Не исключаю, что я остался там навсегда. Это женщины разного возраста; за нищенскую зарплату они учат и воспитывают детей алкоголиков, наркоманов. Все бы хорошо, сказали они, но что делать с детьми после школы, непонятно. Девочки-олигофрены выходят на трасу Москва-Владимир для проституции.
— А что у вас за запах в коридоре? — деликатно спросил я, еще бледный от обонятельного шока.
— Запах? Какой запах?
— Ну, запах…
— А это камбала на ужин размораживается.
— Камбала?
— Ну, да, а что?
— Да, нет, ничего.
— А вы нам поможете? — спросили воспитательницы. — Мы на следующий Новый год ищем денег на костюм Деда Мороза. И еще бы нам любительскую видеокамеру.
В дверь учительской заглядывали дети, чтобы показать воспитательницам, которых они называют мамами, свои только что нарисованные рисунки.
Чем дальше Сталин уходит в историю, тем больше многих пленяет его грузинский макиавеллизм, склонность к грубым шуткам и удовольствиям, последовательный мачизм, умение противостоять Западу. Террор 37-38-х годов представляется внутрипартийной «разборкой». Принижается число расстрелянных. Сталин становится персонажем русского национального комикса, готовым говорить и делать то, что другие трусливо маринуют в подсознании. Русских по-прежнему пьянит скорее не водка, а идея безграничной власти, способы ее достижения и выражения. Новым элементом сталинских штудий оказывается почти жалостное отношение к его последним годам жизни. Осенью 1945 года он пережил инсульт и впервые официально уехал в отпуск. Дальше— еще три инсульта. Товарищи из Политбюро постепенно оттеснили его от власти. Он все забывал, писал корявые записки и не подписывал никаких документов. Страна жила при Сталине без Сталина. Читаешь — плакать хочется. Пятым инсультом Сталина стало беспамятство пережившей его страны.
Раиса Горбачева никогда не будет всемирной любимицей, как леди Д., но ее роль в истории России несомненно значительнее мирового признания принцессы. У русских считается не очень приличным любить свою жену. Михаил Горбачев не побоялся бросить вызов этой традиции, навязав русскому обществу свою любовь к Раисе Максимовне, хотя здесь не было демонстрации: он просто ее любил. Его манера публично держать жену за ручку казалась не менее радикальной, чем снос Берлинской стены. На месте Политбюро возникла политмуза.
Первая и последняя советская леди, Раиса Максимовна меньше всего подходила для светской хроники. С ней ничего не случалось, кроме того, что она была на виду, но она вызывала фантастическое бешенство почти всех русских людей. И чем лучше она была, тем хуже о ней отзывались. Теперь, когда она умерла, об этом стараются не говорить, но я хорошо помню тот яростный блеск в глазах, с которым люди поносили ее. Это была сублимация. Население России отказывалось идентифицироваться не столько с ее образом, сколько с действиями ее мужа. Она взяла на себя дурную энергетику страны, защитив от нее Горбачева. Ее умение держаться, улыбаться, одеваться в стране, лишенной хороших манер, казалось многим агрессией чуждых сил, чуть ли не натовской экспансией на Восток. Я не склонен преувеличивать ее профессиональные достоинства, ученые степени. Достаточно того, что для Горбачева она была совершенством. Он должен был вести себя достойным мужчиной в ее глазах.
Вот в чем подлинный стимул перестройки, оказавшейся любовным подарком ей. Раиса Максимовна с благодарностью приняла его, не подозревая, вместе с мужем, что, в конце концов, она умрет от этого подарка, от стрессов и переживаний, которые в нем таились. Политмуза создала новую Россию, которая, если она будет действительно новой, когда-нибудь по достоинству оценит ее.
В Москве входит в моду убивать друг друга топорами. Это, конечно, дань уважения к Достоевскому. Москва превращает Достоевского в писателя для подростков в буквальном смысле этих слов.
Шестнадцатилетний Сережа, живущий на Садово-Сухаревской площади, очень не любил своего папашу-пьяницу, который нигде не работал и заставлял его собирать по помойкам пустые бутылки. Папаша часто бил мальчика и практически не кормил, но зато кормил бездомных кошек, которых в его квартире развелось столько, что по ней нельзя стало быстро ходить. Ненависть между отцом и сыном кое-как сдерживала бабушка, но она угодила в больницу с дизентерией, объевшись щавелем, нарванном во дворе, и вот тут-то и возник Достоевский.
Сережа, не выдержав очередных побоев, поздним субботним вечером схватил на кухне топор для рубки мяса и огрел папашу по голове. Затем он принялся за дело, которое заняло у него всю ночь: отрубил папе голову, две руки и левую ногу, а правую не стал рубить, потому что устал. Из отрубленных конечностей он сварил на газовой плите, сильно засранной кошками, суп и устроил кошкам настоящий пир. Кошки урчали от удовольствия и дрались между собой за лучшие куски мяса.
Когда милиция схватила подростка, у него в холодильнике стояла полупустая кастрюля с бульоном из папы.
— Ты пил его? — спросили сыщики.
— Я — не людоед, — гордо ответил подросток.
Сережу отвели в тюрьму. После того как его накормили арестантской пищей, он долго благодарил милиционеров, признавшись, что уже давно так вкусно не ел.
В России и так всё держится на соплях; пойдешь против примет, страна окончательно рухнет. Советская власть официально воевала против суеверий — и что с ней стало? После ее смерти, вместо перехода к капитализму, начался бум оккультизма, триумф астрологии. Особые гонения открылись на сатанинское число 666 — символ апокалиптического зверя. В Москве, по просьбе православной церкви, был переименован 666-й маршрут автобуса, а пассажиры электрички Москва — Осташков, засыпав железнодорожное начальство письмами, добились изменения сатанинского номера поезда 666 на безвредный 604.
Борьба с сатанизмом пробудила к нему интерес. Возникли секты азартных осквернителей кладбищ. Денег на ночную охрану кладбищ нет, нужно только перемахнуть через забор. Тихое Рублевское кладбище на западной окраине Москвы стало жертвой погрома: кресты сбиты, памятники разрушены, могилы раскопаны.
— Осквернено 80 захоронений, — подсчитали милиционеры.
Сыщикам удалось поймать двух отважных сатанистов, испытующих божественное терпение. Их тела были разукрашены идеологической татуировкой: пятиконечными звездами.
— Коммунисты?! — растерялись милиционеры, у которых на погонах похожие звездочки, как привет от покойного СССР.
Но милиционеры ошиблись: пятиконечные звезды парней оказались перевернутыми— верный знак сатаны. Это — дети богатых коммерсантов, а наша милиция, хоть и верит в приметы, готова брать деньги хоть от самого держателя числа 666.
К трем годам тюрьмы приговорил московский суд 24-летнего отца, который продал своего двухнедельного сына за 200 руб. Сделка состоялась на Казанском вокзале, куда отец ребенка пришел с его матерью-проституткой. Пока мать, найдя клиента, зарабатывала себе на жизнь, ребенок описался и расплакался. Отец, тосковавший в зале ожидания, не знал, что делать, и тут одна добрая 22-летняя девушка, по имени Ольга, предложила перепеленать ребенка и даже купила ему молока. Отец чистосердечно признался ей, что сын ему не нужен, и Ольга решила купить его за 250 рублей и увезти в свой родной город на Волге. Отец, подумав, отдал сына за 200, поскольку Ольга уже потратилась на молоко.
Каждый год в московских роддомах остается примерно 800 младенцев, от которых отказываются матери. В основном это женщины, приехавшие в Москву на заработки из бывших советских республик. Врачи пытаются убедить женщин не отказываться от ребенка, но боятся переусердствовать: одну мамашу убедили, она забрала ребенка, а потом заперла его в камере хранения на вокзале. Ребенок задохнулся.
Женщины, отказывающиеся от детей, ложатся в роддом без документов, под чужой фамилией. Подкидыши автоматически получают российское гражданство, остаются в Москве в детских домах. По закону в 18 лет им бесплатно предоставляется жилье. Вот тогда-то на новоселье к ним, бывает, приезжает незнакомая женщина:
— Здравствуй, я — твоя мама!
Блатные песни несутся по летней Москве — народ делает музыкальный выбор в пользу хриплой, бесшабашной русской вольницы.
Блатные песни — знак парадоксальных ценностей, присущих русскому обывателю: страшась реальных воров и грабителей, которые потрошат его квартиру и угоняют с мукой нажитый автомобиль, он философски близок их мифологическим двойникам, пропивающим награбленное в дорогих кабаках с блядьми и черной икрой. Вор в русском национальном сознании — не преступник, а своеобразный диссидент, идущий против законов всегда ненавистной власти, которая тоже грабит, но с помощью не физического, а бюрократического насилия. «Вор в законе» — легендарный социальный статус, уважаемый авторами детективов и втайне милицейскими чинами. Вор никогда не соглашался быть «советским человеком», и потому его как тип возлюбила либеральная интеллигенция, вслушиваясь в стихи и песни своих кумиров, от Сергея Есенина до Владимира Высоцкого.
Дайте ворам амнистию. Она вплотную приблизит образ вора к любителям тюремного фольклора. Песня со страшной силой ворвется в жизнь.
В нашем доме на чердаке живет Бог. Дом серый, доходный, в маленьком переулке, возле него растет старый тополь, который сломался пополам в очередную бурю, но неожиданно ожил, и теперь это — лиственный шар с толстой палкой ствола. Через реку, особенно ранним солнечным утром, хорошо слышатся объявления, с какой платформы и куда отходят поезда. Там Киевский вокзал.
Народ в подъезде очень смешанный, половину квартир заселяют коммунальщики, другую половину расселили, и к дому теперь подъезжают люди в хороших машинах. Логичнее в таком подъезде жить Карлу Марксу, который бы заново мог написать книгу о классовой войне, о том, что коммунальщики все ломают, воруют газеты из почтовых ящиков и очень сорят на лестничных клетках, но что это так полагается обездоленным. Зато богатые терпеливо и без надежды на успех все это чинят, убирают и ждут, пока коммунальщики свалят. Но бабки не хотят никуда ехать, мечтая помереть рядом с тополем.
Коммунальщики рано встают, на весь подъезд хлопают дверью лифта и едут на работу. Есть тихие квартиры, с фикусами, и — буйные, без фикусов. Там какие-то странные нравы, которые мог бы охотно описать молодой Максим Горький.
Но вместо Горького и Маркса на чердаке живет Бог. Его присутствие для жильцов подъезда настолько очевидно, что речь даже идет не о вере. Можно ли верить в то, что есть в непосредственной близости?
Именно из нашего подъезда Бог руководит всей вселенной и делает это ненавязчиво и незаметно, без бюрократии, не снимая у московских властей никакого офиса, даже персонального компьютера у него нет. Он, может быть, сам компьютер. Ему никаких помощников не надо. Он живет на чердаке, но не как бомж, а так нормально живет, только лифт до чердака не доходит, и надо один пролет подниматься пешком, а потом карабкаться по железной лестнице под потолок.
Удивительно, что Бог совершенно не интересуется тем, в каком состоянии жильцы содержат свой подъезд. Как будто Ему все равно, будет ли на лестнице чисто, подметает ли ее уборщица или нет. Поскольку расстояние в нашем доме до Него минимальное, молитвы доходят хорошо, грех жаловаться, но, видимо, молитвы от наших жильцов поступают к нему очень противоречивые, и, если их все сложить вместе, непонятно, кому отдать предпочтение.
Возможно, надо отдать предпочтение старым жильцам, ветеранам подъезда, знавшим дом еще в те времена, когда на лестничных клетках постоянно взрывались зимой батареи, и подъезд напоминал грязную баню, и никому до этого не было дела. Интересно, что ветераны подъезда совершенно не считают подъезд своим, не закрывают даже зимой входную дверь, им все равно, работает ли в подъезде домофон.
— У нас нечего красть, — говорят они Богу.
В любом случае, они против установки домофона, даже если в подъезд заходят чужие люди и писают там рядом с лифтом.
Когда я смотрю на это равнодушие, мне становится понятно, что их души настолько устали, что им не до молитвы. Тем не менее Бог не прислушивается к тем, кто хочет потратить свои деньги и обустроить подъезд.
С другой стороны, Он допускает кровавые драки. Дерутся внизу, перед лифтом, и странно как-то дерутся, по всякой ерунде. Агрессия, бешенство вырываются из усталых раздраженных людей не по делу. А квартира, что у меня над потолком, и вовсе до недавнего времени была жутким притоном. Там по ночам все время падали люди об пол, и весь дом вздрагивал, но Бог терпел. Впрочем, Он не жил в моей квартире, на потолок которой те, кто жил наверху, так настойчиво падали. А падали на меня пара глухонемых, бывший футболист, очень дешевая проститутка со своим хахалем и старым папашей, и они там, по-моему, все перетрахались, но еще больше перепились. Раз в месяц, в субботу большой стирки, они регулярно заливали меня, и я бежал наверх, а они мне говорили, что они пьющие, у них нет денег и совсем их нельзя ругать. Наконец я взмолился — и их отселили.
Но моя молитва дошла до чердака с какими-то странными последствиями. Нет, чтобы их просто-напросто выселить. Их выселили из подъезда через жуткую катастрофу: та самая дешевая проститутка задушила своего собственного папашу с костылем подушкой. Да, я молился о том, чтобы их выселили, но не в такой безобразной форме. Я не хочу сказать, что мне было особенно жалко этого старого папашу, который невероятно гадил в подъезде, но все-таки я не хотел, чтобы все кончилось милицией с автоматами и демонстративным выводом дочки в тюрьму.
Если бы мне заранее сказали на чердаке, хочу ли я остановить потоки воды по моим стенам раз в месяц — почему-то у них всегда переливалась ванна, а стиральной машины, конечно, не было, у них вообще-то ничего не было, кроме пьяных драк — посредством отцеубийства, я бы, наверное, выступил против отселения старого папаши на тот свет, хотя, честно сказать, моему терпению настал конец, но, видимо, на чердаке других возможностей не нашли.
А жаль.
И если у нас в подъезде, в непосредственной близости от Всевышнего, происходят такие кровавые вещи, то что можно требовать от других, более удаленных от Него мест, где случаются черт знает какие катастрофы из-за необдуманных молитв разных замороченных людей, — молитв, случайно рассмотренных положительно у нас же на чердаке?
Наверное, ничего.
Я летел из Москвы в Непал. Рядом со мной сел нестарый монах в оранжевых одеяниях, довольно вонючих. У них не лица, а расписанные кисточкой куриные яйца. Когда мы взлетали, он неожиданно схватил меня за руку, судорожно сжал и судорожно, жалко стал смеяться.
— Ты чего? — не понял я.
— Боюсь, — сказал он.
— Но ты же буддист, — сказал я.
Монах не преодолел зависимость от страха. Может быть, весь его буддизм только и есть попытка преодолеть страх, спрятаться от страданий и саморазрушения. Но я тоже хочу схватить монаха за локоть. Я хочу ему сказать:
— Побудь со мной.
— Зачем?
— Я боюсь быть один.
Не только богатство и славу. Любовь в гроб с собой тоже не положишь. Может быть, мы придумали истории о любви только потому, чтобы не оказаться в одиночестве. Мы нагрузили любовь излишними коннотациями, связанными с творением. Может быть, сделав акцент на любви, придумав это слово, растиражировавшись в привязанностях, зацепившись за образ, мы уклонились от бессмертия, задраили единственно возможный люк, признали свою поражение. Любовь нас связала по рукам и ногам. Если у тебя есть талант, когда участвуешь хотя бы минимально в глобальном сотворчестве, любовь уходит на второй план, испаряется, становится маревом. Любовь закрывает собой черную дыру мироздания. Заглянем туда. Там как-то все неподвижно колеблется. Это для смелых. Продолжим полет в ровной пустоте. Освободимся от придуманных слов. Бог — не фрайер.
А был ли Пушкин?
Не знаю, как бы я смог жить в России, если бы не было Пушкина. Это невозможно объяснить иностранцу. Пушкин не создал ни Фауста, ни Дон-Кихота. Его даже не растащили на афоризмы. При всей его всемирной отзывчивости, на которой так настаивал Достоевский, Пушкина не назовешь международным явлением. Уважение иностранцев к Пушкину похоже на чайную церемонию: все улыбаются, но в душе предпочитают выпить что-нибудь покрепче.
Между тем Пушкин дал русской культуре нежданный-негаданный свет такой силы, что она до сих пор отражает его. Сущность Пушкина — принадлежность к свободе. Пушкин скорее всего — единственный свободный писатель России. В нем есть исключительная бесполезность. Его можно расколоть на разные «полезные» куски, но в своей целостности он отчетливо противоречив, одни его высказывания поглощают другие. Он показал и явил собой ясную противоречивость жизни. Он ужасался тому, что родился в России, но не желал России иной истории. Он писал детские сказки и порнографические поэмы.
Если он чему-либо учил, то разве тому, что на свете почти все относительно, изменчиво, непостоянно, а значит — жизнь продолжается.
Если бы не было Пушкина, не знаю, на каком бы языке я говорил. До Пушкина Россия едва ворочала русским языком, на нем не говорили, а перекатывали во рту тяжелые камни синтаксиса, хрустели костями архаических суффиксов. До него писали тяжело и коряво, точно так же, как и жили. Пушкин подчинил язык бесконечной легкости своей жизни, освободил его и предложил потомкам.
Самый захватывающий пушкинский роман — его жизнь. Он мог бы с большой выгодой для себя славить в одах русский трон, но предпочел жить бунтарем, циником, бабником, атеистом. Он написал кощунственную поэму «Гаврилиаду» о порочном зачатии Девы Марии, которая не могла не вызвать скандала, даже оставшись рукописью. Метафизический циник стал основоположником отечественного самиздата.
Не только метафизический.
Маленького роста, 1,65 м, лицом похожий на обезьяну, Пушкин был первой в русской литературе суперзвездой, окруженной мифами и сплетнями. Кто не знает о том, что в южной ссылке он выеб жену своего влиятельного начальника, губернатора края графа Воронцова? А «случай» Керн, прекрасной соседки, воспетой в самом известном любовном русском стихотворении, которую в частном письме он от души назвал «блядью»? Но он и сам был хорошей «блядью», когда поостерегся (сославшись на зайца) ехать в Петербург, узнав о декабристском восстании. Друзья отправились на виселицу или в Сибирь, а он был приближен к новому царю, который назначил его камер-юнкером, а себя — пушкинским цензором, что было оскорбительно, почетно и безапелляционно.
Все гении — сексуальные животные. Вон они стоят с красными поднятыми хуями по обочинам Млечного Пути. А вот и наш Пушкин.
Любовные проделки русского эфиопа закончились самой яркой и самой гнусной любовной катастрофой в истории родной культуры. Пушкин на своем примере блестяще доказал, что даже национальный гений № 1 не застрахован от унижения быть «опущенным» своей бабой. Донжуановский список, с любовным восторгом собранный пушкинистами (а кто явился на бал в полупрозрачных белых штанах на голое тело?), стал ему метафизическим приговором не хуже, чем у самого Дон-Жуана. Сколько бы Пушкин ни брюхатил первую московскую красавицу, она неизменно уходила в блядском кокетстве от верности своему мужу с царем, гомосексуалистом, с кем угодно. С женской точки зрения, гений не стоит нормального, предсказуемого красавца-француза. Никакие стихи, никакая слава, никакое божественное вдохновение не спасли гения от позора. Он стал рогоносцем, независимо от «проникновения» чьего-либо члена во фригидную пизду Натали. Он испытал адские муки неопределенности и обосранности. Высший свет единодушно встал на сторону Дантеса, хохоча над ревностью Пушкина, бесславно доведшей его до могилы. Царь брезгливо приказал похоронить нашкодившего поэта подальше от Петербурга.
Другого солнца в русской поэзии не было. Было всякое, но солнца не было. Чем больше времени проходит со смерти человека, тем закономернее кажется его смерть, даже если она чудовищно неестественна. В любом случае Пушкин был бы не в силах остановить движение русской культуры в сторону совсем не культурной полезности.
Если совокупность противоречий, мимикрирующую под золотую середину, считать гармонией, то Пушкин гармоничен. В его стихах есть очевидное совершенство, в которое вновь и вновь приходится только верить не знаю щим русский язык. Пушкин принципиально непереводим. В переводах его стихи превращаются в ослепительную банальность. Непереводимость Пушкина, которая отличает его от культурных героев других народов, позволит сделать вывод о фантастической пустоте его поэзии. В сюжетном плане «Евгений Онегин» состоит из натяжек; «Капитанская дочка» по содержанию еще менее значительная вещь. Но именно здесь и зарыта собака. Пушкин имеет дело не с семантической наполненностью слова, а с его бестелесной аурой, которая у каждого слова имеет особое свечение. Поэзия Пушкина есть комбинация и колебание словесных аур. Эти ауры отражают скорее не состояние смысла, а как раз напротив — смысл пустотного состояния, а именно это и можно назвать вдохновением. Таким образом, Пушкин — самовыражение вдохновения в чистом виде, доказательство его наличия. То есть вера, которая фактически переходит в знание. А этого не бывает без оккультизма. А оккультизм противоположен, противопоказан трехмерному миру. Короче говоря, это значит, что Пушкина не было, нет и не может быть.
Любовь к глупости
Главным киллером мировой литературы можно считать человеческую глупость. В последние десятилетия глупость приобрела размеры планетарной эпидемии. Об эпидемии глупости как-то не принято говорить, но она может оказаться сильнее СПИДа и прочих смертельных болезней. Она способна полностью уничтожить человека как вид. Угроза перерождения становится реальностью.
Глупость всегда была врожденным пороком, но культура долгое время умела кое-как справляться с ней. Культурный отбор осуществлялся иерархическим способом, блокируя дураку путь в высшее общество. Общество оставляло дураков внизу, в гуще черни, и они там мирно плодились и умирали, не слишком влияя на ход истории.
Дурак — понятие многогранное. Его отличительное свойство — неадекватность. Он чувствует себя бессмертным в самом узком атеистическом смысле этого слова. Он самодостаточен. Стоит только развратить дурака заботой о его интересах, как он становится хамом. Хам — основа любой революции. Он относится к другим, как к говну. Это особенно хорошо видно в нашем отечестве.
В XX веке глупость рванулась к власти. Ее победа впечатляюща. Глупость падка на демагогию (более того, именно положительным влиянием демагогии на человека определяется его глупость), в результате чего произошли блестящие тоталитарные перевороты в России, Германии, других местах.
Но тоталитаризм глупости, восторжествовавший, в частности, у нас, был еще только ее предварительной победой, поскольку осуществлялся на практике в таких диких формах, что порождал невольное сомнение этического и эстетического свойства. Прямая глупость — не слишком хорошая пропаганда глупости.
Гораздо успешнее укоренялась глупость в западных странах под лозунгом демократии. Как демократия, так и рыночная экономика оказались наиболее серьезной поддержкой для дураков. Рынок — рассадник глупости. Потребление — рай идиотов. Реклама — изощренная форма демагогии.
При конфронтации с тоталитаризмом демократия защищалась своим умом. Ум культивировался как средство выживания, что видно в иронической форме хотя бы по фильмам с Джеймсом Бондом, и демократия в конечном счете победила. Но, победив, она начала распадаться из-за отсутствия дебильного врага. То, что сдерживалось в течение десятилетий конфронтации, теперь, в отсутствие опасности (хотя можно ли говорить об ее отсутствии перед лицом разных вариантов фундаментализма?), растаяло и потекло фекальным потоком идиотизма.
Первой жертвой уничтожения глобальной конфронтации между Западом и Востоком стала мировая литература. Мировая литература сегодня — «Титаник», увиденный в трех временных измерениях одновременно: за минуту до катастрофы, в ее момент и идущий ко дну. Совмещенность зрения предполагает целый набор апокалипсического удовольствия. Халатная беспечность перемежается воплем жертв, вопль жертв — салонной музыкой. Танго с рыбами. Коктейль с айсбергом.
Вглядимся в пассажиров. Что представляет собой обычный-типичный мировой писатель нашего времени, гость престижных ежегодных писательских тусовок в Торонто и Эдинбурге, лакомый кусок Франкфуртской книжной ярмарки?
Ставленник своих издательств, организующих писательский успех по схеме: престиж — деньги — престиж, он отрабатывает свой угрюмо-обаятельный имидж в бесчисленных интервью, испытывая аллергию к журналистам как к классу. Он знает: телереклама сильнее рецензий в газетах; он недолюбливает читателей и ненавидит критиков, но вынужден считаться со слабыми покупательными способностями первых и умственными — вторых. Разговору о литературе он предпочитает хорошее шотландское виски. С презервативом в кармане, выданном ему любящей женой на всякий пожарный, он любит бесплатные обеды и экскурсии на Ниагарский водопад, обычно скуповат, тщеславен, рассеян. Его порода видна в том, что он скучает в компании плоских людей и не выносит плоских шуток. Над ним — только нобелевские лауреаты, которые, как правило, еще более, чем он, экстравагантны. Те любят совсем неожиданные вещи: скажем, Фиделя Кастро, как Маркес, или терроризм и дельфинов одновременно.
Западный писатель брюзжит по поводу политической корректности, но признает ее как бытовую форму всеобщего примирения. Западная цензура, особенно американская, бывает покруче советской. Советский редактор отводил глаза, вычеркивая наиболее толковую мысль, и объяснял автору: у меня дети. Это была, как правило, совестливая цензура. Западная цензура не страдает стыдливостью. По работе с американскими и некоторыми европейскими (с последними все же легче) журналами и издательствами я знаю, что они, как огня, боятся непонимающих глаз читателей и заставляют безжалостно переделывать то, что может задеть читательское самолюбие.
Есть мнение, что существует мировая литературная мафия. Это мнение неудачников. Успех невозможно просчитать и организовать, бестселлер — чистое везение. Каждую национальную литературу представляет ограниченное число счастливцев. Один венгр, два поляка, четыре француза. Американцев несколько больше. Любят приглашать из несчастных стран, из бывшей Югославии, из Индии. Россия сейчас не в международной моде.
Последнее не случайно. Жизнь в России стилистически не оформлена, а традиционные этнографические романы мало кого волнуют. Беда наших писателей — малая энергетийность текста, повтор банальных истин, нечистота жанра. Никто почему-то не верит, что Россия может сказать что-то свое, незаимствованное, не украденное у других. Отчасти это правда.
Но не забудем, что мы на «Титанике».
Некоторые писатели похожи на осторожных, разумных крыс. Они загодя бегут с корабля в спасательных жилетах. Гребут в сторону кино, телевидения, журналистики, политики, интернета, светской хроники. Другие одичало стучат на допотопных пишущих машинках, сидя в своих накуренных каютах, думая о смысле жизни, а также истории, в то время как жизнь и история готовы оборваться в любой момент. Третья группа писателей гуляет по буфету. Фестивали сменяются университетскими лекциями, мастер-классы — встречами с читателями, которые, впрочем, растворяются в тумане, как привидения.
Может быть, все это уже не имеет никакого значения?
Я родился писателем. Я не знаю, что это такое, кроме того, что это — особый дар. Нужность этого дара в том, что он сопротивляется всякой форме утилитарности. Тем самым создается воздух, благодаря которому люди отличаются от камней и других минералов.
Чтение есть участие в сотворении мира, то есть общение с основным мифом, который проступает как скелет в образах всяких религий и верований. Отсутствие готовой картинки развивает воображение, полезное при встрече со смертью.
А, может быть, все-таки пронесет?
Хорошим тоном во все времена считалось говорить о кризисе современной литературы. В разгар золотой поры русской словесности Белинский писал, что ее вовсе не существует. Критика пугала, писатели пугались, но литература шла дальше. На пороге нынешнего тысячелетия она, действительно, напоролась.
В литературе нет прогресса, но, безусловно, есть энтропия. Использованные приемы пародируются в следующем поколении писателей, затем выбрасываются на помойку. Но современная литература больше копается в этой помойке, чем ищет. Например, почти вся французская литература, если говорить о серьезных авторах, работает на отходах Пруста и Селина, бесспорно лучших писателей Франции XX века, но сколько же можно им подражать?
Литература — это месторождение, и писатель, если он хочет быть писателем, должен найти свой новый менделеевский элемент и украсить им свою литературную биографию. Иначе литература испытывает нестерпимую усталость.
Против основ демократии трудно спорить, любая альтернатива кажется насилием над человеческой волей. На Западе вымирает старая система просвещенной демократии, поскольку рынок сильнее просвещения. Рынок нуждается в общественном порядке, полиции, учителях и хороших университетах, но он яростно сопротивляется любой форме контроля над ним. Рынку нужны доверчивые массы, без саморефлексии, и он умело их создает. Он перерабатывает массы в индивидуальных потребителей, но ограничивает развитие индивидуальных способностей своими меркантильными нуждами.
Ленинский лозунг «искусство принадлежит народу» — рыночный лозунг. Идеалом культуры для рынка стала маскультура, то есть его «культурный» придаток. Рынок породил маскультуру во всем ее великолепии. Он поощряет культуру развлечения, а человеческая глупость охотно впитывает ее.
Человек, чья голова нафарширована бульварным чтивом, комиксами, детективами, розовыми романами, рекламными стихами, популярными песенками — это уже не человек, а зомби, если он не знает настоящей цены всем этим вещам. Детективы запоем читать не менее вредно, чем пить бормотуху, но кого останавливают предупреждения Минздрава? Бульварное чтиво — запруда мертвых слов. Оно бросает вызов литературе не потому, что оно лучше, а потому что, читая его, не надо напрягаться. Чтение должно быть без усилий. Это — закон производителей книжного продукта, сливающих его распространителю, который, в свою очередь, размазывает товар по книжным магазинам. Вся эта специальная терминология нового времени определена заботой об усталых пассажирах метро.
Умственная лень, однако, не самое главное. Литература требует от человека такого качества личной жизни, которое он — несчастный обыватель — не может в себе обнаружить, потому что ищет не там. Качество жизни — не шикарный автомобиль, не джакузи и не божественный талант, а способность быть открытым по отношению к абсолютным ценностям. Конечно, русский затраханный человек — не индус, медитирующий на рассвете, но эта способность есть у всякой живой души.
В России развлечение — новинка, и как новинка имеет право быть модной. Я не против всех тех развлечений, в которых есть страсть и азарт. Более того, я считаю, что Россия всегда томилась своей подпольной революцией страсти. Россия должна перебеситься. Но кто и когда станет поднимать затонувший «Титаник» со дна?
Катастрофически обстоит дело с литературой во Франции, Италии, других средиземноморских странах. По своему опыту знаю, что Германия и Голландия — самые читающие страны Западной Европы. Но даже там тенденция — негативная. В Америке особенно чувствуется эпидемия глупости. Еще одно поколение — и люди уже потеряют понятие о том, что такое литература. Цепь порвется.
Маскультуре можно, конечно, противопоставить презрение, но плевала она на презрение. Можно, конечно, попробовать бороться с ней запретами, но она будет вопить о свободе самовыражения и апеллировать к конституции. Тем не менее маскультуре надо указать на ее подлое место. С ней лучше не церемониться. Дуракам надо сказать, что они — дураки.
В России интеллигенция оказалась беспомощной и не сумела при перестройке общества перехватить и удержать инициативу. Она в какой-то степени была готова к освобождению, но свобода оказалась для нее слишком трудным подарком, с которым она не справилась. Однако в России есть до сих пор приятное общенациональное предубеждение против тех, кто думает исключительно о своей корысти. Молодое поколение прагматично, но, как правило, против того, что делается с «особым цинизмом». Это дает некоторую надежду на продолжение литературы в нашей, отдельно взятой стране.
Тут не помогут ни толстые, ни глянцевые журналы. Одни слишком обращены к старым ценностям, другие — к дешевке. Но можно попробовать сделать журнал или ряд журналов, которые бы выглядели как пропуск в клуб просвещенных людей. Когда-то таким был «Новый мир».
Элитарность — игра высокомерия, но культура не терпит демократического равенства, она основана на жестком приоритете таланта, и в век маскультуры культурная элита могла бы противостоять глупости.
Где взять культурную элиту?
Наши писатели разобщены. Они щелкают друг на друга зубами, как шакалы. Пространство русской культуры стало кубистичным. Наша критика немощна, безапелляционна, партийна. В литературе идет холодная гражданская война между приверженцами гуманизма и более трезво мыслящими людьми. Гуманизм по-прежнему играет разрушительную роль утопической конструкции.
На Западе писатели стесняются говорить о метафизике. Им кажется, что это старомодный вздор. Однако каждый настоящий писатель знает: литература не есть форма самовыражения, но подслушивание истины, идущей извне и издалека. Литература питается культурным контекстом, который разлит в биосфере и склонен к непостоянству. Кто его чувствуют и есть писатели. Остальные — сапожники от литературы.
Смешны те, кто думает, что истина за первым метафизическим углом. Но еще более нелепы те, кто верит в национальную исключительность и проповедует изоляционизм. Мы это уже проходили, и не раз. Кончилось все это скверно.
Недавние надежды на православие как гарант нравственности, необходимой для литературы, оказались иллюзорными. Мне понятны те, кто ищет религиозную истину в других местах. Это скорбный, но, видимо, достойный путь. Православие не только консервативно, оно просто-напросто — за редкими исключениями здравомыслящих людей— тоскует по мракобесию. Бог с ним, конечно, но все-таки жаль, что наша национальная дверь в вечность забита и трудно сказать, когда она наконец распахнется.
После шока начала 90-х годов Россия медленно разворачивается к чтению. Вот ключевой момент выбора. Не читайте, соотечественники, дряни — козлятами станете! Из козлят быстро вырастут понятно кто. У нас в стране я вижу возможность ограничить поле маскультуры. Она еще имеет некоторые комплексы неполноценности, полностью не обнаглела. У разнородной литературной попсы сытая ухмылка, но бегающие глаза. Государственные и общественные структуры страны не устоялись, и хочется выработать такие формы свободной жизни, при которой глупости будет перекрыт кислород. Ну, хотя бы отчасти.
Конечно, легче всего — прикинуться. Придурь — это так по-русски и так красиво. Глупость — как и пьянство — в России забава. Зачем искоренять глупость? С ней веселее.
Но я бы все-таки перекрыл глупости кислород. Просто для того, чтобы относиться к глупости снисходительно.
Если глупость не сдается, ее сдают в зоопарк.
Мусор на совке
Когда Господь Бог решил смутить русскую литературу, он придумал Александру Маринину. Прием не новый, если вспомнить «Милорда глупого», оскорбившего вкус Некрасова или предреволюционный бестселлер «Ключи счастья» Вербицкой. И все же это тонкий божественный прикол, тем более что Маринина — атеистка, подполковник милиции и дама, приятная во всех отношениях.
Мое знакомство с ней началось с путаницы имен, детских прозвищ, кликух, псевдонимов, что в данном случае свелось воедино. Марина Анатольевна Алексеева не только не Александра Маринина, но даже не Марина, а зовут ее с детства Машей. Маринина — дама-ширма, Марининой в живой природе нет, и понятно, почему, когда Маша читает статьи про Александру Маринину, ей кажется: это о ком-то другом. Точнее, о той, кого презирают писатели, кем сбита с толку интеллигенция, кого обожает народ, который в каждом вагоне метро читает ее детективы. Из скромности, но без ошибки, она называет свои книги не романами, а «произведениями», себя — не писательницей, а «автором». Совершила ли Маринина преступление против культуры, играя на чужом для нее поле литературы без знания законов словесных игр? Перешла ли невидимую границу, невольно созданную Гуттенбергом, вкладывая в мозг массового читателя свои случайно-приватные мысли? Запад привык к кирпичам криминальных бестселлеров, радикально отделивших понятие «книга» от «литературы», но Россия совсем недавно стала задаваться этими растерянными вопросами. Расследуя «дело Марининой», я пришел к выводу, что таких Марининых в России — пруд пруди, но именно эта соединила в себе трудолюбие, удачу, профессиональный опыт криминалиста и стала неповторимой.
Успех Марининой, который ошеломил критиков и писателей с грошовыми гонорарами, покоится на четырех слонах. Мощный криминальный фон России делает ее детективы прививкой от смутного, всепроникающего страха. Их серийность прихватывает фанов мыльных опер. Подкупает и местная версия жанра, бывшего «запретным плодом». Наконец, мобильное приобщение читателя к изнанке узнаваемой, всамделишной жизни. Остальное — прокат остросюжетного канона.
Страсть Марининой к литературе имеет «постыдную», по ее словам, подкладку. В детстве сочиняла стихи об осени и щенках, в юности — любовные романы с «мудовыми страстями». Строгий папа-милиционер, как призрак фрейдизма, все время простоял на посту у нее над душой, отрастив у дочери обидчивость, комплекс некрасивости, физических дефектов, о чем она сообщает с резкой откровенностью. Так, несуразно большие дымчатые очки объясняются не данью провинциальной моде, а очень слабым зрением: она скорее слышит, чем видит мир. Мечтая стать киноведом, она воплотилась в ученого-криминалиста, звезду системного изучения убийц-насильников. Большинство клиентов она по-прежнему по-бабски жалеет, валя все на пьянство, над ворами смеется, зато не любит грабителей. Ее либеральная этика, согласно которой «каждый имеет право быть таким, каким он есть» и правомерны лишь вкусовые оценки «нравится — не нравится», похожа на самооправдание.
Она в нем нуждается, как всякий человек случая. Она и не думала писать детективы, уговорил коллега, и вместе, укрывшись под зонтиком «Маринина», за 19 дней они родили книгу. Затем стала писать одна, консультируясь с мужем Сергеем, симпатичным, на мой взгляд, следователем, которого она нежно зовет «мой сысик», с опорой на сквозную фигуру женщины-сыщицы, Анастасии Каменской.
Несмотря на грим и ретушь, в Каменской проглядывает автор, да она, собственно, и не скрывается. Никому не ведомая Маринина издала первую книгу в 1995 году, с тех пор вышли десятки, огромными тиражами и с успехом, перевалившим за границы России. Феномен Марининой в том, что она, скорее, логическое следствие победно завершившегося «бунта масс», чем его организатор. В нее, как в воронку, стекло русское массовое сознание, и когда эта масса застыла, родилась гипсовая королева массового сознания. Но и сама королева оказалась не промах. Она нашла для себя роль «маленькой» инженю, защищающей автора от упреков. Узнав об ее участии в международной конференции «Женщина и литература» на Сицилии, я поинтересовался, как она чувствовала себя, представляя литературу. Маринина сказала, что «ее душил хохот», она «не навязывалась».
Она и в самом деле «не навязывается», но, если пригласят в пятый раз, ее, пожалуй, уже не будет душить хохот. В отношении большой культуры она выбрала слезливую позицию. Плачет на концертах классической музыки, разрыдалась в музее перед автопортретом Эль Греко. Она не может читать Достоевского, потому что горько плачет, жалея героев: «Достоевский — это то, что разрушает мою нервную систему». Но если нервы милицейского офицера Марининой выдержали поездки в исправительные лагеря для встреч с убийцами, а Достоевского выдержать не могут, то тут либо игра, либо новая ситуация в культуре. Скорее всего, и то, и другое. Читать Булгакова для нее — «работа, большой труд», она не справляется. Если над «Мастером и Маргаритой» хохочут целые поколения образованных читателей, не исключая отдельных милиционеров, то, видно, здесь и проходит водораздел. Набоков ее «раздражает», а на вопрос о любимых авторах, она указывает на прозрачных массовому сознанию Александра Грина и Куприна.
Дело не в слезах и смехе, а в установочном преодолении «большой» литературы как «работы», вытеснении ее чтивом. Энди Уорхол, Спилберг или Тарантино, каждый по своему, в традиции постмодерна признали победу «масс», но брезгливо питаются ими, как падалью. Это, если хотите, месть побежденных. Наша же королева массового сознания — на стороне победителей. Если раньше отечественная система запретов вызывала ажиотажный спрос на литературу, то теперь Маринина объективно оказывается страшнее цензуры, отвлекая читателя на себя. Повторяю, Запад свыкся с тем, что под обложкой книги может находиться псевдокнига, имеющая сугубо коммерческое значение. Однако российский читатель до сих пор относился к книге всерьез, видя в ней либо инструмент пропаганды, либо вольницу духа. Как ни плоха была советская литература в целом, власть делала ставку на хороших писателей, и отказ в начале 30-х годов от пролетарской литературы был продиктован заботой об уровне. Халтурщиками был забит Союз писателей, но «гамбургский счет» сохранялся всегда. Сегодня, когда распалось единое поле культуры, нет силы, способной остановить Маринину. Вслед за музыкальной попсой, вытеснившей с телеэкрана музыку, явилась литературная. Культура прогнулась — всё годится. Вместо Маргариты на метле читатель получает в подарок мусор на совке, милицейский роман на совковой подстилке. На вопрос, сознает ли она, что препятствует литературе, Маринина отвечает с твердой определенностью: «Кричать, что увели мужа, если он разлюбил — глупо».
Читатель нашел себе новую невесту. В какой стилистике написаны ее книги? С отмеренной улыбкой: «Если бы я знала, о чем вы меня спрашиваете! Я допускаю, что это неправильно и плохо». Она права. Книги Марининой — случайное собрание случайных слов, отчаянно стремящееся оставаться в ладах с нормативным синтаксисом. Она не пишет, а пересказывает на бумаге выдуманный ею сюжет, опираясь на доморощенную психологическую конструкцию. Любой детектив антагонистичен понятию «проза», поскольку изначально целесообразен. Но книги Марининой, если вспомнить новую французскую философию, — симулякр в чистом виде: имитация несуществующей идеи. Это высокая чистота жанра. Подлинная фикция и как феномен лихая вещь: игра на чужом поле.
Так, собственно, и назван один из наиболее известных детективов Марининой. Может ли сыщик искать контакт с мафией, играть с ней в одни ворота, чтобы разоблачить преступление? В России, судя по жизни, он должен, раз мафия сильнее милиции. Более того, главарь местной мафии, толковый старик-гурман в белом свитере, пекущийся об интересах своего города не меньше, чем о своем желудке, изображен автором как человек, необходимый для продолжения государства российского, чего не скажешь об интеллигенции. Это детектив о ее преступлениях, по сути, подрыв доверия к ней. В западной традиции герой-сыщик, безусловный эталон благородного поведения, защищает положительные ценности демократического общества, и как бы хорошо или плохо ни была написана криминальная повесть, это условие существования жанра. Маринина же насыщена непереваренными идеями. Когда-то Осип Мандельштам назвал плохих переводчиков отравителями общественных колодцев. Как назвать детективщика, который, пользуясь случайными представлениями о добре и зле, въезжает в массовое сознание и закладывает там мины?
Какие мины? Маринина походя (в разговоре и в книге) опровергает тезис Пушкина, что гений и злодейство несовместимы. Шайка преступников по заказу сексуальных маньяков занимается производством садистских порнофильмов, в которых режут и убивают подневольных актеров. Каменская разоблачает бандитов: режиссером преступных фильмов оказывается талантливый человек. Добывая деньги на съемки «хороших» фильмов в условиях бедствующей России, он хладнокровно устраивает кровавые бани. Вывод: талант — не алиби (массовое, антиинтеллигентское сознание рукоплещет), и ради творчества человек готов на все. Моральный компромисс художника, доведенный Марининой до легкомысленного абсурда, оборачивается залетной профанацией любых спорных и бесспорных представлений о природе творчества.
Кроме того, режиссер — лицо кавказской национальности, и, при нынешних распрях, описывая его преступления, Маринина сладко целуется с массовым сознанием, создавая такой образ врага. Это все равно, что в Европе написать детектив о монструозных преступлениях талантливого турецкого или югославского иммигранта. Выпады против «восточных» людей одним режиссером не ограничиваются, и, когда я задал прямой вопрос, по губам Марининой пробежала улыбочка: это, сказала она, «случайность».
Второй «случайностью» стал главарь садистской банды, стратег порнографии и убийств. Признаться, я вычислил его еще в первой трети книги по нехитрому принципу: им должен быть самым невинный, — и потерял к детективу интерес, но встал вопрос о главной мине. Суперсадистом обернулась милейшая старушка, преподавательница музыки, учительница многих знаменитостей, еврейка Вальтер. Если бы Маринина писала в духе эпатажного юмора, я бы поздравил ее с успехом и записал в «крутые» концептуалисты, которым по барабану социальные ценности. Она — приманка для молодого эстета, наслаждающегося переполохом в культуре с такой же страстью, с которой французские либертины 18-го века наслаждались запретным анальным сексом. Тем же, кто хочет прочитать книгу как комическое произведение, рекомендую эротическую сцену с участием Каменской и преступного режиссера. От страстей плавятся пломбы. Но не слишком в своих книгах юморолюбивая Маринина с ее простосердечным пафосом правдоподобия решает объяснить еврейскую коллизию психологически: при советской власти музыкантше не давали работать по профессии, не пускали за границу (на концерт в Польшу), и она, когда уже советская власть кончилась, начинает мстить за напрасно прожитые годы, да так отчаянно, что в подвале ее дома бандиты закапывают кучи несчастных жертв.
Узрев в старушке, бесплатно обучающей одаренных детей, матерую порнушницу и узнав мотивы ее деятельности, я решил, что Маринина либо сошла с ума от своего инстинктивного противостояния культуре, либо — запредельная антисемитка. На вопросы, как же еврейка стала главным врагом страны, если анонимный город в книге призван олицетворять Россию, и не слишком ли много в тексте психологических «случайностей», моя собеседница ответила, что еврейская тема тоже «случайна», в доказательство сославшись на то, что у нее самой есть еврейская кровь. И тут у меня в голове зазвучала старая песенка:
За что ж вы Ваньку-то Морозова?
Ведь он ни в чем не виноват…
Конечно, проще всего признать, что все эти темы и впрямь «случайны». Да здравствует неудачная психология! Да здравствует плохая игра на чужой территории! Иначе о чем разговор?
Побеждает тот, кто меньше любит
В сердце каждого русского дремлет Распутин. Но бывает и так, что Распутин не дремлет. Разбудишь в себе Распутина, и жизнь вышла из берегов: начинаешь испытывать яростную, ни с чем не сравнимую радость от безобразия, гульбы, неприкаянности, страдания и глумления. «Насилие — радость души», — учил Распутин. Я буду его позорить, ненавидеть вонючее блаженное лицо, мечтать выколоть пронзительные, адско-райские глаза (ни у кого не было таких глаз), кастрировать, разрубить на куски, размазать по стене, вымочить в кислоте похабных слов, но это — мой человек. Родная кровь. Распутин — древняя шаманская маска.
Распутина понять страшно. Лучше его совсем не понимать. Иначе видна вся та пропасть, которая отделяет Россию от нормальных цивилизованных стран, и — что с этим делать? Во всяком случае, Распутин — уже достаточное основание, чтобы сказать, что Россия по своим корням ничего не имеет общего с Западом.
Я вижу, как он выдавливается из утробы матери, захлебывается от первого крика; я знаю, зачем он вылез на свет: Распутин всех сдаст. Он будет целителем смерти. Он все сделает наоборот, вопреки, назло всем и себе — и добьется всего: власти, запредельного скотства, святости. В своей родной злоебучей Сибири он быстро, незаметно отрастет в мужика с мерцающей геометрией частей тела: не то длинный, не то коренастый, не то орел, не то мышь летучая, то ли с сахарными зубами, то ли с гнилыми — каждому виделся он по-своему. Столь же мерцающей будет его душа. Он ни о ком не скажет худого слова, но никому не поздоровится от его гнева. Он будет любить воровать, как всякий русский, мечтающий о спасении души. Драчливый, ищущий в кровавых драках кайф, он станет бить как чужих, так и собственного отца. Его нервная организация субтильна, как у девушки. По его же признанию, каждую весну с пятнадцати до тридцати восьми лет он не будет спать в течение сорока дней. Распутин бросится за помощью к святым. Босым пройдет по монастырям, не меняя нижнего белья по полгода. Теологическая убогость православия, не совладевшего ни с народным язычеством, ни с государственной властью, породила буйные секты желающих поговорить с Богом начистоту. Распутин ввинтится в одну из самых раскольных общин, не оскопится, но насосется бесстыжих радений, поймет, что религиозный человек должен плясать часами без передыха и быть хорошим танцором, как царь Давид. Он заделается хлыстом. Хлысты— живое противоречие русского человека, в самобичевании ищущего Христа в себе и Христом становящегося, готового отрицать семейный секс, но предаваться свальному греху, выходя из греха через грех. Втайне Распутин навсегда хлыстом и останется. Юродивый, придурок и просто дурак, он ввинтится в Петербург по самую сердцевину, митрополитов выстроит, аристократических баб взбодрит, утешит меланхольного царя, императрицу Александру Федоровну возьмет за нежное, материнское место.
Он войдет к «царям» (так он называл императорскую чету), как к себе домой — будет повод. После того, как императрица родит четырех дочерей (позже Распутин будет подсматривать, как они раздеваются в детской), наконец, появится на свет наследник Алексей, страдающий генетической болезнью семьи императрицы — гемофилией. Распутин будет с успехом заговаривать его больную кровь. Но дело не в том, кто он — знахарь или вампир. А в том, что побеждает тот, кто меньше любит.
Григорий Распутин был уродом любви. Бесчисленные книги, ему посвященные, прошли мимо главного: в жизни он никого не любил, ни жены, ни любовниц. Ни одна женщина не стала для него самоценной. Он говорил, что «только любовь свята», но на деле подменил любовь ледяным любопытством. Он ел руками все, даже рыбу. Женщин он тоже ел руками. Распутин любил трогать, щупать, видеть и унижать. Победы его не интересовали. Эротический секрет Распутина заключался даже не в подчинении, а в продлении женского сопротивления до умопомешательства. Женщина должна уступить в полном бреду. Распутина, очевидно, распалял расплавленный грех. Он связал совокупление и молитву в единый узел. Это был тот самый распутинский экстаз, который давал ему уникальную энергетическую силу. Святость любви Распутин понимал таким образом, что женщина, которая не любит своего мужа, но живет с ним, греховна, и ей надо пройти через распутинскую кровать, быть изнасилованной, вываляться в позоре, чтобы затем покаяться. И он продолжал любить бить. Его книжный издатель Филиппов был нечаянным свидетелем сцены: Распутин в своей спальне отчаянно бил жену петербургского генерала, салонную львицу Ольгу Лохтину. Та держала Распутина за член и кричала: — Ты — Бог!
Легенда уверяет, что у Распутина был немереный член, но очевидцы легенду укорачивают. Не в члене, а в имени — половина жизненного успеха Григория Распутина.
Гришка — многократная метафора русского самозванства, начиная с XVII века, со времен Смуты, синонима национальной кровавой бани. Распутин — не фамилия, а диагноз страны. Здесь слышится все: распутье, распутица, но пуще всего этимологически верное: распущенность— магистральное состояние моей славной родины. Распуститься — то есть пуститься по низам, во все тяжкие, напропалую, с хрюканьем, с соплей под носом, слюной на губах, распасться до основания, позабыть думать. Снять с себя, как раздеться догола, всю ответственность. Это по-русски самое сладкое состояние.
Ровесник Ленина, старше его всего на каких-нибудь пятнадцать месяцев, Распутин родился в 1869 году в селе Покровское Тобольской губернии в семье безграмотных крестьян. Отец — пьяница, мать — рабочая лошадь, страдалица с долгим стажем терпения, пятью детьми. Идеальная семья для народных избранников. Распутин сам до конца жизни остался полуграмотным, писал кренделями неразборчивых букв с фантастической орфографией, насмешкой над словарями — непонятно, где и как учился. Скорее всего, самоучка. И это тоже Распутину в плюс. Русское сознание не любит ни ученость, ни усидчивость, ни грамотеев. Последние рисуются ему фарисеями, отпавшими от источников жизни. Толстой мечтал быть проще, «опроститься». Распутин был изначально прост. Помню, как в детстве мои одноклассники ненавидели тех, кто ходил по московским улицам в шляпах. Им кричали вдогонку: «профессор»! До сих пор «кандидат наук» и «профессор» нередко произносятся в русской среде глумливо: ложное знание, замороченное краснобайство, сомнительное гладкословие. Куда ближе русским даостская истина о торжестве немоты над словом. Косноязычие — знак подлинности. Но русские не вовлекаются в восточную последовательность, бросая ее на полдороги. Русская простота, что хуже воровства, повязана с хитростью — главным ментальным оружием простолюдина. В основе русской хитрости лежит теория выживания, которая, будучи помноженной на амбиции, дает философию безмерного цинизма.
Жизнь Распутина — не просто затейливая историческая интрига, обреченная на массовое прочтение, но и пособие по смыслу жизни. Россия до сих пор не научилась пользоваться свободой. Когда уходит тоталитарное начальство и вместе с ним — страх, возникают вакуум власти, иррациональное поле деятельности. Пора сравнить начало XX века с новейшим временем, чтобы понять: русские реформы способны породить шамана, который, как в случае с Распутиным, может стать мировой знаменитостью.
Распутин попал, возможно, в первую десятку русских, имена которых знает западный человек, даже если он мало что понимает в России. Распутин затесался между Лениным, Сталиным, Толстым и Достоевским. Но он, пожалуй, единственный всемирно известный русский, который открыт глобальной массовой культуре и массовому сознанию. О Распутине лучше всего рассказывать в комиксах для взрослых: он гротескно визуален. Неслучайно многие карикатуры на него в дореволюционной периодике имеют апелляцию к русскому лубку — прародителю комикса. Запад создал из Распутина миф, имеющий гастрономический, алкогольный, эротический, цыганско-танцевальный «свинг». Прожигатель жизни, сорящий деньгами — бесценный прообраз клиента ночного клуба. Вместе с тем, «love machine» и тайна. Вот почему он ценен маскульту — его невозможно разгадать, не прибегая к мистике. На поверхностный взгляд, Распутин — русский замес Дон-Жуана, Гаргантюа, Макиавелли. На самом деле, разрывной образ саморазрушения. Наиболее близкий аналог в западной культуре — маркиз де Сад, но это формальная близость. Если Сад — воля к безнаказанности и упоение ею, то Распутин — триединство греха, покаяния и святости, переходящей вновь в грех, покаяние и святость — чертово колесо русского духа.
Распутину суждено остаться в западных головах обезумевшим гедонистом в воображаемой монашеской рясе. Есть вещи, которые не исправить даже на самом элементарном уровне. Сколько раз, находясь в США, я становился терпеливой жертвой моих американских друзей, которые поднимали тост «на здоровье!». Сколько раз я с верой в успех пытался им объяснить, что это — не русский тост, а испорченный вариант польского, что русские говорят «на здоровье» в единственном случае: когда гость после обеда благодарит хозяев, ему отвечают «на здоровье». Сколько раз мои американские друзья с искренним интересом, всепонимающими улыбками выслушивали мое объяснение: — А как правильно? — Ваше здоровье! — Мы радостно чокались с ощущением прививки нового знания. И что? Приехав в Америку в следующий раз, я снова слышал от тех же друзей: — На здоровье!
На этом опыте я понял, что мир не переделать. Распутин так и останется проклятием буржуазных семей, живущих на этаж выше шумного ночного заведения. Мы обитаем в мире победивших стереотипов. Возможно, это новый ресурс стабильности.
Есть и другие, более локальные мифы о Распутине. Возрождение политического имиджа Распутина в сегодняшней России имеет националистическую обложку. Если до революции националисты пытались представить Распутина марионеткой жидомасонского заговора, то теперь он — хранитель устоев вечной России, защищающий ее от западной скверны, символ союза православия и монархии. Его убийство объявляется неонационалистами делом рук тех же жидомасонов, оно — «ритуально». Впрочем, это маргинальная установка, и если Распутин, действительно, возвращается в Россию, то скорее обходным путем через Запад, чтобы соответствовать идеалам новейшего русского гедонизма.
Какой реальный ущерб нанес Распутин России? В чем провинился? Почему «слуга Антихриста»? Как случилось, что крестьянин в конце жизни мог сказать: «Я держу у себя в кулаке всю Россию»?
Его восхождение началось в церковных кругах Петербурга в 1903 году. Там он прославился не только проницательностью, но и пророчествами. Распутин предсказал разгром русского флота в Цусимском проливе в ходе русско-японской войны 1904–1905 годов. Позже он говорил, что боится не за себя, а «за народ и царскую семью. Потому что, когда меня убьют, народу будет плохо, а царя больше не будет». Увидя раз портрет Карла Маркса, он пришел в возбуждение и предсказал, что за этим бородачом народ пойдет на баррикады. Но самым поразительным было, конечно, лечение наследника. Впервые войдя в его комнату и склонившись над кроватью ребенка, страдающего бессонницей после очередного приступа болезни, Распутин принялся молиться. На глазах родителей царевич успокоился и заснул, чтобы наутро проснуться здоровым. И так происходило из раза в раз. Более того, Распутин лечил его и на расстоянии, по телеграмме, из сибирского далека. Какие родители не доверились бы после этого «старцу»? Он доказал то, во что «цари» хотели верить: человек из народа способен спасти наследника и защитить престол. Он стал незаменим. И какая разница матери, тщеславится ли, по слухам, Распутин дружбой с царской семьей, водит ли женщин в баню (об этом русская печать писала на протяжении многих лет. Распутин то признавался в похождениях, то отрицал — дурил всех), пьет ли, развратничает (публично показывал танцовщицам-цыганкам свой член в московском ресторане «Яр»)? Дано ли было Распутину, действительно, понимать мистическое?
В России начала XX века, казалось бы, ничто не предвещало Распутина. Шло бурное развитие капитализма. Рубль был чуть ли не самой твердой валютой в мире. Революция 1905 года с кровью вырвала у царя долгожданные свободы. Какой еще Распутин? Вместе с тем все его предвещало. Распутин — зверская насмешка над усилиями России выбраться из ямы. «Ах, вы захотели быть похожими на других, обзавелись философами и независимыми политиками, бердяевыми и милюковыми, отращиваете демократию, авангардистские картинки малюете, декадентские стихи сочиняете? А вот — хрен вам! Не будет этого!» Интересно, кто это говорит? Почему так явственно мне слышен этот голос? И он так каждому русскому говорит: «Хочешь быть разумным, предсказуемым, хочешь определенности? Будешь мучиться, маяться, унижаться перед тем, кто недостоин тебя, будешь любить того, кто утащит тебя в могилу».
Ведьма и дьяволица, соблазняющая, совращающая, оборачивающаяся то императрицей всея Руси, то базарной бабой, то революционеркой, то лимитчицей, то проституткой. Это она, женский дьявол, наслала на Россию Распутина. Бешеная, как индийская богиня Кали. В русских краях имя ее — никак. Она безымянна. Но мы в XXI веке — такие размышления кажутся неуместными.
Есть другое, близкое мне решение: Распутина породила русская литература. Это она взрастила опасную иллюзию и заразила ею интеллигенцию: русский народ мудрее правительства и всех, всех, всех. Сам того не зная, Распутин стал литературной эманацией. Нет ничего милее русской литературе, чем мысль, что правда принадлежит народу. Это уже маячит у Пушкина в «Капитанской дочке». Весь Достоевский после своего каторжного опыта пронизан этой идеей, ею же внедряет Толстой в читателей «Войны и мира». Радикалы и консерваторы, революционеры и мракобесы — все клялись народом и верили в него как в священную корову. Но впервые эта идея с большим опозданием дошла до престола во время царствования последнего царя. Николай Второй вряд ли почерпнул ее из книг; из нее был соткан русский воздух. С царем же все складывалось на редкость плохо. В эпоху политического переустройства неуверенный в себе и упрямый, застенчивый и низкорослый, Николай был придавлен гигантским образом умершего отца, чувствовал себя одинаково неуклюже как на балах, так и с министрами. Он нуждался в жизненной опоре. С одной стороны, ей была Александра Федоровна. С другой, ей стал Распутин. Дикий vox populi его устами вернул покачнувшемуся царю мандат божьей власти, что, в конечном счете, и спровоцировало цареубийственную революцию. Короче, наследника лечили на расстрел.
Распутин был порожден не только классической литературой. Он же продукт русского декадентства. Часть интеллигенции в начале века прошла через радикальный идеологический кризис, пережив разочарование в прогрессе. На место марксистским увлечениям пришел комплекс идей, связанный с рассвобождением психики, разрушением старой морали, личностными поисками Бога. Положивший начало этому движению Дмитрий Мережковский проповедовал третий завет: обожествленную плоть, — что стимулировало эротику, мистику, оккультизм. Началось увлечение хлыстами, на их собрания съезжались статусные верхи литературы и философии: Александр Блок, Федор Сологуб, Михаил Ремизов, Василий Розанов. Андрей Белый посвятил хлыстам роман «Серебряный голубь». Мережковский видел в сектах «мост к народу», а ранние большевики нагрузили их революционным смыслом. Русские собирают мечту в пучок и выжигают ею свой жизненный проект, который становится их саморазрушением. Однако оно не оказывается конкретным сигналом опасности. Напротив, считается особым подвигом идти на это разрушение как в пьянстве, разгроме семейной жизни, так и в социальном утопизме. Русских без преувеличения можно назвать самоедами. Они уничтожают себя (и друг друга) лучше, чем внешних врагов, отчего всегда содрогались иностранцы, не постигающие основ русского самоедства. Общество было готово к явлению Распутина. Он явился. Но когда это произошло, все шарахнулись, кроме горстки истеричных фанатичек. Вот русский феномен: прийти в запоздалый ужас от олицетворения собственной мечты.
Распутин верно почувствовал расстановку сил в царской семье, власть императрицы и стал подыгрывать ей. «Цари» попали в зависимость от Распутина не только из-за болезни сына. Существовал контраст между атмосферой дворцовых интриг и Распутиным, который рассказывал «царям» о своих странствиях, бездомстве, ночах под открытым небом — обо всем том, о чем мог только мечтать царь, любитель простой жизни. Ему бы родиться садовником, а не царем.
Насколько далеко пошла императрица в безоглядной вере в Распутина? Не делала ли она то же самое, что и Ольга Лохтина? Картина, конечно, соблазнительная. Жаль, если нет— была бы тема для шокового фильма: «Царица и мужик». О ее тайных письмах к Распутину говорила в свое время вся Россия. Они доходят до предельной черты сухого обожания, но что-то не верится в адюльтер этой русской королевы немецких кровей. Впрочем, до самой смерти Распутина она не позволяла никому говорить о нем гадости, и царь следовал ее примеру даже тогда, когда ему явно этого не хотелось. Чувствуя всеобщую нелюбовь к Распутину, «цари» держали свою связь с ним в тайне, что было тем более взрывоопасно. Здесь заключается основная загадка: Распутин и революция.
Катализатор глубокой ненависти к «царям» со стороны всех, включая их близких родственников, Распутин уволок Россию в революцию, как в прорубь. Видимо, таково было ее предназначение. Но, с другой стороны, Распутин яростно сопротивлялся «военной партии», сорвал европейскую войну в 1911 году, заявив царю, что балканский вопрос не стоит русской крови, и не менее яростно противился войне в 1914 году. Накануне военных действий на него в Сибири было совершено покушение женщиной, считавшей его Антихристом, и позже он говорил, что если бы не нож, порезавший его внутренности, войны бы не было.
Возникает исторический парадокс. В 1916 году вместе с императрицей Распутин пытался оказать на царя воздействие с тем, чтобы заключить сепаратный мир с Германией. Все же просвещенные противники Распутина выступали за войну до победного конца и подняли крик об измене, когда просочилась информация о тайных переговорах. Иными словами, просвещенная Россия оказалась помраченной, а те «темные силы», как называлась императрица с Распутиным, были единственным союзом спасения страны от революции, которую стимулировала проигрышная для русских война. «Держись центра, мама!», — поучал Распутин императрицу, имея в виду думские фракции. В этом тоже была своя антиреволюционная мудрость. С ней разошелся царь. И он же не послушал Распутина в 1914 году и не пожелал сепаратного мира с Германией на почетных условиях в 1916-м.
Кто же тогда виноват в революции? Темные силы или просвещение? Во всяком случае, деятельность Распутина не допускает однозначной оценки. Но он сломался, обретя огромную власть. Мужик не справился с нагрузкой. Горький оказался отчасти прав, назвав то время «позорным десятилетием»: Распутин стал закулисным хозяином положения, советником, едва ли не единственным другом царя. Он держал в страхе членов правительства и верховных иерархов церкви. К нему ездили на поклон министры внутренних дел. Это была смехотворная агония демократически еще не созревшего, но уже гниющего государства.
После объявления войны Распутин, собственно, и стал тем Распутиным, который всемирно известен. Словно окончательно поняв, что он ничего не может больше сделать, он принялся пить по-черному и внаглую гулять, устраивать оргии на дому, затаскивать одну женщину за другой на разбитый диван к себе в спальню. В сплошном пьянстве и блядстве он, кажется, утратил свои сверхъестественные качества, превратившись в образ похоти, двойника отца Карамазова.
Пророки слабы в предсказании собственной смерти. У Распутина отказали тормоза бдительности, померкла хваленая интуиция. Убийство великого грешника всегда живописно. Оно освещает почти младенческую доверчивость заложника своих пороков. Убийство Распутина было выполнено в традициях итальянского средневековья и, одновременно, декадентского романа: с отравленными вином и сладостями, «воскрешением» расстрелянного трупа, бегством «воскресшего» через заснеженный двор дворца, вторичным расстрелом и окончательной смертью в проруби. Баня, вечный скандал русского эроса, и прорубь — секс и смерть в России связаны стихией воды. Распутинское убийство замешано на эротической провокации. Распутин попался на «карамазовский» крюк: молодой бисексуальный князь Феликс Юсупов предложил ему свою красавицу-жену под видом фиктивного (ее даже не было тогда в Петербурге) знакомства с ней. Действительно, княжеский дар, достойный распутинского тщеславия. Возможно, что в ночь убийства, перед тем, как его убить, Юсупов имел сексуальную связь с Распутиным. Вот апогей если не русской реальности, то, по крайней мере, русских возможностей. Финал Распутина, по-моему, превратился в такой исторический фантазм, что даже в «Лолите» Набокова убийство Гумбертом Гумбертом своего соперника выглядит как пародия на многоступенчатый эталон распутинской смерти.
Все остальное — эпилог. Великий князь Дмитрий Павлович, очевидно, главный расстрельщик Распутина, был отправлен Николаем в ссылку, в Иран, благодаря чему спасся во время революции. Впоследствии он стал любовником Коко Шанель. «Цари» остались преданными Распутину и после его смерти: их и детей расстрелял через полтора года комиссар Юровский с нательными крестами — подарком Распутина.
Распутин — не столько прошлое или будущее России, сколько ее вечное повторение, ее слезы и корявая, гордая самобытность. Раскачавший политическую лодку накануне революции, Распутин явил собой гораздо более глубокий знак раскаченности всех основных российских ценностей: как и его зубы, они одним до сих пор кажутся сахарными, другим— гнилыми. Он неизбежный спутник русского автократа — царя или сегодняшнего президента, — мечтающего в тоске по крепкому абсолюту через головы коррумпированных бюрократов слиться с народом. Не будь Распутина, его бы, в самом деле, стоило выдумать. Он не просто пугало или ночной кошмар либералов, но и реализация основного русского мифа о незавершенности мистического строительства жизни. Иначе ей незачем выходить из берегов. Распутин выест русским их собственные сердца — те радостно скажут ему: на здоровье! А Запад решит, что настало время для тоста. И все будут правы.
Любовь к Востоку, или Москва на склоне Фудзиямы
Россия бредит Востоком. Двуглавый российский орел преобразился. Если со времен Петра его голова, смотрящая на Запад, была холеной и сытой, и глаз у нее горел, а восточная половина выглядела синюшней курицей, над которой все потешались, то теперь наоборот: западная голова оскудела и повисла на слабой шее, глаз потух, а восточная половина оживилась, расцвела всеми цветами радуги, наполнилась содержанием и потребовала усиленного питания. Кормление восточной головы приняло сакральный характер. Над Востоком теперь не принято иронизировать. В него верят по-русски, от всей души. Это больше, чем мода, и больше, чем увлечение. В сущности, это путь к себе.
Чем может привлечь Запад русского человека? «Мерседесом» и джинсами? Запад, у которого уже сто лет, как умер Бог, русского не удовлетворит. Верлен сказал о Рембо: мистик в состоянии дикости. Русскому нужна мистика в действии. В отличие от европейца, заложника фиктивной свободы выбора, поверхностного активиста, он всегда полагался на судьбу, но никогда не находил в себе сил быть последовательным в этой вере. На бога надейся, а сам не плошай!
Плошай! Вот новый девиз.
Надоело европейское представление о времени, пространстве и возможностях. Европейцы мыслят категориями. Вслед за Кюстином, они убеждены, что русский человек им неудачно подражает, а он живет в ином измерении. Кажется, лопнула какая-то преграда, и Москва наполнилась восточным содержанием. Она всегда была восточной столицей, но забывала об этом. Такого напора Востока не знал Серебряный век, обольщенный «жапонарией» эстетствующего журнала «Мир искусств», но выплеснувший из себя на самом деле всего лишь Рериха.
Восток — это мистика и магия. Восток непобедим. Восток — если не опиум, то в любом случае приказ судьбы. Восточные гороскопы стали неотъемлемой частью русской жизни. Если раньше как Гитлер, так и НКВД интересовались Тибетом с точки зрения тотальной власти, то теперь гороскоп — это форма экзистенциального компромисса. Я поверил — остальное устроится само по себе. И всем почему-то ужасно хочется, чтобы Христос в своей земной жизни те засекреченные двадцать лет, которые выпали из канона Евангелия (с тринадцати до тридцати трех) прожил на Тибете.
Русский Восток насквозь придуман, но не по деталям, а по глобализму воображения. Русский человек всегда чувствовал себя незащищенным. В восточных бойцовских искусствах он увидел возможность себя защитить. В этике самурая — обрести совсем уже потерянное представление о чести. Из врага («В эту ночь решили самураи перейти границу у реки…») «человек оружия» превращается в модель поведения. Русская честь, как и русский фольклор, не работают. На пепелище возникает представление о совершенной форме перевоплощения — на самом деле новой форме подражания. Восток — дело тонкое. Этот трюизм знает всякий русский, который смотрел фильм «Белое солнце пустыни». Женщина в русском воображении должна быть идеально покорна.
С одной стороны, нынешняя мода на все восточное — западное изобретение, суши-бары пришли к нам из Нью-Йорка, а не из Токио, мы стали буддистами под косвенным влиянием New Age (в свою очередь, как полагают, выдумкой балканских фашистов); наша буддистская эксклюзивность иллюзорна, восточная мистика уже надоела Европе, где каждый итальянский футболист клянется Буддой. Но, с другой стороны, мода на все восточное не подлежит в русском сознании никакому осмыслению, что говорит о том, что она все-таки спонтанна. Отечественные, избалованные своими первоклассными учителями, востоковеды, с которыми я говорил, с этим повальным явлением не хотят иметь ничего общего и брезгливо не желают его анализировать. Они не читали «Охоту на овец». Они только слышали, что это неважная литература. Но пойди докажи, что это «так себе». Поднимется гул негодования. Могучий порыв оказался без аналитиков. Зато многочисленные участники забега на Восток обрастают все новыми бегунами.
Москва не сидит на корточках, но корточки — это совсем рядом. Москва не какает орлом, но этот орел тоже совсем близко. В русских деревнях заборы красят в голубой цвет Востока.
В Москве столкнулось два Востока, со знаком плюс и — минус. Раньше, в советской Москве, Восток скромно жил в Музее Востока и на рынках в образе азербайджанских и таджикских продавцов фруктов; московские улицы подметали хмурые татарские дворники. Восток презирали все, считая, что самое страшное — это грязная, жестокая азиатчина. В татарско-русском словаре для начальной школы нет понятия «женщина», но зато есть словосочетание «неопрятная женщина».
В традиционном русском сознании Восток слишком многорук и чересчур орнаментален. Это пропеллер, крутящаяся свастика— и одновременно полное отсутствие движения. Китаец в русском сознании — смешной человек, но миллионы китайцев — угроза и ужас. Китайские термосы, коварство, тюбетейки, нижнее белье «Дружба», Неру, халва, джигит, аксакал, «Багдадский вор», журнал «Новая Корея» и чучхе — корейская опора на собственные силы, Мао — чемпион Китая по плаванию, обглоданные собаками трупы русских солдат в Чечне, слоники на бабушкином буфете, персидский ковер, пустыня Гоби, сандаловое дерево, японский веер, экспансивная игра «го», новое китайское кино, ресторан «Пекин», утка по-пекински и пекинская опера, гашиш, Афган, первая встреча интеллигентного юноши с эротикой при чтении «Тысячи и одной ночи» — у каждого русского есть своя комбинация под кодовым названием Восток.
Минус-Восток — это черножопые, это зверьки, это чукчи. Но главное — негативная генетическая память. Не знаю, как насчет татаро-монгольского ига, насколько они были нами, но были явно не наши евреи, распявшие Христа (хотя для русских евреи — это скорее Кишинев и Бердичев, нежели Восток), не наши персы, убившие Грибоедова, а турки были совсем уж врагами. Константинополь должен быть наш, — заявил классик, не ведая о том, что скоро и Севастополь будет не «наш». Турки. Те самые турки, которые в русских фильмах поддевали на Шипке наших героев на пики, рубили им головы кривыми саблями, и неслучайно турецкой расправой у казаков так сильно заявлен «Тихий Дон».
Восток-плюс — это сказка.
Революция дала нам самоощущение Азии, вымучила евразийство 20-30-х годов от Блока до Харбина («Да, скифы мы, да, азиаты мы с раскосыми и жадными глазами…»); затем мы побывали в реальной восточной деспотии, любящей театр, фрагменты грузинской архитектуры и казни.
Моя мама работала в Токио во время войны в аппарате военного атташе советского посольства и даже выучила японский язык. Японцы стоически переносили тяготы войны.
— Есть только три народа, которые умеют терпеть: китайцы, русские и японцы, — сказал ей японский учитель языка.
Если Пруст вспомнил свое детство по забытому вкусу бисквита «мадлен», то мама вспоминает Японию по мерзкому запаху масла, на котором японцы жарили рыбу. Из этой вони возникают странные картины тогдашнего быта: по токийским улицам идут, возвращаясь из бани, пузатые японцы в халатах нараспашку, бравируя гениталиями. Японские жены, привязав к спине детишек с кривыми ногами, идут за мужьями, отступив на два шага, как требует обычай. У всех изо рта выпирают верхние зубы. Напротив посольства лозунг: «Все иностранцы — шпионы!» Мама всего только два раза была в токийском ресторане, где ей понравился японский бефстроганов с овощами — сукиями, — и в детстве я помню, как гости нашего дома хохотали над словом. Но кроме этого ее пребывание в Японии на доме не отразилось; привезенное кимоно она тут же обменяла на теплое пальто. Япония была немодной, Хиросима — лишь картой в «холодной войне» против США, на страдания японцев всем было наплевать.
Теперь же русские дорвались до Востока. И, прежде чем спросить, почему сегодняшнюю Москву так сильно развернуло на Восток, откуда взялась эта мода на тибетскую медицину, дзен, фен-шуй, откуда выползли словечки «караоке» и «банзай», подойти утром к зеркалу. Ты что там увидишь?
Немецкая подруга моего младшего брата, снимая с него очки, говорит со смехом и сильным германским акцентом:
— Андрюша, ты похож на эскимоса!
Она преувеличивает, но по материнской линии мы несомненно награждены восточными чертами: узкими глазами, широкими скулами. Брат — больше, я, может быть, меньше. Хотя американская оперная певица, певшая в Вупартале партию Жены в опере «Жизнь с идиотом», говорила мне:
— Ты опасный. Ведь ты — татарин.
Эскимос и татарин, два брата, считавшие всю жизнь себя европейцами, были возвращены, в конечном счете, России. Поляки нередко мне говорили:
— У тебя откровенно русское лицо.
В их устах это звучало как… В том-то и дело. Объединенная Европа настолько сильна, что, если она захочет оттолкнуть от себя Россию, она оттолкнет. Россия и сама откатится на колесиках.
Да она уже и покатилась. Кажется, нет ни одного человека, не зараженного Востоком. Это как заклинание. Это началось не вчера и не завтра закончится. Мода не пройдет, она утвердится в привычку, потому что Россия всегда (задолго до Гумилева-сына) тосковала по своей восточной половине, ей ее не давали, отбирали, ею стращали.
Россия верит в сказку. Восток, выдуманный сейчас в России, — это мечта русского человека о совершенстве, о силе и форме, новый вариант коммунистического воспитания на метафизической подкладке, тоталитаризм восприятия жизни. Русское безобразие заключается не в том, что Восток опошляется, а в том, что выдвигается как идеал. Не так поставил кровать, не туда задвинул унитаз — пеняй на себя. Ты потерял шанс обручиться с судьбой.
На днях на речке я слышал такой разговор:
— Мама, я видел летающего йога.
— Миша, йоги не летают.
— Еще как летают!
Маленький мальчик был прав: йоги, конечно, летают. Но они в основном уже пролетели. Мода на Индию началась в конце 50-х годов. Она была политически возможна, а, значит, укладывалась в один из знаков «оттепели». Тогда стали втягивать животы, чтобы почувствовать позвоночник, и глотать бинты, чтобы прочистить организм. Здоровее не стали, однако нашли себе применение. Но те времена давно миновали, и теперь гейши и самураи куда больше привлекают москвичей, чем йоги.
Сегодняшняя Москва влюбилась в Японию. Город, как сыпью, покрылся японскими иероглифами, на широких боках московских троллейбусов нарисована Фудзияма — это рекламы ресторанов, выставок икебаны, гастролей театра Но, всевозможной японской техники. На днях я купил в ЦУМе постельное белье, пошитое в России. Продавщица сказала: «Покупайте простыни с иероглифами. Их все покупают. Так модно». Теперь у меня вся постель в иероглифах. Не знаю, на каких изречениях я сплю, может быть, на японских требованиях отдать им Южно-Курильские острова. Надо будет как-нибудь пригласить знакомого дипломата из японского посольства, чтобы перевел.
Кстати, японское посольство, пожалуй, одно из самых модных мест Москвы. Там на приемах можно встретить элиту: политиков, интеллектуалов, рок-звезд, банкиров. Все научились есть палочками. Все млеют от японских трехстиший. Парадокс: Россия, действительно, никак не отдаст (или не надо?) четыре маленьких острова, завоеванных у Японии, она еще не подписала с ней мирного договора, по сути, мы еще враги, а при этом отдала Японии свое сердце — Москву. И — желудок: за последние годы в Москве появилось около ста японских ресторанов и суши-баров (в советское время был только один японский ресторан в Хаммеровском центре, и то для иностранцев), теперь все влюбленные ходят есть суши, иначе какая это любовь? И, если хотите, — матку: в Москве существуют курсы гейши, где учат, как управлять маткой и как заказывать ей всякие желания. И русскую душу мы тоже готовы отдать Японии. Самая модная литература — японская, самая почитаемая вещь — японский минимализм (который, строго говоря, находится в кричащем противоречии с российским максимализмом), самый вкусный чай — на японской чайной церемонии (я заглянул в МГУ на родной филфак на Манежной площади — меня тут же разули и напоили по всем правилам этой церемонии), самая модная религия — буддизм.
Простой народ, не различая, где Китай, где Япония (характерная черта: в Москве существует немало китайско-японских ресторанов, чего, пожалуй, нет нигде, поскольку эти кухни несовместимы), сходит с ума вообще от Востока. Но наиболее продвинутая часть художественной элиты еще больше, чем Японию, любит Тибет. Кто не был в Лхасе, того за человека в Москве не считают. Мне тоже пришлось туда съездить, чтобы не потерять лицо. А теперь я регулярно хожу в тибетский ресторан на Чистых прудах — для поддержания своей репутации. Кроме того, я расставил мебель в квартире по законам фен-шуй и, пообщавшись с коллегами, понял, что самое модное — это писать в духе попсового восточного оккультизма. После Гребенщикова, открывшего в себе буддистскую благодать, на Восток ушли Сорокин, предвещающий китайскую глобализацию по крайней мере России, Пелевин, нашедший отечественным мифам восточный постамент, Акунин (в псевдониме заложен японский иероглиф), который обрабатывает свои детективы, как японский ремесленник: лачит многослойно поверхность, старательно избегая халтуры.
Странно, однако, что при своей духовной оснащенности Тибет был покорен и оккупирован Китаем, который сам, несмотря на конфуцианство, уперлся в маоизм. Странно и то, что Япония все больше сходит с кругов своей культуры, разлагается на глазах. Смертная казнь в Японии — наименее гуманная в мире, ибо предполагает для смертника бесконечное ожидание, которое превращается в бесконечность пытки.
Не менее странно выглядит жестокость, которая числится за Востоком по линии воспитания. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть любой китайский нравоучительный фильм с бесконечным избиванием учеников, изысканными методами восточного садизма, или — боевик, где герои с напряженно-окровавленными лицами, горящими глазами гордятся перед своими возлюбленными тем, что они убийцы.
Странна и дикая нищета Индии. Есть там живой бог Сай Баба, к которому ездят со всего света и у которого из ладоней сыплется все, кроме рецепта, как сделать Индию ну чуть менее нищей. Это напоминает мне известный роман Булгакова, где Воланд заметил все мелочи, но не заметил размаха советского апокалипсиса — как будто он верно вылетел на задание, но не разобрался в его смысле.
Мы ехали русской группой из Варанаси в Непал на каком-то очень левом автобусе. На стоянках ели бутерброды с мухами и пили еще более левое, чем наш автобус, индийское виски под сосущие взгляды мужского населения. Русские девушки сбились в один ком от страха и отсутствия элементарного комфорта.
— Все-таки мы с Запада, — кисло подумалось мне в гостинице, где в номере жила тысячная популяция саранчи, которую невозможно было передавить.
Странен и поверхностный оптимизм индийских гуру с беспечно-великими формулами do good, be good, с равнодушием к близким, но с большим желанием помочь далеким.
Москва уходит на Восток. По всей видимости, это будет длинный путь. Это — путь не только просветления, но и оправдания собственной лени, не только мистики, но и опрощения. Русский человек не подчинит себе Восток, но приспособит под свои фантазии. В нем всегда будет прорываться и частично западный характер, ревнивый, непостоянный, изменчивый.
На Восток можно уйти только наполовину. Об этом знают все те, что жил на Востоке. Однако русские бросились подчиняться новым идолам, потому что подчинение внешней силе — это самое слабое их место. Дело не в том, что тягу к Востоку деловая Москва обратит в бизнес и облапошит людей — это и так понятно. Непонятен будет тот мутант, который родится из фатального стремления подчиниться чужим истинам ради того, чтобы найти самого себя. Русский приходит в восторг от японского самообладания, точного жеста, бытовой эстетики, безгрешного секса японских гравюр, японского многолетнего «высиживания» истины, но ему органически непонятен восточный коллективизм, отсутствие половых ругательств, японская ставка на ответственность. Русский не будет учиться у японцев тому, что заработанные деньги надо давать государству на развитие, как это делали японские корпорации после войны. Он не будет учиться у китайцев работать так, чтобы все мировые рынки были завалены русскими товарами. На Востоке он будут искать свой собственный русский кайф: немедленную связь с абсолютом.
На весах мировой этики метафизически выхолощенный сборный Запад с его моралью, защищенной уязвимой идеей порядочности, все-таки перевешивает сборный Восток, где ходит поршень: фатализм — фундаментализм. Христианские ценности растворились в цивилизации, но восточные сладости культуры — наверно, не лучшая защита от бешенства и злорадства толпы. В этой игре достаточно трудно сохранить нейтралитет.
В сущности, СССР сам по себе был Шамбала. После крушения советских ценностей, возник духовный вакуум, который и заполнил новый Восток — Страна восходящего солнца. Правда, московские востоковеды и японские дипломаты, испуганные бешенной модой, с грустью говорили мне, что такой Японии, которую придумали себе русские, вообще никогда не существовало, что это — типичная любовь к симулякру, но ведь влюбленные тоже любят не реального человека, а придуманный ими образ. Москва в этом случае — не исключение.
Эротический рай отчаяния
В истории литературы XX век останется, скорее всего, как век отчаяния. Писатели наперегонки бежали «на край ночи», подстегнутые целым набором идей, вроде смерти Бога, заката Запада, политическим цинизмом, войнами и идеологическими утопиями. В забеге участвовали сильнейшие: подслеповатый Джойс, совиноглазый Кафка, фашист Селин, антифашист Томас Манн, ряд истеричных русских, возбужденный Генри Миллер, подчеркнуто грязный Буковски, совсем слепой Борхес, всех не упомнишь. Читатель, естественно, развратился. Ему нужно было подавать только «черное на черном» — других квадратов он не признавал. В конце концов, всех стало рвать черной массой блевотины, и это окрестили концом литературы.
На этом черном заднике Владимир Набоков оставил свою подпись спермой.
Его лучший роман «Лолита» имеет слизистый, как у улитки, след скандала, подобный флоберовской «Мадам Бовари». Скандал раскупорил Набокова для широкого читателя. Не будь его, Набокова, возможно, до сих пор дегустировала бы только кучка знатоков. Механизм литературного успеха заводится не столько в издательствах, сколько на небесах. Набоков метил в число избранников, однако попал в него, хоть и заслуженно, но нелепо: через дверь детской порнографии, в которой автора обвинили немедленно по выходе его англоязычной книги, четырежды отвергнутой в США, в Париже, в 1955-м, еще пуританском, году.
До этого Набоков совершил несколько заслуживающих внимания поступков. В ранней юности последыш символизма, он позже снес религиозный чердак символистского романа, тем самым предельно эстетизировав жизненное пространство в театральном действе своей метафизически безнадежной прозы, чем попал в нерв века.
Он в полной мере воспользовался горькими плодами русской революции. Этот барчук, выпавший из райского дворянского гнезда в берлинско-парижско-американскую эмиграцию, разыграл в своих книгах тему изгнания не как национальную катастрофу, что тупо сделали почти все его соотечественники, а как экзистенциальную драму, чем снова попал в нерв века.
Он долго искал формулу предельного эстетического нонконформизма, недовольный всем, что видел везде и вокруг. Для жизненного уединения он выбрал сачок для бабочек, для литературного — вульгарную нимфетку. Если вы все любите грудастых и жопастых так называемых красивых женщин, я люблю криминально юную пизду! — вот слоган любовной истории в «Лолите», продолжение которой можно искать только в тюремной камере.
Эротическая связь зрелого спермозавра космополитической складки, Гумберта Гумберта, с Лолитой получает значение емкой развернутой метафоры, охватившей роман, как огонь хорошо разгоревшихся полений в камине. Здесь и тоска по ювинильным истокам обветшавшей к XX веку культуре, по временам Данте и Петрарки, которые выдвинуты в романе в виде поклонников воспетых ими «нимфеток». Здесь и гораздо более очевидное столкновение европовидного Г. Г. с юной Америкой на фоне мотельной спальни, наполненной шумом канализационных труб. Здесь и признание 50-летним автором подлой работы времени, быстротечность которого неумолимо старит 12-летнюю школьницу, превращая ее в заурядную красавицу. В любом случае у Г. Г. и Лолиты нет другого будущего, кроме будущей катастрофы.
Но главное в «Лолите» — метафора исчерпанности и вырождения любви, то есть закрытие основной темы европейского романа. Иначе говоря, это роман о вырождении романа. Единственным оазисом любви в этом мире оказывается маленькая любительница воскресных журналов с нежным пушком на абрикосовом лобке, преждевременная охотница за дешевыми наслаждениями, в конечном счете сбегающая от пафосного Г. Г. с модным кичевым драматургом Куильти.
Каким бы убогим ни был образ земного рая в «Лолите», он все равно отчуждает от себя набоковского героя, превращая эстета-извращенца в трагического дурака, которого не любят. Сцена убийства Куильти в безвкусных декорациях его американского дома взбесившимся от ревности Г. Г. стала источником и каноном всех последующих постмодернистских сцен ужасов, где кровь перемешана с юмором, смерть — с пьяными соплями и сентенциями о смысле жизни.
Но потери героя — приобретения автора. Утраченный рай своего детства Набоков обрел в самом творческом акте, порождающем чувственную фактуру прозы, где шорох гравия, солнечный луч сквозь листву или детская простуда важнее любых Больших Идей. Лучший Набоков — это заговор пяти чувств. Он больше всех других писателей XX века ненавидел социальное местоимение «мы», противостоя ему и в прозе, и в жизни. Он — хороший учитель совершенно стоического сопротивления. Чтобы не быть раздавленным, он обзавелся писательским мастерством и хвастался им как своим непобедимым оружием. Это была ошибка — железная власть над словом, обошедшаяся ему любовью к сочинительству слабых стихов, дурацких каламбуров, рассыпанных в той же «Лолите», а также угнетающим меня авторским тщеславием сноба. Однако чистая метафора отчаяния, найденная в «Лолите», поймала XX век в свой сачок.
Любовь к родине: летающая тарелка специального назначения
В петербургском вестнике военного ведомства в начале XX века без тени иронии было написано, что главным врагом русского военно-морского флота является море. С тем же основанием можно сказать, что главным врагом Российского государства была и остается человеческая природа. На всем протяжении русской истории власть ставила перед собой цели, которые входили в противоречие с элементарными принципами человеческой природы. Для выполнения своей миссии она должна была обесценить человеческую жизнь настолько, чтобы уничтожение человека во имя государства не воспринималось как преступление, но имело моральное основание.
Если Европа, начиная с Возрождения, устремилась в будущее, то Россия вечно смотрела в небо. Гоголь видел ее птицей-тройкой, летящей сломя голову вперед. Большего издевательства над неподвижной, застойной страной трудно себе представить. Однако, если не птица-тройка, то что такое Россия?
Россия — это летающая тарелка, которая никак не может оторваться от Земли с тем, чтобы достичь абсолютной благодати. Вы бы видели эту летающую тарелку! Красота! Похожа на Московский Кремль: дворцы, соборы, стрельчатые башни по периметру высоких, с бойницами, стен. Вот сейчас помолимся всем миром и взлетим, вопреки законам гравитации. Мы подражаем — но не Западу, а Иисусу Христу. Максимализм — наш мотор. Наше безмерное топливо — полезные ископаемые Сибири. Наш идеал — суперфаллическая Царь-пушка. На сияющем борту у тарелки триединый лозунг, выведенный министром просвещения Николая Первого, графом Уваровым: «Православие, самодержавие, народность». Сама же идея духовного предназначения страны была сформулирована много раньше, в XV веке, после крушения Византии: Москва — Третий Рим. Москва, иными словами, — центр вселенной. От нее до неба не дальше, чем для индусов в Варанаси.
Откуда взялась идея религиозного отлета?
Земля не рожает — климат плох. Самоуправление с самого начала не задалось. Решились на беспрецедентный мазохистский шаг: пригласили варягов. Те пришли, крестили Русь, навели кое-какой порядок. Дальше триста лет татаро-монгольского ига. Пора моральных и военных компромиссов, которых до сих пор русские немного стесняются, давая им противоречивую оценку, от героической до коллаборационистской. Как бы то ни было, Россия потеряла навсегда свою культурную самоидентификацию, оказалась распятой на оси Восток-Запад. Ей захотелось в небо (отсюда и позднейшее советское стремление в космос, материализовавшееся уже вместе с Гагариным).
Ради того, чтобы взлететь, все средства хороши. Главное требование — единоначалие (самодержавие), подчинение всех одной суперцели, военное положение, беспрекословное послушание, в идеале — рабство. Все остальное (развитие цивилизации) делалось между прочим. Дало ли согласие на взлет русское население? Его не спросили. Усилием идеологической воли каждый российский подданный был наделен русской душой, которая и должна была стать пассажиркой полета. Соединение русского со своей русской душой происходило болезненно из-за несовершенства человеческой натуры. Ее неустанное перевоспитание стало константой русской истории. Частная жизнь была закована в кандалы патриархального «Домостроя». Православие умертвило русское тело бесконечными постами, сексуальными запретами, многочасовыми службами, подавлением личностного начала. Самодержавие превратило крестьян в крепостных холопов. Русская душа родилась и оформилась в государственных пытках: отрезании ушей, языков, отрубании ног, рук, голов. Наказывали фактически даже не государственных, а метафизических преступников, и наказывали так, чтобы страх парализовал волю всех других русских душ, отпечатался генетически. Телесные наказания в России, принимая лишь различные формы, никогда не прекращались.
Средневековая Россия называла себя Святой Русью, то есть самоканонизировалась. Жители святой страны должны были обладать образцовыми христианскими добродетелями, которые воспринимались по-византийски. Главная добродетель — кроткость, смирение — воспета Достоевским и всем лагерем славянофилов XIX века, позднейшими воспитателями русской души. Они же создали еще более удивительное понятие — русский Бог, который, собственно, и был богом русских душ; получалось полное зеркальное соответствие.
Казалось, все было готово для коллективного, или, говоря православным языком, соборного спасения, дана команда взлетать, покидая юдоль земной пошлости — но мы почему-то не взлетаем. Отсюда бешенство отца-командира. Почему не взлетаем? Кто виноват?
Здесь начинаются бесконечные русские разборки. Виноваты грехи наши! Назначьте меня командиром — взлетим. Это один ход мысли— отсюда дворцовые перевороты, смена царей, кровавое месиво конспираций. Второй ход: виноваты некоторые узлы летательного аппарата — поменять! Отсюда вечный зуд русского реформаторства, приведшего по крайней мере дважды к вывиху национального сознания: религиозный раскол XVII века, разделивший народ на два лагеря, и насильственная европеизация Петра Первого, создавшая, по сути дела, до сих пор непреодолимый «железный занавес» между просвещенным классом и народом.
Иногда казалось, что мы все-таки вот-вот взлетим и улетим. Так казалось, наверное, в кровавом бреду Ивану Грозному, пламенному монаху-садисту, но всегда что-то мешало. Мешали, в сущности, пустяки: очередная война с Швецией или Турцией, предательство лучших друзей, стоящих у самого трона, измена собственных детей, которых нужно было казнить. Оттого, что тарелка не летит в небо, возникают извечное русское недовольство собой, раздражение окружающими, поиски врага. Русским царям нельзя отказать в дерзости и масштабе — они не боялись ничего, видя перед собой небесную цель, они готовы были завоевывать Сибирь, строить новую столицу на финских болотах, подавлять крестьянские мятежи, переписываться с Вольтером и по-царски блядовать, как Екатерина Вторая, которая, умирая, выставила напоказ оробевшим окружающим свою голую жопу, победно воевать с Наполеоном — но все эти подвиги только отвлекали их от главной цели, время шло, кровь русских царей благодаря династическим бракам разжижалась немецкой — тарелка не взлетала.
Нужна ли русской летающей тарелке помощь Европы? Да. С этим согласны все цари. Но помощь должна быть с цензурой. Пусть помогут, но не привнесут свою идеологию — ведь они не хотят лететь с нами в небо, у них есть свое антинебо, нам с ними не по дороге. Россия играет с Западом в кошки-мышки. Запад лежит на земле. Демократии не умеют летать. России надо уберечься от скверны, взяв от Запада исключительно технологию (множество технических терминов заимствовано из немецкого языка). Вместе с тем царская Россия — империя всеобщего спасения. Она была не прочь спасти и другие народы. Ее идеологическая щедрость не знала границ. В сферу ее влияния входили не только Финляндия и Аляска, но даже (на короткий период) Гавайские острова. Пусть все полетят с нами, только смените ваши имена на наши имена-отчества, примите православие — и с Богом! Однако многонациональность царской России (около 200 разных народностей), безусловно, мешала взлету. Царизм проводил политику жесткой русификации, создал совершенную систему ссылки и каторги; революционеры, не без основания, называли царскую Россию тюрьмой народов.
Царскую Россию трудно назвать исключительно автократией, как русский коммунизм — ее наследника — только тоталитаризмом. Русское государство было прежде всего инструментом общенационального спасения, мистическим аппаратом, метафизическим телом, поэтому Русского государства фактически и не существовало, была его видимость, потемкинские деревни, строительные леса, от которых осталось много строительного мусора, и недаром Кюстин считал Россию империей фасадов. Но проницательный путешественник не нашел в себе сил заглянуть за фасад и увидеть там летающую тарелку, ослепительное явление, основной национальный фантазм. Вот почему он все понял и ничего не понял в России. Россия искала на Западе физические параметры взлета, но метафизику полета она знала сама наизусть. Вечный страх Европы перед Россией состоит в ощущении ярости этого стремления взлететь.
Но мы не летим — что делать? Ничего не делать. Если взлететь невозможно, все остальное кажется бессмысленным. Отсюда — саботажник Обломов. Именно вокруг неги и праздности возникает скромное обаяние дворянских гнезд: желто-белые, с колоннами, помещичьи усадьбы в духе классицизма на берегу реки, высокие колокольни, звездно-синие купола, обильная вкусная еда, штоф водки, выпитый под соленые рыжики, частные библиотеки с вдумчивым подбором книг, добрые слуги, гостеприимство, лихая охота на медведей и волков, балы. Россию в образе потерянного рая увезли с собой в эмиграцию Бунин, Набоков и тысячи других беглецов. «Потерянный рай» стал политически полезной моделью для многих западных историков эпохи «холодной войны».
Ностальгия эмигрантов забыла о смысле русской революции. Ключевым понятием русской истории был страх. Но нашлись безумцы, которые его перебороли. Если царская Россия — враг здравого смысла, то диссидентство началось как его защита. В сущности, интеллигенция тоже была не против летающей тарелки (вот уж национальная паранойя!). Но она была готова оставить летающую тарелку на Земле, сделав жизнь на ней полной гармонией. Отсюда до революционной концепции русского коммунизма — один шаг. 50 томов ленинских сочинений — это новый проект «тарелочной» утопии.
Открою, наконец, главный секрет России: загнанная в прокрустово ложе святости русская душа скорее всего только прикинулась святой. Религиозный максимализм обернулся демонстративным цинизмом. Удовольствия в России получили запретный и дикий характер, возникли раздвоенность, шизофрения духа, хитрость, изворотливость, склонность к бесчестию, вероломство, неверие в право, идеал саморазрушения как единственно возможное доказательство собственной личности. Тем самым создалось напряжение, необходимое для бурного развития русской культуры, основной темой которой стал смысл жизни. Нет ни одного русского писателя, музыканта, художника, ни одного Чехова, ни одного Толстого и Чайковского, который бы зимними ночами не думал, не спорил с товарищами о смысле жизни.
Царская Россия в конце концов не проявила истинной последовательности. Под давлением Запада, в результате либерализма (Александр Второй), или просто меланхолии (Николай Второй) начались всякие уступки человеческой природе за счет русской души, в результате чего царизм вместо того, чтобы взлететь в небо, разлетелся на миллионы осколков. Несмотря на различие масштабов насилия, между царским и советским режимами не существует значительного разрыва: они насквозь идеологичны. Это сквозная империя слова и образа, которым должна подчиняться жизнь. Сейчас Россия, утратив метафизическое измерение, плохо видное иностранцам, оказалась в ущербном положении, теперь ее мало что внутренне связывает, кроме ностальгии по прошлой метафизике. В 1988 году выпускники средних школ не сдавали экзамена по истории. No past. Но царская Россия присутствует с нами своими осколками — это популярный курс русской истории Ключевского, написанный во славу романовской династии, обручальные кольца на пальцах молодых людей, сделанные из николаевских серебряных полтинников, война в Чечне — наследие царской национальной политики, полубитый синий чайный сервиз в бабушкином буфете, двуглавый орел, заимствованный Ельциным из царской эмблематики, перламутровые пуговицы, срезанные с дореволюционного нижнего белья и валяющиеся в комоде непонятно зачем, наконец, тот же самый комод из красного дерева, с отломанной ножкой, украденный когда-то из барской усадьбы, которая была сожжена в революцию, но от которой, как последний привет от царской России, осталась старая липовая аллея со сладким запахом в разгаре лета.
Наташа Ростова двадцать первого века
Если энергично произносить русское слово «деньги», обнажаются все зубы, появляется волчий оскал. Это я заметил у своей бывшей любовницы в то время, когда она стала бывшей. Мы сидели во французской кофейне на Триумфальной и при большом наплыве воскресной публики, макая жирные круассаны в «кафе о лэ», распилили нашу любовь на вложенные в сожительство средства. Много не показалось. И будь я Львом Толстым компьютерных дней, то написал бы «Войну и мир» не о нашествии Наполеона на Москву, а о захвате ее провинциальными ордами. Москва горит от них, как от пожара. Роман бы вышел с большим количеством испорченной крови, бессовестных образов и моральных подстав. Но я — не коренной столичный фашист, чтобы считать, что Москва принадлежит одним москвичам. К тому же я сам попался: взбесившееся обаяние молодых провинциальных воительниц меня и вдохновило, и перепахало одновременно. Подпитанные выкликом трех сестер, помноженным на старый колбасный миф о том, что в Москве «все есть», они не могли не выдвинуться в город, где миф вдруг вписался в реальность и где есть, в самом деле, всё и все.
Жизнь на этой космической глыбе — космический бред. Светящийся метеор, с диким гулом летящий во тьме, сегодняшняя Москва производит впечатление абсолютно праздничной катастрофичности. Жизнь прет из всех дыр, бьет кровавыми фонтанами Поклонной горы, бурлит денежными потоками, пульсирует FМ-ритмами, забивается автопробками и, вновь прорвавшись, кружит по площадям.
Население — перерожденцы, импровизаторы, мутанты. Кто они? — им самим неизвестно, иностранцам невдомек, Господу Богу неведомо. Москва стоит не на семи холмах, не на былой славе, опирается не на власть, апеллирует не к авторитетам, а связана новой силой. Если в советской трешке открывался лучший вид на Кремль, то теперь сам Кремль — это лучшие виды на деньги. Деньги! деньги! деньги! — слышалось на улицах других городов мира, от Нью-Йорка до Варшавы, я сам слышал, чаще других слов. Красная Москва скупо молчала, лишенная их цены. Москва сегодня — охота за деньгами. Я сам — охотник.
Обмен и измена — однокоренные слова. Это не так очевидно, как смена витрин, автомобильный бум, уличная проституция, рекламные растяжки, но меняет московскую жизнь радикально, а иным разбивает жизнь вдребезги. Идет перераспределение гендерных ролей, половой переполох: нарождается невиданное сословие русских женщин — самостоятельных, самодельных, самоходных установок. Женщина-самоход появилась куда стремительнее, чем была опознана российским мужским сознанием, недогадливым и патриархальным, с откровенно «мачистской» подкоркой.
Короче, возник новый образ Наташи Ростовой.
Она не носит ни кошелька, ни трусов. Не хочет зависеть ни от белья, ни от денег. На последние сто тридцать долларов она инвестировала в меня свой подарок: телефон «Panasonic» с автоответчиком. Она недолго ждала ответа. Так в моей жизни произошла не только смена вех, но и поколений. Юные женщины отличаются от молодых преимущественно возрастом.
Подмышки Женьки вкусно пахнут воском. Ее любимое слово — «тема». Жизнь Женьки — разноцветная расточка тем. Ее любимая тема — старые советские фотоаппараты. Новые бренды ей «до пизды». Она не боится мата. Сленгом пользуется по обстоятельствам: то густо, то пусто. С «Киевом» образца 1979 года через плечо, с прерывистой геометрией жестов, смешливой мимикой, она идет через лес в Бухте Радости к пляжу. Спотыкаясь о корни, подружки едва поспевают. Купаться! Она — через голову длинное платье без рукавов. Загорелая, в воду. Переглянувшись, подружки не следуют ее примеру.
— Странно, — пристыженно сказала одна из них, киноактриса. — Такое красивое тело, что она не производит впечатление голой женщины.
В свои девятнадцать лет Женька любит делать фотоавтопортреты в разных ракурсах. «Фотографиня» — с иронией окрестили ее газеты. Некоторые считают, что ракурсы слишком рискованны. Ей это тоже «до пизды». Ее не заподозришь в заматерелом эксгибиционизме. Что-то случилось с «культурным» временем, и она его просекла: любая фотография раздевает, но тело живет, как дух, где и как хочет. Ему тесно в сексуальной выгородке. Женька — предвестник постэротического века. Ее суждения не менее откровенны и неожиданны, чем ракурсы:
— Когда моя подружка Руда позвонила и сказала, что ее муж, наркоман, повесился, я испытала страшный подъем сил. Мне захотелось фотографировать.
Морща полудетский лоб:
— Смерть возбуждает.
— Не знаю, как с ней разговаривать, — признался мне известный московский телеведущий. — Она какая-то… — Он задумался, — виртуальная.
Дело было у него на даче. Мы глядели в открытую дверь детской комнаты, откуда неслись гортанные звуки компьютерных войн. Она сидела на одном стуле с 13-лет ним сыном друга, в своем несмываемом загаре, уставившись в монитор. Вдруг вскочила, выбежала к нам и, радостно тараща серо-зеленые глазища, схватила меня за руку:
— Я убила главного дракона!
«Наташа Ростова двадцать первого века», — подумал я.
Молодые друзья зовут ее на английский лад Jenifer, что мне не очень-то нравится, но я смирился: у них всех «кликухи»: один — Вкусный, другой — Неф, третья — Морковка, — компьютерные маски, в которых они включаются в интернетовские чаты, ездят по стране автостопом, ходят на концерты любимых рок-групп. Паспортные имена — на потом, когда начнется, если начнется, «настоящая жизнь». Маскарад имен — защита и от милиции, лениво охотящейся за ними, когда они курят траву, устраивают уличные акции. Юная Россия дурачится. Отправляя меня работать к компьютеру, Женька дует мне на лоб, как на лобовое стекло, и тщательно протирает рукавом свитера, чтобы мне лучше виделось, что писать. И пока я пишу, она на кухне создает египетскую пирамиду, цементируя ее шоколадным соусом, из рафинада, на основание которой подсел сделанный из фольги плоский гитарист, похожий на Элвиса Пресли.
Мы сошлись из разных миров, друг для друга инопланетяне.
В ту пятницу, идя на невольный рекорд по снобизму, я ужинал в «Китайском летчике» с Гюнтером Грассом, немецким нобелевским лауреатом по литературе. Мы пили водку под грибочки и прочие русские радости и быстро дошли до темы, есть ли Бог. Старомодный адепт «абсурдной» философии Камю, Гюнтер Грасс твердил, что все мы — Сизифы, напрасно прущие камень в гору, но я-то знал, что Бог есть. Он вызверился на мне, разломав отношения с «духовно близкой», как я считал, 34-летней любовницей. Чем азартнее я это доказывал, тем больше Гюнтер утверждался в своем атеизме. Дальнейшее вижу смутно. Помню только, что эта любовница вдруг оказалась напротив меня за столом и стала требовать ключи от нашей квартиры, что было еще абсурднее, чем у Камю, поскольку она не собиралась в ней жить. Вместе с абсурдом нагрянул Стив, переводчик посла США в Москве, и принялся плясать под тамтамы с румяной, кудрявой Ириной Борисовной, распорядительницей заведения. Нобелевский лауреат растворился в воздухе. Я был предоставлен мыслям о непоправимости бытия.
Будь я меньше пьян, я бы отказался: бесконечно молодое существо «сняло» меня, потащило за собой в танцевальные дебри. Она танцевала не то что умело и страстно, как танцевали женщины моей жизни (мне везло на танцующих женщин), она танцевала остраненно и беззаветно, ненароком пародируя танец жизни. Вокруг нас раздвинулось пространство. Она смотрела мне в глаза, будто хотела перекачать в меня свою энергию. Я взмок, я стал трезветь, я не мог остановиться.
Под утро вышли втроем: Стив, я и она. Пока решали, куда ехать, Москва захорошела: встало солнце. У Стива мы съели и выпили все его холостяцкие запасы, потом сбегали в магазин и позавтракали. Я потянулся к ней.
— Не хочу, — с жестяной дружелюбностью сказала Женька и осталась спать на диване в гостиной. В небесной канцелярии мои личные документы передали новому должностному лицу.
Ее знакомство с компьютером не ограничено убийством дракона. Когда «заболел» мой ноутбук, Женька взяла его на руки и возилась, как с «маленьким», называя ласковыми словами. Ее голова — «центр сборки» — техномолодежная смесь русско-английских компьютерных терминов, снов о пчеле, укусившей ее в живот, глюков, подрывов, продвинутой техники, стильных автомобилей. Она напевает песенки о чудо-йогуртах и постоянно играет словами, как юные шекспировские герои. Мистический ребенок, ведомый энергиями параллельных миров и рыночной экономики, она зачитывает мне вслух список ингредиентов, из которых состоят продукты: тоник, пельмени, паштеты, супы, а также — фильмы и спектакли, по выбору «Афиши». Ей хочется все сравнивать и выбирать. Длинный ряд бутылок итальянского оливкового масла в «Седьмом континенте» волнует ее не меньше, чем рок-концерт. Она неустанно каталогизирует жизнь, в чем, может быть, смысл ее поколения, которому не по кайфу не оприходованная до сих пор российская действительность.
Женька не делает различия между высокой и низкой литературой, читая вперемежку «Божественную комедию», Бориса Виана, бесплатный «Клиент». Ее библиотечка состоит из разрозненных книг по шаманизму, уходу за ногтями, которые она красит в разные цвета в зависимости от времени года, и «Робинзона Крузо» на французском языке, который она кое-как выучила в школе. Женька считает, что в России много «лишних слов» и сердится, когда я говорю «длинно». Ей претят «депресняк» — положения, из которых нет выхода, то есть именно то, чем славится интеллигенция, и фуршетная халява, услада прожорливых журналистов. Мир начинается внутри нее, а не за дверями частного сознания, как это было заведено у той же интеллигенции. Ее представления о красоте имеют европейские корни, но французский салат с помидорами, не говоря о рисе, она будет есть палочками. На шее сакральное украшение из тибетского серебра. Она не любит милиции как таковой, но считает, что к каждому милиционеру нужно относиться по-человечески.
За ужином или когда мы едем в машине, Женька рассказывает мне анекдоты. Она помнит тысячи анекдотов: детских, о «новых русских» и самых порнографических, — и рассказывает их с тем же актерским выражением, с которым русские поэты читают свои стихи. Что будет с нами, когда у нее закончится анекдотный запас? Она — Шахиризада анекдота, который, как мясорубка, проворачивает русскую действительность, чтобы та стала наконец более удобоваримой.
Когда Женька ругается, она предпочитает «фак!» русскому «блядь!». Но свои и мои гениталии она называет чисто матерными словами. Если моя «бывшая» Агата дергалась от слова «ебля», то Женька предпочитает его удачному эвфемизму «трах», филологической гордости моей генерации. В Женькином поколении мат отомрет как запретная самостоятельная тема.
Женька и Агата — провинциалки. Агата— из рыбно-татарской Астрахани. Родители Женьки остались за бортом, в Крыму. Обе звонят родителям редко и говорят коротко, равнодушно изображая свою жизнь в положительных красках. У обеих отцы — безработные пьяницы, у Женькиного — всего четыре зуба. Москва обеим далась нелегко. Они прошли через опыт экстремного выживания, бездомства, безденежья, недоедания, обломов, использования людей, что вынесло их на уровень энергетики, неведомый полуленивым москвичкам. Одноклассники и поныне вспоминают Женьку в молчаливом образе читающей барышни в приморском парке Феодосии с прозрачным лицом. С тех пор у Женьки щечки погрубели. С женским цинизмом обе считают, что «мужчина должен платить по счетам». Так сказала мне Женька, размышляя в начале знакомства, зачем я ей нужен. Мы чуть было не залетели в ситуацию содержанства, но тормознули на любви. «Это я от отчаяния», — позже оправдывалась она.
Агата хотела завоевать мир, но плохо разбиралась в географии. Когда мы с ней очутились в Сан-Франциско, она с подслеповатым недоумением узнала, что мы на берегу Тихого океана. Женька принадлежит точной географии: далекий осколок средиземноморской культуры, Крым ближе ей, чем Нью-Йорк и Берлин, а Греция ближе Византии. Она, как тексты раннего Камю, полна запахов моря, ветра, высохшей в знойной степи травы и легкого «цветочного» пофигизма. Неважно, что Крым оказался за границей. Ее не волнует странное деление бывшей империи.
Деньги схожи для них с красотой — та же «страшная сила». Одна раскладывала мелочь по подоконникам, привораживая деньги в семью; другая показывает их молодому месяцу с той же целью. Обе убеждены, что, если не закрывать крышку унитаза, в доме не будет денег, и равнодушны к классической музыке. Агата никак не могла вспомнить даже приблизительную дату Французской революции; Женька наплевательски предполагает, что Радищев был на содержании царского правительства. Больше того, Женька уверена в том, что Гитлеру все-таки удалось провести парад немецких войск на Красной площади в 1941 году, а дальше случился великий пожар: Наполеон и Гитлер сошлись в ее исторической геометрии. Обе нечасто говорят «спасибо» и «извините». Так русские, объясняясь по-английски, редко употребляют артикли, которых нет в родном языке.
В поколении Агаты покорение Москвы шло через азартное, «с наслаждением», нарушение законов (в этом был свой полет): подделку справок, фиктивные браки. Лихая астраханская Растиньячка разбрасывала сети ума и обмана. Застенчивое аморальное существо, сотканное из убеждений и их нарушений, она расширительно хотела всего: и рыбку, и хуй, и трактор. Я ценил ее за масштаб. Она ежилась, когда я ее называл «верной подругой», темнила, скрытничала, стала червивой от лжи; Женька — распашонка. Женька — первые побеги законопослушания в этой еще почти беззаконной стране. На бензоколонке она требует чек за оплату бензина, ненавидит «пиратские» видеокассеты, переходит улицу на зеленый свет, крепко держа меня за руку (ее первого мальчика сбила машина — он умер в больнице). С ней я испытываю смутное доверие к русскому прогрессу.
Что общего между обувью и любовью? — Мозоли. И еще, что важнее, быстро добавляет Женька: понимаешь, как ты любил, только тогда, когда рвется. Гардероб Женьки не менее эклектичен, чем книги: джинсы, просторные блузки, белые и черные футболки с надписями, клетчатые американские рубашки, длинные платья, которые идут к ее длинным ногам, серебряные туфли на высоком каблуке, старомодное пальто из «сэконд-хэнда», китчевые малиновые кроссовки. Что касается лифчиков, то их не носила и миниатюрная Агата, которая зато почти никогда, даже в постели, не снимала трусов (белых, в черно-золотистой собачьей, от ее бульдожки Кристи, шерсти), за что я порой ласково звал ее «беженкой». Женька не надевает трусы, даже когда мы идем на ужин во французское посольство. Это не комплекс Эмманюэль, знаковый для продвинутых московских лесбиянок, а просто ее «не хочу».
— Что же она носит зимой? — обеспокоился Андрей Вознесенский, узнав о такой ее особенности.
— А ничего, Андрей, не носит, — огорчил я поэта.
Однажды, чтобы мне досадить, Агата воскликнула: «Долой литературу, да здравствуют ролики!» — но никогда так и не выучилась кататься на роликах. Женька — сплошные ролики. Мы с Агатой ни разу не были в церкви. Когда мы начали вместе жить с Женькой, она спросила:
— В какую церковь будем ходить?
— Православную или католическую?
— Нет, в смысле территориальном. Когда придет время Великого поста, я хочу его соблюдать. Это так здорово, — заявила она со сладким мазохизмом, — не трахаться, не смотреть телевизор, не читать веселых книжек!
Игра в пост — часть ее жизненной игры. В церковь мы до сих пор не собрались. С Агатой я пережил любовный период «профессиональной» близости, почти что производственный роман. То же случилось с моим младшим братом. Это было время жизненного редакторства, время соратниц, которые, собственно, могли быть и мужчинами. «Идеальный читатель», Агата «болела» за содержание моих текстов, стремительно проглатывая компьютерные странички или, напротив, со сверкающими глазами невестясь с полюбившимся абзацем. Женьке важен конечный результат: сколько за текст дадут денег. Женька — страстный покупатель, и — рассеянный продавец. Агата, напротив, продавец своих ценностей. На заре нашей любви она продала мне свой кружевной, в мелких завитках, лобок за символический рубль. Она — лидер, всегда готовая считать, кто кому недодал. Это первое ополчение русского феминизма, научившееся зарабатывать деньги среднего класса и обретшее право на любовный маневр. Став главным редактором полуглянцевого журнала, Агата увидела жизнь как кино, истину — в торжестве голливудского индивидуализма, простоте самостоятельных решений: буквализм, заказанный «адреналинной» американской культурой. Зажмурившись, Агата прыгала через пропасть, как поименно известные ей киногерои, но после страдала циститом. Когда мы разошлись, я выбросил целый мешок просроченных лекарств. Она писала неплохие рассказы, прозрачно-мутные, как взвесь ее жизни. Иногда мне казалось, что она сходит с ума. Это было, наверное, последнее литературное поколение (Женькино чтение — скорее исключение): в туалет Агата надолго шла с книгой (стихи обериутов в основном). Агата болезненно воспринимала свое место под моей «сенью», ей хотелось быть первой, и, по сути своей, она была моей любимой «обезьяной». Как-то она сказала:
— При тебе я потеряла себя. На самом деле я противная, капризная, злая.
Моя чопорная мама не любила Агату и старалась, чтобы в родительский дом я с нею не приходил. Дурно воспитанная, никакого «гламура»: не умеет пользоваться приборами, салат ест, прижимая ко рту ножом.
— Ничего, мама, — успокаивал я ее, — зато Женька ест, как парижанка. Хорошо сервирует стол, держит прямо спину.
Но, еще не познакомившись с Женькой, мама пришла от нее в полный ужас. «Только порочные девчонки ложатся в постель к мужчине, который старше их на… на… сколько тебе сейчас лет?» — вдруг задумалась мама. Она прочла в светской хронике «Коммерсанта», что у Женьки на вернисаже были рваные колготки и длинный свитер, подвязанный шарфом.
— У тебя, что, нет денег купить девчонке новые колготки?
— Рваные колготки были продуманным концептуальным актом, — слабо оправдывался я.
Агата принесла ко мне в дом страшные вещи: черный пластмассовый будильник на батарейках, лиловый дуршлаг, дико спортивные домашние тапочки. Дом умер. Все было позволено изначально и впредь; равнодушие к грязи философски высветлилось — домработница скривила лицо. Под куханными полками собралось полчище тараканов. Она нестарательно вытерла попу туалетной бумагой: при траханье раком мне в нос ударял ее запах свежего кала, который застенчиво выглядывал из ее раскрытого ануса.
Агата не зналась с вещами; чуждая феноменологическому срезу жизни, она одевалась по-чаплински: рукава, в которых тонут пальцы, блузка, разъехавшаяся на грудях. Украшения на ней смотрелись комично. Клоунада узких брючек. Чучело. Пугало. То ее энергия — таблетка шипучего аспирина, брошенная в воду, то — безвольно сидит на кухне, личико — желтая печеная антоновка. Или стоит в ванной, жалобно прижав полотенце к груди.
— Ты чего?
— Ничего.
Поколение надорвалось, еще не дожив до старости. Очередной перегной.
Магнит Агаты — противоречивость. Это сильный магнит. Агата принадлежит к внутренне противоречивому поколению, бомбившему ханжеские табу, но все вывернулось наизнанку: убей, воруй, прелюбодействуй, святотатствуй. Бандиты стали кумирами подсознания. Любое событие обрастало бесконечным количеством версий. Как в фильме «Расюмон». Все — версия. Сама жизнь стала версией. Агата металась, всегда была «между»: ностальгией по детству с удобствами во дворе и комфортом; щедростью и хозяйским прищуром; интересом к политическим дебатам и умилением группой «Ленинград»; материнством и раздражением от материнства; жаждой конца света и радостью оттого, что Россия сравнительно быстро преодолела финансовый кризис; тягой и отвращением к элите.
Когда-нибудь на месте памятника Дзержинского в центре Москвы будет поставлен памятник Карлосу Кастанеде, окруженный железными кактусами — полуфилософ-полумаг освободил русских мальчиков и девочек 80-90-х годов (от Агаты до Женьки — обе его поклонницы) от гнета материализма. Треснул рационалистический образ человека, созданный русским марксизмом. Новый формировался спонтанно, независимо от государственной идеологии. Поколение Агаты научилось себя «позиционировать» — коренное слово современной русской самоидентификации. Позиционирование сделало это поколение вехой местной жизни. До этого русский человек плохо знал, кто он и зачем. Мечта Агаты — состояться. Первичный импульс — открытие понятия успех, который впервые с начала XX века стал восприниматься с положительным знаком. «Смышленая мандавошка», как ее прозвали обиженные ею недоброжелатели, Агата готова быть бесчеловечной и пошла бы по трупам, если это понадобится для успеха.
У 30-летних модели продуктивности и контрпродуктивности столкнулись. Лобовое столкновение. Шок породил видимость. Агата вся в тумане, двоится, троится, мерещится; ее, возможно, вообще нет. Вся энергия Агаты уходила в бесчисленное количество доказательств. Например, что ей весело; Женьке же просто весело. Для Агаты, насколько я знаю, наркотики были скорее бахвальством: вы не пробовали, а я — да! У Женьки — иначе: наркотики — да, но чтобы не втянуться. Женька говорит о наркотиках, как «своя», уверенным наркосленгом. Зимой она их почти не употребляет, но в Лисьей бухте, нудистском крымском раю — это еще одна любимая «тема». Женька подробно рассказывает мне, как они варят «молоко»: смесь сгущенки и конопли, — и как оно действует, если выпить грамм пятьдесят:
— Надо оставаться на одном месте, никуда не идти, не думать о реальном, а только — о своих мечтах и желаниях.
В этом есть что-то от манифеста.
Агата была на редкость нефотогенична. Она не рвала свои карточки — только бледнела. Возможно, вообще ее поколение нефотогенично— слишком взрывное время, лица не обрели в нем покоя. Женька одержима своей фотогеничностью. Еще до того, как она вселилась ко мне, весь дом был полон ее фотографиями. Ища женственность в мужчинах и юношество у молодых женщин, Женька стремится увидеть мир как «праздник непохожести» — таково название ее первой выставки. В России меняется образ художника: из хищника реализма и постмодерна, мечтавшего раздраконить общество, человека, язык, он превращается в мягкого, как пластилин, визионера. Россия не стала менее жесткой, но климат ее культуры обещает потеплеть. Частным примером потепления, несущего с собой очередной new look, стали и фотографии Женьки. Никакого нажима, никакой войны между объектом и субъектом, никакой агрессивности. Полурепортаж, полупостановочная фотография, полулюбительство, полупрофессионализм. В ее портретных работах есть изначальное «всепрощение». Она дает людям шанс быть такими, какими они есть, не стремится переделать мир, она его не судит: «не хочется». Но всепрощение Женьки знает границы. Когда после выставки стареющая журналистка напала на нее в китайском ресторане: — «Не слишком ли много, ангел мой, вы о себе думаете?» — Женька спокойно ответила ей: — «Я — avenger без всяких моральных устоев. Имейте это в виду». Журналистка заткнулась. Но тут уже встрял встревоженный я:
— Ты, в самом деле, без моральных устоев? — спросил я, когда мы вернулись домой.
— В тот момент я выбрала для себя эту роль, — объяснила она.
Она развивает свое ролевое сознание. Иногда в ее работах возникает контрапункт гармонической теме: в ослепительно чистом унитазе плавает тампон с менструальной кровью в желтом пространстве мочи.
— Провокация? — интересуюсь я.
— Мне просто интересен туалет женщины. А как они справлялись с месячными в XVIII веке?
Я показал ей альбом Яна Саудека. Она долго рассматривала его работы.
— Красивые. Но почему столько вызова?
Это поколение не любит никакого вызова за его навязчивую пафосность.
Мы идем по Смоленской площади мимо МИДа.
— Это здание, — говорит Женька, — для меня похоже на Советский Союз. Таким я его себе представляю.
Она выговаривает «Советский Союз» с некоторым трудом, как иностранное словосочетание. Она что-то слышала о Солженицыне, но— не читала. Агата интересовалась моими советскими диссидентскими приключениями. Особенно ей нравилось то, что они способствовали рождению «имени». Теперь «имя» сделать труднее. Я несколько раз порывался рассказать Женьке о самиздатовской затее «Метрополя»; не пробился через ее непонимание. Шпенглеровский ход российской цивилизации от власти казенной власти к власти свободных денег застал ее в младенчестве. Она не была даже в пионерской организации — не разрешила «перестроечная» мама, и советизм у нее связан с мелким прикидным понтом: в конце школы она носила вместо юбки красный полинявший флаг, за что на барышню обиделась директор местной школы. Но однажды, сидя в сауне, мы разговорились с ней о советской власти, и оказалось, что ей ужасно хочется все узнать.
— Почему Сталин убивал столько много людей?
Когда я сказал, что коммунизм не «коннектил» с человеческой природой, она, подумав, кивнула. В беспамятстве ее сверстников есть резон — это отрыв от истории как страдания. Если поколение Агаты еще можно было развернуть в коммунизм, то Женькино просто не знает, как там, в коммунизме, полагается себя вести, в какую очередь становиться. Как Агату, так и Женьку не особенно волнуют ни чеченская война, ни президент Путин. Конечно, им не нравится, что Путин из КГБ, но в общем-то им все равно. Они живут в том измерении жизни, где падение с неба старых самолетов, гибель подлодки и прочие закономерные катаклизмы не имеют значения. Они ко всему этому не принадлежат, не хотят это обсуждать, а если обсуждают, то по необходимости. Их мир — личностный, и это форма защиты от того, чем невозможно управлять. Отмыв советизм, русский человек оказался в чем-то ближе Востоку, чем Западу, ближе галлюцинациям, сонливой небоязни жизни, провалам в иные измерения. Запад был подвергнут сомнению, определен как «скучный»; возник спонтанный патриотизм, искренний, но меняющийся от количества выпитого. По трезвому делу Россия — говно, по пьяному — чудо, но если совсем напиться, то — снова говно. Они обе не отрицают достижений Запада, но искать мудрость будут скорее всего на Востоке.
На подходе к бассейну нас с Женькой остановила кассирша.
— Девушке исполнилось четырнадцать?
Доброй кассирше захотелось дать нам скидку. Однако не все так просто: Женька сидит у меня на коленях верхом и считает про себя, загибая пальцы. Пальцев не хватает. По непроверенным данным, я у нее — пятнадцатый. Когда мы с ней познакомились, она сказала с вызовом, что у нее четыре любовника и две подруги-лесбиянки.
— Я спала с ними попеременно. Под настроение, как меняю радиостанции.
— А за деньги спала?
— Нет, хотя спала «по дружбе» за ночлег.
— Не боялась, что тебя изнасилуют?
— Изнасилования нет. Все это девичьи выдумки.
Так, вытеснив страх перед изнасилованием, Женька взялась за «игровой» захват Москвы.
Если Женька балдеет от лесбийских фантазмов, ее тянет всосаться в женские «места», но кончает, смеясь, скорее от картин, чем от ощущений, и она, как кошка, мудра в расстановке сил в спонтанном, по настроению, «групняке», через который перешагивает, как через снятые штаны, на следующий день (исключение: память о ночи с петербургским супер-рок-кумиром, назвавшим ее мимоходом «подарком Бога», и его любовницей — девушка, что называется, отметилась), то Агата была равнодушна к любым фантазмам, ценила в сексе мужской напор, мрачно охала и стонала с плаксиво-трагической маской на лице (наш секс с ней завял раньше, чем любовь) и сухо гордилась скромным лесбийским опытом, рассказывая о нем как о победе (знак власти: довести подругу до оргазма). Но я знал Агату и как «море любви», как женщину, которой «всегда хочется ебаться». В ней был вязкий, завораживающий эротизм; он выковыривался из нее, как изюм из булки. Агата радовалась, когда разбивала жизнь тем, кто ее любил. Она «подсаживалась» на свою значимость и месть — это была форма самоутверждения. К нам в дом приходили похожие на нее подруги, которым нравилось драться за жизнь. Когда появилась Женька, декорации сменились. В дом стали приходить уличные музыканты в пестрых беретах.
Во многих русских женщинах есть неискоренимый заряд ресторанного блядства. Они раскручивают мужиков беспардонно, за милую душу. В Агате остались рудименты такого сознания. А как она была счастлива, когда однажды ее приняли за проститутку: значит, я красивая! В начале нашего знакомства ее еще нужно было соблазнять в традиционной манере, с употреблением джина с тоником, неожиданного развития разговора, поцелуев и дотрагиваний. Женька контролировала ситуацию и не допустила соблазнения. Однажды она просто легла мне на живот, сама выбрала место и время, когда захотела.
Агату волновала порнографическая тема, ей хотелось увидеть себя в запретной позе. Ее тело бежало из тисков власти. Женькино — убежало. Любовь Агаты была частью общей жизненной стратегии. Подотчетная, по своей сути, любовь развивалась, меняла окраску, деформировалась в зависимости от наличия денег и обстоятельств: московской прописки, жилплощади, работы. Болезненная ревнивость была продолжением темы «как бы не оказаться в дурах». Она заранее готовилась к любовному переучету. Женька терпеливо искала Агате заочное оправдание. Та заочно настаивала на Женькиной «обыкновенности». Для Женьки нет запретных поз, но в ней проснулась нелюбовь к забытой теме русской культуры — пошлости. Высокая степень разрешенности аукнулась с полудетским целомудрием.
Из Женьки может что-то выйти, а может — не выйти. Будет ли она фотохудожником, или это так, со временем пройдет, превратится снова в хобби, и Женька свернется, как улитка, в крымскую «хиппушку»? Произойдет ли в ее поколении преодоление «версии» или оно будет тоже париться?
Противоречивое поколение с разорванным сознанием уступает место эклектичному. Возможно, это — прогресс, но разброд продолжается. Москва бурлит, а Женька сладко спит. Где ее ролики? Она просыпает все утренние встречи, которые назначила накануне. Сколько времени? Час дня!
Два! Российское распиздяйство торжествует. Сон сильнее обязательств. Энергия «свежего огурца» (как она называет себя) и «здорового», по ее же словам, поколения что-то еще не включается. Женька отговаривается низким давлением. Наташа Ростова XXI века может спокойно проспать и свой первый бал. Женька то работает, то не работает, то учится, то не учится, забывая вовремя сдавать экзамены на факультете журналистики. Как и вся молодая Россия, она — на распутье: стоит принимать жизнь всерьез и вкладываться в нее или жить как живется, изо дня в день?
Когда летишь из Москвы в Париж, говоришь, что летишь в Европу, когда летишь из Москвы в Алма-Ату, говоришь, что — в Азию. Понятно в обоих случаях, куда летишь, непонятно, откуда. Москва до сих пор не нашла своего ментального самоопределения, но круговорот любви и денег вернул мегаполису его raison d’être. Деньги! деньги! — волчий оскал. Деньги сделали любовь подвижной, как компьютерная верстка. Вытряся из меня причитающуюся ей сумму, Агата купила себе трехкомнатную квартиру на Нижней Масловке. Веря в этическую «нейтральность» денег, Женька преспокойно живет на мой счет, но свои редкие гонорары она продолжает щедро тратить мне на подарки. Домой Женька приходит с цветами. Пучок лесной земляники — тургеневская литературщина «Записок охотника»— снова в моде. Когда по делам я собрался в Германию, она заготовила пять писем на каждый день. Я открыл письмо и прочитал:
«Мальчик мой! Стареющий юноша! Будь светлым. Время меняется, ты это знаешь. Сейчас можно быть только светлым, остальное медленно перестает существовать».
1997–2001