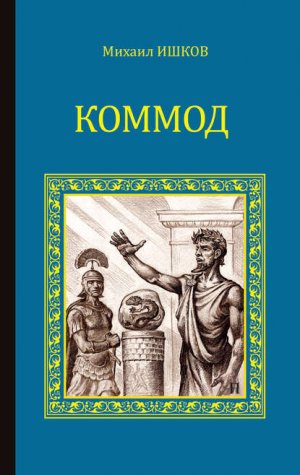
© Ишков М. Н., 2013
© ООО «Издательство «Вече», 2013
Осенью электропоездом возвращался домой и неожиданно, сразу после Царицына, ужас пробрал до оторопи, до оцепенения, до невозможности выйти на нужной остановке – так и проехал родную станцию, не в силах избавиться от навязчивого жуткого бреда, донимавшего меня в те минуты.
Я размышлял об императоре Цезаре Луции Элии Аврелии Коммоде Антонине Августе – таково его полное коронное имя. (Правда, за время правления он четыре раза менял его, что тоже в некоторой степени характеризует нашего героя.)
О сыне несравненного Марка Аврелия Антонина, о кончине которого, по словам Эрнеста Ренана, до сих пор скорбит всякий живущий на Земле.
Об отпрыске «философа» на троне, столько сделавшего, чтобы все люди наметили тропку к согласию.
Эта книга, заказанная в продолжение предыдущего романа о Марке Аврелии, постоянно ускользала от меня. Уже и договор был подписан, и материал собран, но не лежала душа после деяний великого отца описывать мерзости сына. Пусть имя Коммода и не внесено в список первостепенных исторических мерзавцев, пусть по изобретательности, по расчетливости, по умению оправдывать свои поступки некими «высшими» соображениями, как то «интересы государства», «необходимость сохранения в чистоте отцовских верований» и прочее, ему далеко до подобных «профессионалов», – у знающих людей даже упоминание его имени способно вызвать в душе странное беспокойство, неясную, связанную с неосознанным жутковатым смешком тревогу. Я прикидывал, чем же Коммод отличался от Нерона, Калигулы, Каракалы? Что объединяет его, например, с ассирийскими царями, Цинь Ши Хуанди[1], Иваном Грозным, Гитлером, Тамерланом?.. Другое дело, что в этом ряду вряд ли отыщется более простодушный, даже в каком-то смысле наивный и глуповатый губитель соплеменников, чем Коммод, однако зверства, совершаемые «по недомыслию» или «из простодушия», не становятся менее зверскими. Даже наоборот – в этом случае зло приобретает некий насмешливо-мистический оттенок, неподвластную разуму власть, оборачивающуюся ночными кошмарами и бредом наяву. Тогда и начинаешь всем существом своим, каждым нервом ощущать хохот богов.
Начинал Коммод неплохо – малый был видный. Наружность его благодаря высокому росту, стройному телосложению и красивому, мужественному лицу была привлекательна.
Был он вполне прост и к государству испытывал самый обычный, вполне шкурный интерес, как, впрочем, и многие из нас. К окружающему и окружавшим Коммод относился так, как страдающий привычкой грызть ногти обращается с этими, порой очень красиво оформленными роговыми наростами, – исключительно потребительски.
В тот вечер в поезде меня как раз донимал не дававший покоя вопрос: какое мне дело до Коммода? Какое дело до его убийств и прочих злодеяний моим современникам и читателям?
Что же это за роман? Очередное изложение набора случаев со смертельным исходом, описание их виновника и последовавшего в конце наказания?
Уже дома, переболев подобными видениями, наткнулся на удивительное место у Метерлинка. Последние годы второго века от Рождества Христова, время царствования Коммода Антонина, вмиг оформились в целостную художественную ткань, ценность которой могла бы заключаться в описании самой атмосферы, оценке духовного стандарта римского общества, в своей любви к кесарям все ниже и ниже опускавшегося в бездну.
Как раз описание этого царства ночи, особенно после последних, светлых и ласковых деньков Золотого века, показалось мне весьма злободневной задачей.
Часть I. Бог, царь, герой
– Госпожа Ночь, позвольте задать вам вопрос?
– Сделайте одолжение…
– Куда бежать в случае опасности?
– Бежать некуда. Куда уж бежать?..
Моррис Метерлинк. Синяя птица
Если человек упорно отрицает совершенно явное… нелегко найти довод, которым можно было бы переубедить его.
Это происходит не от его силы или бессилия доказывающего.
Если человек окаменел во внушенном ему, на него невозможно воздействовать доводом.
Окаменение двояко: окаменение умственной способности и окаменение способности поддаваться воздействию, когда человек упрямо не желает ни признавать очевидное, ни отказываться от противоречий. Однако мы в большинстве своем страшимся телесного омертвения и на все готовы ради того, чтобы не оказаться в таком состоянии.
Что касается души – до ее омертвения нам нет никакого дела.
Эпиктет[2]
Глава 1
Из письма стихотворца, автора популярных комедий-мимов и эпиграмм, Постумия Тертулла, сосланного в Африку, Бебию Корнелию Лонгу Младшему, легату III Августова, Испытанной верности легиона:
«…возможно, мое повествование показалось тебе печальным, но, Бебий, не придавай значения словам погруженного в меланхолию поэта. Это всего лишь распевы чувств, а разум мой ясен и жив и, в отличие от прежних лет, ищет утешение в возвышенном. И, поверишь ли, находит!..
Пишу стихи. Хорошие, мне нравятся… Живу просто. Домик у меня уютный. Невелик, правда, размерами, а садик?..
Часто вспоминаю тебя и Лета. Теперь вы в больших чинах. Не с руки ли подсобить бывшему заговорщику, присягнувшему, как и вы, на верность Венере, вернуться в Рим? Не пора ли замолвить за меня словечко перед императором?»
Из письма Бебия Корнелия Лонга Младшего, легата III Августова, Испытанной верности легиона Тертуллу, стихотворцу, сосланному в Африку за участие в дерзком похищении рабыни Марции. Похищение затеял бывший хозяин Марции, Бебий Лонг Младший:
«…на шестнадцатый день до апрельских календ, в 933 году от основания Рима (17 марта 180 года), случилось страшное. Император Марк Аврелий Антонин скончался от моровой язвы (чумы), вновь посетившей северные провинции империи.
Все началось, как я тебе уже рассказывал, позапрошлым летом, когда император решил окончательно приструнить поднявших голову варваров[3].
Он прибыл в Сирмий, где на преторий был собраны все члены военного совета Северной армии. Должен признаться, что, увидев наконец императора, все мы были удручены случившейся с ним переменой.
Помнишь ли ты Марка? Конечно, помнишь, ведь с того несчастного дня, когда тебя, Тертулл, Лета и меня разослали в ссылку по разным провинциям, прошло всего семь лет. В ту пору величайший из цезарей представлялся долговязым цветущим мужчиной с хитринкой в глазах. Он был румян (в его-то годы!), без всяких видимых усилий справлялся с делами, власть держал крепко. На этот раз перед нами предстал глубокий, я бы сказал дряхлый, старик. Однако уже через несколько дней мы, его соратники, общаясь с ним запросто, как и прежде без проволочек, обнаружили, что если бремя забот действительно сумело обессилить его плоть, то с его духом оно ничего поделать не смогло. Марк был все так же бодр, разумен, прост. Был склонен к шутке. Только мысль о своем наследнике Коммоде омрачала его думы. Он не скрывал от нас тревоги.
Его, человека очень сведущего, тревожила память о тех, кто в молодости унаследовал царскую власть, – с одной стороны, о Дионисии, тиране сицилийском[4], который вследствие чрезмерной невоздержанности ценой огромных трат гонялся за неслыханными наслаждениями; с другой стороны, о бесчинствах и насилиях преемников Александра Македонского, которыми они опозорили его власть. Птолемей, как тебе известно, дошел до того, что в нарушение македонских и эллинских законов находился в любовной связи с собственной сестрой. Антигон, во всем подражавший Дионису, покрывал свою голову плющом вместо войлочной шляпы. Еще больше огорчали его события недавнего прошлого – дела Нерона, который дошел до матереубийства и сделал себя посмешищем в глазах народов, также наглые поступки Домициана, ничем не уступавшие проявлениям крайней свирепости.
Ночью я постарался в точности, как ты просил, записать его слова. Доверяю их тебе только потому, что знаю тебя, уверен в тебе, а также по совету (считай, разрешению) Публия Пертинакса, который одобрил твое решение изложить историю царствования Марка Аврелия, императора. Правда, он заметил, что начинать следует с деяний Траяна, основоположника династии Антонинов, лучшего из всех существовавших до него правителей и непревзойденного образца для всех последующих.
Итак, привожу слова Марка, относящиеся к молодому цезарю:
«Люди старшего возраста, получившие власть, вследствие опытности в делах владели собой и управляли подданными более заботливо; а совсем молодые, проведя жизнь беспечно, натворили много неслыханного. Как это и естественно при различии возрастов и неодинаковой склонности к произволу, образ действий был неодинаковым. Но, друзья, неужели философия – настолько пустяшная наука, что не в силах вразумить самого бестолкового человека!
Изложи ты ему самые основоположения, на которых строится жизнь, объясни, в чем его выгода, укажи на опасности, подстерегающие безграмотного в вопросах жизнеустройства человека, – и каждый из нас согласится, что жить по природе, по добродетели легче, приятней, выгодней, чем идти наперекор самому себе. По крайней мере единовластие, которое я оставляю своему сыну, будет обставлено рядом ограничений, следить за исполнением которых будете вы, мои ближайшие сподвижники. Надеюсь, вы поможете юнцу не допустить роковых ошибок».
Представь, как огорчились мы, услышав эти слова, заранее делавшие нас заложниками и препятствием на пути нового цезаря. Через несколько дней Пертинакс и Помпеян, нынешний наместник обеих Панноний, собрал нас, и там мы дали волю душившему нас страху. Ведь самый разумный из людей вдруг решил сделать из нас ягнят, которые указывали бы волку, какую добычу можно считать законной, а какую нет. Убеждать императора отказаться от этого намерения послали меня, чему, поверь, Тертулл, я вовсе не был рад, потому что в таком деле выигравших не бывает. Но я солдат, Тертулл, и обязан выполнять приказ. Я попросил спальника императора, Феодота, о личной и тайной аудиенции, которая была предоставлена мне в ту же ночь.
Император выслушал меня и с грустью заметил, что мы его не так поняли. Он и не собирался принимать никаких официальных мер – издания указов, утверждения тайных соглашений, назначения «друзей» царя[5], потому что прекрасно понимает, что после его смерти всем этим бумагам будет асс цена. Речь идет о нравственном влиянии на сына, на непоколебимой верности и мужественном гражданстве, которое обязывает римлянина всегда говорить правду, как бы горька она ни была.
Совсем не обязательно бунтовать, устраивать заговоры – важно, чтобы всем, кому дорога родина, составляли единое, обширное большинство, чье молчание всегда есть и будет куда красноречивее, чем выкрики безумцев, восторгающихся своей любовью к свободе. Главное, чтобы вы, Пертинакс, Клавдий Помпеян, Сальвий Юлиан, префект претория Таррутен Патерн, префект Рима Ауфидий Викторин, наместники Септимий Север, Клодий Альбин и, конечно, мои сторонники в сенате не перегрызлись между собой, ведь на вас будут смотреть армия, сенат, плебс, чиновничество.
После некоторых раздумий нас поразила дальновидность императора, ибо только в согласии мы сможем сохранить все, что было завоевано во времена Марка. Пертинакс заметил, что только от нас зависит, сумеем ли мы пережить трудные времена. Каждый из нас вполне понимал трудность задачи, а я, признаюсь, содрогнулся, почувствовав ее невыполнимость. У меня на плечах семья, мой легион, и, если даже слова «родина», «истина», «добродетель» – для меня не пустой звук, все равно мысль Марка витала слишком высоко в облаках и весила неподъемно тяжко для простого человека.
Теперь плачь, Тертулл, трудные времена наступили. Марка больше нет с нами.
Поверь, Тертулл, я никогда не забывал, что своей незавидной участью ты во многом обязан мне и своей, пусть и немного детской, жажде справедливости. Я сделаю все, что могу, но в нынешних обстоятельствах твое ходатайство будет отложено в долгий ящик. Поверь моему опыту, такое положение долго продолжаться не может. При первом же удобном случае я замолвлю о тебе слово.
Письмо отправляю с нарочным, спешащим в Африку с государственной почтой. Человек этот из моего легиона, надежен и проверен. Письмо он вручит тебе из рук в руки наедине».
На девятый после окончания похоронных церемоний день, после поминок и перед раздачей денежных подарков легионерам, скорбящий сын по совету назначенных ему отцом наставников выступил перед войском, собранным возле Виндобоны (Вены) для похода к Свевскому (Балтийскому) морю и исполнения задуманного Марком Аврелием Антонином плана организации двух новых провинций.
День с утра выдался пасмурный, но небеса поостереглись мешать жертвоприношению наследника проливным дождем. Слезы небожителей расплескались легкой невесомой изморосью, которая с полудня сыпалась из низких туч. После полудня солдаты и горожане Виндобоны и всех прилегающих поселений собрались на обширной луговине, где был выстроен помост. Легионерам заранее было роздано жалованье за первую треть года, и все равно пьяных было мало. Плачущих много, угрюмых много, сквернословия и дерзостей не было вовсе. Все ждали выхода наследника и раздачи денег по случаю вступления нового принцепса в должность.
Он появился на закате. В тот самый момент в разрыв туч вывалилось по-весеннему блеклое, еще не набравшее летней силы солнце. Легкие облачка то и дело затмевали лик дневного светила – тогда по земле пробегали легкие тени. В один из таких моментов Луций Аврелий Коммод и выступил вперед. Был он в полной воинской форме, пурпурный императорский плащ покрывал его плечи. Грудь защищал давленный, украшенный гравировкой панцирь, из-под которого выглядывала воинская юбка. На голенях – поножи, на ступнях – легкие калиги[6].
Император поднял руку и громко возвестил:
– Приветствую вас, сограждане! Верю, у нас общая скорбь!
Многоголосая толпа вмиг примолкла. Расставленным между рядами для наведения порядка преторианцам не пришлось пускать в ход выданные для соблюдения всех правил церемонии палки. Тишина установилась такая, что слышно было, как скрипит проезжавшая неподалеку повозка.
Коммод ткнул в ту сторону указательным пальцем. Крайний в ряду сингуляриев, выстроенных у помоста, тотчас развернул коня и галопом помчался в направлении повозки. Сбросил наземь возницу.
Молодой император одобрительно кивнул и продолжил, обращаясь к солдатам:
– Уверен, что вы не меньше моего страдаете из-за постигшего всех нас горя. При жизни отца я не требовал для себя никакого преимущества перед вами. Он любил вас всех, все мы были его детьми. С бо́льшей радостью он называл меня соратником, чем сыном; второе, по его мнению, означало общность природную, а первое – общность доблести. Держа меня на руках, он часто препоручал меня, еще младенца, вашей верности. Поэтому я вправе полагать, что мне будет легко пользоваться вашим расположением, так как со стороны старших это по отношению ко мне долг пестунов, а сверстников я справедливо назвал соучениками в военных делах; ведь отец любил нас всех как одного и воспитывал нас во всякой доблести.
Теперь судьба дала вам государем меня.
Вспомните, что я не со стороны пришел сюда, на подиум, как некоторые из тех, кто до меня гордился властью. Нет, я единственный из вас был зачат в императорском дворце, и императорская порфира приняла меня, никогда не знавшего обыкновенных пеленок, сразу по выходе из материнского чрева. Солнце увидело меня одновременно и человеком, и государем. Принимая все это во внимание, было бы естественно, если вы сразу полюбите не дарованного вам, а урожденного, полноправного императора. Отец, вознесшись на небо, теперь является спутником богов и участником их советов. Успешно же завершать и упрочивать его план – ваше дело. Если вы со всяческим мужеством закончите войну и продвинете Римскую державу до Океана, это принесет вам славу, тем самым вы воздадите достойную благодарность памяти общего отца. Нашей молодости вы придадите достоинство благодаря доблести ваших дел. Варвары же, обузданные в самом начале молодого правления, и в настоящее время не дерзнут презирать наш возраст и впредь будут испытывать страх, опасаясь того, что они уже испытали.
После чего Луций Коммод приказал приступить к донативам – денежным раздачам. Они оказались на удивление щедрыми, чем молодой цезарь вконец расположил к себе войско.
Тем же вечером Коммод, вернувшись в Виндобону, в походный дворец отца, отказался участвовать в обсуждении плана дальнейшего наступления на север, которое было разработано Марком на зимних преториях. В ответ на просьбу своего зятя Помпеяна, которого Коммод с детства привык называть дядюшкой, император зевнул и сказал:
– Обсудите без меня. Чем я, человек, неопытный в военных делах, могу помочь вам. Ты, дядюшка, утром доложишь, как идет подготовка к походу.
– Прости, Луций, но мы не вправе решать наисложнейшие вопросы в отсутствие цезаря.
– Вправе, – перебил его Коммод. – Я доверяю вашей мудрости и опыту. Мне надо разобрать почту. Подданные Рима не должны подолгу ждать распоряжений правителя. Ступай.
– Слушаюсь, цезарь.
Некоторое время молодой человек оставался в атриуме один. Обошел водоем-имплювий, куда во время дождей собиралась вода с покатой внутрь двора крыши. В прогале были видны тучи, второй день висевшие над этой поганой Виндобоной. Ночью пойдет дождь, в доме опять станет мерзко, зябко и уныло. Разве это логово можно назвать жилищем, подобающим тому, кому судьба вручила судьбу империи?
Судьбу, а не решение каких-то частных вопросов, связанных с подвозом продовольствия для легионов, поиском дезертиров, беглых рабов, ссорами из-за наследства, из-за земли и другой собственности. Отец любил заниматься этой мелочовкой. Он не понимал, что в то время, как он решал одну или несколько единичных судеб, вся остальная часть империи оставалась без надзора. Оно, может, и к лучшему, ведь все должно свершаться по принуждению… как его… мирового разума, а также по воле конкретных людишек, приставленных к той или иной области управления империей. Его предназначение – следить, чтобы механизм работал бесперебойно, наказывать провинившихся и награждать усердных. Но этого можно добиться только в том случае, если сам принцепс, а если точнее, царь, – будет находиться в добром расположении духа. Ничто не должно давать ему повода для раздражения, гнева, излишнего колебания… как ее… пневмы.
Разве не так?
Эти мысли несколько приободрили его, и он наконец решился войти в кабинет отца. Теперь, выходит, в собственный кабинет?..
Он на мгновение замер. Что-то действительно кувырнулось в этом мире, если место, которое он более всего ненавидел, вдруг превратилось в его рабочее место. С раннего детства помещение, где обычно отец вершил государственные дела, вызывало у него жуткий страх. Где бы ни жила императорская семья, везде существовал сей Аид, или, как его называли придворные, «таблиний», куда его таскали за любую детскую шалость, за любую провинность. Неважно, где он был расположен – в просторном ли зале во дворце Тиберия в Риме, на их вилле в Пренесте, или, как здесь, в Виндобоне, в тесноватом, открытом с двух сторон помещении, по бокам которого располагались проходы, ведущие из атриума на задний двор-перистиль.
Сколько Коммод помнил себя, столько и трепетал от страха. До отвращения выпукло вспомнилось, как отец, оторвавшись от свитка или бумаг, внимательно выслушивал жалобу воспитателя, затем объяснения самого маленького Луция Коммода. Тот, шмыгая носом, сначала дерзил, затем после увещеваний начинал каяться, просить прощения.
Его прощали, но только после того, как дядька, затем специальный раб бил его гибким прутом по заднице. В более зрелом возрасте дело ограничивалось выговором, предупреждением, и все равно одна только рожа этого мерзкого Феодота, его слова: «Цезарь, отец просит вас в “таблиний”, – рождали у наследника озноб и испарину. Словесные же увещевания императора или, что случалось чаще, предостережения вести себя достойно, не передразнивать взрослых, не показывать язык в окно всякому встречному и поперечному, не выть по ночам в компании таких же сорванцов под окнами у достойных граждан, не наряжаться женщиной, тем более наездником на колесницах или гладиатором, не буйствовать, не гонять гражданок на улицах Рима, не улюлюкать им вслед – вызывали броскую красноту на лице. Отец полагал эту пунцовость признаком раскаяния, а Коммод просто злился на себя, ненавидел себя за то, что не обладает римской непоколебимостью и мужеством, чтобы показать отцу язык.
Воспоминания детства добавили молодому императору доблести – он приказал принести свет, затем принял из рук раба масляную лампу и решительно вошел в таблиний.
Здесь стояло несколько столов, стульев. Он медленно прошелся вдоль капитальной стены, возле которой располагались шкафы со свитками, книгами, писчими принадлежностями, перебрал нарезанную листами чистую бумагу – от прикосновения к запылившимся листам испытал омерзение и вытер руку о курчавую голову раба. Постоял возле кресла, в котором работал Марк, – сесть не решился, да и незачем, наказания можно распределять и лежа на удобном ложе. Дело нехитрое. Затем подошел к обширному столу, измерил взглядом гору бумаг – свитков с печатями, нераспечатанных посланий, накопившихся за время болезни и после смерти отца. Эта гора привела его в замешательство – он на мгновение впал в оцепенение, потом решительно заявил про себя и себе: «Завтра, завтра!..»
Справившись с прошибшей его испариной, Коммод припомнил, что какое-то важное дело не давало ему покоя с самого утра. Была какая-то мыслишка, какую он дал обет исполнить в первую очередь, без чего он не сможет заснуть до утра. И вот на тебе – забыл! Охрана? Нет. Какие-то распоряжения по армии, по государству, по личному составу. Вот-вот – по личному составу. Только не по составу, а по штату.
Вспомнил!
Тут же отыскал на столе колокольчик, позвонил в него, и в таблиний заглянул старик, спальник прежнего императора Феодот, за ним секретарь Марка Аврелия Александр Платоник.
Первым император обратился в Феодоту:
– Раб, – спросил он, – ты получил вольную?
– Да, господин, – Феодот низко поклонился.
– И наградные?
Феодот поклонился еще раз.
– Ты доволен?
Еще поклон.
– Тогда чтобы через два часа духа твоего в доме не было!
Феодот с поклоном начал отступать.
– Подожди.
– Да, господин.
– Кто еще получил свободу?
Старик перечислил.
– А Клеандр?
– Он же приписан к вашей милости.
– Хорошо. Уходи и напоследок позови сюда Клеандра.
Когда спальник удалился, Коммод обратился к секретарю Марка Аврелия:
– Есть какие-нибудь неотложные дела?
– Касающиеся чего, господин?
– Касающиеся меня. Какие-нибудь распоряжения отца, выражения недовольства, доносы на злоумышляющих на мою власть.
– Что вы, господин! Римский народ в подавляющем большинстве возлагает на вас великие надежды. Позволите быть откровенным, господин?
– Да.
– Я тоже.
Он сделал паузу. Коммод неожиданно почувствовал, как прежнее напряжение, придавившее его при входе в таблиний, отступило. Он повел себя вольнее, расправил плечи, решился наконец взять в руки верхний из наваленных на столе свитков. В этот момент Александр Платоник подал голос:
– Общее мнение императорского окружения в широком смысле этого слова, высших сословий, плебса, армии и провинциалов можно выразить одной фразой: лучшего нам не надо, пусть все остается по-прежнему.
– Ты хочешь сказать, что, если я сумею сохранить то, что создал отец, от меня более ничего не потребуется?
– Примерно так. Но это нелегко, господин.
– Без тебя знаю. Пока останешься при мне. Поможешь разобраться с этим… – он кивнул на гору присланных со всех концов империи бумаг.
– Почту за великую честь.
– Ступай.
Клеандр – молодой, прекрасно сложенный раб, разве что неумеренно упитанный, одногодок нового правителя – появился сразу, как только укутанный в тогу Александр вышел из таблиния. Коммод было сделал поспешный шаг в сторону атриума, более ему трудно было оставаться в этом пыльном, темном месте, но появление раба вернуло ему уже обретенную уверенность. С чарами прошлого следует расправляться безжалостно и сразу. Не оставлять на потом.
Между тем Клеандр выжидательно посматривал на Коммода – точно так, как в детстве, когда они играли в орехи.
– Теперь ты главный спальник. Служи верно, дошло?
Клеандр кивнул.
– А теперь я хочу спать. И женщину!
Глава 2
Утром, гневно глянув на доставленную ему Клеандром красотку, Луций пинками прогнал ее с кровати, велел убираться на кухню. Негодование душило его – Клеандр всегда отличался ленностью и туповатостью, но чтобы вновь прислать ему на ночь повариху из обслуги, это было чересчур.
Первым желанием императора было достойно наказать нерадивого раба. Мало того, что кухарке Клиобеле уже за тридцать и от нее пахло чесноком, к тому же сам Клеандр не брезговал ее прелестями, пусть даже было в них что-то шикарное и величественное. Всего в поварихе было вдосталь, особенно велики были грудь и бедра.
Луций задумался:
«Может, кишки спальнику выпустить? Или женить на этой поварихе и сослать куда-нибудь подальше?.. Например, в Испанию. Раздеть, привязать лицом друг к другу и в подобном положении везти до самой оконечности Иберийского полуострова. Конечно, кормить при этом и пищу давать поострее, чтобы им постоянно хотелось друг друга. Интересно, насколько у Клеандра хватит сил?»
Он вздохнул. Мечта была увлекающа, однако стоило на мгновение представить, как вытянутся лица назначенных ему в советники вояк, сенаторов, вольноотпущенников отца, когда они узнают о решении принцепса, как они начнут отговаривать его от этой затеи, увлекательная фантазия сразу угасла. Они не понимают шуток.
Вновь стало скучно.
Император позвонил в колокольчик. В спальню вошел Клеандр. Лицо округлое, смотрит лениво, тупо. Что взять с придурка! Волосы у него были на загляденье – мягкие, длинные, завивающиеся в локоны. Руки о них вытирать – одно удовольствие.
– Клеандр, – сурово спросил император, – зачем ты мне всяких старух подсовываешь? К тому же своих полюбовниц. Я же тебя месяц назад, в день великого Юпитера Капитолийского, предупреждал, что я больше не хочу видеть Клиобелу. Нет, что ли, помоложе?
– Нет, господин. Вы же знаете, ваш батюшка был прост. Он даже Либию, свою наложницу, отослал из Виндобоны. Наградил ее и посоветовал счастливо устроить личную жизнь.
– Да, батюшка был излишне щедр. Что у нас сегодня на завтрак? Опять все вареное?
– Да, господин. Я здесь ни при чем, Феодот – управитель.
– Феодота уже нет. Чтобы сегодня была жареная дичь.
– Где же я возьму ее, господин?! – схватился за голову спальник. – Легионеры повыбили всю дичь в округе, а та, что в лавках, несвежа. Легионерам хорошо! Каждый день жируют, то кабана зажарят, то похлебку из окороков оленя наварят. А мы, цезарь и август, повелитель всего света, все на каше пробавляемся, лук с чесноком лопаем, как будто мы и не император вовсе. Доколе, о повелитель, мы будем пить мерзлую, выкопанную из-под земли воду? Доколе, господин, нам тешиться прелестями Клиобелы? В столице сейчас весна. Гражданки сняли зимние плащи, кое-кто и плечи обнажил, да только не про нашу честь эти плечи и все, что расположено ниже… А рыбка, отлавливаемая в Тибре, в море… Краснобородка, щучка, мурена или устрицы…
– Заткнись!.. – не выдержал Коммод. – Нас ждет поход на север.
– Что мы в тех краях не видали, господин? – продолжал стенать Клеандр. – Что там, золота много или других каких припасов? Кто-нибудь в тех диких местах сумеет приготовить угря или змею так, что пальчики оближешь? Кто-нибудь угостит языками фламинго или печенью свиньи, откормленной плодами смоковницы? Вот удовольствие – месить снег и пить ледяную воду. Для этого есть те, кому за это жалованье платят.
– Ты глуп и не понимаешь.
– Куда уж нам! Только я вот как думаю – принцепс для того и принцепс, чтобы сверху надзирать, а не в палатке мерзнуть.
– Я тебя предупредил – заткнись…
– Все, заткнулся, – охотно согласился Клеандр.
После недолгой паузы он обиженным голосом выговорил:
– Заткнуться проще простого, а вот услужить господину – это не каждому по плечу. Зря вы меня обижаете, господин. Есть здесь один «огурчик», слаще не бывает, лет шестнадцать на вид. Дочь ветерана по имени Кокцея. Из нищих, хотя земли им после увольнения отмерили полной мерой, югеров пятьдесят. Ветеран прошлым годом помер, остались этот самый «огурчик» и старший сын Матерн, который служит в первой Ульпиевой але контариоров. Этот Матерн считается одним из лучших охотников, тем и откупается от своего центуриона и префекта. Говорят, не дурак и скоро выбьется в центурионы.
– Ну, выбьется или нет, это мы еще посмотрим. Как бы взглянуть на «огурчик»?
– Только прикажите, мы ее в лучшем виде доставим. Правда, говорят, дика, просто Диана. С братом, случается, на охоту выезжает.
– На охоту, говоришь, выезжает… Это интересно. Это хорошая мысль, Клеандр. Я и сам не прочь поохотиться.
– Но, господин, на сегодня назначен военный совет. Вот и гонец из претория в прихожей сидит.
Коммод вздохнул:
– Что за напасть – быть императором! Столько умных голов, а ничего без меня решить не могут. Передай гонцу, я себя плохо чувствую. У меня хандра, мне надо развеяться, а они пусть решают.
Он помедлил, потом повысил голос:
– И больше не сметь мне свою повариху подсовывать! А не то сошлю вас обоих в Испанию. Прикажу раздеть, привязать друг к дружке, так и повезут на телеге до самого Олисипо. Дошло, тупица?
– Обязательно, господин. Будет исполнено, господин.
Приключение обещало быть интересным, однако, размышляя о том, как бы ловчее устроить дельце, Луций Коммод поостерегся сразу распорядиться, чтобы верные люди тайно извлекли Кокцею из недр семейства и приволокли, связанную, к нему в опочивальню. «Друзья» отца сразу поднимут гвалт – и справедливо! Стоит ли злить легионеров в преддверии трудного похода? К тому же было в похищении что-то плебейски-гнусное, недостойное повелителя мира. Не было в подобной грубости божественного отсвета, какой, например, всегда присутствовал в похождениях самого Зевса. То прольется на Данаю золотым дождем. На самый животик, потом капля за каплей стечет в заветную промежность, заронит семя в самую щелочку. А то обернется быком и умыкнет в Европу или, например, нарядится лебедем и приголубит Леду.
Вот с кого следует брать пример.
Вспомнилась мать Фаустина. В самый разгар мятежа наместника Сирии Авидия Кассия она напомнила растерявшемуся Луцию, что если его отца, императора Марка Аврелия, считают кем-то вроде небожителя, посланного на землю для исправления нравов и привлечения людей к добродетели, то его сын тоже в какой-то мере может считаться принадлежащим к породе тех, кто восседает на олимпе.
– Твоя обязанность, Луций, – объяснила она сыну, – всегда помнить о своем происхождении, о том, что в тебе тоже есть частичка небесного огня. Твоя задача – выявить, в чем именно проявляется твоя подлинная сущность, и править в соответствии с этой искрой, разжигая ее в себе до размеров всепожирающего пламени, а ты струсил при одном известии о дерзости какого-то Авидия. Больше не трусь, – приказала мать.
Коммод нахмурился и буркнул:
– Не буду.
Тем же утром в преторий был послан гонец. Вернулся он после полудня и сообщил, что брата «огурчика» в отряде нет – он получил увольнительную и, по сведениям декуриона второй турмы, где служил Матерн, находится в своем домике в пригороде Виндобоны.
– Тем лучше, – заявил Коммод и приказал Клеандру подготовить коня и предупредить Вирдумария, бывшего тело хранителя отца (единственного из окружения Марка Аврелия, кого новый принцепс оставил возле себя), чтобы тот был готов сопровождать его в поездке. Приказал также отыскать проводника к дому Матерна.
Клеандр схватился за голову – столько распоряжений и все срочные. Когда успеть, если и хозяйство на нем, и кухня на нем, и рабы на нем. Коммод показал рабу кулак и внятно выговорил:
– Не теряй времени.
На счастье, в Виндобоне оказался Тигидий Переннис, префект Ульпиевой алы, утром по требованию наместника обеих Панноний Клавдия Помпеяна, зятя нового императора, прибывший в город. Срочно вызванный в город, Переннис был немедленно препровожден к цезарю. Пока шел, удивлялся суете и возбуждению, охватившим обитателей императорского походного дворца, представлявшего собой среднюю по размерам виллу, примыкавшую к южной оконечности крепости и тоже окруженную стенами и наполненным водой рвом. Глядя на спешащих рабов и вольноотпущенников, Тигидий решил, что в ставке наконец приняли решение о начале летней кампании, о продвижении легионов на север, к Океану, в связи с чем его отряду предстояло выполнить какое-то секретное и, по-видимому, необычайно трудное задание. Догадка встревожила префекта – после пятнадцати лет беспорочной и мало успешной службы очень не хотелось рисковать. Хотелось домой, в Италию, хотелось дослужиться до наместника провинции или хотя бы квестора в каком-нибудь богатом городе. Переннис по опыту знал: всякое тайное задание сопряжено с неисчислимыми опасностями, а выполнишь его – тебя похвалят, ну, может, наградят лавровым венком, и кончено. И то, если похвалят!
Император встретил его в атриуме и, не скрывая нетерпения, спросил, знает ли Переннис дорогу к домику Матерна. Префект опешил, однако сумел скрыть растерянность и подтвердил, что дорогу знает. Это, объяснил он, с восточной стороны, сразу за крепостной стеной, рядом с амфитеатром, предназначенным для гражданского населения городка.
– Проводишь. Будешь награжден.
Последняя фраза вконец сразила опытного служаку. Награжден за что?
К дому Матерна двинулись верхами. По дороге Переннис лихорадочно прикидывал, в чем смысл этого странного приказа и какая военная необходимость погнала молодого цезаря в гости к этому забияке и нарушителю дисциплины? Войска со дня на день ждали приказа к выступлению. Неужели преторий решил послать этого ушлого Матерна в тыл врага? Тогда зачем принцепс решил открыто встретиться с Матерном и тем самым привлечь к нему внимание соглядатаев варваров? Или, может, этот бандит успел обратить на себя внимание Коммода и попасть в любимчики? Как иначе расценить намерение императора посетить дерзкого в собственном доме? Но когда, каким образом этот разбойник сумел привлечь взгляд принцепса?! На душе стало тревожно: если Матерн пойдет в гору, сможет ли он, Переннис, усидеть на месте командира отдельной алы? Держи ухо востро, предупредил себя Переннис. Сейчас, когда молодой цезарь «дурит», самое время перескочить из солдатской палатки да в сенат. Как говорят в Риме, из ослов да в кони. В первые дни правления это случается сплошь и рядом.
Император с сопровождавшими его Переннисом и Вирдумарием спешились у ворот усадьбы. Взволнованный Матерн встретил незваных гостей, провел в дом.
Усадьба была устроена по местным – варварским – обычаям. Небольшая, вытянутая в длину деревянная вилла располагалась в глубине поместья, поблизости от небольшой, но очень живописной дубравы. Строение в один этаж, выложено из бревен. Поперечной, тоже бревенчатой стеной – торцы бревен выступали наружу – жилище было разделено на две половины. Сзади к дому примыкало подворье, тоже окруженное высокой бревенчатой стеной. Никаких колонн, портиков, барельефов, никаких куртин или скульптур в дубраве, никаких пропилеев, аркад или искусственных водоемов.
Первым делом император выразил желание осмотреть хозяйство. На подворье были устроены конюшня, коровник, птичник, хлев, примыкавшие к стене, все под жердяными навесами. Домашняя живность – куры, гуси, утки – разгуливала по двору, две свиньи с выводками хлебали воду из огромного, вырубленного из цельного ствола дуба корыта. Мать Матерна, резво поцеловавшая руку молодого правителя и почти вприпрыжку семенившая сзади, без конца поминала прежнего императора, «отца родного», «спасителя и защитника». Молоденькая девушка, выйдя из дома, стараясь не глядеть на гостя, молча вывалила в соседнее деревянное корыто хлебово для свиней. Те подняли такой гвалт, что император поморщился, отпихнул бросившуюся ему под ноги курицу, однако «огурчик» показался ему забавным. Потупилась, порозовела… Кокцея была невысока, стройна, голова не покрыта, золотая коса спускалась до пояса. Личико премиленькое, с дерзинкой в глазах. Впрочем, подобная строптивость жила и во взгляде ее брата.
Затем гости осмотрели дубраву. Буколический пейзаж пришелся по душе молодому цезарю. Рядом был родник, ручейком сбегавший к Данувию, туда выходили зады поместья. Вернувшись в дом, на «белую половину», император пролил капельку вина у бюста незабвенного Марка Аврелия, установленного в сакрарии, где хранились также изображения домашних богов и основателя рода Тимофея Матерна, после чего, расположившись на вполне простонародной лавке, поинтересовался насчет охоты.
Матерн, до той поры испытывавший некоторую растерянность – посматривая на гостей, он часто помаргивал, словно хотел убедиться, что это не сон, – просиял и объяснил, что как раз сегодня собирался в лес. Декурион дал ему два дня, чтобы снабдить турму мясом.
Перевел дух и Переннис, до того момента вообще ни разу не раскрывший рта. Его не спрашивали, он и помалкивал. Теперь все вроде объяснилось, да, видимо, не все. Префект, не тративший времени на разглядывание свиней, первым обратил внимание на оценивающий, брошенный мельком взгляд цезаря, когда Кокцея, прелестно изогнувшись, вывалила из деревянного ведра еду для хрюшек. Уж не сердечными ли делами объясняется неожиданная простота и поспешность правителя? Опыт подсказал – держи язык за зубами, по крайней мере до того момента, пока окончательно не уверишься, что ты прав. Сердце забилось сильно. Переннис едва сумел сдержать дыхание. Если угадал, значит, фортуна где-то рядом. Это был шанс, о котором он, отслуживший пятнадцать лет, где только не побывавший – в Африке, в Галлии, в Каппадокии – и до сих дослужившийся всего лишь до командира конного отряда, мог только мечтать. Родом Переннис был из Пармы, из худого, обветшавшего рода италиков, и рассчитывать на блестящую воинскую карьеру при сложившихся в армии порядках не мог.
Император отменил завтрашнюю охоту и предложил немедленно, сразу после полудня, отправиться в лес:
– Сумеем отыскать добычу? – спросил он.
Застигнутый врасплох юноша ответил не сразу, затем предложил принцепсу присесть, отведать скромное угощение – холодного жареного зайца, местного вина. Император не отказался – умял зайца, запил вином. На вопрос, не желает ли господин еще чего-нибудь, ответил: не откажусь. Мать Матерна тут же послала дочь зажарить домашних голубей. Луций Коммод, юноша видный, златовласый, высокий, на вопрос Кокцеи, сколько птиц жарить, ответил: чем больше, тем лучше.
Матерн было отважился напомнить, что с набитым брюхом на охоту не ходят, на что император веско ответил, что к сыну божественного Марка это не относится, так как он находится в родстве с небожителями, а они не дадут его в обиду. Сказал в шутку, однако старушка вновь расплакалась. Ждать голубей пришлось недолго. Когда приодевшаяся, убравшая волосы под покрывалом Кокцея принесла блюдо с дичью, они все вновь помянули прежнего правителя – пусть небеса ему будут пухом. Во время трапезы Матерн, невысокий, но по виду очень сильный и ловкий парень, объяснил цезарю, что можно поспеть к вечерней зорьке на озера, пострелять уток, а если повезет, выследить у водопоя кабанью семейку, которую еще с зимы присмотрел для себя. Только надо спешить и подготовить все необходимое.
Луций тут же поднялся и направился к выходу.
Первым делом Матерн осмотрел оружие, припасенное Вирдумарием для охоты, поделился луком со стрелами с префектом, выразившим желание принять участие в забаве. В пути, освоившись, он позволил себе выразить сомнение в готовности своих напарников ходить тихо, сидеть молча, стрелять метко, ведь, насколько он слышал, «в Риме не очень-то жалуют охоту». Им больше по сердцу зрелище убиваемых на арене амфитеатров зверей, а также бои между людьми.
Коммод успокоил его:
– Все, что требует воинского умения, ловкости и меткости, римлянам по сердцу.
Матерн позволил себе усмехнуться, что тотчас заметил префект. Он все мотал на ус, ждал развязки.
Первым удивил Матерна Вирдумарий, сбивший на лету чирка, опускавшегося на тихую, скрытую в камышах заводь. Затем сам император отличным выстрелом добыл журавля и продемонстрировал, что в Риме не перевелись меткие стрелки. Охотники набили уток, взяли гуся и двух лебедей, после чего разгоряченный император потребовал кабана. Верхом отправились в болотистое редколесье, где в широких прогалах между деревьями открывалось раздольное течение великой реки. Повезло и на этот раз – пес Матерна взял след, скоро конные охотники спугнули кабанью семейку, вышедшую на водопой, и погнали зверей по редколесью. Луций Коммод, догнавший матерого самца, с ходу вонзил ему в холку боевой дротик. Вторую свинью он добыл, метнув следующий дротик. Бросок был на загляденье.
После удачной охоты уже в темных и мрачных сумерках, с ног до головы промокшие, грязные, они вернулись в Виндобону, в походный дворец. Цезарь приказал устроить баню, а за то время, пока они будут смывать грязь, пусть Клеандр распорядится освежевать, опалить и зажарить кабана, а также ощипать и приготовить лебедей и журавля по-этрусски, а гуся и диких уток – по-римски, с яблоками. Затем, уже устроившись в помещении для массажа, Коммод скептически поморщился и предупредил распорядителя:
– Только не вздумай поручать дичь Клиобеле – испортит добычу. Только ощипать. Она, кроме каш и похлебки, ничего готовить не умеет. И еще храпеть как сирена.
В этот момент Тигидий Переннис, до той поры на вопросы принцепса отвечавший кратко – да, нет, так точно, – решил рискнуть. Долго выбирал момент, все робел вставить слово, а тут словно пронзило – пора.
– Поверь, цезарь, – уверенно заявил префект, – я много чего едал в жизни, однако таких голубей, какими нас сегодня угощали в доме уважаемого Матерна, мне лакомиться не до водилось. У тебя превосходный повар, Матерн, – обратился он к охотнику. – Уступил бы мне его?
Матерн, окончательно разомлевший от ловких рук обнаженной массажистки, обильно смазывавшей маслом его спину, повернулся набок и признался:
– Командир, откуда у бедного солдата повар! Голубей приготовила Кокцея, она на всякую пищу мастерица.
– Вот и пригласил бы ее во дворец, – мечтательно предложил Переннис. – Пусть сегодняшний день, так счастливо начавшийся, так же счастливо и закончится.
Матерн смутился, а император как ни в чем не бывало, поддержал префекта:
– Это хорошая мысль, Переннис. Действительно, Матерн, не в службу, а в дружбу, почему бы Кокцее не продемонстрировать еще раз свое искусство?
– Но как она попадет во дворец?
– Мы пошлем за ней Вирдумария с носилками. Он передаст мою просьбу и твое согласие, а я щедро награжу тебя за сегодняшний день. Ты верный товарищ, Матерн. Я смотрю, на тебя можно положиться. К тому же ты прекрасно сложен, в самом соку.
– Соглашайся, приятель, – подхватил Переннис. – Тебе и твоему семейству выпала редкая удача услужить сыну божественного Марка Аврелия. Просьба цезаря – приказ для подданных, учти это, Матерн.
– Ну, зачем так официально? – потянувшись, возразил император. – Мы же здесь все друзья.
Матерн открыл рот и машинально кивнул.
После бани, разнежившей и окончательно оформившей аппетит в некую мечту о необыкновенном, неслыханном наслаждении, которое ожидало их в столовой-триклинии, Коммод повелел насытить помещение для еды самыми изысканными ароматами, на что Клеандр, потупив голову, не скрывая страха, сообщил, что в вестибюле господина ждет гонец из претория. Дело, заявил гонец, спешное и откладыванию не подлежит.
Коммод поморщился, затем махнул рукой – зови.
Гонец – солдат преторианской когорты, в полном боевом облачении, с фалерами на чешуйчатом панцире, – погромыхивая и позванивая металлом, вошел в предбанник, вскинул руку в приветствии:
– Аве, цезарь! Привет от Тиберия Клавдия Помпеяна, наместника и легата. Он приказал сообщить тебе, что легионы рвутся в бой. Они готовы выступить в поход.
– Я рад, – равнодушно ответил цезарь. – Что еще?
– Только что на наш берег переправились послы от квадов, буров и маркоманов. Они требуют немедленной встречи с тобой, цезарь.
– Требуют?! – воскликнул Коммод. – Как они осмелились!.. Ладно, продолжай, чего же они требуют?
– Мира, цезарь. Они хотят мира. Наместник просил передать, что, скорее всего, это хитрая уловка с целью оттянуть начало похода. Он умоляет цезаря проявить осторожность.
Коммод по привычке подергал пальцы (указательный, на радость императору, хрустнул), прикинул: может, в самом деле встретиться с посланцами варваров, иначе сюда, во дворец, нагрянут муж старшей сестры Помпеян, Пертинакс, Сальвий Юлиан и прочие отцы-сенаторы, так называемый узкий круг назначенных отцом «друзей цезаря», в который входят два десятка человек. Все они начнут слезливо увещевать юношу «проявить благоразумие», «вспомнить о государстве, ведь salus reipublicae – suprema lex»[7], примутся взывать к завету отца «не откладывать на завтра то, что следует сделать сегодня». Ночь будет испорчена. Ни поесть, ни возлечь с Кокцеей не удастся. Он глянул на посыльного.
– Хорошо, ступай. Я встречусь с варварами.
Когда преторианец вышел, правитель перевел взгляд на отдыхавшего рядом Перенниса.
– Тигидий, сколько лет ты уже ходишь в префектах?
– Девятый пошел, господин, – с полупоклоном ответил тот.
– Не пора ли в легаты?
– Как будет угодно господину.
– Тогда прими послов и расспроси их подробно, что им надобно, после чего доложишь мне. В удобное время…
– Так точно, господин.
– Когда закончишь с варварами, присоединяйся к нам в триклинии. А ты неплохо владеешь луком, Переннис. Как насчет личного оружия?
– В меру способностей, господин.
– Ну-ну, не прибедняйся. Наверное, научился на Востоке всяким ловким приемчикам? Наверное, в армии никто лучше тебя не владеет мечом?
Переннис пожал плечами. Император запросто, с некоторой даже игривостью, ткнул префекта кулаком в ребра:
– Ты скромен, Тигидий.
– В подобных вопросах лучше проявить скромность, чем нарваться на истинного мастера.
– Кого же ты считаешь настоящим мастером?
– Бебия Лонга Младшего, господин, легата III легиона.
– А еще?
– Легата Квинта Эмилия Лета.
– А еще?
– Сына главнокомандующего Валерия Юлиана.
– Хорошо, ступай.
Мысль о том, что он ступил на скользкую дорожку, недолго томила Перенниса. Он сразу отогнал от себя жуткие видения – разгневанного подобным дерзким нарушением субординации Пертинакса, недовольного Помпеяна. Придавил страх, который ожег его, как только вообразил изумленные и, следовательно, завистливые взгляды старших и равных по чину сослуживцев. Пустое, твердо решил Переннис, грязные слухи всегда сопутствуют удаче. Фортуна распростерла ему объятия, и отступить, тем более отказаться от навязываемых полномочий преступно и глупо. Так называемые боевые товарищи пусть болтают что угодно.
Пока шел за необыкновенно низкорослым, кривоногим уродцем-рабом, беспокоился о другом: взлететь-то он взлетел, надолго ли? Как бы после бани в карцер не угодить? Завтра в строй вступят могучие осадные орудия – тот же Пертинакс, Помпеян, Сальвий. Не отступится ли от него этот молокосос, одним распоряжением нарушивший – что там нарушивший, – сломавший весь привычный порядок подчинения, каким жили Северная армия и весь Рим в последние годы?
Прикинул так и этак.
Жили неплохо, сытно. Закон торжествовал, добродетель царила. Во всем чувствовалась забота прежнего цезаря о благоденствии подданных. Что уж говорить об армии, в которой младшие охотно повиновались старшим, и все вслед за «философом» горели стремлением скорее добраться до Океана и водрузить на его заснеженных берегах легионных орлов. Одна беда – душно было ему, Переннису, в этом непорочном, чересчур обремененном исполнением долга Риме.
Тесно.
Теперь alia tempora – времена переменились. «Философа» нет, сынок решил вести дело по-своему – что ж, обычное дело для тех, кого боги награждают властью. Сильные в претории, безусловно, начнут завтра давить на молодого цезаря. Интересно, зачем Пертинакс и Помпеян прислали гонца, зачем настаивают на безотлагательной встрече? Каков их расчет? Может, надеются, что молодого принцепса оскорбит подобная дерзость со стороны варваров, он наговорит послам дерзостей, после чего последует приказ о выступлении? Может, тут и таится закавыка?
Сам Переннис, как всякий командир среднего звена, довольствовался исключительно слухами о решениях и интригах в ставке императора, или, иначе говоря, в претории. Конечно, он испытывал острый интерес, когда же наконец войско двинется в поход? Постоянное затягивание начала кампании уже начинало действовать на нервы, однако и подставлять голову под стрелы врага тоже не очень-то хотелось. При жизни Марка не было в войске человека, который испытывал бы сомнения в том, что план выхода к Океану, безусловно, на благо Риму. Однако смерть прежнего принцепса откликнулась в войске некоторым смятением и неопределенностью. Опытные вояки – старшие центурионы, повоевавшие трибуны и командиры вспомогательных отрядов – в беседах между собой соглашались с тем, что трудностей в этом походе будет неисчислимо, а добычи – чуть. Чем можно поживиться у диких племен? Разве что продовольствием, шкурами, живой добычей? Эти трофеи казались слишком скудным вознаграждением для тех, кому предстояло рисковать жизнью и проливать кровь. При Марке подобных сомнений не возникало. В армии жило твердое убеждение: дело солдата – отличиться в бою, и награда не заставит себя ждать. В армии твердо верили, что Марк, как было ранее, возглавит поход. Оперативное командование доверит опытным военачальникам, а сам возьмет на себя общий надзор, займется снабжением войска, обустройством власти на новых землях. Никто не будет забыт, каждый достойный получит награду. Кто мог сказать, как оно будет с новым принцепсом? Сохранится ли прежний героический настрой или возобладают иные, более практичные соображения?
Перед входом в парадный зал, где ожидали послы, Переннис остановился, перевел дух. Как бы угадать, чего именно желает принцепс, тогда никакой Пертинакс или Помпеян ему, Переннису, не указ. Хватит сидеть в грязи, сутками мокнуть и мерзнуть в палатке, то и дело вступать в бой, не зная, выйдешь ли из него живым и невредимым. Нужен ли вообще этот поход? За весь день Коммод ни разу не вспомнил о том, что идет война, что со дня на день армии предстоит переправа через Данувий. Сообщение гонца о том, что «легионы полностью готовы и рвутся в бой», молодой цезарь встретил с олимпийским равнодушием. Радовался умеренно. Куда больший восторг вызывали у цезаря глазки Кокцеи.
Неужели Коммод не желает воевать? Тогда чего же он желает?
Если он угадал (а Переннис сразу уверился, что угадал), участие в кампании сопряжено с неоправданным риском. В случае любой, даже самой незначительной, неудачи сразу начнут искать виноватых, и как раз командиры среднего звена – наиболее удобные жертвы. Сильно заныла шея – видно, почувствовала близость топора палача. Стоит ли величие Рима, безопасность государства, о которой так много говорили при Марке, его, Тигидия Перенниса, загубленной жизни? Вопрос был далеко не праздный.
Префект вошел в зал. На вопрос, когда же послы увидят императора, ответил: изложите свое дело мне, после чего великий и победоносный цезарь решит, когда с вами встретиться.
Трое послов попытались протестовать, однако Переннису хватило ума вести себя сдержанно. Он без грубостей осадил их напоминанием, что римские легионы, римские части стоят на их землях, а не германцы осаждают Виндобону, так что давайте обойдемся без обид и истерик. Давайте по делу. Послы заявили о желании установить с Римом прочный и долговечный мир.
– На каких условиях? – спросил Переннис.
Один из посланцев, огромного роста германский князь из маркоманов, или иначе конунг по имени Теобард, с длинными, свисающими до самой груди усами, хитро ответил, что прежде пусть уважаемый префект сам объявит им условия, на которых молодой цезарь готов установить мир. Переннис сразу вспотел – об условиях Коммод ему ни слова не сказал. В качестве префекта он в общих чертах был осведомлен, чего добивался прежний император от северных соседей. Речь шла о создании до самого Океана клиентских территорий, которые взяли бы на себя обеспечение Северной армии продовольствием и другими припасами, а также служили бы надежной защитой против северных и восточных пришлых племен. Исходя из такого понимания целей войны, Переннис предложил возвратить всех перебежчиков и пленных, которых германцы захватили с началом второй войны, ежегодно платить условленный налог хлебом. Далее, квады, буры и маркоманы должны немедленно выделить в войско государя по тринадцать тысяч человек. Также ежегодно отправлять в римскую армию оговоренное количество воинов. Вот еще условие – проводить, как того требовал прежний император, племенные собрания не когда им вздумается, но раз в месяц и под присмотром римских центурионов. Кроме того, они не должны заключать мир с соседями: бурами, языгами и вандалами и буде те двинутся с места, воевать с ними.
Присутствовавший при встрече знатный квад, назвавшийся Сегимером, – это было известное римлянам имя, он был влиятелен и богат, – посетовал, что в его племени уже не найти тринадцати тысяч бойцов. Переннис почувствовал облегчение – выходит, послы готовы были услышать именно то, что он озвучил. Это означало, что они всерьез намерены вести переговоры и это посольство не ловкий трюк, имеющий цель оттянуть вторжение, а реальное политическое решение, к которому пришла германская знать. Даже их жалобы на тяжесть предъявленных условий, их угрозы прервать переговоры не смогли поколебать уверенности Перенниса в том, что он точно оценивает ситуацию. Он обещал довести их соображения до сведения императора. Затем откланялся – более не мог терять время на болтовню и пропустить что-то важное, что должно было произойти в триклинии. Переговоры переговорами, но именно в столовой теперь решалась его судьба, только там можно найти спасение. Вспомнился суровый, долговязый, стареющий главнокомандующий – одного того, что он, жалкий префект, встретился с послами, вполне достаточно, чтобы Пертинакс сгноил его в карцере.
Шел, ведомый тем же карликом, как назло, едва перебиравшим короткими кривыми ножками, и прикидывал, каким образом сформулировать то, что хочет услышать принцепс? Скоро он миновал небольшой садик и вошел в переднюю комнату, откуда коридор вел в столовую. Оттуда доносились веселые голоса.
Глава 3
Принцепс встретил префекта приветственным возгласом, приказал налить ему штрафную. Переннис, заметив взгляд раба, молча вопрошающего, насколько разбавлять вино водой, поднял руку и торжественно возвестил:
– В честь великого августа, за его здоровье первый ритон приму неразбавленным.
Он принял из рук раба рог, оканчивающийся волчьей головой, и возвестил:
– Ave, Caesar, imperator, явившийся на пир приветствует тебя!
Коммод захохотал, радуясь удачному каламбуру, пригласил префекта занять место в триклинии. Переннис, испытавший головокружительный подъем духа, изобразил смущение, словно выбирая место. В этот момент в столовую вошел Клеандр и объявил:
– Дичь! Утки и гусь по-римски. С яблоками!..
– Ну-ка, ну-ка, – обрадовался император. – Пора отведать изысканное блюдо. Располагайся, где пожелаешь, Переннис. Или ты являешься приверженцем Плутарха, который лично распределял места для гостей, и ждешь, когда я укажу тебе твое место?
– Да, великий…
– Луций, Луций!.. – перебил его император.
Префект едва сдержал озноб, пробежавший у него по спине. Он сделал паузу, чтобы унять расходившееся сердце, и продолжил с прежней обстоятельностью:
– Твоя проницательность, Луций, вынуждает меня присоединиться к мнению тех, кто полагает, что лучше прислушаться к мудрому, чем спорить с глупцом. Я согласен с Плутархом, что сварливых, спорщиков и вспыльчивых гостей следует рассаживать порознь, помещая между ними кого-нибудь из уравновешенных, чтобы устранить возможные раздоры. Согласен и с тем, что стоит сводить вместе преданных гимнастике или охоте, ибо природное сходство иногда, правда, порождает войну, как у петухов, но иногда и сближает, как у галок. Льнут друг к другу имеющие склонность к вину и любовным связям, и не только те, кто «уязвлен любовью к мальчикам», но и те, кого уязвляют женщины и девушки. Одинаково воспламененные, они, словно раскаленные бруски железа, легче приходят к единению.
– Если, конечно, – подмигнул ему император, – не окажется, что предмет влюбленности у них один и тот же. Хорошо, устраивайся рядом с Матерном, и давайте-ка, други, забудем на время о философии и насладимся этим чудесным блюдом. Птички выглядят чрезвычайно аппетитно. Нам позавидовал бы сам Трималхион[8].
Действительно, Кокцея и на этот раз постаралась на славу. Птичье мясо было нежно, в меру пропитано жиром, покрыто хрустящей корочкой.
Император с удовольствием расправился с гусиной ножкой, отведал запеченное, впитавшее жир яблоко, выпил вина.
– Чем же порадовали Рим варварские послы, Тигидий? – обратился он к префекту.
– Искренностью, великий, – ответил Переннис, – и неудержимым стремлением к миру, а также желанием склониться перед твоей мудростью и силой.
– Ну-ка, ну-ка, – оживился Коммод, – объясни подробнее. Лесть в твоих словах я различаю, а смысла не вижу.
– Лести, цезарь, в моих словах куда меньше, чем изумившей меня самого откровенности, с которой варвары объяснили свою позицию. Им нельзя отказать в рассудительности. Разве не в том, великий, состоит искусство управления государством, чтобы добиться какой-либо заранее назначенной цели с наименьшими затратами? Как она будет достигнута – с помощью оружия или посредством переговоров – равнозначно. Так вот, несравненный, я вполне уверился, что те задачи, которые ставил перед собой твой божественный отец, начиная вторую войну с германцами, можно решить с помощью переговоров.
– На чем же основана твоя уверенность? – спросил Коммод.
– На их беспредельном уважении к нашей силе, а также уму и дальновидности нашего императора. Они готовы повиноваться тебе.
– Каковы их условия, Тигидий? – спросил император.
– Стоит ли, Луций, прерывать наш пир серьезными рассуждениями, тем более философской оценкой характера и нравов квадов, буров, маркоманов и прочей варварской сволочи? Не лучше ли оставить этот разговор на завтра, когда судьба родины потребует от нас взвешенных и далеко идущих решений? Есть ли смысл обсуждать за столом то, что требует дневного света, трезвой головы и ясного ума? К тому же я не вижу жареных лебедей, о которых было столько сказано за сегодняшний день.
– Действительно, как насчет журавля и лебедей? – император обратился к стоявшему в дверях Клеандру.
– Еще не дошли, господин. Их обжаривают на вертеле под присмотром нашей гостьи.
– Как «под присмотром гостьи»? – возмутился император. – Разве место Кокцеи в поварской, а не за нашим столом? Разве Клиобела не может сама дожарить лебедей? А ну-ка, пригласи сестру нашего уважаемого Матерна, я хочу лично выразить ей свой восторг и послушать, где она научилась так любопытно фаршировать уточек. Яблоки просто изумительные. Как считаешь, Тигидий?
Коммод глянул на префекта.
Тот, застигнутый с полным ртом, одобрительно кивнул. Когда прожевал, отважился закончить мысль, которую вынашивал все это время.
– Прости, цезарь, долг обязывает меня поделиться вот каким наблюдением. Меня поразила неколебимая убежденность варваров, что служение родине есть служение императору. Я не могу понять, как тебе удалось внушить чуждым Риму людям такое глубокое и искреннее почтение к себе, тем более что в наших собственных рядах порой не всегда встретишь необходимое уважение к личности цезаря. Порой случается, что даже к его советам подданные относятся спустя рукава.
– Ты не прав, Тигидий, – неожиданно откликнулся Матерн, и префект тут же отметил: «Уже по имени, голодранец!..» – однако вида не подал, а всем корпусом повернулся в сторону охотника.
– Армия верит в тебя, Луций, – упрямо продолжил охотник. – Среди нашей братии только и разговоров: этот, мол, проломит башку упрямым германцам. Этот сумеет вмазать им железным кулаком.
– Вот и я говорю, – подхватил Переннис. – Все вбили себе в башку, что следует поступать так-то и так-то, и требуют от императора исполнения чего-то пусть и величественного, но задуманного в прошлую эпоху, другими людьми, преследовавшими иные цели. Спора нет, это были достойные люди, однако задумайся – что если существует иной способ решения северной проблемы.
– Что-то я не понимаю, к чему ты клонишь, – нахмурился Матерн.
В этот момент Клеандр ввел в триклиний заметно оробевшую Кокцею.
– Подойди, красавица, – пригласил ее император. – Займи место рядом со мной. Мое сердце полно благодарности и восторга при виде столь умелых ручек и такой прекрасной головки.
Клеандр чуть подтолкнул девушку – та, неожиданно для Перенниса возмущенно и грозно глянула на спальника, потом уже вопрошающе – на брата. Тот расплылся в улыбке, всем видом показывая, что компания добрая, дружеская. Кокцея чуть сдвинулась с места, затем, грациозно приподняв девичью тогу, села на верхнее ложе. На самый краешек верхнего, ближайшего к выходу места.
– Нет, нет, – поднял руку император, – устраивайся рядом со мной, на среднем ложе. Ты заслужила, чтобы тебе оказывали почет.
Кокцея поднялась, села в ногах у императора. Как только раб обслужил гостью – подставил перед ней круглый столик на изогнутых ножках, расставил тарелки, налил вина, Коммод поднял тост за «золотые руки и золотую головку». Затем обратился к Переннису:
– Продолжай, Тигидий.
– Я к тому, что только принцепс имеет право принимать окончательное решение, а мы, его подданные и слуги, обязаны без раздумий выполнять предначертанное. И твое дело, Виктор, – обратился он к охотнику, – исполнить приказ, не сомневаясь и не пытаясь осмыслить его. Более того, твоя обязанность – в меру своих сил помочь цезарю принять верное решение, ничего не пожалеть для него – ни своей головы, ни имущества, ни жизни, как, впрочем, и жизней своих родственников.
– Ну, это ты хватил, – возразил император. – На все про все приказов не хватит. Есть и иные узы, например дружба, привязанность…
– Конечно, великий, – кивнул префект. – Но даже в подобных вещах никто не имеет права отказать принцепсу. Разве не так, Матерн? Вообрази, что произойдет с государством, если каждый решит, что он сам себе голова и исполнение его желаний – это безусловная обязанность других, но только не его самого. Согласись, солдат, что если в армии, в каждом подразделении должен быть один командир, то и в государстве должен существовать человек, которому передаются все полномочия. Я, например, знаю свои права по отношению к вверенным мне солдатам и не желаю переступать границу запретного для меня. Но уже у главнокомандующего эта черта отступает к горизонту – он, например, может казнить тебя за любую провинность, и никто не спросит у него отчета. Если продолжить сравнение, то права повелителя должны уходить за горизонт, то есть нам, простым подданным, не дано в полной мере оценить, чем вправе распорядиться цезарь и чем не вправе.
– Говори яснее, Переннис, – грубо прервал его Матерн.
– Охотно, – без всякой обиды отозвался префект. – Предположим, что цезарь страдает и ему непременно требуется унять душевную боль и тяготы организма. Опять же предположим, что твоя сестра понравилась ему, и он решит оставить ее на сегодняшнюю ночь в своем дворце. Как ты отнесешься к такому обыденному и понятному в мужчине желанию? Решишь ли ты, что какой-то чужак покушается на твое семейное право распоряжаться судьбой сестры, или согласишься, что воля принцепса в этом вопросе священна?
Кокцею бросило в краску. Она вскочила с ложа и выбежала из триклиния. Глаза у Матерна расширились, он даже привстал с ложа. Неожиданно в его взгляде мелькнула злоба.
– Не ершись, Матерн, – осадил его префект. – Что при стало девице, не пристало солдату. Не дерзи и веди себя достойно. Перед тобой твой командир и тот, кто отвечает за судьбу государства. Я же сказал – предположим.
Удивленный Коммод, тоже привставший с ложа, невнятно повторил:
– Ага, предположим…
– Честь сестры для меня дороже жизни! – воскликнул юноша. – Если кто-то осмелится посягнуть на нее, я…
– Не смей договаривать! – выкрикнул префект. – Иначе погубишь и себя, и сестру. Это только предположение, Матерн, и рядом с тобой друзья, желающие до тонкостей разобрать интересный философский вопрос: до какой черты простираются права властителя и что должно удерживать его от произвола?
– Вот именно, – согласился принцепс, – от самого дикого восточного произвола.
Он неожиданно рассмеялся и глянул на Матерна.
– Ты что, всерьез бы отважился поднять на меня руку? – спросил он.
Охотник не ответил. Он отпрянул и изумленно посматривал то на префекта, то на цезаря. Заметив, что оба ведут себя смирно, никто не бросился вслед за сестрой, ни начал выкрикивать гнусных распоряжений: тащи ее в опочивальню, швыряй на кровать! – перевел дух и ответил:
– А то.
Оба – и цезарь, и префект, – рассмеялись. Улыбнулся, точнее жалко оскалился Матерн, прилег на ложе.
– Но это же глупость! – воскликнул Переннис. – Непростительная для такого разумного и храброго солдата, как ты, дерзость. Разве оказать услугу величайшему из величайших цезарей – это преступление или посягательство на установления отцов?
– А разве нет? – спросил Матерн. – Я слышал, что прежний царь Тарквиний Гордый, нагло овладевший Лукрецией, был изгнан из Рима.
– В том-то и дело, что овладевший! – воскликнул Коммод. – А у меня и в мыслях ничего подобного не было.
– Конечно, не было, – подтвердил Переннис. – Мы выясняем философский вопрос о границах власти.
– Эта философия мне очень не по нраву, – огрызнулся Матерн.
– По нраву она тебе или нет, это не твоего ума дело, – заявил Переннис. – Вопрос-то существует, и его надо решить. Заметь, – префект погрозил охотнику указательным пальцем, – во власти величайшего из величайших просто приказать, и верные люди умыкнули бы твою сестру. Но это был бы настоящий произвол. В нашем же случае с тобой советуются, интересуются твоим мнением, пытаются убедить, стоит ли ради ложно понимаемой чести рисковать карьерой, тем более что твоей сестре вдруг улыбнулась несказанная удача. Я знаю тебя, Матерн, – неожиданно улыбнулся Переннис. Он немного помедлил, потом уже совсем доверительно продолжил: – Я давно приглядываюсь к тебе. Ты хороший солдат, храбрый солдат, но тебе не хватает дисциплины. Если бы не твоя дерзость, ты давно ходил бы в декурионах. Я верно говорю? – обратился префект к Коммоду.
Тот машинально кивнул, а Переннис продолжил:
– Твоя судьба связана с армией, ты рожден для нее. Твой гений ведет тебя и помогает в бою. Ты ловок в обращении с конем и оружием. Что важнее всего, ты не теряешь голову в самой опасной обстановке. Скажи, разве ты сам не задумывался, почему подлюка Теренций – декурион, а ты нет?
– Этот старый мешок дерьма совсем достал меня! – неожиданно выкрикнул Матерн. Напоминание о командире турмы вновь озлобило его. – Он хапает и хапает! В преддверии похода за каждую увольнительную дерет втридорога.
– Вот именно, – подтвердил Переннис. – Не пора ли тебе занять его место, и, если ты поймешь, на чем держится служба, если не упустишь свой шанс, можешь далеко пойти. Можешь стать префектом, трибуном, а там, глядишь, и до командира легиона дослужишься. И в такой момент ты сам рубишь сук, на который вознесла тебя Фортуна. Задумайся, Матерн, твоя судьба в твоих руках. Впрочем, судьба сестры тоже…
– Точно, – вмешался в разговор Коммод, вполне освоившийся в тактике префекта и подхвативший его философские рассуждения. – Мне нужны верные люди. Виктор, мне и в голову не приходило нанести ущерб чести твоей сестре, однако, глубоко обдумав все сказанное, я вынужден сегодня же взять ее. В противном случае, если я отступлю, моя честь потерпит жестокий урон, а моя честь – это достоинство всего Рима. Я понимаю твои чувства, но так распорядились великие боги.
– Не надо примешивать сюда богов, – грубовато возразил Матерн. – Где приметы, где знаки их воли? Да, я хочу стать декурионом, я умею воевать, но я не вправе переступить завет отца, поручившего мне заботиться о Кокцеи, обеспечить ее будущее.
– Когда ты станешь легатом и будешь введен в сенат, будущее Кокцеи устроится само собой. Тогда тебе не придется беспокоиться за нее, – ответил Переннис.
В следующий момент император неожиданно сел на ложе, хлопнул себя по коленям.
– Что касается воли богов, ты прав, Матерн! Нам следует обратиться к Фортуне Первородной. Бросим кости! – предложил Коммод. – Из трех раз. Только кости будут мои, – торопливо заявил он и, как бы застигнутый врасплох, тут же принялся оправдываться: – Они не фальшивые, самые что ни на есть правильные.
Охотник подозрительно глянул на цезаря.
– Клеандр! – позвал император.
Спальник тут же вошел в столовую. У Перенниса сложилось впечатление, что тот ждал у порога.
– Принеси мои кости, те, счастливые, оправленные в золото, – приказал Коммод.
– Слушаюсь, господин.
Император возбужденно потер руки.
Все три броска оказались в пользу цезаря. Тот не мог скрыть ликования.
– Видишь, Матерн, Фелицита, богиня счастья, сегодня на моей стороне. Теперь я не могу отступить, иначе удача отвернется от меня и, следовательно, от всего римского государства. Сам понимаешь, чем это грозит в преддверии похода.
Матерн грязно выругался и опустил голову.
Кокцея, доставленная Клеандром в спальню императора, долго сидела взаперти. Ужас обернулся оцепенением. Перехваченная Клеандром в коридоре у самого выхода из триклиния, она попыталась вырваться, но спальник оказался силен и опытен. Он перехватил ее в талии и понес по коридору.
Кокцея притихла только возле двери, ведущей в спальню императора. Здесь неожиданно соскользнула на пол, оттолкнула раба и выхватила из складок сто́лы маленький кинжал.
– Глупая, – вздохнул Клеандр, – зачем тебе эта железяка?
Его сонное округлое лицо оставалось спокойным. Взгляд усталый, веки чуть опущены.
– Не понимаешь ты своего счастья, – продолжил спальник. – Прикинь, сможешь ли ты вырваться отсюда, тем более причинить вред повелителю мира? И зачем причинять ему вред, когда доставленные тобой ласки откроют перед тобой весь мир.
– Я не из таких, – горячо возразила девушка.
– И молодой цезарь не из таких. Ты всерьез полагаешь, что в силах противостоять воле правителя? Ступай в спальню и приведи себя в порядок.
– Ни за что!
– Тогда я приглашу Клиобелу, она живо научит тебя уму-разуму.
– Эту жирную корову?
– Ага. Эта жирная корова одной рукой придавила посягнувшего на ее честь гладиатора. Было дело. Еще в Риме. Тебе приходилось бывать в Риме, видела дом Тиберия на Палантине?
– Нет.
– Тогда чего ершишься? Неужто тесная хижина на берегу Данувия тебе дороже, чем переполненный чудесами, роскошью и величием волшебный дворец? Исполни свое женское дело, и его двери распахнутся перед тобой. Господин добр и… как бы помягче выразиться… прост.
– Но я не хочу!
– Глупости. Увидишь его во всей красе, погладишь мужское достоинство, захочешь. Если понравится, можешь полизать.
Глаза у Кокцеи расширились, ее бросило в краску, а Клеандр между тем доверительно продолжал:
– По секрету тебе скажу, его отец вовсе не император Марк, а сам Аполлон. Это он в образе гладиатора явился к императрице Фаустине и заронил в ее лоно божественное семя. Она тоже кричала: не хочу, не хочу. Потом захотела. Эх вы, бабы! – горестно вздохнул спальник. – Вот и Клиобела тоже… Так что, звать кухарку или добром пойдешь?
Кокцея разрыдалась громко, навзрыд и, подталкиваемая Клендром, переступила через порог спальни.
– Жди, – на прощание сказал Клеандр, потом попросил: – Ножик-то отдай.
– Ни за что! – воскликнула Кокцея и прижала оружие к груди. – Я лучше убью себя!..
– Еще лучше выдумала! – всплеснул руками спальник. – Решила, значит, забрызгать своей кровью господина? Это что же получается? Поднимайся, Клеандр, среди ночи, слуги вставай, истопники вставай и готовь господину баню, чтобы он смыл с себя твою кровь? Как вы жестоки, люди!
Кокцея с откровенным недоумением глянула на спальника.
– А ты кто? Разве не человек? Не раб?
– Конечно, раб, – согласился Клеандр и тут же с некоторым восхищением добавил: – Но и повелитель!..
– Как это? – еще раз спросила девушка.
Клеандр тем временем взял из ее руки кинжал, спрятал у себя в поясе.
– А вот так, – строго заявил он. – Я раб, существо ничтожное, мерзкое, а поди ж ты, великий цезарь, чье слово закон на всем orbis terrarum[9], подчиняется мне. Мы с ним неразлей вода, и, когда императрица Фаустина рожала Коммода от Аполлона, моя мать зачала меня от быстроного и хваткого на юных девиц Меркурия.
– Врешь! – не поверила Кокцея.
– Клянусь Меркурием! Он сам признался. Ладно, ты давай проходи, располагайся, – заторопил ее Клеандр. – Ты пока глупа, а сольешься в любовном экстазе с отпрыском божественного Марка и сама приобщишься к семье олимпийцев.
– Не хочу я ни с кем сливаться, – зарыдала Кокцея. – Я домой хочу, к маме.
Клеандр задумался, потом согласно кивнул.
– Да-да, мама… – вздохнул он.
Спальник уперся взглядом в стену, как бы пронзил ее, и унесся в азиатскую даль, во Фригию, откуда в Рим приволокли его мать-гречанку.
– Мама… Это так волнующе, так поэтично, – прошептал он.
– Отпусти меня домой! – также шепотом попросила девушка.
– Меня накажут, – едва слышно ответил Клеандр.
– Как? – испуганно, в тон ему спросила девушка.
Клеандр, повесив голову, задумался, потом выпрямился и неожиданно громко, с некоторой даже истеричностью в голосе рявкнул:
– Если бы я знал!
Кокцея вздрогнула, а Клеандр вновь понизил голос и объяснил:
– Может, поставят в угол коленями на соль или прикажут всыпать десяток «горяченьких». А то оттаскают за вихры – видишь, какие у меня локоны? Просто на загляденье. Одно удовольствие руки вытирать.
– Хватит дураком прикидываться, – строго и громко заявила Кокцея.
– Поживешь с мое, – признался спальник, – не тому научишься. А ты иди, дочь Венеры. Веди себя тихо, иначе позову Клиобелу. У нее папа Геркулес.
Он втолкнул девушку в спальню и закрыл дверь.
Кокцея огляделась. Ложе, стоявшее посреди скромных размеров комнаты с высоким, расписанным потолком, было огромно и завешано прозрачной сетчатой тканью. В изголовье с обеих сторон, в углах, возвышались лампадарии – столбы, на которые подвешивались масляные лампы, предназначенные для освещения. Был в спальне и большой мраморный канделябр. На стенах фрески, изображавшие подвиги Геракла. Окна, в которое можно было бы пролезть, не было. Может, удастся прошмыгнуть в дверь? Она выглянула в коридор.
У порога возвышался выставленный на пост гвардеец. Воин глянул на нее, повернулся к ней – на его щите грозно скалилась страшная Медуза.
– Закрой дверь! – рявкнул он на нее. – Жди!
Кокцея тут же захлопнула створку. В глазах еще стояли змеи, развевающиеся на голове горгоны. Заметила щеколду, запиравшую дверь изнутри, моментально задвинула ее. Отступила от двери. Держась ближе к стене, подальше обошла кровать. Присела в углу на роскошный по местным меркам табурет-дифрос. Вспомнила, как всплакнула мать, когда Вирдумарий явился в их дом с приказом доставить Кокцею в императорский дворец. Она молча собрала дочери узелок, благословила ее именем Минервы. Сказала: пусть тебе улыбнется удача. Больше ничего не сказала. Где теперь этот узелок? Наверное, на кухне. Клиобела сразу отобрала его, сунула куда-то в угол. На просьбу оставить узелок при ней кратко ответила: «Глупости! Тряпок подтереться тебе, что ли, в императорском дворце не найдут!»
Стук в дверь отвлек девушку от грустных размышлений.
– Кокцея, открой, – послышался из-за двери голос императора.
Девушку бросило в дрожь, в глазах помутилось. Что-то необъятно-громадное, темное, страшное надвинулось на нее. Она почувствовала себя Андромедой, прикованной к скале и ожидающей появления из морской пучины страшного дракона, который собирался полакомиться ею.
В этот момент из-за двери вновь послышалось:
– Да открой же ты, или я прикажу взломать дверь!
Чей это голос? Ужасного чудовища или отважного Персея, явившегося спасти ее? В легенде ничего не говорилось о том, что дракон может оказаться героем, а герой драконом. Кокцея вздохнула и отодвинула щеколду.
Коммод вошел в спальню, сразу у порога сгреб ее, поднял, попытался поцеловать. Кокцея отвернула голову, сжала губы.
– Что случилось, Кокцея? – удивился император. – Или я тебе не мил?
Последний вопрос вызвал у девушки приступ злобы. Она разрыдалась.
– Когда я увидала тебя, решила, что ты Персей, явившийся спасти меня от жуткого чудовища. Теперь вижу, что ты и есть чудовище.
– Почему? – искренне изумился Коммод. – Что же во мне такого чудовищного?
– Ты хочешь взять меня силой! – крикнула Кокцея. – Я должна исполнить долг женщины, который требует от меня мой повелитель? А потом?
– Что «потом»? – не понял Коммод.
– Ну, после того, как я исполню долг и ты ублажишь свою плоть?
Коммод, явно раздраженный, подступил к ней, забившейся в угол. Был он высок, обнажен до пояса, в тусклом свете масляных ламп отчетливо проступал его хорошо развитый, умащенный маслом и растираниями торс. Лицо его, прежде добрейшее и счастливое, теперь странным образом потемнело, глаза сузились, на скулах заиграли желваки.
– Я не понимаю, чего ты хочешь? – спросил он. – Что значит – потом? «Потом» бывают разные. Может, отправлю на кухню, а может, щедро наградив, верну домой. А может, навечно прильну к тебе и никогда более не отпущу от себя. А у тебя до встречи со мной, – неожиданно заинтересованным тоном спросил цезарь, – какие намечались «потом»?
– Меня сватал наш сосед, отставной центурион Брокастий.
– И ты, конечно, была рада выскочить за него замуж? – усмехнулся император.
– Еще чего! – фыркнула Кокцея. – Нужен мне этот старый пень! Ему уже за шестьдесят.
– А за кого ты хотела бы выйти замуж? – заинтересовался Коммод.
– Ну… – неопределенно ответила девушка и искоса, с некоторым интересом глянула на юношу.
Глаза у того расширились. Он отступил, вскинул руку и, словно обращаясь к небесам, возвестил:
– Боги! Великие боги! Каким удачным днем вы одарили меня. Благодарю тебя, Амур, и нимфы! Наконец-то я нашел суженую. Кто бы мог подумать, что моя избранница поселилась в далеком уголке империи, в нищей деревянной хижине у излучины великой реки. Кому бы в голову пришло, что ее удел – кормить свиней хлёбовом, ухаживать за птицей, страдать от невозможности вырваться из круга пошлых, глупых сельских занятий, который под стать рабам, а не рожденной от семени Венеры. Или Дианы. – Он повернулся к ней и торжественно спросил: – От кого ты была рождена, Кокцея? Я – от Юпитера Капитолийского, потому и выгляжу таким грозным, беспощадным.
Неожиданно он сменил позу, засмеялся, хлопнул в ладоши:
– Это просто здорово! Кто бы мог подумать, что жизнь наградит меня чем-то подобным. Меня, мрачного, потерявшего надежду на личное счастье правителя. Мы тотчас сыграем свадьбу, Кокцея. Немедленно!
Он повернулся к двери и громко позвал:
– Клеандр!
Тот опять же появился мгновенно, словно стоял за дверью. А может, действительно стоял и подглядывал в щелочку? Мало ли?
– Готовь обряд бракосочетания, – затем Коммод спросил у удивленно смотревшей на него Кокцеи: – Маму позовем?
– Чью? – не поняла девушка.
– Твою, конечно. Моя умерла четыре года назад. Не выдержала разлуки с отцом. Тот после мятежа Авидия Кассия отставил ее от себя. Так как насчет мамы?
– Ты это серьезно?
– Вполне.
– Зови. И брата.
– Это само собой. Как себя чувствует Матерн? – спросил он у Клеандра. – Способен ли он принять участие в торжественном обряде?
Клеандр пожал плечами.
– Разбудим, посмотрим, приведем в чувство. Но, господин…
– Что там еще? – поморщился цезарь.
– Послы германцев, господин. Они ждут встречи с тобой.
– С ума сошел! В такой момент, когда герой нашел любимую и жаждет сочетаться с ней узами брака?! Размести их где-нибудь и больше не приставай ко мне с подобными глупостями. Также гони в шею всякого, кто прибудет от Сальвия, Помпеяна или Пертинакса. Все дела завтра, а сейчас – свадьба! Ты слышал – свадьба!.. Я сам оповещу всех, кто живет во дворце. Пусть все знают, что сейчас состоится свадьба цезаря Луция Коммода Антонина, Отца Отечества, победителя германцев и сарматов, великого понтифика, восемнадцатикратного трибуна, двукратного консула, трехкратного императора с девицей всаднического сословия. Кстати, ты девица?.. – поинтересовался он у Кокцеи. – Впрочем, не важно, сейчас проверим.
Девушка вспыхнула.
– Господин, я честна перед тобой. К тому же мы не всаднического сословия.
– Какая разница… С гражданкой Кокцеей Матерной. Ты ведь гражданка?
– Да. Отец при выходе в отставку получил римское гражданство.
Клеандр принялся строить гримасы, растягивать губы, пожимать плечами, всем своим видом выражая некое сомнение.
– В чем дело? – подступил к нему император.
– Свадьба – это прекрасно. Но зачем шум поднимать? Все-таки ночь на дворе…
– Действительно, – робко поддержала его из своего угла Кокцея. – Может, завтра?
Коммод задумался, начал расхаживать по комнате, при этом, словно разговаривая сам с собой, шевелил губами. Затем решительно возразил.
– Нет, сегодня, сейчас! Возлечь-то надо. Шум поднимать не будем. В самом деле, сбегутся родственники, Помпеяны, Юлианы, отцы-сенаторы. Все начнут советовать, учить. Маму тоже звать не будем, – строго заявил он, обращаясь к Кокцее, – обойдемся братом. И вообще следует поторопиться. Клеандр, одна нога здесь, другая там, чтобы немедленно собрал свидетелей. Очаг я как верховный жрец разожгу сам. Это входит в мою компетенцию. Сам же и благословлю молодых. Скорее, скорее! – заторопил он Клеандра, потом обернулся к невесте: – А ты, милая, переоденься. Позвать Клиобелу.
– Только не эту жирную свинью! – всплеснула руками Кокцея.
– Хорошо, пришли других рабынь, – приказал Коммод и вновь заторопил спальника: – Давай, давай, давай…
Император для скорости дал ему ногой пинка под зад. Клеандр стремглав бросился к двери.
Среди ночи, когда молодой цезарь вволю натешился и, раскинувшись на ложе, захрапел, обессиленная, испытывавшая острую боль женщина осторожно спустила ноги на пол и только попыталась встать, как Коммод крепко схватил ее за руку.
– Куда? Лежать!..
– Я выйти хочу… – испуганно ответила Кокцея.
Император громко крикнул.
– Эй! Кто там, у порога?
Дверь отворилась, и в комнату вступил преторианец, выставленный у спальни повелителя.
– Здесь, господин, – откликнулся он.
– Проводишь ее, – Коммод ткнул пальцем в Кокцею. – Потом приведешь обратно.
Не глядя на женщину, он улегся на правый бок и, зевнув, разрешил:
– Ступай.
Глава 4
В конце апреля легат III Августова легиона Бебий Корнелий Лонг Младший прибыл в Виндобону. Вызвали его нарочным, срочно, без объяснения причин.
Добравшись верхами до Данувия, Лонг и сопровождавший его десяток чернокожих мавританцев переправились по наплавному мосту. На ходу Бебий с одобрением оглядел заметно обнажившиеся берега великой реки. Сушь стояла словно по заказу. Самое время выступать – горные реки обмелели, дороги просохли, так что трудностей с перевозкой метательных орудий не будет. Вообще двигаться в пешем строю в такой чудесный день, какой выдался сегодня, куда приятнее, чем маршировать под дождем, по грязи.
Бебий со дня на день ждал гонца с предписанием выступать, однако в претории, должно быть, еще не наговорились, решили, что еще один совет не помешает. А может, это инициатива молодого цезаря? Кто знает, что он там надумал во дворце? Слухи ходили разные. Кое-кто из приезжавших в лагерь трибунов утверждал, что молодой цезарь вовсе не помышляет о броске на север. Более того, вторую неделю не выходит из походного дворца, тешится с какой-то бабенкой. Кто-то поклялся, что император даже женился на ней. Все дела, мол, перепоручил своему зятю Помпеяну, начальнику над войсками Сальвию Юлиану и стареющему Пертинаксу, приказав им еще раз проверить обеспечение войск всем необходимым, а также возвести дополнительную переправу на Данувии возле Карнунта, но поднимать легионы не разрешил. Более-менее информированные люди, такие как, например, ближайший друг, легат XIV Марсова Победоносного легиона Квинт Эмилий Лет, отвечая на письмо Лонга, уклонился от прямого ответа, когда же в поход. Сообщил только, что послы, которых Бебий сразу после смерти Марка Аврелия отправил в ставку, как в воду канули. По слухам, они целыми днями пируют с молодым императором.
Подобная уклончивость заставила Бебия насторожиться. Прикинул так и этак – Лет не стал бы без причины таиться и если решил умолчать о своих соображениях, значит, решил дать знак давнему приятелю – держи ухо востро.
В последние дни и в самом легионе забеспокоились. Молодые центурионы позволяли себе вслух осуждать нерасторопность высшей власти, нерешительность «стариков», сетовать на задержку с началом кампании. Кое-кто из ближайшего окружения Лонга даже высказывался в том смысле, что молодой цезарь, дорвавшись до золотого лаврового венка, все никак не может утвердить себя. Более того, добавил тот же дерзкий, ему стало доподлинно известно, будто император ищет удобный предлог для возвращения в Италию.
– Это не нашего ума дело! – отрезал Бебий.
Теперь, оказавшись на правом – римском – берегу Данувия, легат невольно отметил немалое число взрослых мужиков, работавших в полях. Судя по выправке, все они служили в армии. Отчего же они не в лагере? Куда смотрят центурионы?
Фактик скользкий, мимолетный, малозначительный, однако жизненный опыт и уроки, даденные ему прежним императором, заставили собраться, обратить взоры не к небу, откровенно голубому и необъятному, не к живописно встававшему на северо-востоке девственной белизны облаку, не к изумрудным, покрытым лесом далям, не к милому сердцу семейству, проживавшему в столице, а внимательнее поглядывать по сторонам, примечать новенькое, которым обогатилась эта вечно юная, земная красота. Чем занимаются люди, где собираются толпы, почему в полдень, в самое рабочее время, в придорожной харчевне праздно сидят сложившие в угол доспехи и оружие легионеры?
Под ложечкой засосало, когда в виду военного лагеря, где размещались Пятнадцатый и Десятый Сдвоенный легионы, ему повстречался знакомый трибун, служивший при Помпеяне, и на вопрос легата насчет заседания претория ответил, что ни о каком заседании он не слыхал. По поводу же вызова Лонга трибун пожал плечами и только после некоторого раздумья признался, что краем уха слыхал, будто Бебия пожелал видеть сам император.
Сразу и день померк, и живописный пейзаж, какими всегда славились окрестности Виндобоны, обернулся самым удобным в мире местом для засады. Неужели Фортуна Примигения поддалась гневу и вновь открыла сезон охоты на людей? Особенно подозрительными показались ему стены военного лагеря.
Укрепленная, обнесенная двумя рядами стен обширная легионная стоянка располагалась неподалеку от Виндобоны и образовывала с этой крепостью единый оборонительный комплекс. На невысоких, осанистых, граненных башнях, на шестах, были вывешены штандарты и вексиллумы[10]. Повыше других трепетала на ветру вышитая на красном золотая волчица и играющие с ее сосками Ромул и Рем, символы Сдвоенного легиона, и синие козероги Четырнадцатого Марсова победоносного. Кое-где по стенам рисовались растянутые на поперечинах полотнища вспомогательных отрядов. Бебий невольно глянул на собственные флажки, под сенью которых он пустился в путь, – их несли всадники-мавританцы из вспомогательного конного отряда. На одном развевался крылатый Пегас, на другом – поднявший лапу ревущий лев.
Оказавшись в лагере, Бебий верхом направился к комендатуре – большому двухэтажному зданию, расположенному посередине прохода, связывавшего боковые ворота. Здесь спешился, дождался дежурного легионера. Тот принял коня и передал, что во внутреннем дворике его ждет Публий Пертинакс.
Легат миновал службы, размещенные в главном корпусе, и свернул в небольшой внутренний дворик, куда скоро вышел стареющий полководец.
Бебий вскинул руку:
– Приветствую тебя, сенатор римского народа!
Пертинакс – выходец из Лигурии, сын вольноотпущенника (то есть, по существу, сын раба) – любил, когда к нему обращались не как к заслуженному полководцу, но как к человеку, принадлежавшему к высшему сословию римского народа. Можно было назвать его и проконсулом – в консульское достоинство он был возведен Марком Аврелием в 174 году, однако на этот раз Бебий решил польстить полководцу по высшему разряду.
Пертинакс, дородный, с большим округлым животом, длиннобородый, высокий, хмыкнул, кивнул, затем сел и предложил присесть тридцатилетнему легату.
– Знаешь, зачем вызвали? – он сразу перешел к делу.
– Нет, сенатор.
Пертинакс поморщился.
– Хватит. Я удовлетворен. Теперь обращайся ко мне по имени, как ранее, при Марке. А то в последнее время вы все, молокососы, стали такими вежливыми, такими любезными. Тот же Переннис, твой дружок! Прежде ел глазами начальство, а теперь уже и не взглянет в нашу сторону. Правда, на словах он сама учтивость! Смотрю, ты тоже запел…
– Больше не буду, Публий, но причину вызова я действительно не знаю.
Пертинакс вздохнул:
– Я тоже не знаю, но догадываюсь.
В этот момент где-то вдалеке в северной стороне увесисто громыхнуло – видно, после полудня можно было ждать грозу. Пертинакс прислушался к затухающим раскатам и сменил тему.
– Что у тебя в легионе?
– Все готово.
– Надеюсь. Ты всегда был хорошим служакой. Правда, себе на уме, но это тоже неплохо. Простаки, Бебий, сейчас не в моде, на них теперь воду возят. Это тебе не прежние добрые времена, когда каждый, глядя на нашего императора, старался сегодня стать лучше, чем вчера, а завтра – лучше, чем сегодня. Всякий пример заразителен, хороший – тоже. Новые времена, новые песни. Теперь ценится наглость, а также, позволю себе заметить, гибкость хребта. Буду откровенен, в императорском дворце зреет мнение, что поход на север следует отложить. Более того, по чьим-то расчетам выходит, что выгоднее заключить мир с варварами, чем пытаться обеспечить безопасность государства войной. Полагаю, ты разделяешь мнение, что поход на север – решение однозначное и пересмотру не подлежащее?
– Да.
Пертинакс вздохнул.
– Как легко и быстро ты согласился. Или ты хитер, как змея, или тебе еще не приходило в голову, что единственным спасением для тебя является скорейшее начало кампании. Это в твоих же интересах, Бебий, – напомнил Пертинакс. – Кто ты без войны? Пустое место. Всадник, каких много в Риме. Да, ты богат, но в чем я всегда соглашался с Марком, чему научился от него, – это брезгливому отношению к богатству. Оно не более чем средство, и только глупцы полагают его целью. Цель была воздвигнута Марком и для армии, и для Рима, и для всего римского народа. Он сооружал ее долго, не жалея сил. Всех привлек к строительству. Мы все знали, мы верили, что стоит нам организовать две новые провинции, возвести непреодолимый вал на севере Европы, как безопасность империи будет обеспечена на сотни лет вперед. После выполнения этой задачи можно взяться за решение восточного вопроса. Я имею в виду тревоги, связанные с мятежом Авидия Кассия. Ты согласен со мной?
– Да.
Пертинакс, может, ввиду краткости ответа, а может, прислушавшись к вновь последовавшим громовым раскатам, задумчиво покачал головой.
– Хорошо, вернемся к тебе. Итак, при установлении мира чем ты будешь отличаться от средней руки центуриона? Ты богат, но твое богатство в Риме. Собираешься всю жизнь просидеть в этом диком краю? Или рискнешь уволиться? Вряд ли цезарь отпустит тебя. Проявишь своеволие – и я не дам аса за твою жизнь. Это при «философе» можно было сослаться на свое ведущее, на мировой разум, на всеобъемлющую пневму. Теперь наступили новые времена – если уйдешь из армии против воли принцепса, о тебе просто забудут. А то сочтут, что ты стал неискренен в любви к новому императору, тогда с тобой может случиться что-нибудь и похуже. За новыми веяниями не уследишь, – полководец развел руками.
Он некоторое время молчал, чему-то усмехался, потом, видимо, решившись, продолжил разговор:
– Если мечтаешь о лаврах Перенниса, нежданно-негаданно взвившегося в ближайшие дружки императора, поверь мне, старику, – это незавидная участь. Сегодня ты в фаворе, завтра голову с плеч долой. Ты всегда отличался рассудительностью, за что мы, в претории, всегда ценили тебя. Это все.
После этого разговора Бебий Лонг сразу успокоился, охладел душой. Решил навестить Квинта Эмилия Лета – может, дружок что-нибудь посоветует? Однако легата в лагере не оказалось, он был послан с инспекторской проверкой по приграничью.
Делать было нечего, пора во дворец.
Бебий вышел из обширного здания, где располагался преторий и размещались казармы личной охраны императора, а также квартиры прочих привилегированных служак, сел на коня и в сопровождении своих мавританцев направился в город.
Бебий Лонг въехал в Виндобону, имея за плечами подступавшую грозу. Взгромоздившееся до самого зенита, громадное, божественной белизны облако с божественной же медлительностью накрывало город. За то время, что он провел в Моравии и Богемии, Виндобона заметно расширилась, вернее, все более обжитыми показались ему предместья. Видно, сказывалось удачное место для города, ранее являвшегося лагерной стоянкой. Виндобона лежала на Янтарном пути, по которому в Рим везли товары и прежде всего чудесный камень, излечивающий от многих болезней. Толпа на улицах была куда многолюдней, чем в воинском лагере, и легат готов был дать голову на отсечение, что среди взрослых мужчин многие являлись легионерами.
Скоро миновали местный форум и выходящую на площадь колоннаду храма Юпитера. На форуме остановились, легат даже спешился, постоял, поглаживая шею коня, помянул императора, вспомнил отца. Здесь ежегодно 11 июня, в «праздник армии», объявленный наместничеством в память о «чуде с дождем», в присутствии одетых в белое граждан совершались торжественные священнодействия, в жертву богам приносили бычка, барана и кабана. В этот день восемь лет назад, во время первого похода на левый берег Данувия, римские войска в тяжелейшую жару, в гибельных условиях под командованием императора Марка Аврелия одержали решающую победу над варварами.
Спустя несколько минут группа всадников вновь тронулась в путь. Скоро дорога пошла под уклон. Бебий мысленно вернулся к разговору с Пертинаксом. В его словах много правды. Как теперь будет с новым цезарем? Что ждет его, Бебия, «любимчика Марка-философа», которому прежний император доверил сформированный еще Юлием Цезарем легион, представлявший собой ударный кулак Северной армии. Третий Августов, считавшийся одним из лучших легионов, дислоцировался в Африке и только на время кампании против германцев был переведен в Паннонию. Численность подчиненных Лонгу частей вместе со вспомогательными и приданными отрядами составляла более десяти тысяч человек при обычном легионном списочном составе в шесть тысяч. Другими словами, под началом Бебия находилось войско, способное сломить сопротивление варваров на главном направлении. Должность была слишком заметная и «хлебная», чтобы «старики» из верхушки претория смирились с выдвижением молодого еще человека. В случае успеха слишком много перспектив открывалось перед «молокосом», как назвали его Сальвий Юлиан и Помпеян. Даже Публий Пертинакс, прозванный легионерами «бородой» за длинные седые космы, свисавшие у него с подбородка, и в общем-то доброжелательно относившийся к молодому легату, почувствовал в Бебии соперника. Однако при Марке им только и оставалось, что косо поглядывать на едва успевшего разменять третий десяток молокососа. Кем теперь они выставили «прыткого» легата перед новым цезарем?
Громыхнуло ближе, увесистее. Бебий невольно глянул на небо. Прежнее, ослепляющей белизны, небесное строение обернулось сизоватой исполинской тучей. Грозу неотвратимо натягивало на город. Улицы рьяно протягивало ветерком.
Легат вот о чем задумался. Выгоды, связанные с этим назначением, могли обернуться реальным возвышением только в случае успешно проведенной кампании. Если войны не будет, эта должность ничего, кроме хлопот с обманутыми в своих ожиданиях легионерами, не давала. И что? Какая в том беда? Это пустяки, как, впрочем, и предостережение Пертинакса насчет долгого безвылазного сидения в Паннонии или отправки вместе с легионом в Африку. Тревожило другое – успеть бы во дворец до грозы. Успеть бы определиться. Не проспать момент, когда громыхнет по-настоящему.
На глаз было видно, что общая цель, провозглашенная Марком, его изначальное стремление к добродетели, неугасимое желание просветить подданных мало заботили самих подданных. Наглядным примером наплевательского отношения к замыслам «философа» мог служить пьяный центурион, позволивший себе выйти из таверны с красной опухшей рожей. На ногах он держался нетвердо и при этом непотребно выражался по поводу стоимости вина, подаваемого в этой забегаловке. Проходивший мимо мальчишка-раб нечаянно наступил ему на ногу. Центурион в сердцах ударил его палкой. Мальчишка взвыл и бросился наутек. Бебий наехал конем на вояку, по привычке выставил вперед и так выдающуюся нижнюю челюсть, спросил:
– Какого легиона?
Центурион был из молодых, на панцире ни фалер, ни лент. Обнаружив перед собой конного легата, подтянулся. Ответил твердо:
– Десятого. Пятая когорта.
– Почему в городе?
– Послан с поручением.
– Так и выполняй поручение, а не шляйся по харчевням.
– Слушаюсь.
Милостью богов успели до грозы.
Императорская ставка представляла собой комплекс зданий, выстроенных на крутом берегу небольшой реки, тоже называемой Виндобона, перед впадением в Данувий огибавшей город с юга. Перед дворцом была установлена колонна, посвященная громовержцу Юпитеру, слева – преторианская казарма и конюшня, справа – сад и служебные помещения. Северный фас бастиона образовывала крепостная стена Виндобоны. Подходы к главной крепости и стенам дворца со стороны поймы перекрывались боем метательных орудий и арбалетов.
Первое, что отметил легат, въехав на внутренний двор замка, – это непривычный шум и неожиданно бойкое многолюдье в замке. При Марке слуг и рабов в замке было раз, два и обчелся, подавляющее большинство составляли люди в военной форме. Прежде здесь было подчеркнуто тихо; даже здания, крыши зданий, опершиеся о колонны, деревья в саду, вписанном в один из углов крепостного укрепления, казались погруженными в какое-то задумчивое, созерцательное состояние. Все тогда ходили неспешно, никто не позволял себе повышать голос, тем более кричать друг на друга, что теперь являлось любимым развлечением многочисленной челяди. Или спорить во всю силу легких, чем занимались возле канцелярии императорские вольноотпущенники. Вокруг них толпились клиенты, лица их были азартны, глаза горели, словно им тоже не терпелось вволю покричать. Рабов, пусть особо важных, состоявших на дворцовых должностях, теперь сопровождали юнцы из того же сословия. Бросалось в глаза обилие женских лиц. Войной здесь и не пахло – у Бебия, опытного офицера, глаз был наметан.
Всадники спешились у конюшен. Мавританцев отвели в казарму. Клеандр, поджидавший легата, повел его в сторону бань, где в крытом зале Коммод упражнялся с оружием. Здесь же находились префект Переннис и два незнакомых Бебию молодых человека. Один из них, по-видимому, принадлежал к римской знати, другой, томного вида, с подкрашенными глазами красавчик, судя по наряду, являлся вольноотпущенником.
– Аве, цезарь, – легат вскинул правую руку.
– А-а, Бебий, – откликнулся Коммод и жестом пригласил гостя подойти ближе. – Переннис утверждает, что не знает фехтовальщика лучше тебя. Покажи-ка нам свое умение.
Бебий искоса глянул на приятеля, однако тот слова не промолвил.
– Рад служить великому цезарю! – отрапортовал Бебий и, как обычно в таких случаях, принял зверский вид.
Это сделать было нетрудно, так как его нижняя челюсть заметно выступала вперед. Стоило Бебию чуть-чуть добавить в выпячивании, как, глядя на него, дрожь пробегала по жилам.
– Перестань, Бебий, – откликнулся император. – Не надо официальщины, мы ведь старые знакомые. Я всегда был уверен в твоей верности, так что давай запросто.
Взгляд у императора на мгновение затуманился, словно в тот момент он увидал что-то далекое, зыбкое, невесомое, что роднило его с Бебием. Он неожиданно и радостно улыбнулся, затем повторил:
– Да… Можешь обращаться ко мне по имени.
– Слушаюсь, Луций.
Теперь засмеялись все четверо, в том числе и Переннис, которому, по-видимому, уже не составляло труда называть императора Луцием.
– Ладно, слушайся, – согласился Коммод. – Знаком ли ты с моими друзьями? Они только что прибыли из Рима. Это – Саотер, вольноотпущенник. Правда хорош? Вылитый Антиной[11]. Саотер родом из Вифинии. Любитель красиво наряжаться, обладает очень чувствительной душой. Муха, севшая на одежду, лучик солнца, проникший сквозь отверстие в зонтике, способны привести его в отчаяние. А это Публий Витразин. Слыхал о Витразине, знаменитом гладиаторе, сумевшем выбиться в богачи и записаться в сословие всадников, а потом его казнили за участие в заговоре Авидия Кассия. Это его сын? Помнится, ты был не в ладах с гладиатором, но ты не робей, я постараюсь защитить тебя от злобных происков этого молодца. Он весьма искусен во всевозможных проказах и интригах.
Молодой Витразин и Бебий обменялись взглядами, оба холодно улыбнулись. Сказать, что Бебий и Витразин Старший были не в ладах, значило безжалостно исказить истину. Не в ладах они были после первой встречи в Карнунте, в ставке Марка Аврелия, а после Антиохии, где Витразин, принимавший участие в заговоре Авидия Кассия, едва не погубил Лонга, они стали врагами, жестокими и беспощадными. Доклад Бебия о том, как бывший гладиатор, а в ту пору богатый вольноотпущенник подвел под жуткую казнь личного телохранителя императора Сегестия Германика, послужил основанием удавить Витразина в тюрьме.
Император прервал воспоминания.
– Итак, Бебий, какие приемы ты предпочитаешь использовать в рукопашном бою? Какими правилами руководству ешься? Кого считаешь величайшим из гладиаторов? Согласен ли с Публием, что его отец Витразин – наилучший боец из всех, кто выступал на арене?
Бебий немного растерялся.
– Государь, в рукопашной схватке важно не количество выученных приемов, а совершенное владение одним-двумя, не более пяти. Главное, отточить их до автоматизма. Правил немного. Первое, колющий удар – наилучший из всех доступных. Тот, кто пытается рубить мечом, подлежит осмеянию. Удар рубящий, с какой бы силой он ни падал, нечасто бывает смертельным, поскольку жизненно важные части тела защищены и оружием, и костями. Наоборот, при колющем ударе достаточно вонзить меч на длину пальца, чтобы рана оказалась смертельной, но при этом необходимо, чтобы клинок вошел в жизненно важные органы. Затем, когда наносится рубящий удар, обнажаются правая рука и правый бок. Колющий удар наносится при прикрытом теле и ранит врага раньше, чем тот успеет заметить.
Он неожиданно прервался и глянул на императора:
– Прости, Луций, ты славишься умением фехтовать, а я рассказываю тебе азбучные истины.
– Пусть Витразин послушает. Он здесь похвалялся гладиаторским искусством. Мы поспорили, что лучший фехтовальщик моей армии справится с любым гладиатором.
– Только не с моим отцом! – воскликнул молодой человек. – Ему не было равных.
– Почему «не было», – пожал плечами Бебий. – Его побеждали Осторий Плавт – это случилось на моих глазах. Однажды его одолел и Сегестий Германик, и только милость толпы и благоволение императора Антонина спасли его. Этого боя я, правда, не видал.
– Они побеждали, используя подлые приемы! – возразил молодой человек.
Бебий усмехнулся:
– В бою не существует подлых или неправильных приемов.
Публий Витразин решительно не согласился с легатом:
– Да, против варваров, мало чем отличающихся от животных, можно и не стесняться, однако на арене амфитеатра, в присутствии цезаря каждый боец должен соблюдать кодекс чести, дать зрителям великого Рима время насладиться мастерством…
– Именно поэтому, – перебил его Бебий Лонг, – я не очень-то высоко ставлю искусство гладиаторов. В настоящем сражении от него мало толку.
Теперь возмутился император, известный поклонник гладиаторских боев, скачек и всяких других развлечений на арене, особенно сражений с дикими зверями.
– Не скажи, Бебий. Средней руки гладиатор составил бы честь нашему войску, не говоря уж о подлинных мастерах.
– Подлинный мастер – да, государь. От остальных толку мало. Ваш отец уже пытался призвать их в армии. В легионах прижилась едва ли двадцатая часть, и то только те, кто из военнопленных.
Коммод нахмурился:
– В чем причина?
– Сила солдат в действии строем, организованной массой. На поле боя места для демонстрации искусства владения мечом обычно не хватает. Развернуться негде. Наши легионы сильны дисциплиной, выучкой в действии сообща. Когда легионеру приходится браться за меч, важна не красота, а умение быстро, с одного удара сразить противника. В сражении публики нет, аплодисменты выпрашивать не у кого. Если хочешь выжить, тем более победить, нельзя давать шанс противнику увернуться от решающего удара. В этом все искусство солдата. В бою тот хорош, кто соединяет свободное владение оружием, взгляд, соображение, быстроту и точность. Лично я предпочитаю орудовать щитом.
– Как интересно! – воскликнул Саотер и захлопал в ладоши.
Удивился и император. Недовольство его растаяло.
– Как это? – поинтересовался он.
– Щитом, государь, можно бить снизу вверх, в горло или подбородок противника – они обычно незащищены. Можно нанести удар умбоном[12] (он являлся центром рельефной композиции) в грудь или ударить нижней кромкой по стопе или голени врага. Одним словом, победа достается тому, кто не теряет голову и способен использовать все, что подвернется под руку.
– Это все слова, слова, слова, – скривился Витразин.
Император поддержал его:
– Он прав, Бебий. Я, собственно, приказал вызвать тебя в ставку, чтобы ты продемонстрировал свое искусство, сразился на моих глазах и подтвердил славу лучшего бойца в армии. Витразин вызвался быть твоим противником. Мы поспорили, и я поставил на тебя.
Бебий Лонг опешил. В этом и состоит причина спешки? В такой момент?! Он бросил взгляд на Перенниса – подскажи, не шутит ли принцепс? Что имеет в виду? Что вообще здесь творится? Префект, все время помалкивающий, и на этот раз ничем не выразил своих чувств. На его лице ни одна жилка не дрогнула. Он держался возле принцепса одновременно и раскованно, и с известным, понятным только опытному служаке напряжением, словно постоянно ждал приказа. При этом Переннис вовсе не «ел глазами начальство» – начальству это надоедает. Старался быть незаметным, но всегда оказаться под рукой, однако это искусство еще не в полной мере давалось ему – напряжение пока пересиливало.
Между тем молодой Витразин небрежно упер руку в бок и, глядя прямо в глаза легата, заявил:
– Не думай, Бебий Корнелий Лонг, что тебе удастся легко справиться со мной, на первый взгляд юным и неопытным в умении обращаться с оружием растяпой. Ты глубоко ошибешься, если позволишь себе небрежность или легкомыслие, потому что я – сын Витразина, самого знаменитого гладиатора в истории Рима. Он никогда не знал поражений и по этой причине за доблесть был вознесен в ряды славных граждан Вечного города…
Легат вздохнул и предложил Саотеру примкнуть к товарищу. Двое против одного – эта идея очень понравилась императору, однако вифинянин жеманно всплеснул руками:
– О, нет, нет и нет. Это не для меня. Мое дело – цвести, ублажать, любить и быть любимым. Если желаешь, Бебий, я мог сразиться с тобой в другом, более уютном и затемненном месте.
Глаза у легата расширились, он невольно открыл рот, отчего на его лице нарисовалось удивленное, совсем детское выражение.
Коммод захохотал, хлопнул Бебия по плечу – он был на полголовы выше легата, приструнил Саотера.
– Не вздумай соблазнять моего лучшего воина, негодник. Тебе мало, что правитель мира поддался на твои чары? Прикажи подать нам калду[13]. Ты ведь теперь управляющий в моем дворце. Так что побеспокойся. Я хочу пить.
Между тем Витразин и не собирался кончать речь, доказывая тем самым, что отец не поскупился не только на обучение его военному искусству, но и на его образование.
– …Всякому удачному приему он обучал меня по многу раз, но главная заповедь, которую преподал мне отец, заключается в том, что мало отвечать ударом на удар. Следует еще победить соперника духом, заранее нагнать на него ужас. Еще до схватки привести его к мысли о невозможности победы и неминуемой гибели и позору, если он попытается воспротивиться занесенному над его головой мечу…
– Мы сражаться будем или нет? – спросил Бебий.
Коммод вмешался, дал знак Переннису.
– Тигидий, помоги Бебию, прими оружие.
Прежде всего легат бережно уложил на возвышение серебряный жезл с маленьким орлом на вершине – знак командира легиона, поставил богато украшенный, с нащечниками и козырьком шлем с роскошным плюмажем из страусиных перьев, окрашенных в алый цвет, снял белый плащ с широкой красноватой полосой. Затем расстегнул пояс-сингулум, на котором был подвешен слегка изогнутый иберийский меч. Другой меч, называемый «пуджио», – малый, с узким тонким лезвием – был пристроен к перевязи, переброшенной через правое плечо. Пояс и перевязь Бебий передал по-прежнему молчавшему Переннису. Тот помог ему расстегнуть крючки на богато украшенной гравировкой кирасе, защищавшей грудь и плечи. Снизу к кирасе были прикреплены ниспадающие кожаные полоски, прикрывающие живот и пах. Наконец Бебий Корнелий Лонг остался в тонкой шерстяной тунике. Он взял деревянный, предназначенный для упражнений меч и вышел в центр зала, где его уже дожидался Витразин.
– Приступайте, – объявил император. – Схватка на мечах, без щитов. До первого падения или потери оружия.
Противники встали во вспомогательную позицию. Первым решился на атаку Публий Витразин. Он сделал ложное движение плечом – Бебий перехватил его взгляд, сознательно уклонился в сторону и сделал полшага назад, стараясь выйти из меры[14]. В следующее мгновение Публий решительно бросился вперед, и Бебий, заранее предвидя его выпад, сдвинулся вбок и успел подставить ногу. Молодой человек споткнулся и упал на пол. В следующее мгновение, не давая возможности подняться, легат навис над ним и приставил меч к груди.
Коммод восторженно зааплодировал.
– Ты обучишь меня этому приему, Бебий, а сейчас – в парилку. Массаж, вода, потом знатный обед. Я угощаю, Бебий. У меня сегодня дичь – жареный гусь с яблоками. Пальчики оближешь. После чего мы кое-что с тобой обсудим. А ты, Тигидий, – император обратился к префекту, – продолжишь переговоры с варварами и передашь им мои условия.
– Рад исполнить, великий, – поклонился Переннис.
Глава 5
Разговор состоялся в таблинии, после действительно очень вкусного и обильного обеда, во время которого Саотер так и льнул к императору. Тот вовсе не был против, время от времени прижимал его к себе и целовал в губы. Правда, и прогнал его без церемоний, столкнул с ложа и добавил ногой. Пинок оказался увесистым, вифинянин покатился по полу. Встал, обиженный, надул щечки и едва не заплакал. Коммод строго прикрикнул на него:
– Нечего нюни распускать! Займись делом, даром, что ли, я тебя в управляющие произвел?
Витразин и Переннис поспешили покинуть помещение без дополнительного напоминания. Император предупредил префекта:
– Отправляйся на переговоры. Завтра доложишь.
Оставшись вдвоем с Бебием, император долго молчал, потягивал калду, прищурившись, посматривал на легата. Того томила неизвестность. Первый после долгого молчания вопрос императора прозвучал ошеломляюще:
– Вспоминаешь Марцию?
Бебий сглотнул.
– Нет, государь. Редко.
– А я часто, – признался Коммод. – Всякий раз, когда испытываю грусть, ее лик приходит на ум. Шкатулка у тебя сохранилась?
– Да. Храню в Риме, под присмотром Виргулы.
– Сын подрастает?
– Да, уже скоро восемь лет исполнится.
– Он знает, кто его отец?
– Нет, государь. Его считают сыном Сегестия и Виргулы.
– А как твоя Виргула к нему относится?
– Любит, государь. Относится как к родному. Она вообще добрая женщина.
– Помнишь, как ты, Лет и Тертулл стояли перед моей матушкой и договаривались выкрасть Марцию? Там еще Сегестий Германик присутствовал, телохранитель отца. Вот уж был рубака так рубака, он меня и учил владеть оружием, – император вздохнул. – Ты держал шкатулку под мышкой. Я вырвал коробочку у матушки, открыл и увидал на крышке ее портрет. В такую можно влюбиться, жизни не пожалеть. Какая разница, что она рабыня. Кажется, твоя мать Матидия продала Марцию этому лысому развратнику Уммидию Квадрату. Помнишь Уммидия?
Бебий кивнул, опустил голову. Ожогом вспомнились короткие и страстные встречи с Марцией, выросшей в доме Лонгов и отданной ему после возвращения из первого похода, чтобы унять мужское желание.
Желание унял и влюбился – до умопомрачения, до решимости бросить все. Матушка не позволила. Пока Бебий, служивший в ту пору в преторианских когортах, отсутствовал, Матидия продала Марцию зятю Марка Аврелия, Уммидию Квадрату. В ту пору Бебий и совершил неподобающую потомку славного рода Корнелиев дерзость. В компании с друзьями – Квинтом Летом и Сегестием – он выкрал девушку из виллы Уммидия и спрятал рабыню в доме Германика. Император Марк Аврелий Антонин, разбиравший это поразившее весь Рим похищение, отправил Бебия, Квинта и Тертулла в ссылку. Сколько в ту пору было Коммоду? Лет десять, не больше. Он тоже рвался участвовать в похищении Марции.
Император потягивал вино из огромного золотого фиала, помалкивал, видно, тоже предавался воспоминаниям.
Ссылка в Сирию обернулась приключением, во время которого Лонг нашел жену, Клавдию Секунду. Что-то около десяти лет минуло с той поры. Он искоса глянул в сторону императора – какая причина заставила его, бывшего в ту пору совсем мальчишкой, вспомнить эту давнюю историю? Чем больше он общался с новым цезарем, тем менее понимал его.
Луций Коммод Антонин в упор посмотрел на легата, затем спросил:
– Выходит, все у тебя в порядке, все по воле богов устроилось. Что ж, я рад. Домой не тянет?
Бебий вновь машинально кивнул. Император, вроде бы удовлетворенный таким ответом, усмехнулся:
– Меня тоже. Эта Паннония надоела хуже Клиобелы.
Заметив недоумение во взгляде легата, император неожиданно заливисто, от души рассмеялся:
– Ты не знаешь, кто такая Клиобела? Я тебе завидую, Бебий. Также завидую тем, кто гуляет по римским форумам, парится в римских банях, посещает конные состязания, может воочию наблюдать за непревзойденными в своем деле гладиаторами. Какие бойцы выступают на арене! Витразин сообщил мне их имена. Какие имена! Это же просто песня: Аттилий-живодер, Афинион, этот из киликийских разбойников, сицилиец Тимофей, пердун и похабник, каких свет не видывал. Как он пускает ветры на арене! Это надо слышать!.. Если бы ты знал, Бебий, как я скучаю по италийскому небу. Однако не нами устроен этот мир, не нам и горевать по поводу его несовершенства. Наша обязанность – исполнять долг. Так, кажется, утверждал мой отец. Мудрые слова. Вспоминаю, он также добавлял, что бездумное исполнение долга есть худшая пародия на волю небес. Дурак с инициативой – самое разрушительное орудие в любом хозяйстве, особенно в империи. Так что давай не будем дураками и выпьем еще по одной.
Он щелкнул пальцами, и стоявший словно истукан молоденький, первой свежести негритенок тут же ожил и наполнил императорский сосуд. Столь же юная, едва скрывавшая страх рабыня долила вино Бебию. По-видимому, ей уже объявили, что сегодня ночью она будет ублажать гостя императора. Вот этого, здоровенного, со зверским лицом легата. Бебий прикинул – на вид рабыне было лет двенадцать, не более того, худенькая, ребенок. Не так уж высоко ценил император своего гостя, если подобрал ему такую кроху.
Коммод возблагодарил богов за щедрость, Фортуну – за удачу и опрокинул фиал. Когда Бебий осушил свой, он продолжил:
– Вернемся к тебе, Бебий. Значит, скучаешь по дому?
– Так точно, государь.
– А тут приходится пить ледяную воду, проверять патрули, муштровать новобранцев, следить в оба за враждебными племенами и ждать, когда же этот юнец отдаст приказ двигаться на север. Так, Бебий?
– Да, государь.
– Хвалю за откровенность. Я долго перебирал, с кем бы мне поговорить по душам, кому доверить тайные мысли, с кем посоветоваться. Всех перебрал – и «стариков» из претория, и тех, кто из молодых, да ранний. Лет, твой напарник в поездке. Переннис покладист, но неловок, никак не может справиться с волнением от близости к моей особе. Никак не может поверить, что имеет возможность запросто общаться с божественным императором. К тому же он мелкая сошка, а тебя в армии знают. Твое прозвище известно самому последнему саперу-фабру. «Любимчик философа»! Это звучит. Сам я никогда не был у отца в любимчиках, но каждому свое. Было время, когда боги решили доверить управление Римом философу – вероятно, посчитали, что и это блюдо стоит попробовать. А то все Траяны да Домицианы, вояки да изверги. Теперь обратились ко мне, гуляке и фанфарону, забавнику и шутнику, бабнику и папнику. Ты согласен, что смертные не вправе обсуждать этот выбор?
– Согласен, государь. Мне и в голову не приходило…
– Подожди, – перебил его император. – До головы еще дойдем. Скажи, Бебий, ответь мне прямо, без уверток и опаски, – ты полагаешь, что успех похода обеспечен? Все те меры, которые предпринял отец, вся эта мощная сила, более сотни тысяч воинов дают полную гарантию победы?
– Государь, принято считать, что на войне все решают число воинов, их доблесть, искусство военачальников и судьба, которой подвластны все человеческие деяния, а исход войны всего более. Так утверждал Тит Ливий, а старику можно верить. В таком случае ни один, даже самый великий, полководец не вправе заранее утверждать, что победа обеспечена и стоит только протянуть руку и взять ее. Однако все, что касается первых трех условий, сделано.
– Я как раз и желаю протянуть руку и взять ее. Никакая другая победа меня не интересует. Дело не в интересе, славе, дело даже не в трофеях. У меня нет выбора, Бебий, и я хочу объяснить почему. На протяжении десятилетия мы воюем с германцами уже второй раз. Воюем третий год, и каков результат? Их сопротивление ослабевает? У них дрожат коленки? Они с ужасом ждут, когда римские войска вторгнутся в их пределы? Если ты полагаешь, что я не понимаю сути замысла отца, ты ошибаешься. Я вник и полностью согласен, что в тех условиях, в каких воевал Марк, это было разумное и, безусловно, исполнимое решение. К сожалению, я нахожусь в других условиях, и мое желание заключить мир с германцами – это не прихоть, не боязнь перед суровыми испытаниями, не каприз юнца, а суровая необходимость.
– Как это? – не смог сдержать удивления Бебий.
– Ты давно не был в Риме и не знаешь, о чем твердят на его улицах. Витразин сообщил, что в народе ходят упорные слухи, что едва вышедшему из детского возраста Коммоду следует предпочесть мужа в зрелых годах, ничем не запятнанного, знатного, родственника Марка.
– Мало ли о чем болтает римский плебс! – воскликнул Бебий.
– Ты заблуждаешься, Бебий. Слухи – это не болтовня. Римский плебс – это и сборище голодранцев, и безмозглая толпа, но и сила, живущая по своим законам и способная смести любого, кто станет ей неугоден. Отец попытался отнять у народа развлечения и заставить всех быть философами. Он доказал свое право требовать от народа того, чего ему не присуще. Я же не философ, наоборот, меня с детства терзали философией. Я не желаю бесстрашно, в здравом рассудке принимать смерть, чему учит эта наука. Я вообще не желаю умирать. Беда в том, что я могу быть либо цезарем, либо никем. Кто из более удачливых соперников, если такие найдутся, оставит меня в живых? Согласен?
Легат кивнул.
– Вот из этого постулата я и вынужден исходить. Я не говорю, что угроза зрима или неотвратима, но у меня складывается впечатление, что кое-кому просто не терпится втянуть меня в войну на границе. Кто-то очень хочет, чтобы я увяз здесь по уши и не мог не то чтобы уехать в Рим, но даже на короткий срок вырваться из Паннонии. Сколько я ни допытывался у Пертинакса, у Сальвия Юлиана – успеем мы дойти до Океана за одну кампанию? – никто из них не взял смелость твердо ответить мне: да или нет. Все взывают к богам, отдаем будущее на их суд. Это значит, что никто из них до конца не уверен, что мы решим эту задачу за год. Согласись, в том положении, в каком находился отец, это в общем-то ничего не значило. Годом позже, годом раньше – какая разница! Стоило ему, победителю парфян, квадов, маркоманов, каких-то гермундуров – одним словом, матерому цезарю, – едва шевельнуть легионами, как мятежник Кассий сразу рухнул. Отец был символом, полубогом, никому в империи после урока, преподнесенного им сирийцу, в голову не приходило бросить ему вызов. С чем же столкнулся я? На, почитай.
Он вытащил из-за пазухи тоги свиток и, не глядя, протянул его в пространство.
Безмолвный негритенок аккуратно взял документ, передал его рабыне. Та, в свою очередь, двумя руками приняла свиток и с поклоном протянула его легату. Бебий Корнелий Лонг угрюмо взглянул на нее, и ручки у девочки дрогнули. Гость принял послание, развернул его и увидел подпись Ауфидия Викторина, городского префекта Рима, ответственного за порядок в столице и Италии.
– Читай там, где я оставил отметину ногтем. Читай вслух, – подал голос Коммод.
«…все эти знамения ясно показывают, что римский народ обожает сына великого Марка. В городе теперь носят исключительно его любимые цвета. Женщины известного поведения, которым он когда-то оказывал честь и одаривал любовью, теперь нарасхват. Они дерут втридорога, и, несмотря на это, к ним выстраивается очередь из лиц всаднического сословия и сенаторов. В городе нет уголка, где бы ни славили нашего императора, нашего богатыря, нашего Геркулеса, чья десница могуча и неподъемна для врагов».
– Видал? – произнес цезарь. – В очередь к шлюхам вы страиваются. Ручища моя неподъемна для врагов. Я, конечно, малый крепкий, вымахал что надо, мечом, копьем владеть умею, однако я жду от Ауфидия подробного и проницательного от чета о настроениях в городе, а он шлет и шлет мне панегирики. Понятно, он опасается за свое место, но описывать поведение шлюх в тот момент, когда решается судьба империи, по крайней мере легкомысленно. А вот что рассказали мои друзья, недавно прибывшие из Рима. В сенате разброд, нелестные для меня раз говоры. Многие, очень многие полагают, что передача власти по наследству – неслыханный и незаконный вызов древним установлениям, которыми живет город. Кое-кто возмечтал о том, чтобы набиться мне в советники и указать верную дорогу к славе. Другие, как я уже сказал, вслух заявляют, что распутный сын великого отца недостоин править Римом.
Он спустил ноги, сел на ложе, ссутулился.
– Прикинь, Бебий, что начнется в Риме, когда там узнают, что я застрял в Богемии. Сколько радости для тех, кто предупреждал о моей незначительности, неумении управлять государством. И в такой момент меня усиленно вынуждают отодвинуть войска подальше от Рима, увязнуть в непроходимых лесах и болотах, бросить столицу и, следовательно, империю на произвол судьбы. Или на попечение тех, кого я выберу, ведь мне придется утвердить кого-то в должности управителя государством.
– Государь, я готов выполнить любой твой приказ.
Император поморщился:
– Не о тебе речь. Твое дело – командовать легионом. Хорошо будешь командовать, станешь сенатором, а то и консулом, получишь провинцию в наместничество. Ты что, не понял, о чем я веду речь?
– Понял, государь. Тебя беспокоит, как бы тебя не оставили не у дел в тот самый момент, когда обострится положение на востоке империи.
Коммод закивал:
– Именно! План – проще не бывает! Как только я увязну на севере, кто-нибудь из наместников на востоке поднимает мятеж, и я оказываюсь зажатым между двух огней.
– Но, государь, с легионами Северной армии тебе победа обеспечена. Мы все встанем за тебя.
– Но зачем вставать? Зачем доводить дело до гражданской войны, ведь война, ты сам только что сказал, дело ненадежное.
– Какой же ты видишь выход, цезарь?
– Мир с варварами. Надежный, долговременный, обеспеченный присутствием на границе лучших легионов. Лучшей острастки для внешних и внутренних врагов не придумаешь. Отсюда я могу легко перебросить войска по любому азимуту, в то же время близость коварных германцев и кельтов по ту сторону Данувия не позволит нашим воинам, от рядового до полководца, расслабиться.
– Государь, помнишь, я был сослан в Сирию. Мне лучше других известна трещина, которая перед кончиной очень тревожила твоего отца. Восточная часть империи, если вовремя недоглядеть, вполне может отколоться и пуститься в самостоятельное плавание. Согласен, что перед началом летней кампании надо еще раз все хорошенько взвесить. Все равно лично я полагаю, что поход необходим. Я согласен с твоим отцом, что, разгромив варваров на севере и водрузив легионные орлы на берегу Океана, мы тем самым решим обе задачи: сохраним единство империи и обеспечим безопасность северных границ. Однако твои доводы тоже весомы. Стоит молодому цезарю застрять в Моравии и Нижней Германии – и нельзя исключить безумств, которые могут родиться у кого-то в воспаленном воображении. Конечно, я не обладаю полнотой информации, чтобы дерзнуть советовать тебе, однако этот разговор придал мне надежду, что решение будет принято разумное и дальновидное. А это так важно для легата. Вот почему я сказал, что готов выполнить любой твой приказ.
– Это я и хотел услышать. Я требую от тебя немногого. На будущем совете твердо выскажи свое мнение насчет того, о чем мы здесь только что говорили. Спроси, кто готов дать гарантии, что за оставшиеся шесть месяцев мы добьемся успеха и организуем новые провинции?
Бебий поколебался.
– Но я верю в успех кампании нынешнего года.
– Можешь предложить себя в главнокомандующие. Я тебе доверяю и, если не будет других предложений, поддержу твою кандидатуру.
– Нет, цезарь. Это мне не по плечу.
– А Пертинакс, например, ответил, что он готов взять на себя ответственность. Правда, потом стушевался. Неожиданно заявил, что взвесил все за и против и пришел к выводу, что в нынешнем положении никто, кроме императора, не может возглавить поход. Как полагаешь, к чему он клонит?
Бебий пожал плечами:
– Я не знаю, я не Пертинакс.
– И я не знаю. Я прошу тебя озвучить свое мнение на совете, только и всего. Повторяю еще раз, можешь предложить себя в главнокомандующие.
Он сделал паузу, выпил еще вина и заявил:
– Все, на сегодня хватит. Приглашаю тебя проветриться. Сегодня ты останешься у меня, я назначаю тебя своим гостем. Как тебе дичь, которую мы только отведали?
– Что-то потрясающее, – признался Бебий.
– К тому же у меня есть замечательное фалернское, которое только что доставили во дворец.
– Государь, у меня есть просьба.
– Говори. Готов исполнить все, что бы ты ни попросил. Желаешь, чтобы тебя обеспечили женской лаской? Сделаем. Есть у меня «огурчик», пальчики оближешь. Его уже и Переннис, и Витразин попробовали – говорят, что-то необыкновенное. Буря и страсть, а вопит так, что в городе слышно. Потрясающе!
Заметив, как изменился в лице Бебий, император рассмеялся.
– Я не настаиваю. Не хочешь – не надо, спи один в холодной постели. Что за просьба?
– Государь, разреши Тертуллу вернуться в Рим. Десятый год поэт живет в Африке. Он раскаялся и молит о прощении.
– Это какой Тертулл? Который спал с моей матушкой? А что, его до сих пор не помиловали? Ничего не скажешь, был весельчак. Теперь, наверное, поумнел. Хорошо, Бебий, пусть возвращается в Рим, но только при одном условии. Никаких шуточек, намеков, эпиграмм. Пусть займется описанием моего славного царствования. Договорились?
– Да, мой государь.
В военном лагере Бебий привык ложиться с заходом солнца, так что за полночь он уже не мог скрыть зевоту, и государь милостиво разрешил ему отправляться спать. В такой поздний час легату было трудно состязаться в жизнерадостности с друзьями Коммода.
Шум во дворце не стихал долго. Бебий проклял демонов, затащивших его в это аидово гнездо, в эту пыточную, где без конца вопили, ругались, хохотали. Друзья цезаря декламировали бессмертные строки Вергилия, старались перекричать друг друга, а то вдруг начинали соревноваться в умении дудеть в трубу. В лагере Бебий всегда спал вполуха, служба приучила реагировать на каждый непонятный, незнакомый звук, потому что на вражеской территории всякий подобный окрик, свист, птичья трель, совиное уханье, трубный рев оленя могли таить опасность. Здесь опасности не было, но пересилить себя трудно – каждый раз, как во дворце кто-то начинал голосить, петь, бряцать, он вскидывал голову. Окончательно допекла его ссора в коридоре, рядом с его дверью.
Началось с душераздирающих криков и громкой ругани, на которую не скупился взволнованный женский голосок. Затем кто-то завизжал, заохал, в ответ послышались звучные шлепки. Бебий рывком сел на ложе. Из коридора неслось: «Ой, убивают! Уберите от меня эту безумную! Отнимите у нее кинжал!» – все комком! – затем тончайшее «Ой-ё-ё-ё-ё-ё-й!» и наконец кто-то рявкнул басом: «Лярвы вас раздери, что здесь творится?!»
Бебий не выдержал и выскочил в коридор.
У дверей спальни императора шла отчаянная борьба. Какая-то молоденькая девица с распущенными волосами, в разорванной тунике, совершенно обезумевшая, пыталась достать кинжалом до смерти напуганного, нарумяненного и надушенного Саотера, который, по-видимому, направлялся в спальню Коммода. Визжал вольноотпущенник, грозила и нападала девица. Ее пытался удержать могучий преторианец, однако и ему было нелегко справиться с напором, который выказала неизвестная злоумышленница. Разгневанный, появившийся в окружении толпы слуг император, которому принадлежало: «Лярвы вас раздери!..» – тоже пытался разнять дерущихся.
На лице вольноотпущенника кровоточила глубокая ссадина. Он пока не замечал ее, однако стоило ему провести рукой по щеке, потом заинтересованно оглядеть ее – отчего ладонь намокла? – как он тут же потерял сознание и опустился на пол.
Коммод рассвирепел, принялся кричать на девицу – как она смеет врываться в государевы покои, поднимать здесь шум! Ступай на кухню, там твое место! Затем попытался ударить ее. Девица смело подставила ему обнаженную грудь и ответила что-то совершенно невообразимое: «Ты не смеешь меня прогонять! Я твоя супруга! Почему ты не допускаешь меня к себе, а тешишься с этим извращенцем и негодяем!»
Изумленный Бебий открыл рот – вид у него был поистине дурацкий, что не преминул отметить Коммод. Заметив легата, он ткнул пальцем в его сторону и залился хохотом.
– Взгляните на Бебия! – закричал он, призывая всех, кто находился в коридоре, отвлечься от драки и обратить внимание на новое действующее лицо. – «Любимчик» совсем ополоумел.
Затем он игриво окликнул его.
– Бебий! Челюсть потеряешь.
Легат опомнился, закрыл рот, хмыкнул, спросил:
– Чем могу помочь, государь?
– Без тебя разберемся. Дело, как говорится, семейное. А на счет шума не беспокойся, Переннис все уладит. Ступай.
Бебий едва не откликнулся: «Слушаюсь, цезарь!» – однако в последнее мгновение решил, что это уже слишком. Нельзя же выглядеть полным дураком, которого по команде отправляют спать. Он, соблюдая достоинство, потоптался на пороге, затем вернулся в спальню. Дверь оставил чуть приоткрытой.
Свалка постепенно перешла в нервное выяснение отношений и поиск компромисса (разговор по-прежнему велся на повышенных тонах). Император вроде бы нашел приемлемое решение и предложил рыдающей девице пройти в спальню вместе с пришедшим в себя и вставшим с пола Саотером. Это будет здорово, пообещал ей император, и вполне по-человечески, ведь не в моих правилах обижать близких мне людей. Ему тоже хочется, он указал на вольноотпущенника, и тебе, Кокцея, хочется. И мне хочется, вот и совместим наши желания в единую ненасытную страсть.
Кокцее этот вариант был явно не по душе. Она попыталась вновь напасть на Саотера.
– Убирайся прочь, служитель гнусной Изиды. Луций, прогони его…
Бебий не выдержал, наглухо закрыл дверь, тупо, словно спросонья, оглядел предоставленную ему комнату, словно ожидая и здесь увидеть что-то невероятное. Что-нибудь чудовищное, неожиданное… Например, прежнего императора. Привидению он удивился бы меньше, чем Кокцее, утверждавшей, что она является «супругой» императора. Эти два понятия – Кокцея и супруга правителя великого Рима – совместно не укладывались в голове. Когда молодой цезарь обзавелся супругой? Почему в армии об этом ничего не известно? Что скажут в легионе, когда весть о женитьбе молодого цезаря дойдет до солдат? Как объяснить, почему по такому торжественному случаю не были розданы наградные?
Или вот еще загадка: если император твердо решил отложить поход и заключить вечный мир с германцами, зачем он советовался с Бебием? Не такая он великая сошка, чтобы делиться с ним тайными мыслями? Что на самом деле затевает Коммод? Чего добивается? Легат не мог избавиться от тревоги – за разговором в триклинии, за коридорным театральным действом, за желанием наградить его женской лаской смутно просвечивало что-то огненное и жуткое. Отчаянно забилось сердце, словно попыталось вырваться на волю – не лежалось ему в реберной клетке. Почуяло что-то безрадостное?
Тем временем шум в коридоре стих. Бебий машинально прикинул: на чем сошлись? Все трое отправились в спальню, или Кокцея сумела отстоять свои права на супружеское ложе и заставила вольноотпущенника вернуться в свою комнату? А может, повезло вифинянину? Вопрос философский, усмехнулся легат, под стать Эпикуру.
Бебий с детства испытывал неприязнь к философии как к некоей занесенной извне зауми, сбивающей с толку римского гражданина, которому для покорения мира вполне доставало веры в отеческих богов и привычных добродетелей – pietas, gravitas, simplicitas[15]. В римских семьях эти ценности всегда были приоритетны, пусть даже таких семей оставалось немного. Всякие отвлеченные, отличные от привычных житейских представлений понятия, как-то: первостихии, мировой разум, мир, представляемый в виде cosmos’а, как всеобщее, целое; одухотворяющая его пневма, калокагатия, эйдосы[16], вызывали у молодого легата раздражение.
С прежним цезарем было проще. Марк никогда не ставил себе в заслугу приверженность философии, да и понимал он ее совсем по-римски, как некий устав, имеющий прежде всего практическую ценность. Никому своих пристрастий не навязывал, воспитывал личным примером и выше всего ставил здравомыслие, приверженность родным очагам, военную и гражданскую доблесть. Помнится, в присутствии Марка Бебий, тогда еще молодой трибун, ненароком обмолвился, что «ненавидит философию». Ляпнул и прикусил язык.
– Ненавидишь философию? – удивился Марк. – Я рад за тебя, Бебий. Ты рассуждаешь здраво, по природе. Если бы ты знал, сколько ненавидящих философию прилюдно восхищаются ею, изображают умников, требуют наград за то, что осилили первое предложение в платоновском «Пармениде». Если бы знал, разочаровался в человеческой породе. Философия и не должна нравиться. Философия – это образ жизни. Как здоровому не нужен лекарь, так и тебе, чтобы жить добродетельно, ни к чему философия. Ты редкий экземпляр, Бебий, ты живешь, как дышишь, не замечая пороков и не нуждаясь в советчиках и учителях.
Были у легата свои счеты и с христианами, лишившими его отца.
Спать уже не хотелось. К тому же после всех вкусностей, после замечательного фалернского, какими угощал его император, Бебию в самом деле нестерпимо захотелось женщину.
Заиграла память, представила жену, Клавдию Секунду. Она была обнажена, манила его, от этого зова стало совсем невмоготу. Помнится, в Моравии в самом начале оккупации, пару раз приказал своему рабу Диму пригнать женщин из захваченной добычи. В сердцах добавил: выбери помоложе, посимпатичней. Первая, маркоманка из мятежного клана, очень понравилась. Он спросил ее – по доброй воле или силком? Золотоволосая, полная красавица ответила: лучше убей! Бебий вздохнул, дал знак Диму – уведи, потом распорядился записать ее в свою добычу. Другая, из пришлых славян, согласилась и разрыдалась. Бебий пожил с ней неделю, как-то ночью в сердцах назвал ее Клавой, после чего приказал сбыть работорговцу, которые в ту весеннюю пору, в преддверии большого похода буквально наводнили южные области Богемии и Моравии. С тех пор воздерживался.
Он разделся, лег, вздохнул глубоко, с надеждой на близкий успокаивающий сон, в котором забудутся тревоги, шум во дворце и эта огненная полоска, что обожгла сердце.
Смежил веки, прислушался. Хвала богам, в замке наконец-то установилась тишина.
В следующее мгновение скрипнула дверь, кто-то вошел в его комнату. Бебий замер, изготовился. Мысленно прикинул расстояние до лежавшего у изголовья кровати меча, успокоил себя – достать успеет. Все-таки осторожно потянулся к мечу. Следом почуял – женщина! Сердце забилось сладостно, невыносимо. Неужели худенькая девчонка, прислужившая ему в триклинии? Спасите боги от насилия над ребенком. Решил прикинуться спящим.
Послышались шаги, грузные, топающие. Удивленный легат перевернулся на спину, осторожно глянул на вошедшую. В тусклом свете едва мерцающей масляной лампы различил – действительно, женщина, только какая-то необъятная, шире двери. Ни слова не говоря, она скинула тунику и влезла на ложе. Постель заметно прогнулась под ее весом. Женщина потянулась, раскинув руки в сторону, затем повернула голову, глянула на Бебия. Тот дар речи потерял.
Женщина зевнула еще раз и спросила:
– Ты кто?
Бебий зажмурился, попытался заклинаниями отогнать видение. Вновь открыл глаза. Женщина не исчезла, от нее пахло луком и еще чем-то вкусным и притягательным – то ли молоком, то ли хлебом.
– Я спрашиваю, ты кто? Легат?
– Да, – отозвался Бебий.
– Хвала богам, угадала. Сказали, комната в конце коридора. Мало ли комнат в этом проклятущем коридоре. Забредешь еще к какому-нибудь сосунку. А то еще к поклоннику мужчин. Тоже радость – ублажать такого! А ты мужчина видный, вполне стоящий.
Она просунула руку и погладила Бебия. Провела сверху вниз по груди, животу, остановилась ниже паха. Ухватилась ловко, твердо.
– Не-е, ты вполне сносный мужчина. Ну, давай, мужчина, а то я вся уже трепещу.
Она поерзала в постели, отчего ее огромные груди придавили Бебию ребра.
– Нет, в самом деле, трепещу. Я страсть какая заводная. Только в последнее время заводить некому. Как приехал этот Саотер, так кончились сладкие денечки.
Бебий, с трудом преодолевая желание, все-таки счел уместным поинтересоваться:
– Ты кто?
– Клиобела. Неужели ты никогда не слыхал о Клиобеле?
– Рабыня? Вольноотпущенница?
– Я – женщина! Женщина, и этим все сказано. Давай, а? А то навалюсь сверху, дохнуть не сможешь.
Глава 6
Клиобела покинула спальню с первыми лучами солнца. На прощание жарко поцеловала Бебия, всхлипнула.
– Пора на кухню. Там без меня – зарез, что-нибудь не так сделают. Послушай, Бебий, ты в больших чинах? Я слыхала, ты легат.
– Да, и что?
– Взял бы ты меня к себе? Поселил бы в домике, в Виндобоне, я бы тебя ждала. Все-таки легче служить, когда есть к кому приезжать. Этих всех по боку, а не то! – она показала кому-то здоровенный кулак.
Бебий не смог сдержать улыбку.
– Нет, правда, – искренне призналась женщина. – Ты мне понравился. Деликатничаешь. У тебя жена есть?
– Есть. В Риме.
Клиобела помолчала, потом робко попросила:
– Я не буду ей помехой… Дальше Виндобоны носа не высуну.
Она села на постели, ее спина загородила полкомнаты, и все равно ее масштабы лишь подчеркивали присущую ей привлекательность. Было в ней что-то неодолимо зовущее, что-то мясисто-прекрасное. Она и личиком была симпатична, фигуриста, даже грациозна, несмотря на свои фунты. Может, в самом деле купить домик в Виндобоне? Все равно поход отменяется…
– Хорошо, ступай. Я подумаю.
– Благодарю, господин.
Бебий не удержался, подошел к ней, обнял, поцеловал. Она покорно прильнула к нему, потом тело ее встрепенулось, она жарко выдохнула и позволила себе обнять господина.
– Ступай, – наконец приказал Бебий. – Мир тебе, женщина.
Клиобела ушла.
Он вернулся на ложе, посмотрел на руки, повернул их кистями вверх. Сжал пальцы в кулак.
Как теперь будет с новым цезарем? Правитель не желает воевать. Он падок на удовольствия, обожает театр, бои гладиаторов, конные состязания. Опыт подсказывал – мир неизбежен, возвращение императора в Рим неизбежно, и намечаемый на ближайший после вторых Розалий[17] день военный совет лишь огласит то, о чем открыто говорят в ставке. В таком случае все его, Бебия, дальнейшие планы, намерение утвердить себя среди верхушки римских полководцев и получить богатое наместничество, какими он тешил себя перед походом к Океану, рухнули, и с этим надо смириться.
Смириться? Перестроиться? Научиться жить по-новому или попытаться добиться того же иным путем? Взять пример с Перенниса, успевшего понравиться императору? Надолго ли? Бебий был уверен, что ненадолго. Не такой уж простак Коммод, каким казался с первого взгляда.
Между тем веселье во дворце продолжилось и на следующий день. С утра на Бебия вдруг посыпались бесчисленные поздравления. Публий Витразин сразу после пробуждения поспешил к легату и с радостной улыбкой приветствовал его. Затем примчался Саотер. Сам император навестил Корнелия Лонга в его спальне, поинтересовался, что да как? Растерянный вид Бебия доставил всем истинное удовольствие. Император, едва сдерживая хохот, одобрительно похлопал его по плечу и потребовал – давай подробности. Бебий не мог взять в толк, какие именно подробности интересовали цезаря? Неужели те, которые касались его и Клиобелы? Откровенничать в этом вопросе Бебий не мог, честь не позволяла. Он так и сказал Луцию. Витразин и Саотер обиделись, начали упрекать Лонга, что, мол, тот скрытничает, не желает делиться с друзьями «вкусненьким», однако цезарь поддержал легата.
– Ладно, расскажешь во время праздника.
Или, может, цезаря и новоявленных дружков интересовало что-то другое?
Главные торжества этого дня начались после полудня, когда в замок из столицы прибыли объявившие себя горячими поклонниками молодого цезаря сенатор Дидий Юлиан и всадник из италийской провинции, армейский центурион Песценний Ниге́р.
Песценний был видным мужчиной, рослым, под стать Коммоду. Нигером он был прозван за темный цвет лица, особенно шеи. Шевелюра у него была буйной, плохо поддающейся укладке – ему даже воинский шлем приходилось натягивать на голову. Дидий Юлиан тоже был хорош собой, лицо сытое, веселое, нос крупный. Дидий воспитывался в доме Домиции Луциллы, матери Марка Аврелия, так что с детства был вхож в семью Антонинов и единственный из близких Луция сумел сохранить с ним добрые отношения. Император называл его «дядей».
Вместе с ними в Виндобону приехал молоденький Валерий Юлиан, старший сын начальствующего над войсками Сальвия. Он был мил, явился в Паннонию в надежде добыть воинскую славу, при виде императора не мог сдержать смущения, отчего его щеки окрасились румянцем и на них проступали ямочки. Императорский спальник Клеандр, увидев его рожицу, назвал его «огурчиком». Это сравнение вновь вызвало дружный хохот. Только Саотер обиделся, фыркнул, как кот, и отправился в свои апартаменты дуться. Цезарь лично сходил за ним – привел, обнимая за плечи, что-то нашептывая на ухо. Управляющий еще некоторое время был мрачен, потом заинтересовался, почему Песценний и Дидий явились в ставку с голыми подбородками, ведь в Риме, напомнил управляющий походным дворцом, каждый из них был бородат. Особенно шикарная метла украшала высокого Нигера.
За двоих ответил Дидий.
– Зачем коришь нас, юноша! – воскликнул он. – Зачем стыдишь обнажением лица, ведь весь цвет сената, все умудренные сединами старики, все граждане в расцвете мужественности, даже зеленая молодежь великого города с удовольствием избавилась от этого признака учености. Тебе, Саотер, не дано испытать, насколько обременительна была эта густая растительность, противная изысканной пище, тончайшим хмелящим напиткам и радости обладания женщиной. Хвала Коммоду, теперь мы свободны! Прочь философические бороды, которыми украшал себя весь Рим! Долой изысканное тряпье – хламиды, штопаные плащи, сучковатые и корявые посохи, искусно сшитые, очень похожие на рваную обувь башмаки, которые мы были вынуждены носить, чтобы подчеркнуть верность Марку и его приверженности философии. Мы все словно выбрались из-под душного одеяла, под которым парились и в жару, и в холод. Все вмиг забросили сочинения Платона и Аристотеля, Эпикура и Зенона, Антисфена[18] и Эпиктета и толпами помчались в Цирцеи, Соррент, Путеолы, наследники славных Помпей. Какие женщины там объявились, какие прелести они обнажают перед зачарованными приверженцами Венеры!
– Ну, насчет прелестей мы здесь тоже босиком по мрамору не ходим, в чем ты, уважаемый Дидий, скоро убедишься! – с некоторой обидой и завистью в голосе заявил помрачневший Витразин.
Он вопросительно глянул на цезаря. У того лицо было каменным.
Между тем Дидий продолжал горячо делиться впечатлениями о вошедших в моду развлечениях.
– В банях вернулись к прежней моде, когда мужчины и женщины мылись совместно. Все зачитываются игривыми страницами Петрония[19]. Казалось, за сто лет о нем забыли напрочь, а ныне богатые вольноотпущенники образовали коллегию, названную Петрониевой, и просят разрешение у префекта города воздвигнуть его статую на форуме. Каждый теперь старается косить под Трималхиона. Какие пиры теперь закатывают в Риме!
Дидий в восхищении закрыл глаза и причмокнул, затем, словно призывая в свидетели олимпийцев, вскинул руки.
– Хвала богам, мы наконец избавились от пагубной привычки читать на ночь Цицерона, обмысливать послания Сенеки и прочих энтузиастов, воспевавших человеколюбие как вершину добродетели. Никто больше не желает исправлять себя. Всех как-то разом потянуло на деле испытать невыносимую тяжесть пороков, от которых, по мнению этих высокоученых наставников, необходимо срочно избавляться. Сейчас Рим зачитывается сочинением, дошедшим до нас из Карфагена. Написал его некто Апулей. В нем рассказывается о молодом человеке, который силой колдовства был обращен в осла и принужден в зверином виде путешествовать из спальни в спальню и ублажать благородных дам.
– Надеюсь, ты привез список? – воскликнул Саотер.
– Конечно, милый друг. Надеюсь, я сумел разогреть твое сердце?
– Еще как! – воскликнул управляющий и капризно добавил: – Луций, я хочу в Рим!! Сегодня же!
– Помолчи, преступник, – откликнулся Коммод, затем он обратился к Юлиану: – Дядюшка, ты действуешь как самый искусный соблазнитель. Признавайся, что еще ты, возмутитель спокойствия, привез в наши суровые края?
– Я привез вам Песценния. Кроме того, что ему есть что сообщить великому цезарю, он болен странной болезнью, называемой любовной горячкой. Стоит ему увидеть хорошенькую девочку, он сразу воспаляется.
– Ну, этой болезни, – пожал плечами император, – подвержены многие достойные люди. Песценний, не беспокойся, – пообещал цезарь, – мы здесь сумеем тебя излечить.
Песценний Нигер, до того момента стоявший рядом с Бебием, – они были знакомы и вспоминали общих друзей, прежде всего легата Эмилия Лета – встрепенулся, обернулся к Коммоду.
– Ты не понял, племянник, – возразил Дидий. – Я не зря назвал его болезнь странной. Он испытывает страсть только к молоденьким девочкам. Ему их жалко, он, вояка и рубака, плачет, как женщина, когда они пугаются и начинают вопить от страха.
– Это правда, Песценний? – нахмурился Коммод.
– Ага, – кивнул вояка и рубака. – Только не к молоденьким, а к маленьким. Совсем крохам.
Он ладонями показал размеры девочек, каких имел в виду.
– Ну, это совсем другое дело! – повеселел Коммод.
Бебий с изумлением глянул на товарища. С каких это пор человек, столько лет славно служивший центурионом и отличавшийся неподкупной честностью и страстью к дисциплине, солдат вдруг возлюбил детей? Песценний был плохо образован, исключительно бережлив, во время боя отличался особой свирепостью, однако Бебий, проживший с ним бок о бок почти год, никогда не замечал в нем «странных» наклонностей.
Заметив удивленный взгляд Бебия, Песценний наклонился к приятелю и чуть слышно шепнул:
– Я приехал сюда за должностью, понял? Знал бы ты, сколь ко серебра я истратил на этого Дидия. Он предупредил, что без какого-то явного и мерзкого порока в ставке делать нечего. Чем-то надо привлечь внимание… – он искоса глянул на императора.
Бебий понимающе кивнул, и они оба присоединились к цезарю, который прямо во дворе принялся диктовать указ, согласно которому дальний родственник Дидия Юлиана и сын главнокомандующего Сальвия Валерий Юлиан повелением императора причислялся к гостям. Клеандру было приказано срочно приготовить для него место в триклинии. Скоро гости и ближайшие друзья цезаря были созваны в термы, где уже был накрыт стол. Правда, Коммод сразу предупредил, чтобы «негодники» не особенно усердствовали с напитками, – пригубить можно только по «чуть-чуть», для поправки головы. Главное событие впереди, только после бань каждый сможет принять столько, сколько влезет. На вопрос Бебия, какое именно событие они будут отмечать, все опять дружно расхохотались.
– Узна́ешь, – пообещал император.
За время, проведенное в триклинии, было решено несколько важных государственных дел. Прежде всего в ответ на обращение из претория было решено, что военный совет, на котором будет принято окончательное решение о начале похода, состоится в канун 31 мая, в день поминовения предков. Император приложил к составленному еще Александром Платоником указу государственный перстень с изображенным на печатке орлом и предложил выпить за победу. Затем цезарь удовлетворил просьбу бывшего секретаря Марка дать ему отставку. На эту должность был назначен молодой Публий Витразин.
Прощаясь, Александр попросил у цезаря разрешения опубликовать записки его отца, названные им «К самому себе».
Коммод помрачнел.
– Скажи, Александр, какие распоряжения по поводу этих записок сделал отец? Он разрешил их публиковать?
– Цезарь, – ответил Александр. – Божественный Марк в ответ на мою просьбу сказал, что я могу поступать с ними, как мне угодно.
– Ты можешь подтвердить его слова каким-нибудь документом?
– Да, господин. У меня есть его письменное волеизъявление.
Коммод некоторое время раздумывал, потом с откровенным недовольством выговорил:
– Прощаясь с белым светом, отец мог заявить что угодно. А мне следует соблюдать осторожность, особенно в таком щепетильном вопросе, как собственноручные записи отца. Нет ли в них каких-либо откровений, которые недоброжелатели нашей семьи смогли бы использовать против новой власти?
– Нет, государь, – постарался уверить его пожилой, покашливающий грек. – Эти записки представляют собой размышления о природе вещей и необходимости исполнять долг, который неизбежно встает перед любым человеком. И перед цезарем, и перед бесправным рабом.
– Но-но, – предупредил его Коммод. – Я бы, Александр, на твоем месте поостерегся до такой степени сближать человека, находящегося в родстве с богами, и грязного раба. Я должен лично просмотреть записки. Потом дам ответ. Когда-нибудь… Можешь обратиться по этому вопросу к моему новому секретарю Публию Витразину. Ты понял, Витразин? Прочитаешь дорогие моему сердцу страницы и сообщишь свое мнение. Если их публичное представление послужит чести династии, я не пожалею средств. Если же там есть что-нибудь личное, тайное, ты предупредишь меня.
После завершения официальной части был объявлен перерыв. Через час все собрались в зале для приемов, устроенном в левом крыле дворца, где хранились императорские регалии и императорский стяг. Здесь были установлены ложа, устроен овальный стол. Челядь с радостными, промытыми лицами толпилась между колонн.
Гости расположились согласно указу императора, который он подписал тут же в зале. Сам Коммод в качестве председательствующего занял наиболее почетное – консульское – место. Рядом с собой он поместил Бебия, по другую сторону – Саотера, который то и дело, вытянув губы, тянулся к милому. Коммод всякий раз гневно осаживал его, затем, сменив гнев на милость, шлепал по мягкому месту, целовал и обзывал негодником. Все веселились от души, только цезарь в сердцах заметил, что зал маловат, дворец маловат и гостей немного. Публий Витразин публично возразил: вот и хорошо, цезарь, зато все свои, нет зануд, козлобородых победителей-германцев, наставников и прочей философствующей швали, мешающих вволю повеселиться.
Вновь выпили за победу, после чего захмелевший Саотер объявил о пополнении «их дружной Коммодовой семейки прошедшим посвящение братом».
– Теперь ты, Бебий, – заявил он, – тоже член нашего кружка.
Император одернул его – помолчи, а Витразин тут же вновь поднял фиал и призвал к тому же охотно поддержавших тост вновь прибывших гостей. Все, обернувшись к Бебию и в честь Бебия, которого Саотер то и дело называл «досточтимым виновником торжества», пропели гимн. Особенно усердствовали почти дожившие до пятидесяти лет Дидий и Песценний. Бебий хохотал вместе со всеми, обращаясь к цезарю, вскрикивал: «Аве, Луций!» и при этом никак не мог понять: какой его поступок мог послужить пропуском в частный кружок близких друзей императора? Почему присутствующие на празднике шалопаи во главе с самим повелителем Рима с такой прытью поздравляют его? Его неведение, по общему признанию, составляло драгоценную изюминку праздника, оно доставляло истинную радость собравшимся за праздничным столом.
Наконец слово взял сам цезарь:
– Славен муж, исправно поражающий врагов, славен сын отечества, внушающий ужас неприятелю, но более славен тот, кто в ознаменование Геркулеса уложил на лопатки ту, которая всех нас породнила и наставила на путь служения Венере Пандемос, Венере Доступной, ибо не Венера Урания, то есть небесная или отвлеченная небожительница, ведет римский народ от победы к победе, а наша обычная, вхожая в каждый дом, покровительствующая всякому слиянию богиня. Воспоем же, други, Венеру, которая спасла Рим от галлов и наградила счастьем Суллу. Восславим родоначальницу рода Юлиев, жуткую и всемогущую, карающую всякого, кто противится ей. Трубам петь! – приказал император.
Витразин и Переннис тут же похватали сложенные в углу тубы[20] и начали изо всех сил извлекать из них душераздирающие звуки. Бебия осенило – видно, готовясь к празднику, они тренировались за полночь. Вдоволь повеселившись, Луций приказал взяться за дело присланным по этому случаю тубицинам и корницинам. Солдаты дружно порасхватали инструменты, и скоро лежавшим за столом пришлось зажать уши от невыносимого рева боевых труб. В следующее мгновение рев стих, и пять пар черных мускулистых мужчин внесли в парадный зал носилки, на которых восседала обнаженная, натертая маслом и благовониями Клиобела.
Женщина смущалась и заметно побаивалась высоты, на которую с трудом взгромоздили ее мавританцы, прибывшие в замок вместе с Бебием.
Озарившая мысль, чем занять день, явилась императору поутру. Тогда же были отданы все необходимые распоряжения, и перепуганную до смерти Клиобелу Клеандр уговорил влезть на украшенные цветочными гирляндами и императорским пурпуром носилки, к которым с опаской подошли четверо самых сильных дворцовых рабов. Стоило им только взяться за ручки, как насмерть перепуганная Клиобела закричала:
– Ой, уронят! Минерва-охранительница, обязательно уронят!.. Клеандр, змеиная твоя душонка, посмотри, какие они хилые!
Клеандр, внимательно обозрев обнаженные прелести Клиобелы, местами свисающие за край носилок, задумался и поспешил к императору. Тот, отдыхавший после бани, заинтересовался, сам явился в служебное помещение, внимательно осмотрел Клиобелу, потрогал ее свисающие части и приказал сменить носильщиков, поискать, кто посильнее. Потом после некоторого усиленного размышления потребовал:
– Поставь нубийцев, они очень сильные.
– Государь, – заныл Клеандр, – где же в Виндобоне я возьму нубийцев? Это не Рим. Это в Риме всякой твари по паре.
– Это меня не касается. Желаешь быть подвергнутым бичеванию, плачь, тяни время. Хочешь получить награду, поспеши. Разошли гонцов. Слушай, – восхищенно воскликнул император, – используй бебиевых всадников. Их как раз десяток, ребята что надо, рослые, плечистые. Бебию – ни слова.
Чернокожие всадники, получив приказ цезаря, гурьбой явились в подсобку, где им приказали раздеться. Мавританцы плохо понимали римский говор, так что приставленному к ним преторианскому центуриону пришлось помогать замешкавшимся окриками и палкой. Воины, стаскивая с себя туники, во все глаза пялились на Клиобелу, которая со страхом смотрела на присланных носильщиков. Всадникам раздали отрезы золотого щелка и объяснили, что шелк следует обмотать вокруг бедер. Задача оказалась невыполнимой, так как у мавританцев материя буквально валилась из рук. Присутствовавший при этом Коммод разгневался, распорядился поучить «тупиц» палками. Когда же обнаружилось, что все они чрезвычайно взволнованы и причина их неловкости заключалась в их возбужденных мужских желаниях, император развеселился. Узрев их торчавшие стручки, мешавшие опоясать бедра тканью, он не смог удержаться от хохота. Особое удовольствие ему доставил нескрываемый ужас Клиобелы, разглядывающей десяток обнаженных и до предела взбудораженных негров. Он приказал пустить их в зал обнаженными. Командир турмы посчитал это намерение бесстыдным и попытался было оспорить приказ. Император тут же распорядился:
– Наказать!
Находившийся рядом Переннис попытался успокоить императора. Напомнил, что мавританцы – хорошие солдаты, ребята буйные, к тому же дерзость их оправдана дикостью. Не лучше ли приманить их наградой? Пока они советовались, желание у мавританцев угасло, так что их уже вполне можно нарядить в шелка.
– Ладно, – кивнул император и добавил, обращаясь к неграм: – Вам будет роздана награда.
Те нестройно гаркнули:
– Аве, цезарь.
Как только Клиобелу внесли в парадный зал и поставили носилки на расположенный перед триклинием специально устроенный помост, император поднялся и возвестил тост за вновь вступившего в их союз Бебия Корнелия Лонга Младшего, доблестного легата III Августова легиона.
– Прошедшей ночью тебе, Бебий, выпала великая честь приобщиться к геркулесовым прелестям Клиобелы, – объявил император под общий хохот присутствующих. – Теперь ты тоже являешься полноправным членом нашего кружка. Наша коллегия, нареченная именем Венеры священной, Виндобонской, – союз вечный, драгоценный. Теперь все мы, члены кружка Клиобелы, – братья. Да будет с нами милость богов!
Дидий Юлиан, свалившийся от смеха с ложа и угодивший ногой в выставленное на столе блюдо с жареной дичью, воскликнул, что тоже желает вступить в кружок Клиобелы, и потребовал, чтобы его тут же допустили к испытанию. Император заинтересовался, указал рукой в сторону рабыни и кивнул:
– Попробуй, дядя.
Дидий пригладил растрепавшиеся космы, обтер губы и, на ходу стягивая с себя тогу с алой консульской полосой, направился в сторону помоста. Клиобела бесстрашно взирала на него. Когда же сенатор приблизился и попытался влезть на носилки, она легонько толкнула его в лоб, и Дидий отлетел к овальному столу.
– Прочь, срамник! – возмущенно добавила Клиобела. – Мало того что бесстыдно раздели, так еще ласки им подавай. И не подходи, негодник! – закричала она, решив пресечь по пытку Дидия Юлиана.
Проконсул растерянно обернулся в сторону цезаря, а тот, давясь от смеха, продолжал тыкать в него пальцем и все повторял жест, каким Клиобела отпихнула римского сенатора. Отдышавшись, Коммод объяснил гостю:
– Служение нашей Венере, дядюшка, – это не просто попытка влезть на нашу общую святыню, не просто скотское намерение овладеть ее кружком, а деяние героическое, требующее от претендента полного напряжения всех духовных и, прежде всего, физических сил. И не смотри на меня, как побежденные даки глядели на моего прапрапрадедушку Траяна. В служении Венере Виндобонской я тебе не помощник. Здесь каждый сам за себя. Придется тебе ублажить наш талисман. Клиобела, не стесняйся, дери с него втридорога, дядюшка страсть как богат. Он тебе и домик в Виндобоне снимет. Я разрешаю.
– Мне бы укрыться чем-нибудь, – вздохнула Клиобела. – Холодно голой сидеть. Да и на кухне дел невпроворот. Я пойду.
Она неожиданно слезла и не спеша направилась к выходу из зала.
Наступила тишина. Лицо цезаря медленно налилось краской.
– Стой! – тихо окликнул он кухарку. – Ты куда?
– На кухню, – тихо, но твердо ответила Клиобела.
Она опустила голову.
– Вернись или я прикажу наказать тебя, – зловеще пообещал цезарь.
– Что же это такое! – возмутилась Клиобела. – Что, я одна Венера на всю Виндобону? Что же, кроме меня, во дворце нет Венер?.. Все Клиобела да Клиобела. Меня уже озноб пробрал, совсем как гусыня стала.
В этот момент подал голос Саотер:
– Луций, она права. Действительно, Клиобелу гости осмотрели, но кроме ее кружка у нас есть и другие, не менее достойные создания. Например, Кокцея.
– А-а? Что? – отозвался император. Он вздыбил брови, с туповатым удивлением оглядел присутствующих, затем вдруг расхохотался, громко, заливисто. – Ты прав, милашка! Следующим после Кокцеи на носилки сядешь ты. Почему наши кубки пусты? Почему рабы двигаются словно вареные? Они желают, чтобы их сварили? Это мы устроим. Быстрее, негодники! – закричал он.
Рабы-виночерпии, слуги за столом, приставленные к гостям рабы, забегали. Руки у них дрожали. Девочка, вчера прислуживающая Бебию, теперь была приставлена к Песценнию Нигеру. Время от времени она жалко посматривала в сторону Бебия, и тот не мог понять, чего она хотела от него.
Тем временем Дидий Юлиан допытывался у легата, кто такая эта Кокцея, если ее прелести сравнимы с геркулесовыми достоинствами Клиобелы? Рабыня или наложница? Так ли она хороша, что способна сменить ее на носилках? В чем здесь изюминка?
– Изюминка в том, что она полноправная римская гражданка, и в данный момент является супругой принцепса, – ответил Бебий и, оторвав от черешенки хвостик, нарочито смакуя, отправил ягодку в рот.
– Бебий преувеличивает, – поспешно возразил цезарь. – Я имел намерение взять ее в жены, однако ее строптивость и невоспитанность мало соответствуют качествам, которыми должна обладать супруга принцепса.
– Прости, Луций, – возразил Лонг, – но я слышал, что был совершен брачный обряд.
– Это слишком сильно сказано, – ответил цезарь. – Скорее половина обряда.
На широком лице Песценния Нигера очертилось недоумение.
– Брачный обряд не может делиться на половинки, – возразил он. – На том стоял и стоит Рим. Так повелось издавна.
– Ах, вы все усложняете! – горячо воскликнул цезарь. – Что за глупые пристрастия к древним суевериям! Не ожидал, Песценний, что в вопросах семейных отношений ты придерживаешься таких замшелых взглядов. Кстати, – оповестил он присутствующих, – полагаю уместным объявить, что после возвращения в Рим я прикажу проводить брачные обряды в половинном размере, а то и в четвертном размере.
Песценний Нигер всполошился.
– Поверь, величайший, – он принялся уверять императора, – назвать меня приверженцем отживших, тем более замшелых взглядов будет огромной ошибкой. Твое решение мудро. Это великолепно, если каждый гражданин будет иметь возможность быть женатым наполовину или на треть. Это именно то, чего сейчас не хватает в Риме. Подобная реформа оздоровит нравы.
Он сделал паузу, потом неожиданно рявкнул:
– Аве, цезарь! Аве, мудрейший из мудрых… – и тут же сменил тему: – Где же знаменитая Кокцея? Когда же мы удостоимся чести лицезреть ее кружок?
Разочарованно, с некоторым пренебрежением на лице поглядывавший на Нигера император сразу повеселел, заинтересовался:
– Действительно, сколько можно ждать?! Клеандр, где наша маленькая забияка? Должен признаться, Песценний, она исключительно строптива. Ты можешь сам убедиться в этом. Я прикажу вложить ей в руку меч и разрешу прямо здесь, в торжественном зале римской славы, дать волю своему невыносимо дикому характеру. Пусть сведет счеты с тем, кто более всего противен ее сердцу.
На лице Саотера обнажился ужас, словно его принудили заглянуть в Аид.
– Ты не посмеешь, Луций! – чуть не плача, завопил он. – Это жестоко и недостойно нашей любви! Она же публично лишит меня жизни!
Все, даже Бебий, буквально покатились со смеха.
Коммод вскочил и, тыкая пальцем в Саотера, закричал:
– Ты видел, Песценний! Ты видел!.. Ее еще нет среди нас, а ужас, внушаемый этой фурией, уже накрыл наш скромный уголок нестерпимым, леденящим ожиданием смертельной угрозы. Она подобна Медузе Горгоне. Ее красота настолько поразительна, насколько и опасна. У меня заранее каменеют члены. Я жду ее прихода, как ждал появления богинь мщения бедняга Орест.
Он совсем вошел в раж:
– Отыскать Кокцею! Обнажить! Водрузить! Вперед!..
Уместно будет заметить, что в тот праздничный вечер всякий пустяк, любое замешательство или сказанное невпопад слово доставляло участникам пирушки неизбывное удовольствие. Когда Клеандр провел в зал преторианского центуриона, явившегося к императору, чтобы получить пароль на ночь, Луций объявил конкурс на лучшее тайное слово. Тут же посыпались предложения. Люди штатские, какими являлись Витразин, Дидий Юлиан, Саотер, выдумывали что-то длинное и неприемлемое, чего солдат не сможет выговорить, а желающий выйти из дворца – произнести, например: «Хвала кружку Клиобелы», «Защитим Венерино достояние от покушений варваров». Затем Витразин предложил «неподкупность и честность», на что император справедливо заметил, что неподкупность и честность – понятия схожие, так что перестань, Публий, масло маслить. Сошлись на предложенном Лонгом «самообладании». Ответ – «всегда и во всем».
Первым, так и не дождавшись явления Кокцеи, заснул на ложе дядюшка Дидий, следующим скис Саотер. Остальные гости уже более дремали, чем веселились. Клеандр, приблизившись к императору, предложил ему подумать о подданных и поберечь себя для завтрашних великих свершений.
– Не понукай! – нахмурился Коммод. – Не взнуздал. Что насчет Кокцеи?
– Запропастилась, господин, – с виноватым видом доложил Клеандр. – Как в воду канула.
Император не ответил. Он указал на проконсула, рабы подняли, взвалили дядюшку на опустевшие носилки, что вновь вызвало хохот среди участников пира, и понесли проконсула в предназначенную ему спальню. После некоторого раздумья цезарь приказал отправить Саотера в его собственные покои – решил, по-видимому, что толку от него сегодня мало. Он обвел взглядом оставшихся друзей, остановил взор на Нигере и указал на прислуживавшую ему рабыню:
– Эта тебе. Ты ведь любишь молоденьких.
– Благодарю, великий цезарь! – вскинул руку в воинском приветствии вояка и рубака.
– А вы, – обратился он к Переннису и Бебию, – хватайте, что приглянется. Клеандр, с Кокцеей разберемся завтра. Она будет жестоко наказана.
Глава 7
Бебий с трудом, то и дело упираясь плечом в стену, добрался до своей комнаты. От помощи императорских рабов, предложенных спальником, отказался. Ответил: не хватало еще, чтобы рабы водили римского легата под руки. Доверился только Диму, собственному слуге, с детства приставленному к нему. У себя в спальне позволил раздеть себя и сразу рухнул на постель. Затем объявил, чтобы Дим долил масла в светильник, поставленный на канделябр, и убирался в общую, к рабам. Он, Бебий, будет спать один. Пусть его не беспокоят.
Спал беспокойно и недолго. Не отпускала тревога, то и дело прорывалась в жутких сновидениях, будила, заставляла настойчиво искать ответ. Ближе к утру, но еще в темноте ясно различил шорох. Тут же замер, постарался вспомнить, где сложено оружие. Потянулся – не достал. Что ж, под по-душкой должен быть кинжал. Неверной рукой покопался под подушкой. Ага, клинок здесь. Вновь послышалось шуршание, теперь определил точно – ворочались под кроватью. Решили проткнуть снизу? Но кто, по чьему повелению?
Он осторожно спустил ноги, готовый тут же задрать их повыше. Обошлось. Затем решительно встал, отпрянул от кровати к стене. Снял с бронзового канделябра масляную лампу, наклонился, попробовал заглянуть под ложе. Не удалось. Пришлось поставить лампу на пол, встать на колени. В набитой темнотой глубине осветилось тусклое округлое пятно. Взгляд у Бебия был острый, наметанный – это же лицо! Тихо приказал:
– Вылезай!
Послышались всхлипы. Затем пятно дернулось, приблизилось. Пронзило сразу, без колебаний.
Кокцея!
Девушка выбралась из-под кровати, уселась на полу, встать не решилась. Она продолжала плакать.
– Ты здесь пряталась? – спросил Бебий.
Она кивнула.
– Зачем?
– Прибежали на кухню, потащили. Попытались силой взять, начали срывать одежду.
Она разрыдалась. Бебий помедлил, потом приказал:
– Встань!
Девушка покорно поднялась.
– Сядь!
Кокцея огляделась и, не отыскав стула-клисмоса или кушетки, осталась на ногах. На кровать сесть не решилась.
– Сядь на ложе!
Она подчинилась. Устроилась на самом краешке.
При свете масляной лампы ее лицо очертилось более тщательно. Кокцея даже в таком заплаканном неумытом изложении действительно была хороша собой. Особенно соблазнительна была большая молодая грудь, выпирающая из-под разорванной на бедре туники.
Действительно, «огурчик»!
Бебий невольно хмыкнул, помедлил, потом потребовал:
– Теперь расскажи все по порядку.
– Я была одна. Вдруг примчалась Клиобела. Вся обнажена, зуб на зуб не попадает. Приказала согреть воду и наполнить бак. Я возразила, сказала, что я не рабыня, а супруга императора. Она меня – кулаками. Пошевеливайся, говорит, супруга виндобонская. Еще скажи, что ты римская гражданка! Смотри, произведут в Венеры, тогда узнаешь, каково нам достается. Тебе-то, то есть мне, тощей да глупой, от них не отбиться. Знаешь, их там сколько? Кого, спрашиваю. Кого-кого! Тех, кто желает стать членами твоего кружка!..
Девушка всхлипнула, потом подняла голову, глянула на Бебия.
– Я спрашиваю, супруга я или нет? Если нет, все равно я свободнорожденная гражданка. Почему же она смеет в кулаки, – Кокцея всхлипнула, потом немного успокоилась и продолжила: – Вдруг прибежали двое – давай срочно в подсобку. Я сразу догадалась, опять Луций что-то затевает. То пытался меня Витразину подсунуть, то Переннису.
– И что? – не удержался от вопроса Бебий.
– Я не далась. Витразину… От Перенниса не удалось отбиться.
Она зарыдала, потом спросила:
– Ты кто?
– Я?.. Бебий Лонг, легат Третьего легиона.
– А-а, о тебе Клиобела рассказывала. У меня, Бебий, теперь нет спасения. Он грозил, если я буду упрямиться, меня жестоко накажут. Сожгут наш дом…
В этот момент где-то совсем рядом раздался истошный вскрик. Голосок был совсем юный, все в нем было: боль, страх, отчаяние.
– Это Сейя, ее поставили прислуживать за столом. Глупая, двенадцать лет.
«Та, что досталась Песценнию», – догадался Бебий и сел на кровать.
– Возьмешь меня? – неожиданно спросила Кокцея.
– Зачем тебе это? – спросил Бебий.
Кокцея не ответила, потупилась.
Бебий встал, прошел к двери, закрыл замок, повернулся к девушке. Вспомнилась рабыня, принадлежавшая его матери, ее звали Марция. Тут же громко забилось сердце. Она пришла к нему в первую же ночь после возвращения в родной дом. Образ ее недолго держался в памяти. Следом вспомнилась жена, его драгоценная находка, доставившая ему счастье. Клавдия Секунда очень любила его, угрюмого и погрязшего в службе. Более всего Бебию нравилось ее тело. Клавдия была чуть полна, личиком, конечно, не Венера, но и дурнушкой никому в голову не приходило ее назвать. В Риме о ней многие вздыхали, вероятно, нюхом чуяли: она может доставить много удовольствий. Зачем ему эта приговоренная? Ей не позавидуешь. Император, наверное, сейчас не спит, обдумывает, как завтра поступить с Кокцеей.
– Говори правду, – приказал он.
Девица заявила:
– Завтра признаюсь, что ты затащил меня в спальню и здесь запер, а потом тешился.
Бебий усмехнулся – глупая, хитрая девчонка! Ишь что надумала!..
– Ты решила сделать меня соучастником твоей дерзости? – спросил он. – Кто тебе поверит? Я скажу, что ты лжешь.
– Здесь верят не тому, кто говорит правду, а кто лжет.
Бебий невольно отметил, что она права. В этом сумасшедшем доме в разгар веселья никто не может предугадать, как поступит цезарь.
– А ты подумала о том, как император поступит со мной? – спросил он.
– А со мной? – дерзко ответила девица.
Бебий не ответил. После короткой паузы Кокцея спросила:
– Меня убьют?
– Как я могу знать? Ты же супруга императора. Может, отделаешься ссылкой.
– Неужели только ссылкой? – не поверила Кокцея, затем радостно воскликнула: – Мне сохранят жизнь?
– Я не знаю.
Вновь тишина, долгая, трудная. Наконец Кокцея тихо выговорила:
– Спаси меня, Бебий. Заклинаю именем Минервы, детьми твоими умоляю, спаси меня.
– Как?
– Он же прикажет посадить меня на кол! Он так и сказал.
– А меня?
– Ты – легат. Тебя любят в армии. Клиобела говорит, что ты сын ихнего наставника, которому верят христиане. Их очень много в легионах. Брат говорил, все войско после «чуда с дождем» ему верит. Его святость осеняет их в бою. Император тебя пощадит.
Бебий Лонг замер, буквально окаменел. Ему стало не по себе. Неужели эта хитрая девчонка права и Луций заигрывает с ним исключительно потому, что Бебий популярен в армии? Неужели грубый политический расчет и на этот раз в образе этой замызганной красавицы грубо вторгся в его спальню? Может, ему подослали эту несчастную? Вряд ли.
Кокцея подбежала к нему, обхватила за шею:
– Я исполню любое твое желание! Делай со мной все что угодно, только спаси. Я не хочу умирать! Я молода, я боюсь…
Бебий разнял ее руки, сел на кушетку у стены, подпер голову рукой. Глянул на оставленную на полу цедившую тусклый свет лампу. В душе стоял комок, не развеять его, не проглотить, не выплюнуть. Прелести Кокцеи, в первое мгновение всколыхнувшие его, теперь вдруг обозначились гниющим на колу мясом, в которое они очень скоро превратятся.
Бебий поднял лампу с пола, глянул на девушку.
– Вот что, Кокцея. Мы сейчас выйдем в коридор. Не поднимая шума, доберемся до выхода и постараемся так же тихо прокрасться в конюшню. Слушай внимательно, если нас пой мают в доме или во внутреннем дворе, я объявлю, что поймал тебя, и ты подтвердишь мои слова. Согласна?
Девушка кивнула.
– Поклянись.
– Пусть меня покарают фурии!
Бебий усмехнулся – невелика клятва.
– В конюшне переоденешься в мужское платье, и я попробую вывести тебя в город. В Виндобоне есть друзья, которые могли бы укрыть тебя до утра?
– Да, тетя по матери. Она живет у Северных ворот.
– Хорошо. На лошади удержаться сумеешь?
– Да, брат научил.
– Завтра обязательно доберешься до родного дома и там переждешь несколько дней. Носа не высовывай. В полном смысле. Никому ни слова о том, что здесь случилось, молчи о свадьбе, о Клиобеле. Даже матери. Скажешь, приехала проведать… Почему так поздно? Как сумела выбраться. Я постараюсь послать весточку твоему брату, он навестит тебя. Пусть вернет мою лошадь. Это все, что я могу сделать для тебя.
– Благодарю тебя, Бебий. Пусть тебе помогут боги.
Возле конюшни Бебий осадил ретивого часового из мавританцев, который едва не поднял шум при виде вынырнувшей из полумрака парочки. В конюшне шумно вздыхали, всхрапывали лошади, в пристройке, которую использовали под казарму, спали люди, только командир турмы, до сих пор переживавший унижение, которое впору только рабам, прислонившись спиной к каменной стене, что-то тихонько напевал на родном языке. Песня была грустная, напоминала волчий вой. Заметив легата, он вскочил, оправил кожаную юбку. Уяснив, в чем дело, предложил помощь. Бебий отказался. Тогда мавританец подсказал намазать лицо Кокцеи грязью, чтобы и на вид она смахивала на приехавшего с легатом всадника. Грязи не нашли – сушь стояла над Паннонией, поэтому вымазали Кокцею навозом.
У ворот Бебию пришлось растолкать сонного часового, пригрозить ему суровым наказанием за то, что тот заснул на посту. Тот, обмерший от страха, лишних вопросов не задавал и, получив ответ: «Всегда и во всем», открыл малую дверь. Бебий и Кокцея провели коней. Уже в пределах Виндобоны легат подсадил девицу на скакуна, уселся сам и проводил Кокцею до самого дома тетки. Перед рассветом вернулся в замок.
Проснувшись, молодой император сразу позвонил в колокольчик. Подождал, пока притопавший Клеандр откинет балдахин, оберегавший правителя от назойливой мошкары и комарья, с наступлением жары неимоверно расплодившейся в этом северном краю, как всегда, зевнет и уныло, вопрошающе глянет на господина.
– Где Кокцея? – спросил цезарь.
– Нет ее. Упорхнула птичка, – спальник развел руками.
Коммод сразу сел в постели, удивленно посмотрел на раба.
– То есть как?
– А вот так, великий. С вечера спряталась в спальне легата Лонга, поэтому и отыскать не смогли. Что уж там у них было, сказать не могу. Стал он членом ее кружка или нет, не знаю. Известно только, что ближе к рассвету он вывел ее из дворца и отвез на северную сторону Виндобоны.
Цезарь принялся нервно подергивать пальцы. Затем заговорил – членораздельно, зло, с плохо скрываемым раздражением:
– Вернуть немедленно. Бебия и Кокцею – в цепи! Я сам буду судить их.
Нечего ждать пиршества, длинных, правильно составленных речей, остроумных каламбуров и шуток к месту. Следует рвать сразу, с корнем! Чтобы другим было неповадно.
На лице Клеандра ни одна жилочка не дернулась. Он поклонился: мол, будет исполнено, затем продолжил доклад прежним, правда, теперь чуть обиженным голосом.
– Я уже послал людей, они доложили, «огурчик» сейчас прячется в родном доме, под присмотром родной матушки. За пределы усадьбы не показывается, на людях не появляется. Язык держит за зубами. Если эти сведения подтвердятся, а я уверен, что так и есть, – пусть прячется! Конечно, если начнет язык распускать или еще какой-нибудь фокус выкинет, ничего не поделаешь. Придется наказать.
Император оставил пальцы в покое.
– То есть как, придется?!
– А вот так, величайший.
– Учить меня вздумал? – Коммод грозно глянул на раба. – Ты меня не учи! Я собственными руками вырву ее подлое сердце. Как она посмела так поступить со мной после всех милостей, которыми я ее осыпал! После всего, что сделал.
Клеандр вздохнул.
– Не вы ли, господин, жаловались, что вам уже невтерпеж переносить ее строптивый характер, что вы боитесь засыпать рядом с этой безумной. Или вы жить без этого увядшего «огурчика» не можете?
– Век бы не видал эту сумасшедшую! Это ты, мерзавец, подсунул ее. Ты! Я помню, как ты расписывал ее прелести.
– И расписывал, и подсунул. Жарила бы и жарила дичь на кухне, кто бы ее попрекнул? Подружилась бы с Клиобелой, стала бы ее напарницей. А что, господин, неплохая карьера для дикарки. Клиобелу уже в Венеры произвели. Но снести дарованное богами счастье «огурчику» оказалось не под силу. Что ж, ее теперь за это на кол сажать? Мы должны возблагодарить богов за то, что теперь, когда ее прелести несколько поблекли, а уродство души проступило отчетливо и бесспорно, нашелся человек, разом разрешивший наши трудности. Теперь никаких отступных ей выплачивать не придется, а если и придется, то самую малость. Сама сбежала, никто не гнал. Хвала богам, хвала Асклепию, что рядом оказался Бебий – единственный достойный человек во всей вашей компании.
– Но-но, попридержи язык.
Клеандр пожал плечами:
– Мне-то что? Могу и придержать, только как мы потом будем расхлебывать арест Бебия с вашим дядюшкой Помпеяном, Сальвием Юлианом и Пертинаксом.
– С какой стати я должен что-то расхлебывать?! – Коммод, сидя в постели, несколько отпрянул. – Разве я не вправе наказывать и миловать?
Клеандр ответил не сразу. Некоторое время помалкивал, по опыту знал, что, смутив хозяина острым вопросом (молодой цезарь в первые дни действительно очень опасался приставленных к нему отцом «друзей»), нельзя пытаться с ходу объяснять, что к чему.
Тем более выказывать горячность.
В таких случаях серьезный разговор обычно оборачивался беспредметным спором и чаще всего заканчивался обвинениями его, Клеандра, в тупости, нерадивости, слепоте, жадности и боги знают в чем еще. Господина необходимо в меру потомить, довести до готовности, дождаться, когда он вспылит, потребует объяснений. Император лучше соображал в тот момент, когда не может сам отыскать ответ на поставленный вопрос, когда теряется в догадках.
Так повелось с детства. Нельзя пересчитать шишки и подзатыльники, которые сыпались на голову Клеандра, когда его в десятилетнем возрасте приставили к благородному, рожденному свободным сверстнику, оказавшемуся к тому же и будущим цезарем. Возразишь – не избежать побоев. Будешь покорствовать, во всем соглашаться – Луций распалится, закипит, в итоге вновь колотушки.
– Я слушаю. Говори.
Теперь, главное, не сбиться с тона.
Спальник, запинаясь, словно решившись на откровенность, но так до конца не сумев побороть страх, продолжил:
– Давай, господин, не будем поддаваться страстям и раз берем до тонкостей, при свете дня и опираясь на здравомыслие, следующий вопрос: какова наша цель? Разве не в том, чтобы как можно скорее вернуться в Рим? И непременно с победой, в лучах славы! Что, как не победоносный триумф, окажется лучшим украшением первых дней твоего царствования? Разве, величайший, не об укреплении нашей власти нам следует заботиться в первую очередь? Если да, попробуем взвесить все основательно и беспристрастно. Нам нельзя совершать необдуманных, тем более вызывающих поступков. Если обвязать Бебия цепями, мы вполне можем поссориться не только с полководцами, но и – сохрани Юпитер от подобной глупости! – со всей армией.
Предположим, ты, господин, бесповоротно решишь покарать Бебия. Тогда перед нами две возможности. Первая – решить судьбу Бебия исключительно волеизъявлением принцепса, не посвящая никого из посторонних в причины подобных действий. То есть не раскрывая сути его проступка. В этом случае каждый представитель высшего командного состава встревожится и задумается: а не окажется ли он следующим в списке опальных? Беда в том, что Помпеян и другие полководцы пока сильны и строптивы. В их силе – радость нашего царствования, в строптивости – угроза. Неужели у нас не хватит ума не вступать с ними в открытую схватку, ведь они, напуганные до смерти участью Бебия, потеряв голову от страха, могут сговориться между собой и посягнуть на самое святое, что у нас есть, – на твою жизнь, цезарь!
– Но этот служака позволил себе недопустимую дерзость! – воскликнул Коммод. – Не слишком ли он о себе возомнил?
– Но кто знает об этом? – возразил Клеандр и задумчиво перебрал на пальцах посвященных в эту историю участников. – Ты да я, Бебий да эта сумасбродная, не способная снести бремя близости к высшей власти, лишенная достойного воспитания провинциалка. Мавританцы не в счет.
Он неожиданно встрепенулся, заговорил живее. Его полное, приятное на вид лицо повеселело, он даже отважился улыбнуться.
– Вот я и говорю: если «огурчик» будет держать язык за зубами – ладно, живи. Теперь рассмотрим вторую возможность, чем может грозить нашей особе формальное расследование?
– Чем?
– Нам придется выложить всю эту историю с Кокцеей.