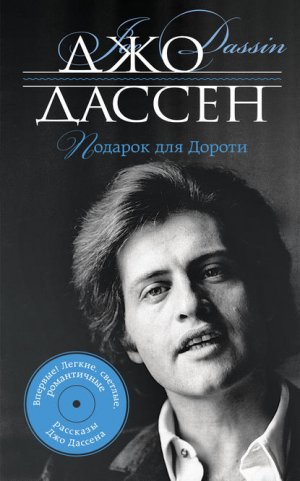
Предисловие
Джозеф Айра Дассен родился в Нью-Йорке, провел детство в Лос-Анджелесе и отрочество в Европе (Англия, Франция, Швейцария). В 1957 году, сдав в Гренобле экзамен на степень бакалавра, он переезжает в Энн-Арбор, городок рядом с Детройтом, где расположен один из самых престижных в Соединенных Штатах Мичиганский университет. И после собеседования поступает туда по итогам успеваемости. Той осенью Джо исполнится восемнадцать лет.
До этого он жил в пансионе в Женеве. Его родители недавно развелись. Отец, сделавший с нуля карьеру во Франции, после того как был изгнан из Голливуда во времена маккартизма, живет с актрисой Мелиной Меркури в отелях, мотаясь между Афинами, Парижем и Нью-Йорком. Он недавно добился успеха благодаря гангстерскому детективу «Мужские разборки», получившему премию Каннского фестиваля за лучшую режиссуру, и вскоре ему предстоит познать новый кинематографический триумф с комедией «Только не в воскресенье».
Джо, принятый сразу на третий курс, радостно и жадно открывает для себя жизнь в американском кампусе с его свободой и новыми возможностями, занимается множеством дел и заводит разнообразные знакомства.
В ту эпоху американский образ жизни еще предстает во всем своем блеске (по крайней мере, в средствах массовой информации), обещая материальный комфорт своими холодильниками и красивыми автомобилями, которые будто бы делают роскошь доступной для всех — настоящая сказка для подавляющего большинства людей в остальном мире, увязшем в муках преодоления последствий колониализма и гонки вооружений. Это апогей «Славных тридцатых», когда душевное спокойствие послевоенной Америки, обеспеченное превосходством ее идеалов и институтов, еще не нарушено разразившейся вскоре Вьетнамской войной. Но в ту же эпоху появляются и первые признаки грядущих проблем. Движение за гражданские права чернокожих наталкивается на расовую ненависть, которую только обострило постановление Верховного суда, объявившего неконституционной сегрегацию в общественных школах, и решение президента Эйзенхауэра ввести национальную гвардию в Литл-Рок, чтобы заставить уважать это постановление. «Холодная война» принимает неожиданный оборот с запуском Советским Союзом первого искусственного спутника, что ошеломило и встревожило «свободный мир». А тут еще битники сеют первые семена радикального недовольства обществом потребления среди молодежи, которая непонятно почему отказывается от радужного будущего, которое ей сулят.
Отец Джо Жюль (Джулиус) Дассен посылает слишком мало денег своему сыну. Внеся плату за обучение, Джо с трудом перебивается и вынужден хвататься за любую работу, приносящую хоть какие-то гроши. А поскольку он не может позволить себе членство в одном из традиционалистских братств, к которым принадлежали обеспеченные студенты, то селится в «коопе», своего рода маленькой общине, члены которой сокращают расходы, по очереди делая покупки, готовя, моя посуду, занимаясь уборкой и стиркой. Однако европейское воспитание и семейное наследие (его мать Беатрис была виолончелисткой, ученицей Пабло Касальса), а также собственные вкусы и пристрастия влекут его к наиболее артистической, интеллектуальной и космополитичной части студенческого сообщества, оживляющей маленький городок.
Его лучшие друзья по «коопу» — двое чернокожих, Эл Янг, который через несколько лет уедет в Калифорнию, где станет признанным поэтом, и Билл Мак-Адо — этот вернется в Нью-Йорк и примкнет к «Черным пантерам», за что и угодит в тюрьму. С ними и несколькими другими Джо поет и исполняет на гитаре песни в стиле блюз и фолк — традицию этой народной американской музыки возродили музыковеды Джон и Алан Ломаксы и такие певцы, как Вуди Гатри, Лидбелли, Пит Сигер и Боб Гибсон; она пользовалась тогда необычайным успехом у молодежи, а вскоре ее вознесет на небывалую высоту Боб Дилан. Порой Джо с друзьями выступает на сцене. Чтобы заработать немного на карманные расходы, он также поет субботними вечерами в кафе вместе с одним французским студентом-математиком[1] , который с его подачи присоединился к «коопу». Вскоре они поселятся в маленьком домике вместе с Биллом Спенсером, деревенским парнем из Северного Мичигана, мечтавшим стать писателем, и молодым швейцарским физиком Бернаром Левратом. Культурная жизнь в Энн-Арборе бьет ключом. Студенты ходят смотреть фильмы Бергмана и Годара в городской кинотеатр экспериментального киноискусства, слушают гастролирующих музыкантов и общаются с ними после концертов. Так Джо знакомится с совсем юной и очаровательной певицей Джоан Баэз, легендарным классическим пианистом Гленом Гульдом, со звездами современной музыки Джоном Кейджем, Лучано Берио, Мортоном Фелдманом; он очень подружился с композитором Гордоном Мумма и художником Энди Аргиропулосом. Ему также представлялся случай поболтать с известными писателями, приезжавшими для участия в семинарах, — Нельсоном Олгреном, Гором Видалом, Уильямом Стайроном. Но, как и у многих молодых людей того поколения, его литературным героем стал таинственный Джером Сэлинджер, автор культовой книги «Над пропастью во ржи».
Джо не привлекало обучение «настоящим профессиям», к которым стремились студенты-конформисты, богатые папенькины сынки из братств, — медицина, право, инженерное дело, бизнес. Будучи принят новичком-третьекурсником на факультет гуманитарных наук, он должен выбрать университетскую специализацию, и он выбирает этнологию, которой давно и страстно увлекался. Тем не менее, изучая у авторитетных преподавателей археологию и культуру индейцев хопи из штата Нью-Мексико, он втайне лелеет мечту стать писателем и много пишет, черпая материал в своем автобиографическом багаже. Так появляется на свет несколько рассказов, которые он дает читать друзьям. Один из них даже удостоился литературной премии, что позволило автору опубликовать его в университетском журнале «Generation» («Поколение»).
После дипломной работы на степень магистра Джо Дассен оставил и этнологию, и свои литературные опыты, которые в конечном счете могли бы стать многообещающим началом карьеры романиста. В свои парижские годы он, правда, написал роман и несколько рассказов, но, став известным эстрадным певцом, которого по-прежнему любят во Франции, наверняка просто не имел времени, чтобы писать. Однако есть свидетельства, что в сорокалетнем возрасте, незадолго до рокового инфаркта, оборвавшего его жизнь, он говорил, что не хочет оставаться на эстраде до старости, и был решительно настроен покинуть шоу-бизнес ради того, чтобы целиком посвятить себя литературе. Здесь представлены юношеские произведения Джо Дассена — спустя более полувека после написания и более трети века после его безвременной кончины. Так они и пролежали все это время — забытые, почти неизвестные публике и по большей части неизданные (за исключением двух новелл, опубликованных на английском языке в университетском журнале Энн-Арбора году примерно в 1960-м). Еще один рассказ лежал у его американской подруги Дороти Шеррик и выплыл лишь совсем недавно, после того как она списалась с сыном Джо в «Фейсбуке» и выслала ему произведение отца.
Джо был упорным тружеником, перфекционистом, который наверняка захотел бы еще раз перечитать эти тексты перед публикацией. Но даже такие, как есть, они не утратили ни своей силы, ни свежести, свойственной восприятию совсем молодого, щедро одаренного человека, еще колеблющегося на пороге взрослой жизни перед открытием других людей и самого себя, в поисках своих корней, своего пути, своего стиля, — как это было с любым молодым человеком в начале шестидесятых годов. Юность и сейчас такая же. И будет такой всегда.
Ришель Дассен и Ален Жиро
Семейный сбор
Известно, что во все времена и во всех странах семейные истории — этот воистину становой хребет литературы — служат основой большинства рассказов и романов, бесчисленных комедий и трагедий. И надо еще суметь, оттолкнувшись от них, придумать свою собственную.
Джо Дассен был прирожденным рассказчиком, обожавшим расцвечивать повествование подробностями (и даже изображать в лицах). Сочиняя эту новеллу, когда ему едва исполнилось двадцать лет, он словно открывает, совершенно стихийно и естественно (но используя ее с удивительной зрелостью), творческую струю Джона Фанта, Филипа Рота или Габриеля Гарсиа Маркеса, хотя в то время ни один из этих авторов не был ему известен, да и вообще известен.
Герой этого рассказа — его дед со стороны отца, молодой одессит, который, спасаясь от погромов, в начале ХХ века добрался до Нью-Йорка.
Согласно семейному преданию, когда его регистрировали в пресловутом иммиграционном центре на Эллис-Айленде, неподалеку от статуи Свободы, на вопрос: «Как ваша фамилия?» — он ответил: «Одесса», решив, что его спрашивают, откуда он родом. Чиновник же, толком не расслышав, написал в бумагах «Дассин». Перенеся трагикомические эпизоды подлинной американской одиссеи Дассенов в семью выходцев из Калабрии, Джо пишет рассказ «Семейный сбор», где образы его дядюшек, дедушек, бабушек и родителей — такие, какими они запомнились ему с детства, — обретают новую жизнь.
Написать этот рассказ Джо попросила Дороти Шеррик, его подруга во времена Энн-Арбора, — в качестве подарка на день рождения. Он преподнес ей рукопись, снабженную краткой запиской, которая показывает, что, несмотря на все очарование этой новеллы, ее живость, трогательный юмор и суровую печаль в финале, сам он не был ею полностью удовлетворен. Быть может, не без противоречий и некоторой притворной скромности он написал следующее: «Здесь, моя милая, нет ничего, кроме, собственно, первоначального порыва, хотя я уже выбросил почти двадцать страниц. Я столько возился с этим рассказом на прошлой неделе, что дошел до ненависти к каждому его слову, хотя, если говорить серьезно, мне кажется, что там есть неплохие места».
У моего отца было пять братьев. И он, и моя мать, пережив некоторые неприятности с возвратом эпохи процветания [2], часто с волнением рассказывают о старых добрых временах Депрессии, когда сыновья Бонани были грозой и славой территории, простиравшейся между надземным метро и Ист-Ривер, между Хаустон-стрит и Дилэнси-стрит.
Разумеется, все это происходило после ухода Папи Бонани с подлой Этель, чье имя всегда произносили в нашей семье шепотом.
Бонани приплыл из Калабрии в трюме корабля в возрасте восемнадцати лет, позаимствовав маленькую пачечку лир у каждого из членов, даже самых отдаленных, своей обширной семьи. В своей родной деревне Баньоли он был учеником брадобрея, а потому нашел работу в парикмахерской на Манхэттене — всего через четыре дня после того, как надул инспектора иммиграционной службы с помощью липового письма от вымышленного дядюшки, якобы ручавшегося за его денежное обеспечение. Письмо было написано неким учителем, который специализировался на корреспонденциях такого рода, и это стоило Бонани его жалованья за первые дни. Но через два года он уже стал собственником парикмахерского инвентаря, женатым человеком и отцом малыша, которого назвали именем того из родственников, кто одолжил ему наибольшую сумму на переезд в Америку.
Сухой закон обошелся с ним ласково. Он нашел сказочную работу у торговавшего ромом бутлеггера, ностальгирующего макаронника, который со своими итальянскими подельниками говорил исключительно по-английски и позволял себе немного расслабиться и поболтать на родном языке лишь со своим персональным цирюльником.
Бонани, осыпаемый умопомрачительными гонорарами, перевез жену в Бруклин-Хайтс и за пять лет настрогал ей еще четверых сыновей. Но тут босса в день его сорокалетия пришили из автомата в известном борделе, собственником которого он и являлся. Бонани, правда, нашел новую работу, брадобреем на подмену в большом парикмахерском салоне на двадцать пять кресел, в Нижнем Ист-Сайде, но судьбе было угодно, чтобы потеря синекуры случилась в самый неподходящий момент. Меньше чем через месяц разразился крах на Уолл-стрит, а последовавшая за ним Великая Депрессия среди самых своих безобидных злодеяний лишила его места подменного работника в парикмахерском салоне, поскольку штатные брадобреи, полные признательности за сохранение своих должностей в эти смутные времена, выражали свою благодарность замечательным усердием в труде.
Даже приобретя некоторый поверхностный светский лоск при общении со своим безвременно усопшим боссом, Бонани, в общем-то, сохранил вполне крестьянский взгляд на вещи: у Бога своя работа, у него своя. Из-за чего продолжение событий оказалось катастрофическим. Достигнув определенного возраста, Бонани почувствовал разочарование и неудовлетворенность, а главное, устал от своей жены. В конце концов он реализовал свою потребность в свободе, отбросив все нравственные обязательства перед семьей и убедив Этель бежать с ним в Нью-Джерси.
Насчет Этель никто ничего толком не знал. Много лет она была его любовницей и однажды даже навестила его дома, когда он болел, выдав себя за супругу брата одного товарища по работе. Дети запомнили ее до странности мужские повадки и губы точно лезвие бритвы.
Год или два Бонани делал спорадические попытки увидеться с детьми, но и он и они чувствовали себя во время этих все более редких встреч довольно неловко. В конце концов он мало-помалу совершенно исчез из их жизни.
Согласно семейной легенде, когда Мами Бонани наконец убедилась, что он ушел по-настоящему, она на три часа заперлась в ванной. Никто из ее шестерых сыновей так и не узнал, для чего: то ли чтобы выплакаться, то ли чтобы спокойно поразмыслить. Выйдя оттуда, она дала Питеру, старшему, пять центов, чтобы он купил газету и нашел себе работу среди объявлений. В конечном счете все они набились в двухкомнатную квартирку в Испанском Гарлеме, и вскоре даже самый маленький, Эдди, начал работать. Так, переезжая с места на место, они и пережили Депрессию, и это подарило мальчикам чувство семейного единства крепче закаленной стали. Позже они разъехались по разным концам страны, но братские узы, выкованные в те годы, навсегда сохранились.
Мой отец обосновался в Лос-Анджелесе, где нашел место преподавателя английского. Мы были очень близки с моим дядей Эдди и его семьей, которые жили в долине Сан-Фернандо, можно сказать, по соседству. И ни дня не проходило без того, чтобы мы не узнавали обо всем, что творилось в жизни других моих дядьев — Питера и Карно, оставшихся в Нью-Йорке, Ника, торговавшего мехами в Кливленде, и Джона, который занимался розничным сбытом спиртного в Детройте. И все-таки увидеть их всех вместе можно было нечасто.
Как раз один из таких случаев представился, когда отец получил повышение, став заведующим кафедрой английского языка в Высшей школе Мэрион Плейс. В порыве ностальгии мои дядья попытались перекрыть веревкой нашу маленькую улочку в Лос-Анджелесе, созвав соседей на празднество, как делали это в Нижнем Ист-Сайде. Результатом этой инициативы — кроме всеобщего похмелья — стал арест моего дядюшки Карно, правда, вскоре выпущенного под залог, собранный в складчину всеми его братьями. На следующее утро наш дом стал сценой их протрезвления, что сильно напоминало другой памятный день, пятнадцать лет назад, когда они вытащили Карно из участка на Дилэнси-стрит после того, как он сбил парик преподавателя гимнастики теннисной туфлей.
Другой случай, на сей раз в Нью-Йорке, предоставил выпускной вечер Мами Бонани, увенчавший ее занятия в вечерней школе. На вручение аттестата в общественную школу № 112 собралась, словно цыганский табор, вся семья. Благодаря клаке сыновей, их жен и отпрысков, толпившихся среди прочей публики в актовом зале, рукоплескания, встретившие Мами Бонани, были оглушительными и долгими. От смущения она слишком низко поклонилась представителю муниципалитета, а когда тот протянул ей заветный аттестат, вмазала ему в ухо влажный поцелуй. Во время последовавшего празднества Мами подарила каждому из присутствующих свой портрет с собственноручной подписью. На студийных фото сотня ее кило была задрапирована академической мантией, квадратная шапочка с помпоном, а отретушированные морщины слились в массивную гладкую маску. Я все еще храню доставшееся мне фото, несмотря на выраженную тенденцию с озадачивающей скоростью терять все предметы, касающиеся официальных торжеств. Но такие случаи были исключениями. В основном поводом для сборища всех моих дядьев все в той же гостиной неизбежно была кончина кого-нибудь из родственников. Например, один такой сбор дал мне знать о смерти двоюродного дедушки Анатоля.
Анатоль был старичок, никогда не приезжавший к нам без яблок для меня или для любого моего друга или кузена, которому случалось тут оказаться. Нельзя сказать, что в нашем доме не хватало свежих фруктов: моя мать в первые же дни своего замужества купила некую поваренную книгу, осененную воистину библейской славой, которая называлась «Давайте питаться правильно». Эта книга рекомендовала овощи, приготовленные на пару, слегка отваренное мясо и утверждала, что свежие фрукты предотвращают простуду, запоры, недостаток витаминов и болезни роста. Но Анатоль извлекал свои яблоки из-за подкладки пальто и раздавал их с такими невероятными фортелями, что они казались нам чем-то магическим, чем-то по-настоящему из ряда вон выходящим. Моей матери приходилось ограничивать потребление этих яблок так же, как она нормировала выдачу конфет, чтобы хоть немного уберечь наши желудки от расстройства.
Анатоль, несмотря на возраст, делал стойку на руках и голове у подножия лестницы и поощрял нас подбирать монеты, которые сыпались при этом из его карманов. А по особым случаям сооружал себе сандвич с куском мыла, положив его между двумя ломтями хлеба, и с аппетитом уплетал. Его смерть от приступа острого аппендицита надолго опечалила всю семью. Каждый из моих дядюшек по очереди заказывал службу за упокой его души, и даже мой отец, великий скептик в области религии, ходил ради этого в церковь; правда, он утверждал, что делает это лишь из-за братьев.
Честно говоря, для меня в смерти Анатоля не было ничего ужасного или фатального. Надо сказать, что его напудренные останки, проститься с которыми нас привели в траурный зал при кладбище, имели лишь смутное сходство с человеком, который набивал карманы медяками, а атмосфера траура в доме, хоть и весьма ощутимая, витала в нем как-то абстрактно и умозрительно, не слишком напоминая о личности двоюродного дедушки. К тому же смерть в семье в первую очередь означала, что состоится большой сбор, а для детей моего поколения сам факт, будет ли он созван ради рождественской трапезы или ради чьей-то кончины, был делом совершенно второстепенным.
Сердечность отношений между братьями Бонани почти на генетическом уровне передалась и их детям — мы ладили между собой гораздо лучше, чем ватага обычных кузенов. Истинная причина, почему мы ждали этих встреч с таким нетерпением, была проста: мы здорово веселились на каждых похоронах. Впрочем, даже у взрослых крепость семейных уз изрядно смягчала серьезность момента, и ветерок хорошего настроения, исподтишка овевавший их скорбные физиономии, здорово противоречил подобающему обстоятельствам выражению. Мрачное испытание, состоящее в том, чтобы пройти чередой перед гробом или бросить горсть земли в разверстую могилу, обнаруживало простую установку: родители учили нас, что все хорошее надо заработать, и мы чувствовали, что тут речь идет лишь об очень временной неприятной обязанности, которую требуют правила игры, а когда придет время, она уступит место удовольствию совместных увеселений. К тому же обычные похороны трогали меня куда меньше, чем похороны дедушки Анатоля. Он-то был по-настоящему близким родственником, и, хотя его личность и траурная церемония не слишком вязались друг с другом, по крайней мере его имя что-то мне говорило. В большинстве же остальных случаев — похорон нашей двоюродной бабки Иды, например, или какого-нибудь отдаленного кузена моих родителей — торжественность момента была совершенно искусственной, потому что (для меня по крайней мере) не ассоциировалась ни с каким реальным человеком.
Вот таким же неопределенным и двусмысленным обещанием неизбежного веселья, наподобие заявленных похорон, стало и неожиданное появление моего деда Бонани — это через восемнадцать-то лет, за время которых ни один из его сыновей не знал наверняка, жив он или умер. В общем, он вновь объявился среди живых и заявил о своем намерении вымолить прощение у своей жены — чистейший стиль сконфуженного мужа, который, сбившись с прямого супружеского пути, провел выходные на стороне.
В тот день я вернулся домой необычайно возбужденный, потому что для игры в оркестре младших классов выбрал аккордеон. Был в нашей классной комнате шкаф, к которому мы испытывали огромное влечение, поскольку никто никогда не видел его открытым, с тех пор как мы поступили в школу, а это вызывало немало вздорных домыслов насчет его содержимого. На самом же деле он был набит музыкальными инструментами, в основном дудками и бубнами, но оказался там также и притаившийся в шатком равновесии на верхней полке настоящий детский аккордеон. Как только нам объявили, что классу надо составить оркестр, дабы оживить концертом ближайшее родительское собрание, аккордеон, естественно, стал вожделенным инструментом, которого все стали домогаться. Тогда наш учитель со свойственным ему оппортунизмом сделал его первым призом за устное испытание по орфографии, которое я и выиграл, назвав все буквы в слове «отсутствие».
Великолепие моего трофея еще больше подчеркнуло наличие родственников, которых я обнаружил в нашей гостиной, собравшихся там, как мне показалось, специально для того, чтобы я мог продемонстрировать свои таланты. Гостиная как раз и предназначалась для наиболее важных событий, и я еще помню один из прекраснейших дней в моей жизни, когда впервые — это было на мое десятилетие — я получил разрешение туда войти. Не потрудившись даже снять пальто, я вытащил аккордеон из футляра и без долгих предисловий ввалился в круг моих дядюшек, мощно грянув «А кобыла ест овес», детскую песенку-считалку, сыгранную на клавишах для правой руки.
Все мои дядья разделяли семейную склонность к драматизации и изъяснялись, когда было надо, довольно сентенциозно, неторопливо и с внушительными жестами. Но тут, ошеломленные моим театральным выходом, они растерялись, не очень понимая, как следует реагировать. Только мать оказалась на высоте в этой щекотливой ситуации и утащила меня за руку, все еще играющую, в кухню, где мне был приготовлен полдник. Я начал было хныкать из-за этого грубого выдворения, но тут заметил какого-то незнакомца, сидевшего у стола. Это был невысокий человек с курчавыми седыми волосами и потемневшим от времени тонким лицом. Он сидел, положив сцепленные руки на колени, как старички у дверей агентства по найму напротив моей школы. Я, не ломаясь, взял стакан молока и уселся напротив. Какое-то время мать колебалась, потом обхватила меня рукой, словно защищая от чего-то, и обвела вокруг стола. «Майкл, — объявила она с каким-то вызовом, — это твой дедушка», — что показалось мне несколько излишним, поскольку я уже догадался, что это Папи Бонани. Он деликатно прочистил горло и сказал: «Точно. Я твой дедушка».
У него тоже был немного вызывающий вид — хоть он и убрал руки с колен, но даже не потрудился мне улыбнуться. Мать словно опасалась оставить меня наедине с этим новообретенным дедушкой, и лишь когда молчание стало совсем тягостным, ушла в гостиную, правда, предписав мне тоном, который показался мне слегка раздраженным, идти играть в другое место, как только я допью молоко. После чего вышла, не закрыв дверь.
Мы с Бонани несколько минут изучали друг друга. Мелкие мышцы по обе стороны его челюстей поигрывали — этот фокус показался мне совершенно необычайным, и я пообещал себе повторить его, как только представится случай втайне поупражняться. Но ни он, ни я не имели желания болтать и прислушивались к словам моих дядюшек, долетавшим до нас довольно отчетливо через открытую дверь.
Дядя Карно, человек-бочка, чей голос, казалось, исходил из чрева земли и гудел словно басовый регистр большого органа, восклицал:
— Да неужели вы думаете, что она снимет трубку и просто выслушает все, что он ей скажет? Да у вас просто не все дома!
— Она это сделает, если ей скажут это сделать, — возразил Эдди.
— Надо думать, это ты ей скажешь? — раздраженно встряла мать.
— Слушай, может, Мами велит ему убираться ко всем чертям, но ты не считаешь, что мы должны дать ему хотя бы возможность попытаться?
— Ничего мы ему не должны!
— Мы должны это по крайней мере ради Питера. Я вот что хочу сказать: подумайте хорошенько, ведь Питеру придется тащить маму на себе до конца ее жизни, если мы ничего не предпримем.
— То-то и оно! И мы сами убедим ее переехать в Лос-Анджелес жить с Бонани… Да как вам в голову могло такое прийти? Нет, ей-богу…
— Значит, ты хочешь, чтобы Питер на всю жизнь остался холостяком?
— Погодите-ка малость, погодите…
Бонани в конце концов встал с таким видом, будто думал о чем-то другом, и закрыл дверь кухни. Потом стал разглядывать меня с этого нового ракурса, пока я допивал молоко.
— Надо бы тебя постричь, — заявил он без обиняков.
И это было не просто замечание. Из своей бежевой пластиковой сумки, стоявшей под стулом, он достал клеенчатый футляр с парикмахерскими инструментами, и стало ясно, что он собирается исправить ситуацию незамедлительно, а я был слишком загипнотизирован этим непредвиденным оборотом событий, чтобы хотя бы попытаться возразить. Он усадил меня, повязал мне вокруг шеи фартук, взятый в кладовке, и положил между воротником рубашки и шеей бумажные салфетки «Клинекс», которые достал из кармана. Осторожно подрезая самые кончики волос — меня регулярно посылали в ближайшую парикмахерскую на углу, да и грива у меня была не слишком густая, — он спросил, сколько мне лет. При этом не казался особенно заинтересованным. Я на его вопрос не ответил, а он не стал повторять.
Густой голос Карно гудел в гостиной:
— Питер, Питер, Питер… ладно, согласен. Но она?
Бонани отступил на шаг и, пощелкивая ножницами в воздухе, бросил взгляд профессионала на мои виски.
— Знаешь свою бабушку? — спросил он.
Я сказал, что их у меня две.
— Бабушку Бонани, — уточнил он. Когда я спросил, какая это из двух, он ничего не ответил.
Истинные причины, почему Бонани расстался с Этель и затеял примирение с той, которая все еще числилась его супругой, так и остались для нас тайной, хотя неоднократно становились предметом разных домыслов. Карно, как человек практичный, предполагал, что Бонани надеялся перейти в старости на наше иждивение и решил, что шансы увеличатся, если он снова сблизится с Мами. Эдди же считал, что стареющий — надо это признать — Бонани осознал ничтожество своей связи с Этель и перед смертью захотел вернуться в лоно семьи. Джон, торговавший спиртным на той же улице, где располагался институт «психоанализа для всех» Эдселя Форда, был убежден, что Бонани всегда любил жену, а эпизод с Этель был всего лишь затянувшимся приступом мазохизма, в конце концов преодоленным. Мой же отец выдвинул гипотезу радикальной простоты: Этель просто-напросто умерла. Верность его догадки так и не была проверена.
Каковы бы ни были побуждения Бонани, но после восемнадцати лет жизни в Нью-Джерси с любовницей он собрал чемоданы и купил билет до Лос-Анджелеса, где обосновались два его наиболее успешных сына. Не сообщив о своем приезде, он снял комнату в пансионе и нашел место парикмахера на военной базе в Сан-Фернандо. Человек он был упорный и уже через год смог купить себе подержанный вишнево-красный «Форд» и выплатить первый взнос за домик в Шерман-Оукс с большим фруктовым садом, заросшим ядовитым сумахом. Один наш родственник, каждый год получавший от нас поздравительные открытки, сообщил ему наш адрес, и вот с купчей на дом в руке он наконец-то явился к моему отцу. Поскольку тот не сразу его узнал, он, кажется, просто представился и вежливо спросил про своих сыновей. Объяснил при этом, что его визит отнюдь не светская условность: этим он дает понять своей семье, что намеревается написать Мами и пригласить ее переехать в Калифорнию. Он, дескать, серьезно поразмыслил и пришел к заключению, что хочет посвятить остаток жизни искуплению своей супружеской неверности. Разумеется, он понимает, что дело весьма щекотливое. Вот он и подумал, что ему бы очень помогло, если бы сыновья согласились обсудить его предложение со своей матерью и, возможно, даже убедить ее, что все может обернуться к лучшему, если почувствуют себя способными на такое.
Обычно мой отец с трудом поддавался убеждению, но Бонани покинул дом еще до того, как он нашелся что-либо возразить. Так что он позвонил дяде Эдди, и оба решили эту довольно заковыристую проблему — что делать в настоящий момент, — отправившись в Санта-Барбару, где и напились в отеле «Говард Джонсон» напротив Миссии. Оба вернулись тем же вечером в гораздо лучшем расположении духа, чем при отъезде, хотя Эдди не смог удержаться и заявил славной женщине, позвонившей в дверь с предложением купить кусочки туалетного мыла в пользу слепцов-католиков, что ей никогда, ни за что не угадать заранее, какие пакости приготовит ей жизнь. По дороге во время своей экскурсии они позвонили Джону, Нику и Карно, воздержавшись из предосторожности звонить Питеру, поскольку тот жил с Мами. Они чувствовали, что ситуация потребует скоординированных действий, и в последующие дни ездили в аэропорт встречать остальных.
Бонани был вызван из своего домика в Долине, чтобы повторить перед расширенным ареопагом свою просьбу, с которой обратился к моему отцу, и вот, пока он стриг меня на кухне, сыновья готовились выслушать его в гостиной, торжественные, точно совет директоров какого-нибудь банка, пытающийся определить, стоит ли соглашаться на сделку, которую им предлагают. Неловкость, которую все испытывали по поводу этой истории, обострила их родственные чувства до такой степени, что прения растянулись до четырех часов дня, и моя мать снабжала их бутербродами и кофе с обеспокоенной заботливостью, словно выручая присяжных, зашедших в тупик в деле об эвтаназии. Похоже, что их приговор определила судьба Питера. Питер был старшим из сыновей Бонани, и, когда отец ушел из дома во время Депрессии, он взвалил на свои плечи ответственность за мать и младших братьев. Забросив учебу, он нанялся в бакалейную лавку, и, хотя остальные тоже были вынуждены работать, все заботы по поддержанию очага выпали именно на него. Эдди, которому и семи еще не было, когда исчез Бонани, звал старшего брата «папой», пока был ребенком. После того как остальные выросли и разлетелись каждый в свою сторону, Питер взял на себя заботы о матери. Он так и не женился, поскольку и без того исполнял при ней в некотором смысле роль супруга, окружая мать своей неделимой любовью, как в настоящей супружеской паре, и стал неспособен принять малейшее решение, не посоветовавшись с ней, а главное, находил все это вполне естественным. Питеру не удавалось поддерживать отношения ни с одной с женщиной: когда он приводил домой какую-нибудь подружку, Мами, этот ангел материнской любви, вела себя как ревнивая любовница.
На протяжении многих лет мои дядюшки испытывали чувство вины из-за этой ситуации; правда, не до такой степени, чтобы взять мать к себе. Так что неожиданное появление Бонани, несмотря на свои проблематичные стороны, представляло им хоть и небольшую, но новую возможность устройства судьбы старшего брата. Ради этого они и призвали своего отца в гостиную.
Поскольку лишнего стула там не нашлось, Бонани остался стоять у камина и, не очень зная, что делать со своими руками, оперся на него на манер сельского джентльмена, в то время как его сыновья, постепенно распаляясь от чувства собственной правоты, во все более живых выражениях излагали ему все, что думают о его жизни и о дерзости его притязаний. Поколебавшись насчет тона, который следовало избрать для отповеди, они остановились на морализаторском, однако в нем сквозила определенная благожелательность. Бонани держался напряженно все время, пока его отчитывали, испытывая вполне понятную неловкость, скорее как человек, чью личную жизнь разбирают по косточкам какие-то незнакомцы, а не как отец, чьи дети переступили границы сыновней почтительности. Таким образом, сосредоточенный и сокрушенный, он в течение часа выслушивал их попреки, пока, блестяще завершая свои разглагольствования, они в конце концов не дали ему понять, что из-за Питера — а также из-за неистребимой верности иррациональным узам крови, которую все они только что осознали, — он может рассчитывать на их согласие и даже содействие, чтобы восстановить свои отношения с матерью. Тут Бонани, гордый человек, который двадцать лет назад был для них суровым отцом, разрыдался и горячо всех поблагодарил.
Дядя Ник, обезоруженный отчими слезами, предложил ему стул, а Эдди в знак добрых намерений принес телефон. Настал момент некоторого замешательства, прежде чем все сообразили, что Бонани не может вот так просто снять трубку и хладнокровно высказать свое предложение. Было очевидно, что это дело потребует от него некоторой подготовки и займет какое-то время. Так что телефон смущенно вернулся на свое место на столике, а Бонани и его сыновья стали совещаться, как лучше убедить его жену и их мать, чтобы она переехала к нему, даже не заметив, что я стоял в дверях гостиной, недоумевая, кто же умер.
Было решено, что Бонани сначала напишет Мами письмо, где осторожно изложит свои намерения, после чего мои дядья позвонят Питеру на работу, чтобы ввести его в курс дела, и уже потом, дав Мами время справиться с первым потрясением, позвонят ей. В этой атмосфере сообщничества стали уговаривать Бонани немедленно садиться за письмо, чтобы подвергнуть его коллективному обсуждению, поправить и отшлифовать. Казалось, предложение его смутило, и он тактично его отклонил, заменив приемлемым компромиссом: он уединится в кабинете моего отца, напишет письмо, а затем отправит, никому не показывая. Моя мать, против своей воли вовлеченная в эти коллективные усилия, хоть и решительно воспротивилась плану Бонани, приготовила на ужин огромное блюдо спагетти. Отец подавал, Бонани сидел на почетном месте, а в конце трапезы дядья, которые прежде тщательно избегали обращаться к нему напрямую, уже величали его «папой» и вели себя как его дети. Они поспешили подытожить все важные семейные события за пятнадцать прошедших лет, и даже если он был более-менее осведомлен о большинстве из них, ему хватило такта никого не прерывать. Он вообще проявил тем вечером большой коммуникативный талант, стараясь держаться на втором плане — как раз настолько, чтобы быть всего-навсего отцом для каждого из своих сыновей. В конце трапезы послали Карно купить бутылку «Даго Ред».
Карно вернулся так быстро, что остальные заподозрили, что он бежал туда и обратно. С четырьмя фьясками калифорнийского кьянти, которые он принес, атмосфера в гостиной очень быстро стала веселой и шумной. Дядя Ник вновь, как и всегда, изобразил Ширли Темпл, а Карно упал в очаг, танцуя «Shuffle off to Buffalo» ,прежде чем все успокоились настолько, чтобы радостно пуститься по гулким волнам старых воспоминаний: как Эдди потерялся под досками на Кони-Айленде, как они гнались через всю оконечность Манхэттена за Редо Шацем, который помочился в кепку Карно… Мне, опоздавшему на целое поколение, чтобы участвовать в этом сеансе, оставалось только молча хлопать глазами, словно зрителю без билета.
Когда третья фьяска опустела, мой отец поспешно покинул комнату и почти тотчас же вернулся с запыленным металлическим кларнетом, который валялся у нас на чердаке довольно давно, сколько я помнил. Он чуть не свернул себе шею, спускаясь бегом по лестнице. В тот вечер все делалось бегом, что было удивительно со стороны людей, которые обычно считали, что любое проявление торопливости вредит достоинству. Словно все боялись потерять даже секунду, словно одно-единственное потраченное впустую мгновение грозило испортить целый вечер.
Кларнет еще даже не был собран, как рысью прискакал Эдди, зажав мою детскую скрипку под мышкой и восхищенно ухмыляясь. Карно сбегал на кухню за кастрюлями, Джон обернул бумагой свою расческу, а Ник, чтобы не отставать от остальных, соорудил себе рупор из газеты. Бонани вооружился импровизированной дирижерской палочкой, и мои дядюшки дружно и с чувством исполнили увертюру из «Севильского цирюльника», а потом из «Вильгельма Телля» и «Гензеля и Гретель».
Эдди держал скрипку на коленях, как мандолину, царапая струны перьевой зубочисткой. Ник бросил свою трубу из газетного листа и завладел аккордеоном, который я принес из школы, пытаясь продеть руки в лямки, из-за чего клавиши оказались у него под носом. Этот аккордеон звучал ужасно фальшиво по сравнению с кларнетом, и после нескольких замечаний капельмейстера Ник в конце концов опять взялся за свою трубу, хотя ему не удалось выпутаться из сбруи, и инструмент так и болтался у него на шее до конца концерта, словно спасательный жилет. Неожиданно в самом разгаре музицирования Бонани, столь же навеселе, как и остальные, отложил салатную вилку, служившую ему палочкой, и жестом призвал всех к тишине.
— Мальчики, — начал он, — послушайте, что я вам скажу, а такое говорить отцу нелегко. Вы теперь большие, и для начала хочу вам сказать: все вы очень красивые, а это наполняет меня гордостью как отца.
Карно, весивший больше центнера при росте едва метр шестьдесят, перебил его:
— Верно, мы все теперь большие.
— Погоди минуточку, Карно, — сказал Бонани, — пожалуйста, позволь мне продолжить. Сами видите, вы теперь взрослые и наверняка сможете лучше понять, что произошло тогда, когда вы были маленькие. Я много чего наделал в своей жизни, кое о чем я сейчас жалею, а кое-что не сделал бы иначе, даже если бы мог. Может, таких вещей и немного, но они есть. Ладно, все вы мои сыновья, но нехорошо, когда отец рассказывает сыновьям о своих ошибках, так что я не стану говорить об этом снова. Я всего лишь хочу сказать, что не горжусь этими ошибками, вовсе нет. Ладно. Мы собрались здесь, потому что я знаю, как хочу прожить остаток своей жизни. Если я приехал сюда больше года назад — вы этого не знали, но я все это время был здесь, — то потому, что я уже тогда решил, что хочу сделать, и взялся за эту работу на военной базе, потому что уже это знал. Никто из вас не видел мой дом, но у меня хорошая работа, и я могу за него платить без проблем. В общем, мне пятьдесят восемь лет, может, я вам кажусь старым, но сам я не чувствую себя таким уж старым и хочу прожить хорошую жизнь. Видите ли, я сделал вашей матери много дурного, вам это известно, но это потому, что я не знал, какая она достойная женщина, и не забывайте, что мы прожили вместе пятнадцать лет. Конечно, я не был верующим. Я не хожу в церковь и вас никогда не заставлял туда ходить, когда вы были детьми, это, быть может, нехорошо, но это так. Так что я не буду вам рассказывать, что браки, которые заключают в церкви, должны длиться всю жизнь. Я и сам так чувствую и для этого не нуждаюсь в церкви. Вот. Я хочу попросить Мами переехать ко мне, чтобы искупить зло, которое я сделал. Может, по мне и не видно, но, как я сказал, мне уже пятьдесят восемь, и я хочу провести остаток жизни, чтобы искупить свою вину, потому что это все, что мне остается. Но ведь это же ради Мами? Не забывайте, что я думаю о вашей матери. Этот дом очень хороший, и тут климат лучше, чем в Нью-Йорке, я это чувствую в своем возрасте. И знаете, между домом и квартирой большая разница. У Мами никогда не было своего дома, а этот ей понравится, я вам точно говорю. Я приехал вас всех повидать, потому что подумал: Мами наверняка захотела бы, чтобы вы были в курсе. И может, эта идея вам даже понравится, ну, вы понимаете, что я хочу сказать. Знаете, для нее лучше уж я, чем кто-то другой, верно? Тем более что я сделаю все, чтобы искупить свою вину…
Бонани вконец смутился и сел.
— Вот что я хотел сказать. Я рад вашей помощи, ну, вы же понимаете, что я хочу сказать. — И он внезапно закончил: — Я хочу сказать, что знаю, вы делаете это ради Мами и Питера, но все равно хотел поблагодарить вас, потому что это много значит для меня.
Эдди сказал:
— Конечно, папа, мы понимаем, что ты хочешь сказать, — но это прозвучало немного фальшиво.
Мой отец развинтил свой кларнет и заботливо уложил его в футляр (где он останется до тех пор, пока я сам не начну учиться на нем играть, годы спустя). Ник с грехом пополам избавился от лямок аккордеона и вернул его мне. Открыли последнюю фьяску вина, машинально наполнили стаканы, потом выпили без воодушевления. Вечер был явно закончен. Испросив улыбкой общего одобрения, Эдди посмотрел на свои часы и пожелал всем спокойной ночи. Те из братьев, кто не оставался у нас, заторопились к вешалке. Я вспоминаю, что уже никогда больше не видел своих дядюшек такими непосредственными, какими они были в тот вечер, и подозреваю, что потом они испытывали что-то вроде стыда за свое панибратство с блудным отцом, когда тот вернулся.
Бонани постелили в гостиной, среди стаканов и полных пепельниц. Он согласился лечь здесь: до Шерман-Оукса ехать было слишком долго, а уже наступила ночь. Пока моя мать готовила ему постель, он сидел и курил. Протянул мне салатную ложку, чтобы я отнес ее на кухню. Когда мы поднимались на второй этаж, он зевал, желая нам спокойной ночи, но из своей постели я слышал, как он еще долго ходил, а на следующее утро его уже не было. Мать сказала, что он ни свет ни заря уехал на работу.
Было предусмотрено, что дядя Питер позвонит нам, как только Мами получит письмо и даст себе время перечитать его несколько раз, чтобы как следует им проникнуться. Позже нам предстояло узнать, что она отреагировала на него с гораздо большим спокойствием, чем мы могли себе представить. Вообще-то обычно она читала вслух всю корреспонденцию, которая к ней приходила, но тут Питеру пришлось самому завести об этом речь: когда через два дня после получения письма она собралась идти спать, не обмолвившись о нем ни словечком, Питер не смог сдержаться и довольно безразлично, насколько это было возможно, спросил, что она думает о предложении Бонани. Она слегка удивилась, что он об этом знает, но ответила, что пока, честно говоря, не очень об этом думала. Питер не нашелся, что на это сказать. Он подождал еще два дня, надеясь, что она сама затронет эту тему, но, так и не дождавшись, позвонил нам. В то время он ухаживал за одной дамой, и братья не преминули выставить в лучшем свете преимущества, которые сулит ему возможный переезд Мами на Западное побережье, но Питер оказался единственным из всей братии, кто твердо воспротивился возможному сближению родителей.
В нашем доме было два телефона, и, как только телефонистка за несколько минут предупредила нас о вызове из Нью-Йорка, у каждого из аппаратов заняли пост по двое моих дядьев. Трубки были сорваны, едва раздался первый звонок, и мы с матерью, вытаращив глаза, наблюдали, как на первом этаже Эдди с Карно стали рвать трубку друг у друга. Наконец, ею завладел более проворный Эдди и заорал: «Алло, Мами!» — словно его голос должен был достичь другого конца континента без помощи средств связи. На втором этаже те же слова прокричали одновременно Джон, Ник и мой отец. На нью-йоркском конце провода оказался дядя Питер, что восстановило кажущееся спокойствие. Эдди велел: «Дай нам Мами», — и через мгновение: «Мами, это Эдди. Эдди! У меня все хорошо, Мами, хорошо. Да, мы все здесь. Конечно, Джон тоже». На втором этаже Джон сказал: «Привет, Мами, ты в порядке?» В доме все смолкло на какое-то время, пока Мами уверяла их, что хорошо себя чувствует, потом на лицах нарисовалась некоторая растерянность, когда она пустилась в детальное описание своей деятельности в «Клубе главной книги недели», который спонсируется «Манхэттенскими Рыцарями Колумба». Наконец, после многих дорогостоящих минут отец перебил ее:
— Мама, мы звоним тебе насчет Бонани, ты ведь знаешь?
Да, она знала. Сыновья ждали от нее каких-то объяснений, но ничего не последовало. В конце концов трубку схватил Карно:
— Слушай, Мами… Да, это Карно говорит… А ты как, мам? Да, да, у меня все хорошо. Слушай… нет-нет, это меня уже давно не беспокоит. Да нет, правда, больше не тревожься. Слушай, мама, погоди секунду, послушай меня… Я хочу, чтобы ты поняла, мы все хотим, чтобы ты поняла: от тебя не требуется, чтобы ты как-то отреагировала на это. Я хочу сказать, что, если ты захочешь послать его к черту, для нас это не проблема. Понимаешь, мы всего лишь хотим знать, что ты самаоб этом думаешь.
— Ты заблуждаешься, мама, — сказал Джон. — Мы ничего не хотим тебе навязывать. Это теберешать…
— Чего мы хотим, — вмешался Эдди, — так это чтобы тебе было лучше.
Эстафету принял мой отец со своим профессорским тоном:
— На самом деле, мама, мы придерживаемся мнения, что тебе стоит серьезно об этом подумать. Видишь ли, вполне вероятно, во всем этом есть что-то большее, чем кажется на первый взгляд.
— Мама, — терпеливо подхватил Ник, — никто не хочет заставить тебя поступать так или иначе. Тони хочет сказать, что мы просим тебя просто подумать… О себе, о Питере…
— Но, господи, мама, Питер никогда не говорил этого! Он обожаетжить с тобой. Да и каждый из нас был бы просто счастлив.
— Подумай на секунду о себе, — добавил Эдди. — Знаешь ли, ты ведь не молодеешь, так что, может, было бы неплохо, если рядом на старости лет будет кто-то, кто по-настоящему о тебе позаботится. А он, похоже, искренне говорит, что хочет всего лишь искупить зло, которое тебе причинил.
— Речь не о том, чтобы забыть все эти годы, — сказал мой отец, — об этом и речи быть не может. Взгляни на это дело так: есть один тип, который просит только одного в жизни — сделать тебя счастливой. Подумай о нем так, будто это не Бонани. Да нет, это не так уж глупо, мама. Правда. Ты нужна этому человеку.
— Подумай: он хочет дать тебе дом, сделать тебя счастливой. Знаешь, жить с Питером в нью-йоркской квартире это не то же самое, что жить в собственном доме с человеком своего возраста.
— И к тому же надо все-таки немного подумать и о Питере. Представляешь, каково это для женщины — строить отношения с мужчиной, который живет с матерью? Да кто сказал, что ты не хочешь, чтобы Питер женился?
— Конечно, ты хочешь, чтобы Питер женился!..
— Перестань, не надо так говорить…
— Вот в том-то и вопрос. Зачем ты говоришь, что съедешь, если…
— Слушай, мама! — завопил Карно. — Если захочешь, скажешь ему, чтобы убирался куда подальше. Но ради тебя самой прошу: быть может, стоит подумать об этом еще разок?
— Просто подумать, и все.
— Дай себе несколько дней, чтобы привыкнуть к этой мысли…
— Вот именно! А после созвонимся.
Как только все «до свидания» были сказаны, братья сгрудились у подножия лестницы с недовольными минами. Ник проворчал:
— Не слишком-то много это дало, а?
А Эдди среди воцарившейся молчаливой фрустрации подлил масла в огонь:
— Вы и в самом деле считаете, что это такая уж хорошая мысль — свести их вместе? Нет, я серьезно. Может, нам тоже стоит об этом хорошенько подумать?
Весь его вид выражал сомнение.
Карно отрезал:
— О чем тут думать, братишка? Как мама решит, так и будет.
Это заключение встретил одобрительный хор. Тут Джон и Карно засобирались было обратно в Нью-Йорк, чтобы поговорить с Мами лично, но, учтя, что кризис еще не миновал, решили остаться и противостоять ему рядом с братьями. Ник заметил, что, если и дальше будет так продолжаться, барыши телефонной компании взлетят до небес, на что Карно отозвался:
— Придется на чем-нибудь сэкономить.
Всего через неделю и еще два телефонных звонка Эдди убедил Мами сделать передышку и провести пару недель в Лос-Анджелесе, навестить здешнюю ветвь семьи, с которой она давно не виделась. А заодно, разумеется, встретиться с Бонани. В честь победы состоялся праздничный ужин, немного приглушенный, и мои дядюшки с чувством исполненного долга известили Бонани об успехе предприятия.
Несколько дней дом потрескивал от предвкушения, а мои словно помолодевшие дядюшки собирались в гостиной и без конца вспоминали истории времен Депрессии. После получения телеграммы от Питера с указанием времени прилета все, за исключением Бонани, двинулись в аэропорт.
Хотя нас была всего какая-то дюжина, мы выделялись в зале ожидания словно делегация Ротари-клуба. Мами Бонани высадилась с большой помпой, словно политик, совершающий предвыборное турне. На самолете она летела впервые и после раунда беспорядочных объятий и поцелуев поведала нам полное меню своего обеда (весьма воодушевленная тем, что на борту оказалась кухня), а также имена командира, экипажа и почти все географические названия и прочие данные о полете, которые ей сообщали по громкоговорителю.
Мами была женщиной необычайно тучной, но запоминалось отнюдь не это, а скорее впечатление основательности, которое от нее исходило. Своими массивными ногами она крепко стояла на земле, как в прямом, так и в фигуральном смысле. Голова покоилась на могучей шее, которую подпирала пышная грудь, в профиль сливавшаяся с линией столь же выдающегося живота. Но ее лицо при этом было миловидным и тонким, а маленькие, очень живые голубые глаза, несмотря на морщинки в виде гусиных лапок, блестели словно фарфоровые. У нее были густые волосы серого металлического оттенка, которые она убирала в узел на затылке, открывая изящные уши, проколотые золотыми сережками. А широкий, постоянно чуть приоткрытый рот придавал ее лицу выражение неиссякаемой восприимчивости.
Мами намеревалась остановиться у нас, где было гораздо больше места, а не у дяди Эдди, и, уезжая из аэропорта, несмотря на протесты моего отца, захотела сесть на заднее сиденье вместе со своими внучатами и развлекалась чтением рекламы и дорожных указателей: научившись читать, когда ей было уже за сорок, она демонстрировала эту способность всякий раз, как представлялся случай. Джон, Ник и Карно, ехавшие впереди в другой машине, уже поджидали перед домом, чтобы открыть ей дверь. Фамильные черты семейства Бонани стали еще заметнее на их улыбающихся лицах и словно утроились.
Мами торжественно разместили в гостевой комнате — Карно, занимавший ее прежде, был разжалован и переведен на нижний этаж, на резервную койку. Но Мами и не думала распаковывать чемодан, а сразу же взялась за приготовление ужина — не уверен, что это входило в планы моей матери. Мами объяснила это так: «Мать готовит своим детям, чтобы показать, как их любит». Ее материнская любовь, слишком долго не находившая удовлетворения из-за разделявшего их пространства, излилась на стол в виде традиционной итальянской трапезы, загромоздив его дымящимися блюдами и оставив лишь узкую полоску с краю, чтобы было куда приткнуть наши тарелки. Превосходно сваренные спагетти вместо заурядного томатного соуса были приправлены свежими сливками, расплавленным пармезаном и тонкими кусочками сала и ветчины, поджаренными на сковородке. Толстые нежные телячьи эскалопы плавали в тяжелом черном соусе из кьянти и чеснока, всепроникающий дух которого еще долго витал по кухне в последующие дни, а Мами все подливала и подливала его наполненной доверху большой ложкой, пока мы не вылезли из-за стола и, пошатываясь, не удалились в гостиную сделать передышку.
Совершив над собой мощное усилие и сосредоточившись, сыновья вспомнили, что надо как-то затронуть вопрос с Бонани. И почувствовали себя обязанными повторить все доводы, которые уже приводили во время телефонных разговоров, хотя, приехав в Лос-Анджелес, Мами тем самым уже молчаливо согласилась увидеться со своим мужем. Любуясь своими отпрысками, она благожелательно слушала их, время от времени бросая заботливый взгляд на Питера, угрюмо сидевшего в кресле моего отца, откуда он изредка делал выпады, призывая послать подальше Бонани вместе с его махинациями. Питер пользовался большим влиянием на моих дядюшек, но враждебности, которую он питал к своему отцу, не удалось изменить ход дискуссии, которая разворачивалась почти так же, как и по телефону.
Единственным отличием в этом разговоре лицом к лицу в гостиной на самом деле был новый довод, приведенный Эдди. Он был любимчиком Мами, не только как самый младший, но еще и потому, что стал экспертом-бухгалтером, а для нее, несколько лет прожившей в еврейской части Нижнего Ист-Сайда, это было верхом преуспеяния. Эдди был наименее крепким из братьев Бонани, и его хрупкость растрогала бы любую мать, тем более его собственную. Он лишился зубов, когда ему не было еще и пятнадцати, у бесплатного дантиста в центра здоровья имени Питера Стьювесанта, а позже иезуиты снабдили его золотыми протезами, которые стали фокусным центром его физиономии, когда он улыбался. Как и братья, он был скорее похож на Бонани. У него были водянисто-голубые глаза, как у человека с больной щитовидкой, и, возбуждаясь, он так их выпучивал, что веки уходили вверх и почти совсем исчезали. Узкий ястребиный нос выпирал вперед, губы были тонкими и бледными, резцы сверкали. Он убеждал с искренностью миссионера:
— Мама, ты знаешь, я никогда не навязывал религию кому бы то ни было, хотя предполагаю, что в семье только ты да я ходим в церковь чаще, чем на Рождество и Пасху. В любом случае я не собираюсь утверждать, будто дело в этом. Но думаю, что… то есть я подумал, что все-таки можно было бы напомнить: что бы ни произошло между папой и тобой, он отец твоих детей и твой муж в глазах Господа, живешь ты с ним или нет, даже если бы он был презреннейшим созданием на земле. Так вот, я полагаю, что если уж он так хочет, чтобы ты вернулась к нему, то когда будешь думать над этим, может, стоит принять это во внимание.
Эдди облизал губы и огляделся, ища взглядом поддержки, но все братья старались хранить сдержанность, за исключением Питера, которому, казалось, было крайне не по себе.
Мами слушала внимательно, с серьезным видом кивая всему, что он говорил. А когда он закончил, она с гордостью просияла, словно он прочитал наизусть заданное стихотворение, и воскликнула:
— Верно! Очень, очень верно.
Потом бросила суровый взгляд на остальных сыновей, словно они спорили с Эдди. А он, похоже, испытал облегчение, опять оказавшись под ее защитой.
— Ну так в чем проблема? — спросила она вдруг с ободряющей улыбкой. — Хотите, чтобы я повидалась с вашим отцом? Ну так я с ним повидаюсь.
— Никто не требует, чтобы ты с ним встречалась, — запротестовал Ник, но как-то неубедительно.
— Скажем так: если он захочет со мной увидеться, я противиться не буду. Мы ведь в свободной стране. Почему у вас такой обеспокоенный вид? Договорились, что Бонани приедет к обеду в ближайшее воскресенье, и как только решение было принято, у всех словно гора с плеч свалилась. На какое-то время опять всплыли на поверхность старые семейные анекдоты, но то, что Мами участвует в затее своих сыновей охотно и с легким сердцем, вызывало у них скорее смущение, нежели успокоило их, благодушную атмосферу вечера поддерживала исключительно она. А вскоре все отправились спать — с ощущением, что несколько объелись.
Бонани должен был приехать к полудню, и утром в то воскресенье все безнадежно пытались вести себя, как обычно, словно в предстоящем событии не было ничего необычайного. Дядюшки старались, как могли, показать Мами, что их весьма мало заботит результат неизбежной встречи, и поминутно спрашивали ее мнение по поводу всевозможных вещей, не имевших ничего общего с Бонани. Да и она сама, хоть поначалу и произвела на нас впечатление своей беспечностью, не могла скрыть некоторых опасений. Все это время она провела на кухне, контролируя и комментируя действия моей матери, по-прежнему отрицая свое участие в приготовлении обеда. Ее волосы были стянуты в такой тугой узел, что глаза казались раскосыми.
За полчаса до предполагавшегося прибытия Бонани она исчезла на втором этаже и через десять минут вернулась, втиснутая в броню из китового уса и резинок, проступавшую из-под ее блузки. Она держалась прямо, как столб, объемистая грудь дерзко выпирала вперед. Хотя ей было немного трудно дышать, она вела себя так, словно в ее наряде нет ничего необычного. Губы она не накрасила, но со вкусом нанесла немного румян, расцветивших ее щеки, и побрызгалась туалетной водой с приятным ароматом.
Бонани прибыл за секунду до назначенного срока. Едва прозвенел звонок, как Эдди уже открыл дверь. Бонани был тщательно одет: антрацитовый костюм, галстук в красную крапинку. От него тоже приятно пахло туалетной водой. Сыновья встретили его со сдержанным радушием. После некоторой заминки в прихожей, где вновь прибывшего избавили от пальто, провели в гостиную, чтобы он встретился со своей женой.
Они справились с этим стильно, без малейшей нервозности. Бонани пошел прямиком к креслу Мами, какое-то мгновение оба внимательно всматривались друг в друга, оценивая и отмечая следы времени, но пауза была почти незаметной, потом Бонани сказал:
— Здравствуй, Мами. Рад тебя видеть.
— Похоже, ты в форме, Сэм. Совсем не изменился.
Она протянула руку, и Бонани пожал ее с большой теплотой, искренне довольный комплиментом.
— Столько времени прошло, — сказал он.
— Восемнадцать лет, — ответила она, и ее голос чуть дрогнул — единственный признак волнения за весь день.
Затем они осведомились о здоровье друг друга и порадовались хорошему виду своего потомства, несколько формально, но все же спокойно. На этом их беседу прервали, чтобы отвести в столовую и усадить за стол — на противоположные концы.
В отличие от обычных воскресных застолий, тут воцарилось что-то вроде атмосферы делового обеда, разговоры ограничивались строгой необходимостью, типа «передай соль». Слегка напряженный Бонани хранил молчание, а Мами было не очень-то по себе в корсете, вынуждавшем ее высоко поднимать каждый кусок, чтобы преодолеть выступающую грудь. Дядюшки, стараясь это скрыть, главным образом следили за тем, что скажут родители во время первой встречи. Только Питер, самый непокладистый из всех, сделал несколько неловких попыток обменяться новостями, которые не были таковыми ни для кого, да в какой-то момент Эдди заметил, словно пытаясь убедить самого себя: «Напоминает времена, когда мы были детьми, верно?»
Моя мать, строго соблюдая приличия, степенно подавала блюда, как и подобает во время воскресной трапезы, но, к ее досаде, все было закончено в рекордные сроки. А когда мой отец пригласил всех в гостиную, чтобы выпить кофе, последовавший за этим массовый исход принял размах повального бегства.
В гостиной все без явной причины почувствовали себя свободнее, и раздался гул голосов от общей болтовни. А после того как Мами ушла вслед за моей матерью, чтобы убрать со стола, обстановка стала настолько непринужденной, что Карно заметил отцу, что он «в прекрасном настроении, если принять во внимание обстоятельства», из-за чего Эдди с Тони, сидевшие достаточно близко, чтобы услышать, прыснули со смеху, а потом фыркнул и попытавшийся было сдержаться Бонани. Когда дамы, закончив свою хозяйственную деятельность, вернулись, мужчины, словно напроказившие сорванцы, с трудом подавили разбиравший их смех. Эти усилия вызвали у Эдди сильнейший приступ икоты, в то время как мой отец и Бонани, оба красные как раки, принимали сокрушенный вид.
Наконец восстановилась тишина, прерываемая лишь иканием Эдди, который в конце концов извинился и пошел на кухню выпить воды. Этим он словно подал условленный сигнал: дядюшки заторопились к выходу. Мать тоже схватила меня за руку и незаметно толкнула: «Тебе надо пойти переодеться». Дверь в гостиную закрылась тихо, но недвусмысленно: настал момент оставить Бонани наедине с женой.
Их разговор длился меньше часа. Никто из дядьев не был бестактен настолько, чтобы подслушивать под дверью, но они вышли из положения, прохаживаясь поблизости и давая себе шанс уловить обрывки того, что говорилось внутри. Такое поведение показалось мне совершенно естественным; поскольку в гостиную меня не допускали с нежнейшего возраста, эта практика была мне хорошо знакома, хотя я редко брал на себя труд быть столь же скромным, как они.
Перед тем как мои дедушка с бабушкой наконец вышли, было немало суеты — братья торопливо принимали безразличный вид. Бонани, слегка покраснев, попросил прощения за то, что должен уйти так скоро, и бросился прямо к своему пальто. Его проводили до машины, где он пожал всем руки по кругу и уехал. Моя мать всегда была очень близка с Мами. Мои родители познакомились, когда ей было всего тринадцать, а потому она вошла в семью гораздо раньше, чем вышла замуж. Это Мами учила ее стряпать и шить и до, и после ухода Бонани, и обе всегда испытывали друг к другу дружеские чувства и уважение. Так что не было ничего необычного в том, что они решили вместе прогуляться по парку. Мами с насмешкой отвергла предложение о послеобеденном отдыхе, казалось, испытания этого дня не слишком ее взволновали. Мои же ошеломленные дядюшки были благодарны случаю, позволившему им остаться в мужском кругу, чтобы поделиться впечатлениями. Когда мы ушли, они принялись дымить вовсю.
«Парк», примыкавший к церкви Святого Антония, был ничуть не больше сквера между двумя улицами: заасфальтированные дорожки, бетонные скамейки, клочки зелени там и сям. Его единственной достопримечательностью был двухметровый неоновый крест, венчавший ворота, который мой отец всей душой ненавидел, — когда матери не было поблизости, он приводил его в пример деградации религии в ХХ веке. Но это было приятным местом для прогулок, где мы часто бывали с матерью. Туда-то мы прямиком и направились. Мами было трудновато идти из-за корсета, и она опиралась на руку невестки.
— Мне хотелось немного побыть наедине с тобой, — сказала моя мать, — чтобы остальные не слушали.
Мами улыбнулась ей как сообщница и ответила, что у них есть много чего рассказать друг другу. Эта улыбка не сходила с ее губ — верный залог хорошего настроения и знак того, что между ними нет никакого недоверия или непонимания.
— Это насчет Бонани, конечно, — продолжила моя мать. — Хочу, чтобы ты знала: твои сыновья, что бы они там ни говорили, и правда хотят, чтобы ты сама все решила. Они не всегда понимают, что говорят, но в конечном счете их устроит любое твое решение. А теперь, если хочешь знать мое мнение: они не могут судить об этом с точки зрения женщины. Знаешь, ты ведь не обязана даже выслушивать его.
— Но я не хочу делать ему ничего плохого.
— Да хоть бы и хотела. Уж точно не я бы стала тебя за это упрекать.
— Все это, моя милая, было давным-давно. Теперь многое изменилось. Лучше думать о том, что будет, чем о том, что осталось позади. Невозможно злиться на кого-то так долго, если никогда не видишь его и не слышишь. Иногда мне случается думать, что было бы, если бы он вернулся. Может, простила бы его, а может, выгнала бы вон. Но мы уже другие люди, не те, что прежде, да и все теперь изменилось. Так что на самом деле я скорее спрашиваю себя: чего я от него жду?
Она пожала плечами.
— Знаешь, он, наверное, должен был чувствовать себя ужасно одиноким, чтобы так поступить. Через двадцать лет уже и не помнишь человека.
— Но послушай, как ты можешь всерьез думать о том, чтобы жить с ним?
— Может, и не думаю.
Она по-прежнему была великолепной скрытницей.
— Мальчики говорят, что мне надо подумать о нем, как о ком-то другом, не как о Бонани. Может, они и правы, но я так не могу. О Питере мне твердят. Видит бог, я всегда ему говорила: женись, уж я сумею найти себе, где жить. И я действительно на это способна.
Она взяла мою мать за руку.
— Знаешь, Клара, я ведь старею, а для старухи нехорошо оставаться одной и нехорошо становиться обузой для своих детей.
— Мами, — сказала моя мать с нажимом, — они не хотят, чтобы ты так думала.
Мами засмеялась и сжала руку моей матери в своей.
— Вот доживешь до моих лет, поймешь, что очень лестно, когда за тобой кто-то ухаживает. И уж тем более не ожидаешь этого от собственного мужа. Да к тому же, как говорят мальчики, теперь это другой человек.
Она сделала глубокий вдох, словно утопающая, и пробормотала:
— Я больше не могу в этом корсете.
Мами гостила у нас полтора месяца, и Бонани регулярно ее навещал. Их оставляли в гостиной, каждый раз примерно на час, и они, похоже, очень хорошо ладили, но Карно, Ник и Джон уехали на Восток еще до того, как беседа между ними за столом в обществе остальной семьи стала непринужденной. Для моего отца и Эдди каждое приятное слово, которым они обменивались, становилось сокровищем, и через месяц был организован первый семейный выход — посещение дома Бонани в Шерман-Оуксе, которого еще никто не видел.
Я помню, что даже погода в тот день словно способствовала успеху нашей вылазки. Осень была довольно поздней, и хотя трава еще зеленела, цвет листьев уже начал меняться. Из-за того, что мы выехали за пределы Лос-Анджелеса, чистый воздух доставлял приятное ощущение свежести. Сан-Фернандо в то время был еще настоящей деревней.
Дом Бонани стоял в конце грунтовки метров ста длиной, ответвлявшейся от дороги; ворота окаймляли кусты герани, а на лужайке росли старые яблони и груши, отягченные плодами. Дом совсем недавно был перекрашен — похоже, самим Бонани, — и, хотя был совсем маленьким, казался солидной постройкой. В архитектурном плане он выглядел изящной безделушкой, скорее гнездышком для молодоженов, нежели берлогой стареющего брадобрея.
Бонани приготовил обед, и приятные запахи, долетавшие из кухни, добавили последний штрих очарованию дома и атмосфере каникул, окружавшей нас с тех пор, как мы покинули Лос-Анджелес в то утро. Даже Питер повеселел, а Эдди, приехавший в собственной машине, поджидал нас у входа с сияющей улыбкой. Бонани изо всех сил старался выглядеть не слишком самодовольным и с врожденным чувством мизансцены настоял, чтобы мы, прежде чем приступить к осмотру дома, сперва угостились аперитивом в саду.
После того как все опустошили стаканы, любуясь пейзажем, Бонани пригласил нас внутрь. Мами пить отказалась, но зато глаз не сводила с сада, упиваясь каждой его подробностью. А ему становилось все труднее сдерживать свой восторг, и он увивался вокруг нее, как молодой ухажер.
Бонани вспоминается мне человеком скорее сдержанным, но, показывая свой дом, он откровенно расхвастался. Это был прекраснейший день в его жизни, и каждое восклицание Мами вызывало в ответ широкую улыбку на его лице. Он даже немного растерялся, когда мы закончили осмотр, но после замечания моей матери, что обед будет несъедобным, если мы не поторопимся, быстренько закруглился и стал зазывать нас к столу, явно желая, чтобы обед имел такой же успех, как и дом. Несмотря на ограниченность его кулинарных возможностей, мы воздали должное всем яствам. Бонани, словно патриарх, уселся во главе стола, а Мами, сидя на другом конце, потчевала нас.
Мами была не просто очарована домом, она пришла в совершенное восхищение, видя его обшитые деревом стены, шкафы, холодильник на кухне, красную плитку на полу в гостиной. К тому же после жизни в нью-йоркской квартире великолепие сада показалось ей чудом небесным: «Боже мой, Сэм, — говорила она, — да это же Центральный парк!»
Под вечер уже никто не сомневался: сколько бы ни длилась их галантная игра, однажды она переберется жить в этот дом с его фруктовым садом. Эдди нечаянно оговорился, сказав «твой дом», и Мами даже не потрудилась его поправить, а когда выпила стопку шнапса после обеда, ее хорошее настроение стало заразительным. Перед нашим отъездом Бонани пригласил ее заехать к нему на неделе. И она согласилась. Стоя на крыльце, он долго махал рукой вслед своей семье, удалявшейся в двух машинах. А мы смотрели, как исчезает за поворотом грунтовки этот одинокий человек, но потом всю обратную дорогу пели во все горло, играли в шарады и отгадывали загадки. Мой отец так смеялся, что чуть не съехал с дороги.
Неделю спустя Бонани и его жена уже прогуливались под ручку, и в один прекрасный день, вернувшись из школы, я обнаружил приготовления к отъезду Мами. Не совсем точно было бы сказать, что она переезжала к Бонани без опасений. Несмотря на свою философию, состоящую в том, чтобы принимать жизнь такой, какая она есть — что и сделало ее такой незлопамятной, — обстоятельства переселения на новое место взволновали ее и погрузили в сомнения. Но как только решение было принято, она уже никуда не сворачивала и в тот же день начала собирать вещи, известив детей, что готова уехать завтра.
Поскольку не было никакой официальной процедуры развода, не пришлось и выполнять никаких формальностей для воссоединения. Эта ситуация отнюдь не успокоила семью: чего-то явно не хватало. Сыновья чувствовали свою ответственность за то, что вырисовывалось на горизонте, и уже начали сожалеть, что вмешались, чтобы склонить чашу весов.
Мы все вместе проводили Мами к Бонани. За рулем хмуро сидел мой отец. Подходя к своему мужу, стоявшему возле крыльца, она казалась робкой, как новобрачная, и спокойной и безропотной, как мать. Его же счастье так и бросалось в глаза. Он помог моему отцу с чемоданами, настояв, чтобы нести самый тяжелый. Семья какое-то время оставалась с ними, но затягивать расставание было ни к чему. Пока наша машина удалялась, Бонани с женой махали нам. Он держал ее за талию, а она, казалось, этого не замечала, и ее улыбка была немного отстраненной.
Несколько недель мой отец и Эдди избегали смотреть друг другу в глаза, когда заговаривали о матери. Питер заехал повидаться с ними перед возвращением в Нью-Йорк. Побыл очень недолго и мрачно сообщил, что все, похоже, идет хорошо. «Господи, — воскликнул он, — ну кто бы мог подумать?» А потом хранил молчание до самого аэропорта. Вернувшись, он вскоре женился на рисовальщице-модельере, очень ценимой в «Village Voice» и «Off Broadway» ,в два раза выше него ростом и настолько же моложе. Кажется, ей пришлось потом бросить его ради своего босса-гомосексуалиста, искавшего себе супругу для социального прикрытия.
Вопреки отчету Питера, согласие в домике Бонани воцарилось не сразу. Мами переехала с твердой уверенностью, что все наладится с самого начала. Однако в течение нескольких недель оказалась не способна вести себя так, как сама рассчитывала. Она сразу же разделила с ним его большую кровать — быть может, для нее это имело даже большее значение, чем для него. Но вот чего она так и не смогла, так это готовить для него. Стряпать для кого-то было в ее глазах вершиной любви и самоотверженности, и тут она не позволяла себе никаких уловок. Бонани, не ропща, сам готовил себе легкий завтрак и старался оставаться на своей военной базе допоздна, чтобы поужинать в кафетерии. Но ситуация была слишком искусственной, чтобы Мами позволила ей долго продлиться.
Случай представился через месяц, когда их газовая плита погасла из-за прекращения подачи газа и взорвалась, когда Бонани попытался снова ее разжечь. Пламя полыхнуло ему прямо в лицо, лишив бровей и ресниц, и вся физиономия покраснела, как у англичанина на Ривьере. Ожог был не таким уж серьезным, но Мами два дня не пускала его на работу и лечила куриным бульоном и фруктовыми соками. А также смазывала ему лицо оливковым маслом, что было более уместным. И вот, так и не поняв по-настоящему, что же, собственно, произошло, она вдруг почувствовала себя с ним совершенно непринужденно, словно они прожили в безоблачном браке все тридцать пять лет, истекших с того момента, как они предстали перед нотариусом.
Наш первый семейный визит к воссоединенной чете Бонани состоялся в воскресенье, в конце той недели, когда взорвалась плита. До тех пор мой отец и Эдди избегали посещений, трусовато оттягивая этот момент, чтобы дать им время «притереться друг к другу», прежде чем заявиться к ним. Но вскоре ритуал этих воскресных визитов, чередующихся между нашей семьей и семьей Эдди, уже твердо установился.
Жена Эдди и трое их детей только что вернулись от ее родителей в Сан-Диего, прогостив там несколько месяцев, и в это первое воскресенье, несмотря на отсутствие остальных дядюшек, маленький домик казался переполненным. Бонани встретил нас, сияя безволосым лицом новехонького розового окраса, а казавшаяся совсем круглой Мами вышла из кухни расцеловать внучат. Она с гордостью продемонстрировала нам физиономию своего мужа, которая благодаря ее попечению сохранила кожу и не облезла. Бонани позволял ворчать на себя за свою неосторожность. Похоже, оба получали большое удовольствие от этой игры, и при каждом замечании Мами сыновья обменивались многозначительными взглядами. Она же отмечала свою удавшуюся адаптацию, удваивая маленькие заботы о своем Бонани, сама удивляясь, как все идет хорошо.
День удался на славу, а обеду предстояло положить начало долгой череде подобных пиршеств. Вторую половину дня, пока взрослые нежились, удобно рассевшись под навесом террасы, дети рыскали по саду, подхватывая первую из не менее долгой череды аллергий на ядовитый сумах. Общая атмосфера была расслабленной и умиротворенной.
Конечно, первые недели их новой совместной жизни недешево обошлись каждому из них, но Бонани и его жена притерпелись к обыденности, которая приобрела видимость нормальной, вполне заурядной супружеской жизни. Да и наши воскресенья в Долине стали похожи на ритуал. Мами проводила утро на кухне, а после полудня присоединялась к мужу и сыновьям на террасе или в гостиной, в зависимости от погоды. Бонани ставил на стол бутыли красного вина, настаивая, чтобы внуки тоже выпили по стаканчику, чтобы, как он говорил, «укрепить кровь».
Вскоре в ритуал включили стрижку волос для тех, кто в этом нуждался. Бонани установил в глубине сада старинный стул, откопанный на какой-то распродаже и выполнявший у него функцию парикмахерского кресла. Пока Мами стряпала, он занимался нашими шевелюрами, а потом возвращался к остальным членам семьи на лужайку. Он был так же горд этими стрижками, как Мами своей стряпней, и пыжился от удовольствия, когда сыновья хвалили его работу.
Мои дедушка с бабушкой не казались слишком влюбленными друг в друга, но тут они ничем не отличались от прочих супружеских пар, которые я знал. Зато выглядели гораздо счастливее, чем большинство из них. Бонани ничего больше и не просил от жизни, кроме своей работы — а он был убежден, что исполняет ее с искусством и мастерством, — и своего дома, которым гордился бы не больше, если бы это была вилла в Пасифик Палисейд с видом на океан, бассейном и прочей показной роскошью. К тому же наши воскресные визиты давали ему ощущение отцовской состоятельности, что только добавляло счастья.
Мами тоже казалась совершенно довольной. Она занималась домом наравне с Бонани, и их усилия взаимно дополняли друг друга. Пекла в духовке удивительные пироги по старинным рецептам — тяжелые, сыроватые и неудобоваримые — и отправляла их своим друзьям или сыновьям с Восточного побережья. Любовно ухаживала за фруктовым садом, по-матерински заботясь о каждом дереве, придумывала им ласкательные имена, умело подрезала и рисковала падением с лестницы ради того, чтобы снять с ветки их малейший дар. А потом преобразовывала собранные плоды в бесчисленные варенья и вкуснейшие консервы. Никакой подарок не доставлял ей большего удовольствия, чем мешок удобрений или новый секатор. В эти семейные воскресенья она была еще счастливее Бонани.
Поначалу невестки пытались помогать ей на кухне. Она принимала их помощь вежливо, хоть и нехотя, но вскоре стала без церемоний выпроваживать в сад. Утверждала, что им надо пользоваться свежим воздухом деревни, но на самом деле просто не желала ни с кем делить похвалы своей стряпне, этот момент после последней порции десерта, который был четвертью часа ее славы. Предвкушая его, она беспрестанно наполняла тарелки, досадуя, когда гости в изнеможении говорили ей «нет, спасибо, нет, в самом деле».
И все же моя мать считала, что хотя Мами, возможно, и получала больше удовольствия, чем другие, от наших воскресных сборищ, благодаря своему очевидному пристрастию к приготовлению пищи, было что-то крайне несправедливое в том, что она потеет у плиты, в то время как остальные домочадцы прохлаждаются, потягивая освежающие напитки и рассказывая друг другу столь же освежающие истории. Это был мамин суфражистский пунктик, для нее такое положение дел было брешью в Правах Женщины. Это ее так озаботило, что она в конце концов отправилась в магазин Монтгомери Уорда и заказала самое усовершенствованное барбекю, какое только нашлось в каталоге. И вот в следующее воскресенье новехонький агрегат был взгроможден на крышу нашей машины и на малой скорости доставлен в Шерман-Оукс. Мы с трудом сдерживали свое нетерпение.
С предосторожностями проследили, чтобы Мами оставалась на кухне, пока снаряд не был собран на газоне. Эдди сгонял до обеда в торговый центр и купил двадцать метров веревки, которую натянули между двумя деревьями, а Бонани развесил на ней простыни, чтобы скрыть машину. Когда все было готово, семейство дружно устремилось на кухню за Мами и усадило ее на стуле напротив занавеса для торжественного открытия. В спешке Эдди опрокинул банку оливок в мойку, а с его женой Эдной случился приступ неудержимого смеха — заразного, кстати сказать. Было ясно, что происходит что-то необычайное, и Мами была готова радоваться вместе с остальными. Прошло некоторое время, когда она уже сидела, но все были слишком возбуждены, чтобы говорить. Наконец моя мать объявила: «Сюрприз».
Все, затаив дыхание, уставились на Мами.
— О! — сказала она поощрительно. — Сюрприз?
Мой отец выступил на шаг и величавым жестом откинул простыни. Оказалось, что они были плохо привязаны, так что обнажилась только половина аппарата, а вторая простыня зацепилась за вертел с электроприводом, тотчас же мой отец и Эдди, бросившись вперед, сшиблись словно кетчеры, чтобы ее отцепить. Наконец барбекю появилось во всем своем великолепии, сверкая хромом и алюминием — новенькие чугунные решетки были хоть сейчас готовы к употреблению, а набор разноцветных эмалированных подносиков своей яркостью напоминал клумбу. Мы все смотрели на Мами, глуповато осклабившись.
А Мами созерцала машину с застывшей улыбкой.
— Ах! И в самом деле красиво… — протянула она, не имея ни малейшего представления, что же это такое, но будучи слишком вежливой, чтобы спросить.
Молчание нарушила моя мать.
— Это барбекю, — сказала она, чтобы навести ее на след.
— Барбекю! — повторила Мами.
Спас положение Бонани.
— Это чтобы жарить, — пояснил он. — Видишь, тут как в камине зажигается огонь. Кладешь сюда цыпленка или мясо — и все готовится прямо в саду.
Когда до Мами дошло, ее лицо просияло, как рождественская елка, и она тут же расцеловала всех, кто оказался в пределах ее досягаемости. Было уже слишком поздно, чтобы воспользоваться машиной для обеда, но она настояла, чтобы все остались на ужин. Жаркое в тот вечер обуглилось снаружи и было сырым внутри, но зато само барбекю целиком поглотило интерес Мами, и она начала чистить его решетки еще до того, как погасли угли и была выброшена зола. Несколько недель она старалась освоить подарок, но мало-помалу украдкой стала возвращаться на кухню, чтобы готовить кушанья из теста и овощей, и в конце концов барбекю унаследовал Бонани. Он купил себе поварской колпак с большим полотняным фартуком и завел обычай завершать воскресные посиделки, жаря нам хот-доги и рубленые бифштексы.
Недостаток изысканности Мами скрывала хитроумным светским притворством, хотя ради предметов, которые считала по-настоящему важными, могла быть совершенно прямой и честной, как по отношению к самой себе, так и к другим. Например, когда мой отец, представляя профсоюз преподавателей, уехал на конгресс в Сент-Луис, который должен был продлиться добрый месяц, она поощряла мою мать пожить в свое удовольствие, яснее говоря, «видеть людей», и не только женщин.
— Можешь не сомневаться, мой Тони не будет сидеть один все это время. А соус, который хорош для селезня, и для утки сгодится.
Бонани ценил откровенность своей жены, но через год или два стало заметно, что он уже не так усердствует, искупая свое долгое отсутствие. Правда же состояла в том, что он начал ее стыдиться. В первое время он был очень внимательным, часто выводил ее погулять, а потом стал все более и более сдержанным и пользовался всеми маленькими уловками, которые в ходу у мужчин, женатых без любви. Бонани был кокетлив, следил за своей внешностью, и ему не нравилось идти рядом с ней. Он не хотел, чтобы люди думали, будто эта женщина, выглядевшая на десять лет старше, — его супруга. Когда они все-таки выходили куда-нибудь вместе, он вел себя так, чтобы это выглядело, будто он один. Мами обожала кино, но он терпеть не мог водить ее в кинотеатр, потому что она говорила без умолку во время сеанса, несмотря на шквал протестов, который обрушивался на них в темноте. Бонани было явно не по себе, когда ему приходилось представлять жену друзьям, и с некоторых пор он предпочитал встречаться с ними в своем клубе. И вообще начинал замечать, что после всех этих лет разлуки у них, собственно, мало общего, и его удивляло, что в начале их примирения его ожидание счастья могло казаться ему столь щедро удовлетворенным. Он начал думать, что, в сущности, счастлив сегодня вопреки ей. В конце концов возобновленный союз родителей неизбежно сошел с первой полосы семейных новостей. Огромный прилив нежности к Мами схлынул, и мои дядюшки перестали чувствовать натянутость в отношениях с отцом. Воскресные сборища уже не производили искр и тонули в обыденности — не лишенной приятности, но и без всяких сюрпризов. Порой там бывало скучно, порой кто-то отсутствовал. Время от времени, когда наезжал кто-нибудь из дядюшек с Восточного побережья, еще случались отголоски того, что было на первых порах, но, как ни странно, воссоединение родителей словно ослабило связь между братьями, и эти визиты становились все реже и реже. Жизнь семьи вошла в свою колею, стала спокойной и упорядоченной. У Мами и Бонани находилось все меньше, что сказать друг другу, но они все больше вели себя так, словно вообще никогда не расставались. Единственным внешним признаком напряженности между ними стало их соперничество за внимание детей. Так на протяжении почти пяти лет они и прожили ничем не примечательной супружеской жизнью, пока однажды Мами не заболела.
Целый месяц сменявшие друг друга врачи ставили противоречивые диагнозы и прописывали исключавшие друг друга лекарства, пока некий приглашенный на консилиум специалист из ливанского Кедрового госпиталя не обнаружил, что Мами умирает. У нее развилась какая-то особенно гнусная разновидность рака, когда жировая прослойка распадается, образуя на коже наполненные водой волдыри. Очень редкая и совершенно неизлечимая болезнь. Даже госпитализировать ее было бесполезно, а впрочем, она бы в любом случае этого не перенесла.
Отправили телеграммы дядюшкам с Востока, те тут же бросились в самолет и устремились к ее изголовью, но Мами боролась мужественно, как стойкий солдатик. Она слишком ценила жизнь, так что умирала долго. Противостояла смерти целых восемнадцать месяцев — врачи давали ей всего шесть, — и чем ближе подходила к концу, тем тягостнее становились для нее посещения. Тогда восточные дядюшки вернулись по домам, ожидая вызова к ее смертному одру.
Бонани был совершенно сломлен. Пока Мами умирала, тяжело и мучительно, он страдал от самого ужасного чувства вины, которое мне приходилось видеть. Оно было таким сильным, что стало для него словно некоей невозможной любовью, цветком его отчаяния, окрашенным тоской по их былым отношениям.
Мами, погрузившись в свою болезнь, отказалась его видеть. Избавилась от своей терпимости по отношению к нему, выбросила ее, как скорлупу разбитого яйца. Когда-то она любила Бонани со всей силой, на которую способно только простое сердце, но потом защитные укрепления, которые она возвела из чувства самосохранения, пошатнулись вместе с ее здоровьем и желанием жить. Теперь уже и речи быть не могло, чтобы она его простила. Ее муж, с виду такой же больной, как и она, готовил для нее еду, кормил с ложечки, пока она не запретила ему входить в свою комнату.
Еще находясь в здравом уме, Мами часами говорила с моей матерью о Бонани:
— Где он был, когда он был мне нужен? Где он был, когда я еще была настоящей женщиной? Вернулся, когда я стала старухой. Вернулся, когда я ничего уже не хотела, а он ничего не мог мне дать. И теперь расхаживает по дому в кальсонах. Он мне противен.
Она забыла и дом, и сад. Благоухание соснового паркета растворилось в запахе больничной палаты. По совету врача шторы были задернуты. Уже ничто не напоминало светлое жилище, которое она устроила и поддерживала как хорошая хозяйка в течение пяти лет. Или это уже не имело никакого значения.
А Бонани сидел в гостиной с красной плиткой на полу. Он платил за все отвращение и боль, которую она испытывала, за свое дезертирство в годы Депрессии — исполненный бессилия и ненависти к себе, пожираемый любовью, родившейся из чувства вины. Будь он собакой, он бы выл все время, пока длилась агония Мами. Будь он собакой, никто бы не позволил ему так страдать.
Но все его игнорировали. Когда Мами начала чахнуть и покрываться волдырями, мой отец и Эдди тоже почувствовали разочарование и вину. Они приходили посидеть с ней, но его присутствия уже не выносили. Их взгляды проходили сквозь него, когда они сталкивались с ним, словно его тут вообще не было. Во время их посещений Бонани ходил из угла в угол по дому или сидел в гостиной. Глаза у него запали, кожа на носу облупилась.
Перед самым концом все тело Мами было покрыто гноящимися ранами, и она весила меньше сорока килограммов. Бредила целыми днями. Отвечала уроки, заданные в вечерней школе, хвасталась своим сыном Тони, учившимся в университете. В редкие и мучительные моменты, когда ее сознание прояснялось, она настаивала, чтобы ее вещи были разделены между детьми. И умоляла, чтобы ее не хоронили рядом с Бонани.
Она умерла в середине осени. Только Эдди был с ней рядом. Мои родители после двенадцатичасового бдения вернулись домой поспать, думая вернуться на следующее утро. Едва рассвело, им позвонил Эдди.
Мы поехали дожидаться вместе с ним, когда откроется похоронная контора, чтобы они забрали тело. Эдди был неспособен к нему прикоснуться. Когда мы приехали, Мами лежала с открытыми глазами, а ее ночная рубашка была распахнута на жалкой дряблой груди, лишившейся плоти, покрытой водяными пузырями. Моя мать закрыла покойнице глаза и набросила простыню ей на лицо. Не осталось ничего от Мами в этом маленьком трупике под одеялом. Эдди, сидевший до этого в оцепенении, зарыдал как младенец.
Когда она умерла, Бонани спал на диване в гостиной, и никто не дал себе труда ему об этом сказать. Только заслышав стоны Эдди, он, пошатываясь спросонья, еще весь расхристанный, вошел в комнату и застыл, уставившись на постель. Горе Эдди сменилось яростью. «Она умерла!» — крикнул он отцу. Бонани покачнулся, словно его ударили. «Умерла! — завопил Эдди так пронзительно, что его голос пресекся. — Умерла, ненавидя тебя до кишок, мерзавец!» У Бонани перехватило дыхание, и он попятился вон из комнаты, по-прежнему не сводя глаз с постели.
На похороны съехались всех далекие дядюшки с женами. Их разместили у нас и у Эдди, как смогли. Бонани не стал сидеть вместе с ними в гостиной. Договорился с начальством, чтобы пожить некоторое время на военной базе. Все старательно избегали упоминать о нем.
Для меня это были первые настоящие похороны. К глубокому горю в нашем доме примешивалось странное чувство вины, которое словно вдруг украло чувство семейной невинности. Между моими дядюшками уже не было ни малейшего ощущения братства. Они и телом и душой отдались своей скорби, которая изнуряла их и даже лишала желания смотреть друг на друга.
Три дня подряд лило как из ведра, и дороги в Долине, в то время еще грунтовые и плохо дренированные, стали похожи на реки, текущие между рядами домов. Похоронная контора Шерман-Оукса, где было выставлено тело, превратилась в остров, окруженный грязной водой. Когда мы поехали вслед за катафалком на кладбище Санта-Моники, дождь припустил еще сильнее. Нам выдали маленькие флажки, чтобы обозначить нашу принадлежность к погребальной процессии, но они были бумажные, а потому размокли и обтрепались на ветру. Бонани проделал всю дорогу один, в своем красном «Форде». Когда мы приехали, он уже сидел в часовне. Нам пришлось проторчать там несколько часов, ожидая, когда кончится дождь. Бородатый священник, которому предстояло совершить обряд, ходил перед гробом взад-вперед, точно зверь в клетке. Мои тетушки шмыгали носами и сморкались в платки. В конце концов служащий похоронной конторы, молодой жирный парень с белобрысым ежиком на голове, сказал нам как можно учтивее, что могильщикам пора уходить, так что погребение состоится под дождем.
В вырытой могиле было полно воды, а козлы, на которых гроб стоял во время церемонии, увязали в раскисшей земле. Мы стояли друг напротив друга под черными зонтами. Только Бонани остался под проливным дождем, ничем не прикрывшись, точно кающийся грешник. Во время надгробного слова мой отец держал зонт над священником. Когда гроб рывками опустили в могилу и он исчез под поверхностью грязной воды, Бонани душераздирающе взвыл и упал на колени прямо в грязь.
А в самый ужасный момент ритуала, когда все стали бросать по горсти земли в могилу, он разразился хриплыми, какими-то скрежещущими рыданиями. Так он и сидел, держа в руке комок сочащейся грязи и хныча, как наказанный ребенок:
— За что? Что я такого сделал? За что? После похорон он уехал в Шерман-Оукс, даже не попрощавшись. Поскольку ни одна из моих тетушек не чувствовала себя в состоянии заняться обедом, мы все поехали на авеню Санта-Моника заесть наше горе у Шрафтса.
На следующее утро семья собралась у Бонани, чтобы выполнить устное завещание Мами. Она выразила желание, чтобы все ее вещи перешли к детям, так что те принялись опустошать дом. Поскольку большая часть мебели была куплена ими, они стали вытаскивать ее на своих спинах. Это расточительство усилий длилось около часа, пока в доме не осталось почти ничего, что можно было забрать. Тетушка Эдна привезла из сарая барбекю, благо оно было на колесиках, и попросила помощи, чтобы засунуть его в машину. Моя мать остановила ее, напомнив, что это она подарила его Мами, — ей не нужны никакие сувениры, но барбекю она дорожит. У Эдны оставалось еще много вещей, которые она собиралась забрать, так что эту она уступила легко.
Когда Джон и Эдди пришли за комодом из вишни, который Джон подарил на Рождество три года назад, они обнаружили Бонани лежащим на кровати. Хотя сыновья были очень вежливы с ним, он так и пролежал в своей комнате, пока все не уехали. Дом казался новым и необитаемым. Моя мать решила оставить барбекю и вернула его в сарай, где на крючке висели фартук и поварской колпак.
Несколько месяцев Бонани был отлучен от семьи. Дядюшки с Восточного побережья не позвали его, чтобы попрощаться перед отъездом. И ни наша семья, ни семья Эдди его не навещали. А он, казалось, даже поощрял это отчуждение и не подавал никаких признаков жизни. Быть может, чувствовал, что не будет желанным гостем. Смерть Мами вновь всколыхнула все негативные чувства к нему, и, хотя они вскоре рассеялись, их сменило не что-то положительное, а попросту безразличие. Встреча с Бонани была бы в тягость, и сыновьям не хотелось себя этим обременять.
Но в конце концов, поскольку никакого предлога все не представлялось, Эдди с моим отцом смирились с необходимостью нарушить молчание и как-то вечером сели в машину и поехали к Бонани. Они обнаружили его в саду — он вырубал фруктовые деревья. Встретил их вполне радушно, отложил топор и предложил сварить кофе.
Рубить фруктовые деревья было почти святотатством. Они были самой большой отрадой в жизни Мами. Эдди поинтересовался у Бонани, зачем он это делает.
— Хочу посадить тут оливы, — ответил тот, словно это само собой разумелось.
— Господи, папа, — удивился Эдди, — но почему? — Видишь ли, когда я был молодым, у нас были свои оливы. Это прекрасное дерево. Растет даже там, где овцам несладко приходится.
Мой отец попытался его разубедить: оливе нужно много лет, чтобы вырасти, и еще больше, чтобы начать плодоносить.
— Я подожду, — сказал Бонани. — Времени у меня полно, да и что мне еще делать?
Они обсуждали это до самого отъезда — скорее потому, что это давало естественный повод для разговора, чем из-за особенной убежденности с той или другой стороны.
Бонани так и не посадил оливы и даже не успел расчистить сад, поскольку серьезно заболел. Вскоре выяснилось, что он нуждается в довольно сложной операции на ободочной кишке.
Эта болезнь приключилась с ним слишком скоро после медленной смерти Мами, чтобы семья обеспокоилась сверх меры, но все же несколько раз навестила его. Когда я увидел его в первый раз после похорон бабушки, мне показалось, что он похудел. Из-за проблем с пищеварением он словно ссохся и затвердел, как орех. Тем не менее он сам вел машину до больницы, где у него должны были взять предварительные анализы. Когда мой отец позвонил хирургу, тот его успокоил, сказав, что операция, конечно, серьезная и определенный риск есть, но прогноз в целом благоприятный. Члены семьи несколько раз звонили Бонани, желая ему удачи, а моя мать вызвалась отвезти его в назначенный день в больницу Святого Иосифа.
Как только он водворился в своей палате, монашка, сиделка на этаже, спустилась за моей матерью в приемный покой — Бонани захотел увидеться с ней еще раз, прежде чем она уедет.
— Хочу сказать тебе кое-что важное. Всего две-три вещи, — сказал он ей. — Может так получиться, что я умру…
Моя мать перебила его, еще раз повторив, что хирург уверен в благополучном исходе.
— Поди знай. Это не должно вас беспокоить. Я уже старик, а дом после смерти Мами опустел. Так вот, я хочу, чтобы ты знала, что делать, если я умру. Всего две-три вещи. Дом продайте. Я немного задержал с выплатами, а вам он не нужен. У меня есть небольшая страховка на случай смерти, там немного, но за похороны вам платить не придется. За парикмахерские инструменты сможете выручить несколько сотен долларов и столько же — за машину. И есть еще кое-что. Ты знаешь, я никогда не был религиозным, а мы в католической больнице. Так вот, если я умру, не надо никакого священника — это было бы неправильно. Как я жил, так и умереть хочу. — Какое-то время он смотрел на белые стены вокруг себя. Его медицинская страховка не позволяла ему одноместной палаты, но вторая койка, заправленная и стерилизованная, пустовала. — Слушай, Клара, — продолжил он, — мне плевать, что вам сказал доктор. Я думаю, что умру, и хочу быть похороненным рядом с Мами. Я знаю, она была против, но я и в самом деле очень этого хочу. Передай это от меня мальчикам.
Моя мать пробормотала, что он сам не знает, что говорит, и что все будет хорошо. Но его тон встревожил ее, и, вернувшись домой, она передала весь разговор отцу.
Поздно вечером позвонили из больницы, и хирург сообщил моим родителям, что операция была сложной и длилась шесть часов. Но прошла успешно, как только можно было надеяться. А на следующее утро около шести часов из больницы снова позвонили и сказали, что Бонани полчаса назад умер.
Когда мои родители и Эдди с женой приехали для выполнения формальностей, сиделка, присматривавшая ночью за Бонани, принесла нам свои соболезнования. Она была маленькая и кругленькая, в металлических очках на красном носу, и говорила, тяжело дыша.
— Я хотела, чтобы вы знали, что этот превосходный человек не страдал, когда его привезли из операционной. Рассказывал нам о детстве на своей прежней родине. Перед операцией, правда, немного нервничал и молился, когда за ним приехали. Но когда все закончилось и он вернулся в палату, проговорил почти два часа, а потом уснул.
Мои родители поблагодарили ее за любезность. Она призналась, что ей очень жаль: он отошел так быстро, что она даже не успела позвать священника.
— Проснулся буквально за секунду до смерти, — вздохнула она и с жаром добавила: — Думаю, вам будет приятно это узнать: он сказал, что счастлив снова встретиться с мамой. Он так ее и назвал: la Mamma.
При расставании сиделка пообещала молиться за упокой его души.
После похорон Мами прошло слишком мало времени, чтобы Ник и Карно снова смогли приехать. Так что обычный сбор семьи прошел в несколько уменьшенном составе. Хоронили Бонани сдержанно, никто слишком не горевал, и в воздухе витало даже некоторое облегчение.
Его благополучно предали земле. Стояла прекрасная погода, и в сведениях, сообщенных священнику для надгробного слова, было деликатно опущено любое упоминание о долгой жизни усопшего вне лона семьи. Военную базу, приславшую огромный венок, представлял сержант интендантской службы в парадном мундире. Профсоюз парикмахеров и товарищи по работе тоже прислали своих представителей, чтобы проводить Бонани в последний путь. Дядюшки решили уважить его последнюю волю, и он был похоронен рядом с Мами. На их могилах лежат две одинаковых плиты из черного мрамора. Лос-анджелесские газеты опубликовали маленький некролог с датами его рождения и смерти, а также с полными именами шестерых его сыновей, для которых он был горячо любимым отцом.
Войдите в воду
Название новеллы (по-английски «Wade in the Water») — это строка из госпела, так называемого негритянского спиричуэла, сочиненного в XIX веке и отсылающего к двум библейским эпизодам — из Ветхого Завета (бегство евреев из Египта, Исход 14) и Нового (чудесное исцеление, Иоанн 5, 4). В обоих случаях речь идет о божественном вмешательстве, «возмутившем воду» ради спасения человеческих жизней. Традиция даже утверждает, что «Wade in the Water» был вполне недвусмысленной инструкцией для беглых рабов — чтобы те уходили от погони не по дорогам, а по воде, сбивая со следа собак.
Отец Джо Дассена пострадал за свои крайне левые убеждения, попав в черный список Голливуда, как сочувствующий коммунистам, однако его сын не обладал слишком активным «политическим сознанием» и, учась в Энн-Арборе, не чувствовал, что его особо интересуют шествия в поддержку кубинской революции или антиядерные манифестации (речь тогда шла о бомбах, а не об атомных электростанциях). И все же он участвовал в большом деле тех лет, зародившемся в либеральных, преимущественно университетских кругах, — в движении за гражданские права чернокожих. В частности, вместе со своими единомышленниками он устраивал sit-ins — сидячие акции протеста у дверей учреждений или предприятий, где практиковалась расовая сегрегация. И откровенно выступал против расизма, а такая позиция в то время в Соединенных Штатах, надо это напомнить, требовала определенного мужества, поскольку не обходилась без риска.
Этот текст, описывающий атмосферу квартала, населенного благонамеренным американским средним классом — не слишком религиозными евреями и многочисленными католическими семьями, — получил «вторую Национальную премию за рассказ» и стал первым из двух произведений Джо Дассена, опубликованных в журнале «Generation». На написание этого рассказа Джо вдохновил один случай, о котором поведал в интервью его отец, Жюль Дассен: «Я помню, как ребенком, в Лос-Анджелесе, он со своими сестрами ходил смотреть мультфильмы к соседям. Однажды он повел туда маленькую негритяночку по имени Бетти, которая жила у нас. А через четверть часа вернулся с ней обратно, потрясенный тем, что эти люди отказались впустить к себе цветного ребенка».
Малышке Бесс приснился кошмар, и она расплакалась.
Звук поднимается по трубам, словно где-то в лабиринте системы отопления работает радио. Доносится из-за решетки в помещении для прислуги, этажом ниже. Иногда Дэвид сидит на полу в углу своей комнаты, проникаясь этой близостью между Фэт Лави и Малышкой Бесс, матерью и дочерью, которая разливается по дому с цокольного этажа, неся любовь и жизненную силу.
Кошмар приснился Малышке Бесс в воскресенье, очень рано утром. Дэвид слышит Фэт Лави, ее хриплый, утробный голос, вынырнувший из тумана сна:
— Ну же, детка, замолчи, шш-ш, тише, это всего лишь дурной сон, всего лишь дурной сон. Шш-ш, тише, детка.
Когда Малышка Бесс не может заснуть или нуждается в утешении, Фэт Лави похлопывает ее по попке — в размеренном, гипнотическом ритме.
— Шш-ш, ну хватит, детка, все хорошо. Тише, детка.
Этот рефрен размечает паузами нежные пошлепывания и сонные всхлипы Малышки Бесс.
Дэвид заворачивается в темную спираль одеяла и закрывает глаза, крепко зажмуривается, чтобы отгородиться от звуков, которые доносятся через решетку отопления. Но он не может помешать себе представлять Фэт Лави, всю из волнистых округлостей, ее грудь, бедра, лоснящиеся черные щеки, белки глаз с карими крапинками, и Малышку Бесс, уткнувшуюся личиком в необъятность материнского живота под терпеливое, успокаивающее баюканье ее рук.
— Шш-ш, детка, шш-ш, молчи, моя маленькая-маленькая детка…
По мокрой улице проезжает машина. Дэвид провожает глазами наплыв светящихся узоров, которые взбираются по стенам и растворяются в тишине комнаты, снова соединившись в лучи фар.
Эти световые пятна напоминают ему снежный ком из мультика. Накануне, как повелось по вечерам в субботу, живущие рядом Мюллеры крутили для соседской детворы фильмы на шестнадцатимиллиметровой пленке: бледноватые, непонятно кем изготовленные копии, несколько бобин с любительскими съемками путешествия по Европе, подсунутых в общую кучу и навязанных детям, когда те перестают шумно протестовать, требуя свое любимое название. И в завершение каждого субботнего вечера — всегда один и тот же мультфильм, который заканчивается тем, что злодея накрывает снежным комом, который, скатываясь по склону, становится все больше и больше и, наконец, ныряет в пропасть.
Свет фар проплывает по комнате, следуя одной и той же математической прогрессии — пятна забираются все выше от стены к стене, достигают верхней точки и исчезают в углу за кроватью.
По-прежнему слышно: «Шш-ш, шш-ш… тише, тише, детка».
Дэвид смотрит на светящийся циферблат будильника на прикроватной тумбочке и ждет. Стрелки «Беби Бена» словно остановились. Утром будет воскресенье, и он пойдет в церковь с Ханнагенами. В церковь Святого Георгия, прямо напротив, на другой стороне улицы. Самому младшему из детей Ханнагенов, Джонни, восемь, как и Дэвиду, так что дело уладилось само собой. Он спросил разрешения у родителей вчера вечером, во время их бриджа с Салливанами. Его родители, Левины, играют в бридж с Салливанами. Не то чтобы они обожали бридж или Салливанов, но те живут всего через два дома, на улице Уинстон, а там полным-полно Салливанов.
Дэвид проскользнул через узкую щель между створками раздвижной двери библиотеки и остался в своем углу из уважения к ритуалам старших.
Миссис Салливан была Югом. Она собрала свои карты в аккуратную стопку и, держа ее в одной руке, прикоснулась пальцем к красному тузу, как к амулету.
— Двойка треф, — объявила миссис Салливан.
— Я пас, — сказал мистер Левин, который был Западом, и стукнул по столу.
— Да, — сказал мистер Салливан, — хм-м-м-м-м.
Он согнул свои карты и откинулся назад вместе со стулом. Потом открыл карты, не глядя на них.
— Ну что ж, — объявил мистер Салливан, — я тоже пас.
— Гарри! — визгливо воскликнула миссис Юг. — Ты же не можешь пасовать на двойке треф…
Стул снова качнулся вперед и встал на ножки. Север поерзал на сиденье и уныло вгляделся в свои карты.
— Да-да, конечно, не могу, — согласился мистер Салливан. — Черт, о чем я только думал?
Он приложил согнутый палец ко лбу и втянул щеки.
— Да, конечно.
Дэвид тщательно спланировал свою атаку, но, оказавшись в библиотеке, почувствовал, что ему не хватает воздуха и кружится голова. Он решил отказаться от постепенного приближения к цели, которое предусматривал план, разработанный вместе с Джонни в гараже, и почесал себе бедро через карман.
— Джонни Ханнаген сказал, что я могу пойти с ним завтра в церковь, — бросил Дэвид и опять почесался. — Его родители согласны.
Разумеется, он может пойти.
Мистер Салливан улыбнулся ему и сделал вид, будто хочет наподдать кулаком. Миссис Салливан взъерошила ему волосы.
— Как он вырос, — сказал мистер Салливан. — Извините меня, Ирвин, Рут, ничего, если я передумаю? Не знаю, где была моя голова. — Нет проблем, — немедленно ответил мистер Левин. — Давайте, я же сказал, что пасую.
— Ну вот, тише, детка… моя маленькая детка… Дэвид потягивается и начинает вертеться в постели, как угорь. Ищет для своей щеки на подушке место попрохладнее.
— Моя маленькая детка…
Он был удивлен и восхищен, что не было никаких возражений, никаких споров. Но ужин казался ему подгорелым, а родители говорили о политике, о бридже, о Салливанах. Во время этой долгой трапезы его возбуждение сменилось какой-то пустотой, которую мало-помалу заполняли неловкость, смутное чувство стыда.
— Можно выйти из-за стола? — пробормотал Дэвид.
Он побежал в буфетную, где Малышка Бесс и Фэт Лави ели за складным столом.
— Хочешь пойти в кино, Малышка Бесс?
— Мама, можно мне пойти в кино к Мюллерам?
— Надень пальто, детка, — сказала Лави.
Она перегнулась через стол и покрыла лицо девочки влажными поцелуями.
— И не расстегивайся, пока туда не придешь, слышишь?
— Я за Лиззиным пальто! — крикнула, убегая, Малышка Бесс.
Когда она вернулась в буфетную, ее пухлые пальчики возились с пуговицами куклы. Она говорила:
— А ты, Лиззи, не шали, не расстегивай пуговицы. Будь умницей.
Кукла еще шире улыбалась своими тряпичными губами, и Малышка Бесс прижала к себе черную головку, гладя курчавую шерсть ее волос.
— Идем? — спросил Дэвид.
В саду он обхватил рукой ствол дерева авокадо и дважды крутанулся вокруг него. Потом втянул голову в плечи от холода.
— А мне не надо надевать пальто.
— Простудишься.
— Ничего подобного.
Он обнял дерево.
— А тебя мама заставляет надевать пальто.
— Лиззи может простудиться.
— Кукла не может простудиться.
— Я ее мама и не разрешаю ей снимать пальто.
— А мне мама разрешает не надевать пальто, — сказал Дэвид торжествующе.
— Простудишься.
— А вот и нет.
— А вот и да.
— Ничего подобного.
— Правда-правда!
Дэвид, держась за скользкий ствол, сделал оборот вперед, потом оборот назад.
— И ни капельки не холодно.
— А мама тебе клеит такие штуки на спину?
— Какие штуки?
— Когда болеешь.
Дэвид подцепил большим пальцем кусочек коры и, двигаясь вокруг древесного ствола, стал осторожно отдирать длинную полоску, пока та совсем не истончилась и не оторвалась. И соорудил из нее кольцо.
— А мне мама клеит такие жгучие штуки на спину.
Дэвид неуверенно спросил:
— А ты к доктору, что ли, не можешь пойти?
— Я не хочу!
— Нет, хочешь, но не можешь.
— А вот и нет.
— Хочешь, хочешь!
— Не хочу!
Малышка Бесс сказала кукле:
— Поцелуй мамочку и обними покрепче…
И она обвила тряпичными руками Лиззи свою шею.
— Уродина твоя кукла.
— И никакая она не уродина! — возразила Малышка Бесс и шепнула Лиззи: — Не слушай его.
Она прижала ее к себе, потом засунула между двумя пуговицами под пальто, прикрыв руками образовавшуюся выпуклость.
— Так ей будет тепло.
— В кино опоздаем, — сказал Дэвид.
Он потащил Малышку Бесс за руку вдоль дома и помог подняться по ступеням крыльца Мюллеров. Нажимая на кнопку звонка, он сказал:
— Хочешь.
— Не хочу.
Джонни Ханнаген был уже там и открыл им дверь. — Нет, хочешь! — крикнул Дэвид и устремился в дом, чтобы поздороваться с миссис Мюллер.
—Тише, детка, шш-ш… Успокойся… Спутанные нити сна стали совсем слабыми. Прохлада подушки растаяла.
После окончания мультика у Мюллеров Дэвид спросил:
— Джонни, пойдешь к нам есть пирожные?
— Большущий снежный комок как… бум! Прямо по голове! — прыснула Малышка Бесс. — Бум по голове!
— Эй, Джонни, так ты идешь?
Джонни участвовал в серенаде: «До свидания, миссис Мюллер, до свидания мистер Мюллер», которая раздавалась у входа.
— У мамы спрошу, — крикнул Джонни с крыльца.
— Бум по голове! — повторила Малышка Бесс, совсем развеселившись.
Дэвид схватил ее за руку и потянул к двери.
— Погоди минутку, — сказал мистер Мюллер, — мы с миссис Мюллер хотим поговорить с твоими родителями.
— А можно мне подержать Лаки за поводок? Ну, пожалуйста, мистер Мюллер…
Лаки был тяжело сопящим бульдогом, розовым и почти безволосым. Миссис Мюллер подобрала пса на улице после того, как его сбила машина. Вылечила ему сломанную лапу, которая так и осталась кривой, из-за чего он прогибался спереди и косолапил сзади. Лаки пыхтел и плаксиво поскуливал, пока миссис Мюллер пристегивала цепочку к его ошейнику.
— Хорошо, Дэвид, — согласился мистер Мюллер, — только держи его покрепче. — И, обращаясь к жене: — Идем, дорогая, вот твое пальто. Он помог ей одеться, придержал ей раскрытую дверь и закрыл за собой.
Из-за решетки доносится голос Фэт Лави:
— Вот все и прошло, детка, ложимся в постельку.
Дэвид слышит, как скрипят пружины кровати в комнате для прислуги. И тут вдруг пронзительно звонит будильник.
Дэвид одевается, стоя у изножья кровати, и завязывает шнурки двойным узлом. Когда он выходит из комнаты, дверь выскальзывает у него из рук и тяжело хлопает. Дэвид медленно идет по коридору, застывая от каждого скрипа половиц: он уверен, что, если разбудит отца, тот его не отпустит. К тому же ему кажется, будто его что-то преследует, ухитрясь оставаться невидимым, когда он оборачивается, но что-то там все-таки есть.
Сквозняк захлопывает за ним входную дверь, он бежит во весь дух через лужайку и улицу к Ханнагенам. Дотягивается рукой до кнопки звонка. В глубине дома раздается перезвон.
Дверь открывает Мэтти, один из старших братьев Джонни. Он сначала смотрит поверх его головы на занимающийся день, потом опускает глаза к нему. Улыбаясь, спрашивает:
— Ты ведь Дэвид, верно? — И, не дожидаясь ответа, говорит: — Входи!
Потом осторожно закрывает дверь и зовет, обращаясь к верху лестницы:
— Джонни, Дэвид внизу!
Мэтти ведет его за плечо в гостиную, где собирается вся семья. Ханнагены похожи друг на друга как вылитые, различаясь только ростом и длиной волос в зависимости от возраста и пола. Дэвид направляется туда, где в огромном кресле восседает мистер Ханнаген.
— Джонни сказал, что мне можно пойти с вами в церковь.
Мистер Ханнаген подмигивает Мэтти и говорит:
— Очень хорошо, Дэвид. Для нас честь отвести тебя туда.
Вся семья здоровается с ним, подходит миссис Ханнаген и гладит его по голове, а тут и Джонни врывается в комнату с криком:
— Вот видите! Я же говорил, что он придет.
Миссис Ханнаген говорит: «Тсс», потом и его тоже гладит по голове. Из столовой приходит Билл в военной форме, и мистер Ханнаген пересчитывает личный состав.
— О’кей, идем, — говорит он.
Семейство — все, как один, — пускается в путь через кухню к задней двери.
Тереза, самая старшая из сестер, берет Дэвида за руку. Его свободная рука пассивно болтается, он засовывает ее в карман и чешется через ткань. Садик Ханнагенов разделен надвое живой изгородью, которая тянется от дома до приходской школы рядом с церковью. Едва проснувшаяся семья движется без единого слова — это слегка угнетенное молчание семи часов утра. Они заходят в церковь через боковой вход, между двумя чашами для святой воды из резного камня. Ханнагены обмакивают в них пальцы и, крестясь, увлажняют себе лоб и грудь. Дэвид останавливается в мрачноватой тишине трансепта, и Тереза, почувствовав, что он колеблется, шепчет ему: «Да, можно». Тогда, встав на цыпочки, чтобы дотянуться до края чаши, он окунает пальцы в теплую воду и неловко крестится. Миссис Ханнаген пришпиливает белую мантилью себе на голову, и они доходят до центрального нефа, преклоняют там по очереди колена — Дэвид, споткнувшись от смущения, но подражая остальным, — а потом идут к своим местам с молитвенными скамеечками, где в лакированное дерево врезаны маленькие медные таблички с фамилией «Ханнаген».
Церковь внутри очень длинная и высокая, гораздо внушительнее, чем это обещает унылый бетонный фасад. Из окна своей комнаты Дэвиду виден шпиль колокольни и перекладина трехметрового креста на крыше. Он заметил, что позолота на нем местами облупилась. Но это зажиточный католический квартал, и статуи святых в церкви великолепно вызолочены и украшены кружевами. Со сводов свисают три гигантских люстры, и Дэвид может проследить глазами электрические провода, которые змеятся до каменных стен и перечеркивают по диагонали витражи, — его это смущает.
Дэвид сидит, прижимаясь к спинке скамьи, истертой тремя поколениями Ханнагенов. Опасливо посматривает по сторонам, не осмеливаясь откровенно повернуться. Ханнагены сидят в ряд, опустив головы, отчасти из благочестия, отчасти из-за раннего часа. Дэвид шепчет: «Джонни…» Но Джонни смотрит на свои коленки, где лежит молитвенник, на переплете которого написано «Джон Майкл Ханнаген», и еле слышно шепчет: «Тсс». Такие же молитвенники в черных переплетах лежат на пюпитрах перед каждой скамьей. Дэвид открывает свой: на первой странице стоит красный штемпель: «Добавочный экземпляр».
В конце службы священник объявляет: «Ite missa est», закрывает большую изукрашенную священную книгу, целует ее и, держа спину прямо, преклоняет колена перед алтарем. Поднявшись, подхватывает полы ризы и уходит в ризницу.
Дэвид покидает церковь в облаке молчания. Вместе с Ханнагенами присоединяется к толпе, обступившей священника, который проводил богослужение и читал проповедь. Тот кладет руку на голову Дэвида и говорит:
— Это ведь малыш… Левин, не так ли?
Дэвид отвечает: «Да, святой отец», потому что слышал, как другие называли его святым отцом, и краснеет. Священник смеется и поворачивается, чтобы пожать руку мистеру Пелику, который тоже живет на этой улице. Мистер Пелик мажет свежим гудроном крышу своего гаража, чтобы на нее не залезали дети. Он поздравляет священника с отличной проповедью.
Спустившись вниз по ступеням, Дэвид спрашивает у Джонни — Увидимся после завтрака, у кучи песка? — Потом говорит: — До свидания, мистер Ханнаген, — и убегает, пересекая улицу по диагонали до своего дома.
К приходской школе пристраивают еще одно крыло. В воскресенье на стройке никого нет, и после полудня, когда прихожане расходятся, Дэвид идет играть на куче песка за бетономешалкой. Вначале Джонни опасался: ему казалось, что это место расположено в чересчур опасной близости к церкви, чтобы устраивать тут нечестивые игры по воскресеньям, но, с другой стороны, тут столько возможностей поразвлечься, что не стоит уж слишком беспокоиться о потенциальных грехах.
Дэвид сидит на самом верху кучи, а Джонни строит внизу замок из сырого песка.
— Так тебе понравилось в церкви? — спрашивает Джонни, укрепляя угловую башню, которая все время осыпается.
Дэвид был поначалу зачарован балетной слаженностью в движениях верующих: вставал, когда все вставали, кланялся, когда все кланялись, бормотал, когда все бормотали. Но уверенная повадка Ханнагенов в конце концов развеяла очарование. Вставать, садиться, преклонять колена стало пустой мимикой, а бархат молитвенной скамеечки был неудобен для коленей. Все два часа, что длилась служба, он чесался, шмыгал носом и пялился на электрические провода, чувствуя унижение, оттого что вынужден притворяться, в то время как Джонни явно знал все ритуалы наизусть. В конце мистер Ханнаген раздал детям монеты по десять центов для пожертвований. Дэвид свою уронил, и ему пришлось ползать под пюпитром, пока он ее не нашел, заставляя ждать нетерпеливого сборщика.
— Да, понравилось, — отвечает Дэвид.
Джонни щурится и спрашивает:
— А что понравилось?
— Иисус…
Оба мальчика крестятся: Дэвид — с гордостью, хвастаясь перед Джонни и целым светом, Джонни — просто рефлекторно.
— Его нельзя называть, — говорит Джонни.
— Ты мне уже говорил.
— Нельзя поминать имя Господа всуе.
— Иисус не Бог.
— Бог! — говорит Джонни и снова крестится.
Дэвид спохватывается, что забыл это сделать, и касается пальцами лба и живота.
— Ты весь мокрый, — говорит Дэвид.
Джонни ничего не отвечает. Дэвид выше ростом и принимает укоризненный вид.
— Ты раньше не крестился, — возражает Джонни.
— Да крестился я! Только ты не видел.
Дэвид достает из кармана подшипник и начинает катать его по песку, выдавливая маленькие отпечатки.
— Нет, не крестился, — говорит Джонни. — Это же я тебя научил.
— А я говорю, что ты просто не видел. Что я могу поделать, если ты не видел?
Дэвид находит в песке две пустые смятые пачки из-под сигарет. Распрямляет их, кладет перед собой, потом наполняет обе песком. Вскакивает на ноги и засовывает подшипник в карман.
— Эй! У меня идея.
— Какая?
Дэвид вытягивает руку с сигаретными пачками и показывает подбородком на церковь:
— Давай высыплем их в воду. Все лоб себе грязью вымажут.
— В какую воду? — спрашивает Джонни недоуменно.
— Сам знаешь. Там, где мы были сегодня утром.
— В святую воду? — Джонни ошеломлен.
— Да. Замутим ее. Все перемажут себе лица в темноте.
— Это же грех! — торжественно заявляет Джонни.
— Откуда ты знаешь?
— Да уж знаю, грех, и все тут.
— Подумаешь, никакой это не грех, просто ты трусишь.
Он презрительно смотрит на Джонни сверху вниз. С ним этот трюк всегда срабатывает.
— Я не трушу. Грех это.
— Откуда ты знаешь? Давай, Джонни, все вымажут себе лица грязью.
А поскольку Джонни все еще колеблется, Дэвид повторяет:
— Так ты все-таки трусишь?
— Нет, — говорит Джонни, немного поразмыслив.
— Ну так пошли! — говорит Дэвид и сбегает с кучи песка, растоптав замок Джонни. И протягивает ему одну из обернутых целлофаном пачек: — Давай!
— Ладно, — говорит Джонни, возбужденный и напуганный.
— Иисус, — говорит Дэвид, и оба крестятся.
Они досыпают в целлофан мокрого песка и бегут к боковому входу в церковь.
— Лица себе вымажут! — прыскает Джонни, и Дэвид тоже весело смеется.
Они осторожно проскальзывают в темный притвор.
— Никого, — шепчет Дэвид.
Через пять ходок обе чаши со святой водой полны грязи.
— Ну-ка, что это вы тут делаете?
Священник, выглянув из ведущей в неф двери, пронзает их взглядом.
— Стойте! — кричит он, устремляясь за ними к выходу. — Стойте! Но они уже исчезают за живой изгородью сада Ханнагенов.
Почти ночь. Дэвид плачет в своей постели, катая взад-вперед подшипник по подушке и прислушиваясь к шуму голосов, которые доносятся из гостиной.
Священники вышли из своего дома целой делегацией. Дэвид видел, как они поднимались по ступеням крыльца Ханнагенов, как позвонили и вошли. Когда они ушли, он услышал щелканье кожаного ремня и вопли Джонни в гараже. Мистер Ханнаген — сторонник телесных наказаний. Когда же Дэвид сделает какую-нибудь глупость, за ним иногда гоняется Фэт Лави, вооруженная сложенным вдвое ремешком, но ей никогда не удается его поймать.
Теперь священники внизу, говорят с его отцом. Фэт Лави поет в комнате для прислуги, и через решетку слышно:
Войдите в воду,
Войдите в воду, дети,
Войдите в воду…
А Малышка Бесс говорит:
— Мам, у Лиззи опять голова отвалилась.
Пение прерывается.
— Пришью после ужина, детка.
— Обожаю Лиззи, — говорит Малышка Бесс. Дэвид шмыгает носом. В окно можно видеть миссис Мюллер, выгуливающую Лаки. Пес останавливается у пожарного гидранта, а миссис Мюллер роется в своей сумочке.
Лаки обмотался поводоком вокруг уличного фонаря, и мистер Мюллер вернулся, чтобы помочь Дэвиду его распутать. Пока он склонялся над поводком, Малышка Бесс дернула за его рукав.
— Бум по голове, — сказала она с гордостью.
Мистер Мюллер проворчал:
— Дэвид, надо было держать его крепче.
К ним по лужайке подбежал Джонни.
— Ладно, пойду есть пирожные, но мне потом надо сразу домой.
Он улыбнулся мистеру и миссис Мюллер.
Дверь им открыл мистер Левин — в домашних тапочках и с синей книгой в руке. Он улыбался, галстук был распущен.
— А, миссис Мюллер, мистер Мюллер! Как дела? Да входите же.
Он широко распахнул дверь, проводил их в гостиную и усадил — высокую миссис Мюллер в кресло у раздвижной двери, а толстого мистера Мюллера на диван в глубине комнаты.
— Ну, Дэвид, как кино? Хорошо? — спросил он.
— Ага! — отозвался Дэвид из коридора.
Мистер Мюллер прошептал что-то слишком тихо, чтобы Дэвид разобрал, и мистер Левин сказал:
— Иди на кухню есть десерт. А, Джонни, здравствуй, я тебя не заметил.
— Здравствуйте, — сказал Джонни.
— Рут, — позвал мистер Левин, — спускайся, Мюллеры пришли. — Он обернулся к ним с улыбкой: — Рад вас видеть.
На кухне Фэт Лави мыла посуду в раковине, пеня воду мокрыми руками и тяжело переминаясь с ноги на ногу на плиточном полу. Она улыбнулась детям, сверкнув золотыми зубами, и стянула тряпку с крючка.
— Ну, садитесь, принесу вам молока и пирожных.
Она вытерла руки и переместилась к буфету. Малышка Бесс подбежала к матери и уцепилась за складки ее живота.
— На злого дядьку ком снега свалился, — защебетала она. — Бум, прямо по голове!
Фэт Лави, сияя, наклонилась к ней:
— Хорошо повеселилась, детка?
— Вот такущий ком снега! — сказала Малышка Бесс, надувая лоснящиеся щеки. — Вот такущий! — и она раскинула ручонки, насколько смогла.
— Да неужели? — откликнулась Фэт Лави, роясь в буфете.
— Ну да, — сказала Малышка Бесс.
— А теперь садись, родная.
Фэт Лави налила молока и раздала пирожные.
— Спасибо, — сказал Джонни.
— Благослови тебя Бог. Фэт Лави вернулась к посуде и снова затянула своим глубоким голосом проникновенную песнь:
Войдите в воду, дети,
Войдите в воду,
Бог возмутит эту воду…
Она прервалась, чтобы взять другую тряпку.
Из гостиной донесся голос мистера Мюллера — так же чисто и ясно, как вода, текущая из крана:
— Поймите, это не мы с женой. Но с тех пор, как она приходит, остальные родители начали жаловаться — и каждый раз все больше. Видит Бог, как нам не хотелось говорить вам об этом — мы думали, все утрясется. Но теперь они заявили, что больше не станут пускать к нам своих детей.
Дрожащий голос миссис Мюллер подхватил:
— Поймите, мы здесь ни при чем. Мы-то очень любим Малышку Бесс. Очень любим… Но вы же знаете, как дети рассчитывают на нас. А Салливаны сказали, что не допустят, чтобы они продолжали играть с черной девочкой…
Фэт Лави уронила тарелку. Осколки разлетелись по кухне.
— …Вообще-то, они сказали «С этой черномазой».
Голос мистера Мюллера принял сконфуженный, извиняющийся тон. И он добавил:
— Войдите в наше положение. Господи боже, только не думайте, будто я их поддерживаю, или будто мы с ними согласны, вовсе нет. Но вы же понимаете, как бы там ни было, мы не можем принимать ее у себя. Фэт Лави снова затянула свою песню:
Вода в Иордане холодна и чиста,
Бог возмутит эту воду…
Малышка Бесс очень осторожно положила свое недоеденное пирожное на тарелку, потом соскользнула со стула.
Фэт Лави пробормотала:
— Деточка моя…
Вытерла руки тряпкой, развязала лямки передника и сняла его через голову. Малышка Бесс смотрела на нее со слезами в глазах.
— Я больше не буду ходить в кино! — Она вытерла молочные «усы» с губ. — Почему я черная? — И заплакала. Потом показала язык Фэт Лави.
— Почему ты такая черная? — закричала она, рыдая. — Зачем ты сделала меня черной? — И, набросившись на мать, стала колотить кулачками и царапать ее тело.
— Черная! — кричала она. — Черная, черная… — Она пинала Толстуху Лави по ногам, щипала за грудь.
— Боже, — стонала Фэт Лави, — Благой Иисус… — Она прижала Малышку Бесс к себе, вдавливая ее в свою плоть.
— Черная!
Голос Малышки Бесс заглох, утонул в теле Толстухи Лави. Тогда она стала его кусать.
— Боже милосердный, — повторила Фэт Лави, еще крепче прижимая дочку к себе, чтобы избежать ее пинков. — Не делай больно своей маме, Бесс, малышка моя, не такая уж ты и черная. Господи Иисусе, не делай больно своей маме…
Дэвид сидел за столом, втянув голову в плечи и засовывая руки в карманы — все глубже и глубже.
— Черная!
В дверях стоял растерянный мистер Левин.
— Не беспокойтесь, мистер Левин, — вздохнула Фэт Лави, отпуская Малышку Бесс одной рукой, чтобы поправить прядь волос, — это должно было случиться.
— Черная! — все еще кричала Малышка Бесс.
— Тише, детка, — пробормотала Фэт Лави, — тише… Перестань делать больно своей маме… Видите, мистер Левин, уже проходит.
Рыдания Малышки Бесс превратились в череду непрерывных жалобных поскуливаний. Фэт Лави взвалила ее на плечо и стала похлопывать по попке:
— Вот и все, детка, вот и все…
Малышка Бесс продолжала тихонько плакать.
Мистер Левин положил Дэвиду руку на затылок и сказал:
— Поднимайтесь-ка в комнату, мальчики.
У подножия лестницы Дэвид остановился:
— Тебе лучше вернуться домой, Джонни. Завтра увидимся.
Из окна комнаты дом Ханнагенов кажется спокойным. Мистер Ханнаген стоит на крыльце в одной рубашке, глубоко засунув руки в задние карманы брюк.
Голоса священников внизу умолкли. Дэвид слышит, как отец говорит им:
— Могу вас заверить, больше это не повторится.
И священники с достоинством отвечают хором:
— Спасибо, мистер Левин.
Когда они уходят, Дэвид слышит, как родители говорят в гостиной вполголоса, а потом прыскают, не сумев удержаться от смеха.
— Да уж, история! — восклицает папа Левин. — Забавно… Песок!
В окно видно, как мистер Ханнаген поворачивается и исчезает в глубине своего дома.
Дэвид с яростью вжимается в подушку правым глазом. Кусает ее, бросает подшипник на пол, сильно пинает матрас.
— Иисус, Иисус, Иисус, — рыдает он и трижды крестится.
Снизу поднимается голос Фэт Лави:
— Перестань, детка. Я же сказала, что пришью после ужина. — Обожаю Лиззи, — говорит Малышка Бесс.
Утренняя Краса и банки из-под оливок
От Ленни Джона Стейнбека («О мышах и людях») до Брамбалоу Эрнста Павела («Жизнь в черные годы») образ непредсказуемого грубияна и силача — чаще всего в паре с мелким пронырой и бахвалом, патетичным козлом отпущения, как в фильмах Лоурела и Харди или Чарли Чаплина — настоящая классика художественной литературы и, без сомнения, американского общества.
«Я, конечно, читал Фолкнера, но в жизни никогда не встречал людей, подобных Брамбалоу, — пишет Павел. — Он был довольно мягким человеком, пока не напивался, что я, с моим запоздалым романтизмом в духе Толстого, принимал за исконную доброту человека земли. Вплоть до того вечера, когда он ввалился ко мне вдребезги пьяный и, грубо разбудив, объявил, что набьет мне морду. И наверняка исполнил бы угрозу, если бы сумел поймать меня, спотыкаясь в темноте. Тут-то я и понял, что, когда речь идет о фермерах Миссисипи, лучше доверять Фолкнеру, чем Толстому».
В этой новелле — второй из опубликованных журналом «Generation» — Джо Дассен как раз и выводит на сцену такую парочку, Вилли и Барни. Декорации: зимние снега городка Чикопи в Новой Англии. Но отчаянное паясничанье этих персонажей могло бы с тем же успехом иметь в качестве обрамления и Юг США: например, Миссисипи Уильяма Фолкнера или Мемфис и Теннесси молодого Элвиса Пресли.
Как только мы выходим из дома, Вилли вырывается вперед, размахивая руками, как тамбурмажор. Людей, которые с ним незнакомы, он всегда раздражает, потому что шагает слишком быстро, ровно настолько, чтобы вывести вас из себя. Я-то привык, меня этим уже не проймешь.
Возле дома туман искрится, но стоит отойти от фонаря над дверью, как погружаешься в потемки. Все становится серым, даже снег.
Вилли перелезает через живую изгородь из кустов бирючины и оказывается в поле — или, быть может, здесь, в Чикопи, это следует называть пустырем? Останавливается, поджидая меня.
— Давай, — говорит он, сотрясая изгородь, с которой сыплется корка обледенелого снега. — Вот тут лезь.
Когда я догоняю его, он кривится, будто у него изжога.
— Морозит, — говорит он. — Слушай, о чем мы только что говорили, там, в доме?
— О Барни.
— Ах да, — отзывается он, довольный, что я вспомнил. — Точно. А я тебе говорил, что мы служили вместе? В одной казарме и все такое?
— Ну да.
— Погоди, я тебе расскажу. Он был самый здоровенный во всей дивизии. Ну прям скала. Плечищи, как у быка. На нем даже бабкиделали.
Вилли обращается ко мне, но на самом деле говорит сам с собой. Он снова шагает впереди, стараясь вести меня по не слишком заснеженным местам, чтобы не пришлось возвращаться назад. Вдалеке уже виднеется железнодорожная насыпь.
— Что значит «делали бабки»?
— Да спорили на него. Когда новобранцев привозили. Он разрывал банки из-под оливок голыми руками.
— Банки из-под оливок?
— Он обожал оливки. Все время их покупал. Так вот, он засовывал руку внутрь… — Не оборачиваясь, Вилли показывает, как рука входит в банку. — А потом растопыривал пальцы. — Его кулак с трудом разжимается, словно преодолевая сопротивление. — И крак! Банка разрывалась. — Вилли останавливается, чтобы оценить произведенный эффект. Он любит производить впечатление. — И ни разу не порезался. Настоящий бычара, я же тебе говорю!
Он продолжает стоять, качая головой и воображая, как Барни разрывает банки из-под оливок.
— Эй! Давай-ка пойдем. Двигай, а то холодно.
— Ну да, ну да… И еще надо было видеть, как он ими обжирается. Ты бы только видел, как он запихивает их себе в глотку!
Воротник его куртки поднят. Вилли нарочно это делает, потягивая его за уголки. Говорит, так он мало-помалу принимает форму. Что ему так нравится.
— А один раз даже спрыгнул с крыши казармы. И ничего себе не сломал.
— Ты мне это уже рассказывал.
— Да ну? Как он с крыши прыгал?
Вообще-то, он мне уже почти все рассказывал. Он никогда не помнит, что говорит, впрочем, и того, что ему говорят тоже. Он любит поговорить и болтает, не закрывая рта. Всех потчует своими историями, и каждого так, будто оказывает ему особую милость. А потом замечаешь, что он рассказывает то же самое кому-то другому — точно с такими же интонациями. Кое-кому это не нравится, они чувствуют себя обманутыми его искренностью и простодушием. Я-то общаюсь с Вилли уже три года: мы с ним вместе работаем, садимся утром на одну электричку до Говенорс-Айленда — под его рассказы про Барни. Я никогда раньше не бывал в Чикопи, но уверен, что мог бы узнать всех его соседей, если встречу. Так что незачем вдаваться в подробности. Я отвечаю:
— Да, как он прыгал с крыши.
А он:
— Да ну? И что ты об этом думаешь?
Мы приближаемся к железнодорожным путям, впереди вразвалку движется силуэт Вилли. Как он сказал, и впрямь морозит.
— А как он жену привел, я рассказывал?
— Нет.
— Очень хорошенькая. Почти красивая. Понимаешь, что я хочу сказать?
Он оборачивается, чтобы посмотреть, понимаю ли я.
Я говорю «угу», потому что это все, что приходит мне в голову.
Он карабкается на откос, чтобы перебраться через рельсы, которые отделяют нас от дороги.
— Ну да, ну да, — в конце концов говорит Вилли.
Наверху, на балластном слое, полно грязного снега, а между шпалами, там, где он растаял, а потом снова замерз, — черные ледяные корки.
— Знаешь, — добавляет Вилли как бы между прочим, — раньше она была моей подружкой. До армии и всего остального.
— Жена Барни?
— Жена Барни! А ты как думал?
— Нет, кроме шуток?
Вилли уже стоит на краю откоса, но возвращается, чтобы подхватить меня за локоть:
— Видишь? Вон, в глубине и справа. Это там.
— Так это и есть «Космос»?
— Вроде того. Ага, «Космос».
Он сияет:
— Это наш дом. Мы туда с Барни все время ходили до армии. Я там у себя дома, хотя вроде и не дома.
Под нами между железнодорожной насыпью и обочиной дороги виднеется нагромождение обомшелых бетонных труб.
— Эй, видишь ту кучу? — Вилли принимает до крайности простодушный вид. — В детстве мы приходили сюда почти каждую неделю с моей младшей сестренкой. С Рути.
Он с вызовом глядит на трубы, словно те собираются броситься на него.
— Убегали сюда и прятались. Знаешь, они всегда делали такие штуки… в общем, не для нас. Мы же маленькие были. Короче, смывались сюда и прятались в трубах, пока мать не посылала кого-нибудь, чтобы отыскать нас и привести домой. И устраивала нам хорошую взбучку, потому что мы надевали ее туфли на высоких каблуках, из замши или чего там еще. А она потом мучилась, отчищая всю эту грязищу.
Вилли замолкает, ожидая, когда я что-нибудь скажу, так что я говорю:
— Смешно.
— Еще бы! — блаженно вспоминает он. — Мы с Рути сидели там внутри и рассказывали друг другу всякую всячину, пока не становилось совсем темно. Как станем королями, когда вырастем. Сначала королями, а потом солдатами, тогда же война была, сам знаешь. — Он качает головой, погрузившись в воспоминания. — Хотел бы я, чтобы ты поглядел на Рути, она классная девчонка. Вот, значит, захотела она стать солдатом, как я сказал, и стала думать, где найти ружье. Спрашивает маму: у всех ли солдат есть ружья? Мама говорит, что, в принципе, да. А откуда берутся все эти ружья? Мама ей отвечает, что правительство раздает. — Вилли восхищенно смеется. — И знаешь, что Рути надумала? Что станет правительством!
По дороге у подножия насыпи проезжает машина, попав лучами своих фар прямо ему в глаза. Вилли стоит ближе меня к проезжей части, так что машина ослепляет его. Он моргает. Его глаза слезятся от слепящего света и от холода.
— Она в самом деле была умницей, эта малышка.
— Что с ней стало?
— Да я не очень-то в курсе…
Вилли зевает и потягивается, сцепив руки кольцом и вытягивая их как можно дальше.
— Она где-то в Небраске. В лагере Пейпуорт. Вышла замуж за сержанта, так что живет на базе.
Он засовывает руку под куртку и осторожно щупает, будто нашел что-то, чего там быть не должно. Но, встрепенувшись, хлопает меня по плечу:
— Вот, погоди, увидишь эту девчонку. Поймешь тогда, на что этот город способен в хороший сезон.
— Ты это о ком?
— Да о жене Барни. О жене Барни, о ком же еще.
— О той, с которой ты был?
— Ну да. Мы с ней были, пока меня в армию не забрали. А потом Барни дембельнулся первым и заделал ей ребенка, пока я не вернулся.
— Отличный дружок!
— Знаешь, между ней и мной не было ничего официального. Нет, он в самом деле классный тип. Называл меня Утренней Красой [3]. «С добрым утром, Краса, глянь на небеса!» Вот зараза! Каждое утро: «С добрым утром, Краса»…
— Ты мне уже это рассказывал.
— Да ну?.. Эй, может, спустимся? А то холод собачий.
Я начинаю спускаться с откоса вслед за Вилли. Даже упираясь покрепче всей подошвой, стоит ступать осторожнее.
— Скользко.
— Ага, — соглашается Вилли. — Зимой всегда так. Иди за мной, я тут все знаю как свои пять пальцев.
Внизу под грудой бетонных труб что-то вроде канавы, заполненной снегом, — похоже на могилу, — а между канавой и дорогой сугроб больше двух метров ширины. И все это накрепко замерзшее.
— А, паскуда, чтоб тебя… вот дерьмо!
— Вилли, ты в порядке?
— Ну да… только иди осторожнее. Тут сам черт ногу сломит.
— Ты уверен, что цел?
— Ну да… Проклятье, я же тебе сказал, все путем. Слава богу, никакая железяка не попалась. Все нормально.
Он встает и пытается отряхнуть снег с рукавов. Но тот уже примерз, налип влажными корками. По дороге с каким-то мокрым свистом проносится машина. Лучи фар прыгают вдоль сугроба и снова бьют Вилли по глазам. Он отпускает ей вслед ругательство. А я ищу сигареты, но не нахожу. Стрельнуть у Вилли не стоит и пытаться, он, как всегда, окажется пустой.
Когда мы выбираемся на дорогу, он интересуется:
— А который час?
— Десять, — отвечаю я. — Время еще есть. Ты покурить не хочешь? А то я пачку в машине оставил, когда мы к тебе пошли. В любом случае Барни еще не пришел.
Вилли счищает мерзлый снег, налипший в канаве к его подошвам.
— Мы по эту сторону железной дороги. Так что на встречу вовремя пришли, врубаешься?
Не то что бы он беспокоился, но это его сторона железной дороги, и он хочет, чтобы я это понял. Поскольку я не отзываюсь, он принимает огорченный вид и щурится, глядя на часы. Это такая навороченная штуковина для тех, кто любит пускать пыль в глаза, показывающая дату и лунные фазы в маленьких хромированных окошечках. Только вот стрелки не светятся, так что ему не удается разглядеть в темноте, который час.
— Ладно, придется к тачке сходить, — говорит он. — Враз обернемся. К тому же Барни плевать.
Вдоль дорожного полотна тянется прерывистый сугроб, а обочина вся растрескалась, и в трещинах — лед, так что мы шагаем прямо по дороге. Машин немного. Туман однороден и непроницаем, для меня по крайней мере. Вилли-то привычен, он тут в родной стихии. Идет впереди на несколько шагов и будто парит над землей.
— Вилли?
— Что?
— А эту девушку, ну, жену Барни… ты ее любил?
— Да брось ты. Просто девчонка, и все.
Поскольку мы движемся теперь в обратную сторону, свет «Космоса» совершенно исчезает. Какое-то время мы идем молча, а потом вдруг из тумана внезапно выныривает машина, оставленная на перекрестке.
Я говорю:
— Давай внутри посидим, хоть согреемся.
— Угу, — отвечает Вилли. — Давай.
Мы протискиваемся в машину, один за другим. Вилли — первый. Усевшись внутри и захлопнув дверцу, он роется в бардачке, ища сигареты.
— Можешь свет зажечь? А то ни черта не видать.
Лампочка на потолке освещает салон, ветровое стекло становится матовым, изолируя нас от внешнего мира. Снаружи угадывается только туман и снег, наподобие детского рисунка. Вилли открывает пачку мизинцем.
— Аккумулятор посадим, — говорит он, так что я гашу свет.
Он прикуривает две сигареты в темноте и одну передает мне. Он все время так делает, и это заставляет меня держаться настороже.
— Да уж, — продолжает он. — Чертовски красивая девчонка.
Мне требуется какое-то время, чтобы уразуметь, о чем это он. Рассказывая, он всегда перескакивает с пятого на десятое, полагая, что за ходом его мыслей вполне можно уследить и без уточнений.
— Его жена?
— Ага.
— Ну вот, сам видишь — ты ее любил.
— Да брось! Она была что надо, вот и все.
Угол его воротника задирается, он пытается его распрямить, но без успеха, так что бросает эту затею. Но, чтобы выйти из ситуации с элегантностью, еще некоторое время пощелкивает по нему пальцем.
— Тело сказочное. Чертовски хорошо сложена.
— Да ну?
— Слушай, у меня с ней была интрижка, вот и все.
— Как ее звали?
— Зовут! Кэрол ее зовут. Кэрол Хенли. Вообще-то, сейчас Кэрол Уилки.
— Кэрол? Хочешь сказать, что ты все это время говорил о Кэрол?
— Ну да, — говорит он скромно.
— Нет, погоди-ка. Это ведь жена Барни? Тогда как вышло, что…
— …что я ее трахал? Ну, — говорит он, — это просто. У меня с ней была интрижка, как я тебе сказал. Трахал ее, вот и все. — Он ерзает на сиденье, чтобы сесть повыше, и нависает надо мной. — Это было три года назад, как раз перед тем, как я уехал в Нью-Йорк.
— А Барни? Как он к этому отнесся?
Я стараюсь не выглядеть смущенным.
— Ничего не сказал, — отвечает Вилли. — Может, он и не знал. Он тогда был в ночную смену, на мукомольне.
Вилли откидывается на спинку, снова поднимает воротник и смотрит на меня поверх воротника. Столбик пепла на его сигарете все удлиняется и, наконец, падает ему на бедро. Он пытается смахнуть пепел рукой, но только размазывает его по джинсам.
— Я уже рассказывал, как это случилось в первый раз?
— Нет.
Вилли оставляет пепельное пятно в покое.
— Надо сказать, вышло это довольно странно. Когда я вернулся, они были уже два месяца как женаты. И вот как-то вечером я ее поцеловал. Она и сомлела. Разозлилась на меня, правда, будто я ей по ногам прошелся, и оплеуху мне влепила. Но видно было, что ей это понравилось.
— Так у них что-то не ладилось с этим типом, с Барни?
— Да нет, не то чтобы… Но знаешь, он хоть и здоровенный, да неотесанный. Из тех, кто рассматривает платок, после того как туда высморкается. Такие штуки выводили ее из себя. Она ведь баба все-таки. Нет, ты ни в чем не можешь ее упрекнуть. И очень простодушная: мне ее долго пришлось уламывать.
Вилли ненадолго задумывается, потом оборачивается ко мне, глядя со смесью удивления и возмущения, будто я выскочил из переулка и пытаюсь всучить ему порнуху.
— Да к тому же, чтобы ей захотелось со мной переспать, ей незачем было ненавидетьсвоего парня. Я ведь горячий… — Он расцветает своей пухлой улыбкой и корчит кровожадную гримасу, адресованную к ветровому стеклу: Мужественный и привлекательный… — Изображая боксера, дает мне кулаком по ребрам. — Нас не победить! — восклицает он и снова хмурится шутки ради, не переставая наблюдать за собой в зеркальце заднего вида.
— Ладно, а дальше-то что? Продолжай.
— Может, он ей и вправду осточертел. Не знаю. Может, захотела чего-нибудь новенького, а тут и я подвернулся. К тому же она немного с приветом. — Вилли наклоняется вперед, чтобы постучать себя пальцем по лбу, и его сигарета выскальзывает. — Вот паскудство! Не хватает только тачку поджечь.
Он сгибается пополам в поисках сигареты, закатившейся под сиденье.
— Угу, — говорит он, сунув себе голову между ног, — ей всегда казалось, что у нее паутина на лице. — Найдя свою сигарету, он выпрямляется и ворчит: — Уж такая она была. Совсем без башки. Это ж надо — паутина!.. В общем, пришлось ее уламывать. — Он смотрит на меня с беспокойством. — Я ей говорил, что, если бы Барни узнал, это могло бы причинить ему боль. Ну, что мы влюблены, и все такое.
— Так она была в тебя влюблена?
— Ну да. Все время хотела, ты же понимаешь. И в конце концов уступила.
Он оставляет мне время задать вопрос, глядя на меня, словно я собираюсь снести яйцо.
— Хотя большой разницы не было бы, если бы он даже и узнал… Я тебе говорил, что до армии жил с родителями?
— Э… хм.
— Ну да, жил с родителями. Эй! Знаешь что? У меня же тут бутылка где-то сзади была! — Он поворачивается, перегибается через спинку и роется на полу за сиденьем. — Во, бутылка! — восклицает он, словно случайно на нее наткнулся. — Хлебнем по глоточку?
Когда мы оба выпиваем, он небрежно зажимает бутылку меж колен. Может, думает, что, если положить ее на пол, я угощусь, не предложив ему.
— В общем, раз я жил с предками, то не мог привести ее в свою комнату… Блинкера знаешь?
— Это тот тип, который вечно говорит, что…
— Точно, он самый. А ты знал, что он тоже из Чикопи? Жил на улице Паттерсон. Приехал в Нью-Йорк почти в то же время, что и я. Ладно, в общем, в те выходные он поехал в Мэдисон и дал мне ключи от своей комнатухи. Он так делал время от времени, когда жил здесь, — одалживал мне ключи… Что ты вообще знаешь о Кэрол?
— Э?..
— Ну, что я тебе уже рассказывал о Кэрол?
— Да не слишком много. Говорил, что она хорошенькая.
— Ну, у нее есть свой шарм. Обалденный. Правда, какой-то особенный, понимаешь? Чертовски сексуальная, но какая-то малость… перезрелая, что ли…
Вилли старается показать руками, что именно в ней малость перезрело, но выходит не слишком удачно. — Совсем чуть-чуть, — уточняет он.
— Ладно, так она была согласна? И как все произошло?
— А знаешь, что я для начала сделал? В самую первую очередь?
— Валяй.
— Напился. Честно.
Он запрокидывает бутылку и выдувает последний глоток, который там оставался. Прямо хоть фото делай. Вилли умеет позировать, сохраняя при этом совершенно естественный вид.
— Знаешь, я напился быстрее, чем любой, кого я знаю. Быстрее, чем вообще любой. Клянусь, у тебя бы голова закружилась.
— Верю, — говорю я.
Правда, это неважно, пьян ли он или кто-то считает, что он пьян.
— А ты знаешь, что, когда я выдул первую бутылку пива, мне было всего пять лет?
— Ладно!
— Что это значит «ладно»? Пять лет. Кроме шуток.
— Да нет, я тебе верю.
— Ага. И к тому же я тебе еще одну вещь скажу: я хорошо держусь, когда пьяный. Достойно, я имею в виду. С высоко поднятой головой.
Он размышляет еще какое-то время.
— Эй! — произносит он задумчиво.
— Что?
— Давай эту прикончим, идет? У меня еще одна есть в багажнике, сейчас вспомнил. Согласен?
— Погоди, чувак, эту ты только что уже прикончил, ты в курсе?
— А, ну да.
Он меланхоличен. — Точно. Пойду за другой.
Когда мы приканчиваем четверть второй бутылки, Вилли говорит: «Посвети-ка». Открывает окно и свешивается наружу. Ему нехорошо. Он не пьян, нет, просто его тошнит. Когда он всовывает голову обратно, ему гораздо лучше, и он гасит свет.
— Я тебе что-то рассказывал о Кэрол, — начинает он осторожно.
— Про ваш первый раз. Как ты напился.
— В дымину! Совершенно окосел. Кстати, у меня тут кофе есть, но не могу сказать, что мне это так уж помогает. Это никогда особенно не помогает. Держи.
— Спасибо, я чуток погожу. Так ты надрался?
— Ага. А когда я пьяный, я таким и остаюсь.
— И дальше что?
— Секунду. — Вилли снова открывает окно и показывает что-то за машиной: — Видишь? Вон там. Я тут шею себе свернул. Видишь?
— Нет.
— Да стену-то? Длинную стену, до самого конца, неужели не видишь? — Он все никак не может успокоиться. — Не видишь?
— Нет.
— Ты идешь по самому верху. И тебе надо пройти по всей длине. А в это время все эти сволочи кричат тебе вслед, чтобы ты упал. Если тебе повезет больше, чем мне, упадешь с хорошей стороны, в грязь. А не то грохнешься на эти чертовы камни и сломаешь себе шею. А те девчонки на другой стороне улицы… Они на самом-то деле и не смотрят. — Он возмущенно глядит на меня в упор. — Как же, не смотрят. Им охота поглядеть, как ты угробишься. Сучки! Настоящие ведьмы с косичками.
Вилли нервничает и дает себе шанс успокоиться, глядя наружу.
— У нее с рожденья было красивое тело. Понимаешь?
— Притормози-ка малость. Так что там у вас было в первый раз?
— Точно. Как было в первый раз. Я тебе расскажу.
— Ты напился.
— Ну да. Она прямо взбесилась. «Это так много значит для нас обоих, а все, на что тебя хватило, это нализаться…» — «Но, милая, я не пьян…» — «Нет, пьян. Пьян, пьян…» Наконец все-таки пошла со мной. Она и в самом деле была горячая.
— И тут вы отправились к Блинкеру?
— На машине. И знаешь что? Натыкаемся на закрытую дверь, и ключ изнутри торчит! — Вилли подчеркивает это, хлопая меня по коленке. — А внутри какие-то люди, слышно, как смеются, и это не Блинкер!
У Вилли негодующий вид.
— Там какой-то козел со своей подружкой. И даже Блинкера не предупредил, ни слова ему не сказал. Тогда я стучу в дверь, вежливо и все такое, и говорю ему, чтобы сваливал, дескать, мы застолбили комнату первыми, и Блинкер в курсе. Тип внутри говорит: «Секундочку», а Кэрол тянет меня за рукав: «Молчи. Уходим. В другой раз», а парень, мы слышим, говорит что-то вполголоса, и постель скрипит, и я уже не помню, что там еще, но ничего не происходит. Тогда, признаюсь, я здорово разозлился. Начал колотить в эту хренову дверь и орать: «Выходи сейчас же, мудила!» Он повторяет: «Секундочку», — и койка опять скрипит, а Кэрол меня умоляет: «Ну, пожалуйста». И все продолжается снова: я ору, парень время от времени говорит: «Секундочку». Тут этажом ниже какой-то другой мужик начинает вопить: «Да что там наверху творится, скоро это кончится?» — и Кэрол бросается вниз по лестнице. Она очень чувствительная, — заключает Вилли, только для того, чтобы я лучше уяснил себе ситуацию.
Он переводит дух, обмозговывая продолжение.
— Я сказал парню, который был в комнате, что прирежу его на днях, и побежал за Кэрол. Догнал ее на улице, она плакала, как ребенок.
Я не могу удержаться от разочарования:
— Выходит, ты ее так и не трахнул?..
Вилли испепеляет меня взглядом, будто я вонзил ему нож в спину.
— Как это «не трахнул»? Трахнул, конечно, а ты как думал? Мы устроились в… хм, посвети-ка, бутылка куда-то подевалась. — Он щурится от света. — Устроились в машине. Всю ночь там провели. Она хотела вернуться домой, но я разозлился. Может, даже стукнул ее разок или два.
Он произносит это с гордостью.
— А она даже кайф словила! Утверждала, что у меня сердца нет. — Эта мысль явно пришлась ему по душе. — Сердца нет! Представляешь? Я хожу из больницы в больницу, нагоняю ужас на интернов. Человек без сердца. Только пустота в груди. Ну-ка, послушай: совсем не бьется.
— Не дашь отхлебнуть глоточек?
— Конечно. Знаешь, что она мне сказала?
— Что?
— Что я гнусный пентюх. Вот что она сказала. Обзывает меня гнусным пентюхом, а после этого трахается со мной практически каждый вечер, и так целый месяц.
Тут он кривит губы. И чем больше размышляет, тем озабоченнее становится.
— Когда же она перестала обзывать меня гнусным пентюхом? И ведь кто бы говорил? Первая шлюха из всех местных сучек! Ее отец был врачом, представляешь, а она — первая шлюха в городе. С ней все хотя бы разок или два перепихнулись, только никто не признается. Клянусь!
Вилли искоса бросает на меня взгляд, чтобы посмотреть, хорошо ли я уловил несправедливость.
— Это правда, — добавляет он. — Ее даже в пансион отправили, в Нью-Йорк, когда ей лет пятнадцать было. Вернулась уже не такой, что прежде. Но в тринадцать-четырнадцать лет какой потаскушкой была! Настоящая чума ходячая!
Он обмозговывает все это какое-то время, потом добавляет, словно делая примечание в скобках:
— Надо еще сказать, что она малость с приветом. Например, ей казалось, что в тачке полно паутины. Ну откуда тут паутине взяться, я тебя спрашиваю? А она все твердила, что тут паутина. В углу. Я ей говорил, что она чокнутая.
— Паутина?
— Паутина.
Тут Вилли явно перегибает палку.
— А она опять за свое: тут паутина в углу. И знаешь, что делала? Совала голову в угол и начинала носом шмыгать, вынюхивать. Понимаешь, что я хочу сказать? Совершенно чокнутая!
— Вилли?
— Угу.
— Тебе не кажется, что нам пора?
— Угу.
Он бросает бутылку на заднее сиденье, потом кидается за ней вслед: «Вот зараза!» Оказывается, забыл ее закрыть. Пока он до нее дотянулся, изрядно пролилось, и теперь в машине воняет виски.
— Открой окошко ненадолго, пускай выветрится, — говорю я.
— С моим всегдашним везеньем надо бы сжечь тачку, как одежки, на которые хорек поссал.
— Может, пойдем уже?
— Ладно, давай.
Воздух ледяной, а снег, который изнутри казался искусственным, крашеным, вполне реален. Оказавшись снаружи, Вилли немного остывает.
Я спрашиваю:
— Как это закончилось?
Вместо ответа он поднимает воротник, и его профиль наполовину исчезает за ним.
— Ты что, просто порвал с ней?
— Нет-нет, я уехал в Нью-Йорк.
Когда мы доходим до груды бетонных труб, он снова оживляется.
— Давай туда, — говорит он.
Я не понимаю, что он имеет в виду, но он направляет меня локтем к огромной вентиляционной трубе, жерло которой разверзается над сугробом.
— Крикни туда что-нибудь, — говорит он.
Я кричу. Когда эхо стихает, он принимает довольный вид.
— Видал?
— Что?
— Да эхоже, черт!
Все это до меня как-то не доходит, и он, теряя терпение, толкает меня кулаком в щеку.
— Мы туда залезали с Рути, разве я тебе не рассказывал?
— Ну да, конечно.
— Когда сидишь внутри, у тебя голос десятиметровой высоты, грохочет как из рупора. Погоди-ка!
Оставив меня возле отверстия, он на четвереньках лезет внутрь, там тесновато, но ему все же удается заползти довольно далеко. Он садится в глубине, согнувшись в три погибели и пристроив подбородок между колен. Ему весело.
Он истошно вопит: «Я горный коро-о-о-ль!» Сверху сыплется цементная крошка, его окутывает облако пыли. Он разражается кашлем и проклятиями. Они вылетают из трубы, десятикратно умноженные резонансом.
— Эй, ты как?
Опять ругань, облако пыли. Вилли все еще в трубе.
— В чем дело?
— Застрял, — пыхтит Вилли.
Я вижу, как он извивается внутри.
Когда он наконец выдирается оттуда, посерев от пыли, у него на куртке, там, где она терлась о стенки трубы, виден зеленоватый след.
— Раньше вылезать легче было, — говорит он. И напоследок гавкает в трубу, но уже без энтузиазма.
Мы шагаем какое-то время, и после поворота появляются огни «Космоса», словно он поджидал нас за пеленой тумана.
— Как тебе, кстати, дом? — спрашивает Вилли. — Забыл спросить: тебе понравилось?
Ради этого я и приехал сюда: познакомиться с его семьей, посмотреть Чикопи. Мне не удается подыскать подходящие слова. Единственное, что мне отчетливо запомнилось, это собака: у нее воняло из пасти, и она преспокойно цапнула меня за ногу, словно прекрасно сознавая, что все считают ее слишком старой, а потому и не опасаются, что она укусит. Мне не удается вспомнить, как выглядят его родители, его братишка. После трех лет разлуки они встретили Вилли с невероятным равнодушием. Наверняка слишком хорошо его знали.
— Понравилось. У тебя симпатичные родители.
Слабовато, ну да ладно, не имеет значения. Похоже, Вилли это не очень-то и интересует.
— Да ну? — откликается он.
С другой стороны дороги дверь «Космоса» кажется дырой в тумане, окруженной неоновым свечением. Вокруг словно звуковой ров — музыка из музыкального автомата и барные разговоры, которые расплываются в тумане, как и свет.
Внутри полно народу. Какие-то захмелевшие типы толпятся у музыкального ящика и гнусят «Коктейль на двоих», но у них не очень-то получается, хотя никто, похоже, не обращает на это ни малейшего внимания.
Бармен оборачивается к нам.
— Вилли! — восклицает он на полном серьезе.
— Эй, Бири! Как дела?
— Эй, Вилли! — ревет, выныривая из темного угла, гигант в клетчатой куртке и в охотничьей кепке на затылке. Лупит Вилли по спине: — Чертов Вилли! Мерзавец этакий! — Он под два метра и плотнее Вилли, наверное, раза в два.
— Эй, Барни! Вот парень, о котором я тебе говорил по телефону. Это он. Знаешь, я ведь тебе позвонил, как только приехал.
— Здорово, приятель! — говорит Барни, расплющив мне руку в своей и даже не взглянув на меня. Другой ручищей он хватает Вилли за затылок.
— Черт побери меня совсем! — говорит он, радостно сияя. Потом вопит: — Эй, дорогая!
Из того же угла, что и Барни, приближается какая-то женщина, пробираясь между столами и барной стойкой мелкими шажками на высоких каблуках. Внимательно смотрит на Вилли, словно не зная, что еще сделать. Это красивая женщина, правда, немного пышноватая.
— Это Кэрол, — говорит мне Барни. Кэрол показывает на него большим пальцем.
— Он уже надрался.
— Ну, малость надрался, — восклицает Барни совершенно довольный. — Даже точно надрался. Вы что-то припозднились. Мы вас уже целый час ждем.
И снова лупит Вилли по спине.
— Давай, выпей чего-нибудь.
— Погоди, Барни, — говорит Вилли, — ты что-то напутал, мы же договорились на одиннадцать.
— На десять. Давайте, выпьем. Эй, заткнетесь вы там или нет?
Парни у музыкального ящика перестают голосить «Коктейль на двоих» ,кроме одного, который продолжает в одиночестве тянуть низкую ноту и все не может ее удержать. Один хочет его угомонить, но он протестует: «Нет, ты за кого себя принимаешь? За короля английского, что ли?»
Вилли заказывает бутылку и делает знак бармену — дескать, увидимся позже. Никто, похоже, не рвется завязать беседу. Никто не задает вопросов. Барни сидит как истукан, с широченной улыбкой и почти закрыв глаза. Вилли, похоже, тоже не интересуется происходящим. Кэрол обеспокоенно одергивает юбку и в конце концов спрашивает: «Ну как там в Нью-Йорке?» — но ее голос тонет в гвалте бара, и ей приходится повторить вопрос.
— Супер, — отвечает Вилли.
Бутылка пустеет, словно дырявая, Барни берет ее и стучит по стойке.
— Еще одну! — кричит он, и Бири идет за другой.
Тут Барни поворачивается ко мне, нежно сграбастав Вилли за плечи.
— Этот парень, — говорит Барни, — в детстве был самым дрянным пакостником во всем Чикопи. Кроме шуток. У малышки Мэри-Элен косы были до попы. Так знаете, что он делал? Дергал за них! А она теперь умерла.
Барни вытирает одновременно нос и глаза своей громадной пятерней. Смотрит на Вилли сурово.
— Дергал ее за косички.
Он хватает свой стакан и отхлебывает глоток.
— Но теперь это для него шуточки. Правда ведь? А у тебя другой шутки в запасе не найдется?
Вилли ничего не отвечает, но Барни продолжает настаивать:
— Уверен, что найдется. — Он отхлебывает другой глоток и говорит: — Ладно, пошли подышим воздухом.
— Да мы только пришли, — протестует Вилли.
— А я говорю: подышим воздухом!
Барни пихает нас всех троих к выходу и, когда мы оказываемся снаружи, заталкивает в туман.
— Проклятье, Барни, мы же только что пришли.
Барни говорит мне:
— Знаешь, какой он смешной? Просто умора. Моет себе лицо в снегу. Правда! Когда у него морда грязная, моется в снегу. Разве не так, Вилли? — Улыбка Барни полна нежности и кажется еще шире, чем в баре. — Ну-ка, покажи мистеру, как ты моешь лицо в снегу.
Кэрол пытается вмешаться:
— Барни…
— А ты, дорогая, — улыбается Барни, — заткнись. Ну, давай, Вилли, покажи ему.
Вилли поднимает воротник и застегивает доверху молнию куртки.
— Покажи ему.
— Проклятье, Барни…
Барни багровеет. Орет:
— Ты сунешь башку в снег или я сам тебя туда суну?
Вилли стоит, не шелохнувшись. Но когда Барни делает шаг к нему, ныряет головой в сугроб. Барни мычит от смеха и хлопает его по ягодицам, загоняя в снег еще глубже.
— Ну разве этот малый не умора?
Он хватает Кэрол за руку и возвращается в бар, все еще фыркая от смеха. Она тащится за ним с испуганным видом.
Вилли встает на ноги и отряхивает голову, всю в снегу. Трет руки о джинсы, чтобы согреть. Свет от лампы над дверью на него не попадает, так что я не могу рассмотреть, то ли это слезы на его щеках, то ли течет растаявший снег.
— Шлюха она, эта Кэрол, — говорит он. А счистив весь снег, предлагает: — Ну что, пойдем внутрь?
И идет впереди меня к двери.
Барни у стойки, держит Кэрол за руку и беседует с Бири:
— …дергал за косички, — говорит он печально, — вечно дергал ее за косички.
Вилли обращает ко мне бледную улыбку. Его глаза мокры, он красен как рак.
— Что я тебе говорил? Когда напьется…
Кит на закуску
Эта новелла навеяна воспоминанием о съемках фильма «Тот, кто должен умереть», который Жюль Дассен снимал на Крите летом 1957 года. Джо в то время был на каникулах и помогал отцу как ассистент режиссера, а также сыграл в свои восемнадцать лет маленькую роль.
Во время съемок Джо влюбился в Николь Берже, исполнявшую в фильме роль Мариори. Чуть раньше эта молодая французская актриса сыграла Винку в фильме «Хлеб в траве» по роману Сидони-Габриэль Колетт с Жераром Филиппом, а потом ее снимет Франсуа Трюффо в «Стреляйте в пианиста» с Шарлем Азнавуром. Жиль Гранжье, режиссер одного из первых фильмов, где она обратила на себя внимание, описывал ее так: «Это был сущий ребенок, маленькое прелестное и милое существо. Чувствовалось, что она немного беззащитна перед жизнью. Она всегда была одинока».
В этой новелле Джо рисует с Ники, ставшей его подружкой в то лето, тонкий и нежный, почти трогающий за душу портрет. Тем более что Николь Берже не суждено было постареть — всего через несколько лет она погибла в автокатастрофе, когда путешествовала со своей подругой, певицей Дани Доберсон.
Поразителен контраст между хрупкими и целомудренными чувствами, которые питают друг к другу Джо и Ники, и грубыми желаниями их товарищей по съемкам, возбужденных любовным конвейером, который предоставляет им Лола, шлюха из критской деревни. Но «простое и быстрое удовлетворение с Венерой перекрестка», поборницей которого выступает эта Лукреция, приносит паре чувствительных подростков немало переживаний.
Ники спит нагишом. Очень жарко. Скомканная простыня отброшена и валяется грудой возле кровати. Лунный свет, проникая в комнату сквозь квадратики стекол, расчерчивает ее косыми прямоугольниками, их рисунок лежит на шее, скользит по изгибам тела. Ники очень красивая. У нее маленькие круглые, беззащитные груди. Лицо притушевано легкой дымкой волос.
Комната тонет в совершенной неподвижности серебристо-серого оттенка, чистой и спокойной, которую едва смущает дыхание гладкого тела среди застывших световых поверхностей.
Слишком жарко, чтобы я снова мог заснуть, но не хочу ее разбудить. Я встаю и набрасываю на нее простыню, перекроив заново пятна лунного света, которые окутывают ее. Как можно тише надеваю брюки и рубашку, обследую темную впадину шкафа в поисках своих сандалий. Собираюсь спуститься в порт, послушать, как поет Янис. Дорога расплющена зноем — незапятнанная полоса, искрящаяся антрацитовыми блестками. Должно быть, сейчас полчетвертого, а может, и четыре утра.
Янис — бывший рыбак с лампаро. Этот тип неплохо нажился на черном рынке во время войны, во всяком случае, достаточно, чтобы купить себе маленькое кафе в порту рядом с пакгаузами. Докеры, которые грузят на суда стручки цератонии — рожкового дерева, и деревенские жители заглядывают к нему после работы выпить пива, перекинуться в картишки, но главные клиенты его заведения — лампадерос, те, что рыбачат ночью. Они даже поставили тут гипсовую статуэтку своего небесного покровителя, святого Николая, которую украшают оливковыми веточками и цветами рожкового дерева. Ведь это святой Николай открывает пучины Эгейского моря их прожекторам, это он совершает порой маленькие чудеса, спасая запутавшиеся сети или даже младенцев, заболевших крупом. Янис поет по ночам для рыбаков с лампаро, поддерживая тонкую струйку своего тенорка ограниченным набором аккордов на старенькой покоробившейся гитаре. Поет, потому что чувствует вину за свои подвиги на черном рынке, но эта история сороковых годов уже давно забыта, так что его старания не вызывают ответной признательности. Разве что он сам получает некоторое удовлетворение от своей епитимьи. Когда настроение хорошее, все подтягивают припев хором.
За первым поворотом дороги появляется маяк, вырисовываясь на горизонте. Его луч, светящий с мыса над портом, — неизменная ночная примета. С размеренностью метронома он обегает всю деревню, через каждые двенадцать секунд слепя глаза вспышкой: десять, одиннадцать, двенадцать — ПЫХ!.. Десять, одиннадцать, двенадцать — ПЫХ!
Лапланш сказал:
— Тот тип, бывший рыбак, который держит бар в порту, рядом со складами… — Он не обращался ни к кому в особенности. Просто повернулся ко мне и почесал свою двухнедельную щетину карандашом. — Ты ведь знаешь его, малыш…
Это было утверждением. Мы торчали на Крите уже две недели, и Янис помог мне найти жилье для целой сотни французских захватчиков — членов съемочных групп.
— Слушай, сходи к нему вечером и поговори насчет людей для массовки, они нам понадобятся в начале месяца.
— Есть, командир!
Лапланш объяснил мне, сколько нужно статистов и на какой срок. Я предупредил Ники, что не смогу с ней поужинать, и она ответила:
— Ничего страшного. Мне сегодня в любом случае придется поработать с Лапланшем над составлением программы.
Когда я пришел в кафе, лампадерс уже начали расходиться. Я заказал стаканчик, и Янис принес два — второй для себя. Развернул стул напротив моего и сел на него верхом. Взял стаканчик за донышко двумя пальцами.
— Яссу! — сказал он, поднимая стакан. Я поднял свой. Мы отпили по глотку, и он устроился основательно, скрестив руки на спинке стула и уперевшись в нее пузом. Мы какое-то время поговорили о статистах, как их доставлять на место съемки, об оплате и всяком таком. А потом, когда он счел, что дело весьма продвинулось, наклонился ко мне через стол и взял меня за плечо:
— Слушай, кто эта малышка, а, Джо? Фигуристая блондиночка? Я видел тебя с ней уже раза три-четыре…
Он ущипнул меня на слове «блондиночка» и напоследок, прежде чем убрать руку, толкнул в плечо.
— Ники? Николь Белле. Одна из ассистенток режиссера.
— Красивая, а? Ты знаешь, что она красивая?
— Да, правда.
— А! — сказал он. — Тебе повезло, ты знаешь?
— Это ты мне об этом говоришь?
— Вы ведь ходили купаться? Понимаешь, что я хочу сказать… вдвоем, совсем одни?
— Ну да.
Янис вдруг разволновался.
— Позволь тебе кое-что сказать… — Он покачал головой, перекатывая стакан в своих ручищах. — Ты не знаешь, — покачивания усилились, — как тебе повезло!
Он склонил ко мне лицо и пошевелил пальцем, который стал чем-то вроде продолжения его носа.
— Понимаешь, а? Ты здесь уже довольно давно, две недели, так ведь? Господи! Тут, на Крите, если поговоришь с девушкой наедине, уже обязан на ней жениться! А если не женишься? Господи! Тогда придется уносить ноги. Честь, видишь ли, семья — отец, братья… А ты… Ой-ой-ой… Как же тебе повезло!
Вскоре он вернулся к вопросу о массовке: дескать, непросто сейчас найти людей… Все уже заняты на съемках. И он клялся половиной всех святых, перебирая их одного за другим, что жизнь — паскудное недоразумение, просто смех, и сопровождал все это вздохами с запахом аниса и беспрестанно вытирался полотенцем под рубахой.
— Твоим друзьям ведь нравится Лола? Видел, какая к ней очередь?
— Она же тут одна.
— Ну да, — согласился Янис.
На втором повороте дорога разветвляется, один ее конец внезапно ныряет к полукругу гавани, а другой поднимается к почте и клубу. Камни мостовых теряются в темноте, и я иду по наитию. Жара течет под мышками и щекочет грудную кость словно мухи, но с приближением моря уже чувствуется движение воздуха.
Еще до ответвления я замечаю вдалеке Маму Тавлос, которая убирает в дом свой табурет. Луч маяка с мыса обрисовывает и силуэт Лолы, которая придерживает ей дверь. Усталость подчеркивает мужской разворот ее плеч, жесткость шевелюры, чрезмерно выпирающую грудь.
Она машет мне рукой и толкает Маму локтем, чтобы она сделала то же самое. Я слышу их смех — фальцет Мамы, насмешливое контральто Лолы.
Запах сваленных в груды стручков рожкового дерева чувствуется все сильнее — липкий, сладковато-приторный, какой-то аптечный. Запах тошнотворного сиропа.
Лапланш взял листки программы из рук Николь и потрепал ее по волосам в знак благодарности.
— Слушай, — сказал он мне, — скоро уже шесть недель, как мы здесь торчим. Репетиции закончены, все на своем месте. Теперь нам непременно нужны статисты для массовки. Завтра! Так что спустишься сегодня в порт и не отстанешь от него, пока он не даст тебе списки. Договорились?
Я уверил его, что сделаю все возможное. Лапланш стоял на операторской тележке, прямой, как столб, возвышаясь на фоне подернутого дымкой неба. Его жесткая полуторамесячная борода нависала над стоявшим рядом оператором, который был выше его ростом сантиметров на пять.
Поужинав с Ники, я проводил ее домой, потом пошел к Янису и стал ждать перед бутылкой узо, чтобы лампадерос разошлись по своим посудинам. Наконец, Янис решил проведать меня в моем углу и принес с собой две стопки и запотевший графин с водой.
— Яссу!
— Янис, нам срочно нужен список статистов.
— А, — сказал он, — ну да.
— Я же тебе говорил вчера, помнишь? И на прошлой неделе тоже.
— Да, у меня все это есть.
— Но у тебя все это было и на прошлой неделе.
Он ответил:
— А, ну да.
Я заставил его пообещать, что он даст мне список завтра утром, без обмана. Он сказал, что, если бы я пришел вместе с Николь, он бы угостил нас бесплатным завтраком.
— Ты все еще ходишь купаться? Вместе с ней, я хочу сказать.
— Да, при случае.
Он сказал:
— А! — Потом добавил: — Шикарная девушка. Ты спишь с ней? Может, вы и пожениться собираетесь?
Это застигло меня врасплох, но раньше, чем я смог ему ответить, что это касается только нас с Ники, и никого другого, вдруг услышал свой вопрос:
— И что тебя навело на эту мысль?
— Ну, потому что вы вместе ходите купаться… Понимаешь?
— Но, господи, это же тебя не касается! Я с ней не сплю и не собираюсь на ней жениться. О’кей?
— Ха-ха!
Я отпил глоток узо.
— Мне надо идти. Спокойной ночи.
Когда я был уже на пороге, он окликнул меня:
— Эй! Погоди-ка. — Выпроставшись из-за стола, он подошел ко мне, потирая себе шею запястьем. — Знаешь, могут быть неприятности.
— Неприятности?
Он нарочно невнятно пробормотал себе под нос:
— Хм… неприятности. Я хочу сказать, может, это и не совсем верное слово. Но люди здорово набивают цену…
— Еще?
— Ну да, еще! Мой сынишка рассказал, что старик заходил сегодня днем. И даже, что люди ему говорили. Думаю, они обратились бы в муниципальный совет, если бы не смущались из-за священника, отца Вагиелиса.
Прислонившись к двери, Янис вытер подбородок фартуком.
— Знаешь, это гордые люди, но со всеми вашими деньгами, э! Что они могут поделать? Обратиться в совет? Не могут они обратиться в совет… В любом случае это неприятности. Вам смешно. А им, знаешь, совсем не до смеха. Дело серьезное.
Он уселся на стол.
— Лола здесь единственная, я же тебе говорил.
Я спросил его, что, собственно, сынишка в точности ему рассказал.
— О, всего лишь слухи. Ты же знаешь — дескать, французы понаехали… А Лола, сам знаешь…
Я встал, чтобы уйти.
— Незачем беспокоиться. Все это яйца выеденного не стоит.
— А! Ну да. Незачем… раз ты говоришь.
Янис помедлил на пороге, скрестив руки на животе.
— Мальчонка еще сказал, что поговаривали даже о петиции или о чем-то в этом роде.
— Думаю, все-таки стоит сказать об этом Лапланшу.
— О! Да!
Он вернулся в помещение, потом обернулся:
— Так жду тебя завтра утром пораньше. Как насчет завтрака, а? С девушкой?
— Не уверен, что Ники сможет.
Дойдя до перекрестка, я решаю не идти дорогой к молу. И выбираю ответвление, которое поднимается в гору. Путь мимо почты и клуба займет у меня лишнюю четверть часа, но я все же сворачиваю туда.
За почтой после череды жалких домишек появляется клуб «Скатола». Когда мы приехали в Критсу, киностудия выкупила это кафе — благо такого добра тут хватает, и хозяин был даже рад от него избавиться. Главный декоратор сварганил для него барную стойку с двумя изгибами и встроенное в стену разноцветное освещение с помощью целлулоидных фильтров для прожекторов. Окрестили его клубом «Скатола», употребив для названия непристойное греческое словечко. Я попытался было предложить заведование Янису, но его это не слишком заинтересовало, и тогда из Афин выписали кулинара-гомосексуалиста, сохранившего неплохие остатки французского. Он умеет варить кофе, как во Франции, и не заливает всю свою стряпню оливковым маслом. Все зовут этого малого Обероном и утешают вечерами, когда Мама Тавлос, вечно сидящая на своем табурете, обижает его.
Когда я прохожу мимо ее дома, она все еще там, говорит с клиентом. Очень поздно: очереди нет, и Мама расслабилась, сбросив свою коммерческую маску. Лола сидит на бочонке позади старухи, вид у нее усталый.
Едва завидев меня, она расплывается в приторной улыбке, а потом спрашивает своим контральто на смеси французского и греческого, почему я никогда не захожу ее проведать. Строит опечаленную мину. Я отвечаю, что она сама знает почему, но, поперхнувшись, вынужден прочистить горло и повторить. Это ее смешит, и она пытается дать мне дружеского тумака. Я уворачиваюсь. Мама и клиент смеются, а Лола вытягивает губы, словно для поцелуя. Глядя на меня в упор сквозь тяжелые кудри, она приподнимает свои груди обеими руками: «Нервничаешь из-за меня, да? Ну, извини».
Потом, повернувшись к Маме, заявляет, что эта французская девчонка слишком тощая, чтобы годиться на что-нибудь в постели. Нет, кроме шуток, это же каждому видать. Мама и клиент слушают, сально посмеиваясь, а Лола проводит рукой по лицу. Я посылаю ее к черту, и они снова разражаются смешками. Мне хочется добавить, что с ней-то самой в постели наверняка заплутаешь в складках жира, но знаю, что не умею острить, да вдобавок не могу даже выговорить такое — мой греческий здорово хромает. И, запинаясь, мямлю что-то невразумительное.
Степенно встав со своего бочонка, Лола приближается ко мне с выражением глубокого сострадания на лице. Уперевшись руками в широкие бедра, она чмокает меня в нос, потом поворачивается, наклоняется и задирает юбку, выставив на мое обозрение свои голые ягодицы. Сунув голову между ног, она спрашивает:
— Ну что, заплутал?
— Очень уж он нервный… — скрипит старуха.
— Хо-хо-хо! — гогочет клиент.
Я поворачиваюсь и ухожу, а меня провожают их глупый смех и шуточки. Я тоже смеюсь — натужно, превратившись в водоворот, пруд, калейдоскоп нервозности.
Это напоминает мне аптеку. Перед тем как стать мужчиной, я решил предохраниться, так что пошел в ту аптеку. Тип меня спросил, чем может мне помочь, но я так и не сумел сказать ему, что мне надо. И в конце концов купил зубную пасту…
Или экзамен в школе со шпаргалками. Я никогда раньше не жульничал…
Или моя маленькая соседка. Мы договорились, что посмотрим друг на друга голышом. А когда я заколебался выполнять ли договор, она расплакалась…
А Ники в море, в первый раз, когда мы пошли купаться. Мне никак не удавалось различить, где кончается вода и где начинается она, ни признаться ей, что я в нее влюблен…
Обычно Ники ждала меня на развилке, откуда начинается проезжая дорога к пляжу, между ветряными мельницами. Это спокойное место, там только ветер свистит над зарослями юкки, но они смягчают его силу, оставляя нам тишину, нарушаемую лишь скрипом некрупного гравия. Иногда мы оставляли джип и шли купаться. Или возвращались в деревню перекусить. Вдоль дороги, ведущей в порт, навалены груды стручков рожкового дерева. Их сладковатый приторный запах пристает к одежде и проникает в волосы, словно сигаретный дым, ползет по дороге, привлекая множество древесных жаб, которые слезают ночью с деревьев и устилают въезд в Критсу плотным узорчатым ковром.
Поначалу Ники боялась этих жаб. Как-то раз я подобрал одну, чтобы ей показать. Она была размером с мой большой палец и чем-то напоминала рыбку, серый цвет ее брюшка плавно перетекал в грязно-кремовый на спинке. Пока я держал рептилию, ее задние лапки бешено вращались, будто она изо всех сил жала на педали. Ники улыбалась, глядя на жабу, и та наконец успокоилась в моей руке. Потом надула перепонку своего горлышка и квакнула, ее выпученные глаза словно заснули. Ники опять улыбнулась, ее страх исчез.
«Забавная зверушка», — сказала она и опасливо погладила жабу по спинке. Потом поспешно отдернула руку, вытерла о шорты и рассмеялась.
Мы зашли ко мне, но в холодильнике ничего не оказалось, только два яйца и немного фасоли на тарелке, так что мы пошли в «Скатолу» поужинать. На подъеме дороги возле дома Тавлосов толпились мужчины, образовав что-то вроде очереди. Мама щеголяла своей самой коммерческой улыбкой, получая плату у двери. Вид у нее был совершенно довольный. Французы к ней валом валили, тарифы росли, ее маленький бизнес процветал. Эти французы совершенно не знают цену деньгам. Двадцать драхм! Местная клиентура была выброшена с рынка…
«Следующий!» — крикнула Мама, прежде чем попрощаться с обслуженным клиентом, в то время как из приоткрытой двери доносилось «Привет, милый» хриплым голосом Лолы, обращенным к мужчине, переступавшему порог. Очередь сзади немного продвинулась, как раз на одного человека. Мама помахала нам рукой, мы махнули в ответ. Появление Ники слегка поколебало очередь: кто-то отскочил в сторонку, кто-то сделал вид, будто ждет у входа в музей, кто-то прикинулся, будто направляется в клуб. Когда Ники прошла, все вернулись на место. Ей досталось также несколько приветствий с идиотскими улыбками.
В баре «Скатола» Оберон спросил, чем нас порадовать, и мы ответили: «Рыбой». Он вытер нос голубым льняным платком и сказал, что советует лучше взять утку, которая сегодня превосходна, впрочем, он никогда-никогда в жизни не порекомендует нам ничего, что не будет совершенно восхитительным. Мы сказали, что согласны, пусть будет утка, и сели за столик у двери, чтобы нас хоть немного обдувало сквозняком.
Очередь снаружи продвинулась еще на одного человека. Маяк на мысу ритмично вращал своим лучом. Поднимаясь по склону, луч мимоходом освещал витражную икону Пресвятой Девы, установленную на перекрестке, и, отразившись в ее жертвенном сердце, всякий раз ярко вспыхивал красным, словно бакен при входе в порт.
Ники сидела, опершись локтями о стол и уткнувшись носом в переплетенные пальцы. Снаружи доносился разговор четверых электриков из съемочной группы, явно подвыпивших:
— Эта мелкая пакость повсюду, приходится давить их колесами. Ну, понимаешь, что я хочу сказать. Настоящая каша! И гудеть бесполезно. Вот гадость! На дороге просто полным-полно. Слезают с деревьев.
— Они что, гудков не слышат? Лягушки вообще слышат?
— Ну да, слышат. У них уши есть. Такие круглые штуки за глазами.
— Это барабанные перепонки.
— Круглые такие штуки. Еще как слышат гудки! Только им плевать.
— Может, частоту не различают…
— Да им на какой хочешь частоте гуди.
Из глубины зала донеслось шипение масла. Оберон за барной стойкой подстригал себе ногти. Было еще рано, кроме нас в клубе никого.
Ники чихнула.
— Это из-за стручков, — сказала она. — Ты к их запаху не чувствителен. А я из-за них чихать начинаю.
После первого чиха ее глаза увлажнились, она улыбкой сдерживала следующий.
— Аллергия?
Она хмыкнула, отрицательно мотнув головой:
— Нет, просто стручки.
— …а еще куры, эти еще хуже. Прячутся за деревьями. Ждут. А потом бросаются под колеса.
— Нет, куры ерунда. А вот лягушки… Ну какого черта они лезут? Ведь сами же лезут, клянусь!
— Я однажды на корову наехал. Радиатор мне покорежила. Видел бы ты, как ее подбросило!
— Это все стручки, — сказала Ники. — Я их не выношу, совсем.
Она была такая округлая и нежная. А глаза влажные.
Я сказал:
— В этих рожках внутри бобы, во время войны из них делали эрзац шоколада. Вроде бы они полезны для желудка. Помогают при морской болезни.
— Неужели правда?
Мы засмеялись, и она тихонько положила голову на край стола. А когда выпрямилась, ее легкие пряди мягко упали вокруг шеи.
— У тебя волосы как ленты. Белокурые ленты.
— Надо бы их помыть.
— А по мне, так очень красиво.
Ники поблагодарила меня такой же улыбкой, которой улыбнулась, чтобы сдержать чихание.
— Нет, правда, Ники. Честно. Клянусь.
Ее брови вернулись на место, и, скользнув рукой по столу, она коснулась моей. Мизинцем.
— Спасибо.
Она повела им дальше по моей руке.
— …а чайки? Тебе когда-нибудь чайка врезалась в ветровое стекло?
— Как-то утром их было видимо-невидимо. Из этих тварей даже кровь не течет. Просто становятся совсем плоскими, как лепешки.
— Угу. Зато от кур грязищи… Куры — мерзость.
— Следующий!
Как колокольчик.
— Привет, милый!
Очередь сдвинулась. Электрики вышли из моего поля зрения, исчезли за дверным косяком. Звук их беседы стал глуше.
— Эта дура-корова вернулась и ну лягать решетку радиатора. Весь радиатор мне покорежила.
— Одну лягушку расплющило… как бы это сказать… рот на спине, будто пополам сложилась. А видел бы ты лягушачий язык… У них даже язык не красный.
— Угу, серый вроде. А тебе когда-нибудь чайка влетала в ветровое стекло?
— А мне плевать, если раздавлю хоть курицу, хоть что-то другое. Плевать, если что-то раздавлю. Нечего лягушкам на дороге делать.
Я беру руку Ники, лежащую на столе. В глубине зала Оберон принимается орать на повара.
— У тебя руки холодные. Как получается, что они у тебя холодные в такую жару? Это же с ума сойти.
— У меня всегда руки холодные.
— Погоди, дай попробую согреть.
Я стал массировать ей руки от кончиков пальцев до подушечек на ладонях. Старался делать это ритмично, не нажимая слишком сильно. Через какое-то время остановился, продолжая держать ее за руку.
— Так лучше? — Я старался говорить как можно тише.
— Да.
Ее нежность возбуждала. Нимфа в становлении. Волосы Ники свешивались вперед, закрывая лицо. Я заметил типа, которому было нипочем давить кур. Он, пошатываясь, отделился от остальных и уселся на краю канавы.
— …У меня сестра в Марселе жила. Там полно всяких змей. Так недодавленные куски продолжают дрыгаться. Понимаешь, что я хочу сказать? Та часть, которую машина переехала, остается размазанной по асфальту, а остальное дрыгается.
— Чайка ветровое стекло может разбить. Знаешь, вдребезги…
— Теперь другую руку. Она у меня тоже холодная.
Ники сказала это, не глядя на меня. Я взял обе ее ладони в свои.
— Следующий!
— Привет, милый!
Вошли Лапланш со старшим костюмером. Они сели у стойки и посоветовали Оберону пошевеливаться.
— Черт знает что! Настоящая ломовая лошадь, — сказал костюмер.
— Да, невероятно, — поддакнул Лапланш.
— А эти стоны! Словно кончает всякий раз.
Оберон вопил на кухне. Что-то горело. Он был вне себя.
Ники спросила:
— Можно мне хлеба? — А когда я ей его передал, добавила: — У мненя опять руки похолодели.
Красная вспышка иконы на перекрестке. Фальцет Оберона на кухне, плюющийся своим разъяренным греческим.
— Следующий!
— …милый! Электрики уже ушли. Вокруг Англичанина собралась маленькая толпа. Кажется, его имя было Аллен, но все звали его Англичанином. Звукоинженер. Он читал вслух чью-то историю, вроде, типа, из генераторной. Это были листки из программы, исписанные на обороте крупным почерком:
«…и тут женщина, которая была в поле, затеяла рожать в самый разгар работы, и ребенок должен был выйти с минуты на минуту, но надо было поторапливаться, собирать оливки, иначе они начинают гнить. Представляешь?»
— Я там был вместе с ним. Все так и было, правда.
«Надо было все убрать немедленно. А схватки продолжаются, и в конце концов она рожает ребенка прямо там, на груде оливок, — кровь и все такое прочее».
— Все так и было. Ты бы видел! Я там был вместе с ним.
Англичанин поднял голову от рукописи и сказал:
— Слушай, старина, нельзя же всеподчеркивать .Неужели не знаешь?
— Это чтобы было понятно, что это парень говорит. Интонация и все такое. При перепечатке это выделяют курсивом.
— Есть неплохие места, — заметил Аллен.
Ники высвободила указательный палец из моей ладони и погладила мне большой. Тихая ласка, теплая ласка.
— Ты бы видел. Что-то невероятное! Перегрызла пуповину зубами! А потом шлепала ребенка по заднице. И там были только две старухи, чтобы ей помочь! Ни горячей воды, ничего. Кровища повсюду… Это в самом деле было потрясающе. А все остальные тем временем без передышки собирали оливки. Карапуза помыли в какой-то лохани.
Англичанин сказал, что видел такие же роды в Конго, на других съемках.
— Все то же самое.
Оберон перестал вопить и подошел к нашему столику. Это наша утка горела, сказал он, но если нам угодно подождать еще четверть часика… Нет, сказали мы. В общем, я это сказал, а Ники мотнула головой. У Оберона был не слишком сокрушенный вид. Он открыл решетчатую дверь и махнул нам на прощание рукой.
— Хочешь прогуляться? На пляж?
Ники улыбнулась своими большими глазами:
— Пошли. Ночью это будет чудесно.
Тип из электрогенераторной сказал:
— У меня-то жена в постели рожать будет. Этим, естественным методом… Да ты знаешь.
— Следующий…
— Милый…
Полдюжины насупленных греков ждало позади. Один из них отдирал мозоль на руке. Они молчали.
Мы поднялись по дороге. Миновали холм, мыс и спустились к пляжу. Песок был мягким, как шелковая бумага, и гладким, как отполированное волнами дерево. Или как Ники. И еще маяк на мысу, и желе его лучей, тающее, когда они убегают за горизонт.
— В самом деле волшебно.
— Слышишь, какая тишина, Ники?
Поблескивала слюда среди песчинок, и море вздыхало спросонья у самой кромки воды. Глубокое небо держалось поодаль, насаженное на кинжалы юкк. Рука Ники снова согрелась в моей руке, потом выскользнула. Она сказала:
— Отвернись!
Через мгновение ее блузка угодила мне в лицо. Бултых! — и она уже в воде, распустив волосы по волнам, словно кружевной воротник. Свет маяка обшаривал море.
— Ну давай, иди. Я не буду смотреть. Обещаю!
Холодная вода успокаивает. Ледяной ожог — бальзам для моей спины. Я принимаюсь дышать. Гребни маленьких волн, за которыми прячется Ники, привлекают свет маяка. Когда луч приближается, она ныряет, прячется под водой. Я плыву к ней и хватаю ее за щиколотки. В последующей схватке ее нагая грудь касается моего плеча. У меня в глазах полно соли, а Ники радостно сияет. Мы плещемся среди брызг, ныряний и смеха, а потом оказываемся в трех метрах друг от друга, только головы торчат из воды.
— Ну что, дурочка?
— Сам дурак.
Она засмеялась и снова обрызгала меня.
— Ну что, дурочка, долго еще собираешься мерзнуть?
— Не-а.
— Тогда вылезаем?
— Ага.
Она устремилась к берегу между двумя вспышками маяка.
— Гадкий мальчишка! Не смотри!
— Я и не смотрю. Отвернись, вылезаю.
Я не смотрел. Мы очутились спиной к спине в нескольких метрах друг от друга, дрожали и смеялись.
Я видел, как ее тень, отброшенная лучом маяка, удлинялась, встречала мою собственную и убегала все быстрее. Мы смеялись, но стучали зубами.
— Бррррр, — сказала и прыснула. Новое стаккато учащенного дыхания. — Хххолодно, — пролепетала она со счастливым девчоночьим смешком.
Задохнувшееся молчание, влекомое ветром по песку.
— Я замерз, Ники.
Высыхающая вода холодила мне спину. Ники тоже дрожала, насколько я мог видеть.
— Ники, я совсем окоченел.
Жест — быстрый, обволакивающий — ее рука на моей груди.
— Холодно, — сказала она. Мы упали, упали, и нам вдруг стало жарко — чудесно, уютно. Ники сделалась совсем маленькой в моих объятиях. Мы забылись, уже не находя, не узнавая себя в фантастическом создании с тысячей рук, ног и голов — но без живота, — в которое превратились.
И мы лежали там, в темноте пляжа, говоря о любви. И любя друг друга — сильно, чудесно.
(И всякий раз, когда мы ходили на пляж, все было внове: ведь ритуал становится ритуалом, лишь когда об этом вспоминаешь.)
Потом мы пошли ко мне, чтобы поспать.
Когда я спускаюсь по камням мостовой в порт, суденышки лампадерос уже удаляются гуськом к островам, исчезая один за другим за мысом, — маленькие блуждающие огоньки, тонущие в перине моря и неба. От стручков рожкового дерева исходит тяжелая, пресноватая вонь, словно что-то гниет в грудах заплесневелых гроздьев.
Янис поет в кафе среди немногочисленных жителей деревни. Мой приход никто не замечает. Мне приходится выбирать между духотой и запахом рожков. Место у двери занято двумя мощными рыбаками, которые держатся за руки, так что я выбираю духоту, которая вскоре вспухнет и потечет под моей рубашкой.
Лапланш ушел, Ники тоже неизвестно куда подевалась. А ко мне прицепился Янис, растолковывая, что некоторым дают больше работы, чем другим, а к таким вещам важно быть повнимательнее, «потому что, знаешь, деревенские на этот счет очень чувствительны».
Большая часть техников и актеров расселась у барной стойки и за столами шумной, веселой и пьяной толпой. Янис сказал мне, что доволен: здесь все собрались, это, конечно, обходится ему недешево, но он рад принять нас, как надо. Первый день съемок был тут для всех событием, и он надеется, что я сумею им объяснить, как это его радует. Он запасся виски — нарочно для французов, потому что никто в деревне его не пьет, — и счастлив, что сделал это.
«Я доволен», — твердил он, положив блестящую от пота руку на мое плечо.
Он сказал, что видел, как г-жа Тавлос беседовала с Иеро Костасом и двумя другими членами муниципального совета.
— Должно быть, они просили ее прекратить это с французами, но она только посмеялась. Понимаешь, а? Ей же и так хорошо.
Я ему сказал, что поговорю с Лапланшем, но тут он мало чем сможет помочь.
— Я ведь не ради себя стараюсь, — добавил Янис. — Я-то женат, ты же знаешь. — Он сжал мне плечо: — Я тебе вот что скажу: думаю, они больше об этом не заикнутся. Это все деньги, деньги… О-хо-хо! Вы же нас делаете богачами, знаешь? Всего два месяца, как вы тут, а мы уже озолотились.
Я все высматривал, не вернулась ли Ники. Она слегка захмелела от узо и хорошо сделала, что вовремя ушла. Речь Яниса все уплотнялась, но струйки слов текли с перебоями, с пропусками, как свежая краска по засохшей корке. Он увязал в какой-то веселой суете, пытаясь щедрой раздачей напитков предотвратить неизбежное угасание дня.
Было уже поздно, тень мыса наползала на порт, словно заволакивая кафе мерцающим серым облаком.
— Мне пора, Янис.
— Ах да! Девушка была немного… — Он вытянул одеревеневшие руки к земле и покачался, держа ладони под прямым углом к бедрам.
— Неужели?
— Да… немножко.
Выйдя на улицу, я пошел к краю тени от мыса, наползавшей на деревню. Уже взбираясь по лестнице к своему дому, неожиданно столкнулся с Лапланшем, который спешил вниз, не слишком крепко держась на ногах и мурлыкая обрывки греческой песенки. Вид у него был подозрительный. Когда мы повстречались, он вдруг схватил мою руку и затряс ее, сказав ни с того ни с сего «Привет!», прежде чем побежать по ступеням дальше.
Я обнаружил Ники в постели, в состоянии между смехом и слезами. Увидев меня, она притихла, а потом уткнулась лицом в ладони и разрыдалась. В сером свете от окна кожа на ее голой груди словно затвердела, превратившись в тусклую слоновую кость. Юбка задралась до самой талии, она сидела, подобрав одну ногу под себя, а другая косо свешивалась через край кровати поверх разорванной блузки и вороха нижнего белья.
Я сварил кофе и принес ей. Она взяла меня за руку и сказала: «Нет, пожалуйста, нет». Я вышел из дома и спустился, чтобы выкурить сигарету, сидя на тумбе у обочины дороги.
Когда последние деревенские уходят, Янис подсаживается ко мне с бутылкой и двумя стаканами.
— Ну как твоя подружка, а, Джо?
— У Ники все очень хорошо.
— Никогда не устану повторять: тебе очень повезло. — Тут он мне рассказывает, что один лампадеро поймал здоровенного ската размером с дверь и что цена на виски в Ираклионе скакнула как корова от жары — хотя никто тут его не пьет, кроме французов. И заключил: — Знаешь, я по поводу новых списков. Как насчет завтра, а?
— Да-да, конечно. Я всего лишь зашел выпить стаканчик.
Янис хрипло зевает и отдается своему тику — чешет шею рукой. Через какое-то время:
— Знаешь, ты мне очень нравишься. — Потом смакует молчание. Наконец: — Не надо бы, наверное, тебе это говорить, но я думаю, все неприятности с Лолой уладятся.
Он дает мне время усвоить сказанное, но, поскольку я никак не отзываюсь, продолжает:
— В общем, нашлись люди — взяли грузовик и съездили в Ираклион…
— Наш грузовик?
— Я же сказал, не стоило тебе это говорить. Ладно, съездили они в Ираклион на грузовике. И привезли новую девицу. Поселили ее на складе. — Он тычет большим пальцем в сторону пакгаузов. — Не надо французам об этом знать, ладно? А то вдруг им Лола надоест…
Мы выпиваем, и я обещаю ему, что никому не скажу. Когда я встаю уходить, он подхватывает одной рукой бутылку и стаканы и провожает меня до двери.
— Значит, насчет списков договорились? Завтра?
— Конечно.
Луна пока низко над горизонтом. Я задаюсь вопросом, достаточно ли она высоко, чтобы освещать наше окно.
— Янис?
— Что?
— Где ты научился говорить по-французски?
Янис вытирает лоб.
— Это все дед. Он был французом. Его немцы убили в Первую мировую. Хотя у него в любом случае был туберкулез.
Мы оба смотрим на луну, и Янис говорит, что нам повезло:
— Знаешь, ведь я был уверен, что из-за Лолы будут проблемы.
Хотя он говорит по-французски совершенно правильно, то, что он говорит дальше, не совсем ясно, я улавливаю только бессвязные обрывки, словно он находится в соседнем помещении. Когда сквозняк у двери достаточно нас освежил, мы желаем друг другу спокойной ночи.
Я останавливаюсь покурить на молу, луна светит по-прежнему, но горизонт на востоке уже проясняется. День обещает быть теплым — вполне терпимая жара. Может, Ники уже проснется, когда я вернусь?
Я выкурил четыре сигареты. Когда вернулся в комнату, Ники сидела в углу на полу. Ее запавшие глаза были обведены красными полукружиями. Судя по всему, она плакала, но кофе допила. Пелена ее опьянения спала, оставив после себя дрожь. Я присел рядом, и мы оба задумались. В какой-то момент мне показалось, что она вот-вот снова заплачет. Я не был в этом уверен, потому что мне никак не удавалось взглянуть на нее. Она попыталась положить руку на мое колено, но я ее столкнул. И сказал что-то вроде: «Может, пройдемся?»
Ну вот, мы пошли на пляж по дороге с мельницами. Дул влажный теплый ветер, и мы слышали загадочное гудение мельничных крыльев, бесконечное множество негромких потрескиваний в их ступицах. Как раз начали вылезать жабы, вычерчивая пятна тени, стекавшиеся к перекрестку. Море было плоским и черным, лепечущую полосу прибоя смягчали груды выброшенных морем водорослей. Пляж искрился темными отсветами — теплая неподвижность. Мы сошли с дороги, спустились по скалам и вышли на песчаный берег. Валявшиеся там и сям плети водорослей были сухими и потрескивали под нашими ногами.
На песке виднелось что-то непонятное — оказалось, скопление жаб, копошащихся возле скал. Это было странно, мы никогда прежде не видели их на пляже. Я коснулся локтя Ники, и она остановилась.
— Так тихо.
— Да.
— Вся эта соль…
— Да.
— И все эти водоросли — может, дождь пойдет?..
Я поднял ей подбородок, расстегнул блузку, распустил завязку ее шортов, ее стареньких шортов из джинсовой ткани. Белый хлопок и синяя джинса казались такими чистыми в темноте. Она повернулась, чтобы я расстегнул застежку у нее на спине. Мне не удалось с первого раза, хотя я знал это движение наизусть. Она тоже помогла мне раздеться, не касаясь моего тела.
Вода объяла меня как новая кожа, черная и гладкая. Мы доплыли до буйка и вернулись. Луч маяка по-прежнему описывал круги, обшаривая пляж и теряясь вдалеке за мысом. Выйдя из воды, мы не стали прятаться от света. Словно нам уже было нечего скрывать. Ники подобрала полотенце, которое мы оставили на скалах, и тщательно вытерлась. Мы направились к нашей одежде. Скопление жаб подобралось совсем близко к сине-белой стопке Никиных вещей. Мы пробрались между жабами и скалами.
— Джо?
— Что?
— У меня лягушка в лифчике.
— Погоди, сейчас выну.
Жаба, сидевшая в чашечке бюстгальтера, казалась спящей, но, когда я ее схватил, стала бешено вырываться, скакнула и плюхнулась в лужицу морской воды. Одна из ее задних лапок осталась у меня в руке. Наверное, я пытался ее удержать.
Ники все видела. Прикрыв свою наготу, она выкопала ногой ямку в песке. Я бросил лягушачью лапку туда и засыпал. И тут стремительный ливень в мгновение ока усыпал песок звездами.
— Тебе больше не нужно полотенце?
Она передала его мне. Потом, наклонившись вперед, надела лифчик без малейших усилий, быстрым и плавным жестом, и стала терпеливо ждать, пока я застегну его на спине. Маяк на мысу удлинил ее тень на скалах. Она выглядела такой хрупкой и беззащитной, что тут это казалось даже чем-то странным.
— У саламандр лапы снова отрастают, — сказала она.
— Да, но не думаю, что это одно и то же.
— Она легко оторвалась?
— Ну да.
Маленькая волна, бегущая по песку, перелилась в лужу, заструившись вокруг наших лодыжек. Такие вот волны набегают время от времени, взявшись неизвестно откуда. Они похожи на кильватерный след какого-то корабля, хотя ничего такого на горизонте не видно. Однажды Ники предположила, что это от китов. А я сказал, что в таком случае хотя бы одного загарпунили — положили на ломтик хлеба и подали как закуску к чаю.
Одевшись, я вытер ей волосы, прядь за прядью. Дождь полил снова, сильнее, превратив пляж в темную грязь. Я стал вытирать ей ноги, помогая надеть босоножки.
— Может, этот лягушонок и с тремя лапками выживет. Он ведь в луже, так что вполне может оттуда выбраться, это же не океан.
— Не знаю.
Она медленно выпрямилась и укрыла мне плечи полотенцем.
— Может, он даже плавать сумеет с тремя лапками.
— Не знаю. Не думаю.
Она проворно взобралась по скалам к дороге. Луч маяка осветил ее на краткий миг, всю такую опрятную, в белом и синем, только песок пристал к ее икре. Она стояла наверху, крепко уперевшись ногами, и, склонив голову вниз, смотрела на меня.
— Может, ты и прав, — сказала она.
И тут дождь припустил по-настоящему.
Я ухватился за руку Ники, которую она мне протянула. Я позволил ей думать, будто она меня и вправду тянет, но на самом деле взобрался сам.
Помню, как мы сели на дороге под дождем среди жаб и как я вытирал песок с ее ноги — когда закончил, там осталось красное пятно.
Господи, какая же она была хрупкая и промокшая!.. Я встал на колени и попытался закрыть ее от дождя своим телом. Неловкий, неуклюжий жест. Она смотрела на меня снизу своими большими детскими глазами, и морщинки боли залегли в их уголках и вокруг рта.
Я сказал:
— Знаешь, что он сделает? Он выползет оттуда и смастерит себе костыли из спичек, а из водорослей сделает подушечку себе под мышку. Так он сможет добраться до своих. Сядет вместе с ними ночью на дороге и будет ждать, когда их машина раздавит.
Ники опустила голову и прыснула со смеху, а потом пригорюнилась и заплакала, как маленькая девочка. Прижималась к моей груди и захлебывалась от рыданий. Через какое-то время она подняла ко мне лицо и сказала:
— Это так грустно.
Попыталась засмеяться, но снова заплакала.
Я поднимаюсь к дому, оставив пустынный порт позади. Прямо у линии горизонта уже угадывается солнце, готовое всплыть над морем. Пока я взбираюсь по лестнице, начинается рассвет. В свете рождающегося дня наша комната принимает более надежный, более определенный вид. Простыня на месте, но лунные прямоугольники уже исчезли.
Я трясу Ники как можно нежнее. Когда она говорит: «М-м?» — целую ее в ухо.
— Греки обзавелись новой шлюхой.
Может, она и не вспомнит, когда проснется, что я ей сказал. Впрочем, она меня даже не слышит. К тому же это не имеет ни малейшего значения.