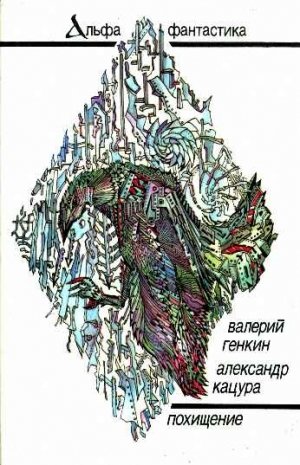
Похищение
И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книги жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими.
Откровение Иоанна Богослова
А что, если по воле народа правит не народ, а тиран?
Платон
Толстую пачку отсыревших, но не тронутых еще желтизной писем мы нашли за печкой в помятом чемодане с ржавыми незапирающимися замками. В эту дряхлую, клюнувшую носом избушку на краю деревни Теличено мы — я и мой друг — пришли из Савельева: час лесом через папоротниковые овраги и ручьи, текущие к Волге, которая здесь, в верховьях, и сама ненамного шире ручья. Пришли посмотреть пустующую избу на предмет возможной покупки. Хозяйка, грузная одышливая старуха на костылях, живущая безвыездно в Ржеве, говорила, что дом уступит за «сколько дадите», что лет восемь уж он пустует — разве баба Надя, соседка — хранительница ключа, пустит кого на неделю-другую за батон вареной колбасы.
Баба Надя однозубо заулыбалась с печи, радостно закивала, услышав приветы от бывшей соседки, пожалела обезножевшую подругу, погоревала, что столько не видались.
Она велела сыну, худому парню лет тридцати с прекрасным безумным взором, отыскать ключ. Шаря по закопченным полкам с грязными кастрюлями, он напряженно-звонким голосом расхваливал порядки и кормежку в алкогольной лечебной тюрьме в городе Торжке, откуда только что вернулся после двухлетней отсидки. Наконец ключ, привязанный к зеленой тряпице, оказался в наших руках.
Стоял холодный ясный октябрьский день. Мы вступили в сырую избу и сразу подумали о печке. Дров не было. В топку полетел всякий горючий хлам — обрывки обоев, шишки и щепа из продавленной корзины, обломок черенка от лопаты, какие-то бумажки из раскрытого чемодана с полуоторванной крышкой, ворох газет, школьный календарь пятьдесят девятого года… Уже гул стоял в трубе и теплая волна пошла от дверцы, когда кто-то из нас, как новоявленный Легран, с легким вскриком выхватил горящий листок и тут же, толком не загасив, принялся читать:
«…в песках Аравии встретил в бурнусе Гете и коротко бросил: зарезать. И все удалились, и вы уйдете, а поэт и его палач сначала сядут обедать. На белом коне задумчиво ехал Лорка. Этого — к стенке. И утащили в подвал, где пахло капустой и хлоркой. Гитара тренькала. С бельевой корзиной шагал изгнанный Мандельштам. Ветер швырялся в лицо песком. Песок был красен. Этого вернуть в пересыльный лагерь, пусть сгниет там — слишком горд и опасен. Поэт за обедом объясняет палачу устройство призмы и законы разложения света. Тот хлопает поэта по плечу, без укоризны цедя скупые слова ответа. Это мы можем, говорит палач, в усы ухмыляясь, мы свет — разложим…»
— Что это? — крикнули мы разом и, убедившись, что печка уже ничего не вернет, кинулись к чемодану.
Берем наугад обрывок тетрадного листа. Сверху крупно: «ПОСТАНОВИЛИ».
Протокол?
«Поднять из могилы, неспешно все рассказать, все показать. Унижение и тихо-загадочную смерть его вдовы, растоптанное, убитое крестьянство, звездный час иудыпрокурора — того самого, что охотился за ним летом семнадцатого, в подробностях, с костями в колесе, тридцать седьмой…»
Еще клочок — побольше. Аккуратная машинопись.
«Красавец козел с божественным именем Адонис, гордо вознеся рога и выпятив грудь, шествует по финальному коридору бойни, ведя за собой вереницу бычков. Он лидер, он весел, он весь — ожидание, предчувствие, предвестие радостного пира, и его ликующие токи пронзают последователей, подчиняющихся заданному маршу. Ощущение праздника проникает в тупо напряженные мозги крупного рогатого скота. Бычки упруго ставят ножки и тянут шеи. Avanti, popolo! Адонис — впереди. Как жаль, что опилочный пол скрадывает скерцо его грациозной рыси. Он знает: опилки останутся позади, затихнет сопенье ведомого стада, и он выйдет к солнцу, высоко подняв нежный замшевый нос, выйдет, чтобы получить из влажной ладони ломоть свежего, круто посоленного хлеба. А потом — снова в путь. И снова — первым. Сильные ноги гарцуют и поют. Восторг стучится в ленивые черепа очередных прозелитов. Туда — к опилочному полу, навстречу новой сладостной волне, набегающей на трепетное тело, — новому куску хлеба на сильной, чуть влажной ладони. Фильм этот Рервик не раз видел в учебных залах высших режиссерских курсов Земли».
Мы растерянно смотрим друг на друга. Мы пожимаем плечами.
И снова склоняемся над чемоданом. В руки попадаются пятьшесть листочков, сколотых ржавой скрепкой. Верхний край изгрызен мышами. Но текст почти не тронут. Садимся на скамейку у печки, начинаем читать.
«…ава…рок первая…узовый корабль…дит в гамаке. Он поставил ногу на бочонок и рассеянно любуется мощным башмаком. Мысли блуждают. Предстоят досадные задержки. Ближайшая — в Кост-ро-Мане. Старый Баккит высадит их дня на два, сгоняет по своим делишкам в Трай-пи, потом снова возьмет на борт. Еще не меньше недели болтаться в Твер-центре — одно утешение: там в эту пору карнавал.
Корабль гружен брусками металлического водорода, древесиной, хлопковым маслом, вином с Малой Итайки. Пассажирский отсек неуютен и грязен. Мало кто путешествует этим классом. Поэтому здесь бочки, ящики, хлам. В отсеке еще cпит пассажир. Молодая женщина пристроилась в креслице. Она тоже молчит, думает о своем. Изредка выходит прогуляться. Во время трапез оказывается на другом конце стола.
Внешне человек спокоен, даже бесстрастен. Но невидимый внутренний огонь жжет его. Чувство горечи и неутоленная жажда справедливости, соединившись, переплавились в ровный, сильный настрой души. Может быть, и месть примешалась к этому сплаву?
Вряд ли. Он слишком любит логику, слишком рассудителен, чтобы поддаться слепым чувствам. Слепым ли? И что это такое — слепые чувства? Его друг, до которого полгалактики, не он ли пример человека страстей? Но разве не разум направил их к общей цели? Они знают: задуманное предприятие — опасная авантюра. Смертельно опасная. Но верят, что добьются своего. Человек покачивается в гамаке и улыбается.
Внезапный рывок сотрясает корабль. Скрипучая дрожь пробегает по стенам и переборкам. Гамак раскачивается, под ним, сталкиваясь, катаются бочки. Новый рывок — кровь ударяет в голову.
Летит и утыкается в мешок кресло пассажирки. Она судорожно хватается за край гамака. В следующий миг человек втаскивает ее к себе. Серия толчков. Треск обшивки, удары, хруст.
— Что это? — кричит женщина.
Ее голос еле слышен.
Гигантский грузовик трясется, как в лихорадке. Человек смотрит на крепления гамака. Сквозь грохот отдельной нотой прорывается их предательский скрип. Внизу беснуются бочки и ящики.
И вдруг — тишина. Плавный ход корабля.
— Смотрите! — Женщина берет его за руку.
Он смотрит в иллюминатор. Ярко подсвеченный с краю, мимо проносится какой-то предмет. В следующую секунду человек узнает его. Знакомые обводы военного корабля. Но что с ним? Его бег стремительно ускоряется. Он превращается в точку. Пропадает из глаз.
— Это спейс-корвет, — говорит человек. — Я когда-то служил на таком. Странно, откуда он взялся?
— Вы военный?
— Был недолго. Сейчас я журналист.
— А я врач.
Человек смотрит на нее внимательно. Блондинка с высокой прической. Глаза улыбчивые, наивные. Запакована в замшевую куртку, брюки ловко заправлены в низкие сапожки.
— Андрис, — представляется человек.
— Майя.
Пауза.
— Летите по заданию редакции?
— Нет. Пожалуй, нет. Вольный стрелок. Из тех, кто собирает впрок путевые заметки. А вы?
В этот момент спейс-корвет появляется снова. Изумленный Андрис следит за его невероятно быстрым перемещением.
— Безумие. — шепчет он.
— Что происходит? — говорит Майя, Корвет исчезает, но лишь на полминуты. Он описывает круги.
Их радиус все меньше, полет все стремительнее. Корабль крутится, как веретено. Андрис крепко держит женщину за руку.
— Ему конец! — говорит Андрис.
— Почему?
Сверкает веретено, рябит в глазах. И вдруг все исчезает. Нет блеска, нет корабля.
— Он провалился, — тихо говорит Андрис. — Провалился в дыру.
Седые баки закрыли виски. Тяжелые складки пролегли от крыльев носа до подбородка. Глаза сонные, порой колючие. Когда-то он был блестящим космолетчиком. Теперь в управлении поговаривают, что его пора снимать и с грузовых линий. Чепуха. Пусть он немного опустился. Но сколько еще силы и точности в этих тяжелых руках со старомодной татуировкой. Он всегда был немного старомоден.
Во время длинных перелетов любил читать книги. Кабина навигатора — уютнейшее место на корабле. Тишина. Огоньки экранов. Цветомузыка главного компьютера. Так хорошо дремать с толстым томом в руках, утопая в кресле, когда сбоку светит теплая матовая лампочка. Вот только второй пилот досаждает. Он худ и вертляв. Он и сейчас толкает плечом Баккита. Старину Баккита.
— Ну что? — недовольно бормочет капитан.
Кристиан круговым движением руки показывает на иллюминаторы обзора. Баккит встряхивает головой.
— Что такое? — говорит он, нахохлившись.
Слева чуть выше их курса висит корабль. Спейс-корвет новейшего образца. В косых лучах недалекого солнца он смотрится как устрашающего вида насекомое. Стальным светом отливает полосатое брюшко. Торчат членики антенн, стволы лазерных пушек. На спине из-под крылышек солнечных батарей высовываются острые рыльца ракет.
— Красавец! — восхищается Кристиан. Спейс-корветы, ударная сила космического флота, последний крик техники землян, стражи мира и порядка. Какой молодой космолетчик не мечтал о них? Он, Кристиан, не исключение.
Спейс-корвет перебирает лапками. Открывает обращенный к грузовому кораблю черный ротик.
— А-а! — брызжа слюной, кричит Баккит, обрушивая стокилограммовое тело на рычаг ручного управления.
Изумленный Кристиан летит со своего кресла. Двухсотметровый корпус корабля скрипит и стонет. Обезумевший капитан яростно воюет с рычагами и клавишами. Позади грузовика, в том месте, где он только что был, пространство корежится и рвется. Это первый залп корвета. Второй залп накрывает корабль. Нет, огромный, неуклюжий грузовик уже отпрыгнул в сторону. Проходит минута.
Корвет вновь догоняет корабль Баккита и занимает позицию для атаки. Багроволицый капитан и лунно-бледный второй пилот играют на клавишах пульта в четыре руки.
— Нет, — у Кристиана трясутся губы, — нам не уйти. Что может наша посудина против корвета последней модели?
— Открой мне четвертую трассу, — хрипит Баккит.
Кристиан кивает, набирая программу. Компьютер дает отказ.
— Не выйдет, — бросает второй пилот, — перегрузка.
Спейс-корвет, обгоняя грузовик, вычерчивает красивую параболу.
— Эллипс, эллипс, — приговаривает Баккит, — надо пройти по эллипсу.
— При чем здесь эллипс? — кричит Кристиан.
Перед капитаном вспыхивает красный экран. Толстые пальцы Баккита откидывают крышку блока защиты, вырывают плату предохранителя.
— Что ты делаешь, Том? — Кристиан пытается говорить спокойно, но голос ломается.
— Отключаю компьютер.
— Зачем?
— Мы пройдем по эллипсу.
— Не понимаю.
— Он пойдет следом. Но у нас масса в пять раз больше. Мы проскочим. Понимаешь?
Второй пилот мотает головой. Красный экран гаснет.
— Давай четвертую!
Судорога пробегает по длинному телу грузовика. Слышно, как за спиной трещат переборки. Корвет закладывает изящный вираж.
Сейчас он обойдет грузовик справа и… Кристиан бессильно откидывается в кресле. Но что это? Корвет не спешит стрелять. Он уклоняется все дальше вправо.
— Уходит? — прошептал второй пилот.
Бег корвета ускорился, траектория стала заметно искривляться.
— Ага, попался! — загремел Баккит.
— Что с ним, Том? — негромко спросил Кристиан.
— Все. С ним все. Ему конец, — также негромко ответил капитан.
— Не понимаю.
— Ты забыл, парень, что у этого солнца в партнерах — черная дыра. Он тоже про нее забыл. Вообще или в пылу погони — черт его знает. Теперь он в ее лапах.
— А мы? — спросил Кристиан, слегка запинаясь.
— Мы проскочили. Но с какой стати этот мерзавец стрелял в нас?.. Что писать в бортовой журнал? — Баккит поднял на Кристиана усталый взгляд. Пойди-ка посмотри, что там с пассажирами».
Другие бумаги из чемодана мы читать не стали. Собрали все до последнего листочка, подождали, пока прогорит печка, и двинулись обратно в Савельеве, сказав бабе Наде, что ключ берем с собой, поскольку дом, скорее всего, купим.
Что же мы выяснили, разобрав нашу добычу и внимательно все перечитав?
Перед нами была переписка двух друзей — Андрея и Владимира. Письма Андрея были довольно аккуратно отпечатаны на машинке. Редкая правка внесена черным тонким фломастером.
Владимир писал крупным, немного расхлябанным, но вполне разборчивым почерком и пользовался шариковой ручкой с синей пастой. Говорить сейчас о содержании писем вряд ли имеет смысл, коль скоро мы предлагаем их читателю практически в первозданном виде. Если не считать выправленных опечаток, изъятия нескольких очень уж скучных абзацев и повторов и добавления немногочисленных слов и фраз вместо съеденных мышами или иным образом утраченных, — тексты писем остались нетронутыми.
Хотим отметить лишь несколько странностей этой переписки, которые нас озадачили и объяснить которые мы не беремся.
1. На письмах Андрея обозначено место — Савельево. Да, да, по удивительному совпадению письма с нашей помощью вернулись туда, где были написаны. Но так ли это? Никто в этой умирающей деревне — зимой здесь постоянно живут лишь пять человек — не похож на описанных Андреем жителей Савельева, и ни один житель Савельева — как мы выяснили дотошными расспросами — не помнит москвича по имени Андрей.
2. Беседы с бабой Надей и другими обитателями Теличена, куда мы через пару дней не поленились вернуться, также не дали результатов: никакому Андрею баба Надя ключа не давала. Илья, говорила, жил. Дрова ей наколол, чаю принес, окно разбитое вставил. Но дело тут не в имени. Ни в одном постояльце покосившейся избушки никак не угадывался автор писем.
3. Письма обоих корреспондентов были соединены в одном месте и хранились с великим небрежением за печкой дряхлой избы в полузаброшенной деревушке.
4. Последняя особенность: при внимательном рассмотрении оказалось, что правка на письмах Андрея выполнена почерком Владимира.
В заключение считаем своим долгом уведомить всех, что, буде найдутся истинные создатели этой рукописи, мы незамедлительно передадим им все права авторства и конечно же гонорар — естественно, за вычетом расходов, связанных с перепечаткой текста.
Справедливость своих притязаний может доказать любой желающий, какое бы имя он ни носил, если он достаточно точно опишет дом, где нам посчастливилось найти старый помятый чемодан с ржавыми незапирающимися замками.
ПИСЬМО ПЕРВОЕ
Октябрь 16, Савельева
Дорогой Владимир!
Последний наш разговор нейдет у меня из головы, хотя ему там тесно. Мысли заняты все больше делами практическими: починкой крыши, пристройкой гаража, поправкой в совершенную ветхость пришедшего забора, да саженцы достать, да песку и щебня — отмостить метров пятьдесят от дороги до порога. Хорошо бы успеть до снега, но торопиться я не намерен. Вживаюсь в деревенский обиход неспешно — спех тут не в почете. Хотя по московской привычке засуечусь иной раз, запаникую — с тем опоздаю, это горит… А потом спущусь с крыльца, гляну вокруг… Т-и-и-хо. Через дорогу — дымок, труба чуть не в землю ушла. Юрий Иванович, сосед, баню топит. Тетя Поля с того конца деревни, блестя калошами, рука на отлете, тащит к пруду таз — белье полоскать. Вот и вся кипучая жизнь. Ну, думаю, и я успею. Не горит. И так располагаю собой до Нового года, когда с лыжами и гвалтом явится мое семейство, а я, напротив, буду призван в столицу с отчетом о так называемом творческом отпуске. Стопка листков, образующих этот отчет, пухнет с весьма умеренной скоростью. Тема, если помнишь, касается статистических закономерностей в языке. За кажущейся бухгалтерской сухостью в ней виделась мне интереснейшая область языковедения. Живой, прихотливый поток речи, с одной стороны, не терпит уз, смеется над усилиями лингвистов заковать его в латы числовых соотношений, опутать логическими связями, но — с другой — не может оставаться вполне свободным, ибо станет непонятным собеседнику. Потому и показалось мне заманчивым применить в языкознании, а именно в той его интригующей и туманной части, которая ведает значениями слов, столь же двусмысленный раздел математики — теорию вероятностей, да не классическую, а особую, специально мною достроенную. Конечно, я был далеко не первым в этих попытках, но дело меня увлекло. Вот-вот, думал, отвоюю у интуитивного, бесформенного знания еще одну крепость — семантику. Вот-вот найду магическую формулу, разрешающую парадокс необходимости и свободы в языке. Но мало-помалу порыв мой умерялся, росла убежденность в неспособности моей теории описать и доказать что-нибудь, кроме самоочевидного, вызревало понимание, что одна лишь фраза поэта — «Давай ронять слова, как сад — янтарь и цедру, рассеянно и щедро, едва, едва, едва» — больше говорит о текучей, неуловимой материи языка, чем все мои построения.
Однако оставим это. Слова, говорил Рассел, служат для того, чтобы можно было заниматься иными предметами, чем сами слова.
Необходимость и свобода в языке — лишь тень проблемы того же свойства, присущей жизни. Вот мы и вернулись к нашему разговору, прочно засевшему в моей памяти. О народе и тиране, свободе и власти, возмездии и исторической справедливости. Не уместнее ли здесь, как и в языковых штудиях, не громоздя умозаключений, обратиться к средствам литературным? Попробуй-ка, друг Владимир, на зуб замысел, который излагаю в самом общем виде.
Помнишь недавнее сообщение о том, что в пригороде одной восточной столицы собрались главари кхмерских группировок с призрачной целью восстановить власть полпотовских изуверов? Еще раньше я задумывался, почему у нынешнего правительства Камбоджи не возникает желания выкрасть того же Пол Пота или там жуткого Иенг Сари, чтобы публично их в Пном, скажем, Пене судить?
Или возникает, да непросто подобное осуществить? А представить только: шумный процесс, корреспонденты со всего света — вот они, зловещие ангелы геноцида, выродки, уничтожавшие собственный народ. Кости миллионов вопиют, пепел стучит в сердца живых…
А взять народное восстание в Румынии. И здесь с судом ничего не вышло. Диктатора и его злодейку-супругу поспешно и, в сущности, тайно расстреляли. А мир уже, кажется, набирал воздуха в грудь — следить за обстоятельным, быть может, многомесячным процессом, где вылезали бы на белый свет все гнусности кровавого режима, того, где на партийных съездах вышколенные функционеры пели осанну плюгавому тирану. А сколько нацистских преступников пряталось и по сей день прячется от возмездия в экзотических странах и иных местах планеты? Сталинские палачи среднего и мелкого масштаба вообще не имеют нужды скрываться, ибо юридически чисты перед законом. Но писать роман об Анастасио Сомосе, папаше Дювалье, о Лаврентии Берии и Альфредо Стреснере, о Николае Ежове и Николае Чаушеску, о каких-нибудь Вышинском и Курском или том же Пол Поте не кажется мне возможным без основательного знакомства с документами, а лучше и людьми — как сообщниками, так и жертвами. Представим себе роман о Пол Поте. Как начнем? Да хоть бы так. Юный кхмер торопится на лекцию в Сорбонну.
Смех парижанок, чудесные маленькие кафе. Где-то играет аккордеон, в омытом дождем крыле «ситроена» отражается Нотр-Дам.
В общем — пятьсот лет европейской гуманистической культуры.
И вдруг — ах! — кетменем по затылку.
Нет, такое писать — какие нервы нужны! Выдержать, вынести конкретность этой судьбы, реальность этого характера… На то я — признаюсь со всей откровенностью — никак не способен. Традиции фантастики влекут на иные тропы. И вот возникают в мозгу зыбкие контуры причудливого повествования, где в различных уголках условного пространства можно не только разместить интригу похищения и раскаленную публицистику суда, но и поставить немало философских, психологических, нравственных вопросов. Например, таких:
1. Справедлива ли сама идея возмездия в масштабах вселенной и вечности? Ведь в мире вымысла исторических преступников, кои не успели при жизни расплатиться за грехи, можно каким-нибудь приемом и с того света тягать к ответу — так сказать, научнофантастический вариант Страшного суда.
По сути, это вопрос давности преступления. Существует ли историческая справедливость, когда меряем тысячелетиями и парсеками? Пришла бы сейчас кому-нибудь в голову мысль судить Нерона, Хлодвкга, Тамерлана? И не мелкий ли это сор перед безмерностью мира?
2. А если даже каплю справедливости усмотрим в этой идее, можно ли ради нее поступиться своей совестью, ну хоть бы на малую толику? Перед героями этот вопрос встанет, когда пойдет оценка средств целью, когда фабула потребует жестко уворовывать человека — предполагаемого преступника, устранять препятствия…
3. И какое назначить наказание за самые ужасные преступления? Неужто все то же — ритуальное убийство? Насильственная смерть, когда всесильная толпа (государство!) душит или режет одного — одинокого в момент кончины, бессильного, связанного, оплеванного. Сколь славно было честному средневековому человеку — ремесленнику, торговцу, крестьянину, заехавшему на городской рынок, — услышать трезвон малого колокола кампаниллы (так, кажется, называют колокольни в Италии). Казнь! Спешите на площадь, где должно свершиться правосудие, где обещано самое волнующее, самое страшное и — неужели? — самое сладкое зрелище в жизни, когда эту самую жизнь отнимают, но отнимают не у тебя, а у другого, тебе чужого, у какого-то субъекта, в отношении которого доказано: ему жить не нужно. Как жутко-сладостно ты вздрагиваешь и понимаешь каждой клеточкой тела, что в момент хруста костей на помосте ты — жив. Жив! Ты слит с великой бурлящей толпой. Значит, и сам — велик. Вздохнула она или ахнула — ты вздохнул и ахнул вместе с нею. И, чувствуя, как жизнь разливается по телу, ты славишь и мудрое государство, и грозного правителя, и праведный суд. И, отерев пот и усмирив мурашки, уходишь, довольный и потрясенный. Ты славно провел время. И словно сыграл со смертью в жмурки.
Но суд и казнь через столетия — не грешное ли злопамятство?
Похищение для последующего суда, быть может, судилища — не в злой ли памяти живет такое, не сектантское ли отклонение от христианских заповедей?
4. Еще не менее хитрый вопрос личной ответственности в системном обществе. Только ли тиран виноват? А мы-то что… Не действует ли в истории принцип единства правительства и народа? Но не в статическом, а в подвижном, гераклитовом, гегелевском духе…
Да, но рассуждения эти останутся лукавым рациональным вывертом, не брось мы их в общий котел с человеческими судьбами, смешными и горестными событиями, сумасшедшими приключениями и нелепыми поступками.
Чьими?
Кто герои?
Некий правитель (генерал-губернатор, вице-король, генеральный секретарь или другой большой начальник) кроваво угнетает своих подданных на небольшой провинциальной планете. Его свергают, он бежит, и па долгие годы след его теряется. Но вот доносится слух, что злодей вынырнул на другом конце галактики и процветает.
Два молодых человека (журналиста-межпланетника? художника? биоконструктора?) составляют дерзкий план — найти, схватить, доставить на несчастную, едва очнувшуюся от жестокой диктатуры планету и там принародно, гласно, сурово и честно судить. Дабы другим неповадно было…
Бросаю тебе мяч и жду ответного паса, ибо перестройка мыслей на фантастико-научный антураж (ракеты и планеты, гравикомпенсаторы и аннигиляторы, андроиды и астероиды) в условиях тутошней бревенчато-огородной жизни требует сил, которыми я в настоящий момент не располагаю.
Твой Андрей
ПИСЬМО ВТОРОЕ
3-е ноября, Москва
Друг мой, вот какие мне мерещатся декорации.
Галактика похожа на нынешнюю политическую карту, где вместо стран — планеты и всяческие их объединения. Там-сям разные способы правления, общественные установления и традиции. Земля — общая для всех прародина — давно утратила влияние на большую часть бывших своих колоний. Уж она не центр, не столица: возьми историческую судьбу Полоцка, Галича, Суздаля, Твери, страшно сказать, но, может быть, уже и Москвы — и ты поймешь мою мысль. Хотя, конечно, колыбель, и потому маячит теплым пятном на окраине родового сознания. И влечет к себе — паломников, туристов, историков. Не то чтобы стала она музеем, живущим на ренту от скал Тассили-Аджера, Сикстинской капеллы и Байконурского космодрома. Просто планета со своей живой историей, одна из многих, обиталище десятка миллиардов людей.
Один из них — кинорежиссер Андрис Рервик. Несмотря на молодость — нет и тридцати, — он успел прославиться как блестящий и бесстрашный киножурналист, побывавший во многих опасных экспедициях по малоизученным областям пространства. Весь освященный традицией набор фантастических подвигов на его счету: охота на винтозубых хорроров в душных плавнях на задворках созвездия Лебедя; спасение растяп, угодивших в гравиловушку или параллельный временной коридор; разгром космических банд и ловля грабителей-одиночек, поджидающих мимопроезжих путешественников с лазерным ножом за пазухой. И всюду Андрис выказывает смелость, порой отчаянную. Особенно если задумает снять что-нибудь из ряда вон… Скажем, сцены из жизни главаря пиратской ватаги, терроризирующей мирных ловцов астероидов в юго-восточном секторе треугольника Вега — Денеб — Альтаир.
Рервик является к атаманше. Он предлагает ей восхитительный план нападения на транспорт с кристаллами фосфида индия и сандаловым деревом — план, сулящий добрую поживу. Участвует в оргиях. И снимает, снимает, снимает… А потом проваливает всю затею и передает разбойников в руки правосудия. Такой вот лихой, яростный такой парень.
Но была в жизни Рервика и тихая радость, лежащая в стороне от авантюр и поножовщины. Время от времени забирался он в глухомань, на слаборазвитую планету, и снимал медлительные этнографические фильмы — быт и труд, танцы и обряды, игры и состязания, восходящие к древним эпохам. После такого уединения появлялись картины, полные очарования и грусти, и зрители выходили из кинозалов в глубокой задумчивости, а критики говорили: «О! Каков Рервик!» — и шли писать рецензии на своем критическом языке, где среди прочего выражали сожаление и недоумение, что художник такой глубины, такой страстности, такого богатства творческой палитры до сих пор не выходит за рамки документального жанра.
Да, художественных картин Андрис не снимал. «Жизнь острее и, если хочешь знать, поэтичнее», — говорил он единственному близкому человеку, другу со школьных дней, Велько Вуйчичу. Никого больше не подпускал к себе Рервик. То ли сумасбродная, опасная работа не давала ему обзавестись семьей, то ли, что скорее, характер — резкий, неуживчивый, капризный. Правда, в юности пережил он сильное чувство, но об этом позже.
Велько, как мне кажется, во многом Андрису противоположен.
Увалень, тюфяк, флегматичный и добрый, но при том практичный и оборотистый. Славный помощник Рервику, организатор-администратор, умный советчик, тонкий ценитель и знаток кино. У Велько есть и жена и дети (не менее четырех), что, признаюсь, может доставить нам хлопоты, поскольку в дальнейшем повествовании это семейство придется учесть. Однако тяга смешать ряды холостых и бездетных героев фантастики велика.
Вот пока все, что я знаю о Велько и Андрисе. Конечно, это еще куклы, но в ожидании, что ты поправишь или дополнишь их портреты, я думаю — а вдруг они оживут сами? И с этой надеждой сажаю их в бревенчатый дом Андриса на высоком левом берегу Ветлуги. Они заканчивают монтаж последней ленты Рервика — скажем, о повадках двупастных козоцефалов. Друзья как раз собираются сделать небольшой перерыв, чтобы перекусить, когда раздается стук в дверь и одновременно начинается
глава первая
Будет явлена написанная книга, в которой все содержится: по ней будет судим мир.
Фома из Челано
— Открыто! — крикнул Рервик, ставя на стол толстый фаянсовый кувшин и берестяной туес. — Велько, режь хлеб. Да входите же, кто там!
На пороге шумно дышал краснолицый мужчина с выцветшими бровями. Он снял фуражку с синим околышем и утерся рукавом:
— Ты знаешь, Андрис, как я тебя люблю. Но подниматься к тебе дважды в день в такую жару — это, я тебе доложу…
— Испытание любви.
— Ног. И легких. И велосипеда.
— А что тебя понесло? Ведь был утром.
— Я честный человек. И если на пакете написано «срочно», я не жду. Уверен, твой корреспондент не знает, что ты поселился на этой круче.
— Ладно, садись. Не хочешь припасть к кормушке?
— А что в ней? — Почтальон скинул с плеча потертую на сгибах черную сумку. — Возьми, кстати, срочно все ж. — Он вытащил объемистый пакет в коричневой обертке. Сумка сплющилась и опала.
С подносом вошел Велько.
— А, Лааксо! Что принес?
— По весу — скрижаль Моисея.
— Ну подкрепись тогда. Бери сметану. Мед вот.
— Не, я лучше так. — Лааксо широкой ладонью зачерпнул из короба земляники с редкими черничинами и насыпал в блюдце со сметаной. Потом стал разминать ложкой.
— Ягоду на том берегу брали? — спросил Лааксо.
— Угу. — Велько намазал медом горбушку. — За орешником.
— И Марья туда ходит. А малины нет пока.
— Зеленая, — сказал Велько. — Через неделю поспеет. Если дожди не…
— Через неделю уеду я, — сказал Лааксо. — Новый почтальон у тебя будет, слышишь, Андрис?
— А ты куда?
— Думаю в Миронушки. Пройду курс палеоботаники и подамся к Вересницкому.
— О, так я к вам приеду. Давно хотел снять его висячие сады с доисторическими травками. Куда только не летал, а тут под боком такое.
— Приезжай. Там такие хвощи и папоротники, ай-яй!
— И Марья с тобой? — спросил Рервик как бы между прочим, сосредоточенно катая мякиш.
— Кто ж ее знает. — Лааксо встал. — Спасибо. У нее, у Марьи, семь пятниц на неделе. Вчера говорила, хочет в Танжер вернуться, в институт — реконструктивная психология власти, вишь, ее волнует. Магия слов вождя и творение мифов.
— Я смотрю, у вас это семейное, — сказал Вуйчич. — Отец будет реконструировать древовидные маргаритки, а дочь — духовный облик Калигулы или Григория Вельского.
Андрис задумчиво жевал кусок овечьего сыра.
— Ну ладно, — Лааксо направился к двери, — я еще к вечернему клеву успею.
Рервик вышел на крыльцо вслед за почтальоном.
— Под гору легче.
— И не говори. — Лааксо взял велосипед за рога, поставил левую ногу на педаль. — Дождь будет. До завтра, Андрис.
— Марье привет.
Лааксо кивнул, оттолкнулся и, по-кавалерийски перекинув ногу, затрясся вниз, к дороге, бегущей у самой реки.
Рервик вернулся в дом, где Велько уже прицеливался ножницами к глянцевитому пакету.
— Режь, режь!
Захрустела скользкая бумага. Явились тяжелая толстая книга в старой коже с медными уголками и еще один конверт поменьше.
На нем изящным почерком значилось: «Андрису Рервику, режиссеру и путешественнику». В конверте — три голубоватых шершавых листка.
И вот Андрис читает вслух, а Велько слушает, поглаживая бурую кожу переплета, замкнутого узорной скобой.
«Рервику — привет!
Уповая на великодушие ваше, вторгаюсь своею эпистолой в жилище художника, чем неминуемо сношу возмущение либо в стройное течение прихотливой мысли, либо в высокое созерцание натуры, либо в безыскусный ход домашних дел. Воистину безмерным будет мое отчаяние, коли не смогу снискать благосклонного к сим строкам внимания со стороны особы, высоко мною чтимой и множеством достоинств отмеченной. Но таково предначертание людям, щедро наделенным судьбою: кому много отпущено, с того многое взыщется, а во многой мудрости много печали. Кабы не крайняя нужда склонить вас к замысленному предприятию, в чем не таясь и открыто признаюсь, я счел бы непростительной дерзостью сей поступок, мною совершаемый. В созданных вами замечательных произведениях, уже давно ставших достоянием широкой общественности, бьется беспокойная мысль, живой пульс мироздания, ощущается страстная заинтересованность художника, его гражданская позиция. Бороздя бескрайние просторы вселенной, подвергая свою жизнь бесчисленным опасностям в неизведанных уголках галактики, вы повсюду выступаете носителем высоких идеалов землянизма, прогрессизма и кооперативного интерпланетаризма.
Но мосье Рервик, помойте уши, и послушайте коллегу, который желает вам добра. Старичок, на кой ляд бороздить бескрайние п. и подвергать ж. бесчисленным о., если можно строгать шедевры без всех этих хлопот?..»
— Каково? — прервал чтение Андрис.
— Напоминает ирландское рагу, — сказал Велько. — Немного бланманже, немного квашеной капусты…
— Попробуем следующее блюдо?
— Вперед.
Рервик взял второй лист.
«Откуда вырастает непреодолимая тяга к риску и авантюре, к розыску доселе не виданного, не понятого, не ощущенного? Откуда эта устремленность прочь — от дома, от человека, от Земли?
Признайтесь, Рервик, ваша сверкающая и лязгающая гениальность холодна и роскошна, как ледяной дворец, и столь же непригодна для обитания души. Вы драматизируете мертвое бытие, строите миры — то мрачные, то блистательные, обрушиваете их на зрителей, и те говорят: «Ах! Как музыкален и напряжен Рервик! Космичен и высок. Магичен и бездонен. Но каков хитрец — два часа показывал нам зуб реликтовой гуанской черепахи».
Остановитесь!
Посмотрите перед собой — вы увидите глаза своего друга…»
— Хм! — сказал Велько.
«Бросьте взгляд в окно. Не маячит ли еще спина велосипедиста?
Представьте поле под низким небом. Очень долго шел дождь.
Сейчас он прекратился. Ноги вязнут и чавкают. Но надо идти, потому что дождь прекратился. Пока лило, вы сидели с ним под навесом риги, он ел сало, хлеб, огурец и дал вам. Он курил и оставил вам две затяжки. Но теперь пора, потому что кончился дождь.
Он забрасывает за спину перетянутый лямкой мешок и берет винтовку. Он доводит вас до гребня холма и ставит так, что голова и плечи оказываются на фоне неба. Потом пятится шагов пять, передергивает затвор.
Снимите это, Рервик.
А может быть, в просвете между перьями дыма мелькнет краснощекая рожа с вислыми усами, мощные руки подхватят исходящего криком младенца и возденут его высоко-высоко. Видишь пятна сажи на медном лбу, Андрис? Летящий нелепый комочек — туда, по дуге, в полыхающие недра костела, где корежится у распятия то, что было его матерью?
Видишь кресты от Капуи до Рима?
Плахи от Москвы до Нового Иерусалима?
Костры.
Виселицы.
Крематории. Крематории. Крематории…»
Тут, Андрей, я хочу прервать течение главы. Если автор послания вознамерился обозреть человеческую историю в том ее аспекте, который касается обстоятельств и способов массового забоя людьми друг друга, да еще задумал приступить к сему с древних времен, мы можем смело оставить Андриса и Велько за чтением и отвлечься, ибо времени у нас в избытке.
Интересно все же, что найдут они в этом кровавом перечне?
Вполне заслужили право попасть туда хрестоматийные злодеи Навуходоносор и Нерон. А добродушные горожане Парижа, старательно резавшие своих компатриотов теплой августовской ночью?
Их духовные родичи из баварских пивных недавнего прошлого?
А загадочный кавказец и его команда, методично пытавшие и истреблявшие друзей и единомышленников, но не только их, а и миллионы оглушенных, одураченных, ошельмованных подданных? Благовоспитанные джентльмены, дарящие темным индийцам плоды цивилизации в форме чугунных ядер? Энергичные борцы за справедливость, взрывающие отели с премьер-министрами и автобусы с детьми? Священнослужители, поднимающие: а) осененные крестами хоругви на бой с собаками-басурманами и нечестивыми евреями; б) зеленые знамена ислама на праведную войну с неверными (читай — христианами и евреями); в) звезду Давида на борьбу с не заключившими союза с Яхве (стало быть, христианами и мусульманами)? И прочая, и прочая, и прочая…
Но что за обвинительный акт человечеству читают Велько и Андрис? Кому дано судить? Я не говорю уже о существе чужом, но и человек, кем бы он ни был, судит по нормам своего времени, своей культуры. И те же кровавые страницы можно пробежать глазами современника этих событий. У него своя совесть, своя, стало быть, и оценка. Совесть первобытного человека — инстинкт. Это значит, он никогда не идет против совести. Первобытный человек вообще безгрешен. А часто ли грешат дикари? Да, дикарь может сварить суп из своего дедушки, разбить череп больному ребенку, вонзить копье в спину охотника из соседнего племени. Но разве это противно его совести? Стало быть, и здесь все в порядке. А если ты воспитан в святой вере, что раб (или христианин, или еврей, или мусульманин, или неверующий, или человек другой национальности, или вор, или колдун, или просто живущий в другой стране, местности, деревне) должен быть наказан — побит, искалечен, повешен, сожжен, четвертован, убит из обреза, прошит очередью из автомата Калашникова, то разве грех выполнить свой долг? Давно ли — лет сто тому или двести — жизнь человека приобрела столь большую ценность в глазах самих же людей? И сразу же (надо так случиться!) кривая убийств, говоря языком статистики, резко пошла вверх. Почему?
Однако Андрис и Велько тем временем перешли к последней странице.
«…собрать воедино сильных мира сего, власти предержащие, сеявшие смерть безнаказанно и бесприказно, и учинить над ними суд.
Допустите теперь, что это совершено, следствие и судебные слушания закончены, преступники отбывают наказание, а дела сданы в архив. И вот вам в руки попадает случайный том этого дела. Только один раз! Цепляйтесь за удачу! Не упустите шанс!! Есть маза заделать нетленку!!!
Книга сия отдается Андрису Рервику в полное и безраздельное владение купно с благодарением великим за долготерпеливое внимание и пожеланиями пребывания в вековечном здравии.
Подпись неразборчива».
Теми же пожеланиями заканчиваю свое письмо и я.
Твой Владимир
P.S. В твоем письме в перечне нехороших людей промелькнул некто Курский. Кто это?
ПИСЬМО ТРЕТЬЕ
Ноябрь 8, Савельева
Дорогой друг!
Прежде чем впрячься в телегу, которой ты дал разгон, спешу сообщить тебе, что в благословенных сих местах вольно дышится, славно гуляется, крепко спится. Нечаянное для ноября просветление природы — «весь день стоит как бы хрустальный, и лучезарны вечера». А тут еще Юрий Иванович (в обиходе — Ереваныч) заколол кабанчика. Собрали на стол прямо за домом, над Волгой. Напомню тебе: это не та Волга-матушка, по которой ходят трехпалубные пароходы и о которой поют привольным басом. Чистая, быстрая, шагов сто пятьдесят в ширину — сродни Вазузе, что впадает в нее чуть выше по течению, она вьется но безлюдью. Глянешь с высокого берега на ту сторону — леса, леса. И дышится славно, всей грудью. В общем, хорошо посидели. И вспомнил я молочно-растительную трапезу Андриса и Велько в избе над Ветлугой. И устыдился.
Не будет ли просвещенное потомство смотреть на нас, поедающих коров и свиней, как мы смотрим на каннибалов? Мне приятна мысль, что уважение к различным формам жизни вкупе с исчезновением нужды заставят землян отказаться от абсурдного раздвоения сознания. Ах, как заливается соловей! Бах — и перепелка в ягдташе. Всеобщее возмущение: хулиган свернул голову меньшому брату — лебедю Петьке. А мой сосед, тот лее Ереваныч, человек исключительных качеств, на днях оттяпал башку своему гусю, специально для того откормленному. И сегодня вот — зарезал поросенка Митьку. А чем поросенок Митька хуже лебедя Петьки?
Мы с тобой, тем не менее, все это жрем, но если такого кабанчика, или кролика, или еще какую живность понадобится прикончить, отвернем морду — фу, какие жестокости. Дочка вон уж тараканов не давит — особенно маленьких жалеет, детки ведь! И на одной газетной полосе умилительное фото теленка дается рядом с аршинным восторженным: Новый! Весьма! Автоматизированный!! Мясокомбинат!!! Фабрика по убийству таких вот телят. А когда фабрика, когда убийство индустриально — о, тогда легче. Конвейер несовместим с нравственными сомнениями.
Конечно, в традиционном фантастическом решении пришлось бы кормить народ синтетическим ростбифом или искусственной куриной гузкой, но не хочется. Потому я вижу этих славных ребят вегетарианцами — не по необходимости, не по принуждению, не по нравственным установлениям даже — просто они не будут есть мяса столь же естественно, как мы его едим. Или — как мы не едим асбестовой крошки. Им просто это в голову не приходит.
Правда, помимо стороны нравственной, есть и научная. Широко известно, что человеку надлежит быть здоровым и жить долго.
И коли без куриной гузки и телячьего ребрышка соки в нашем организме начнут обращаться не так, как им следует, да еще прекратят это обращение раньше, чем ежели с ребрышком, то хотел бы я посмотреть на того начальника, которому секретарь даст в руку перо и скажет:
— Тут вот подпишите документик.
А начальник берет перышко и спрашивает:
— Что это я подписываю?
— Да так, — отвечает секретарь, — указец один. Некоторые нововведения в части питания населения.
— Что за нововведения такие?
— С сего числа прекратить употребление в пищу мяса убитых животных.
— Так, так, — говорит начальник и пером прицеливается. — Прекратить… убитых… Так что ж их теперь живьем, что ли, есть? Ну, положим, это, цыпленка, или еще какую птицу, или там кролика — это мы сдюжим. А свинья, к примеру, или тем паче корова — разве ж она даст? Нет, братец, не подготовлен указец. Не буду подписывать.
— Да нет, — хлопочет секретарь, — не в том смысле, что убитых нельзя, а живых можно. А в том, чтобы вообще, значит, без него, без мяса.
— Без мяса? Да ты что! Мне ж доктор велел — правда, постное, но каждый день. У тебя виза органов здравоохранения есть?
— Визы нет.
— Ну и иди со своим указом.
Однако не все так безнадежно и с медицинской точки зрения.
Вполне почтенный геронтолог из Калифорнийского университета порадовал меня недавно результатами своих тридцатилетних изысканий: он кормил впроголодь крыс (мяса — ни-ни), и они весело и энергично прожили в два раза дольше, чем их досыта евшие родичи. Именно весело, или, научно выражаясь, сохраняя поведенческие элементы молодых особей.
Лелея память об этих крысах, я возвращаюсь в дом Андриса — продолжить повествование. Но две занозы мешают мне. Первая: что, если балансирующий на гребне научно-технической революции читатель возмутится фигурой почтальона Лааксо (почему, кстати, Лааксо, почему, скажем, не Шибанов? Почему не Спирос Луис?)?
Вдруг неведомо ему, читателю, что к тому далекому времени люди прочно позабудут обычай связываться друг с другом посредством автоматической электронной почты с дисплеями, роботами-доставщиками, радиопередатчиками в наручных часах и прочей дребеденью. По улицам будут ходить живые почтальоны в синих форменных фуражках и стучать в двери. Не исключено, что каждые двести-триста лет может появляться умник, облеченный властью, который сочтет, что письмоносец из плоти и крови есть преступное расточительство творческого потенциала человечества. «Упразднить!» — скажет такой умник. И почтальонов засадят писать романы или программы для компьютеров. Будем поэтому считать, что наши герои действуют в благоприятный для почтальонов период.
Тем более Лааксо, он же Шибанов, он же Спирос Луис, в этой должности вроде бы временно. Раньше, видимо, был хроноскопистом или ксеноэтнографом, а теперь вот хочет идти в палеоботаники. Так что будем считать это дело улаженным.
Вторая заноза связана с велосипедом. Напрашивается крохотное велоотступление. Удивительное создание — велосипед. Сродни самолету. С похожими судьбами по сю пору, но с различными — в будущем. Они начинали в одно время — воздушный змей с мотором и разноколесный уродец. Понемногу оба менялись, но вполне еще ладили в послевоенные дачные дни. Везешь кого-нибудь на раме, виляя рулем. Сверху гул. Ты спускаешь одну ногу на землю.
Кто-нибудь похожий на белобрысую тонконогую Марью Лааксо слезает и стоит рядом. И мы смотрим в небо, следя за далеким трескучим насекомым. Оно летит неторопливо — из-за великости расстояния — и долго показывает серое брюшко. Это позже самолеты превратятся в холодные ревущие стрелы, уже ненаблюдаемые с велосипедного седла. А потом вымрут — пропавшее звено между воздушным змеем и ракетой. Змей останется примерять маски — то дельтаплана, то птеролета. Ракеты разрежут на железные бочки и будут держать в них солидол и капусту. А велосипед, сменив нудный бег и жеманную аэробику, спасет человечество от мышечной вялости. На нем будут ездить по-прежнему, и не только почтальоны.
Видишь, Андрис уже остановился, Марья соскочила с рамы, и они, запрокинув головы, что-то напряженно ищут в опустевшем высоком небе. Впрочем, это было вчера утром. Сейчас сумерки. Лааксо садится в лодку, оснащенный для вечерней рыбалки. Марья отправляется гулять с рыжим английским кокером по кличке Никси.
А Велько и Андрис открывают тяжелый бурый переплет с позеленевшими завитушками. Так начинается
глава вторая
Нет, решительно не могу приступить к дальнейшему повествованию, не открыв тебе прежде озабоченности, одолевшей меня при мысли о том, каково нашим героям-вегетарианцам читать эти мясоедные ужасы. У них, поди, в связи со всеобщим благоденствием и по рекомендации нашего прославленного кукольника нежные души с детства защищены от всего страшного. А что есть страшнее смерти, смерти насильственной? Я думаю, в тамошних изданиях волку не вспарывают брюхо, а если и совершают такую операцию для извлечения бабушки и внучки, то непременно под наркозом с последующим зашиванием и залечиванием. Со школьниками немало хлопот. Их ведь нужно питать классиками, иначе прервется культурный процесс. Ну, скажем, с Тургеневым все в порядке. Выкинуть абзац, где он сообщает, как весело было ему смотреть на подстреленных кургузых уток, тяжко шлепавшихся об воду, — и практически все. Но сколько возни с Гоголем! Куда девать запорожцев, молодцевато побросавших в Днепр все еврейское население Сечи? Евреи утонули, смешно дрыгая ногами, а веселые хлопцы отправились гулять по Польше, жечь алтари с прильнувшими к ним светлолицыми полячками, поднимать на копья младенцев.
Все эти безобразия, искажающие героический образ Тараса, придется убрать…
Итак, Андрис и Велько сидят за книгой, и могучее воображение режиссера начинает работать.
— Ты представляешь этот зал — тесный и безграничный одновременно? — сказал Андрис, подняв глаза от страницы. — Толкутся судейские — секретари, адвокаты, присяжные, прокуроры, стражники, судьи, повытчики, барристеры, стряпчие, атторнеи… Может быть, они поют?
— Секретаришко, — подхватывает Велько, — тоненько выводит, со слово-ер-сами. Красавец адвокат, борода холеная, — бархатистым баритоном…
— А вот прокурор, похожий на сову с тайной печалью во взоре, унылым речитативом перечисляет приобщенные к делу вещдоки: топоры, плахи, виселицы, винтовки, наганы, яды, доносы…
Костры.
Кресты.
Крематории.
В соседнем помещении, тоже немалом, подсудимые толпятся у бака с водой, пьют из прикованной цепью кружки, вытирая усы, сидят на полу и лавках (кто побойчее, ухватил место), выпрашивают покурить у конвоира и галдят, галдят…
— Вы здесь не стояли, — говорит Ирод Великий Наполеону Бонапарту. — И вообще, отдайте кружку.
Наполеон рассеянно отходит. Он задумчив. Он шлифует в уме защитительную речь. Составляет мысленно список свидетелей. Нет той жертвы, которую он ни принес бы Франции, ее свободе, миру и процветанию. Разве не французский народ благословил его на кровавый и славный путь? Кто был в той толпе, что ревела у стен Елисейского дворца душной июньской ночью пятнадцатого года: «Не нужно отречения! Да здравствует император!» Лишь одна подробность, засевшая в фантастической памяти Наполеона, не давала ему покоя, когда он брезгливо протягивал оловянную кружку толстому, дурно пахнущему царьку. Те четыре тысячи турок, сдавшихся в Яффе. Им обещали жизнь, и они сложили оружие.
Три дня сидели пленные в сараях. На четвертый он велел их расстрелять. Все четыре тысячи. Турок выводили на берег партиями по сто.
И так сорок раз. Два офицера, командовавшие расстрелом, бились в истерике.
Наполеон снял шляпу, отер пот. Ведь будет очная ставка. Надо посоветоваться с Цезарем, как себя держать. Найти его. Один из немногих приличных людей в этом сборище. Цезарь. Император снова надел шляпу, заложил руку за борт гвардейского егерского мундира и решительно зашагал на поиски учителя, едва не боднув верзилу в старомодной треуголке и пыльных сапогах, который грыз ногти, топорщил кошачьи усы и сверкал белками.
Усатый верзила, видимо, тоже был озабочен воспоминанием, крохотным пятнышком, вкравшимся в блистательную череду славных дел. Может быть, вспомнил он, что проведением благотворных для государства реформ истребил пятую часть своих подданных?
Нет, то было во славу отечества. Другая мысль смущала. В Трубецком бастионе Петропавловской крепости прочли царевичу приговор — повинен смерти. Наутро, уже приговоренного, велел он царевича пытать, дабы всю истину допрежь смерти открыл. И только после пыток послал к сыну четверых близких людей — задушить.
«Прими удел свой, яко же подобает мужу царской крови», — говорили они. Но не слушал царевич, а плакал.
Петр шляпу снимать не стал — покрепче корсиканца. Но посоветоваться тоже был не прочь. «Кто тут из нашего брата, из царей, своих детей убивал?» — напряг он память. Взгляд натолкнулся на группку незатейливо, почти одинаково одетых людей, сбившихся в кучу, поймал на мгновение глаза одного, второго — и метнулся в сторону. Такая жуткая мертвечина стыла за стеклами очков и пенсне, прикрывавших эти уныло схожие одутловато-усатые лица, что венценосный сыноубийца содрогнулся, свернул в сторону и пошел искать репинского старика с горящим взором.
А мертвые взгляды из-за стекол в надежде и страхе стремились к одной точке. Там, один среди базара и гомона, стоял он — их вожак, их пахан, их отец, их кумир. Сейчас оживет его хрупкая сутуловатая фигура с неловко висящей левой рукой, мудрая улыбка осветит бесстрастное лицо, и остро отточенный красный карандаш, зажатый в красивых, немужских пальцах, наложит окончательную резолюцию на это нелепое судилище: «Запретить. Виновных — наказать».
— Стоп! — сказал Велько. — Их череда бесконечна. Но разве не наказаны они уже — смертью и проклятием потомков? Принужден был заколоться Нерон. Зарезали Калигулу. Рак не то мышьяк съел Наполеона. Отравился Николай I. Сделал свое дело Брут. Часто ли тираны умирали в преклонном возрасте «при нотариусе и враче»?
— Были, были такие. Возьми хотя бы этого пахана с красным карандашом. Самый крупный в истории изувер, а, говорят, умер стариком и вполне самостоятельно.
— Пусть так, а терзания совести? Ну хоть раз?
— О чем ты, Велько!
— Да и чем их накажешь, кроме самого примитивного ада?
— Не знаю, какой ад ты называешь примитивным. Единственную мне знакомую разновидность я полагаю совершенно неудовлетворительной. Категорически заявляю: мы не можем полагаться на этот институт — нет в нем справедливости. Суди сам. — Андрис снял с этажерки потрепанный том и заговорил с жаром, временами сверяясь с книгой: — Круг первый. Никаких пыток. Умеренный комфорт и какое-никакое озеленение. Однако же атмосфера мрака и безысходности. Снизу — вопли истязаемых, зловонные испарения.
Кто же населяет сию юдоль безбольной скорби? Да цвет человечества! Мудрецы — Аристотель и Демокрит, Диоген и Анаксагор. Поэты — Гомер и Гораций, Овидий и Орфей. Целители — Гален и Гиппократ. И множество других достойнейших людей, лишь тем и виноватых, что жили до Христа. Что правда, то правда, он, Иисус, оттуда кое-кого выручил. Вывел, кажется, Ноя, Авраама с родственниками. Но эта полумера лишь усугубляет несправедливость по отношению к широким массам добродетельных язычников.
Покинем этот круг. Нас ждет второй, где адский, ветер гонит, и корежит, и тяжко мучит душ несчастных рой, стенающих во мраке.
Так за что же их бросили сюда? В чем их вина? Они любили. Милостивый Боже! Зов плоти — грех? Возьми их, Сатана, теперь твои Паола и Франческа. Карай их блуд! Но как их страсть сильна, как полны очи трепетного блеска…
Каких же сладострастников поместил туда Данте? Семирамиду и Клеопатру, Париса и — Бог весть за что — безупречного рыцаря Тристана. Живи поэт позже, он отправил бы в круг второй Каренину с Вронским, Эмму с Леоном, да и Федора Ивановича Тютчева с Денисьевой не пощадил бы.
Быть может, ниже, в третьем круге, найдем мы справедливость?
Куда! Кто там гниет под вечным дождем, тяжким градом, оскальзывается на жидкой пелене гноя? Насильники и убийцы? Грабители и растлители малолетних? А вот и нет. Там, в ледяной грязи, ворочаются… любители хорошо поесть. Достойнейшие мужи могли оказаться среди них: Гаргантюа и Портос, Ламме Гудзак и Афанасий Иванович Товстогуб, Петр Петрович Петух и Евгений Дамианидис.
А ты, Велько, ты не украсил бы эту компанию? О, я знаю множество людей, наделенных редкими качествами, которые, после хорошей лыжной прогулки в ожидании электрички извлекают из рюкзака термос с кофе и промасленный пакет, набитый крупными, ладными бутербродами с ветчиной. И модус операнди этих людей в отношении означенных продуктов напоминает действия льва, настигшего антилопу после трех дней погони. Я так и вижу симпатичного Питера (Пьера, Педро, Пьетро, Петю), безмятежно поедающего пудинг (луковый суп, жареную форель, пиццу, горшок щей) и спокойного за свою судьбу, меж тем как судьба подбирается к нему с гнусными намерениями. «У меня свои виды на тебя, Питер, — говорит судьба. — Ты, Пьер, обжора. Чревоугодник. Раб желудка, вот ты кто, Петруччо. Нельзя без омерзения смотреть, как ты жрешь эти пельмени. А потому мокнуть тебе в зловонной жиже до Страшного суда»[1].
Поехали дальше. Круг четвертый. Скряги и расточители сшибаются стенка на стенку. Мне почему-то жаль и тех и других. Жизнь скупца и так безрадостна: отказываешь себе во всем, куска недоедаешь — и, здрасте, получай в морду. А те, что с широтою и блеском раздают свое добро, вообще мне симпатичны[2]. И вдруг — на тебе, пожалуйте в четвертый круг на вечное поселение, со скрягами драться.
Проблеск справедливого воздаяния усматриваю я в круге пятом, где вязнут в болоте гневные. Действительно, согнать всех хамов в одно место, где каждый может хорошо постоять за себя, — удачная мысль. Никто не ограничивает их свирепости. Рви друг друга в клочья ко всеобщему удовольствию. Но дальше — зрелище, ранящее сердце. В огненных могилах шестого круга пылают еретики и атеисты. Среди них Эпикур. А скольким предстоит туда попасть!
Богатейшая коллекция мучеников собрана в круге седьмом. Чтобы привести все это в относительный порядок, пришлось расселить постояльцев по разным зонам. В первой мы, наконец, находим кое-кого из наших подсудимых. Кто там варится в кровавом кипятке? Так это ж Александр Македонский собственной персоной.
Давно пора. Дионисий Сиракузский, злобный тиран. Поделом. Бич Божий Аттила, опустошитель Европы, — туда его. Секст Тарквиний, что вырезал целый город и довел до самоубийства несчастную Лукрецию. В тот же красный бульон швырнул бы Данте многие сотни мерзавцев, в коронах и без, с большим усердием вершивших насилие над ближним. А рядом, в соседней зоне, томятся превращенные в сухие деревья насильники над собою — самоубийцы.
Быть может, та же Лукреция. Увы! Тяготы жизни, потеря любимых, угрызения совести толкают наименее толстокожих из рода человеческого к страшному решению в отчаянной надежде на покой.
Сострадания заслуживают они, не кары! Эх, Алигьери… В третьей, последней, зоне — насильники над Божеством. Вид наказания — экспозиция обнаженного грешника огненному дождю. За богохульство! Не мелочно ли со стороны Всеблагого, Всемогущего, Всевсякого?
Чем глубже мы спускаемся, тем тяжелее, по мысли Данте, грех.
Конечно, не стоит валить в кучу купца, бьющего зеркала в «Яре», старателя в парчовых портянках и нашего с тобой приятеля Мишу, безотказного до такой степени, что, беря у него в долг очередную пятерку, я испытываю стыд охотника, который стреляет по сидящей утке.
В круге восьмом казнятся обманщики — что же, обман гнуснее насилия? Здравый смысл восстает. Обманщики распиханы по рвам и траншеям. Обольстителей и сводников бичуют бесы. Туда каким-то чудом попал Ясон, который, как показало углубленное изучение его жизненного пути, до встречи с Медеей обольстил лемносскую царицу Гипсипилу[3]. Мелькают щели с льстецами, влипшими в зловонный кал, продавцами церковных должностей, чьи пятки прижигают черти, прорицателями — скрученными и пораженными немотой. Наказали последних остроумно: повернули лицом к собственной спине и лишили речи. Дескать, непостижимо будущее. Долой прогноз.
Фантасты, знайте, что вас ждет. А вот изо рва ползет запах соснового бора в знойный июльский полдень. То мздоимцы плавают в кипящей смоле. В свинцовых мантиях плетутся лицемеры, топча распятого тремя колами главного из них — Каиафу. Не постигаю, почему причтен сей клирик к лицемерам. Не искренен ли он был, утверждая, что смерть Иисуса убережет от гнева римлян весь народ иудейский? Однако — дальше, дальше, дальше. Вот Одиссей и Диомед, заключенные в огненные оболочки, — приговор военной хитрости. В толпе клеветников, которых треплет лихорадка, раздувает водянка, мучит чесотка, мелькнула обезумевшая от страсти жена Потифара, возведшая напраслину на Иосифа и тем, по капризному решению судьбы, обеспечившая его взлет к славе. В искромсанном теле с зияющим нутром — казнь для зачинщиков раздора — я узнаю Магомета. И покидаю этот круг…
Здесь, Владимир, я вынужден остановить Андриса. На сей раз просто невозможно ограничиться сноской. Рервик так спокойно прошел мимо терзаемого в аду Магомета, а ведь это ярчайшая иллюстрация непригодности Дантовой преисподней для восстановления справедливости. Решительно не могу молчать. И посвящаю Магомету нижеследующее
отступление
Юноша, смуглый и тощий, редко появлялся на главной площади Мекки у стен кубического храма. Да и когда ему было глазеть на неиссякаемый ручей паломников к Черному камню? Овцы не станут ждать, пока пастух наглядится на цветастую и пахучую мекканскую толпу. Но когда толкался он у колодцев и постоялых дворов среди торговцев изюмом из оазиса Таиф, серебряными слитками из северных рудников, йеменскими благовониями и всеисцеляющим ревенем, слоновой костью и рабами из Африки, индийскими пряностями, китайским шелком, византийским бархатом, когда стоял он в этой круговерти, оглушаемый ревом ослов и верблюдов, смутная тревога поселялась в его душе. «Отец, — попросил он как-то Абу Талиба, старейшину рода, — ведь и ты посылаешь караваны, я знаю. Разве не возил Омар кож в Палестину? А большой табун не погнал ли Асакир византийскому императору? Пусти и меня с караваном».
— «Куда тебе, бедняга, — качал головой старик. — Или забыл ты о своем недуге? Кто поможет тебе в пути, если в полную луну постигнет тебя приступ, и ты станешь кататься по земле, есть песок и раздирать одежду?»
И немощный мальчик возвращался к своим баранам в буквальном смысле слова и снова брал в руки пастушеский посох с крючкообразно загнутым верхним концом.
Как проклинал он болезнь, делавшую его не пригодным ни для какого ремесла, кроме пастушества! Однако время шло. Вольная жизнь на пастбищах и простая пища сделали свое дело. Приступы повторялись все реже, пока не прекратились вовсе. Но лишь в двадцать с лишним лет удалось Мухаммеду изменить свою судьбу.
К тому времени случалось ему ходить с караваном и в Сирию и в Йемен — пока простым погонщиком. Добрая слава, которую заслужил расторопный и честный Мухаммед, дошла до Хадиджи, богатой вдовы из Мекки. Почтенная женщина сорока с лишним лет взяла его в услужение. Теперь он водил караваны своей хозяйки. Но когда пестрота мира стала ему доступна, Мухаммед потерял к ней интерес. Все больше времени проводил он в уединении. Забытые приступы стали возвращаться к нему. Но теперь он не бился в припадках, не катался по земле. Мухаммеду являлись видения и звуки иного мира, и он боялся признаться в этом даже Абу Талибу, который всегда был добр к нему, даже Хадидже, которая его полюбила.
А вскоре после их свадьбы он поделился с Хадиджой страшным для суеверного араба подозрением: «Я вижу свет, я слышу шум и лязг, а иногда голоса. Я, наверно, одержим духами. Мне страшно, Хадиджа». И женщина, в чувствах которой смешались нежность жены и самоотречение матери, утешала его как могла. Проходили дни.
И снова, бледный и худой, бродил Мухаммед вокруг холма близ Мекки, взывая о помощи к богам. Не раз взбирался он на вершину и подходил к обрыву. Здесь вспоминал он мерную речь монаха-несторианца о Боге-отце, чей голос прозвучал когда-то в сердце Исы, сына Мариам. Голос, возвещавший о будущем небесном царстве, но и о предваряющем это царство Страшном суде. И вот однажды…
У меня нет сомнения, что в чистом поэтическом восторге Мухаммед действительно услышал этот голос. Через пятьсот лет другой поэт и мудрец скажет: «Если слова в сновидении ясны и отчетливы, а говорящего не видно, значит, произносит их Бог». Правда, Мухаммед не посмел принять эти звуки за голос самого Бога. То был, как сказано, посредник — Джибрил. В смятенных и полных страсти стихах сообщает Мухаммед соотечественникам первые наставления единого Бога. Он захлебывается, спешит. Не договаривает фраз.
И мощный напор откровений, ставших впоследствии первыми сурами Корана, сумасшедшая фантазия, дробный ритмический узор — не мыслей, скорее звуков — обрушиваются на слушателей и… разбиваются о враждебность шейхов, холодный здравый смысл купцов, суровый герметизм иудеев. А Мухаммед твердит, что послан на землю возродить веру Ибрагима, оскорбленную идолопоклонством бедуинов, обожествлением Исы христианами, попранием священных заветов евреями. Стихи возникают в его мозгу уже готовыми подобно тому, как Кольриджу явились строки Кубла Хана. Немногочисленные друзья боятся за Мухаммеда. Их тревожит его состояние крайнего телесного изнеможения. А другие… Когда он с яростью осуждает мерзости язычества — в том числе обычай закапывать живыми новорожденных девочек, — когда объявляет, что нет божества, кроме единого Бога, когда рассказывает древние легенды о пророках, его встречают насмешками и презрением. «Он слышал эти байки от христианина, что торгует браслетами у главного фонтана», — говорили о Мухаммеде. «Сотвори чудо!» — ерничали продавцы шербета и банщики. Женщины показывали на него пальцем и шептались: «С такими деньгами Хадиджа могла найти себе почтенного человека, пусть и постарше этого сумасшедшего». Лишь верная Хадиджа была с ним. И Голос, певший в нем: «Ни светлым утром, ни темной порою твой Бог не покинет тебя, Мухаммед.
Знай, есть жизнь за могильным порогом, и будет она лучше нынешней твоей жизни. Ты получишь щедрое воздаяние. Разве Бог не нашел тебя сиротой — и приютил? Не нашел тебя блуждающим — и направил? Да не обидишь ты сироту, не отвернешься от нищего».
Не то же ли говорил галилеянин? И не был ли он так же осмеян в родном Назарете?
Пророк не имеет чести в своем отечестве — про себя он сказал это, и про Мухаммеда. Нищие и рабы окружали Иисуса. Рабы и нищие идут за Мухаммедом. Почтенные жители изгнали Иисуса из города, где он родился. И он ушел в Капернаум. Мекканская, знать вынуждает Мухаммеда бежать в Медину.
Но ушел он не прежде, чем позаботился о безопасности своих немногочисленных последователей. И не прежде, чем потерял двух самых близких людей — Хадиджу и Абу Талиба, умерших почти в один день. И не прежде, чем поразил паломников своей последней в Мекке проповедью: «Знайте, о вы, поклоняющиеся камням, что грядет время, когда солнце отвратит свой лик, когда звезды погаснут, когда волосы детей побелеют от горя, а души подобно рою саранчи покинут могилы, когда заживо погребенная девочка услышит Его вопрос: за какое преступление ее умертвили? И будет открыта книга, и каждая душа узнает, что ей воздастся. И услышится голос Бога, вопрошающего ад: «Полон ли ты?» И ад ответит Богу: «Еще, дай мне еще!» Из Мекки ушел поэт, в Медину пришел законодатель и воин, мудрец и политик. Но ведь и Иисус, вернувшись в Галилею, сказал: «Царство небесное силою берется». И хотя жар и гармония покинули новые суры, обернувшиеся напыщенными проповедями или скучными предписаниями учителя и вождя, Мухаммед сохранил врожденное чувство справедливости и терпимость. В его мединской общине вместе с последователями новой веры живут язычники и евреи. Кончалась история отдельных арабских родов, начиналась история единого народа.
А далее, увы, шло привычное перерождение человека, получившего власть и уверовавшего в свою непогрешимость. Кто знает, каким стал бы Иисус, не прервись его путь на Лысой горе. Ибо сказал: не мир пришел Я принести, но меч.
Мухаммед забыл собственную заповедь — насилие и вера несовместны.
Он проливает кровь, стремясь утвердить свою власть в Мекке.
Он, не бравший второй жены, пока была жива Хадиджа, отбирает жену у приемного сына. Он изгоняет евреев из Медины, грабит караваны.
И Бог его становится мрачнее и мстительнее — то был скорее суровый и жестокий Бог Иова, чем Бог-отец, дающий высшее утешение и убежище. Тут расходятся дороги Мухаммеда и Иисуса.
И все же…
Мухаммед искоренил пьянство и азартные игры — два порока, которым арабы-язычники предавались с особой страстью.
Мухаммед проклял обычай приносить в жертву младенцев и саму память об этом сделал отвратительной мусульманину. Говорят, Омар, сподвижник Мухаммеда, суровый и яростный защитник веры, пролил в своей жизни лишь одну слезу. Он вспомнил, как в темные прежние дни положил в могилу свою дочь и рука ребенка смахнула песок с его черной жесткой бороды.
Мухаммед, не успев отменить рабство и многоженство, ввел в обиход немало законов в защиту рабов и женщин. Он упразднил ту легкость, с которой мужчина мог выгнать жену из дома, повинуясь любой прихоти. Он запретил обращать в рабов мусульман и повелел считать свободным ребенка, рожденного рабыней от ее господина.
Чем сетовать, что Мухаммед не сделал большего, следует удивляться тому, как много им сделано. Он вывел свой народ из невежества, сплотил под знаменем ислама и дал ему место в истории цивилизации. А слова, которые вырвались тринадцать веков назад из его мятежной души и были встречены насмешками и бранью, изучают мудрецы в Берлине и Оксфорде — городах, которых не существовало в его время, в Мекке, где он родился, в Медине, где он умер, в Дамаске и Иерусалиме, куда ходил он с караванами, во всем мире, вместе со словами другого пророка, услыхавшего голос Бога.
Я вижу их рядом: Мухаммеда, сына Амины и Абдаллаха, и Иисуса, сына Марии и Иосифа. Они стоят на холме — близ Мекки или у Мертвого моря, смотрят перед собой. Видят ли они горящих альбигойцев, варфоломеевскую резню, гибель Сасанидской империи, крушение королевства вестготов, залитую кровью Византию, крестоносных мучителей? Если видят, то, как мне кажется, берутся за руки и вместе спускаются в тот самый восьмой круг ада, из которого Андрис собирается выходить.
— Теперь, — витийствовал Рервик, — мы в последнем круге, где собраны предатели всякого разбора. Нельзя не согласиться, что предательство являет собой омерзительнейшую сферу в богатой гадостями практике человеческих отношений. Обмануть доверившегося — за это положено вмерзание в лед по шею. Но сколь различными оказываются люди, объединенные таким приговором.
Возьмем хотя бы четверых, получивших известность в истории.
Ганелон, погубивший Роланда, — с ним все ясно. Типичный предатель военного типа, одна из гнуснейших разновидностей. Не принуждаемый к предательству ни пытками, ни угрозами, ведомый одною злобой и завистью. Там ему, в ледяной глыбе, и место. А вот три самых, по мнению правоверного католика и почитателя власти, страшных грешника, терзаемых Люцифером: Брут, Кассий, Иуда.
Тут мы вступаем в сложные отношения с историей. Брут и Кассий — убийцы? Да. В позднейшей терминологии — террористы? Пожалуй. Но и тираноборцы. Республиканцы. Как тут быть с Якушкиным, который, «казалось, молча обнажал цареубийственный кинжал»? С Каховским, застрелившим генерала Милорадовича?
Каракозовым? Желябовым? Перовской?
С Иудой еще сложнее. Беря Иуду как символ предательства, мы смело и холодно отворачиваемся от него. Но символ не страдает в преисподней. Там его муки просто обозначены. Возьмем Иудучеловека. Молодого фанатичного парня из маленького галилейского городка, глубоко верующего в загробное воздаяние каждому по делам его. И открывающего Иисусу двери в вечное блаженство после короткого страдания, а себя обрекающего на вечные же страшные муки. Абсурдно полагать, что предание Христа Каиафе объясняется жадностью Иуды. Да он мог просто уйти с общинной кассой, положив в карман куда больше тридцати сребреников. Вот и приходится задуматься, кто, собственно, искупает вину рода человеческого — учитель или ученик?[4]
Андрис умолк и втиснул книгу в щель на этажерке.
— Так что мы можем сказать после этой прогулки по аду? — сказал он после паузы. — Какие сделать для себя полезные выводы? Какой извлечь, как говорится, урок? А может мы сказать, что этому учреждению не хватает справедливости. И мы не имеем права доверить ему воспитательные функции, а вынуждены принимать спои меры, Андрис снова замолчал. Велько облегченно вздохнул.
И я кладу перо и вздыхаю, радуясь окончанию этой затянувшейся речи о преисподней, этой главы, да и всего письма.
Твой Андрей
P.S. Отвечаю на твой вопрос. Курский — какой-то чин то ли НКВД, то ли министерства юстиции 30-х годов. Идеолог системы устрашения и пыток для получения нужных показаний подследственных.
По непроверенным данным, Курскому принадлежит идея транслировать в камеру заключенного запись стонов и криков его истязаемых близких — похвальное понимание роли научно-технического прогресса в деле защиты революционных завоеваний. Подробнее о Курском можно прочесть в книге Абдрахмана Авторханова «Технология власти».
ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ
22-е декабря, Москва
Андрей!
Буде герои наши возьмут в привычку произносить протяжные комментарии к шедеврам мировой культуры да еще побуждать нас к пространным отступлениям о пророках, читатель заскучает, отложит в сторону наше произведение и скажет: «Нет, это не по мне. От такого чтения скисает молоко. Вы мне подайте прозу энергичную, динамичную, захватывающую!» Действия, стремительного развития событий ожидает читатель, а потому Андрис и Велько должны незамедлительно приступить к делу. Начало следующей главы застает их в разгар предсъемочной суеты. Рервик принял решение снимать грандиозный многосерийный исторический фильм — нет, цикл фильмов, объединенных идеей суда над тиранами всех времен и народов. Сейчас он озабочен подбором актеров для сюжета о Генрихе VIII, мрачном убийце великого Томаса Мора, а также множества своих жен и сановников.
Итак,
глава третья
«De lege Contra diaboli Ad majorem Dei gloriam[5] повинна костру…» П. Гуров
- Теснитесь ближе к тюремной телеге,
- Смейтесь гримасе боли.
- Плюньте в глаза. Бросьте последний укор им.
- Проститутка, инок —
- Проклинайте живущий еще, трепещущий труп!
— Вам нужен звукооператор.
Смуглый мужчина в льняной рубахе и синих тесных штанах произнес эти слова без вопросительной интонации. Он был поразительно худ и высок. Окажись он в поле зрения Евклида, втолковывающего свои постулаты толпе туповатых учеников, тот с радостью использовал бы его как учебное пособие. «Посмотрите! — вскричал бы геометр. — Сколь наглядно иллюстрирует этот человек данное мною определение прямой линии как длины без ширины».
— У меня есть звукооператор, и не один. — Андрис, озадаченный нитевидностью посетителя, не хотел обрывать разговора. Он уже прикидывал ему место в кадре. — А впрочем, что вы умеете?
— Все.
В дверь просунулась голова Велько.
— Будешь смотреть пробы на Анну Болейн?
Андрис кивнул и медленно пошел к выходу.
— Боюсь, эту способность трудно использовать. Нам нужны люди, которые делают не все, а то, что нужно режиссеру. Может быть, хотите сняться? Я найду вам роль.
— Нет.
— Почему?
Краткий и решительный отказ удивил Рервика.
— Догадываюсь, что вызвало ваш интерес.
— Да, у вас редкая внешность. Разве есть что-нибудь зазорное в моем желании использовать это ваше качество?
— Эй, рожа, не хочешь ли сыграть Квазимодо? А вы, девушка с крысиным лицом, приглашаю вас на роль Шушары в мюзикле «Буратино на Альдебаране». Ты, толстобрюхий с мордой-сковородкой, если неделю попостишься, чтобы влезть в кадр, сыграешь сразу всех трех толстяков…
— Мне нравится ваш способ изъясняться, — сказал Андрис. Пойдемте со мной, я посмотрю, на что вы способны как звукооператор.
На закате, за час до разбора с Михой Льяном роли Генриха, Андрис и Велько встретились в «Шаланде» — крохотной харчевне в двух шагах от студии. Они уселись на раскладных брезентовых табуретах под навесом, лицом к морю, и Велько немедленно швырнул пригоршню мидий на раскаленный железный лист, устроенный над каменным очагом. Солнечный шар коснулся воды.
— Сейчас придет Год, — сказал Андрис.
— Год?
— Тот, что просился в звукооператоры.
— А-а-а. — Велько принялся кропить мидий лимонным соком.
— Он гений.
— Угу. — Вуйчич выбрал моллюска покрупнее и со свистом втянул в рот.
— Слабая реакция на такое сообщение.
— Я просто хорошо владею собой. В глубине души я потрясен количеством гениев, занятых в нашем фильме.
— Много гениев?
— Суди сам. Гениальный режиссер — раз. — Велько сидя шаркнул ножкой. — Гениальный исполнитель роли Генриха — два. Гениальный, как выясняется, звукооператор — три. И наконец… — Велько сделал профессиональную паузу.
— Наконец? — поддался на провокацию Андрис.
— Ну, мне, право, неловко так говорить, но все же, если смотреть правде в глаза, мы не можем пройти мимо очевидного факта, что помощник режиссера…
— Да, да. И все же Год — гений. Ты не представляешь, что он сделал с фонограммой пигалицы, которую ты имел наглость предложить на роль Анны.
— Ай-яй-яй.
— Этот завалящий голосишко Год снабдил богатейшими модуляциями. Патетическими, вкрадчиво-доверительными, жалобными, жестокими. Я бы с закрытыми глазами взял эту девицу на роль Медеи.
— Что же не взял?
— Во-первых, мои глаза были открыты, а во-вторых, я не снимаю Медею, остолоп.
— Кто остолоп?
— Ты жуешь непрерывно третьи сутки, в то время как я пытаюсь говорить о серьезных вещах, — торжественно сказал Рервик.
— По-твоему, мидии — вещь несерьезная? Хорошо, сейчас подадут копченого угря, и я посмотрю, сможешь ли ты устоять против него.
— Когда я спросил, где он научился, подобно кузнецу из сказки, ковать любой голос, он сказал, что озвучивал хронику с речами Цесариума.
— Чьими речами?
— Вот и я спросил, чьими. Цесариума, сказал Год. Цесариума с большой буквы. «Вы слышали о Лехе? — спросил он. — Впрочем, откуда вам. Завалящая планета. Глухая провинция. Большого резонанса тамошние события не имели».
— Лех, Лех, — забормотал Велько. — Рецидив единовластия. Более десяти лет никаких контактов. Только-только подключился к Информаторию и заявил о своих нуждах, желании принимать туристов. Цесариум… это, наверно, тот самый Болт, которого они скинули в прошлом году, отдав власть фронту национального спасения.
— Ты жутко много знаешь, Велько, — сказал Андрис восхищенно. — Так вот, Год оттуда. Большой патриот Леха. Предложил снимать наш фильм именно там.
— И не без оснований, — раздался глухой голос, и Год, переставляя бесконечные ноги, подошел к навесу. — В вашем заповеднике не развернуться. Этого не тронь, тут не взрывай, там не мусори. Кругом святыни. Среднюю массовку тысяч на двадцать статистов с пожарами и ракетной атакой — и то снять негде. А на Лехе к вашим услугам огромные незаселенные территории. Пейзаж неотличим от земного. Разве только вымершие деревни — так они пригодятся. Помощь местных властей и населения обеспечена. И поможете, в свою очередь, планете, которая только начинает приходить в себя. Такая большая съемка оживит экономику, привлечет туристов.
— Познакомьтесь, вчера вы виделись только мельком, — сказал Рервик. Велько Вуйчич, мой друг и помощник. Те проблемы, о которых вы только что говорили, — его боль. Авсей Год, звукооператор. Я попросил его послушать наш разговор с Льяном.
Год сложился в несколько раз и тоже занялся мидиями. В отличие от Велько, всасывая их, он не, свистел, а скорее всхлипывал.
— Теперь я не чувствую себя одиноким, — довольным тоном заметил Вуйчич. Приятно беседовать с человеком, знающим толк в истинных ценностях. Я думаю, нам нет нужды идти с Михой в студию. Как хорошо здесь, не отрываясь от важного дела, потолковать о мерзопакостях, творимых средневековым корольком.
Великий Льян, коренастый, с тяжелой походкой и рубленым широконосым лицом, кумир землян и землянок, явился уже «в образе» и, остановившись перед Андрисом, посмотрел на режиссера по-королевски, с затаенной грозной усмешкой. Тот включился безотлагательно.
— Генрих, ты повесил, сжег, четвертовал каждого сорокового из своих подданных. Что побудило тебя к этому?
— То были государственные изменники. Во благо Англии и по велению свыше поднимал я карающий меч в неусыпном попечении о процветании страны, вверенной мне Господом.
Генрих-Льян говорил угрюмо, но твердо.
— В чем заключалась измена, совершенная ими? Ты казнил философов и поэтов, сановников и священников, жен и мелких воришек, крестьян и сумасшедших. И всех — по обвинению в государственной измене.
Генрих снисходительно улыбнулся.
— Измена многолика. Да, она многолика, но всегда направлена против высшего принципа, на охрану которого вдохновил меня Создатель, — принципа неограниченности земной власти монарха.
— Лорд Хэнгерфорд был казнен за мужеложство. Судьи и здесь усмотрели измену?
— Противоестественные связи отвлекали его от служения государю, а недостаток усердия есть измена.
— Ну а Мор. Великий Томас Мор. Ты, мнящий себя мыслителем и поэтом, не мог не понимать, кого посылаешь на плаху. «Его душа была белее снега, а гений таков, что Англии никогда больше не иметь подобного». Так сказал про Мора Эразм Роттердамский. А ты велел выставить кол с головой гения на Тауэр-хилле.
— Мор посягнул на мои права главы церкви, — сказал Генрих после минутной паузы.
— Это неубедительно, — покачал головой Андрис.
— Он отказался признать незаконным мой первый брак и тем внес путаницу в порядок престолонаследия.
— Не то, Генрих. Ты цитируешь учебник истории, а нам с тобой нужна истина. Ты не мог отдать Мора палачу из-за дрязг между Екатериной Арагонской и Анной Болейн.
— Ну ладно. Дело в том, что он молчал.
— Это ближе.
— Он отказался от поста лорда-канцлера, где был мне нужен как помощник и друг. И молчал. Он подавлял меня своим молчанием.
— Подавлял — это совсем близко. Ты помнишь, как тебе пришла в голову мысль покончить с Мором? Это была очередная баллада? Или трагедия? Плод бессонной ночи, когда кусаешь перья, меряешь шагами кабинет, а под утро валишься в постель в полном восторге от написанного? Ты просил Мора прочесть и…
— Я не просил.
— Ну конечно. Просто в общем хоре похвал не было его голоса. Особенно желанного, ибо он один стоил всех. Вот если бы Томас Мор, пусть сдержанно, сказал несколько одобрительных слов…
Генрих сопел.
— Когда все кончилось и вестник пришел сообщить о казни, тебе стало страшно. Ты убивал не впервые, но то было первое столь явное убийство из зависти — от подлого, унизительного ощущения неполноценности рядом с истинным величием. И ты крикнул Анне Болейн…
— Ты! Ты причина смерти этого человека!
— Жалкая попытка обмануть самого себя. Не тогда ли, кстати, ты решил избавиться и от Анны?
Генрих снова обрел твердость:
— Анна нарушила обещание дать мне наследника. Она родила девочку. Это значило, что я женился на ней по наущению дьявола и казнь ее была делом богоугодным.
Андрис презрительно усмехнулся.
— Не корчи из себя дремучего фанатика, Генрих. Ты же не чужд культуры. Знаешь классических авторов. Сам сочинял и музицировал. Изобрел что-то — кажется, молотилку?
— То была телега, которая, помимо перевозки людей и грузов, могла обмолачивать зерно, — с достоинством ответил Генрих. — Специалисты признали это изобретение замечательным.
— Английские специалисты?
— Разумеется. Иностранцы оказались неспособными оценить выдающиеся качества моей машины.
— И ты их изгнал — итальянских, французских, португальских инженеров. Но мы отвлеклись. Помнишь свою драму, главным содержанием которой были бесчисленные измены королевы Анны? Ты сам декламировал перед придворными наиболее оскорбительные для королевского достоинства отрывки. Зачем такое самоистязание? Растравлял рану? Искал оправдания для казни? Как там значилось в обвинительном заключении? «Король, узнав о нечестивых поступках и изменах королевы, был так опечален, что это вредно сказалось на его здоровье». Признайся, Генрих, ты не верил, что Анна изменяла тебе. У нее не могло быть любовников после того, как она стала королевой, — она была слишком умна для этого. Она вообще была слишком умна, чтобы безнаказанно жить как королева и твоя жена. Может быть, и она не очень лестно отзывалась о твоих творениях, изобретениях, военно-политических решениях?
— Она смеялась! Со своим братцем, с Рочфордом! Они осмеивали лучшие, сокровеннейшие строки… — Генрих сорвался на визг.
— Вот видишь, Генрих, и здесь зависть. — Рервик чуть помолчал. — Ты имел обыкновение произносить исторические фразы при вести о казни очередной жертвы. Что ты сказал, узнав, что голова Анны благополучно отделена от туловища с помощью — французская новинка! — меча, а не привычной секиры?
— Я не сохранил в памяти этих слов.
— Зато историографы вашего величества сохранили. «Спускайте собак! Будем веселиться!» Вот твои слова — verbatim. И в тот же день ты женился — в третий, кажется, раз. Один султан приказал удавить свою жену, потому что она потела в неподобающие моменты. То был честный, прямой человек. По-моему, ты по сравнению с этим восточным владыкой — жестокий изувер, лицемерный и лживый.
— Я правил почти сорок лет, и никто не смеет сказать, что я хоть раз проявил неискренность или выбрал окольный путь. Я всегда был верен слову и всегда любил мир…
— Полно, Генрих. Ты не на заседании парламента и не на приеме послов. Поговорим лучше о Кромвеле, твоем главном министре Томасе Кромвеле. Твоем сподвижнике…
Генрих побледнел.
— …твоем поводыре…
Генрих покраснел.
— …организаторе почти всех важных судебных процессов, единственном человеке, которого ты называл своим другом, что не помешало тебе отправить его на эшафот. За что?
— Он напоминал мне об этом ужасном деле, о казни Анны… — сказал Генрих неуверенно.
Андрис только усмехнулся.
— Он подсунул мне эту уродину, герцогиню Клевскую.
— Какой вздор, Генрих.
— Он…
— Он, как и Анна, был слишком проницателен, слишком талантлив, чтобы уцелеть. Сладко было тебе читать его отчаянный вопль в письме из тюрьмы: «Пощады! Пощады! Пощады!»
— Я пощадил его. Я повелел заменить квалифицированную казнь простым отсечением головы.
— Напомни нам, Генрих, от какой же участи избавил ты своего лучшего друга?
— Подвергаемого этому наказанию вешали, затем, еще живого, снимали с виселицы, сжигали ему внутренности, с каковой целью во вскрытую брюшную полость помещали горящую смолу или наливали кипящее масло или свинец либо другую пригодную для данного случая жидкую горячую субстанцию — дело это, кстати, требовало большого мастерства, ибо наказуемый не должен был умереть раньше времени, — после чего преступника четвертовали и обезглавливали.
— Да, ты явил великую милость Томасу Кромвелю. И сказал очередную историческую фразу: «Меня побудили казнить наиболее верного слугу из всех, которых я когда-либо имел». Все были жутко тронуты.
— Я любил Кромвеля! Меня заставили его убить!
— И всех его друзей? И семидесятилетнюю графиню Солсбери, виновную лишь в том, что происходила из рода Йорков, свергнутых полвека тому назад? Ну а последнюю жену, Екатерину Говард, ты мог бы пощадить — такая молоденькая, ей и двадцати не было.
— Я хотел помиловать ее на эшафоте. Это укрепило бы ее чувства ко мне, которые стали ослабевать в силу моего возраста.
— Но передумал?
— Стоя у плахи, она заявила, что всю жизнь любила простого дворянина и хотела быть его женою больше, чем королевой. Не обо мне вспоминала она на пороге смерти, она оплакивала свою любовь и недостойный ее объект, казненный мною накануне. Как мог я простить ее?
— И здесь зависть, Генрих. Зависть к Мору, к нежнейшему поэту графу Серрею, которому отрубили голову за неделю до твоей смерти, к Анне Болейн, к Томасу Кромвелю, к юной, полной любви Екатерине Говард… Вот какое чувство вело тебя, заставляло купаться в крови… Вот что тебе надо играть, Миха, всепожирающую, кровоточащую, беспросветную зависть. Это — доминанта роли. В твоей власти расцветить ее, придать глубину, снабдить оттенками, но не в ущерб главному. У тебя есть вопросы?
Льян, с трудом отделяя себя от Генриха, не отвечал.
— Хорошо, Миха. Встретимся завтра, продолжим разговор.
— В это же время, — прогудел Льян. Он кивнул Андрису, еще раз — в сторону Велько и Года и медленно удалился.
Андрис перехватил безучастный взгляд Года.
— Похоже, вам не по нутру такой разбор роли Генриха.
Год пожал плечами.
— Вам предстоит работать с Льяном. Вы видели его на экране? Как он вам показался?
— Я увидел его впервые сегодня. Сейчас. Он слишком покорен. Может быть, это удобно для режиссера.
— Вы не согласны, что режиссер должен дать актеру стержень, основную линию роли?
— В данном случае — зависть?
— Почему бы нет. История Генриха хорошо ложится в это русло.
Год встал и взялся рукой за подпорку навеса.
— Вы, Рервик, никогда не встречали, не чувствовали, не понимали убийцу ранга Генриха Восьмого. Богатейшая натура изверга и садиста низводится вами до скучной и плоской фигуры. Льяна вы загоняете в примитивную схему: играй зависть — черную, всеохватывающую зависть. Генрих страстно любил Анну Болейн и питал искреннюю дружбу к Томасу Кромвелю. Любит — и убивает. Трагический закон, логика тирании. Здесь таятся куда более глубокие, сложные и интересные для художника проявления человеческой души, чем зависть; как ее ни обряжай. — До той поры глухой, голос Года зазвенел: — Дело в том, Рервик, что для вас Генрих — всего лишь исторический персонаж, кукла. Вы не чувствуете живой плоти этого образа. Вы не жили в его время, рядом с ним. Его психика непроницаема для вас. После того, что я сейчас слышал, мне кажется, вам вообще не следует браться за этот фильм.
— Я еще не получал такой отповеди, — сказал Андрис.
— Это тебе полезно, — отозвался Велько, долго молчавший.
— Но я еще не сдался. Я сопротивляюсь. — Андрис повернулся к Году: — Послушайте, Авсей, согласись я с вами, что будет с планами содействия процветанию Леха? Вспомните, вы только что говорили — оживление экономики, приток туристов.
— Все остается в силе. Вам просто придется снять другой фильм — живую трагедию, ужас наших дней, а не картонные исторические страсти. Вы же документалист, как говаривали в старину, милостью Божьей. Я вам дам то, о чем только может мечтать режиссер, — документ. И Льяну не придется рядиться в средневековое барахло и надувать щеки, изображая чуждого ему Генриха.
— Вы сказали — документ?
— Да.
— Какого рода документ?
— Вам, кажется, по душе исторические аналогии. Представьте, что вы хотите снять картину о Фемистокле, а я подвожу вас к замочной скважине. Вы приникаете к ней и видите курносого крепыша, который под хохот толпы громит бедного Аристида на ареопаге. Вы слышите его хриплый голос и различаете темное пятно пота на пыльном хитоне. А потом стоите рядом с ним на смолистом настиле триеры и щурите глаза от пламени, охватившего Ксерксовы неуклюжие посудины, набитые награбленным скарбом, слышите шипенье головней и шепот соседа, обращенный к густо тонущим персам: «Нету в Элладе покоя для ищущих крови и злата…»
— Я чувствую, Андрис уже готов приступить к съемке фильма о греко-персидских войнах, — сказал Велько.
— Ничего подобного, — возразил Рервик. — Тем более что Фемистокл к нам не ближе, чем Генрих Восьмой. Я думаю, Авсей хочет подвести нас к другой замочной скважине. Выкладывайте, Год, что у вас в кармане?
— Именно в кармане, — сказал Год. Он извлек из складок рубахи голокристалл и включил проектор. Кружевное платьице девочки напоминало бабочку, влетевшую в угрюмый мир ампирного кабинета. Письменный стол в конце сходящейся мраморной колоннады казался резным замком. Человек за столом был неподвижен. Колонны дробили и усиливали голос девочки: «Папа! Папа!»
глава четвертая
О. Мандельштам
- И море, и Гомер — все движется любовью.
— Папа, папа! У Нюкты ушанчики народились, ой, как угольки с усиками. — Девочка захлебывается, глаза горят, колпачок сбился, болтается за спиной на шнурке, башмачки мелькают треугольными лепестками отворотов. — Вели скорее их принести!
Лицо Цесариума обрело подвижность. Он привстал, подался вперед. Два голубых листка слетели на ковер. Сухопарый грациозный горбун, разметав полы розового мундира, бросился на колени — поднимать.
— Зачем приносить, Салима. Нельзя их трогать, они должны быть при матери. — Цесариум встал во весь рост и кивнул горбуну. — Хорошо. Пусть это пройдет по линии куратория личных отношений. Пригласить всю семью, сегодня в шесть. Иди пока, я позову.
Розовые фалды скрылись за портьерой. Немного ссутулившись, Цесариум протянул ребенку большой палец:
— Ну, идем, посмотрим твои угольки. Сколько, говоришь, их у Нюкты? Ты уже придумала им имена?
Спина Цесариума расплылась, заняла весь экран. Появился овальный стол, накрытый на четыре персоны. Все в той же скромной серой блузе, чуть приволакивая ногу, Цесариум водил вокруг стола статного красавца в сиреневой рубахе до пят.
— Ты даже не представляешь, Иоска, как огорчил меня отъезд Купки. Я-то, сентиментальный дурак, думал увидеть вас всех, поболтать за чашкой оло, вспомнить старые дни, перекинуться в тун. Ведь я, подумать только, не видел вашего малыша больше года.
— Что и говорить, редко, очень редко видимся. Знал бы ты, как обрадовал меня твой вызов. — Гость говорил громко, но принужденно.
— Вызов? — Цесариум воздел руки. — Да как у тебя язык поворачивается называть мое дружеское приглашение эдаким сухим словом! Ну — зов, призыв — еще туда-сюда. Да что я тебя заговариваю — за стол, за стол. И запомни крепко, как только Купка с малышом вернутся — ко мне. Пусть дети познакомятся, пусть дружат, кто знает…
Гость почтительно сложил руки.
— О, это такая честь. Мы непременно… Купка будет счастлива…
Цесариум сам разлил вино.
— Ты напряжен, мой милый Иоскега, несвободен. Я не вижу своего старого друга, украшавшего любую пирушку. Вместо него я вижу человека, который пришел к зубному врачу или к начальнику куратория обеспечения свободы. Ха-ха-ха.
Иоскега замер, не донеся до губ бокала желтого итайского вина.
— Ну же, выпей и поделись со мной своими заботами.
Иоскега встряхнулся и заговорил довольно бодро:
— Знаешь, Болт, я действительно испугался, получив твое приглашение.
— Как можно бояться друга?
— Легба был нашим общим другом. Ты пригласил его. Совсем недавно — и месяца не прошло.
— Легба — другое дело. Он якшался с сольниками.
— На ты мог бы…
— Не будем о нем. Дай-ка твой бокал. Вот так. Выпьем теперь за тебя.
— За тебя, Болт.
— Хорошо. За нас. Мы должны верить друг другу. Я, например, верю, что ты мне поможешь.
— Я — тебе? Ты нуждаешься в моей помощи? — Иоскега поперхнулся и отпил большой глоток вина. — Ты нуждаешься в помощи?
— Больше чем кто-либо другой.
— Не могу себе представить. Ты, Болт, ты — Цесариум, — не могу…
— Ну да, суровый и мудрый вождь, никогда не ошибающийся, знающий единственно верный путь, ведущий корабль между Сциллой — сольниками и Харибдой — улитками. Думаешь, я окончательно превратился в чванливого идиота, размноженного старцами из куратория правдивого воспроизведения действительности? Думаешь, я не вижу, что вместо любви и верности, дружеского расположения и нежности мне подносят лесть и страх, ложь и зависть, лицемерие и подлую, трусливую ненависть? Эти рожи, эти гнусные рожи… И только Салима, моя Салима… — Болт помолчал, потом улыбнулся. Жаль, что нет Купки. Она любит малышку. И Салима ее помнит, помнит игру в этого… — Болт поиграл пальцами. В паучка. «Паучок паутинку прядет, он к Салимочке в гости придет». Так пела ей Купка. Забыл, что там дальше.
— «Он бредет вразвалку, ставит в угол палку…» — радостно подсказывает Иоскега.
И они продолжали вместе:
— Ведь девочка не помнит матери, — сказал Болт, помолчав.
Иоскега испуганно поднял глаза.
— Знаю, знаю, что ты думаешь. Жестоко разлучать мать и дочь. И прочее, прочее, прочее. Ты-то должен понимать, что это была не прихоть тирана, а трагическая необходимость. Катукара дала себя запутать улиткам. Стала знаменем изоляционизма. Мне пришлось удалить ее — для ее же блага. Это была жертва — тяжелая, вынужденная жертва. Моя вина, что я не обеспечил защиту. Не предусмотрел, что эти мерзавцы, потеряв Катукару, решатся на убийство. Помнишь слова Мутинги на суде? «Катукара должна была умереть, чтобы всколыхнуть народ на борьбу с тиранией Болта».
— Не все верили в искренность этих слов Мутинги, — робко возразил Иоскега.
— Напрасно. Мутинга был изобличен полностью. У него не оставалось надежды. К тому же нельзя отказать ему в мужестве — он не просил пощады. Продолжал грозить, зная, что его ждет смертный приговор. — Болт вдруг замолчал, последние слова повисли над столом. — Оставим эту печальную тему. Вернемся к тебе, Купке, малышу. Ты запомнил, что я жду вас к себе?
— С радостью придем, Болт. Ты знаешь, если бы ты… не удалился от всех друзей так стремительно…
— Моя вина. И не пытаюсь оправдываться. Но я хочу все изменить. Я вообще подумываю об отставке.
— Ты?!
— Мы с Салимой уехали бы в какое-нибудь захолустье, не замечая восклицания Иоскеги, говорил Болт, — и тихо жили бы… Дом над рекой, небольшой садик, огород. Иногда — не слишком часто — нас навещают друзья. Вы с Купкой…
— Но как же так? Ты — основа, символ, вождь… Ты не можешь. Все может заколебаться…
— Нет, — продолжал свою мысль Болт. — В этом плане есть изъян. Девочке нужно живое окружение. Она захиреет наедине со стариком. Я мог бы послать ее в Систему, поучиться. Может быть, даже на Землю. Как ты думаешь?
Иоскега молчал.
— Но кому передать все это? Вокруг — ни одной достойной фигуры. — Болт поставил бокал и обнял себя руками за плечи. Тяжелый взгляд нашел уклончивые глаза Иоскеги.
— Ты догадываешься, зачем я тебя позвал?
Иоскега страшно побледнел.
— Тебе никогда не хотелось стать?..
— Нет, нет, нет! Ни на мгновенье! Ни желания, ни самой далекой мыслишки, клянусь!
— Ты говоришь так, будто в желании стать первым есть что-то постыдное. По-твоему, я должен стыдиться своего места?
— Нет, нет!
— Своих поступков?
Иоскега издал сдавленный писк и замотал головой.
— Своих людей?
— Ни в коем случае!
— А вот тут ты перестарался. Они дерьмо. Потому я и не вижу среди них своего- преемника. Есть достаточно умные, довольно изобретательные, весьма распорядительные, но…
— Зачем тебе думать о преемнике?
— Но ни один не одухотворен идеей! Я знаю единственного человека на планете, достойного воспринять мою власть и мою муку.
Иоскега отпрянул. Затрещал стул.
— Ты шутишь, Цесариум!
Болт посмотрел на него с удивлением.
— Ха-ха! О Боже, нет, мой милый. Не о тебе речь. Ты давно видел Кунмангура?
— Ты же знаешь, как я живу. Разве могу я встречаться со Слугами? Кто меня допустит к самому Кунмангуру?
— Придется тебе приблизиться к нему. Я хочу убедиться, что он достоин моего выбора. — И после паузы добавил: — Кто лучше моего друга справится с таким щепетильным заданием?
— Но Кунмангур и без того твой преемник по положению, второй человек на планете, достойнейший Слуга, снискавший любовь…
— Я должен быть уверен, что сам он так не считает. Ты станешь его искусителем. Призовешь спасти Лех от чудовищной деспотии Болта, от рабского пути сольников и тупика улиток. И мы увидим, станет ли у него силы духа, мудрости и благородства найти верную дорогу.
— Но почему я? И как?
— Потому что я тебя люблю и верю тебе. А как? Ты найдешь способ. Я помогу.
— Кунмангур уничтожит меня!
— Не преуменьшай свои силы.
— Какие силы у простого чиновника куратория кадров?
— Огромные. Особенно у такого усердного чиновника, который штудирует досье Слуг и, хотя не делает выписок, отличается превосходной памятью. Я всегда тебе завидовал в школе. Стоило прочитать любую ахинею однажды — и ты знал ее наизусть. Масса свободного времени. Да мы все тебе завидовали.
По лицу Иоскеги пробежала судорога.
— Знал? Ты знал? Болт, Болт! Не думай, я не умышлял против тебя. Наоборот…
— Не мели чушь. Твои паршивые студенты начнут раскалываться один за другим. Половина из них пишет регулярные отчеты для КОС. И в учебники истории ты войдешь не как тираноборец, а как холуй сольников, торгующий честью родины, жалкий предатель, падкий на мелкие подачки и льстивые статейки газетчиков прогнившей и погрязшей в пороке и роскоши Земли. Или как наймит улиток, стоящий на пути свободного развития великого Леха. Я подумаю, кем тебя представить.
Внезапно Иоскега успокоился. Налил себе вина. Выпил полбокала.
— Со мной кончено. Я не стану вымаливать легкой смерти. Знай только, не один я выучил эти досье. Не только у меня хорошая память.
— Знаю, мой мужественный и предусмотрительный друг. Знаю, что у Купки прекрасная память и множество других достоинств. С ней все в порядке, надеюсь? Ведь так она пишет милому Иоске?
— Я не получал от нее писем.
— Как! Она не сообщила, что они с малышом в безопасности, что приняли их хорошо, что она положила записи в известное тебе место? Ты не получил письма? Мне придется строго взыскать с моих людей за это упущение.
Иоскега застонал.
— Ты перехватил Свана? Проклятье. Все равно тебе не добраться до Купки. Не посмеешь! Записи станут известны всем.
— Идиот! Думаешь, я боюсь твоих разоблачений? Да они мне на руку — моего досье там нет, а этих давно пора менять. Впрочем, мне по душе, как ты держишься. Но силу дает тебе не чувство правоты, нет. Уверенность, что твоя жена и твой сын в безопасности. Так?
Иоскега молчат.
— А они здесь, в двух шагах от нас, за стеной.
— Лжешь!
— Ты думаешь, что Купка верна тебе и будет оплакивать твою мучительную смерть, а она сама под мою диктовку написала письмо, которое тебе передал Сван.
— Лжешь! — захрипел Иоскега.
Болт положил ладонь на край стола. Явился розовый горбун.
— Пусть войдут.
Лицо женщины было припухшим, пятна пудры лежали под глазами, на лбу. К бедру жался рыжий мальчик лет пяти. Купка подошла к мужу и, упав на колени, уткнулась в сиреневую ткань рубахи.
— Иоска! Нет мне прощенья. Не прощай меня. Я не смогла… Он… Он грозил… его… — Она мотнула головой в сторону сына. Не могла я-а-а…Женщина завыла горько и тошно.
Иоскега одной рукой тронул волосы жены, другой привлек мальчика.
— Пощади ребенка, Цесариум. Ради своей Салимы. Они ровесники. Не губи его, Болт.
— Как можно поднять руку на ребенка, сына моего бывшего друга!
Иоскега задохнулся.
— Ты не тронешь его, Цесариум? Слава тебе, великий и справедливый! Женщина, не передо мной тебе следует стоять на коленях. Вот человек, достойный поклонения! Он милостив и великодушен к нам, предавшим его! Он щадит нашего мальчика. Он не причинит ему вреда. Благодари Цесариума, Купка! — Иоскега полз к Болту, стараясь дотянуться до мягкого желтого сапога.
— Будет тебе! — Болт снова нажал на край стола. — Уведите женщину и ребенка. А теперь, Иоскега, — продолжал он, — теперь — к делу!
Иоскега стоял на коленях.
— У меня нет времени на уговоры. Вернемся к Кунмангуру.
— Так ты милуешь меня, Болт?
— Все зависит от тебя. Иди и думай. Как приблизиться к Кунмангуру, не вызвав подозрения. Как сплести обширный, разветвленный заговор, во главе которого он встанет. Чем больше Слуг привлечешь ты под знамена великой борьбы с Болтом, тем длиннее и привольней будет твоя жизнь, жизнь твоей женушки, жизнь твоего сына. Ровесника, как ты справедливо сказал, моей Салимы. Иди!
Изображение погасло. Стало темно. Крупные звезды повисли над морем.
— У вас есть еще что-нибудь? — спросил Андрис. — Какие-нибудь записи?
— Почти ничего. Бессвязные обрывки официальной хроники. Салима — ей лет тринадцать — въезжает на ейле в Зал изъявления воли народа Черепахового дворца, и отец держит стремя, пока она слезает с седла. Сын Иоскеги командует парадом Верных. Болт произносит речь перед воспитанниками приюта «Надежда Леха» — детьми, отказавшимися от своих родителей — сольников и…
— Улиток? — догадался Велько.
— Улиток, — подтвердил Год.
— Значит, все это снималось давно? Что с ними стало?
— Над Кунмангуром и большой группой связанных с ним крупных чиновников различных кураториев был устроен показательный процесс. Несмотря на громкие покаянные речи, все были казнены. Сохранил мужество лишь сам Кунмангур. Говорили, что Болт приходил к нему в камеру перед казнью, обещал жизнь в обмен на публичное раскаяние, но получил плевок в лицо. Иоскега возвысился. Через год, однако, выяснилось, что он оклеветал преданного соратника Цесариума Кунмангура и множество других достойных людей. Естественно, Иоскега был судим и казнен. Когда пришли за его сыном, Купка перерезала себе горло. Мальчик, однако, тогда уцелел: Салима вцепилась в него, и стражники отступили. Цесариум распорядился сохранить мальчику жизнь. Подобно Моисею, он воспитывался в доме Цесариума и в шестнадцать лет стал во главе гвардейского манипула Верных. Позже Болт приказал удавить юного любимца армии, после чего устроил погром среди офицеров, приписав убийство начальника гвардии прокравшимся в армию…
— Сольникам? — ехидно спросил Велько.
— Не сольникам и не улиткам, — холодно ответил Авсей Год. — Их к тому времени уже не существовало. Я думаю, их и раньше-то не было. На сей раз удар был нанесен кадилыцикам — так назывались злоумышленники, которые извращали и дискредитировали учение и практику правления Болта лицемерным и неумеренным восхвалением. Тут Цесариум, видимо, оплошал. Поняв, что спасения нет, недоеденные Слуги сами его сожрали. Торопливо, с костями и пуговицами. Было объявлено, что Болт скоропостижно скончался. Великий траур пал на Лех.
— Когда это произошло? — спросил Андрис.
— Чуть больше двух лет назад. После пышных похорон слухи ходили разные. Говорили, что Цесариум покончил с собой, бросившись с крыши дворца. Что охрана скинула его со скутера, когда он летел над Сизым болотом к своему охотничьему домику. Поговаривали даже, что он уцелел, бежал с Леха, а погребальному костру была предана кукла.
— А что стало с его дочерью? — поинтересовался Рервик.
Год немного помолчал. Потом, вместо ответа, сказал:
— Если станете снимать фильм о Болте, назовите его «История любви».
— Название не слишком свежее, — заметил Велько, большой знаток древнего кинематографа.
— Согласен. Но что движет этими людьми? Всепоглощающая любовь. Иоскега любит свою Купку и сына. Салима и сын Иоскеги — друг друга. Болт любит только дочь, но как нежно! Наконец, Болта любят все, весь Лех. Где они теперь? Их поглотила любовь.
Год вынул кристалл из проектора, молча кивнул и пошел прочь от навеса.
По случаю Нового года шлю тебе, Андрей, поздравления и жду тебя в скором времени в Москву — ведь обещал.
Владимир
ПИСЬМО ПЯТОЕ
Январь 3, Савельева
Не помню, любезный друг Владимир, рассказывал ли я тебе о Томе Бакките, капитане космического флота? Судьба несколько раз сводила этого незаурядного человека с Рервиком, и однажды он спас режиссеру жизнь. А заодно и себе. Было дело. Жадный не только до искусства, но и до политики, вез как-то Андрис в переметной суме папку с документами и пометками, являющими серьезный, как мы бы сегодня сказали, компромат на одну очень и очень важную особу. Документы однозначно свидетельствовали об участии первого лица большой провинции в превосходящих всякое воображение махинациях, в наглом обмане при поставках тонковолокнистого кроттона, основной технической культуры тех мест, но главное — в дерзком попрании законов и попустительстве мелким и крупным сатрапам, терроризировавшим население. Верный решительному своему характеру, собирался Рервик дать этим бумагам ход, да еще и о фильме размышлял. Без особого труда прознало об этом важное лицо, благо агентами его кишело обитаемое пространство. Был отдан приказ изловить режиссера, а в случае чего без хлопот уничтожить. Дважды уходил Андрис от агентов. И в полной почти безопасности ощущал себя, оказавшись случайно пассажиром на грузовом корабле, который пилотировал старина Баккит, давно ушедший из военного флота. Не знал капитан, кстати, большой любитель кино, что везет любимого своего режиссера. Но продемонстрировал удивительное мастерство и реакцию, когда посланный вдогонку за Рервиком военный корабль попытался расстрелять безоружный грузовик в открытом космосе вдали от регулярных трасс и посторонних глаз. Впрочем, детали этого эпизода нам еще предстоит прояснить, а сейчас я просто расскажу немного о самом капитане.
Начинал Баккит как левак. Будучи человеком горячим, не склонным к глубокому неспешному анализу, он легко поддавался левацким теориям и загибам. Это и привело его к участию в заговоре Фрола Козловского против Хвощеватого. Надо сказать, что в те времена Баккит был личным пилотом Хвощеватого.
В училище Том слыл хулиганом. Сидел он за одним столом с неким Хаджем, сухим, точным, исполнительным брюнетом. Характеры противоположные, они сошлись, сдружились на время. Оказались они самыми способными пилотами своего выпуска, обоим прочили блестящую будущность. Странно или нет, но через годы оба стали личными пилотами диктаторов: Баккит на Альдебаране, Хадж на другой планете. Том о судьбе Хаджа не ведал, потеряв былого друга навсегда.
Хвощеватый, высокий человек с колючими умными глазками, и сам был в чем-то хулиганом. У него не было трений со своим пилотом. И все же Баккит его предал. Начальный этап правления Хвощеватого был принят Содружеством с энтузиазмом. Но потом правитель зарвался и сам не заметил, что всем успел надоесть. Впрочем, ропот народа — не самое страшное для диктатора. Куда опаснее, когда от него отворачиваются приближенные. Два весьма энергичных министра Фрол Козловский и Шур-Шулепов для элегантности и полноты триумвирата привлекли к заговору незлобливого увальня Лина Буженко. Верхушка армии и службы безопасности легко пошла за ними. В кое-какие детали был посвящен и пилот номер один. Именно он управлял кораблем, на котором после кратковременного отдыха в Висячих садах Трай-пи возвращался премьер Хвощеватый. Премьеру успели донести, что дома его ждут неприятности. Хвощеватый решил совершить тактический маневр и приказал командиру корабля сесть на промежуточной станции.
Но Баккит отказался совершить незапланированную посадку, твердо ссылаясь на соответствующие пункты навигационной инструкции. И Хвощеватый, этот самодур и крикун, устало отступил.
Переворот был осуществлен легко и просто. Но последующие события обманули ожидания некоторых его вдохновителей. Фрола Козловского через полгода разбил паралич. Шур-Шулепова, чей неприкрытый бонапартизм колол глаза, ловко вывели из Правления Содружеством, и он покатился по служебной лесенке, пока не застрял начальником библиотечного коллектора на одной из дальних станций. Власть свалилась в руки сонного Буженко, чья добрая отеческая улыбка всех устроила. Впрочем, всех ли?
Баккит вскоре подал в отставку. Его не удерживали. Какое-то время он водил большие пассажирские ракеты по престижным трассам, но начал попивать и порою даже буянить. Постепенно он скатился, нисколько, впрочем, не горюя, до уровня ломового извозчика на самых задрипанных линиях, летая на Кост-ро-Ману, Нехлюдовку и даже загадочный нищий Лех. Позже он и вовсе уйдет на покой, предавшись на досуге любимому делу, истинному призванию — кулинарии.
Что же касается столкновения со спейс-корветом, то здесь, должен предупредить, ситуация неоднозначная. В сложных условиях временного излома несколько траекторий развития событий оказались равновероятными. На одной из этих траекторий Баккит будто бы даже погиб.
Дело было так. В Кост-ро-Мане потрепанный грузовик совершил посадку. Экипаж и пассажиры покинули причал, прошли залитую солнцем лужайку и углубились в парк, где журчали фонтаны, а в бассейнах шныряли огромные золотистые рыбины. И только тут Андрис скромно осведомился у пилота, что это такое стряслось в пути. «Не бери в голову», — грубовато-нежно ответил Баккит, но было в этом уклончивом ответе и замаскированное кокетство.
Дескать, космическому волку привычно попадать в разные ситуации, привычно из них и выходить; дело же пассажиров — вручать свою жизнь опытным пилотам и ни о чем не беспокоиться. Но на самом деле Баккит недоумевал. Он не мог взять в толк, что за сумасшедший пират напал на его мирный грузовик. И уж никак не связывал это событие со скромной персоной своего пассажира, некоего журналиста — так ему Андрис был представлен.
Документальные фильмы Рервика Баккит знал, смотрел с неизменным интересом, но тесная и теплая встреча знаменитого пилота и знаменитого кинодеятеля произойдет несколько позже на другой траектории событий. В нашем же случае он сказал журналисту и его случайной спутнице, немного бравируя звательным падежом: «Дружище Андрие! И вы, Майю! Погуляйте в этих благословенных местах, развейтесь немного. Ровно через пять местных суток я вернусь, и мы полетим дальше. Здесь сейчас карнавал, скучать вам не придется. Правда, отели переполнены, но я вам дам один адрес. «Ретороманская хижина», там поваром мой друг Брюс Нортон, чудесный рыжий парень, которого я сам научил делать галушки в сметане а-ля Пацюк».
Андрис и Майя (которая позже оказалась Марьей, что, впрочем, еще требует выяснения) улыбнулись и, взявшись за руки, нырнули в ближайшую улочку, откуда неслись уже звуки заманчивой музыки.
Через пять дней Баккит не вернулся. И через шесть, и через десять тоже. Прошел слух, что его корабль погиб при столкновении с военной ракетой. Узнав об этом, Андрис побледнел. Он начал догадываться, в чем дело. Перед его взором стоял Том Баккит, грузный человек с веселыми глазами. И он казнил себя за легкомыслие, за то, что его авантюры служат причиной гибели невинных людей. А капитан спейс-корвета доложил шефу: грузовой корабль — в клочья, со зловредным режиссером покончено. Мы все хотим быть оптимистами, но события не всегда идут в желаемую сторону. И вот — погиб Том Баккит. А он еще так нужен для нашего повествования.
Но что не во власти писателя? Рыжий повар Брюс рассказал со смехом, что шалопай Баккит просто прогулял неделю. В Трай-пи с помпой открылся кинофестиваль, и наш пилот не мог позволить себе пропустить новый фильм Андриса Рервика «Бегство палача».
Теперь по поводу того обещания — мол, приеду… Да, да, обещал, но… Человек предполагает и т. д. Пример тому — прогноз погоды.
Впрочем, ругать метеослужбу — все равно что резать ножом манную кашу — легко, безрезультатно и немного стыдно. Да, каждое мгновение, поворачивая за угол, ты рискуешь столкнуться с незапланированным фокусом судьбы-индейки. (Птицу эту, кстати сказать, совершив очередное убийство на колоде для колки дров, преподнес мне к Рождеству Ереваныч.) Живешь себе и не знаешь, что в такой-то день и час, купив в «Мелодии» на Новом Арбате пластинку Козина, а в гастрономе напротив — бутылку подсолнечного масла, ты придешь домой и затеешь жарку кабачков под «Осень, прозрачное утро, небо как будто в тумане…». Поставишь сковородку на плиту, пустишь газ — ив комнату, сделать погромче. «Где наша первая встреча, яркая, острая, тайная? Тот летний памятный вечер, милая, словно случайная?..» Собираешься вернуться на кухню, а сладчайший голос зовет:
И ты медлишь, а оказавшись, наконец, у плиты, рассеянно зажигаешь спичку. Трра-х!
Роль подсолнечного масла как инструмента судьбы уже описана в мировой литературе. Поэтому негоже мне отводить много места иллюстрациям побитой молью истины о своевольности фортуны.
Так вот, вопреки обещанию, в Москву до весны не вернусь — заручился на то разрешением начальства, данным мне не бесплатно, а в обмен на обещание написать «совместную» с ним, начальством, статью в сборник трудов нашей конторы. По этому поводу предлагаю тебе навестить меня в моей берлоге и сделать это не откладывая.
К тому времени, когда ты получишь это письмо, каникулы подойдут к концу, и мои домочадцы схлынут. Вновь воцарится покой, располагающий к неторопливым беседам, безмолвному глазению на угли в печи, хрустким прогулкам «при дружеском молчании луны».
Жду.
А пока несколько слов по поводу полученных от тебя глав.
После справедливых упреков в слабостях сюжетной пружины, вялости повествования, содержавшихся в последнем твоем письме, я с нетерпением ожидал бурного развития событий, стрельбы, погонь и леденящих кровь тайн. Но что же я нашел? Очередной аппендикс о Генрихе VIII, ни на шаг не продвинувший сюжет, и диалог Болта с Иоскегой, призванный, по-видимому, показать жестокость и вероломство первого и покорность и трусость второго. Фигуры весьма плоские. Не очень помогают и усилия Авсея Года придать своими замечаниями некоторую глубину образу Генриха. А уж Цесариум Болт просто подл до омерзения, как сам Год худ до изумления. Но не должен ли тиран вырасти в фигуру трагическую, с душою, раздираемой «дуэндо»? (Это испанское слово, означающее в приблизительном переводе борьбу Бога и дьявола, я услышал от известного актера, игравшего сталкера в одноименном фильме, а он, в свою очередь, прочел его где-то у Лорки. Место действия — провинциальный кабачок, где собрались знатоки канто хонде — народного пения. Среди них торговец быками для нужд корриды, проститутка, известная тем, что когда-то отказала Ротшильду, сам Лорка и человек без определенных занятий, веселый и грязный уроженец Кадиса — испанской Одессы. На возвышении — женщина с миловидным лицом и аккуратно подколотыми волосами. Она заканчивает пение и ждет оценки. «Очень мило, — говорит кадисец, — сеньорита — настоящая француженка!» Это — чудовищное оскорбление для исполнителя канто хонде. Певица срывает заколку, черные блестящие волосы закрывают лицо. Она резким движением отбрасывает их назад и поет. Не звуки — кровь льется из горла. Смерть и страсть выходят с ее хрипом. Она умолкает. И тогда, после долгой паузы, торговец быками откладывает в сторону тонкую едкую сигару и говорит весомо и окончательно: «Здесь есть дуэндо».) Между тем. надо сказать, что политическая жизнь многострадального Леха понемногу проясняется. Сольники, как я понял, сторонники более открытого общества, связей с солнечной системой, исторической родиной. Течение улиток, очевидно, защищает национальную самобытность лехиян, но в рьяности своей доводит ее до герметизма. Однако как могло случиться, что кровавые дела Болта не вызвали мгновенной реакции? Какие-то сведения, безусловно, просачивались в Систему. Неужто все утонуло в безмятежном счастье и всеобщем неостановимом прогрессе? В таком случае, не только на Лехе нелады. Коли души землян не уязвлены страданиями жертв Цесариума, подгнило что-то в тамошнем королевстве.
Но вот Рервик и Вуйчич узнают достаточно много, чтобы их проняло. Вряд ли Рервик отказался от мысли снимать свою грандиозную эпопею, как ему советовал Год. Напротив, он полон азарта и намерен включить историю Болта, «историю любви», в монументальное свое произведение. Они, я думаю, уже на Лехе, где их и застает следующая ниже
глава пятая
Никогда не приведешь столь гнусных и столь постыдных примеров, чтобы не осталось еще худших.
Ювенал Андрис обернулся через два-три шага, но было поздно. Остался промельк черной головки, угловатое движение локтя, зеленая полоска браслета на смуглой коже. Женщина исчезала в толкучке оболтусов, увешанных пестрыми сувенирными сумками и пакетами. Он вспомнил о Вуйчиче и побрел к таверне «Сигнал Им», привлекавшей неуловимым сходством с «Шаландой», хотя рыба (и сиг и налим) здесь обнаруживалась ныне только в названии заведения. Вокруг царил праздник воды. Почти у каждого гуляки было маленькое ведрышко, ковш или иной сосуд. Согласно ритуалу, следовало зачерпывать воду в изобильно встречающихся фонтанах и фонтанчиках и с идиотски-радостными криками обливать прохожих. Рервик жался к стенам, искал переулки потемнее — наивное и полнокровное веселье лехиян раздражало. Уже у самого порога шустрая девчонка, опутанная водорослями кикимора, плеснула под ноги из кувшина, но Рервик увернулся и распахнул дверь. В нос ударил запах жареных овощей.
Велько был не один. Рядом склонился над тарелкой морщинистый лехиянин с унылыми седыми усами. Он поднял на Андриса нежные голубые глаза.
— Здравствуйте.
— Наконец-то, — сказал Велько. — Хорошее соте, возьми, не пожалеешь.
— Да, да, очень хорошее, — закивал старик.
Рервик повернулся к раздаче, взял блюдо с золотистыми ломтиками баклажан, подложил кучку лука поподжаристей, пару листьев салата и перышко чеснока. Подумал, добавил какой-то кружевной травки и сел к столу.
— Какую Анну я упустил! — сказал он Вуйчичу. — Видно, нырнула в ближайший фонтан. Здесь все с ума посходили…
— Но ты, я вижу, вышел сухим из воды, — сказал Велько.
— Меня почему-то не обливали, — соврал Рервик и посмотрел на старика. Я — Андрис. Андрис Рервик.
Старик снова закивал и заулыбался.
— Это — Иокл Довид, — представил лехиянина Велько. — Он поможет найти место для съемки охоты. Большой знаток по этой части. Кажется, егерь? — Велько повернулся к старику.
— Смотритель болот. Бывший, бывший, — зачастил Иокл, словно боясь, что его не станут слушать. — Сорок пять лет там прожил, родился там, три года, как уехал, но все-все помню, все места знаю. На булунгу сейчас нет охоты, цвигу брать можно. Я все покажу. Тут близко лететь, но скорей надо. Неделя пройдет — цвигу линять будет.
Ему нет пятидесяти, подумал Андрис. По земным меркам он дал бы Иоклу девяносто.
— Скажите, Иокл, что это за праздник? Почему так много воды? — спросил он.
— Очень-очень старый праздник. Сегодня вода, завтра будет огонь. Это — жизнь. Давно не было этого праздника — тридцать лет не было, сорок лет не было. Он не велел.
— Он?
— Цесариум. Теперь стало можно.
— Иокл, вы видели Цесариума?
— Видел, видел. Один раз видел. Близко-близко. Как сейчас вас.
— Говорили с ним?
— Я ребенок был. Пять лет, семь лет. Отец говорил. Отец на весь Лех прославился.
— Вам Велько сказал, зачем мы приехали?
— Сказал, сказал. Кино, большое кино снимаете. Охоту снимаете.
— Мы хотим и о Цесариуме снять фильм. Но мы мало знаем. Поэтому все, что вы можете рассказать…
— Нет, нет, — замахал руками Иокл, — я не помню, совсем был ребенок. Отец… Он умер давно — двадцать лет, может, больше. Я на болоте жил, здесь не бывал. Болото знаю, все покажу. Торопиться надо — начнет линять цвигу, какая охота?
Лететь на болото положили утром. Иокл Довид отправился восвояси, а Рервик и Вуйчич — в гостиницу «Дарамулун», определенную им и всей группе для жительства. Перед тем как разойтись по номерам, Велько вскользь заметил:
— Марья прилетает завтра-послезавтра.
И на молчаливый вопрос Рервика:
— В разговоре она поинтересовалась, достаточно ли велик Лех, чтобы она была уверена, что случайно с тобой не встретится.
— Вот как?
— Ее влечет, она подчеркнула, чисто профессиональный интерес..
— Ах да, психология власти.
— А ты, свинья, ее не пригласил.
— Это она сказала?
— Это говорю я, а она — подумала.
И они отправились спать.
В птерик с Иоклом сел один Андрис. Велько остался подыскивать гримеров — свои не справлялись. Иокл говорил мало, не кивал, не суетился. Жестами показывал курс. Они опустились на островок леса среди тростников — вполне земной пейзаж. Рервик видит, как король Карл на белой лошади, лицо горит румянцем, перемахнет через эти кусты. Цепь вабильщиков в высоченных сапогах побредет по болоту — поднимать цаплю. Зеленые куртки сокольников… Нет, зелень потеряется на фоне травы, придется обрядить их в красное.
Или работать на тонкой тональности? Триумфальное «Гой! Гой!» заглушает вопль птицы, забиваемой кречетом. Груда сизых перьев, длинный полураскрытый клюв — деловитый сокол, поспешно, пока не нахлобучили колпак, пьет мозг жертвы. Веселый отдых короля после трудов и нервотрепки ночи святого Варфоломея…
Легкий хрип привлек слух Рервика. Он обернулся. Иокл пытался оттащить тяжелый ствол от полуповаленного белого столбика.
Андрис подошел помочь. На грубо обтесанном камне — буквы и цифры.
ИЛГА ДОВИД
Рервик вычел из правого числа левое. Получилось пятнадцать.
— Это ваша…
Иокл кивнул.
— Уж простите, что затащил вас сюда. Как еще доберешься? Я быстро. Четыре года не был у дочки. — Иокл провел ладонью по камню. — Тянет.
Почувствовав, что Иокл разговаривается, Рервик молчал, боясь спугнуть.
— Меня год как выпустили, а все не смог. Пешком не дойти, а где птерик взять? Таких, как я, сейчас в-о-он сколько. И всем что-нибудь нужно. Очень мне повезло, что вам на болота понадобилось.
Собирался дождь. Срывались первые крупные капли.
— За тем холмиком дом у меня. Может, зайдем?
Пока добежали, промокли. Ступеньки крыльца подгнили, одна провалилась. Через петли задвижки пропущен шнурок с большой пломбой. На пломбе витиеватый вензель с загогулинами и хвостиками: КОС.
Иокл остановился в растерянности.
— Я и забыл про печать.
Андрис протянул руку через плечо Иокла, сорвал пломбу и положил в карман.
В доме стоял кисловатый запах, было сыро. Иокл вдруг сделался энергичным и деятельным. Смахнул пыль с лавки. Принес из сеней охапку дров, потом вторую. Растопил печь. Поначалу она сильно дымила, но потом тяга установилась и дым исчез. Сделалось тепло и уютно. Лехиянин сел на колоду у печи и стал глядеть в полукруглый зев на ревущее пламя. Как-то незаметно заговорил:
— Дом отец ставил. Да-а-авно было дело. Молодой Цесариум охотой увлекался, велел специальный кураторий учинить. Как отец попал на эту службу — не помню, да, пожалуй, и не знал никогда. Определили его смотрителем болот, дали этот самый участок. Он как устроился, нас с матерью перевез. Цесариум часто на болотах бывал, а весной на гон булунгу так приезжал непременно. Нет-нет и на отцов участок попадет. А однажды к самому дому подъехал.
Красавец, глаза ясные, ейл под ним — огонь красный. Рядом, стремя в стремя, Катукара. За ним — Легба, Мутинга, Кунмангур.
Кругом егерей, охраны, косовцев — видимо-невидимо… Отец выскочил, мундир застегивает, что сказать — не знает. Мы с матерью тоже онемели. А Цесариум просто так говорит: «Ну, Асир Довид, что ж в дом не ведешь?» Отец руками машет, проходите, мол, а слова вымолвить не может. Тут мать опомнилась, бросилась на стол накрывать. В дом вошли только Болт, Катукара и Легба. Что дальше было — память не держит. Все заслонила рука Катукары. Мягкая, душистая — на моей щеке. Потом слышу, Цесариум хвалит мамину стряпню, а отцу жмет руку и говорит что-то о честном труде и единстве в борьбе или наоборот — о честной борьбе и единстве в труде.
И еще сказал: «Мы, надеюсь, не в последний раз у вас в гостях».
На следующий день во всех газетах была фотография: Цесариум пожимает руку смотрителя болот. Отец много газет накупил.
Снимок на стенку повесил, в альбом вклеил. Всем дарил. Окружной попечитель к нам приезжал, спрашивал, нет ли в чем нужды. Выдали отцу новые сапоги, обещали сила молодого, сильного — объезжать участок, но отец отказался — двух не прокормить, а своего старика не бросишь.
И стал он ждать, когда Цесариум опять приедет. Год прошел, другой. Отец все помнил, рассказывал, показывал. Меня приучил — гордись, говорит, не каждому в жизни такая честь, почет такой.
А что не едет, так времени у него в обрез, шутка ли — всем Лехом управлять, во все вникать, все под присмотром держать.
Так время и бежало. Мать схоронили, отец ослаб — скучал очень. Уж все дела я стал делать. Каждую кочку знал, булунгу подкармливал, сухостой жег. Жену я взял в помощь, да она после первых родов умерла… А за ней вскорости и отец. Хотел здесь его похоронить, да в округе не велели. Нельзя, сказали, человека, которому Цесариум руку жал, на болоте хоронить. И остались мы жить с дочкой.
Иокл помолчал, поворошил угли в печке, отчего там-сям возникали новые всплески пламени. Профиль его стал моложе, морщины разгладились. Андрис терпеливо ждал.
— Красавицей она росла — в мать, только глаза голубые, в меня то есть. Скучно ей было со мной, но виду не подавала. Весь день грибы собирает, желтянку-ягоду, рыбу ловит. Все в доме на ней. А вечером любила, как мы вот сейчас, у печки посидеть. Расскажи, бывало говорит, папа, как к деду Асиру Цесариум с Катукарой приезжали. А я что вспомню, что придумаю, да не всякий раз одинаково получается. То Катукара у меня в зеленом охотничьем костюме с жемчужным шитьем, то в красном плаще и сапожках из узорчатой орнидиловой кожи. То Цесариум пожимал деду руку, а то получалось, что обнимал за плечи. Но всегда вспоминал, что обещали они снова у нас побывать. И такое было у моей Илги желание увидеть Цесариума и Катукару, что и я стал ждать — а ну как и вправду приедут. Когда узнали мы о смерти Катукары, Илга стала сама не своя. Плакала очень. А время все бежало, Илга росла. И стали мы мечтать, как Цесариум приедет к нам с дочкой, Салимой.
И будто она, Салима, с Илгой подружится, и возьмет нас Цесариум в столицу. Детский разговор, скажете? Да, а я уже видел себя важной шишкой в куратсрии охоты, а Илгу — невестой гвардейца из отряда Верных.
И вот, представьте, весной, за неделю до гона булунгу, появились на нашем участке люди. Человек восемь. Молодые, но серьезные, молчуны. У кого на рукавах значки с буквами, как на той печати, что в кармане у вас. Кураторий Обеспечения Свободы. Другие — в мундирах Верных. На поляне, где птерик, поставили палатки. Посреди — шатер. Синий, высокий. Что внутри — не знаю, все в ящиках таскали, потом ящики эти вынесли и за нашим домом сложили. Начальник их, молодой совсем, чуть постарше Илги, у нас поселился. Важный был — не подступись. Ни слова мы от него не слышали целыми днями. Смотрел я на них, на шатер и понял — теперь скоро. Дождались, кажется. Осмелел я и прямо спросил своего постояльца: так, мол, и так, можно ли надеяться? И про отца рассказал. Он посмотрел на меня сверху — будто только заметил, губы тонкие изогнул и сказал: «Кто знает, кто знает». И вдруг как-то утром они забегали, начали палатки сворачивать. Я вышел, а они уже за шатер принялись. Тут Илга меня в дом зовет и показывает на стол. А там — развернутая газета с фотографией. Цесариум пожимает руку старому Ухлакану — смотрителю соседнего участка. Вот и все, думаю, когда теперь наша мечта сбудется? В это время входит начальник. На нас не смотрит, берет свой пояс, сумку — и к двери. Илга моя вслед ему глядит — уедут, и снова тоска болотная, одни грибы да отцовы байки. А он с порога возьми да обернись.
Взгляд ее перехватил. Подошел. Палец длинный, тонкий протянул.
По щеке провел, вниз, по шее и как рванет рубашку — до пояса располосовал. Илга только руки к горлу — задохнулась. Я захрипел от страха, от неожиданности. Он тут только про меня вспомнил и, не оборачиваясь, спокойно так: «Вон отсюда». И ладони ей на грудь. Она словно очнулась, подалась назад. Он — к ней, руку тянет, и она в эту руку зубами… Про себя плохо помню. Дернулся я к нему и сразу два удара получил — в горло и сюда, видно, коленом. В себя пришел — Илга лежит на полу, а он носком сапога ей под подол и говорит: «Я тебя не трону, и ты всю жизнь об этом жалеть будешь».
А потом громче: «Эй, там!» И вошедшему: «Всех сюда. Она ваша. И если кто побрезгует, пусть на себя пеняет».
Лехиянин снова умолк. На этот раз пауза длилась дольше. Он бросил кочергу, походил по комнате, остановился у окна. Глядя в него, он и закончил свой рассказ.
— Меня двое держали, а чтоб не кричал — веревкой сдавили горло. Илга сначала плакала, потом только меня звала. Папа, папа, папа, папа. Потом замолчала. Пока не стемнело, я с ней рядом сидел, не отходил. Потом лампу зажег. Вернулся, протянул руку — подушку поправить, а она — ой, простите меня, пожалуйста, пожалуйста, не надо, не зовите их, я все сделаю, как вы хотите, пожалуйста, не зовите… Под утро Илга умерла. Так все время и бормотала: пожалуйста, не зовите, пожалуйста, не зовите, пожалуйста… Здесь и похоронил ее. И написал письмо самому Цесариуму. Так и так. Приложил фотографию из газеты — может, подумал, вспомнит. Рассказал, как мы с Илгой его ждали и как жаль, что на этот раз он охотился на соседнем участке. И попросил: может быть, приедет он взглянуть на могилку моей Илги, раз уж так получилось, что не дождалась она счастья увидеть Цесариума при жизни.
А потом пришли такие же молодые и серьезные и меня взяли.
Правда, я везучий — пяти лет не прошло, вышел. А теперь вот и здесь побывать довелось, спасибо вам. Повидать бы еще Цесариума — да где там! Разве его найдешь.
Иокл попросил высадить его у стадиона и сразу исчез в щели между домами. Андрис оставил птерик на площади и решил дождаться обещанных Довидом огней. Внимание толпы делилось между финишем бега на коленях и прыгунами через кольца. Рервик двинулся наугад и оказался у длинной дорожки. Полноватый мальчишка шел довольно резво, мелко перебирая загорелыми бедрами. Но уже у самой черты каким-то нелепым витиеватым прыжком его обогнал сухопарый мужчина с седым ежиком, показавший, как утверждало табло, лучшее время дня. Андрис рассеянно огляделся и сразу увидел ее. Тот же смугло-угловатый профиль, те же резкие жесты худых рук… Живые черные глаза смотрят вверх, в лицо собеседницы. И Андрис вздрагивает вторично: медно-рыжий всполох на голове и веснушки без конца и без края — такое не повторяется дважды. Марья.
Рервик бормотал извинения и шаг за шагом приближался к собеседницам. Но, подойдя, испытал легкое разочарование: смуглую незнакомку, почтительно держа за локоть, уводил сутулый, похожий на стручок человечек в узкой зеленой куртке.
Рервик лишь растерянно посмотрел им вслед. Марья легко рассмеялась.
— Чему радуешься, злая женщина! Я должен ее изловить, она нужна мне. — Андрис не выдержал и тоже рассмеялся. — Ну, здравствуй!
Она на миг прильнула к нему, отпрянула и заговорила по обыкновению быстро:
— Не отчаивайся, милый, она сама тебя найдет. Екатерина только о тебе и расспрашивала. Видно, ты ей чем-то интересен. Врожденный дефект вкуса, я думаю. Признаюсь, я не скрыла от нее, что страдаю тем же. Хотя, что тебе до моих страданий! Я длинная, рыжая и зубы у меня как у Щелкунчика. А тебе подавай жгучих брюнеток с изумрудными браслетами на нервных руках, и чтоб глаза — как блюдца, ресницы — как у теленка, губы — как эти…
— Лепестки роз?
— Именно. Хотя у Екатерины они скорее похожи на двух змеек. Щеки — как…
— Нежные персики?
— Снегири, я хотела сказать.
— Фауна против флоры. Так ее имя — Екатерина?
— Екатерина Платиня. Кроме имени, я о ней ничего не знаю. Мне только показалось, что под этим веселым возбуждением она прячет… — Марья — такое бывало не раз и всегда заставало Андриса врасплох — резко изменила тон. Теперь она говорила тихо и немного в сторону.
— Утром я два часа ждала Велько в гримерной. Там была молодая женщина. Тихая такая. Эва. Ты ее знаешь?
— Не помню.
— Мы стали разговаривать. Так, пустяки. Веселый у вас праздник, сказала я. Да, веселый, сказала она. И погода подходящая. Да, в эту пору редко идет дождь. Я впервые на Лехе, сказала я. Да, теперь многие приезжают, сказала она. Такой вот разговор у нас шел. И вдруг мне, совершенно чужому человеку, она рассказывает…
Неловко, конечно, но я незаметно включила диктофон. То, что сделали с Эвой… Мне кажется, они так жадно ликуют, чтобы забыть.
Но почему она мне все это рассказала?
Перед Рервиком встали тихие глаза Иокла.
— Может быть, как раз потому, что мы чужие. Мы скоро уедем. А говорить о своей боли таким же, как они сами? Едва ли кто будет слушать. Они опустошены. Они очерствели. Они стали жестокими.
— Эва была художницей, муж — журналистом. Что-то в его статье проскользнуло лестное о Земле. Ему бы покаяться, а он в панике скрылся. Незадолго до этого за похожую провинность взяли его друга, тоже газетчика. Эва получила записку — не ищи, жди. А потом… Я тебе дам кристалл. — Марья встряхнула головой. Ну ладно, скажи, наконец.
— Что?
— Что ты безумно скучал без меня.
— Я безумно скучал.
— О!
— Я измучился от тоски.
— Неплохо. Продолжай.
— Терзался, не находил себе места, страдал от бессонницы, терял в весе, выплакал все глаза…
— Браво! Достаточно. Посмотри туда.
Тьма охватила стадион внезапно. И почти сразу в толпе начали вспыхивать свечи. На глазах рождалось огненное кружево. Оно двигалось, дышало. Оно жило.
— Надеюсь, Велько догадался снарядить оператора все это снять, — сказал Андрис.
— Съемка будет на главной площади, где фейерверк. Сейчас все пойдут туда.
К свечам прибавились факелы, фонари, горящие плошки, вспыхивали пучки соломы, воздетые на рогульки.
— «Я окружен огнем кольцеобразным, он близится, я к смерти присужден…» — с неожиданным пафосом произнес Андрис.
Марья насторожилась.
— Ты заболел, дорогой? — участливо спросила она.
— «За то, что я родился безобразным, за то, что я зловещий скорпион», — продолжал режиссер не столь уверенно.
— Ай-яй-яй. Никак, стихи. Ты забыл трагические события своей юности. По-моему, тебе надо отвлечься. Я, кстати, проголодалась, а ты?
— Что? Ах да, конечно. С утра ничего не ел.
— Господи! Так пойдем немедленно.
Сквозь огненную толпу они двинулись к таверне «Сигнал Им».
А я спешу, пока не позабыл, сообщить, о какой трагедии юношеских дней Андриса говорила Марья Лааксо. Для чего открываю второе по счету
отступление
Нежный профиль Анны захватил Андриса врасплох. Он приехал на ферму к отцу, шумно отмечавшему сорок пятый день рождения.
Расслабленный долгим застольем, плясками и хохотом над раблезианскими анекдотами, кои обильно поставлял Филипп (новый сосед отца, в прошлом генный архитектор, а ныне театровед), Рервик скучал, пока не обнаружил рядом с собой эфирное создание, одетое в голубой дым. Оно не смеялось.
— Ты почему не смеешься? — требовательно спросил Андрис.
— Ах, — пропело создание, — папины шутки… Я нахожу их…
Тогда-то Рервик и увидел этот профиль — восхитительная линия подбородка, трогательная шея, теплый розовый румянец.
Зрелище подействовало на него как добрый удар свинцовой трубой. Погрузило в туман. Лишило бдительности. Не будь это так, уже первая прогулка с Анной насторожила бы Андриса. Они ушли с пирушки, и Рервик повел ее к дому Филиппа кружной дорогой вдоль ручья. Глубокая сосредоточенность на мысли, обнять ли Анну за талию или ограничиться плечами, не позволила Андрису вникнуть в ее слова. А говорила она вот что: «Тихая ночь в жемчуг росы нарядилась, вот одинокая звездочка с неба скатилась…»
— Тебе нравится? — спросила она.
— А? Что? О, конечно. Изумительно! — Он решил остановиться на талии.
Анна меж тем гнула свое. Она бормотала о зеркале дремлющих вод, лепете сонных листьев и бледных янтарях нежно-палевой зари.
Уже у самого бунгало Филиппа Рервик приступил к делу. Когда ладонь его легла на теплое девичье бедро, Анна обратила к юноше прекрасные свои глаза и печально прошептала: «Она идет в лиловый домик, задумавшийся над рекой. Ее душа теперь в истоме, в ее лице теперь покой».
Андрис в ужасе бежал.
Любому, даже весьма недалекому молодому человеку этого оказалось бы достаточно. Но вспомним об ударе трубой, тумане и прочем. Андрис поселился у отца и стал каждый, или, как писали классики, всякий день бывать у Анны. Неделю за неделей проводил Рервик в обществе аукающих зябликов среди шуршащих камышей, тенистых дубрав и спящих купав. Наконец он совершенно одурел.
— Это излечимо? — спросил Андрис своего друга Велько, когда тот, соскучившись, приехал повидаться. — Скоро осень, может быть, смена погоды поможет?
— И не надейся, — авторитетно сказал Вуйчич. — Осень для них самый благоприятный сезон. Что-то в воздухе, вероятно. Я знаю это из хорошо информированных источников. Есть только одно средство.
— Все-таки есть? — Рервик просветлел.
— Замужество. Моя кузина Марго была такой же, пока не вышла за Кристиана.
— Я всегда считал Кристиана храбрецом. Недаром он стал штурманом эс-флота.
— Через неделю после свадьбы одна из подружек Марго имела неосторожность в ее присутствии сказать что-то насчет заката. Или рассвета. Впрочем, нет, она произнесла такое: «Природа всегда молчалива, ее красота в немоте. И рыжик, и ландыш, и слива безмолвно стремятся к мечте».
— Рыжик, ты сказал, и слива?
— Это не я сказал. Это сказала подружка Марго, моей кузины.
— Вся эта растительность стремится к мечте?
— Именно.
— Ага.
— Марго тоже сказала «ага», потом посмотрела на подругу с глубоким пониманием и добавила: «Ты совершенно права, рыжики я засолю в дубовой кадушке».
— «Ее красота в немоте». Замечательные слова. Как жаль, что они неприложимы к Анне.
— Увы.
— Значит, не прежде свадьбы?
— Боюсь что нет.
— Ну, а вдруг и после…
— Поручиться, конечно, нельзя. Тем более что эта самая подружка, как я слышал, вышла замуж и продолжает называть своего благоверного «мой любимый, мой князь, мой жених».
— Нет!
— Сведения вполне достоверные.
— Но он глубоко несчастный человек, ее муж!
— Вовсе нет. Он каждое утро говорит своей жене: «Люблю тебя, люблю, как в первый час…»
— Нет, Велько. Я не могу рисковать.
Это произошло за много лет до того, как Андрис поселился в своей избе на берегу Ветлуги, и все эти годы выработанный с помощью Анны иммунитет действовал безотказно.
А потом он увидел Марью.
Проводив Марью до помпезного подъезда гостиницы «Земля», Рервик, уставший от огненного буйства на площадях и улицах, вернулся в «Дарамулун». В номере Велько он застал Авсея Года. Вуйчич по обыкновению сидел на диване, попивая ледяной бледно-желтый сок какого-то местного плода. Год, все в той же белой рубахе и тесных синих штанах, возбужденно ходил по комнате.
— Слышишь, Андрис, — сказал Велько, — у Авсея любопытные сведения о Болте. Не исключено, что он уцелел.
Мысли Рервика и так бродили вокруг Цесариума. Он сел и вопросительно посмотрел на Года.
— Встретил тут я одного старого знакомого. Можно сказать — друга. В те времена, когда я был доверенным оператором ЛЕХроники, он занимал довольно высокий пост в куратории личных сношений. Помните кадры, что я вам показывал. Он там в розовом мундире. Подавал бумаги Болту.
— Помню, — сказал Андрис.
— Я увидел его на площади, где снимали фейерверк. Разговор о старых временах, общих знакомых. О верности традициям. На судьбу жаловался. Не может приспособиться. На глазах в карнавалах и гуляньях. гибнет дух Леха. Не только его сердце плачет по утраченному. Надо ждать. Так говорит ОН. ОН меня помнит. ОН соберет всех, когда вернется на Лех.
— Стало быть, Болта на Лехе нет?
— Судя по этим словам, нет. Но, может быть, это игра.
— Игра? Прекрасно. Нам ли не принять игру. Мы — люди кино.
— Рервик почувствовал вдохновение, — проворчал Велько.
— Да, но не кинематографическое. Я полон простого человеческого желания свернуть Болту шею. Удовольствие, которое я при этом испытаю, не в пример сильнее творческого наслаждения от исследования психологии выродка. Может быть, для Марьи это большая потеря, но повстречай я его сейчас — не удержусь.
— Насколько спокойней, академичнее ты относился к Генриху, — заметил Велько. — Что произошло?
Внезапно потемнев лицом, с трудом подбирая слова, Рервик рассказал историю Иокла и его дочери.
Наступило тягостное молчание.
— Я встречал этого офицера, — глухо сказал Авсей Год. — Говорили, Болт пожурил его, но простил. «Мальчик так предан нашему делу!» Мальчик сменил сына Иоскеги на посту командира Верных, а чуть позже — в роли возлюбленного Салимы. Последний раз я видел его накануне похорон Цесариума. Варгес, так его звали. Бледный Варгес.
— Неужели этот выродок жив? — сказал Велько.
— Почему же выродок? — Год продолжал ходить по номеру. — Выродок, насколько я понимаю, — явление исключительное. Каждый уровень власти на Лехе располагал такими людьми. Если в верхних этажах их десятки, то в нижних — десятки тысяч. Они не только держали в страхе не вовлеченных в их круг, они истребляли друг друга. На место уничтоженных приходили новые. Развращенным оказался почти каждый лехиянин. Тот же Иокл — как относился он к Болту до гибели дочери? Или его отец. Да что там, все были охвачены неистовой любовью к Болту, трепетным отношением к власти. Дай им сейчас живого Цесариума, что будет?
— Что? — живо спросил Андрис.
Год не ответил. Рервик достал из кармана кристалл, который дала ему Марья, и подошел к проектору.
Голос гримерши Эвы был тих:
— …не знаю, говорю, представления не имею. Хотите, говорю, сами прочтите записку. Он написал, чтобы не искала. Дома у меня записка, я принести могу.
— Вы об этом? — И подает мне письмо Осгара. — Нет нужды вам идти домой. Даже если это написано не для отвода глаз, я не поверю, что вы совершенно не имеете представления о круге друзей мужа. Расскажите, с кем он имел обыкновение встречаться. Еще раз хочу обратить внимание: в наших общих интересах отыскать Осгара Одульфа как можно скорее. Проступок его не так страшен, чтобы угрожать его свободе. Я думаю, он просто поддался панике, ложным слухам, наветам, очерняющим соответствующие учреждения, призванные блюсти порядок и гармонию во всех сферах жизни и труда наших граждан. Но каждый час промедления, сокрытия от справедливого разбирательства всех обстоятельств служебного упущения усугубляет вину, а стало быть, утяжеляет возможное наказание. Эвлега Одульф! Призываю вас, помогите мужу, себе, сыну. Ведь у вас сын!
Тут только вспомнила я, что уже часа два сижу перед этим вежливым офицером со спокойными, внимательными глазами, а Харальду пора есть и спать, и он один, он плачет, зовет меня.
— Пожалуйста, — говорю, — дайте мне сбегать домой. Я покормлю и уложу ребенка, попрошу соседку присмотреть за ним. И сразу вернусь. Ну пожалуйста…
— Как вы могли забыть, что счастье детей, их здоровье и благополучие составляют предмет особой заботы Цесариума. Зачем просить о том, что является вашим неотъемлемым правом. Накормить свое дитя! Спеть ему колыбельную! Пожелать приятных сновидений! Неужели найдется на Лехе хоть одно официальное лицо, честно исполняющее свой долг перед народом и Цесариумом, которое воспрепятствовало бы стремлению матери позаботиться о своем чаде? И незачем вам идти в эту ненастную погоду домой.
Гораздо удобнее, уютнее вы будете чувствовать себя здесь, у нас, где вам предоставят все необходимое: помещение, белье, полноценное питание, игрушки для малыша. Вы только вспоминайте, вспоминайте — все, что может быть полезным нам, а в конечном счете, и вам.
Поймите, помочь государству — значит помочь себе. А вот и наш маленький Харальд — видите, он уже здесь, с вами.
Хари стоит заплаканный, ко мне ручки тянет. Я к нему, а женщина, что привела его, прямо из моих рук вырвала и к стене оттащила, подальше.
— Сядьте, Эвлега Одульф!
Я села.
— Сейчас вашего сына накормят, вы увидите это сами.
И я вижу, сажают Хари за столик, ставят перед ним блюдце с каким-то коричневым пюре. Салфетку повязывают. Хари голодный, полную ложку ко рту тянет, давится. Ложку проглотил — скривился весь. Женщина вторую ложку ему насильно дает. Он отворачивается, плачет.
— Какой избалованный, невоспитанный ребенок, — говорит женщина. — Не есть такой вкусный паштет! Может быть, он немного пересолен, тогда запьем глотком этого замечательного напитка. — И подносит Харальду стакан чего-то прозрачного, как вода.
Хари глотнул, ротик раскрыл — задохнулся. А она льет, вливает в него эту жидкость. Боже, как он бился! Я рванулась было к нему — а встать не могу. Не заметила, как меня ремнями к стулу пристегнули.
— Не пить такой вкусный рассол, — говорит женщина, — как тебя испортили родители. Ну ничего, мы воспитаем тебя настоящим бойцом. Поел — марш спать!
— Сейчас вы убедитесь, что вашего сына уложат отдыхать. Так что уход за ним будет самый лучший, не беспокойтесь, — говорит офицер.
Тут я увидела солдата, который внес матрас, скорее не матрас, толстый коврик, и бросил его на пол. Вся поверхность — густые ряды коротких колючек. Женщина…
Голос Эвы стал еще тише, она помолчала. Потом продолжила свой рассказ чужим звенящим голосом:
— Она аккуратно сняла с Хари рубашку и штанишки. Голый малыш даже не плакал. Он широко раскрыл глаза и рот и хрипел.
Она положила Хари на колючки и вдруг резко нажала на животик.
Как он закричал! Забился! Она ловко застегнула ремни. Потом я заметила: на ремнях тоже были колючки, вернее — крючки. Они впились в кожу Харальда.
— Спи, глупыш, — сказала она. — Перестань плакать. Ты уже большой. В три года нельзя так плакать. Спи, не огорчай мамочку. И она ушла вместе с солдатом.
А Хари кричал, временами затихал, потом стонал. Он звал меня.
Он тянул ручки — мама, мама, ма-а-а… Мамочка, больно, больно, больно…
Сначала я билась в ремнях, не слыша ничего, кроме его стонов.
Потом до меня начали доходить слова офицера.
— Да, да, очень нервный ребенок. Я вам сочувствую, Эва. Однако не следует отвлекаться. Чем скорее мы с вами закончим, тем скорее вы сможете приласкать малютку. Мне кажется, ему не очень удобно спать. Может быть, складочки на простыне? Или сползло одеяло? Беспокойный сон, ай-яй-яй. Не исключено, что дело в непривычной пище. Мы могли не знать его обычного рациона. Я лично рекомендовал накормить ребенка своим любимым блюдом — паштет из соленых головоногов с перцем, прекрасная закуска к пиву, уверяю вас. Итак, я готов записать имена.
И я заговорила. Я начала вспоминать.
Гондла, Снорре, Груббе — друзья мужа со школьных лет.
Харальда отвязали, положили на чистую простыню.
Лаге, Ахти, Лаик — с ними Осгар ездил на охоту.
Израненное тельце смазали обезболивающим бальзамом. Хари затих.
Эдмунд, Гер-Педер, Хаген — соседи, с которыми Осгар любил играть в тун.
Харальду дали чистой воды.
Все труднее становилось вспоминать — мы жили скромно, редко принимали гостей, чаще всего проводили вечера и выходные вдвоем. Но я старалась, я очень старалась.
Эрик, Гилда, Гудрун…
Хари дали молочной каши.
Ламме, Дитта, Кениг…
Мне разрешили его погладить.
Офицер требовал больше имен, и я не заметила, как начала повторяться. Хари снова положили на шипы.
— Ради ваших детей, — кричала я, — пощадите! Я никого, никого больше не помню… Я вспомню, обязательно вспомню, только отпустите Хари, дайте мне моего Хари, умоляю, дайте мне, дайте… дайте…
Когда мне дали сына, он еще пищал. На губах — серая пена.
А все тело… Как его взять на руки… Меня, наверно, выпустили, потому что опомнилась я на улице у дверей нашего дома. Хари, говорила я, сынок, это я, мама, мама, ма-ма… Как вы думаете, он слышал? Он еще слышал? Мне казалось, слышал. Я так долго говорила.
Осгар вернулся сразу после похорон Цесариума. Потом еще год-два возвращались те, кого я называла. Они приходили ко мне.
Некоторые плакали. Некоторые плевали мне в глаза. У Гилды за это время умерла дочь. «Хорошо бы она пришла и убила меня», — думала я. Но Гилда проплакала со мной целый день и звала к себе — жить. Ведь с Осгаром мы не могли видеть друг друга. Мы и сейчас не встречаемся. Я слышала, он пробовал писать. Напечатал что-то под названием «Очищение». Или «Оправдание»? Нет — «Отчаяние».
У него семья. Он молодец, Осгар. А Гондла, Хаген и Кениг не вернулись вовсе. Так что я убила не только Хари. Сейчас я живу хорошо. Здесь на съемках такие славные люди. Жаль, что они уедут.
Я не из-за работы, мне хватает — то вывеску подновить, то витрину украсить. Просто вы какие-то другие. Мне не так душно. Иногда — страшно сказать — забываю о том, что было. Со мной, с нами. Ну, мне пора. Через час съемка — смерть Генриха. Грим очень сложный…
Наутро, как было условлено, Андрис отправился за Марьей. В «Земле», где она остановилась, постояльцев и гостей окружала «романтическая, полная архаических неудобств и роскоши обстановка прародины позапрошлого века» — цитата из рекламной брошюрки, которую Рервик листал в вестибюле, ожидая Марью. Она все не шла.
Портье заглянул в книгу и сказал, что дама по имени Марья Лааксо занимает номер одна тысяча четыреста седьмой и, судя по пустому гнезду для ключа, никуда не уходила. Мальчишка в красном кепи с галуном вознес Рервика на четырнадцатый этаж. Малиновый ковер. Темные, с тусклым блеском, прямоугольники дверей. 1407.
Андрис позвонил. Нет ответа. «Звонок не работает?» — подумал он, вспомнив подчеркнутый ретростиль отеля. Постучал. Тихо.
— М-ааа-у!
Андрис резко обернулся. Рука скользнула по гладкому дереву, наткнулась на бронзовую ручку. Ручка повернулась. Шикнув на кошку, Рервик вошел в номер.
Белый одноногий стол пуст. Кресло лежит на боку. Откинутый угол ковра горит желтой изнанкой. На полу у дивана — перевернутая поникшая сумка, две-три туники, красные мягкие туфли. Андрис открыл дверь в ванную. Под зеркалом — чистая полка. Марья не пользовалась косметикой. Красноватые брызги — крови? — на раковине. Скомканное, в крови же, полотенце свисает с вешалки. На зеленом полу раскрытая пудреница. Андрис торопливо поднял коробочку. В крышку вместо зеркала вставлено стереофото.
Остаюсь в ожидании ответного послания.
Твой Андрей
ПИСЬМО ШЕСТОЕ
1-е февраля, Москва
Ага!
Так ее похитили, это рыжее длинноногое чудо. Наконец-то будут поиски, погони, возможно, стрельба. Андрис начал с того, что отправился… Впрочем, об этом позже.
По-видимому, уже накипело. Из мозаичного общения с лехиянами — Годом, Иоклом, Эвой — высвечиваются искалеченные судьбы, события настолько трагичные, что гнев Андриса выходит за пределы его устремлений как художника, будит в нем атавистические свойства натуры — «Отмщенье, государь, отмщенье!» (не помню, откуда цитата). Только бы он, Болт, был жив. Уж Рервик до него доберется…
Откуда такие мысли? Неужто все так просто: преступник бежит, герой настигает мерзавца и отдает его на суд многострадального народа, который и выносит справедливый и суровый приговор. История знает и триумфальные возвращения тиранов. Наполеон Наполеоном, но вот какой курьез произошел сравнительно недавно.
Жан-Бедель Бокасса, экс-император Центральноафриканской империи (бывшей Убанги-Шари), называвший себя первым социалистическим императором, жил себе в полузаключении в замке Ардикур, что во Франции, используя досужее время для сладких воспоминаний. Чаще всего посещали императора видения коронации, имевшей место в стольном городе Банги в 1976 году.
Все, ну все было, как в декабре 1804 года в соборе Нотр-Дам.
Несколько малосущественных расхождений: «мерседес» вместо кареты, местный епископ вместо папы Пия VII, чуть меньше генералов (ведь вся армия не доходила до пятисот штыков и сабель). Но в основных моментах церемониал повторялся. Десять фрейлин несли шлейф Августины, облаченной в платье — точную копию наряда Жозефины. Бокасса сам надел корону себе на голову, а вторую, поменьше, возложил на коленопреклоненную императрицу. И всеобщее, естественно, ликование. Пушечные салюты, рокот тамтама, фейерверки, колокола.
Как же случилось, что так скоро — и двух лет не прошло — ликование сменилось глухой враждебностью низов, а пуще всего — молодежи. С кем вообще не стало сладу, так это со школьниками.
Толпа этих сопляков забросала камнями императорский автомобиль. Пришлось приструнить. Сообщения печати, вездесущей наглой печати Европы и Америки, что из схваченных двухсот двадцати восьми детей большая часть погибла от побоев или была расстреляна, — гнусная клевета. Расстреляны не более сотни хулиганов, причем сам Бокасса только однажды присутствовал на допросе и лично пристрелил лишь двух парней с наиболее злобными рожами. Тем не менее обстановка стала неблагоприятной для дальнейшего пребывания в империи. Пришлось переехать во Францию.
Временные неудачи не поколебали веры монарха в любовь своего народа, обманутого завистливыми и лицемерными интеллигентами, этими образованцами, по остроумному выражению не помню уж кого. Высокое уважение, проявленное к Бокассе истинными французскими демократами, еще более укрепило в нем сознание несправедливости изгнания и надежду на благополучное возвращение. Он не будет мстить обманутому народу, нет. Покарает лишь зачинщиков, которые, захватив власть в стране, пытаются вытравить из сердец простых земледельцев память о возлюбленном повелителе.
С этими мыслями Жан-Бедель, раздобыв фальшивый паспорт, сел в самолет и прилетел в Банги. Путь от аэродрома до дворца — когда-то императорского, ныне президентского — ах, как напрашивается аналогия с триумфальным переходом бухта Жуан — Париж, восторгом солдат и крестьян, целованием рук, слезами умиления.
Оставалось только постучать табакеркой в ворота дворцовой ограды… Увы. Я думаю, этот путь император преодолел на такси.
Нажал на кнопку звонка и был допущен к президенту. А после часовой беседы с глазу на глаз Жан-Бедель Бокасса был под стражей отправлен в тюрьму, где в настоящее время ожидает суда.
Будем считать 1:1. Наполеон прорвался, Бокасса не смог. Но старался. Посмотрим, как изменит этот счет Цесариум Леха. Теперь мы склонны полагать его живым и, как пишут в газетах, вынашивающим планы. Какие?
Дожить в довольстве и покое до конца дней своих, не помышляя о возвращении…
Оправдаться в глазах вселенской общественности, пописывая мемуары и иными средствами объясняя преимущества избранных им методов правления…
Набрать банду из старых соратников и всякого рода промеж планет шатающегося сброда, захватить власть на Лехе или другой периферийной планете и продолжать старое, завещав престол обожаемой дочери…
Где и в каком качестве он в настоящее время проживает?
По соседству с Лехом, на Малой Итайке, частным лицом, приторговывая наркотиками?.. Пиратствует потихоньку на внешних линиях, перехватывает грузовые беспилотные ракеты, о чем частенько сообщается в печати?.. Живет, глубоко законспирировавшись, на Земле-матушке, где занимает солидный пост научного сотрудника Музея свободы, равенства и братства?..
Все сие, мыслю, вскорости прояснится, купно с судьбою похищенной Марьи Лааксо и дочери тирана Салимы, принявшей имя Екатерины Платиня, поискам которых посвящается
глава шестая
Прежде всего Андрис отправился в управление службы порядка.
Пожилой инспектор с четырехугольным лицом замахал руками:
— Никаких оснований для беспокойства, уверяю вас. Разумеется, мы немедленно направим патруль для регистрации и обследования места события. Вы говорите, пятна крови? Без сомнения, какая-нибудь пустяковая травма. Если б вы знали, что за взбалмошный народ эти туристы. Она может объявиться в своем номере с минуты на минуту и устроить разнос администрации отеля, а заодно и нам, за нарушение неприкосновенности жилища. Или вовсе уехать, бросив вещи. «Земля» вообще славится экстравагантностью постояльцев. На прошлой неделе одну юную особу, дочь очень почтенных родителей, отец занимает немалый пост на Малой Итайке, так вот эту особу умыкнул на птерике наш местный шалопай из бюро обслуживания туристов. Прямо из номера через окно, представляете? Пока родители спали в соседней комнате… — Инспектор перехватил взгляд Рервика и быстро закончил: — О результатах принятых мер вы будете извещены в кратчайший срок.
— Благодарю. У меня еще одна просьба. Помогите мне установить, где живет Екатерина Платиня.
Инспектор сузил глаза, по-черепашьи нырнул в бумаги тяжелой головой.
— Эта… Платиня — жительница Леха?
— Да, — твердо сказал Рервик, не понимая, откуда эта уверенность.
— В таком случае, не знаю, смогу ли вам помочь. Обязательная регистрация распространяется у нас только на приезжих, — инспектор поднял голову от бумаг, — это делается исключительно для безопасности гостей Леха. Мы также настоятельно не рекомендуем им совершать самостоятельные поездки в отдаленные от туристических центров районы. После потрясений, имевших здесь место, не везде еще спокойно. Так, вчерашнее ваше путешествие на болота без надлежащей… надлежащей организации было неосторожным, весьма…
— Возможно, Платиня все же есть в ваших картотеках, или как там это называется?
— Извините, я отвлекся. Сию минуту. Если интересующая вас персона пожелала сообщить свой адрес в информаторий, мы узнаем об этом сей же час. — Инспектор повернулся к боковому столику и потыкал в допотопную клавиатуру. Довольно быстро он получил ответ: «Нет сведений». — Вот видите! — радостно сообщил он. — Еще три года назад, при всех изъянах тогдашней власти, вы не получили бы столь обескураживающего отказа. «Нет сведений!» Позор! В управлении службы порядка Леха нет сведений о его коренном обитателе. Немыслимо! Но факт. Оборотная сторона долгожданной свободы. Наш уважаемый гость не может найти… Как вы назвали эту женщину?
— Салима Болт!
Надо отдать должное инспектору. Он очень спокойно сказал:
— Разве? А я наводил справки о некоей, как мне показалось, Екатерине…
— Я думаю, это одно лицо.
— То, что вы говорите, очень важно. По нашим сведениям дочь Цесариума покинула Лех.
— А по моим сведениям она здесь.
— Доказательства?
— Вчера я ее видел собственными глазами, а не позднее сегодняшнего утра она оставила в номере Марьи Лааксо вот это.
Инспектор внимательно осмотрел пудреницу.
— И что же, Салима Болт не скрываясь ходит по городу? Ведь ее каждый лехиянин знает в лицо.
— Я узнал ее только по этому изображению.
— Да, фото необычное. Мы привыкли к другим.
— Каким же?
— Были, знаете ли, каноны. Костюм, парик, взгляд, поворот головы. Некая обобщенность. Идеал.
— Может быть, поэтому ее и не узнавали? Тем более, я не исключаю грима.
— Вы не могли ошибиться? Уловить сходство с фотографией, э-э… десятилетней, если не больше, давности…
— Я — кинорежиссер.
— И все-таки. Может быть, простое сходство. Вы не оставите у меня эту вещицу?
— Нет. — Андрис убрал пудреницу в карман. — Возможно, вы правы. Просто сходство. Так я буду ждать известий?
— Да, да.
Инспектор грузно поклонился, и Андрис вышел.
И тут же столкнулся с Годом.
— Авсей, где Велько?
— Завтракает в «Сигнале».
— Есть важное дело. Вы не присоединитесь к нам?
— Буду через четверть часа. Что случилось?
— Пропала Марья. И еще…
— Еще?
— Поторопитесь. Вам это интересно.
Андрис ускорил шаг. Трезубец над тавернoй вынырнул из-за куста мохнянки. Перед Рервиком возник худой морщинистый человек, похожий на стручок. Где-то Андрис уже видел его. Улыбаясь узким лицом, он протягивал крупную ладонь.
— Андрис Рервик, если не ошибаюсь?
— Рервик, — механически подтвердил Андрис, подавая руку.
— Очень рад. Мы почти познакомились вчера. Собственно, я вышел вам навстречу по просьбе Екатерины.
— Екатерины?
— Ведь вы ее ищете?
— Я ищу Марью Лааксо.
— Екатерина вам поможет.
Стручок не отнимал руки. Она была влажной.
— Я провожу вас.
— Конечно. Я только зайду на секунду в «Сигнал Им».
— Предупредить Вуйчича? — Ладонь сжалась, Рервик почувствовал укол.
Стручок молча улыбался, приближая лицо. Рервик покачнулся.
Как хорошо, однако, что этот милый горбун взял его под руку.
Вы говорите, до этих зарослей? Точь-в-точь страусовые перья.
Я пою? Вы правы, это неуместно. Сколь удивительно их сходство с подсвеченным земным солнцем облаком. Они так и называются — перистые. Ах, господин стручок, не сердитесь, но вы напоминаете мне персонаж старинной итальянской сказки. Там, знаете, кроме горохового стручка действуют и другие симпатичные создания, все по плодоовощному ведомству. Мы пришли? Нет? Полетим на птерике? Вчера мы летели, летели, а внизу болота, болота, боло…
Рервик пришел в себя в стандартной каюте спейс-корвета. Он лежал в гамаке. Некоторое время, скосив глаза, рассматривал обстановку. Откидная доска-стол. Привинченная к полу табуретка.
Санблок в углу. Обычная офицерская каюта корабля среднего класса. Андрису случалось проводить в таких недели, когда, в поисках драматических сюжетов, летал он между окраинными колониями, где списанные боевые единицы эс-флота, еще способные покрывать небольшие расстояния, использовались как грузовые и пассажирские корабли.
Стоило Рервику выкарабкаться из гамака, как на пороге возник человек в униформе, знакомой Андрису по фильмам XX века, а большей частью по костюмерным разных студий. Темный глухой пиджак с блестящими пуговицами и плетеными золотыми шнурами на плечах. Человек опустил на стол поднос, прикрытый салфеткой, и вышел, не сказав ни слова. Рервик присел на табуретку, откинул скользкую пленку. Металлический судок под крышкой.
Крышку — долой. Ковырнул ложкой клеклый сизый комок артикаши в зеленоватых подтеках комбижира. Отодвинул судок. Два глотка из кружки с теплой бледно-желтой водичкой. Во рту сделалось сладко и противно.
М-да, подумал Андрис, что сказал бы об этой трапезе мой добрый друг Евгений Дамианидис — мудрец и тонкий ценитель гастрономических утех. Как славно они с Велько сиживали за дощатым столом в сакле Дамианидиса в Цихисджвари! «Учитесь, друзья мои, — вещал Евгений, — учитесь извлекать радость из простых, незамысловатых действий. Вот я беру лаваш, теплый, — он поднимал указательный палец, — и заворачиваю в него хороший кусок имеретинского сыра и маленький пучок тархуна. Я держу все это в правой руке, а в левую беру стакан вина из кувшина дяди Самсония. Но прежде чем поднести к губам сосуд с этим нежным, как бархат, напитком, необходимо сделать три важных дела: поднять стакан и взглянуть сквозь него на солнце, посмотреть вокруг и увидеть глаза друзей и, наконец, убедиться, что у тебя под рукой есть сочный спелый помидор, который вслед за вином и сыром отправится в желудок, чтобы сделать тебя совершенно счастливым».
Рервик очнулся от сладких воспоминаний.
— Эй! — крикнул он зычно.
Тотчас появился стюард, молча взял поднос, молча повернулся — уходить.
— Эй!
Стюард остановился.
— Мне нужен стручок.
Стюард смотрел на Рервика пустыми глазами.
— Передайте ему: отвращение к гороху не помешает мне съесть его вместо этой дряни. Идите.
Дверь щелкнула, и Рервик остался один.
Но не надолго. Улыбаясь, вошел стручок.
— Прежде всего — глубочайшие извинения. За способ доставки на корабль. За скудость пищи. За дурные, недостойные гостя условия.
Горбун низко поклонился.
— Вам больше идет розовый фрак, — сказал Андрис.
— О! — искренне удивился стручок. — Какая осведомленность! Позвольте представиться: заведующий канцелярией куратория личных сношений Цесариума — Наргес, к вашим услугам.
Еще один поклон до пола.
— Где Марья?
— Я уже имел удовольствие сообщить, что вас ожидает встреча с Екатериной, и о Марье Лааксо вы, без сомнения, получите исчерпывающие сведения именно от Екатерины…
— Салимы? Давайте ее сюда.
— О! Степень вашей осведомленности воистину поразительна. Уверяю вас, по прибытии на место вы будете удовлетворены. Но…
— Но?
— Проявите благоразумие. Такт. Я не хочу сказать, что благополучие Марьи Лааксо, женщины вам, безусловно, дорогой, в большой степени зависит от вашей сдержанности и осмотрительности, но смею надеяться, что эти достойные похвал качества от природы присущи величайшему кинохудожнику современности.
— Величайший художник предупреждает, что он плевать хотел на ваши советы. А если с Марьей что-нибудь… Передайте мадам Екатерине, что я подавлю в себе от природы присущие мне сдержанность и осмотрительность, а также с немалым трудом воспитанное почтительное отношение к женщине и уничтожу ее вместе с папашей и всеми бледными варгесами и розовыми наргесами.
— Ай-яй, я, пожалуй, оставлю вас на время. Вы должны отдохнуть, вас ожидает ответственная миссия. Однако — молчу, молчу, молчу. Пусть это будет приятным сюрпризом, роскошным подарком, достойным, впрочем, столь выдающегося человека. Я не побеспокою вас до конца полета.
— Пусть меня побеспокоит стюард. Если мне не дадут человеческой еды, ответственная миссия окажется под угрозой.
Наргес, пятясь, вышел, а Рервик вновь залез в гамак и погрузился в мрачные размышления. К действительности его вернул визг тормозов. Корабль задрожал, качнулся и замер[6]. Рервик стал вслушиваться. Топот тяжелых ботинок. Отрывистые голоса — по-видимому, команды. Вскрик — не женский ли? Андрис подошел к двери и замахнулся кулаком — стучать, но в эту минуту дверь отворилась.
Вошли двое — стюард и другой, в той же форме, но огромного роста, на голову выше и вдвое толще Андриса, который и сам был мужчиной крупным. Стюард молча подал Рервику широкую ленту и показал на глаза. «Средневековые штучки», — пробормотал Андрис, завязывая узел на затылке. Амбал убедился, что повязка прилегает плотно. Потом взял Андриса за локоть и повел. Пахнуло сыростью.
Двадцать ступенек вниз по трапу. Ветер, редкие капли дождя. Под ногами мягко. Каблуки вдавливаются в землю. Рервик проволочил ногу — похоже, трава. Шли не более получаса. Наконец каблуки застучали по камню, пропали капли, исчез ветер. Несколько поворотов, лязг запоров. Негромкие реплики встречных. Лифт, спуск, снова коридоры. Нежное движение воздуха, сладковатый запах духов, нет, не духов, пожалуй. Смолы? Ноги ступали по чему-то упругому.
Остановка. С пленника сняли повязку.
Андрис был в помещении, отрезанном от мира разного рода портьерами, ширмами, экранами. Складки материи уходили далеко вверх, сходясь в глубокой полутьме. Под ногами толстый пурпурный ковер. Там-сям, без видимого порядка, низкие белые столики, подушки. С каждой стороны камина, большого, тяжелого, — светец с курящимися пахучими палочками. Конвоиры исчезли. Рервик был один. На ближайшем столике он обнаружил поднос, подгреб пару подушек, сел и приступил к делу. Отвар из очень толково смешанных овощей и трав, орехи вестуты в соленом тесте, печеные бананы с медом. Не успел Рервик сытым жестом отодвинуть стакан кисловатого сока, оставившего нежное послевкусие на языке, как явился юноша в белом мундире и убрал поднос, пятясь и кланяясь. Рервик поднялся. Из-за ширмы показалась высокая женская фигура. Одновременно стал ярче свет люстры.
— Рада видеть Андриса Рервика у себя. Там, на Лехе, нам не удалось познакомиться. Это не моя вина, а скорее беда — ведь именно для знакомства с вами я прилетала на родину. Стыдно признаться, но цель знакомства виделась мне не совсем бескорыстной.
Да и может ли сам Рервик надеяться на бескорыстное отношение?
Его слава, увы, делает такую надежду призрачной…
Грубая лесть в сочетании с пленительными манерами обескуражили Рервика. Он сделал попытку прервать Салиму, но она царственным жестом предложила ему сесть рядом и продолжала:
— По роду занятий мне часто приходится бывать на Лехе, и каждый раз сложные, противоречивые чувства наполняют мое сердце. Родина. Для изгнанника это слово значит не в пример больше, чем для полноправного гражданина. Много чужого, враждебного народилось там за эти годы. Странное, оскорбительное шутовство охватило всех и вся. Карнавал без конца и без края. Признак духовного здоровья народа, скажете вы. Полнокровный смех, жизнерадостные развлечения. Отброшен страх перед властью. Да, да, это так. Но вместе со страхом пропали и внутренняя собранность, напряженность, энергия… Вместе с ограниченностью и жаждой повиноваться ушли жертвенность, самоотверженность, целеустремленность. Оборвалась трагическая струна, натянутая некогда в сердце всякого лехиянина. А величие и трагедия идут рука об руку. Возьмите историю…
— Не хочу, — решительно сказал Андрис.
— Чего вы не хотите?
— Послушайте, я желаю знать, зачем меня погрузили в корвет и притащили в эту пещеру Монте-Кристо. Кстати, вас все равно найдут в этой берлоге.
— Как вы прямолинейны, Рервик! Вы не дали мне докончить. Я хочу лишь убедить час, что не так все прозрачно в прошлом моей родины, как вам представляется. Отец — не монстр, не был им никогда. Его сердце кровоточит. Он, как и я и как — я уверена — вы, хочет одного — справедливой оценки всего содеянного им и при нем. А поскольку вы — лучший режиссер нашего времени — собираетесь включить историю Леха в контекст огромного полотна, посвященного уродливым проявлениям власти, мы хотим, чтобы вы знали правду. Ведь справедливость требует, чтобы были выслушаны обе стороны, не так ли?
— Я бы выслушал сообщение о том, где находится Марья Лааксо.
— Очень близко от нас. Мы рассчитываем на ее содействие.
— Что, что?
— Эта в высшей степени благоразумная женщина поможет вам без предвзятости рассказать правду об отце.
— Когда я ее увижу?
— Как только я уйду.
— Так уходите!
Такого Салима, видимо, не ожидала. Она резко поднялась и тут же снова села, но не рядом с Рервиком, а поодаль. Помолчав, она сказала:
— Вам здесь будет удобно, надеюсь. Сейчас вас проводят в вашу комнату. Если будет нужда в чем-либо — кроме свежего воздуха и неба над головой, обращайтесь к Наргесу.
Теперь она встала вполне величественно и, чуть приподняв длинные юбки, направилась к ширмам.
Вспомнил! Вернее, нашел. «Отмщенье, Государь, отмщенье! Паду к ногам твоим: будь справедлив и накажи убийцу, чтоб казнь его в позднейшие века твой правый суд потомству возвестила, чтоб видели злодеи в ней пример». Эти строки француза Ротру Лермонтов взял эпиграфом к своему «На смерть Поэта», но в современных изданиях они не часто приводятся. Кто только не вспоминал!
Три писателя, главный режиссер детского театра, литературный критик, маститый переводчик, не говоря уж о коллега по институту.
Предполагали Шекспира и А. К. Толстого, Пушкина и Ростана.
Называли даже «Тристана и Изольду»… Сколь неуверенно себя чувствуешь в плотной и душноватой атмосфере цитат, давно бесхозных, потерянно толкущихся в тесном культурном пространстве.
«Мавр сделал свое дело…» Или: «Товарищи! Мы выступаем завтра из Кракова». Сквозь лязг шашек и гусениц, через приметы партизанского быта, между землянками, «языками» и танками, идущими ромбом, ощупывая нить пятистопного ямба, ты идешь на этот голос: «…из Кракова?» Неужто майор Вихрь какой-нибудь? Нет, братцы, нет. «Я, Мнишек, у тебя остановлюсь в Самборе на три дня».
Приехали. «Борис Годунов». После подобного урока начинаешь с осторожностью относиться к такому тексту: «Милиционеры вбежали в кусты, но из-за завала затрещало один за другим несколько выстрелов». Шейнин? Овалов? Вайнеры? Какой редактор пропустит это з-за-за-за — «из-за завала затрещало»? Ясно, что писал большой начальник, редакторам неподвластный. Так и есть: Толстой Лев Николаевич. Милиционеры охотятся за Хаджи-Муратом. А мавр, сделавший свое дело, кстати, — из Шиллера. «Заговор Фиеско в Генуе», юношеская драма периода «Бури и натиска».
Вернемся, однако, к Рервику. Пропускаю заведомо нудное описание стража в трико и войлочных тапочках, ведущего Андриса по муравьиным ходам в трехмерном пространстве убежища.
Шли долго, но и оказавшись в своей каюте (камере?), Андрис продолжал гадать, почему посулила ему Салима все, кроме открытого неба. Негодная атмосфера? Но он уже дышал ею. Боязнь, что он сориентируется? Напрасная. И на земном небосклоне Андрис с трудом находил Большую Медведицу, а уж дубль-ве Кассиопеи или, тем паче, крест Лебедя, были для него лишь объектами из фантастических романов и кроссвордов. Впрочем, Салима могла этого и не знать.
Рервик неотрывно смотрел на дверь. И дверь открылась.
Он с трудом узнал Марью. Лицо ее осветилось на секунду, но тут же потухло. По-старушечьи пряча плечи в грязно-бурую тряпку, она вошла чуть боком. Остановилась, глядя в пол. Длинные тонкие ноги в резиновых тапочках выглядели беззащитно и жалко.
— Марья!
Дрожь ледяной ладони. Андрис обнял ее, и она застонала. Бурый платок сполз с плеча, обнажив синий кровоподтек. Марья беззвучно заплакала. Бессильно прильнула к Рервику. Он поднял ее на руки и осторожно положил на койку.
— Ай-яй-яй, гордая землянка. Или землячка? Земляничка?.. — Андрис бормотал несусветицу, промокая платком слезы девушки. — Держись, малыш.
— Они… они… били. Я их ненавижу… Я их боюсь.
Андрис начинал понимать, какое потрясение испытала Марья, никогда в своей жизни не знавшая насилия, унижения, страха, не ведавшая стыда от грубой физической боли.
— Теоретик рыжий. Как же ты изучала свои исторические мерзости. Ну, ничего. Тише, тише. Расскажи мне все. С той минуты, когда я ушел из гостиницы…
— Только ты держи меня за руку, ладно? — Марья заговорила сбивчиво, но понемногу успокоилась. — Они ждали в номере. Я вошла, а свет не зажегся. Я удивилась, потянулась к выключателю. Тут меня схватили за руки. И началось. Их было сначала двое. Тот горбун, ты видел его у стадиона…
— Наргес.
— Да, так его называла Екатерина. Они требовали кристалл с записью рассказа Эвы. Хватали меня своими мерзкими лапами. Тот, второй, тонкогубый, пальцами костлявыми… Больно, противно, страшно. Кричать я не могла — сначала от неожиданности, потом мне рот заткнули какой-то пружинистой грушей. Иногда ее вынимали, спрашивали, где кристалл, и опять били. А потом из-за ширмы вышла Екатерина. Я уже мало что понимала. Обрадовалась. Она мне: «Отдай им, деточка, кристалл, и они уйдут». А я: «Нет у меня кристалла. Скоро весь мир узнает о ваших мерзостях». Она: «Ты отдала его Рервику, детка? Неужели ты поступила так неосторожно?» И близко ко мне наклонилась. Я рванулась и головой ей в лицо. Она — в ванную. Кровь. Потом вышла: «Не трогать ее». И мне: «Не бойся, я не дам тебя в обиду».
Рервик молча гладил Марью по мокрому лицу.
— Потом меня укололи чем-то. Я плохо помню, что было. Мне даже показалось, я сама вышла из гостиницы. А очнулась уже здесь. Когда — не знаю. Очень пить хотелось. Я позвала. Вошли двое, уже других. Один — огромный. Пить дали, немного. И я поняла — сейчас опять. И закричала. О, Андрис, как мне стыдно. Я боюсь их, боюсь, боюсь, боюсь… Этот, огромный, сжал мне пальцы, навалился. И опять вошла Екатерина.
— Салима.
— Как ты сказал?
— Салима, дочь Болта.
— Ах, вот как. Она их выгнала. И сказала, что скоро я увижу тебя. Что от того, как я себя поведу, зависит и моя и твоя судьба. Что она верит в мое благоразумие. Потом меня покормили. Андрис…
Марья затихла, задремала.
Андрис сидел, боясь пошевелиться. Рука под щекой Марьи затекла. С шумом распахнулась дверь. На пороге стоял тот же детина, что вел Андриса в пещеру. Он уже открыл рот, но Рервик прижал палец к губам, осторожно вытянул руку из-под щеки Марьи и встал.
— Позови Салиму, — сказал он негромко. — Быстро!
Детина пожал плечами и вышел, неслышно прикрыв дверь.
Марья шевельнулась, застонала и снова затихла.
Теперь дверь отворилась осторожно. Мягко ступая сапожками, вошел Наргес. Предупредив возмущенный возглас Рервика, он вытянул перед собой ладони, как бы отталкиваясь:
— Я знаю. Ваше желание говорить с Салимой Болт доведено до ее сведения. В настоящую минуту оно невыполнимо. Придется подождать.
— Сколько?
— Простите?
— Сколько ждать?
— О, недолго. Возможно, день. Или два. Но…
— В вашей богадельне есть врач?
— Разумеется, разумеется.
— Впрочем, нет. Врач не нужен. Ваш врач не нужен. Пришлите все необходимое, чтобы обработать раны и ушибы. Обезболивающее. И поживее.
— Я сам хотел это предложить. Мы позаботимся о пострадавшей. Уверяю вас, излишняя жестокость в отношении Марьи Лааксо, допущенная нашими людьми, вызвала самое суровое осуждение Цесариума. Увы, увы, не всегда приходится работать с людьми, наделенными желаемыми качествами. На сей раз, даю вам слово, я лично прослежу, чтобы наша… гостья не испытывала неудобств. Разумеется, я не могу обеспечить комфорта первоклассного отеля, но приличные условия и уход на протяжении всего визита в наше — увы! — убежище будут предоставлены без всякого сомнения, в чем прошу принять…
Рервик шагнул вперед, и за спиной Наргеса выросла фигура с трубкой парализатора в руке.
— Ну, ну. Удаляюсь, удаляюсь, удаляюсь. Вынужден, впрочем, настаивать на том, чтобы наша гостья вернулась в отведенное ей помещение, где ей будет гораздо удобнее, уверяю вас. Теперь, когда вы убедились, что Марье Лааксо ничего не угрожает, вы и сами можете предаться заслуженному отдыху в ожидании того знаменательного события, которое не замедлит воспоследовать…
Рервик уже не слушал, а только наблюдал, как два вновь вошедших служителя уложили Марью на полотняные носилки, причем один из них слегка коснулся инжектором ее руки, прервав стон и ловко поправив обмякшее тело. Неслышными войлочными шагами они вышли, за ними скользнул Наргес, последним — страж с парализатором. Дверь с лязгом захлопнулась.
Всего-то примитивный шантаж, размышлял Рервик, повалившись на койку, но именно примитивному шантажу трудно противостоять. Марья в. их руках. Но чего они добиваются? Неужели все это затеяно ради того, чтобы он создал образ благородного Цесариума и увековечил его славные деяния? Впрочем, может ли прийти к иному средневековое сознание, так тщательно изучаемое Марьей, его жертвой. И надо надеяться, последней. Ясно одно — нужно тянуть время. Пока Велько не начнет поиск. Какие у него нити? Разговор с инспектором службы порядка. Но тот почти наверняка человек Болта. Встреча с Годом. Что-то это дает, но мало. Насколько глубоко законспирированы люди Болта? Сколько их? Что принадлежит Цесариуму и Салиме? Кучка людей и этот бункер? Город и целая армия? Вся планета? Один спейс-корвет или мощный флот? И где все это находится?
Рервику представился румяный красавец Цесариум в тоге, на пьедестале, с поднятой в римском приветствии рукой и улыбкой на полных, мужественно очерченных губах. Он смотрит вдаль мудрым взором и глубоким баритоном произносит: Но много нас еще живых, и нам Причины нет печалиться.
Вот и явился эпиграф к этой главе. Пусть он, придя с опозданием, здесь и остается. Не тащить же его в начало.
ПИСЬМО СЕДЬМОЕ
Душный майский вечер навалился на Рим. Секретарь папской ассоциации католических литераторов, то и дело промокая лоб и затылок батистовым платком, терпеливо увещевал поэта.
— Ей-Богу, товарищ Алигьери, зачем вам эти неприятности? — говорил он с милой улыбкой, но кривя губу. — К чему поливать грязью черных гвельфов, достойных граждан и истинных патриотов Флоренции? Ведь нет сомнения, что они беззаветно преданы святейшему отцу, мудрейшему Бонифацию VIII, нашему славному Бонн.
Не щадя сил борются они за новый порядок. А вы? Вы обвиняетесь в подкупе, в кознях против святого престола. Флорентийские патриоты не просто настояли на вашем изгнании — в случае появления в городе вас решено предать костру! Они, конечно, перенервничали.
Иначе не кричали бы вам нелепые и, быть может, обидные слова.
Что они там кричали? «Данте, убирайся в свой Израиль! А то в следующий раз придем с арбалетом Калашникова!» Скажите, кому на пользу такое ожесточение нравов? Что нужно нам всем? Мир, покой и… Ну, догадываетесь? Твердое и нерушимое единство. Единение! А вы своими стишками хотите разъединить нас, поколебать папский престол. Разумно ли это? Вы устали от скитаний. Вы раздражены. Плохо выглядите. Сам папа справлялся о вашем здоровье.
Мы хотим предложить вам путевку в пансионат. Выбирайте — Лазурный берег, Сорренто… А если вас не пугает дальняя дорога, рекомендую Таврию, прославленный дом творчества в Коктебеле. Целебный климат, питание выше всяких похвал. Хотя, впрочем, в тех местах сейчас обосновались татары, генуэзцы забросили свои крепости, так что это небезопасно. Нет, нет, лучше всего — кардинальский санаторий под Римом. Три часа неспешной езды на двуколке. И мой вам совет — посвятите папе два-три бодрых стихотворения…
Что-нибудь такое. Светлое. Обнадеживающее. Тим-пам, ри-ра-ра…
Ну, не мне вас учить. И лучезарное будущее вам обеспечено.
Арестован Данте был именно там, в санатории под Римом.
Другой великий изгнанник был взят в санатории на станции Черусти. Третий перед арестом размышлял о Мухаммеде, уничтожавшем поэтов рьяно. Поэты мешают правителям. Мешали всегда.
Зачем Мухаммед уничтожил поэтов, принцев слова?
Ему не хватало снов и полетов, основа его мирозданья была бы хрупкой арабской клетью.
Ведь он не торгаш, берет не покупкой мечом и плетью.
Плеть начинает воображать, что она гениальна.
Поэтам, в сущности, нечего выражать, а они сочиняют нахально — назойливые конкуренты мудрого, веского слова, им лучше бы — в пациенты сумасшедшего дома мирского.
О поэты, поэты, анархистское семя!
Сжить вас со свету, найду для этого время.
О поэты, поэты, хулиганы, закваска, дрожжи, опасаюсь вас. Поэтому и думаю о вас с дрожью.
На прекрасном верблюде я плыл по пустыне.
Смотрю — какие-то люди, бивак разбили, чай стынет.
Горячий разговор о чем-то, подъехали ближе — стихи и песни!
От агентов разве дождешься отчета, выгнать дармоедов на пенсию.
Встретил в бурнусе Гете и приказал зарезать.
Не эфирные полеты мне нужны — мудрая трезвость.
Эдакому пострелу позволить выкидывать коленца?
Ни-ни. Утверждаю: к расстрелу Тициана Табидзе и Егише Чаренца.
Жизнь поэта — мгновенье, сердце сжимается в страхе.
Данте умер в Равенне, а Флоренция до сих пор мечтает о его прахе.
Что сделала ты со своим сыном, Флоренция?
Опозорилась на века.
Великого имени фосфоресценция — великая твоя тоска.
Что скажут в двадцать пятом веке о Мандельштаме, милый город Москва?
Скажут: дикари, шаманили, били в тамтамы, и умирали слова.
Убивали поэтов настоящих, настоянных на страданье, а пользующиеся благосклонным вниманием властей предержащих, вылезшие изо всех щелей официальные государственные поэты за это лили убийцам елей.
«Нет, не спрятаться мне от великой муры за широкую спину Москвы».
Ведь страшнее танковой немчуры, конно-сабельной татарвы, страшнее, чем мертвый кислотный дождь, страшнее, чем ртутный потоп, свой родимый убийца — великий вождь, свой родной мерзавец-холоп.
Друг мой, честно говоря, не помню, кто кому на сей раз пишет.
Причина проста: я позабыл поставить прощальную подпись в конце предыдущего послания. Ну вот, разобрался в бумажках, выяснил: то письмо писано Владимиром, стало быть, это пишет Андрей. Пишет, естественно, из Савельева, ну, скажем,
Дорогой Владимир!
С некоторым опозданием, но от души поздравляю с днем рождения. Пусть стада твои не знают мора, множится дичь в твоих угодьях, тучнеют нивы, пусть будет жирным молоко верблюдиц твоих, а рабы твои да не потеряют силы и уменья. Спешу также поздравить домочадцев твоих и пожелать вам всем благополучия и процветания.
Хочу дополнить портрет Жана Бокассы маленькой деталью, промелькнувшей в савельевских газетах: император, помимо прочих увлечений, любил человечину и хранил в холодильнике отдельные части тел своих подданных. По этому роду занятий он вступил в достойное «социалистическое соревнование» с другим прогрессивным императором — угандийским Иди Амином. Поневоле думаешь, каков будет приговор каннибалу-монарху? Если исключить прилюдное поедание преступников, как противоречащее некоторым, пусть интуитивно понимаемым, установлениям цивилизованного общества, как ни зыбки границы последних, остается все же немалый выбор способов выражения неодобрения, широко культивируемых с южных гор до северных морей. Ливийский полковник, например, своих противников вешает, причем процедуру казни транслирует по национальному телевидению. Пронырливые американские телеребята сами, без понукания властей, умудряются показать искаженную удушьем физиономию мультиубийцы за стеклом газовой камеры.
Немало обремененных многовековой культурой наций стыдливо «мочит» своих террористов и шпионов, убийц и насильников, валютчиков и налетчиков. Все весьма справедливо en masse и страшно в каждом отдельном случае. Ибо где грань: вот этого — к высшей мере, а того, учитывая кое-какие обстоятельства, — помиловать.
Вот и в Витебске (да только ли в нем) группу лиц за тягчайшие — к высшей. И привели в исполнение. А потом нашли истинных виновников. И тоже, естественно, в исполнение. Что же делать с теми, кто — назовем это так — ошибся и совершил ритуальное убийство «неправильно»? Не убивать же. А то конца не будет.
В замечательное время живем.
Вернемся к Андрису. Мне показалось, что мы отправили его на встречу с Болтом без должной подготовки. Мало он поварился в прошлом Леха. Я вижу его в серьезной работе: режиссер изучает натуру, историю, тонкости быта и нравов эпохи. Пропадает в библиотеках — разрешение работать в спецхране получено не без труда после настойчивых просьб больших людей с Земли. И к рассказам Иокла и Эвы, к видеокадрам Года прибавляются сюжеты ЛЕХроники, картины официальных художников, романы премированных писателей, поэмы и оды, газеты, газеты, газеты…
«Вопрос о взятии высот по увеличению продуктивности ейловодства Цесариум учит, что для овладения высотами по доведению продуктивности вселехианского ейлостада до контрольного уровня надо решить вопрос откорма, что можно сделать двумя путями, один из которых соответствует основополагающим идеям, а потому верен, другой же идет с ними вразрез, а потому порочен, вреден и преступен, в силу чего должен быть отброшен, осужден и предан забвению как преступный, вредный и порочный.
Сегодня Цесариум посетил строительство ейловодческого комплекса, ознакомился с положением дел и дал программные указания, служащие руководством к ускорению работ. Строители немедленно встали на вахту и поднялись на борьбу за претворение в жизнь указаний Цесариума. Глубоко осознав, что без опережающего ведения вскрышных работ нельзя добиться увеличения надоев на одну ейломатку, бурильщики самоотверженно провели закладку сенажа на хранение в труднейших погодных условиях…»
Андрис отложил газету и открыл глянцевитый журнал. На ярком снимке — молодой Болт рядом с крепким загорелым мужчиной средних лет. В руках у мужчины — вилы. «Цесариум беседует с честным тружеником Заболотья, первым поднявшим факел пожертвования яиц кицы нуждающимся патриотам». Цесариум, очень занятый делом строительства нового Леха, все-таки выбрал время для встречи с молодым вилосуем и яйцехватом Кимоном Стахом. Широко улыбаясь, Цесариум крепко взял его жесткую, привыкшую к вилам ладонь. Охваченный небывалым волнением, Кимон Стах не мог найти слов. Цесариум, проникнув в сокровенные думы яйцехвата, сказал: «Сегодня простые труженики стали свободными и полноправными хозяевами планеты и могут полноправно и свободно трудиться». Высоко оценивая поступок Кимона, пожертвовавшего недостаточным инвалидам собранные им яйца, Цесариум подчеркнул, что этот поступок является замечательным почином, патриотическим начинанием, вытекающим из глубокого осознания долга каждого честного труженика перед недостаточными инвалидами. Впоследствии Кимон Стах часто говорил о волнующих событиях того незабываемого дня, когда Цесариум пригласил его откушать вместе с ним, и о том, что Цесариум, отдавая все силы мощного ума и могучего организма борьбе за благо честных тружеников, питался исключительно кашей из толченых зерен вестуты, полностью пренебрегая икрой, севрюжкой и коньяком.
Почувствовав легкий звон в голове, Рервик стал механически перебирать газеты. Глаза наткнулись на аршинный заголовок:
ЦЕХ, УДОСТОЕННЫЙ ВЫСШЕЙ НАГРАДЫ
«Замечательное событие произошло вчера в игольном цехе комбината имени Кунмангура. Тружеников этого славного предприятия ждала встреча с Любимой Дочерью, которую сам Цесариум послал в игольный цех, чтобы удостоить его замечательной награды за достигнутые успехи. Услышав о радостной новости, каждый работник игольного цеха взял на себя обязательство овладеть передовыми методами заточки игл, повысить культурный и физкультурный уровень и повести борьбу за выполнение.
Любимая Дочь, ознакомившись на месте с жизнью и трудом тружеников игольного фронта, дала указание о заточке игл с обоих концов, что позволит смежному комбинату вдвое повысить производительность швейных операций при пошиве основной продукции. «Вдвое больше знамен, стягов, флагов, вымпелов, хоругвей и штандартов смогут сшить ваши товарищи, славные швейники комбината имени Мутинги!» — сказала Любимая Дочь.
Потом она остановилась у рабочего места знатной дыробойщицы Квалы Палех. На ее дыробойном аппарате висит гордая надпись: «Дважды образцовый станок», а чуть ниже — «Станок высокой культуры дыробоя». Любимая Дочь ласково улыбнулась Квале Палех и сказала: «Я расскажу Цесариуму, какие замечательные люди трудятся в игольном цехе». Под восторженные клики тружеников Любимая Дочь вручила Квале Палех замечательную награду — слепок указующей десницы Цесариума.
— Рука Любимого Руководителя отныне всегда будет указывать нам путь — единственно правильный путь к счастливым и замечательным свершениям в нашем замечательном труде на благо. — Так сказала скромная труженица, гордая высоким почетом, оказанным ей и всему игольному цеху Цесариумом и Любимой Дочерью. От имени своих товарищей по цеху я заверяю Любимого Руководителя и Любимую Дочь, что наш цех немедленно приступит к двухсторонней заточке нашей продукции, преодолевая гнусную косность улиток и разнузданное низкопоклонство сольников. Так заточим же больше игл на радость Цесариуму и Любимой Дочери!
И все труженики игольного цеха немедленно возобновили замечательный трудовой процесс».
Ниже шли стихи, написанные Квалой Палех ночью, после знаменательного дня награждения.
Вот теперь, я думаю, Андрис полностью готов к встрече с Болтом, которой и посвящена
глава седьмая
Люди его не пускали в дома, города не пускали В стены свои, но Метаб не сдавался, свирепый, как прежде.
Вергилий Андрис ждал в той же ширменной. Он был начеку, и все же не заметил появления Любимого Руководителя. Его не было — и он есть.
Переход от одного состояния к другому был неуловим. Как будто Болт вечно стоял, опершись рукой о каминную полку. Спокойные темные глаза улыбались. Короткие волосы по-римски набегали на лоб и виски. Голова чуть крупнее античных канонов, но прекрасной лепки. Величавые складки белой тоги. Полные губы разомкнулись.
— Не откажите в любезности, Андрис Рервик. Преодолейте на короткое время укоренившееся в вашем сердце предубеждение и выслушайте меня если не доброжелательно, то хотя бы не враждебно. Прошу вас. — Плавным жестом Цесариум пригласил Рервика сесть, подождал, пока тот опустится на груду подушек, но сам остался стоять.
Андрис поздно понял невыгоду своего положения. Болт возвышался над ним, подавляя еще до начала разговора. Подавляя спокойным величием, красотой лица и позы, звучностью голоса.
Разозлившись на себя, Андрис неуклюже поднялся и резко сказал: — У вас есть обычный стул?
С двух сторон тут же возникли униформисты, и у низкого столика появились две белые табуретки. Однако Рервик и Болт продолжали стоять друг против друга. Наконец Цесариум согнал с лица улыбку и заговорил: — Не буду извиняться за причиненные вам неудобства, ни за душевные и телесные обиды, нанесенные моими людьми вашей подруге. Не одобряя методов, я тем не менее беру на себя всю ответственность за содеянное.
Он помолчал и снова улыбнулся — мягко и грустно.
— Салима говорила с вами. Думаю, мы обойдемся без околичностей. Я не хочу уходить в небытие монстром. Это нежелание и заставило меня такими — грязными, по вашему убеждению, мерами вынудить вас выслушать мои аргументы. Я не был уверен, что, встретившись со мной, вы не попытаетесь меня уничтожить. Отсюда эти меры. Увы, жестокие. На вашем языке — шантаж. Пусть будет шантаж. Лишь бы цель была достигнута.
— Цель?
— Освещение истины во всей ее сложности и противоречивости, а не обряженной в двухцветный балахон: плохое — хорошее.
Андрис молчал.
— Разумеется, вы как художник сами выберете метод достижения цели. О, я ценю искусство! Жалкие глупцы подняли крик: «Болт разрушил искусство Леха». Ложь. Я просто загнал эту необузданную стихию в приличествующие рамки. Два-три благоразумных критика подготовили в газетах почву. Доступно изложили основные принципы нашего единственно правильного метода народного искусства. Мы, в свою очередь, усилили убедительность их доводов рядом своевременных казней. Я вообще вам скажу: поэты, художники — люди в массе своей физически нестойкие. Чуть пожестче допрос, и они вполне готовы служить. Ну, а в сложении слов — истинные мастера. Искусство во все времена было продажным в достаточной степени, чтобы находить весьма изощренные инструменты для выражения любых идей, угодных и нужных заказчику. В вашей воле использовать какой-либо аргумент из тех, которые я намерен изложить, или изобрести свой. Лично я фундаментом успеха нашего предприятия полагаю тот факт, что Марья Лааксо останется под нашим покровительством, пока вы не решите вашу творческую задачу или мы с вами не найдем более надежную гарантию взаимопонимания.
Андрис продолжал молчать. Повинуясь очередному невидимому сигналу или заранее условленной программе, служители внесли подносы и уставили стол сосудами и сосудиками изысканных форм и расцветок с фруктами, орехами, паштетами, крохотными финтифлюшками из черт знает чего, но жутко аппетитного и дразнящего. В центре встал высокий кувшин с густым темно-красным напитком.
— Здесь все лехиянское. Нелегко доставлять эти милые сердцу дары родины в глушь изгнания, но радость, даваемая ими, столь велика…
Цесариум налил вино в подобие пиал. Пригубил, кивнул, сел на табуретку.
— Мне кажется, вы не восприняли с открытым сердцем моего замечания о продажности искусства. Это вовсе не хула. Фиксация действительного порядка вещей. Мир безграничен. Человек смертен. Искусство продажно. Сначала оно служило — то есть продавало себя — религии. Потом — деньгам. Потом — власти. Иконы — вершина живописи. Храмы — архитектуры. Мессы, хоралы. Оды, панегирики. Все на продажу — за почетную должность, богатство, славу. Теперь я покупаю вас. Андрис Рервик создаст шедевр, который смоет позорную грязь с имени скромного слуги своего народа, бывшего Цесариума Леха, Жоземунта Болта. В качестве платы предлагаю свободу вам — немедленно по заключении сделки, свободу Марье Лааксо — в оговоренный впоследствии срок. Ну, и соблаговолите выслушать аргументы, могущие помочь в исполнении этой нелегкой, но славной миссии. К изложению последних я и приступаю.
Болт с легким стуком поставил пиалу. Затем поднялся и торжественно произнес:
— Аргумент первый. Путь Леха — свой путь. Земля не может быть эталоном для своих исторических колоний. Следовать примеру землян — погрязнуть в благополучии и животном довольстве, превратиться в анемичную, бездуховную нацию, лишенную самосознания. Земля — музей. Она бессильна и чванлива. Подобно позднему Риму, она пьет соки своих провинций, питается их идеями, их энергией. Преодоление физических, материальных трудностей, телесных страданий — залог жизнеспособности, стимул творческого развития, продуктивности. Состояние комфорта — конец поиска, конец борьбы, застой, смерть. Напрягаясь в борьбе с врагами, лехияне укрепили единство, волю, целеустремленность. Поэтому в те периоды истории, когда горизонт был чист и ничто не мешало процветанию, вместо ожидаемого броска вперед возникало торможение. Вот тогда…
— Тогда вы придумывали сольников и улиток, чтобы было с кем бороться, сказал Рервик.
— Сольники появились сами, а улиток действительно пришлось выдумать. Впрочем, это тактические мелочи нашего развития. Основная же мысль: трудности — вот двигатель прогресса. Из этой мысли и следует исходить при оценке нашего, а следовательно, и моего пути. Я вижу, у вас возникают вопросы?
— Конечная цель вашего движения?
— Конечной цели не существует. Если есть цель, то есть и конец движения. Цель может только провозглашаться. Так же как народовластие, свобода. Практически же — это слова великого мудреца древности, никем еще не опровергнутые, — нельзя освобождать людей во внешней жизни больше, чем они освобождены внутри. Народу легче выносить насильственное бремя рабства, чем дар излишней свободы. Вы знаете, к чему обычно приводит внезапно обретенная вчерашними рабами свобода? К всеобщей резне. Можете эту мысль использовать как второй аргумент.
— Отказ от дара свободы означает добровольное повиновение. Тот же мудрец, если не ошибаюсь, утверждал, что времена слепого повиновения прошли. Дисциплину можно и нужно нарушать там, где она зовет на злодейство. Или сейчас, через сотни лет, время несвободы вновь пришло?
— Именно пришло! Здесь и сейчас. Hie et nunc. И повиновение не слепо — оно осознано. Обусловлено движением к цели.
— Которой не существует.
— Ай-яй. Не передергивайте. Конечной — не существует. Но каждый шаг есть движение к некоторой промежуточной. Или, если хотите, к той самой, конечной, но она на этот шаг сразу и отдаляется. Теперь — аргумент третий. Зло и добро — равноправные принципы бытия, неразлучные, как две стороны одного листа бумаги. Полторы тысячи лет тому назад это провозгласили великие манихейцы. Видите — я ничего не придумал сам. Но я хороший ученик. Нет чистоты без грязи. Счастья без страдания. Добродетель предполагает точку отсчета. Мерзавцы и герои — лишь противолежащие точки одной шкалы. Как волки — овец, как булунгу — ушанов, так негодяи держат в тонусе Добродеев. Зло порождает добро, снабжает его локтями, зубами. А потому, ополчившись на зло, вы одновременно покушаетесь на основополагающий принцип бытия и свергаете с трона добродетель. Зло нельзя уничтожить, не потеряв при этом человека.
— Вас послушать, так у нас с вами одинаковая точка зрения. Получается, вы считаете злом то, что творили?
— Безусловно. Творил сознательно и, будь моя воля, продолжал бы.
— Дескать, для твоего же блага тебя мучаю, говорит палач жертве, висящей на дыбе.
— Для его блага, а пуще — для блага других, которых больше. И это — мой четвертый аргумент. Слушайте. Было время, когда с легкой руки писателя Достоевского, с безответственного его заявления, что не может благополучие мира строиться на фундаменте, заложенном ценою смерти, или он даже говорил — слезинки хотя бы одного ребенка, так вот, с легкой руки этого писателя распространилась всеобщая озабоченность, чистыми ли средствами пользуется общество в своем движении к благородным целям. Потом, к счастью, с ослаблением воздействия религии на образ мыслей, а главное — на образ действий, слова Достоевского никем уж особенно во внимание не принимались. Восторжествовало здравое мнение: если благополучие большинства требует жертв, — таковые должны приноситься. Простейший принцип военной науки: арьергард гибнет, чтобы дать отступить и закрепиться основным силам. Революционный террор. Подавление инакомыслия. Лес и щепки. Чистыми руками, Рервик, светлое общество создать нельзя. Не трагический ли парадокс и фарс, что именно на родине этого писателя пытались достигнуть всеобщего благоденствия и счастья, убивая, убивая, убивая. И не чужих, как Чингисхан, Тамерлан, Гитлер, а своих, своих. Своих! Так их! Так их! Вот была великая школа. И я скажу — только люди великого ума и стальной воли могли достигнуть ее уроки.
Голос Болта взлетел, глаза горели, руки комкали белую тогу.
В уголках красивого рта показалась пена. Андрису сделалось не по себе. Но бывший диктатор уже овладел собой и продолжал ровным, бесстрастным голосом:
— Вы должны знать историю, Рервик. Назовите хоть одну историческую ситуацию, когда неизбежность жертв — и немалых — остановила бы победную поступь к великим свершениям для всеобщего блага. Ну-ка, пробегите памятью от древних царств до колонизации дальнего космоса.
«Сейчас он возьмет к себе в союзники моих подопечных, — подумал Андрис, — Нерона, Генриха VIII…»
— Александр Македонский прославил Грецию, Цезарь — Рим, Петр возвеличил Россию, Наполеон — Францию. Бисмарк, кайзер и Гитлер показали, сколь мощна может быть Германия. Цилеский завоевал для землян благословенную Нитру, Кеворгян — Малую Итайку. А скольких жертв стоили эти деяния? Так почему вы отказываете мне в праве выбирать свой, пусть драматический, путь к процветанию Леха? Да, мы строили наше благополучие на фундаменте, заложенном ценою многих трагедий. Но тем почетней наша нелегкая судьба.
Болт сделал долгую паузу, вновь наполнил пиалу и выпил.
— Я перехожу к пятому аргументу. И снова зову на помощь историю. Народам свойственна неблагодарность. Величайших своих современников они изгоняют, унижают, убивают. Сократ прославил Афины, но они отвернулись от него. Дали его уничтожить. Спинозу, гордость иудеев нового времени, изгнали из общины. Иисус был славой израильтян, которые распяли его. Нет, — Болт протестующе поднял руку, — я не утверждаю, что мой вклад в историю человечества сопоставим с вкладом этих страдальцев. Но я отдал своему народу все, и пусть масштабы моих деяний скромнее, а суть их лежит в стороне от философии и религии, но я вел Лех к счастью и благоденствию той дорогой, которая представлялась мне кратчайшей. И что же? Народ отвернулся от меня. Я изгнан. Я не убит только потому, что горсть друзей помогла мне бежать. Но зачем мне жить, если я ничего не могу сделать для Леха?
— Верная мысль, — согласился Рервик. — Первая, услышанная от вас.
— Даже злодей имеет право на сострадание. Он нуждается в нем больше, чем человек добродетельный. Вы считаете меня злодеем? Так помогите мне! «Когда бы кровью брата был весь покрыт я, разве и тогда омыть не в силах небо эти руки? Что делала бы благость без злодейства? Зачем бы было нужно милосердье?»
Болт стоял и декламировал со страстью, крупная слеза выкатилась из-под прикрытого века и проторила блестящую дорожку на скуле. Голос был напряжен, хотя и негромок. Рервик поймал себя на мысли: как хорошо бы сыграл Болт Клавдия — и самого себя.
— «Отчаиваться рано. Выше взор! Я пал, чтоб встать. Какими же словами молиться тут? «Прости убийство мне»?» Вы помните, что дальше?
Рервик покачал головой.
— «Нет, так нельзя. Я не вернул добычи. При мне все то, зачем я убивал: моя корона, край и королева». Со мной куда хуже. Нет короны. Нет королевы.
— Кстати, Катукару убили по вашему указанию или только с вашего ведома? — спросил Рервик.
Болт с грустью посмотрел на Андриса и вдруг сказал:
— Попробуйте этот паштет из гребешков вилохвоста. Катукара его очень любила. Да, Катукары нет. И нет со мною моего края. Моего Леха. Клавдию легче. Пусть же последним аргументом будет состраданье.
— А раскаянье?
— «Покаяться? Раскаянье всесильно. Но что, когда и каяться нельзя! Мучение! О грудь, чернее смерти! О лужа, где, барахтаясь, душа все глубже вязнет! Ангелы, на помощь! Скорей, колени, гнитесь! Сердца сталь, стань, как хрящи новорожденных, мягкой! Все поправимо».
Болт повернулся и медленно, величаво скрылся за ширмой.
Андрис едва удержался от аплодисментов. «Сейчас он выйдет на поклон», подумал Рервик. Но Болт не вышел.
В последующие два дня ни Болт, ни Салима не давали о себе знать. Трижды в день униформисты приносили еду, сохраняя полное молчание. К концу второго дня Рервик потребовал, чтобы ему дали возможность увидеть Марью. Кирпичнолицый стюард выслушал его и с поклоном вышел. Вскоре явился Наргес.
— Могу ли я передать Цесариуму, что вы склонны к сотрудничеству?
— Я склонен повидать Марью Лааксо и убедиться в том, что…
— Я уверяю вас, она в добром здравии, хотя и не очень любезна. В резкой форме отвергает знаки внимания лучших слуг Цесариума. Двое из них уже обратились к нему с просьбой снять ограничения на меры увещевания, могущие быть приняты по отношению к девице, в гордыне своей презревшей благосклонность достойнейших мужчин. Цесариум милостиво выслушал их и обещал подумать. Простите мне смелость предрекать решение Цесариума, но долгие годы службы и даже, я осмеливаюсь с величайшей гордостью сказать — дружбы, подаренной мне великим человеком, позволяют судить о возможном исходе размышлений. Принимая во внимание его безграничную щедрость к верным слугам, а также взяв в соображение вынужденный аскетизм здешнего обихода, связанный с почти полным отсутствием женщин в нашей маленькой колонии, я могу с большой степенью достоверности предугадать, что Цесариуму будет благоугодно внять смиренной просьбе храбрецов, поставивших свой долг выше всех благ, и дозволить им принять в отношении особы, в судьбе которой вы проявляете нескрываемую заинтересованность, те меры, которые будут признаны необходимыми для преодоления препятствий к совершению процедур, имеемых в виду…
Именно в эту минуту Рервик понял, что главный его стратегический замысел — тянуть время в надежде на Велько — никуда не годен. Нужно действовать самому.
— Я хочу видеть Цесариума.
— Мы доведем вашу просьбу до его сведения. Смею надеяться, он вас примет. Вопрос — когда? Цесариум очень занят.
— А вы постарайтесь ускорить нашу встречу. Я в долгу не останусь. Рервик медово улыбнулся.
Наргес улыбнулся в ответ.
— Сами понимаете, доведись нам встретиться на Лехе, у меня будет больше возможностей отблагодарить вас за содействие.
— Готов служить — в рамках, не противоречащих исполнению долга.
— Естественно! А нельзя ли в тех же рамках посодействовать моей встрече с Марьей?
Тонкие губы Наргеса понимающе изогнулись.
— Я постараюсь. — И тише: — Вот видите, Рервик, как простой шантаж из венца творения делает ничтожество? Чем вы лучше нас? Вы — хуже. Мы, по крайней мере, не лицемерим.
Услышать упрек в лицемерии от Наргеса! Впрочем, трудно предположить, что такая мелочь могла задеть Рервика. С его-то опытом общения со всяким отребьем, населяющим задворки обитаемой вселенной. Нет, Рервик не был чистюлей. Только не он. Велько, бывало, брюзжал, когда приходилось удирать от погони на ворованном звездолете или обыгрывать в двойной тун пьяных шкиперов каботажных перевозок, чтобы наскрести несколько рубларов на дорогу.
Но Андрис считал это в порядке вещей. В этих пределах он вполне полагался на Игнатия Лойолу и не сомневался, что его-то цель оправдает мелкие пакости, причиняемые к тому же людям, не отличавшимся безупречностью поведения и строгостью морали. В практике общения со всякой межгалактической сволочью Рервик, бывало, шел на подкуп, лесть, обман. Однако, закинув удочку Наргесу, Андрис понял — здесь шансы на успех невелики. А время не терпело. О Марье розовый горбун не врал — зачем? Похоже, никто из них не сомневался, что Марья — верный козырь. Надо сдаваться, причем скорее. И требовать неприкосновенности Марьи.
Каких-нибудь гарантий. Но какие могут быть гарантии?
В этих размышлениях его застал служитель в войлочных тапочках. Ага, понял Андрис, поведут к шефу. Наргес не подвел. Вторая встреча с Болтом состоялась в том же уставленном ширмами зальце.
И с места Рервик сказал, сухо и мрачно, что согласен, но не видит, как высокие договаривающиеся стороны могут исключить возможность жульничества при выполнении взаимных обязательств.
— Что обеспечит безопасность Марьи в то время, когда я буду снимать фильм? Как могу я быть уверен, что ваши соратники не получат ее в качестве… — Рервик с трудом разлепил губы, — в качестве платы за преданность Цесариуму? И что, с другой стороны, может воспрепятствовать мне разоблачить всю эту затею, как только Марья окажется в безопасности? То есть когда фильм будет снят?
— И широко показан населению Леха, Земли, обеих Итаек, планет малого круга, старых провинций…
— Вот как?
— Именно. И тогда взаимными гарантиями послужат: гениальность Рервика — его картины неопровержимы и, конечно, то обстоятельство, что я всегда буду знать, где вы — Рервик и Лааксо — находитесь, а вы никогда не узнаете, где нахожусь я.
— В чем же взаимность гарантий?
— Вам, увы, придется положиться на мое слово. А разве у вас есть другой выход?
Именно в этот момент Рервик понял, что Болт никогда не отпустит Марью.
— Вас может это удивить, но выход есть.
— Какой же? — с искренним интересом спросил Болт.
— Оставить все как есть.
— Вы, надеюсь, не заблуждаетесь насчет моих действий?
— О, нет.
— Как в отношении вас, так и в отношении Марьи Лааксо?
Рервик кивнул.
— И понимаете, что начну я с дамы? Поделиться с вами своими фантазиями? Впрочем, что мои фантазии. На сей счет у меня есть помощники. Может быть, стоит пригласить их? Живописать, так сказать, подробности?
Андрис молчал.
— У нас будет масса времени. Мы будем поочередно уделять внимание вашей приятельнице и вам. Для работы с женщиной в моем распоряжении есть очень изобретательный молодой человек. Я познакомлю вас. Из прекрасной семьи. В лучшие времена служил в манипуле Верных.
— Какой-нибудь Варгес? — скривив губы, сказал Андрис.
— Рад, что вы о нем слышали. Делает честь вашей осведомленности, но и свидетельствует о его известности, согласитесь. Мы дадим вам насладиться сеансами с участием Марьи Лаахсо, Варгеса и, если понадобится, других действующих лиц. Потом мы предоставим даме возможность присутствовать на спектакле, где главную роль будете играть вы. В этом, должен вас предупредить, нам помогут люди из бригады уже знакомого вам Маленького Джоя. Знаете эту безвкусную манеру — называть малышами людей крупного телосложения. Очень услужливый, весьма компетентный работник.
Болт оживленно шагал по ковру, потирая ладони. Потом резко остановился перед Андрисом, вперив в него тяжелый взор темнокарих глаз.
— Думайте до завтра, Рервик. Потом будет поздно. Искусство требует жертв — ха-ха.
И ушел.
Элементарно, Ватсон, думал Рервик в своей камере. Почему меня не выпускают — даже днем, когда нет звезд? Убегу? Невероятно.
Узнаю местность? Что же это за местность, которую я, по их предположению, могу узнать? Земля скорее всего отпадает. Там не найти места для такого бункера. Если исключить Лех, с которого меня увез Стручок, остаются… Ох, много остается, дорогой Ватсон.
До чертовой матери. Выход один — бежать. С Марьей. И немедленно. Ожидание невыносимо.
Портос, сильны ли вы по-прежнему, мой друг? Вместо ответа Портос огляделся, подошел к топчану, приподнял его и мощным движением кисти оторвал металлическую ножку. Отлично, сказал д'Артаньян, вот и оружие. Он взял металлическую полосу из рук гиганта, слегка поправил иззубренный конец на каменном полу и спрятал под одеждой. Теперь, друг мой, неукоснительно следуйте моим советам, и, ручаюсь вам, утро мы встретим на свободе, вдали от мрачных стен Рюйеля. С этими словами гасконец подошел к двери и заколотил кулаками по доскам (извините, по орпелиту). Скрипнули петли, на пороге появился сумрачный амбал. «Любезный, — сказал д'Артаньян, — твоя госпожа разрешила мне обращаться к ней, если в том возникнет нужда. Передай — такая нужда возникла. Дело срочное. Ступай, да не забудь — срочное!» Амбал тяжело повернулся и закрыл дверь.
Потекли минуты. Наконец послышались шаги, возня с замком.
Портос, вы займитесь мужчиной, а я обслужу даму, распорядился д'Артаньян. Дальнейшее развитие событий, однако, принесло неожиданное осложнение. Дверь открылась. В проеме стояла Салима, закутанная в длинный черный плащ. Она шагнула через порог и захлопнула за собой дверь. Страж остался в коридоре. Портос нахмурился — он оказался не у дел — и растерянно взглянул на д'Артаньяна. Тот ответил ободряющим жестом. Ничего, дескать, мы успеем залучить телохранителя в камеру, и вы, мой друг, сможете продемонстрировать свою ловкость и мощь ваших мышц.
Салима вопросительно смотрела на Рервика.
— Э-э… — начал тот.
— Вы решились на что-нибудь?
— Э-э… Нет, то есть да. Разумеется. Я и просил вас прийти, имея в виду… Но прежде я хочу убедиться, что с Марьей Лааксо ничего не случилось.
Салима снисходительно улыбнулась. Похоже, крепость пала.
Отец прав: страх правит миром…
Впрочем, нет. Так не годится. Вернемся немного назад и вспомним получше.
Ожидание было невыносимым. Заключение в ненавистных стенах по-разному действовало на этих благородных людей. Портос, казалось, дремал, с тоской вспоминая о скудной утренней трапезе и ожидая более щедрую дневную. Д'Артаньян как тигр мерил шагами камеру, глухо рыча, когда взгляд его останавливался на закрытой двери. Однако под кажущимся безумием гасконца скрывалась напряженная работа мысли. Чувствуя волнение друга, Портос нарушил молчание: «Полно, д'Артаньян, не стоит так нервничать. Дайте мне сигнал, и мы выйдем отсюда невредимыми, как те трое храбрецов — Арамис, наверное, помнит их имена, — которые побывали в раскаленной печи и вышли оттуда как ни в чем не бывало».
«Вы имеете в виду Седраха, Мисаха и Авденаго?»
«Да, имена звучат похоже. Я и не знал, что вы такой ученый, д'Артаньян».
«Как же мы выйдем из плена?»
«Очень просто. Я выломаю дверь, убью это чахлое создание в войлочных тапочках, и мы выйдем на свежий воздух, без которого я страдаю изжогой, головокружением и разлитием черной желчи».
«А Марья, друг мой, вы забыли про мадемуазель Марью».
«Прихватим ее по дороге».
«Славный план, клянусь небом. Простой, без затей. Но вы подумали о том, куда мы выйдем?» «Какая разница? Вряд ли там будет хуже, чем здесь — учтите, д'Артаньян, я решительно недоволен здешним столом. У Болта отвратительный повар. В Пьерфоне я не стал держать бы такого и дня — выгнал бы, предварительно выпоров».
«Что же, Портос, вы меня убедили. Ваш план великолепен. Сильны ли вы по-прежнему, мой друг?» Портос с немым укором посмотрел на него. Именно в этот момент Салима снисходительно улыбнулась.
— Марья находится под моим покровительством. Ей ничего не угрожает, пока вы сами не ухудшите ее положения.
— Но я хочу хотя бы взглянуть на нее. Мне будет легче принять решение, если я увижу, что вы выполняете свои обязательства.
— Хорошо, — сказала Салима. — Идемте.
Ну же, подумал д'Артаньян, позови стража, дай работу Портосу.
Но Салима повернулась и направилась к выходу.
— Эй, — крикнул Рервик.
Женщина застыла, резко дернула головой. Д'Артаньян стоял в двух шагах с железной ножкой в руке. Держал он ее неловко, но в его глазах Салима прочла ярость.
— Молчите, — прошептал Андрис, приблизив рваный край железа к горлу Салимы. — И отойдите от двери.
Салима не двигалась.
— Ну. — Рервик слегка царапнул по коже. Показалась кровь.
— Идиот, — сказала Салима. — Тебе конец.
— Пока — начало. Главное для вас сейчас — не закричать. Мне терять нечего. Один громкий звук, и… — Он надавил на железную полоску. Кровь пошла сильнее.
— Чего вы хотите? — спросила Салима сдавленным шепотом.
«Я хочу работы», — сказал Портос д'Артаньяну. «Сейчас вы ее получите», — ответил д'Артаньян.
— Я хочу выйти отсюда, — сказал Рервик.
— Это невозможно, — сказала Салима. — Вам не дадут сделать и двух шагов.
— Мы все же рискнем, — сказал Рервик. — Сейчас вы пойдете на полшага впереди и поведете меня прямо к Марье. Имейте в виду — малейшая неосторожность, и вам конец.
«Приготовьтесь, Портос», — сказал д'Артаньян. «Я готов», — ответил гигант.
Рервик сделал шаг назад, пропуская Салиму. Правая нога ступила на тыквенную корку (ее следовало положить на пол страниц пять тому назад).
«О черт!» — вскричал д'Артаньян, падая на спину и роняя кинжал.
— Джой! — закричала Салима.
На пороге вырос амбал. Ладонь — на рукояти плазмера. Бросок Портоса. Мощный удар каблуком в подбородок, правой рукой в солнечное сплетение, левой — по кисти, держащей оружие.
— Слишком много шума, — сказал Рервик, когда осела пыль. Мадам, наш уговор остается в силе. Я пригласил сюда Маленького Джоя, чтобы дать ему возможность отдохнуть, а нам — совершить прогулку без свидетелей. Хотя прогулка на людях в вашем обществе, мадам, возвысила бы меня во мнении окружающих и пролила бальзам на мое самолюбие. Мужчины, увы, тщеславны, и я не исключение. Возьмите моего друга Портоса. Образец рыцаря. Храбрец, красавец, чистая, добрая душа…
Салима смотрела на режиссера со страхом.
«Остановитесь, д'Артаньян, я не заслуживаю ваших похвал, — прогудел Портос. — Вы мне льстите». — «Я говорю правду, мой друг. Просто ваша скромность восстает против моих слов, выражающих искреннее восхищение…» — «Неумеренное, д'Артаньян». — «Отнюдь. Но и вас не обошел порок, присущий многим храбрецам». — «Какой же?» — Портос в недоумении приоткрыл рот. «Тщеславие, мой друг. Вспомните обстоятельства нашего знакомства». — «Но прошло столько лет!» — «И все же, вспомните». — «Какая-то ссора? Мы, кажется, славно отдубасили гвардейцев». — «А что этому предшествовало?» — «Клянусь, не помню». — «Вы вызвали меня на дуэль». — «В самом деле?» — «Да, мой друг. Вы заявили, что насадите меня на шпагу, как куропатку на вертел». — «Неужели?» — «Очень остроумно, по-моему». — «Не отрицаю. Я всегда был остер на язык». — «Ну, а что послужило причиной вызова?» — «Что же?» — «Я наткнулся на вас на бегу, запутался в вашем плаще и увидел…» — «Что вы могли увидеть?» — «Можно при даме?» — «При этой? — Портос посмотрел на Салиму. — При этой можно». — «Я увидел фирменный ярлык. Плащ был не от Кардена». Портос побледнел. «Подумать только, — сказал он, — из-за этого я вас вызвал?» — «Да. Вы были оскорблены тем, что ваша маленькая тайна, рожденная, увы, тщеславием, раскрыта нахальным юнцом из провинции». — «Ведь я мог убить вас, д'Артаньян». Глаза гиганта увлажнились. «Ах, мой добрый благородный друг, забудьте об этом». — И д'Артаньян бросился в объятия Портоса.
Не спуская глаз с позеленевшей Салимы, Рервик разорвал рубаху Джоя на полосы, крепко стянул его руки и ноги, сделал аккуратный кляп и надежно заткнул рот бесчувственного стража.
Поменяв ножку от топчана на плазмер, он выпрямился.
— Теперь — вперед.
Они вышли в коридор.
— На всякий случай предупреждаю вас — я галантен только в пределах, обеспечивающих мою безопасность. При непредвиденных встречах, прошу вас, не давайте мне повода к бестактности. Я человек импульсивный. Портос свидетель, не раз рука моя непроизвольно хваталась за плазмер, и я горько оплакивал невольную жертву необузданного темперамента, доставшегося мне в наследство от гасконских родителей…
— Не паясничайте, Рервик. Вы авантюрист, я знала, но на этот раз вам конец. И вашей Марье. Я не дам за вашу жизнь и ломаного…
— Ливра. Или даже денье. Увы, увы! Ага, Портос, мы уже пришли. Мадам, удалите стражу.
Человека, стоявшего у дверей, за которыми, по-видимому, помещалась Марья, Рервик еще не встречал. Был он высок, худ и бледен.
«Черт побери, вылитый Мордаунт», — пробормотал д'Артаньян.
— Откройте дверь, Варгес, — ровным голосом приказала Салима, — и можете идти. Если будет нужно, я позову вас.
Варгес молча поклонился и, исполнив приказ, медленно пошел по коридору. Рервик подождал, пока он скроется за поворотом.
— Войдем, — сказал он.
Марья привстала на локтях. Ее глаза равнодушно прошли по лицу Салимы, дрогнули, схватив Рервика, подержали немного, отпустили. Завершив поворот, голова Марьи прекратила движение и опустилась на комковатую подушку. Она ничего не сказала.
— Марья, — негромко позвал Андрис.
Глаза закрылись. Марья мерно дышала.
— Встаньте туда, — Рервик указал Салиме на угол, — и отвернитесь.
Салима повиновалась.
Пятнистый румянец, сухие губы. Руки холодные. Рервик прижал ладонь Марьи к щеке. Рукав завернулся. На внутренней стороне запястья и выше — до локтя — точки.
— Что ей кололи? — резко спросил Рервик.
Салима повернулась к нему.
— Что кололи? — повторил Рервик.
— Не знаю. У Геле большой выбор. Есть разные схемы.
— Геле?
— Наш врач.
— Давно колют?
— Три дня.
— Зачем?
Салима пожала плечами:
— Чтобы слепить личность удобную, нужно уничтожить старую.
— Время уколов?
— Следующий через… — она взглянула на часы, — сорок минут. Впрочем, это не точно. Может быть, раньше, может — позже. Геле вообще может пропустить укол, если…
— Если?
— Если сам не очухается.
— Он приходит один?
— Входит сюда вместе с дежурным. В данном случае должен был войти с Варгесом.
— Сколько времени действует инъекция?
— Три-четыре часа. Но говорить с Марьей — все равно что с ребенком. И ходит она с трудом. Вам не уйти.
— Придется оставить ее здесь. Расскажите-ка мне, как выйти из этой норы. Только без фантазий. Точность информации — залог вашей безопасности.
— Я не стану говорить.
Рервик подошел к Салиме и коротко, без размаха ударил ее по щеке. Женщина дернулась. Брезгливо сложила рот. Но молчала.
Рервик ударил в губы. Они стали медленно пухнуть. Андрис посмотрел на Марью, подождал секунду-две и ударил в третий раз.
Нижняя губа Салимы треснула, по узкому подбородку потекла струйка крови.
— Слушайте внимательно, Салима. Мне нужно уйти, и я уйду. Вы мне поможете, хотя я ничего не обещаю взамен. Как поступить с вами я решу позже. Может быть, я вас и не убью. Но сейчас я начну бить вас по-настоящему. Очень болезненны удары в живот. Особенно в область печени. Мне известны полтора десятка болевых точек, давление на которые весьма мучительно. Я знаю это по собственному опыту и поделюсь этим опытом с вами. Очень неприятная процедура — прикрутить газ, что на языке денебских пиратов означает — придушить, но не до смерти. Я не такой специалист, как Варгес или Джой, но я буду стараться. И я успею, хотя у меня мало времени. Я обязательно успею, потому что мне надо выйти отсюда — из-за нее. — Андрис кивнул в сторону Марьи. — Вы мне верите?
Салима молча опустила голову.
— Будете говорить?
— Да. — Она достала платок, вытерла кровь. Осторожно потрогала разбитую губу. Лицо ее передернулось. — Но не все.
— Начинайте.
— Вас убьют. Выйдя отсюда, вы обрекаете себя на смерть.
— Почему?
— Не скажу.
— Есть ли охрана на пути к выходу, у выхода?
— У выхода дежурит один человек.
— Сколько вас в этом логове? Контролируете ли вы окрестности? Какую-либо часть планеты? Или скрываетесь?
— Я не стану отвечать.
— Охрана вам повинуется?
— Нет.
— Лжете.
— Да.
Рервик огляделся, ища, на чем и чем можно написать записку.
Махнул рукой. Подошел к Марье, поцеловал ее в щеку.
— Идемте!
В двух-трех местах из стен коридора сочилась влага, бетон осыпался. На полу комья грязи, куски керамической облицовки.
В закоулках, отходящих от центрального хода, горели тусклые фонари. Шагов через сто коридор сделал крутой поворот, и перед Андрисом возникла согбенная флгура Наргеса. Горбун озадаченно посмотрел на Рервика, склонился перед Салимой. Андрис едва заметно коснулся локтя женщины. Они свернули за угол. Коридор стал ощутимо подниматься. Гладкая плита преградила путь. На трехногом табурете сидел стражник. При виде Салимы он вскочил и суетливо поправил кобуру с плазмером.
— Открой, Друз.
Юноша закивал, отвернулся и принялся вращать колесо. Плита начала поворачиваться.
— Не закрывай за нами, — сказала Салима, — мы сейчас вернемся.
Рервик скрипнул зубами и мысленно поздравил ее. Друза можно было убить. Нужно было убить — слишком быстро все выяснится. Рервик оглянулся на румяного молодого человека, сияющими глазами пожирающего Салиму. Нет, Портос, я не могу.
Слегка сжав локоть Салимы, он вывел ее на поверхность.
Низкое небо. Кустики, кочки. Ни тропинок, ни дорог. Рервик оглянулся еще раз: входа не видно. Пара валунов, ползучий корень, куст чего-то, похожего на мохнянку. Нечаянное пятно плотного желтого грунта. Рукоятью плазмера Рервик принялся быстро писать то, чего не смог написать в комнате Марьи.
— Теперь вы понимаете, что я не могу с вами расстаться, сказал Андрис. Надеюсь на догадливость вашего батюшки. Вы можете им гордиться. Шантаж — надежное оружие. Я постараюсь быть хорошим учеником.
— Вы обещали отпустить меня, когда мы выйдем.
— Отнюдь. Я только сказал, что, возможно, не убью вас. Но отпустить — нет. Мне спокойней, когда вы рядом. Идемте, мне нужно обдумать, как действовать дальше.
Они укрылись в чахлом перелеске на краю болота. Попробовать вступить в переговоры с Болтом немедленно, обменять Салиму на Марью и?.. Их неминуемо схватят, пощады не будет. Потребовать ракету? Есть тысяча способов устроить взрыв при старте или позже… Оставить Салиму заложницей в ракете до конца полета?
Экипаж найдет способ обезвредить Андриса… Нет, этот путь не годится. Надо уходить, уводить Салиму, выбираться самому — должны здесь быть поселения. Туристы, охотники, колонисты. Планета более чем пригодна для обитания. Славная, в сущности, планета, и она не может оставаться незаселенной. Важно уйти, найти. И не упустить Салиму. На каком же слабом сучке висела надежда Рервика — влюбленном взгляде Болта, обращенном к пятилетней девочке. «Идем, посмотрим на твои угольки». Тот ли сейчас Болт?
Рервик пристально глядел на Салиму.
Подходящий конец главы, а? Мой тебе совет: начни следующую теми же словами.
Твой Андрей
ПИСЬМО ВОСЬМОЕ
12-е марта, Москва
Дорогой Андрей!
Пора наконец выяснить и честно рассказать, что за фильм смотрел Том Баккит на кинофестивале в Трай-пи.
(в пересказе Тома Баккита)
…По экрану ползут насекомые. Длинные ручейки довольно крупных отвратительных инсектов. Жестких, холодных. В своем узком мирке нацеленных на убийство, на прикол жертвы, на ее пожирание, на высасывание белых и желтых соков ее брюшка и в этой нацеленности — беспощадных. Камера приближается, откровенно любуясь их отточенными орудиями убийства — хоботками, рогами, пилами, жалами, жвалами, жесткими колючими губами, холодными мертвыми насекомьими глазами. Ползут, ползут членистоногие… Нашествие? Куда? Зачем?
Камера отъезжает, уходит вверх. Мы видим узкую тень, которая превращается в прут. Кто-то вторгается веткой в мир инсектов, шевелит их, усатых, шевелит нежно, почти любовно. Камера уходит еще выше, и мы видим этого человека. Он сидел на корточках, а теперь поднимается в рост. Гимнастерка перепоясана ремнями.
Фуражка сдвинута на затылок. Делает знак шоферу.
После бессонной работы в застенках возвращается в кургузом черном авто домой подполковник ООВД — Охранного отделения внутренних дел. Машина ползет по аллее заброшенного парка. Подполковник останавливает машину, выходит на обочину, присаживается у муравейника. И смотрит, смотрит, смотрит. Безжизненные, расфокусированные глаза его постепенно обретают нормальный цвет и свет. Отбрасывает ветку. Идет к автомобилю. Под начищенным сапогом хрустят раздавленные муравьи.
Дома он ложится в постель к теплой сонной жене. Пытается заснуть. Глаза — в потолок. Сна нет. Он накидывается на жену.
Она вздохнула, всхлипнула во сне, прижалась к мужу, хотела обнять его, но он грубо схватил ее, вывернул ногу, проник в лоно и стал раскачиваться. «Милый, мне так больно», — выдохнула жена.
Тогда он еще сильнее заламывает ей ногу, показывая, что здесь хозяин он, и еще стремительней колышется. И добивается торжества своей воли. Покорная жена захвачена страстью, быть может, она думает, что такова она и есть — любовь. И еще в ее душе живет страх — он давно поселился — за мужа, за опаснейшую его ночную работу, где на допросе какой-нибудь враг может запросто ударить его табуреткой, ударить и убить, а враги вообще кругом, и страшно за мужа, а значит, и за себя, за детей. Вон они сонно шевелятся в смежной комнате, Вовка да Танька, глупые, белобрысые, как жалко их. И еще страх — от мужа. Она живо помнит, как он бил ее, как, пьяный, с низкой бранью, размахивая наганом и почти готовый стрелять, выставлял ее ночью вместе с детьми из квартиры и гнал по лестнице с четвертого этажа до первого и потом по булыжным камням переулка…
Подполковник спит. Губы его хищно вздрагивают, а глазные яблоки под бледными веками ходят туда и сюда. Серые и синие птицы влетают в комнату, парят над ним, клювы их страшны и кривы, все ближе и ближе они к его лбу. Подполковник отмахивается, но из распахнутых клювов валятся белые жирные черви, они валятся, как из мясорубок, подполковник барахтается в груде червей, а какие-то окровавленные наглые морды скалятся по углам.
«В несознанку играете?» — хрипит подполковник. Кадры напластовываются, мы теряем ощущение времени, границы и контуры ночных видений и дневной маеты расплываются.
Свежевыбритый, довольный жизнью подполковник завтракает в одиннадцатом часу. Он не торопится, черное авто заедет за ним в полдень. Подперев рукой голову, робко, с оттенком хрупкого счастья, смотрит на него жена. И вдруг подполковник раздваивается. Излюбленный прием Рервика. Уже два подполковника завтракают, смачно жуют ветчину, выпивают яйца, вытирают губы. Один еще плотоядно весел, другой задумывается. Вчера из кабинета напротив увели его коллегу. С майора сорвали погоны, торопливо обыскали его стол и сейф и увели — разом осунувшегося и постаревшего. Иные следователи не подняли головы, иные глянули вослед, но, быстро справившись с оцепенением, принялись за работу — ворошить бумаги, готовясь к ночным допросам. А был арестованный майор молодцеват, слегка пузат, ремни ловко стягивали его гимнастерку, торчали из-под нее коротенькие ножки в сверкающих сапогах. И хват был, и жуир, и матерщинник. И вот — сгорел. Что случилось? Кто наклепал?
А может, кто-то уже накатал и на него? И наверху приняли решение. Неужели его возьмут вот так же, на работе, на виду у всех? Нет, подполковник почему-то уверен — era возьмут ночью и дома. Первый подполковник все еще пьет чай с зефиром бело-розовым, второй уходит в кабинет, достает из стола наган, гладит его, прячет обратно, берет лист бумаги, чертит треугольники, потом какие-то рожи, чертиков. Комкает бумагу, пальцы судорожно корежатся, белеют костяшки кулака, а меж скрюченных пальцев извиваются морды чертей.
Бумага брошена в корзину, план рожден. Серые глаза сверлят точку. Первый подполковник, неловко поднимаясь, толкает стол.
На пол летят вазочки и чашки. Чай из разбитого чайника заливает зефир.
Переулок ступеньками сбегает к реке. Предрассветная серая муть. У одного из подъездов семиэтажной громады застыли два автомобиля. Люди в форме молча ждут. Из дверей выводят человека в наспех наброшенном пальто. Урчат моторы. Зажглись два-три окна. Но большая часть людей смотрит тайком из-за темных стекол.
Одна из машин трогается. И в этот момент из подъезда выводят женщину и двух закутанных детей. В эту ночь в огромном доме опустела еще одна квартира.
Четыре подъезда дома выходят в переулок. Противоположные четыре — на улицу. Внушительный торец дома смотрит на реку, на жестяно-рыбью рябь воды, на отблески нефтяных пятен, на пароходные трубы фабрички на том берегу. В квартиру подполковника, на третий этаж, попадают с улицы. Почему же наш герой все чаще встречается нам в переулке? Ба, да он в штатском. Он явно не хочет быть узнанным. Он суетится, он быстро ходит, проворно ныряет в подворотню и в чужой подъезд. Он перебрасывается короткими фразами с какими-то людьми. Впервые тут мелькнуло человеческое имя — Глеб. Как будто, сняв на время форму, подполковник немного стал человеком. Освободившаяся на третьем этаже, вход с переулка, квартира очень интересует подполковника Глеба.
Глухой своей стеною она примыкает к его собственной. Через подставных лиц подполковник приобретает права на эту квартиру и ключи от ее дверей. Начинаются спешные, как только жена и дети вывезены на дачу, строительные работы. В брандмауэре пробивается тайный ход в параллельную квартиру, который затем маскируется передвижным книжным шкафом. Подполковник доволен работой. В воскресный день он расхаживает босиком у себя дома, время от времени наливает стопарик водки, настоянной на лимонных корочках, выпивает и нажимает кнопку, спрятанную за портретом вождя. Неслышно отъезжает книжный шкаф. Открывается пространство чужого дома с чужими запахами и чужими приметами культуры — прямоугольники на обоях от снятых картин, пыльные чехлы скрипки и виолончели. Пьяный, босой подполковник с хитрованскою рожею ходит туда и сюда, потирает руки. Будущие события покажут верность его расчета.
Худенькая женщина играет мазурки Шопена. Щемящая, печальная музыка пытается пробиться к радости. Не получается.
Подполковник оперся рукой на рояль. Оказывается, он меломан.
Размазанные морды гостей. Подполковник вспоминает минувшую ночь. Один знаменитый ученый, высокий и толстый человек, и еще очень упрямый человек, три дня стоит у него на «стойке». Сержант Клевцов и лейтенант Сидорчук, знающие свое дело люди, трое суток, сменяя друг друга, не дают упрямому ученому ни заснуть, ни сесть. Ноги ученого так отекли, что голенища сапог разрываются.
И этот человек не хочет подписывать какую-то жалкую бумажку.
Но выбора нет. Подполковник должен его сломить. И он сделает это.
Черное авто подполковника стоит на въезде в деревню, на краю чудовищно вспученной, разбитой тракторами дороги. Подполковник пешком возвращается с дальней пасеки. Затеяна нежная дружба со старым пасечником. Подготовлены кое-какие документы.
Все делается неспешно и надежно? Нет, все делается быстро, с авантюрной удалью.
Конец лета.
Вовка и Танька да жена Люся уезжают к дальним родственникам. Перрон. Узлы, чемодан, обвязанный веревкой. На нем сидит Вовка и ест эскимо на палочке. Танька читает книгу. Их мать с нелепо завитыми кудряшками смотрит испуганно. Подполковник их не провожает. Так надо. Никто не знает, куда они едут.
Мимо проходит носильщик с бляхой на фартуке. Пыхтит паровоз.
Звенит колокольчик. Второй подполковник осторожно выглядывает из-за угла.
Потерявший нормальное обличье, сжевывая слезы с усов, пожилой ученый дрожащей рукой подписывает протокол допроса. «Давно бы так», — мягко, грустно говорит подполковник Глеб.
Незаметно налетает осень. Октябрьская листва шуршит в переулке. Как он красив, осенний город. Как здорово снимает его оператор Рервика.
Ночь. В квартире подполковника раздается жесткий, требовательный звонок. Подполковник скатывается с кровати.
Секундное замешательство. Но вот он свертывает свою нехитрую постель, хватает кобуру и бросается к портрету вождя. В дверь квартиры уже колотят приклады.
Еще одна петля сюжета. Странной фугой вплетается история химика, которого должен был допрашивать первый подполковник, но взвихренная судьба подсунула его подполковнику второму.
По осеннему городу бродит болезнь. Желтые листья покрыли рельсы. По листьям медленно катит трамвай. «Аннушка», «Аннушка», «Аннушка». Трамвайный круг. Бульвар. Рыбный магазин. Продавец сачком вылавливает из бассейна живую рыбу. Судак вяло перебирает жабрами, печально вещает что-то белым ртом. По городу бродит болезнь Глюэмбли.
Врачебный кабинет. Преувеличенно-натуральные шприцы. Грязно-белые халаты. Табличка на двери. Доктор Синдякин.
— Доктор, я здоровался с Клюквиным еще на той неделе, я держал его за руку. А сегодня он уже там, — пальцем дрожащим ткнул химик сначала вниз, в подвал, потом в небо, — он уже там, понимаете? Скажите, они уже перекинулись на руку ко мне, они ведь уже расползлись по моему телу?
— Кто?
— Да Глюэмбли же! — воскликнул химик чуть не плача. — Помогите, доктор.
— Успокойтесь, Турин, — говорит доктор.
Гурин преподает катализ в университете. Прожженные химикалиями доски столов, вытяжные шкафы. Бесконечные колбы, резиновые трубки. А запах? О, химическая лаборатория… Девушка, с которой он дружит, учится на филологическом. Они гуляют иногда по холодной набережной, она читает стихи. Ее зовут Валентой. Вместе с паром она выдыхает строчки. Маслено дробится черная вода. На том берегу пыхтят пароходные трубы краснокирпичного дредноута фабрички.
Антип Гурин мечтает найти такую вакцину, чтобы никто больше не мог заболеть расстрелом. Быть может, он даже объяснил Валенте идею своего лекарства.
— Ты знаешь ли, Валента, почему болезнь называется Глюэмбли?
— Нет, — отвечает девушка.
Тогда он отвечает. Его рассказ длится долго, дни, может быть, недели, месяцы… годы? А тем временем грязно окрашенные безоконные фургоны разъезжают по городу, увозя людей.
Антипа забрали при входе на факультет. За несколько дней до этого болезнь проявилась в виде красных пятен на ладонях, румянца на лихорадочных щеках. В вещих страшных снах ему являлся подвал внутренней тюрьмы и искаженное лицо подполковника Глеба, размахивающего плетью. Сны ошиблись в одном — ни тому, ни другому подполковнику не суждено было допрашивать химика Турина…
Секундное замешательство. Но вот Глеб скатывает нехитрую свою постель, хватает кобуру и бросается к заветной кнопке. Книжный шкаф с чуть слышным вздохом возвращается на место. Трещит сломанный замок входной двери. В пустую квартиру вваливаются люди.
Спустя пару недель на далекой пасеке появился новый работник. Его приезду никто не удивился, поскольку старый пасечник помощника ждал.
Второго подполковника арестовали в Померанцевом переулке.
Два молодых человека взяли его под локти и усадили в автомобиль.
Подполковник и не думал сопротивляться. К тому времени он уже знал, что его жена арестована на станции Бузулук, а Вовка и Танька направлены в детский приемник.
Прошло сорок лет. Неузнаваемо изменилась жизнь города.
Юноши в ярких одеждах, с нечесаными гривами заполнили центральные улицы. Трамваев почти не стало. И только у старого бульвара делали круг вагончики. Но никто уже не вспоминал этого слова — «Аннушка». Однажды из трамвая вылез старый седой человек, пахнущий землей и медом. Он недоверчиво огляделся. Потом прошептал: «А все-таки я сбежал тогда. Как же ловко я сбежал».
И продолжал вглядываться в новый город красными слезящимися глазами.
Такое вот кино. Полет фантазии Рервика. А реальные ли наши фантазии? И что вообще реально? Камни? Камни глотать опасно, как установил один поэт, арестованный осенью сорок первого и вскоре погибший классически гениальных тридцати семи лет от роду. Слова? Они тоже могут быть губительны. Вначале-то что было? Так называемый социалистический реализм. Ничего более далекого от реализма не придумать. Литература эпохи зрелого тиранства. «Ампир во время чумы». Позже, помню, мы, школьники пятьдесят шестого, уже позволяли себе открыто смеяться над «программным» соцреализмом. Души наши твердо отвергали горьковскую «Мать», Фадеева, шолоховскую «Целину». Грибачева или какого-нибудь Софронова для нас просто не существовало. И тьмы других. В пятьдесят седьмом мы прочли необычайно свежего и чудо как романтичного Ивана Ефремова, в пятьдесят девятом доросли до Хемингуэя, в шестидесятом после гнусного скандала заболели Пастернаком, в шестьдесят втором проглотили «Деревушку» и «Особняк», а в шестьдесят третьем добрались до кафкианской «машины казни».
И вняли строчку «мы рождены, чтоб Кафку сделать былью».
Когда в oдном колымском лагере восставшие против бандитов мирные зэки резали на пилораме (колымский вариант кафкианской машины справедливости) бандитского предводителя, одним из развлечений которого было выкалывание глаз не приглянувшимся ему лагерникам, на казнь пришел посмотреть сам начальник лагеря.
Свежевыбритый, в новеньком кителе, он стоял и смотрел, как пила с визгом подъезжала к мечущемуся в веревках телу. Об этом нам всем рассказал один поэт, который был в лагере и умудрился там не погибнуть. Какому Кафке снилось такое?
Почему важно судить Болта? Для того лишь, чтобы экс-прокурорам неповадно было обелять палача мертвыми юридическими словесами? Не для этого. Суд — одна из форм борьбы с отравой.
Болт — отравитель. Это страшнее прямого убийства. Кошмарная болезнь душ, болезнь народов. Отравлены! Боже, пустыня, где бродят толпы отравленных людей. Не с кем слова… Хоть бы Иван Моисеич кто назвал. Нет, Иван, чеши собак…
Конечно, это ужасно — вытащить желтого воскового Болта на ярко освещенную скамью. Желтого воскового Иосифа. Суд в музее восковых фигур. Обвинение: соучастие в геноциде собственного народа.
У Робеспьера на голове вмятина. Приговор. Гильотина — вжик!
Восковая голова медленно падает в корзину. Временная петля. По законам фантастического мира действие зацикливается в порочном кругу. Назавтра — очередная казнь друга народа. «Опять новую фигуру отливать», — вздыхают работники восковой фабрики. Триста шестьдесят пять раз казнили Адольфа Гитлера. Мало! — волнуются народы.
До чего жестоки, немилосердны до чего!
У Болта на Лехе — тоталитаризм или же имперский национальный социализм? Или, наконец, имперский интернациональный социализм? Все же империя с различными нациями — это привычней. Нации склонны к бунтам. Особенно — которые на краю. Мы их дружески увещеваем. Но и цыкнуть можем. «Правильно излагаю, Болт?» — «Правильно излагаешь». А мнение Болта не может быть безразличным. Он — большой специалист по национальному вопросу. Послушаем отца народов.
«Все лехияне — единая братская семья. Это означает, что все они подразделяются на пять сортов.
Первый — высший сорт — ценю и уважаю. Расстреливаю только по суду. Иной раз, конечно, кое-кого из самых уважаемых приходится отравить. Государственное дело. Зато какие похороны, какие речи! Плач по всей планете — три дня. И два-три болота нарекаем их светлым именем. Вторым сортом идут воины и стражи свободы, эти честные труженики топора и плети. Третьим — тоже труженики, беззаветные и безответные труженики города, деревни и болотных необозримых просторов. Четвертый сорт — это образованные, без них, увы, не обойдешься, особенно в таком наиважнейшем деле, как обеспечение Леха новейшим оружием. А ведь был Лех, что скрывать, окружен злобными врагами, о чем неустанно и непрестанно предупреждали наши газеты, где работали те же — четвертого сорта. Пятый сорт — пришельцы, собственной планеты не имеющие. Нигде не уживаются, но изворотливы, умны, гибки. Пролезали везде, как тараканы, жуткая публика. Часто в четвертый сорт выходили, а то и в первый. Впрочем, пятый сорт — это пятый сорт, но мы все равно его любим и уважаем. Мы вообще всех любим, большое внимание ко всем сортам и стратам проявляем».
Сталина — дошла очередь — вызвали на суд. Иди сюда, сказали, Иосиф Джугашвили, расскажи нам…
«Не пойду, — отвечает. — Кто вы такие? Я у стены седого Кремля покоюсь, мне здесь уютно, соратники рядом. За спиной спит в стене верный Клим, чуть поодаль — Андрей Януарьевич, юрист высшего класса, вам не чета, мастер своего дела, тут же Михаил Иваныч, козел старый, жену, понимаете, я у него посадил… А вы меня — как заурядного убийцу из провинции. Что я вам — Джек Потрошитель, зарезавший два десятка, включая старуху и трех сирот? Если вы немного разбираетесь в демографии, подсчитайте и увидите, что число моих жертв переваливает за сто миллионов.
Это уже не убийство, это — я так скромно полагаю — величайшее деяние в истории Земли. А вторым здесь пойдет, готов признать, мой лучший враг Адольф Гитлер. Мальчишка, в сущности… Его итог миллионов пятьдесят, да и то не без моей помощи. Так что потрудитесь сначала дорасти до права судить меня. Пигмеи не вправе судить колосса. Наивные люди. Параноиком называют. Я же не уездный помещик, засекший лакея на конюшне. Объясни-ка мне, как параноик обретает власть над страной в двести миллионов? Становится духовным лидером миллиардов?.. Я презираю ваш суд.
О мою несокрушимую волю разобьются все ваши жалкие обвинения, ушей моих не достигнут ваши бессильные вопли, мозг отторгает призывы вашей так называемой совести, грязной и пошлой бабы…»
Возвращаюсь к нашему повествованию. Не знаю, в чем тут дело, но замысел — изобразить Болта фигурой трагической — трещит.
Сопротивляется Цесариум этой роли. Что же Андрис молчит в ответ на все тирады Болта, не опровергает, не разрушает его аргументы — сколько их там, пять, шесть? Или сказать нечего? Да разве решишь литературной пикировкой, какие средства нравственны для достижения цели, какие — нет, пусть нравственность самой цели не вызывает сомнений? С одной стороны, салтыков-щедринское: «Не может быть, чтоб мерзавец стоял на правильной стезе. Мерзавец — он на всякой стезе мерзавец». А с другой — претит ли насилие натуре человека, коль милость, жалость к насильнику, злодею так естественна, что отказаться от нее — значит обеднеть духовно. Ты, помню, говорил, что твоей Анне тоже жаль Морвеля с рвущимися внутренностями и свистящим дыханием и немецких пленных, ведомых под градом плевков. Астафьевский гнилозубый уголовник избивал, обирал, принуждал к сожительству несчастную старуху, а она бросилась отбивать его у милиции. О, жалость — великая черта народа! А разве не стоит жалости, пусть чуть брезгливой, старик из бывшей лагерной охраны, в юности обманутый, развращенный и натравленный на собственных сограждан, отличавшихся от него ну разве более тонкой культурой да, быть может, большей откровенностью и совестливостью? Сотни километров гнала по тундре лагерника-беглеца банда таких же, как он, а настигнув, убивала и — не тащить же труп — отрубала кисти рук для отчета перед начальством. Сколько их, безруких трупов, осталось брошенными в холодной пустыне! Старика же жаль. Хотя жесткие мы стали. Не очень-то нас подобьешь на чувства! А что говорит разум? Как там наш рассудок? Не трещит? О, иногда он берет свое, старозаветное — око за око. Кровь за кровь. И тогда — казнь карателя-полицая через сорок с лишним лет. Никто не забыт, ничто не забыто.
Европейская рассудочность века просвещения ну никак не ложится на русскую традицию, а потому стрекоза и муравей, если чуть вдуматься, являют нам модель чудовищных взаимоотношений — чудовищных для людей, не считающих слово «милосердие» пустым звуком. Уродливость басенной морали настолько очевидна, что миллионы школьников (а кто, кроме школьников, читает нынче великого баснописца?), покорно отбарабанив текст, не впускают в свое сознание смысл. Да и можно ли? Детям, к счастью, свойственно отталкивать условные схемы и наглядно проигрывать предлагаемые сюжеты. Хмурое, помертвелое небо. Осенний ветер, дождь срывается. Легкое платье — плясунья ведь! — облепило тонконогую фигуру. Голодно, зябко. Она стучит в окошко приземистого, ладно сложенного дома, откуда веет теплом и сытным запахом щей. «Ну, чего тебе? — спрашивает хозяин, отворив окно. — Да скорее говори, избу выстудишь, дров не напасешься». — «Мне бы, — робеет артистка, — поесть и согреться». — «Много вас тут ходит, дармоедов, голь перекатная. Чеши, пока собак не спустил!» И хрясь — захлопнул окошко.
Гони прочь существо, просящее о помощи, если его образ жизни не соответствует твоему идеалу, сколь бы он ни был узок, пошл, туп.
Однако, как сказал Иисус Иуде, что делаешь, делай скорее. Посему незамедлительно следует, открываемая рекомендованными тобою словами,
глава восьмая
Судьба обрушивается на человека подобно слепому верблюду.
Борхес Рервик пристально глядел на Салиму. Четыре луны, взошедшие на небосводе, не оставили никаких сомнений, на какой планете нашел убежище Болт со товарищи. Даже такой астрономический невежда, как Рервик, не мог ошибиться. Ай-яй! Но зачем этот корвет, этот полет? Зачем?.. И сразу же явились ответы на громоздившиеся в кучу вопросы. И все становилось на свое место. Малочисленность людей, скудность быта, боязнь, что Рервик увидит открытое небо.
— Так вот почему…
— Да. Но теперь, когда вы знаете, где мы находимся, вам не уйти. Вы подписали себе приговор.
— И вам.
— То есть?
— Не заблуждайтесь, Салима. Судьба у нас будет общей. Хотите жить — выкладывайте, куда идти, далеко ли до метрополии.
— Лех — сплошное болото. Пути до города я не знаю. До ближайшего домика смотрителя километров сорок.
— Домик смотрителя?
— Там никто не живет. Некому охотиться на булунгу. Все веселятся в городе. Празднуют конец тирании. Фильмы снимают о деспотах. Скоро начнут снимать о их детях, внуках… Наивные люди. Не понимают, что за этой пристальной ненавистью кроется любовь. Все та же любовь народа к своему отцу, к…
— Мне приятно, что вас не покидает бодрость духа. Это облегчит наш путь через болота.
Глаза Салимы на мгновение напряженно остановились на чемто за его спиной. Рервик обернулся, рука на плазмере.
— Эй, — крикнул он Наргесу. — Стойте. И прикажите остановиться своим людям.
Наргес замер. Три фигуры, следующие за ним, сделали то же.
Рервик ощутил резкий запах. Салима схватилась за горло и осела.
— Слушайте меня внимательно, — сказал Рервик. — Один шаг, и я убью Салиму. Этот газ на меня не действует, как и любое паралитическое средство. (Сущая правда — Рервику сделали прививки перед какой-то экспедицией в места с дурной репутацией.) — Рервик, — напрягал голос Наргес, — одумайтесь. Вам не выбраться из болот. Вернитесь, мы договоримся. Дайте Цесариуму с дочерью улететь с Леха.
— Пусть летят. Они не нужны мне. Мне нужна Марья.
— Вы получите ее, как только вернете Салиму.
— А потом?
— Мы дадим вам птерик.
— Который рухнет через две минуты полета?
— Я полечу с вами.
— Залог не слишком ценный. Думаете, Цесариума остановит угроза вашей жизни?
— Кого вы хотите в заложники?
— Салиму.
— Это невозможно.
— Что ж, мы пойдем пешком. Мне нравится общество Салимы — с ней интересно беседовать. Напомните Болту — никаких фокусов с Марьей. И успокойте его — он мне не нужен. Хотя, если ему подучиться, я смог бы предложить Болту неплохую роль. Пусть подумает: возьмет псевдоним, никто не узнает, кем он был в прошлом, этот актер. У него недурные способности[7]. А теперь — уходите. Нам пора. Кстати, теперь в наших общих интересах, чтобы мы быстро и благополучно добрались. Сообщите моему помощнику Вуйчичу — пусть ждет нас в доме смотрителя болот. Какого участка, Салима?
Салима, только что пришедшая в себя, тихо сказала:
— Наргес, скажи отцу — мы… Мы проиграли. Я поведу его на участок Иокла. — Салима сделала паузу. — Ты помнишь участок Иокла, Наргес?
— Помню, — поклонился Наргес. — Помню, Дочь.
— Туда и направь Вуйчича. Мы будем там через сутки. Прощай. Минуту, она обратилась к Рервику, — нам понадобится еда.
— Я что-нибудь раздобуду, — сказал Рервик. — Идемте.
«Правильно ли я понял замысел Салимы?» — думал Рервик.
Несомненно, Болт попробует устроить ловушку в доме Иокла. Главное, ни на шаг не отпускать Салиму. Но что же дальше? Не станет же Наргес в самом деле сообщать Вуйчичу о том, где Андрис.
Шли они по три-четыре часа без остановки, и Рервик восхищался стойкостью, с которой Салима переносила трудности. Лехиянские болота мало отличаются от земных — те же проплешины зловонной жижи, чахлые кусты, дрожащие столбики гнуса над головой. Вскоре Андрис убедился, что дорогу Салима знает. Шла уверенно, перечеркивая зигзагами сразу же взятое направление, которое Андрис старался удержать в памяти. Пройдя километров десять, остановились. Жарили на толстом пруте снятую плазмером жирную птицу. Непривычный к мясу Рервик тем не менее ел жадно.
Салима хрустела костями и, подняв руки, языком плотоядно слизывала жир с запястий. Трапеза их как-то сблизила. Глядя на острые смуглые локти молодой женщины, Рервик вспомнил первый день на Лехе, карнавал. И снова — какая Анна Болейн! «Ту-ит, ту-гу! Ну и певун! Вся в сале, Анна трет чугун». Тонкие сильные руки. Узкий подбородок. Воля! Актеры, перенесшие сценические убийства в жизнь. Им и создавать полную достоверность на сцене. Болт в гриме с картонной короной! А возмездие? И шальная мысль: не возмездие ли для тирана попасть на сцену? Каждый спектакль — суд. Сегодня и ежедневно! Каждый вечер на манеже…
Они шли дальше, и видение бледного виска Марьи, исколотых ее вен вытесняло остальное. Говорили мало. «Осторожно, дыра».
Или: «Придется в обход, крюк приличный, но вернее». «Все, устала». А то и без слов Салима выбирала высокую сухую кочку и садилась, иногда ложилась, прикрыв глаза и разбросав наглые худые ноги.
Второй раз ели такую же неповоротливую птицу, но с меньшей жадностью. Салима накопала каких-то корешков с мучнистым вкусом. Темнело стремительно — рухнуло покрывало, и тут же выползла квадрига лун. Рервик натаскал кучу кривых стволиков. Выдергивались из трясины они легко, с громким чавком. Горели хорошо, но очень быстро сгорали. Не обращая на Рервика внимания, Салима набросала кучу травы и веток, завернулась в плащ и легла. Сонная одурь накатывала на Андриса. Он отходил от жара, от светлого круга. Осторожно топтался, стараясь не угодить в провал между кочками. Спит? Он подошел к Салиме. Она ровно дышала. Приткнулся к куче хвороста. Огонь упал. Плащ Салимы растворился. Луны затянуло плотной пеленой. В близком омуте плеснуло какое-то животное. Рыжая вислоухая собака метнулась прочь и бросилась вдогонку Марье, тыкаться узким холодным носом в тонкие лодыжки. Над Ветлугой висел пласт тумана. Сырость пропитала брюки, тапочки.
Он скинул их и шагал босиком, как и Марья. Тебе нужен муж по имени Марей, сказал он. С крутыми белыми кудрями и можжевеловым венком. Будете рыбу ловить, собирать морошку. А жить вон там, у родника. Марей поставит шалаш. Ты натаскаешь мха, сена.
Я приходить стану. Это зачем еще? — Марья удивленно поднимает брови. А фильм снимать. По Гамсуну, по Замятину. По Стриндбергу и Сведенборгу. Сведенборг хохотал. Хохотал филин. И она захохотала: не хочу Марея. Почему? — Не люблю кудрявых, да еще с венком. Можжевельник колется. Вон, все руки, видишь… Она тянула руки с исколотыми запястьями. И вдруг обняла его, неловко царапнув шею.
Рервик вскочил. Серело. Салимы не было.
— Эй! — Он забегал вокруг кострища. Неужели ушла?
— Не суетитесь, Рервик. — Темная фигура проявилась на сером фоне со стороны бочажка. — Я могу привести себя в порядок? И возьмите ваш плазмер. Он под ветками, в ногах моей постели. Я не хотела, чтобы вы пристрелили меня, пока я умываюсь.
Резкий голос Салимы вогнал Рервика в краску. Он пошарил под травяным матрасом и нащупал рукоять плазмера. Улыбнулся.
— Нервы. Я, пожалуй, тоже отлучусь.
Почему она меня не убила? Боялась расплаты? Возможно. Если молодцов Болта возьмут, они расскажут. Но что им терять? Разве они не сожгли мостов, уйдя с Болтом? Пожалела? А Марью — нет?
И вдруг он ясно себе представил, что все его усилия тщетны. Ведь Салиме ничего не угрожает — ни на Лехе, ни на Земле. Она вовсе не заложница, а потому Болт по-прежнему хозяин положения, вольный сделать с Марьей все что угодно. Просто, планируя всю операцию, Рервик смотрел на нее глазами Болта. Раз Марья — заложница в руках Цесариума, позволяющая ему диктовать условия Рервику, то, стало быть, Салима — заложница в его, Рервика, руках, и он может диктовать условия Болту. Более того, пока Салима во власти самого Рервика, Болт может предполагать, что ей угрожает опасность. Но как только они доберутся до города и Салима предстанет перед властями, она окажется неуязвимой. Зато, с другой стороны, Андрису теперь известно логово самого Болта, и тот это знает. Он может бросить все, взять с собой Марью и скрыться в другом месте. Оттуда Цесариум будет и далее шантажировать Рервика…
А Салима — что Рервик сможет с ней сделать? Ничего…
Ни-че-го… Понял, дубина стоеросовая? Возомнил себя профессионалом. Лепит ошибку за ошибкой. Побоялся взять птерик, тащится через болота с этой венценосной девой, давая возможность людям Наргеса триста раз его опередить. Что они предпримут? Уже, видимо, расположились в доме смотрителя. Какие у него козыри, кроме заложницы, которую он ни при каких обстоятельствах не сможет не только убить, но даже серьезно ранить. Одно дело дать по губам наглой девице, другое…
Поляну он узнал сразу. И насторожился. Тыкать плазмер в бок Салимы было бы бессмысленно и унизительно. Раздвигая камыши, он думал, не покажется ли в просвете длинногубая физиономия Наргеса с парой стражей по сторонам. Но вокруг было тихо и пустынно. Белый каменный столбик с именем Илги. Тропинка, бегущая через холм. Захотелось в дом, к кисловатому запаху, к дыму печки.
— Ну что, — сказал он, — где нас ждут ваши подданные?
Салима молчала.
— Пойдемте к дому.
И, не оборачиваясь, стал взбираться по тропинке.
На петле запора — обрывок шнура. Похоже, в доме после них с Иоклом никого не было. Осторожно перешагнув гнилую ступеньку, Рервик толкнул дверь. Прошел сени. Сейчас он откроет вторую дверь и увидит — Велько или Наргеса?
Увидел обоих. Они мирно беседовали за столом.
— Что за манера… — начал Велько, привстав и отодвигая табурет. — Мне, в конце концов, надоело. Что ты себе позволяешь? Я же… Я же волнуюсь, дрянь ты этакая…
Наргес одобрительно кивал.
— Да, да. Форменное безобразие. Звездная болезнь, а? С гениями вечные сложности. Ни с кем не считаются. Могут вдруг исчезнуть, а тут люди волнуются, переживают. Могут вот так навести на человека оружие, а ведь это опасно. Ну хорошо, что в данном случае…
Рервик смотрел на свой плазмер, направленный в грудь Наргеса.
— В данном случае, — раздался голос Салимы, — он разряжен. Так что, если хотите разжечь огонь в печи, советую воспользоваться другим инструментом.
— Нет, нет, — замахал руками Наргес, — печь не понадобится. Мы сию же минуту возвращаемся, Цесариум ждет. Но, но…
Рервик метнулся к Наргесу, но комната уже кишела какой-то грубой публикой. Человек пять или шесть, потрясая плазмерами, загнали Андриса и Велько в угол и, нанеся несколько профессиональных ударов по печени, связали режиссера и помощника обрывками веревок и ремней.
Салима холодно улыбалась. Наргес заговорил торжественно:
— Я готов выразить глубокое удовлетворение сложившейся ситуацией. Героическое деяние Дочери обожаемого Цесариума привело к тому, что идея запечатления образа великого человека, осуществление которой было под угрозой, теперь без сомнения получит свое воплощение. Блистательный художник и его ближайший сподвижник собрались вместе и в самом скором времени окажутся под гостеприимным кровом нашего Цесариума. Выражаю надежду, что более ничто не сможет отвлечь их от вдохновенного творчества и…
Рервик вопросительно посмотрел на Вуйчича.
— Он сказал, будто ты словил Болта и ждешь меня здесь, — негромко произнес Велько. — И что я должен быть один и с аппаратурой. Что у тебя замысел какой-то сумасшедшей съемки.
— И ты поверил?
— Если бы речь шла не о тебе, а о нормальном идиоте средней руки, ни за что не поверил бы.
Ремни глубоко врезались в пухлые запястья. Велько страдальчески морщился.
— Аппаратуру привез?
— Угу.
— Замечательно. Нам придется снимать великого Болта в ореоле славы и преклонения. У них в руках Марья.
— Марья?
Наргес тем временем подбирался к концу своей речи:
— …послужит утверждению справедливости, света и добра как на Лехе, так и во всех уголках нашей необъятной вселенной.
При последних звуках его фальцета Велько успел шепнуть:
— Потянуть бы до утра. Вот и задача — для Андриса с Велько и для нас с тобой. Как задержать отлет, если тут же выяснилось, что птерик ждет рядом, на поляне? Какие варианты приходят в голову?
Вуйчич хватает сумку с аппаратурой, швыряет под ноги и начинает топтать. Ах да, он же связан — ну, стало быть, сначала их развязали. Тяжела ты, участь беллетриста, все надо увязать, а кое-кого и развязать. Почему же их развязали? Да потому, что нет смысла опасаться безоружных, что надо вести их к птерику, что зря дразнить не велено — не кто-нибудь, создатели будущего шедевра, прославляющего самого-самого… А зачем тогда связывали? Так ведь эти стражи в основном работают спинным мозгом — навалиться, связать, а уж потом думать.
Ай-яй, нет аппаратуры, нечем снимать. На Лехе приличного съемочного оборудования не достать: отсталая планетка, прошлый век, электромобили, биокомпьютеры, рухлядь всякая. Это вам не Малая Итайка, не Джапан-три. Только в группе Рервика есть нужные для съемки штучки. Наргес скрипит зубами: отправлять пленников без аппаратуры — получить крепкий нагоняй. Послать человека в город с запиской от Велько или Андриса? Но как получить такую записку? Не для того, верно, топтал этот сукин сын сумку со своим барахлом. Остается шантаж. Старый добрый шантаж.
На самом деле им развязали только ноги и, грубо подталкивая рукоятками плазмеров, погнали к птерику. Велько чуть замешкался на верхней ступеньке трапа, когда на нижнюю ступеньку встали два стража, навьюченные сумками и баулами с кинооборудованием.
Замыкающий страж нес святая святых — кожаный чехол с хрупкой любимицей Рервика суперкамерой «ВОЛК-ПОМО-Р»[8]. Велько старательно споткнулся и полетел вниз. Завопил рухнувший на землю страж. Захрустела под стокилограммовым помощником режиссера драгоценная оптика.
— Слушайте, Рервик, Я сожалею о поступке вашего друга. Боюсь, вы тоже не одобряете его. Сейчас я доложу Цесариуму о прискорбном обороте событий. И попрошу помощи. А помочь нам сможет только глубоко чтимая и нами и вами мадемуазель Лааксо. Неужели вы хотите обеспокоить ее нашими мелкими проблемами?
— У вас есть связь с Болтом?
— Мы же цивилизованные люди, Рервик. — Наргес вытянул из кармана передатчик, состряпал почтительную физиономию и набрал комбинацию цифр.
— Слушаю, Наргес. Что там? — Низкий голос Болта был глух и спокоен.
— Цесариум, я счастлив сообщить. Дочь невредима.
Подошла Салима.
— Отец!
— Салима!
Женщина нежно коснулась решеточки микрофона.
— Вылетай скорее, я жду.
Салима смотрела на Андриса.
— Мы немного задержимся. Придется послать птерик в город за камерой.
— Разве…
— Аппарат разбился. Случайно. Я думаю, Рервик сможет быстро достать другой.
— Хорошо, жду.
Наргес широким жестом пригласил Андриса за стол.
— Напишете или наговорите на кристалл?
— Напишу.
Он набросал несколько слов. Наргес посмотрел на сообщение.
— Авсей?
— Авсей Год. Найдете его в студии.
— Авсей Год… Кажется, я слышал это имя.
Сделав жест одному из охранников — следуй за мной, — он пошел к птерику.
Рервик и Вуйчич сидели на лавке под дулами плазмеров.
Салима вышла во двор — в окно была видна ее фигура в черном плаще, медленно идущая к опушке.
— Утром здесь должна быть группа. Сцена охоты… — пробормотал Велько по-русски.
— Только на интере! — закричал страж.
— А пошел ты! — по-русски же сказал Велько, стараясь придать голосу благодушный тон.
Похоже, оба приходят к одному выводу: коли вместо сломанной камеры могут найти запасную, надо ломать птерик, хотя бы приборный щиток. Возникает вопрос, зачем было крушить аппаратуру?
А очень просто: для нагнетания напряжения, так сказать, для динамики повествования. И вообще, это дало возможность оттянуть полет в надежде, что там, дальше, еще что-нибудь подвернется.
Перед глазами Рервика встает приборный щиток птерика: голоэкранчик, за которым комп-навигатор. Один хороший удар ногой…
Но их могут посадить вдали от пульта…
— Пульт, Велько. Я беру пульт, ты поможешь, — пробормотал он снова по-русски и еще раз послал куда подальше привставшего стража.
Тянуло в сон, и Рервик задремал, нащупав затылком удобный скат бревна. И тут же проснулся — шумно вошли Наргес и Салима.
— Уже? — удивился Рервик.
За окном темнело.
— А где камера? — спросил Велько.
— В птерике. Хрупкая вещь, сами понимаете. Зачем зря носить. Надо торопиться, пока совсем не стемнело.
Первым шел Наргес, следом — Велько и Рервик, за ними — два стража. Последней шла Салима. У птерика — легкой прогулочной машины открытого типа — дожидался еще один страж. Рервик летал на таких машинах и мысленно представил внутреннее пространство. К счастью, третий страж, он же — пилот, еще не сел за штурвал. Андрис чуть потеснил Велько у входа и поднялся вслед за Наргесом. Теперь между ним и пультом был только розовый горбун, а позади — Велько. Стражи на мгновение потеряли его. Рервик прыгнул. Отшвырнул локтем Наргеса. Каблук пробил экран и, хрустя кристаллами, увяз в электронных кишках. Велько метался, путаясь в ногах стражей. Салима едва взглянула на пульт, отвернулась и пошла обратно к дому Иокла.
Камера смотрит ей вслед. Отъезд. Небо в тучах. Капли на колпаке птерика. Затемнение.
Били их жестоко. Сухой и жилистый Андрис переносил избиение несколько легче друга. Рыхлый Велько, весь в крови, по-детски всхлипывал, пытаясь закрыться связанными руками или сложиться в комок.
— Мерзавцы, прекратить! — кричал Андрис, кривя разбитые губы, но голос его едва ли доходил до ушей стражей. Наргес сложил узкий рот скорбной дугой и был недвижим. Салима, казалось, торжествовала. Но когда Рервик поймал ее взгляд, что-то похожее на смущение мелькнуло в ее темных глазах.
— Око за око, губа за губу, — сказал Андрис, сплевывая кровавый сгусток.
Салима подняла руку. Избиение прекратилось. Стражи покинули комнату один за другим. Велько привалился к стене в полуобмороке. Рервик еще раз перехватил взгляд Салимы. В холодных глазах кроме усмешки было еще что-то. И Андрис понял вдруг, что, ударив это холеное создание по щеке и губам — там, в пещере Болта, — он приобрел у Любимой Дочери немалый кредит уважения. В каком-то смысле он стал ее господином. Ведь она была женщиной. К тому же ее никогда не били. Более того, он внезапно сообразил, что при иных обстоятельствах вполне мог бы претендовать на место зятя великого тирана. И Андрис усмехнулся.
Та же комната в доме смотрителя. В углу, связанные, сидят Рервик и Вуйчич. Двое стражей не сводят с них глаз, третий прислуживает Салиме и Наргесу, которые что-то едят и пьют из грубых кружек, найденных, по-видимому, в хозяйстве старого Иокла. Остальных стражей не видно — они несут наружное охранение. Голова Наргеса перевязана, углы рта печально опущены. Салима, отвернув голову, смотрит в окно. У губ — дымящаяся кружка. Такая вот сцена.
Ночь съежилась. Падает тяжелый, мутный рассвет.
Я тем временем думаю: почему, собственно, Рервик и Вуйчич не могут сообщить о своих бедах друзьям, властям. Разве не снабдила их сверхцивилизованная родина встроенными в мозги сигнализаторами беды, аларм-датчиками и секьюрити-модулями? Напряг левую бровь — и летит сигнал: мне плохо, координаты е2 — е4, срочно высылайте экспресс-андроида для производства сервисных работ согласно регламенту. И сей момент зависает над ним винтолет, этакая летяга стрекозиного облика, сбрасывает кибера с медицинским саквояжем и лучеметом и спасает горемыку в самый последний момент.
Мы хотели было выбрать более романтический способ, приводящий к тому же результату. Способ этот опробован с успехом в тысячах героических фильмов вестерно-истерного типа: кончаются патроны, раскалился пулеметный ствол, сжеван последний сухарь и, рванув рубаху, с запекшимся ртом встает во весь рост герой. Еще мгновенье — и стрела дикаря, пуля бандита, ятаган нехорошего бея сразят его. Но — торжественный перелом музыки, и из-за холмов с шашками и громким «ура!» несутся могучие грузовые птерики.
Они зависают над поляной, дружно садятся, и все вокруг мгновенно кишит конями, королями, ловчими, придворными, ассистентами и помощниками режиссера, гримерами, костюмерами и Авсеем Годом.
Кино!
Но действительные события развивались несколько иначе.
Хмурые стражи производили смену караула, когда из лесу послышалась похоронная музыка. Уныло-торжественные звуки неприятно подействовали на стражей, и они, сжимая рукояти плазмеров, уставились на дальнюю опушку. Оттуда на поляну выступала процессия. Вслед за музыкантами, которые дули в рожки, извлекая печальный свист, и угрюмо били в тарелки, на открытой повозке, влекомой четырьмя силами, показался убранный цветами гроб. По сторонам церемониальным шагом выступали гвардейцы Цесариума в золотых пятиуголках. За повозкой в тяжелом молчании двигалась толпа скорбящих. Стражи похолодели от ужаса: недвижный и строгий, лежал в гробу великий гений Леха, несравненный Цесариум Жоземунт Болт.
— Ва-ва, — сказал старший страж и опустил плазмер.
— И-ех, — сказали остальные стражи.
Салима и Наргес, стоя на пороге, оцепенело смотрели на приближающуюся скрипучую повозку. Она была совсем рядом с домом, когда музыка оборвалась, а мертвец вдруг сел в гробу и грозно огляделся.
Дальнейшие события развивались быстро. Нарядные гвардейцы мгновенно обезоружили стражей — те, впрочем, и не думали сопротивляться. Салима и Наргес поспешно скрылись в доме. На пороге их сменили полуосвободившиеся от пут Вуйчич и Рервик. Велько с изумлением взирал на осыпанное мукой белое лицо Цесариума.
Андрис, обладавший более острым глазом, вдруг заорал: Миха!
И бросился в объятия воскресшего тирана.
— Миха! Как ты здесь?
Миха Льян умел сохранять дистанцию в любом положении. Мягко освободившись от режиссерских объятий, он сказал с достоинством:
— Я никогда не считал для себя зазорным участвовать в пробах. Знаменитый режиссер забыл про меня — и я сам прибыл на Лех.
— Превосходно! Но как ты очутился здесь, на болотах?
Один из музыкантов откинул капюшон и сказал голосом Авсея Года:
— Обстоятельства вынудили нас вместо сцены охоты отрепетировать сцену похорон. Она показалась нам эффектным психологическим ударом. Ведь оружия у нас нет — бутафорские аркебузы и шпаги не в счет.
Надо отдать должное Наргесу. Когда в дом с толпой деловитых киношников вошли Андрис, Велько и Авсей Год, старый царедворец самоотверженно закрыл Салиму щуплым телом и высоким голосом провозгласил:
— Рервик, ты не тронешь эту женщину!
Но Андрис уже говорил в переговорник:
— Послушайте, Болт, я немедленно вылетаю к вам за Марьей. Не дай вам Бог совершить ошибку. Запомните: Салима не у ваших приятелей из управления порядка и не на Земле. Она останется у моих друзей до тех пор, пока я не вернусь с Марьей.
Оставив Салиму с Вуйчичем, Рервик взял с собой Наргеса и троих из съемочной группы: двух гвардейцев Цесариума и церемониймейстера. Вопросительно глянул на Льяна. Тот приглашение с достоинством отклонил. В последний момент в птерик вскочил Авсей Год.
— Я знал про этот бункер, — говорил звукорежиссер, когда птерик лег на курс. — Мог бы и раньше догадаться. Просто в голову не приходило, что Болт осмелится остаться на Лехе. Между прочим, когда я сказал Вуйчичу, что видел вас и что стоило бы вас поискать, он ответил…
— Я знаю, что он ответил.
— Что же?
— Если Рервик захочет, чтобы его искали, он даст об этом знать. Верно?
— Почти. Потом куда-то исчез и Вуйчич. А еще через пару дней заявился некий тип в толщинке и стал гнусаво просить камеру и совать мне под нос вашу записку. Он прекрасно подковал себе голос. О парике, усах и румянах я уж и не говорю. Все было вполне натурально, и я готов был отдать ему одну из ваших камер. Но слух! Слух звукооператора. Вот чего не учел Наргес. Я узнал его по голосу. И подумал: что это? Ловушка? Какие общие дела могут быть у ближайшего соратника Болта и Рервика? Заварил ему чайку, а сам пошел в закуток к Рувиму Стацирко. «Рувим, — сказал я, мне нужна вот такая горошина, эдакий радиомаячок. И нужен он мне сию минуту. Я хочу вставить его в чехол камеры». Рувим поднял на меня свои ореховые глаза и сказал: «Вы знаете, Авсей, я люблю вас как родного племянника, но то, что вы просите, невозможно. Сию минуту такие вещи не делаются. Мне нужно по крайней мере полчаса». И полчаса этот мерзавец, Наргес, пил у меня чай. А потом вместе с прибывшим Льяном мы разработали эту похоронную идею.
— Что ж, киношного Болта вы похоронили вполне успешно. А настоящего скоро увидите в полном здравии.
Год молча скривил рот. Потом скрылся под капюшоном своего плаща и до приземления птерика хранил молчание.
В узкую щель между валунами пришлось входить по одному. Вел Рервик, последним шел Год. У входа никого, в коридорах пусто.
Пуста была и открытая камера Марьи. Рервик повел всех в комнату с ширмами. Болт обставил сцену в провинциально-трагическом вкусе. На красном ковре — Марья. Глаза закрыты, лицо зеленоватое. Около нее — человек, вялыми пальцами ловящий пульс.
«Геле, доктор», — понял Андрис. Остальное он стал различать, лишь убедившись — по дрогнувшим губам, по теплой руке, — что Марья его узнала. Болт сидел в кресле. За спинкой — громада Джоя.
В глубине — несколько темных фигур. Рервик узнал Варгеса. Наргес скользнул мимо Рервика к ногам Болта и стал на колени.
Цесариум сухими пальцами потрепал гладкую щеку любимца. Ситуация просто требовала патетики.
И патетика расцвела, но не сразу. Сначала была растерянность.
Горькие взгляды на Марью. Сухие глотательные движения. Дрожь пальцев. Потом что-то сказал Болт. Что-то ответил Наргес. И Рервик заговорил:
— Болт! Сотни лет назад человечество отказалось от смертной казни даже для преступников, поправших святое право человека — право на жизнь. Даже для убийц по умыслу, убийц детей, стариков и калек. Люди отвергли ритуальное лишение жизни, сопровождаемое представлением-судом, величавыми жестами обвинителей и адвокатов, барабанным боем, кривлянием врача и священника. Нелегко было отказаться от такого зрелища. Симфонический рев костра.
Глухой и окончательный стук топора. Изящная графика виселицы.
Вершина гуманности — взвод. Никто не знает, от чьей пули. Телевизионные шоу двадцатого века — убийство убийцы в камере с отравляющим газом. Экзекутор кладет палец на кнопку. Граждане с любопытством наблюдают гримасы казнимого. Стынет чай на столе и кровь в жилах. Ах! Но почему? Почему отказано нам в радостном переживании торжества справедливости, наказания порока?
Потому что невыносимо бремя выбора. Между беспросветным негодяем, поджигающим автобус с детьми в знак политического протеста, и праведником, отдающим дырявый плед продрогшему сироте, лежит сплошная, неделимая область, населенная живыми людьми.
А стало быть, где-то, при каких-то обстоятельствах возникал пограничный, спорный, неясный случай — можно вроде и помиловать, а с другой стороны, дрянь все-таки, не жалко и шлепнуть. Или доказательства почти, ну почти неопровержимы, на много-много девяток после запятой. Остается пустяк: выбрать, кого убить, кого оставить в живых. И вот родилось, вернее, восстало из пепла рожденное полуварварами в самое кровавое столетие земной истории установление: «Государственная Дума считает недопустимым применение даже и по судебному приговору наказания смертью. Смертная казнь никогда и ни при каких условиях не может быть назначена».
Всякое пробовали люди с тех пор. Острова забвения и одиночные камеры. Психореконструкцию и принудительную амнезию. Публичное покаяние и публичное осмеяние. И нигде, даже в самых дальних колониях, живущих по земным законам, не применялось официальное умерщвление людей как мера наказания. Только здесь, на Лехе.
Только тобой, Болт.
Ты выпал из времени. В тот смутный промежуточный слой, в пору, мало понятную современному человеку, в межвременье, в щель, по одну сторону которой — нищие, полуголодные века, когда люди гибли от чумы и туберкулеза, забивали насмерть воров, боялись сглаза, но и подавали милостыню, стрелялись из-за поруганной чести, верили в ту милосердную ипостась духа человеческого, которую называли Богом, и, верой этой освященные, творили храмы, подобные остановившейся музыке, и музыку, подобную воспаряющему храму, сплетали из слов и красок образы, полные слез и боли, любви и света, мечты и тайны, а по другую сторону — время, когда уже не было нужды в милостыне, но сохранилась нужда в милосердии, когда изобилие притупило интерес к вещам, но подняло цену на ласку и привет, когда размышлениям, любви, дружеской беседе — потехе — настало время, а изготовлению различных предметов, отличающихся материалом, размером и цветом, делу — отводился час. В этой щели шириной в два века шкала ценностей так скособочилась, вывернулась наизнанку, что лишь способные к перевоплощению, нравственной мимикрии философы и историки, наделенные, помимо знаний, искусством вживания в самые безумные обстоятельства существования, пытаются как-то объяснить, описать, сохранить для изучения более мудрыми потомками факты, картины жизни, деяния людей того времени.
Мир их представлял собой скопления металло-цементных конструкций преимущественно прямоугольной формы, связанные между собой полосами аналогичного материала. Предметом особой гордости жителей этого мира явилось возведение всевозможных сооружений, высшим достоинством которых признавалась приложимость к ним эпитета «самый». Самый первый, длинный, высокий, быстрый, тихий, желтый, острый… Вся эта деятельность питалась энергией от неуклюжих и изредка взрывающихся атомных котлов, производящих горы радиоактивных отходов, которые закапывались в землю и топились в океанах. Основным занятием жителей было перемещение по планете в наземных, подземных и воздушных аппаратах с различной скоростью, но с одной целью: способствовать развитию так называемой экономики, то есть изготовлению все тех же предметов различной формы, размера и окраски в возможно большем количестве. Люди живо обсуждали и переживали сведения о том, где и что изготовлено, куда перевезено, как съедено, изношено или другим образом уничтожено. Мысли людей были заняты движением неких бумаг, называемых акциями (тайный намек на действие). Привлекали всеобщее внимание возимые в черных лакированных тележках говорливые мужчины с хорошей дикцией и набором эффектных поз. Большим успехом пользовались игры в так называемый научно-технический прогресс. Обожали общаться с автоматами, очеловечивая их и приноравливаясь к ним всячески — языком, ходом мысли, стандартным набором реакций. У окошек, называемых дисплеями, умирали фантазеры и философы, гибли интуиция и юмор, поэзия и сострадание. Потом возникли новые увлечения — игры с генами. В панической погоне за жратвой люди создавали новые виды растений и животных, нарушали межвидовые связи, корежили биоценозы. Дорвавшись до термоядерного синтеза, они получили море энергии, нагрели планету и изуродовали климат… Детей в это время, в это безвременье, уже не учили, как бывало, пасти скот, сеять зерно и выделывать горшки из глины. Основное время отводилось на операции с различными знаками и буквами, совершаемые на листах бумаги, воображаемым попыткам вкатить шарик по наклонной доске на некоторую высоту и бросанию его с той же высоты, сливанию в прозрачной посудине дурно пахнущих жидкостей и насильственному заучиванию цепочек слов с созвучными окончаниями.
Только эти века с присвистом кнута и лживой болтовней о свободе, только эти века порождали тебе подобных, давали им развиться, возносили их, а потом, развенчав, помещали в пространство меж двух листов картона, именуемое энциклопедией.
Такую вот странно длинную и неуместную речь произнес Рервик, поскольку мне надо было выговориться. Между тем Болта, по-видимому, вовсе не беспокоила точка зрения Рервика на то, в какую временную дыру он выпал. Скорее занимал его вопрос, сохранит ли он шкуру и относительную свободу. Ну и, конечно, хотел он гарантии неприкосновенности своего чада. Все это прочел Рервик в тревожном взгляде Болта.
— Меня более, не занимает судьба ваша и этих… — Рервик брезгливо повел рукой на свиту Болта. — Останетесь вы здесь или уйдете, а если уйдете, то куда — все это дело ваших бывших подданных. Только их суду вы подвластны, а законы Леха мне не знакомы. Не знаю, насколько они изменились с тех пор, как вы покинули пост верховного судьи.
— Вы не повезете меня в город? — резко спросил Болт.
— Я — нет.
— Правильно. Землянам не должно быть до этого дела. Мы сами разберемся. Когда я увижу Салиму?
— Она будет здесь, как только Марья окажется в городе.
— Так берите ее и улетайте. Я не желаю вас видеть. Все, связанное с Землей, ее юродством, ханжеством, мне отвратительно.
Болт тяжело встал и направился к выходу. «Сыграть бы ему — Болта, — подумал Андрис снова. — Лучшего не найти».
Он уже взялся за ручки носилок, на которых лежала Марья, когда негромкий голос заставил его остановиться:
— А с соотечественником не останетесь на минуту, Цесариум?
Год стоял в центре зала и смотрел вслед Болту. Тот обернулся.
— Кто это?
Год откинул капюшон. Болт медленно пошел к нему, всматриваясь.
— Авсей? — Он остановился. — Но ты…
— Жив, да-да.
— Я рад. Почему ты исчез? Почему тебя не было рядом? Не думал, что ты предашь меня.
— Я предал тебя. Но не в тот момент, когда все твои приближенные, кроме Варгеса и Наргеса, бежали, как трусливые ейлята, а эти двое цеплялись за тебя, потому что не могли ждать пощады.
— Ложь, — сказал Наргес тихо, но внятно.
Год обернулся к креслу, у которого, все еще на коленях, стоял Наргес.
— Да, я несправедлив, — сказал Авсей, подумав. — Вы оба любили, любите это чудовище. Тогда, в ночь, когда горел дворец и тебя искали, я мог тебя выдать, но не стал. Я видел твой птерик, даже снял отлет — вы бежали с крыши правого флигеля. Ничего не стоило поднять тревогу. Вы бы не ушли — птерик был парадный, полный роскоши, но тихоходный. Его потом нашли на болоте. Я понял, ты специально устроил это представление с обугленным трупом. Кого, интересно, ты убил для этой цели? Экспертиза была небрежной. Совет поверил уловке. Он даже не обнародовал находку обломков и трупа. Но я-то знал — ты жив. Ты сказал, что рад меня видеть. Я тоже. Очень рад.
— За что ты ненавидишь меня? — спросил Болт. — Только не говори, что ты — тираноборец. На Лехе таких нет. Здесь каждый борется не против, а за. За себя. Разве я не приблизил тебя? Разве не завидовали тебе не столь удачливые коллеги?
— Ты прав, Цесариум. Как хорошо ты нас знаешь! У меня действительно была причина ненавидеть тебя. Личная причина. Я открою ее. Чуть позже. Я разрывался между любовью к тебе — кто не любил нашего Цесариума? — страхом — кто его не боялся? — и жалостью к сестре — кто не испытывает жалости к родной сестре, особенно если она воспитала тебя, заменила мать?
— У тебя есть сестра?
— Была.
— Я ничего не знал о ней. — Болт обернулся к Наргесу. — Почему я ничего не знал о сестре Авсея? — И, не дожидаясь ответа, Году: — Разве ты не мог обратиться ко мне, если с ней случилась беда? Что с ней произошло?
— Она избрала себе несчастливого мужа и имела смелость любить его не только в дни славы, но и в дни падения.
— Она погибла?
— Да.
— Почему же ты отпустил меня тогда?
— Тебя могли убить при погоне.
— Ты не хотел этого?
— Смерти? Твоей смерти? Ни в коем случае.
— Милосердие?
— Напротив. Что тебе смерть? Минутный страх. Нет, Болт. Ты должен жить. Долго. Чем дольше, тем лучше. И вспоминать всех. Казненных и униженных. Раздавленных, превращенных в ничтожества. Обесчещенных. Сведенных с ума. Я позабочусь, чтобы ты — случайно, по умыслу ли — не погиб. Я буду охранять тебя от наивных мстителей, которые, узнав о том, что ты жив, что ты так близко, задумают свести счеты. Как я хочу, чтобы ты жил вечно, Болт. У меня была мечта: увековечить дела твои, имя твое, облик твой, увековечить их гением Рервика!
Тяжелая улыбка расколола губы, смяла щеки Болта. Рервик понял смысл этой гримасы: Цесариум хотел того же. И он жаждал увековечить себя руками Андриса. И был близок к воплощению мечты.
— После этого фильма я мог бы позволить тебе умереть, Цесариум. Но теперь вижу — фильму не бывать. Нет актера, способного сыграть главную роль. И почти нет зрителей, которых такой фильм — не заинтересует, таких еще можно найти — обожжет, ударит, повергнет в ужас. У этого фильма нет адреса. Уцелевшие жертвы хотят одного — забыть. Люди Земли и Содружества так озабочены собственной чистотой и величием, что не пропустят в души свои свидетельства собственного позора. Главным ценителем картины был бы ее герой. А как бы он сыграл! О! Натурные съемки! Что, Болт, если дать тебе планету — тот же Лех, вернуть власть и — снимать, снимать, снимать… Уговорите его, Рервик, он согласится. Он сыграл свою прошлую жизнь, теперь — на бис. Уговорите! А пока нужно сохранить героя-актера. Он будет мысленно репетировать. Вспоминать. Я буду показывать тебе самые интересные сюжеты, Цесариум. А когда ты утомишься созерцанием старых хроник, я стану приводить к тебе живых людей. Так и будут они чередоваться: живые и покойники, известные и те, чьи имена ничего не скажут великому Болту: Мутинга и Эва Одульф, Кунмангур и Илга Довид, Катукара и Купка. И не забудьте, Рервик: снимая сцену самоубийства Купки, тщательно выбирайте ракурс. Попросите актрису сделать широкое, эффектное движение ножом. Когда я снимал происходящее в доме Купки, я слишком доверился автоматам. В результате такой важный и красивый эпизод — перерезывание горла женой изменника — оказался снятым ниже всякой критики, за что я получил строжайший выговор. И поделом! Буду знать, как уклоняться от честного исполнения долга. Ну что с того, что Купка — моя сестра?
Болт дернулся, хотел что-то ответить, но махнул рукой и скрылся за ширмой.
Пока.
Твой Владимир
ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ
Апрель 28, Савельева
Не в силах ожидать ареста, некто Коган, большевик из Одессы, бросился в Ярославле под поезд. Эх, Коган, Коган! Не ты ли в двадцатом ужинал в украинской хате житняком и медом? Не ты ли большевистским разговором смущал мужиков? Не ты ли, Коган, сказал им: разорите богатых, убейте их и станете счастливы?
Так чего же ты ожидал, комиссар?
В Ярославле ты был не таким уж малым начальником, и тебя возил тарахтящий автомобиль. Что ж удивляться, что тебя захотели убить? В Ленинграде прямо в коридоре обкома застрелили большевика в сапогах, и ты почувствовал страх. А ведь не боялся, когда в конной армии Городовикова над курчавой твоей головой свистели пули. Не испугался, когда на краю овсяного поля тебя расстреливали два махновца. (Неплохие оказались ребята. Отпустили. Умилились твоим бесстрашием да блеском пенсне.) Тебе не было страшно, когда в двадцать девятом, в тридцатом разоряли мужиков, ссылали мужиков, убивали мужиков. Ты думал — убирают богатых, и сомнения не терзали твою душу. Когда схватили инженера Рамзина и историка Тарле, тоска шевельнулась в сердце, но страх ты в него не впустил. А теперь, в преддверии тридцать седьмого, ты празднуешь труса, Коган.
Почему ты, бесстрашный комиссар, овцою лег на рельсы?
Почему же не запасся двумя револьверами — один за пазухой, другой за укороченным голенищем сапога? Что ж не задумал прикончить хоть пару наиболее гнусных энкаведешников? Почему не сбежал — в степь, в тайгу, в городские трущобы? К уголовникам, ворам? Тоже ведь выход. Правда, труден этот путь для нормального человека. Но был ли ты нормальным человеком, Коган?
На суде, бледный и хмурый, он стоял между салазаровским полковником Беанишем и рыцарем Гецем фон Берлихингеном, предавшим крестьян Мюнцера. Когда Когану задали вопрос о револьверах, он долго молчал, а потом заговорил глухо и решительно.
— Сейчас, из могилы, многое передумав, я скажу вам… — Он пожевал пепельными бесплотными губами. — Вы спрашиваете, почему не задумал я убийства Болта? Отвечу. Ни убивать, ни устранять его было не нужно… Нет. Это явление должно было обнажить себя до конца, отработать до гниения, распада, естественной смерти. Только тогда оно будет распознано, и не останется романтической легенды о борце за народное счастье Жоземунте Болте, который хотел, да не успел. Не дали… Нет, дали! Успел! Выстроил!
А теперь — смотрите, что он выстроил на костях ста миллионов…
Теперь ты видишь, Владимир, что повесть наша катится под гору.
Вот-вот, махнув прощально, герои станут выпадать за пределы страниц. Но как? И главное — куда? Жаль, что, поместив логово Болта на Лехе, мы лишились резона продолжать линию космического волка Баккита, заманившего Болтов спейс-корвет в черную дыру.
Главу эту, возбужденный сиднокарбом, ты, помнится, сочинил в новогоднюю ночь, когда замысел «Похищения» только брезжил в наших мозгах. Как она начиналась? «В форме СФ с витыми шнурами, кажущийся кавалергардом с картинки, зорким глазом оглядывающим места недавнего жаркого сражения, вышел и угнездился между двумя трапами в торце «Игоря Сикорского» старый навигатор с Андромеды Баккит-Улад…» Но вот мы загнали Болта в лехиянские болота, и надобность в Бакките отпала. А какое, казалось бы, удобство. Погрузить в спейс-корвет всю компанию — ив черную дыру. Акт возмездия, и думать не надо. А теперь — выкручивайся. Обеспечь всех судьбой. Беллетристический трючок, напрочь отрывающий литературу от жизни, но пробуждающий интерес читателя — а что потом?
Раз упомянувши, изволь показать героя еще разок-другой. Создать иллюзию взаимосвязи. Превратить людей в узелки выдуманной логической сетки. Все это — развитие случайно оброненной фразы о ружье, которое, мол, обязано выстрелить. Появится на первой странице легкое копошение, намек на золотушного студента из Владикавказа, у которого отец держал бакалейную лавку и прибил жену за неумеренную трату на ленты да булавки, а от суда откупился и сильно скорбел, что сумма откупного куда как превзошла женин расход, после чего, напившись от переживания, лавку сжег, а сам утопился, но был выловлен и возвращен к жизни, каковую и окончил в глубокой старости, сидя на шее сына и неутомимо выговаривая ему за любую потраченную копейку. Казалось бы, и хватит об этом, но правоверный автор будет палить из ружей, и на склоне лет и романа обратится студент в действительного статского советника, вышедшего в отставку и занимающего нежданно обильный досуг сочинением чувствительных повестей, в которых лампады изливают бледный свет, а очи воспламененных юношей изливают потоки слез.
Нам еще предстоит совершить эту процедуру — честно собрать всех персонажей и указать, без утайки, кого что ожидает. Пусть одним достанется пара строк, другим — абзац, третьим — страница, но никто не должен быть забыт. Быть забыт — наверняка редактор вычеркнет это сочетание. Ну да Бог с ним. До той поры я успею рассказать тебе о тете Поле, Полине Васильевне, старухе Леонихе — своей соседке, склочным характером держащей в напряжении всю деревню. Тонизирующее средство, будоражит она очередь за хлебом в деревне Кореничено, бросает в топку слухи, домыслы, соображения о скудной на события деревенской жизни, и полыхает костер до послезавтрашней очереди — хлеб здесь привозят через день. Рассказ мой и составит третье по счету
отступление
Ко мне она пришла через десять минут после того, как я открыл дверь дома, и с порога потребовала изоляционную ленту — починить шланг. Ленты у меня не было. Полина улыбнулась и исчезла.
Потом я понял, что это не улыбка. Впечатление улыбки давал беззубый запавший рот.
Едва успел я разобрать рюкзак, Полина снова появилась в сенях, стукнула о стол кринкой и сказала:
— Вот. Попробуй, какое молоко-то бывает.
И тут же ушла опять. Теперь, кроме проваленного рта, успел заметить я белесые водянистые глазки и седые жидкие волосы, кое-как убранные под ядовито-зеленый платок.
Так началась наша жизнь. Мы — Наташа и я — лебезили, мерзко и униженно заговаривая с Леонихой о погоде, видах на урожай, ассортименте в магазине. Полина иногда отвечала благосклонно, иногда отмалчивалась. Молока больше не приносила. Через неделю я привез ей из Ржева изоленту и предложил достать новый шланг.
Изоленту она взяла, принесла полтинник, а от шланга отказалась: — На хрена мне пятнадцать рублей платить, он и так еще поработает.
В тот же день разразился первый скандал. Я услышал визгливую матерщину. Полина с косой гналась за Никси. Я судорожно схватил собаку на руки.
— На цепи держите, убью! За курами повадилась, стерва. У меня уж одна подохла, я в овраг снесла — ее работа! Ой, жаль не догнала, ой, не догнала!
Наташку трясло. «Она убьет Никси, — повторяла она. — Уедем отсюда. Я не смогу тут жить».
К вечеру я слышал истошные вопли Полины, проклинавшей всех дармоедов-дачников. «Лучше вылью я молоко, на дорогу вылью, чем им продавать стану, тьфу!» Наташа уехала, увезла Никси. Через пару дней старуха неслышно вошла в дом, когда я вымучивал конец исторического обзора и застрял на дистрибутивном анализе. В черных пальцах Полина держала глубокую тарелку с творогом.
— Ешь!
И снова пропала на два дня. Только издали было видно: обкашивает бугор за своим подворьем, тянет на веревке старое ржавое корыто с торфом, латает забор, гремит ведрами, вбивает кол — привязать корову…
После экзаменов на три дня приехала Анна. В узких коротковатых джинсах, закатав под лопатки и завязав на груди рубашку, она пыталась влезть на Ереванычина жеребца Букета, когда ее увидела Полина. Она смотрела на Анну полными глазами. Потом увела в недра своей усадьбы, а через полчаса выпустила — с корзиной в руке и кринкой у груди. В корзине оказались дюжины две крупных светло-коричневых яиц и толстый шмат сала, в кринке — сметана. Следом пришла и сама Полина. Села на лавку у крыльца и сколько-то молчала, глядя то на Анну, то на меня.
— Ты подкорми дочку-то, тоща-то, мать твою, эх!
Она тихо просидела, пока Анна вылизывала сметану, а я — с ее, Полининого разрешения (да стучи ты, дятел, я так посижу) — продолжал дописывать введение.
Весь следующий день Анна пропадала у Леонихи, возилась с курами, ласкала и поила теленка, пробовала доить Леонихину Красотку, косила, полола. Пришла в сумерках, рухнула на постель.
— Есть будешь?
— Не-а. Меня тетя Поля накормила. Т-а-ак вкусно! Пироги с картошкой и луком. Она говорит, Таня очень их любила.
— Таня — это кто?
— Дочка ее, Таня. Ты что, не знаешь? Столько живешь и не знаешь. У нее дочка, Таня. Моя ровесница.
— Не мели. Полине за семьдесят. Какая ровесница?
— Была дочка, нет ее, умерла, утонула…
Наутро я проводил Анну к автобусу, вернулся и подошел к дому Леонихи. Она кивнула из окна, и я поднялся на крыльцо. Пахло хлевом, на столе горка грязной посуды, половики сбились в комья.
Романтический образ чистой деревенской бедности рушился. На сундуке две фотографии: девочка с темными нагловатыми глазами, правда, похожа на Анну — носом и оттопыренным ухом, и мужчина, плохо выбритый, с узким лбом и тяжелым подбородком.
— Ты уж не сердись, что Анюту я к себе на весь день заманила.
Уж очень вспомнилось. Я ведь в Молокове-то, на кладбище, целый год не была. С прошлой весны, как Тимофею памятник ставили, с тех пор… А как твою увидела! Как живая, как сейчас стоит.
— Сколько лет прошло? — сказал я, как идиот, чтобы сказать что-нибудь. Ох уж это показное сочувствие. Почему не могу я сочувствовать молча? Или не верю, что она это молчание поймет?
— Ой, посчитай сам — с пятьдесят первого года.
— Сколько ж ей было?
— Пятнадцать ей в октябре, а это все в июле было, на Петров день. Рано ушла с девчатами. Мы с Тимофеем косили за шорой.
Юрка Селиванов прибежал — идите, говорит, на Волгу. Таня, говорит, утонула. И знаешь, погоревали — и перегорело горе-то. Володька родился. Да в колхозе, да дома, хозяйство. Так и жили, я и, сказать стыдно, на могилку не ходила. А как Тимофей помер… Третий год, как помер. Помер Тимофей на Сретенье. Много народу тогда было. Лида приехала, привезла покров белый, шелковый. Это, говорит, тебе, батя, от меня. Колбасы привезла три палки, сыру, масла.
Мясо-то я в колхозе взяла, двенадцать кило. Председатель выписал. Вина два ящика. Из Молокова были Морозовы, да Павел Дмитрич, да Михаил Тихоныч, да Чугунников Алексей, художник московский Володя, Лена хромая. Из Теличена Коля Солянкин с Зиной, Вера Дроздова, Маша горбатая, Николай Арсентич. Из Кореничена Глуховы, из Федурнова Гутя пришел, он с Тимофеем в кузне еще до войны работал. А Сашка приехал с одним чемоданчиком. Я говорю: «Сынок, неужто закуски какой привезть не мог?» А он: «Мне, мать, — говорит, — это без надобности». Я ему: «Дай хоть двадцать пять рублей». Ну он дал. Мне Валька, невестка, писала: «Мам, — говорит, — сколько он тебе денег дал?» Я и постеснялась сказать, что на отцовы похороны только двадцать пять рублей дал, да и скажи — двести. Она говорит: «Мало с него, подлеца, взяла». Дал бы он впрямь двести, я бы Тимофею хороший памятник поставила, а то бедный памятник. Ограда-то хорошая, крепкая, а памятник бедный.
Володька говорит: «Я, мам, заработаю, поставим бате памятник, не проси, — говорит, — Сашку, ну его к матери». Фотографию-то уж сделали, на этом, на стекле. Эту, видать, в нагрузку дали, бумажную.
Я с ней разговариваю — скучаю. Плачу вот. Или Тайгу, собаку, увижу — а она родилась-то как раз, когда Тимофей вставать перестал, — увижу и того гляди… Скучно, иной раз зимой так скучно, хоть вой. Во всей деревне — Юрка с Машкой да Арсентий Палыч, учитель. Володька рано уйдет, я Красотку накормлю, курам кину — и на печь. И есть не хочется, и ничего не хочется. Я и продала бы корову, да пенсия сорок четыре рублика, не прокормишься, да и Володьке надо. Бутылку ему в выходной надо? Надо. Свои-то он сразу просвистит на рыжую Гульку. Ой беда с ней. Баба с двумя детьми малыми, мужем брошенная, а Володьку присушила. Он уж что задумал — я, говорит, Тайгу зарежу Гульке на шапку. Я умолила — не тронь собаку. Это мне об отце, об Тимофее, память. Молока-то возьмешь? Я только надоила, теплое. Ну иди, иди, стучи свое, может, чего выстучишь. А за суку свою не сердись — в сердцах я, не трону боле, и Наташке скажи — не трону. Анюта-то еще приедет?
Я шел домой, прижимая теплую кринку к животу, и встретил остромордую грязную Тайгу. Она злобно ощерилась и обошла меня стороной.
«А, впрочем, — думал я, садясь за машинку, — почему мы должны поставить крест на космическом волке Бакките? Разве сюжет властен над нами, а не мы над сюжетом? Разве человек для субботы, а не суббота для человека?» Я заправил свежий лист и смело напечатал:
глава девятая
Во время этого головокружительного падения я инстинктивно вцепился изо всех сил в бочонок и закрыл глаза.
Э. По
В форме СФ с витыми шнурами, кажущийся кавалергардом с картинки, зорким глазом оглядывающим места недавнего жаркого сражения, вышел и угнездился между двумя трапами в торце «Игоря Сикорского» старый навигатор с Андромеды Баккит-Улад.
Пока по левой аппарели скользили вниз и разбегались по складским ангарам кибертележки с транзитным грузом — тюками кирийского табака, мешками желтого сахара с Трай-пийского архипелага, цистернами сгущенки из Кост-ро-Маны и прочим колониальным товаром, по правому трапу такие же автопогрузчики втаскивали в корабельное брюхо и рассовывали по трюмным закоулкам всякий технологический хлам вроде стержней из металлического водорода, слитков сверхчистого арсенида галлия, универсальных киберблоков, паровозных свистков и двутавровых балок.
Подошел белый от волнения экспедитор В'Анья:
— Б-баккит, б-беда. П-пропали две б-бочки б-бусидийской сельди.
— Две?
— Угу.
— Как ты обнаружил пропажу?
— Об-бнаружил тем, что не об-бнаружил б-бочек.
— Вот и хорошо, вот и не ищи.
— Как так не ищи?
— Ты не кричи, В'Анья. Ты займись своим делом.
— Мое дело — об-беспечить сохранность груза.
— Чушь! Твое дело — оформить протокол на исчезнувший груз. Иди и пиши акт. Я подпишусь.
— А селедка?
— В'Анья, ты когда-нибудь пробовал буссидийскую селедку под шубой из перьев молодого орнидила?
— Я не ем острого, — холодно сказал экспедитор.
Лицо Баккита пошло пятнами. Серые усы раздувались. Дыхание сбилось.
— Это буссидийская-то сельдь остра?
— Не знаю, не п-пробовал.
— Так слушай внимательно. Ты замачиваешь тушку в молоке ейлицы, выдерживаешь два часа, вынимаешь хребет и режешь на ломтики. Ломтики укладываешь в селедочницу, покрываешь слоем красного лука, нарезанного кольцами, потом посыпаешь мелко нарубленными перьями орнидала, сверху поливаешь гагуазским соусом и подаешь на стол. Как приготовить гагуазский соус, ты знаешь?
— Заб-был.
— Чем, интересно, набита твоя голова? После погрузки напомни — расскажу. И дам тебе пару селедок. Иди, В'Анья. Встретишь Кристиана, скажи, пусть идет сюда.
— Вон он, сам идет.
Молодой помощник Баккита, блистая серебристым комбинезоном, полубежал к «Сикорскому». За ним катился невысокий толстяк с багровым мокрым лицом.
— Том, это мой шурин, Вуйчич. Он снимает кино.
— Иди, В'Анья, — повторил Баккит. — Тебе про кино не надо. Ты иди на склад. — Баккит хмуро посмотрел на помощника. — Ты где был? Почему посторонние?
— Тут, видишь ли, такое дело, — начал было Кристиан, но Велько вышел вперед и заговорил сам: — Баккит, я знаю, вы идете домой, на Андромеду. Но мне надо, чтобы вы отвезли человека, а вернее, троих, на Землю.
— Шутка?
— Женщина больна. Ее надо срочно отправить отсюда.
— У меня груз.
— Это не ответ, Баккит. Она в тяжелом состоянии.
— Хорошо, я возьму ее на Андромеду. Там ей помогут, хотя я не понимаю, почему ей не могут помочь здесь.
— Баккит, в полете я с радостью расскажу вам об этом со всеми подробностями. Сейчас нет времени. Мы должны стартовать немедленно.
Баккит повел тяжелой головой и с откровенным любопытством оглядел наглого киношника.
— Впрочем, если за час-два вы успеете закончить погрузку, я не возражаю. С Земли вы сможете сразу же лететь по назначению. Не нужно будет возвращаться на Лех. Все-таки экономия.
— Вы идиот?
Вуйчич пожал плечами.
— Вы представляете, сколько все это стоит?
— Земля заплатит.
— Меня выгонят с работы.
— Мы вас восстановим.
— Вы?
— Я и Рервик.
— Андрис Рервик?
— Да, он полетит с нами.
— Что с ним?
— Я же сказал, в тяжелом состоянии женщина.
Рядом опустился птерик. Авсей Год и Андрис вынесли Марью.
Она лежала на спине, неподвижно. Баккит подошел, наклонился над носилками. В белых заведенных глазах Марьи жил ужас.
— Ладно, идите за мной, — сказал капитан и направился к свободному левому трапу.
Так мягко Баккит еще не стартовал. Марья лежала лицом к иллюминатору. От удаляющегося Леха она отвернулась, закрыла глаза. Велько отправился в салон экипажа. Рервик откинулся в кресле, вытянул ноги и задремал.
Усевшись на упругом диване, Велько с удовольствием осмотрелся. Баккит листал истрепанный журнал «Юный кулинар», Кристиан тихо улыбался своим мыслям. В'Анья завел глаза к обзорному экрану и мусолил карандаш — считал утруску товара. Поднял глаза к экрану и Вуйчич. Зеленый Лех уходил. «Сплошь болота!» — подумал Велько. Покосившись на Баккита, он прошелся пальцами по клавиатуре. Лех сгинул. Пошли фрагменты обзора по секторам. Баккит повел бровью и, не отрываясь от журнала, бросил:
— Дисплей — не игрушка. И не кинокамера. Ничего интересного там быть не может — пустая зона. — Он поправил индивидуальную лампочку, перевернул страницу.
— Это что за насекомое?
— А? — очнулся Кристиан.
— Что за таракан висит в пространстве? — спросил Велько.
В свете недалекого солнца стальным блеском отливает полосатое брюшко. Членистыми изломами торчат антенны, усики лазерных пушек.
— Том, а ты говорил, что спейс-корветы давно разоружены. Этот-то видишь, как пляшет.
Спейс-корвет перебирает лапками. Открывает и поворачивает черный ротик.
— А-а! — брызжа слюной, кричит Баккит, обрушивая пудовые кулаки на панель.
«Сикорский» зайцем метнулся в сторону. Кристиан и Вуйчич на полу. В мозгу Велько мелькает мысль о Марье. Хоровод красных огней опасности, на экране — кусок пространства, где только что был грузовик. Там рвутся ракеты. Второй залп почти накрывает «Сикорского». Еще прыжок. Корвет маневрирует, занимая удобную позицию для окончательного удара. Кристиан уже в своем кресле.
Они с Баккитом играют в четыре руки.
— Что может эта лохань против спейс-корвета? — бормочет Кристиан.
— Четвертую! — кричит Баккит.
Кристиан кивает, набирая программу четвертой трассы. Компьютер дает отказ. Корвет, обгоняя «Игоря Сикорского», идет по красивой параболе.
— Эллипс, — говорит Баккит, — надо пройти по эллипсу.
— При чем здесь эллипс? — кричит Кристиан. — Ты спятил?
Том Баккит выдергивает плату ограничителя.
— Том, ты… — Кристиану изменяет голос.
— Отключаю компьютер.
— Зачем?
— Мы пройдем по четвертой трассе. Нужен эллипс.
— Не понимаю.
— Он пойдет за нами. Но у нас масса в пять раз больше.
Судорога проходит по длинному телу грузовика. Балка из хозяйства В'Аньи сорвалась с держателей и, пробив перегородки, пожаловала в кабину пилота. Вуйчич тупо смотрит на бугристый грубо окрашенный торец. Невидимый командир корвета закладывает элегантный вираж…
Сухой, с запавшими щеками, командир корвета впился в клавиши, стараясь не думать о присутствии Болта. Цесариум рядом — это мешало. Командира восхищало искусство навигатора грузовика.
На секунду он пожалел, что должен уничтожить, и сейчас уничтожит, этот неуклюжий корабль, ведомый с таким мастерством.
— Уйдем, Салима, — раздался спокойный, внушительный голос, — не будем мешать Хаджу выполнять свой долг. Мы приглашаем вас к нам в салон, капитан Хадж, когда бой кончится. Выпить бокал за победу, за благополучное путешествие. За Гадес — там нас ждут друзья.
Болт выплыл из рубки, за ним Салима, опираясь на руку Варгеса.
Наргес задержался у кресла пилота.
Траектория грузовика на экране походила на отрезок эллипса.
Два крестика подползали к яркой зеленой точке, обозначавшей местоположение цели.
— Все, конец старику Баккиту и всей компании, — хихикнул Наргес.
— Баккит? — Капитан Хадж вздрогнул. — Это корабль Баккита?
— Да, ты знаешь его?
— Я с ним учился. Мы вместе летали на таких корветах, когда они только появились. Ах, Баккит, Баккит…
— Ну же, бей!
— Сейчас, сейчас. Не суйся не в свое дело, розовая обезьяна! Убирайся отсюда!
— Жалеешь приятеля? Смотри, капитан, Цесариум не любит…
— Убирайся!
Корвет обходил «Сикорского» справа. Мощное уродливое тело грузовика занимало весь экран. Пальцы Хаджа напряглись.
Кристиан бессильно откинулся в кресле. Все. Не уйти. Баккит рычал. Две кривые на экране слились. Вуйчич смотрел в иллюминатор.
Серая с колючим блеском рыба корвета чуть повернулась и начала удаляться. Вправо, все дальше вправо.
— Уходит! — закричал Кристиан.
Баккит мотал головой. Бег корвета ускорялся. Траектория на экране искривилась, линии разделились, просвет между эллипсом и параболой ширился.
— Попался! — загремел Баккит.
— Что с ним, Том? — спросил Кристиан.
— С ним — все, — ответил капитан. — Конец.
— Да объясни ты!
— Ты редко заглядываешь в лоции, малыш. У этого карлика в партнерах черная дыра. Он тоже про нее забыл. И попался.
— А мы?
— Проскочили. Пойди, посмотри, что с пассажирами. В'Анья, проверь груз.
…Хадж остановился на пороге салона. Болт, не вставая с кресла, сделал ему ободряющий знак. Салима протянула бокал с густой желтой жидкостью.
— Я сочувствую вам, капитан. Пассажирский, вернее грузовой, корабль — не лучшая цель для боевого космолетчика. — Болт говорил печально и проникновенно. — Но вы выполняли свой долг. Ответственность перед историей я беру на себя. А теперь выпьем за успешный полет — и возвращайтесь к пульту. А то я уже ощущаю некоторое неудобство. Корабль, видимо, ускоряется, перегрузка становится неприятной.
Хадж медленно выпил вино.
— Он не стал, он не стал стрелять, — высоким резким голосом заговорил Наргес, вошедший следом. — Баккит улизнул, они улизнули…
Болт тяжело посмотрел на Хаджа. Капитан похолодел. И вдруг усмехнулся: он испугался теперь, когда всякий страх бессмыслен.
Болт сделал попытку встать — неудачно.
— Поговорим потом, — сказал он. — Возвращайтесь к себе и погасите перегрузки.
Хадж смотрел на Цесариума с любопытством. Капитан знал нечто, не известное никому — Наргесу, Любимой Дочери, самому Цесариуму. Сказать им? Почему бы нет? Будет время — сколько его осталось, минут пять-шесть, потом ускорение станет непереносимым — будет время посмотреть на их страх, на Era страх. Хадж принял почтительную позу.
— Цесариум, я не в силах погасить перегрузки. Корабль тянет к черной дыре.
— Что ты мелешь!
— Баккит надул меня. Выхода нет. Это не протянется долго, но две-три минуты тяжесть и боль будут чрезмерны. Я советую вам помочь Дочери. Прощайте, Цесариум. Прощайте все. Я не нарушил… Остался…
— Нет! — закричал Наргес. — Ты лжешь, негодяй.
Хадж вынул из кобуры плазмер.
— Нет! — Наргес сорвался на визг.
Капитан с трудом подошел к Болту, опустился на колени и протянул ему оружие.
— Если станет чересчур тяжело…
И впился глазами в лицо Цесариума.
Розовый горбун, всхлипывая, полз к креслу Болта. Но дыра уже вмешалась — его потащило к стене, где стоял на коленях Варгес.
В руке у гвардейца тускло светился ствол.
— Меня, — простонал Наргес. И лег. Варгес кивнул, ткнул плазмер наугад и выстрелил. Наргес застыл. Гвардеец повернул голову к Салиме, сунул ствол в рот и нажал на спуск.
Дочь Цесариума этого не видела. Она смотрела на отца. У нее хватило сил подползти поближе, дотянуться до его колен. Он вытянул правую руку, положил ее на голову Салимы. Губы Цесариума искривились. Что это — улыбка? Гримаса боли? Или просто черная дыра уже лепила лица своих жертв по своему вкусу?
До свидания.
Твой Андрей
ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ
3-е июня, Москва
Тут был случай необычный. Необычный был и приговор.
Постановили: извлечь его из мраморного склепа, неспешно все ему рассказать, все показать. Унижение и тихо-загадочную смерть его вдовы; растоптанное, убитое крестьянство; звездный час иуды-прокурора — того самого, что охотился за ним летом семнадцатого; показать в подробностях, с костями в колесе, тридцать седьмой; войну, вымерший от боли и голода Питер — блестящую некогда столицу империи; взорванные храмы, разоренные музеи и библиотеки, кастрированное искусство; безумных от страха интеллектуалов — безродных космополитов, ошельмованных врачей; отравителей, отравителей, отравленных, отравленных — и так дальше, дальше, дальше — до геройских звезд социалистического бая Адылова и магазинных прилавков конца восьмидесятых…
Этот человек не стоял в общей группе. Был какое-то время с нею, но и тогда как бы поодаль. Точнее сказать, был в ней одинок. А потом он пошел по кремнистой дороге, отблескивающей лунным оловом, и шел долго, бесконечно долго. Иногда он останавливался, что-то будто бормотал. И когда камера подлетала близко, слышался страстный и гневный, грозный и горький его голос. И еще было видно, что костюм-тройка сидел на нем превосходно, хотя внимательный взор обнаружил бы, что костюм этот изрядно поношен.
— Вы хотите судить меня? — говорил человек. — Пожалуйста. Я никогда не был против. Сейчас тем более. Я казню себя куда страшнее. Я оказался плохим садовником. Я нес щепоть замечательных семян, и мне казалось, что передо мною бескрайнее и доброе поле. Но поле это было беременно сорняками, сорняками страшными. Насилия, низкой зависти, холопского пресмыкания перед хозяином. А я сыпал щепотку нежного зерна и надеялся взрастить невиданный сад доброты и гармонии. И думал, что ради этой высокой цели собственную доброту я могу и даже должен на время урезать. И потому вместе с зернами я сыпал (глаза его гневно сузились) пиретрум, этот яд, дабы вытравить сорняки, извести насекомых. Кого-то этот яд уничтожил, да вслед такие рыла полезли… Чувствительной к яду оказалась именно старая культура. А ее место заняло нечто чудовищное! Сего не предвидел. В этом виноват. Отпустите мое тело. Отдайте его земле. Я не хочу лежать на площади в холодном мраморном доме.
Видимо, я ошибся. Хорошо помню, как Федор Дан говорил страстно, будто творил молитву: «Господи Боже мой, быть может, ты освободишь нас от этого человека, спасешь российскую социал-демократию! Этот человек идет один против всех. И мы бессильны перед ним. Воля его страшна и несгибаема. Прибери его, Господи, иначе вижу впереди ужасные несчастия России!» Глупец — у Бога просить моей смерти. Слабый человек. Хотя кое-что соображавший.
Да, я отказался от союза с образованными людьми. Мне казалось, они идут не туда. Я называл их презрительно: господа буржуазные профессора. Я сделал ставку на людей необразованных, но решительных и преданных идее. Эти люди при надлежащих управлении и дисциплине могли свернуть горы. И свернули. Для этого нужны были жертвы. Я не хотел убивать миллионы для будущего счастья. Но возникла нужда расстрелять тысячу. Ну две. Ну три.
Оставьте меня. Я устал. Очень устал.
Я давно хочу покоя. Отдайте мне мое тело. Отдайте его вечности.
Столько лет я лежу и смотрю. Лежу и смотрю. Я вижу все. Мне тяжко, больно, страшно. Я устал. Отпустите в вечность. В правовом государстве есть права и у мертвых.
Дорогой Андрей!
В сущности, предложенной тобою главой ты задумал перевести партию в эндшпиль. Не рано ли? Угробив всю компанию, ты, конечно, решил чисто практическую задачу, но похоронил множество более тонких и любопытных литературных решений. Ухнул в дыру тиран с любимой и любящей дочерью, телохранителями, приближенными, обслугой. Ну и что? Наказан порок? Где же вынесенное в заглавие похищение, суд народа, справедливое возмездие — людское, не Божье или осуществленное физическим феноменом?
Я не вижу эндшпиля. Может быть, вижу пат — там, за горами.
А сейчас — один из поворотов середины игры.
Дело сейчас, впрочем, не в Болте. Дело-то в нас. В тебе, во мне, в миллиардах наших современников и сопланетников. В наших душах, в нашей крови. Сгинул Болт, но отравлена наша кровь. Яд вождизма, фанатизма, кровавого утопизма — малой пусть, но жуткой толикой растворен в нашей крови. И низменная его противоположность — отрава холопства, пресмыкания, жалкого неверия в себя, отрава постыдного стяжательства и тупой, дубовой бездуховности. Какова сила и жизнестойкость этих ядов?
Вопрос велик, неподъемен, рассыпается на крупицы. Одна из них — самая, быть может, заметная ныне: откуда болезненный интерес и внимание к палачу? Как будто мы силимся разглядеть огромный сгусток этого яда, явленный в одном человеке. Не в силах мы оторвать от него завороженного взора. И вот опять — о нем.
Пусть Болт, поняв, что его берлога раскрыта, пытается переселиться на тот же Гадес, захватив с собой дочь и приспешников.
В операцию, конечно, вовлечен преданный инспектор службы порядка с четырехугольным лицом (некогда мы могли его видеть в скупой телехронике — всегда позади августейшей особы, хорошо одетый детина с равнодушным и одновременно нервно-зорким взглядом).
Авсей Год, и сам не спускающий с него глаз, догадывается о чем-то.
Он предлагает Андрису и Велько захватить Болта, привезти в столицу и предать суду. Они запугивают детину, выведывают подробности, пытаются схватить Цесариума при посадке в корабль и… сами попадают в плен. Никто не знает об их судьбе — операция похищения готовилась в тайне, даже Марья ни о чем не догадывалась.
Спейс-корвет летит к Гадесу, где у Болта есть единомышленники.
Он лелеет планы вновь стать вождем и когда-нибудь отомстить лехиянам. Но! Корвет терпит крушение. Его разбивает о рифы, то бишь об астероиды. Большая часть экипажа гибнет. Оставшиеся в живых — Болт, Салима, Наргес, Год, Вуйчич и Рервик, уцепившись за обломки (втиснувшись в спасательный катер), оказываются на необитаемом острове. Так и живут вшестером, образуя вполне самодостаточное общество: мужчины и женщина, добрые и злые, честные и мерзавцы. Жизнь скудна. Чтобы уцелеть, нужна взаимопомощь, разделение обязанностей. Надежд на возвращение к людям — никаких. Как они будут жить? Просто досуществуют, если не перебьют друг друга? Вознамерятся продолжить род? Полиандрия, кажется, называется такой союз. Останутся ли людьми?..
Или так: они спасаются. Наткнулся на них какой-то шальной звездолет. Болта оставляют, как Айртона, на необитаемой планетке, пообещав забрать через сколько-то лет. Дабы одиночеством искупил. Салима терзается — остаться с отцом или уехать к людям.
Остается. Нет, в последний момент со стоном — прости, отец! — на корабль. Болт — коротко рукой — езжай, мол, будь счастлива.
Или вот: привозят-таки Болта на Лех, в столицу. А там — толпы восторженных приверженцев. Марширует молодежь: возродим былую славу Леха! Прогресс и порядок! Железной рукой! Долой сатанизм праздников воды и огня! Умников — в болото! Очистить родную планету от пятой категории! Болт! Б-о-о-лт!! Б-о-о-о-о-лт!!!
И тихие старцы-опекуны кивают головами. О, Болт — человек железных принципов, которыми мы поступиться не можем. И так сладко грезится им, что множатся колонны марширующих, и в такт их шагу воздевают они похудевшие кулачки и открывают вялые рты: Болт! Б-о-о-лт! «Горе народу, если рабство не смогло его унизить».
Но теперь уж поздно. Главные негодяи, предводители негодяев, — в черной дыре. А потому, по правилам литературных игр, займемся судьбами других персонажей. В порядке их появления.
(За одним, впрочем, исключением: основные герои — Андрис, Велько, Марья и Год, заслуживающие отдельной главы, перенесены будут в конец.) Поехали. (Стоп. Еще одно замечание для педантичного читателя: позволим себе не писать о судьбах лиц исторических, скажем, Наполеона, или мифологических и мифологизированных, таких как Ясон или Каиафа, — отсылаем заинтересованного читателя к энциклопедиям, справочникам и научным трудам.) Жена Велько Мунира Вуйчич терпеливо дожидалась возвращения мужа, после чего оставила его с двумя младшими дочерьми (Силицией и Домнидой, пяти и семи лет соответственно, обе чернокудрые и пухлые, совершенно в отца) и укатила на Бету Тукана коллекционировать тамошних насекомых. Там она познакомится с Главным энтомологом Туканского кольца Ассенционом, влюбится без памяти, после чего их след затеряется. Старшие сыновья-близнецы, Мелентий и Терентий, обладая несомненным даром комиков-эксцентриков, кончают цирковое училище и являются к Велько с просьбой замолвить за них слово перед Андрисом, у которого мечтают сниматься. Велько выгоняет обнаглевших юнцов, и они уезжают в провинцию с концертами. Живя в среде простых и честных тружеников Приденебья и Заальдебаранщины, они постигают истинную цену заработанного нелегким трудом куска хлеба. Вдохновленные искусством братьев, труженики втрое удваивают съем продукции с единицы при снижении потерь и повышении ответственности.
И молодые Вуйчичи начинают прозревать. Чем было для них искусство? Цель творчества — квартира, дача, а не шумиха, не кадриль, позорно ничего не значить и не иметь автомобиль. Мираж рассеялся.
Съемки у модного режиссера, праздничная сутолока на престижных фестивалях, автографы — все сие тлен. А вот глянет из-за низкого платка краснощекая мастерица больших урожаев, и споткнется юнец о забытый на меже подойник, и заколотится сердце…
Отец Марьи, почтальон Лааксо, как и обещал, поехал к палеоботанику Вересницкому, но того не застал и, будучи этим весьма огорчен, от отчаяния самостоятельно реконструировал фиговую пальму. Вернувшийся Вересницкий увидел Лааксо, хозяйничавшего на вверенном ему, Вересницкому, поле.
— Что ты тут делаешь? — возмутился великий ученый. — Что рвешь ты с этих ужасных деревьев, скажи на милость?
— Фиг тебе, — ответил бывший почтальон.
Евгений Дамианидис, как стало доподлинно известно, заведует домом культуры, что само по себе не представляет интереса для широкого читателя. Однако пользуюсь случаем, чтобы передать тебе недавно услышанный от него анекдот. Жена посылает мужа к соседке Марье Ивановне за швейной машиной. «Ну что ж, — думает муж, — зайду ж ней, возьму швейную машину, чего ж не взять. Марья Ивановна — баба ничего, не накричит, с лестницы не спустит. Можно и попросить у нее машину швейную. Правда, когда мы с Петром, ее мужем, пришли посуду с балкона брать, ой кричала, как с цепи сорвалась. «Пьянь!» — кричала. «Я тебе этими бутылками», — кричала. «Дружков-алкашей водишь!» Потом, правда, дала посуду. Так что обошлось. А в другой раз мужик позвонил к ней — стакан попросил. Так она его толкушкой по голове. Стакан, однако, дала. И огурец вынесла. А вчера мимо ларька проходила — нехорошо посмотрела и вроде даже плюнула». Подходит с такими мыслями муж к двери, на звонок открывает Марья Ивановна: «Чего тебе?» А муж и отвечает: «Да ну вас, с вашей швейной машиной!»
Торговец браслетами из Мекки, с которым любил беседовать юный Мухаммед, узнав, что двое его сыновей примкнули к пророку и стали мусульманами, явился в Медину просить Мухаммеда вернуть детей, опору старости. К пророку его, однако, не допустили. Два чернобородых воина, обнаружив у торговца кинжал, который тот и не думал скрывать, решили, что христианин злоумышляет против Мухаммеда, и забили его палками.
Миха Льян, блестяще сыграв Генриха VIII, продолжал триумфальное шествие по экранам и подмосткам Земли и других планет, но с Рервиком работать категорически отказался. Окончательный разрыв между великим актером и гениальным режиссером произошел после съемок фильма «Драма с собачкой», где случился такой эпизод. Миха, входя в выгородку, установленную ассистентом, споткнулся о табуретку, раздраженно отпихнул ее ногой и подошел к героине — целовать ручку.
— Верните табуретку, — скомандовал Андрис. — Она здесь играет. На ней будет сидеть собака.
— Я здесь играю, — сказал Льян, выходя из грациозного полупоклона.
Был большой шум, Льян отказался сниматься и с горя женился на актрисе, чью ручку целовал в этой драматической сцене. Она, в свою очередь, оказалась той самой пигалицей, которую Велько некогда предлагал на роль Анны Болейн и над чьей фонограммой столь виртуозно поработал Авсей Год.
Сван, передавший письмо Купки Иоскеге, вовсе не погиб, как можно было предположить, зная повадки Болта. Не погиб по той причине, что был усердным, сотрудником куратории обеспечения свободы. Признаюсь, что он и страж в трико и войлочных тапочках, который вел Андриса по переходам пещеры Болта, — одно лицо.
И будто бы не погиб он вместе с Цесариумом в дыре, поскольку был оставлен на Лехе в распоряжении инспектора с четырехугольным лицом.
Судьбы всех ценителей канто хонде трагичны — видно, время было такое. Торговец быками застукал свою дочь с фалангистом, избил парня и выгнал девушку из дому. Той же ночью дружки фалангиста перестреляли в коррале всех быков, а когда торговец прибежал спасать животных, связали его и повесили вниз головой. Его нашли уже мертвым. Дочь сошла с ума и потерялась на дорогах Испании.
Отказавшая Ротшильду проститутка и весельчак из Кадиса покинули кабачок вместе. Два-три года эта пара бродила из селенья в селенье, пробавляясь случайными заработками. Потом женщина умерла от родовой горячки, ребенок появился на свет уродом и, когда отец его окончательно спился, был подброшен добрыми людьми в приют.
Певица вышла замуж за бойца-республиканца и погибла вместе с ним в Пиренеях при отступлении 1939 года.
Признаюсь, мне не удалось проследить судьбу лехиянской девочки, облившей Рервика водой у дверей таверны «Сигнал Им». А в жизни Иокла произошли изменения. По слухам, на Лехе восстановлены охотничьи угодья на болотах. Туристы прут туда, как лосось на нерест. Рублары текут, рекой в казну обновленного Леха. И старый смотритель вновь поселился в домике на болотном островке. Ему положили приличное жалованье. Так что старик при деле и могила дочери ухожена.
Егеря, косовцы, верные — кто не умер, тихо живут, перемешавшись с участниками бега на коленях и прыжков через кольца, забывают о прошлом и по мере сил помогают возрождать планету. О двух скажу отдельно. Пухлый мальчик, пришедший вторым в соревнованиях по бегу на коленях на празднике огня, сильно расстроился и в порядке мести обогнавшему его худому мужчине спрятал в раздевалке его брюки. Это, конечно, отравило радость победы, тем более что мужчина оказался строгих правил и счел неприличным идти через весь город в спортивных трусах. Дома же никого не было, так как жена и сын гуляли по праздничным улицам, но, к сожалению, бег не смотрели и не могли знать ни о триумфе, ни о беде, постигшей главу семьи. Так, озлобленный, и просидел победитель в раздевалке до рассвета, а потом уж, позвонив домой, попросил принести ему брюки. Насилу успокоили его домочадцы.
Окружной попечитель, выдавший отцу Иокла сапоги, и старик Ухлакан, смотритель соседнего участка, породнились — дети их поженились сразу же после появления фотографии старика в газетах. Вскоре они переехали в столицу, где мирно жили, пока не померли.
Отец Андриса по-прежнему живет на своей ферме. Он часто видится с соседом Филиппом и дочерью последнего Анной. Анна приучила его к поэзии до такой степени, что тот и сам стал пописывать стишки. Вот одно из его последних произведений (Анне понравилось):
Они часто гуляют вместе, и Бог знает, что из этого получится.
Филипп между тем от теоретической генной архитектуры перешел к коневодству и пытается вывести кентавра.
Марго, жена Кристиана, очень взволновалась, узнав о нападении на «Сикорского», и немедленно потребовала, чтобы муж ушел из космофлота, что тот с удовольствием и сделал. Сейчас Кристиан ничем не занят, болтается, изображая художника, продающего картины возле краковского Барбакана. Что с ним будет дальше — понятия не имею. Подруга Марго благополучно потеряла вкус к поэзии.
Изменился и ее муж. Он любит ее по-прежнему, но стихи из своего обихода исключил совершенно. «А ты прекрасна без извилин» — вот единственная поэтическая строчка, которую он запомнил и часто повторяет своей жене.
Эвлега так и не сможет преодолеть в себе вялость. Она тихо угаснет — не от болезни, нет. От отсутствия желания жить. Осгар, напротив, полон энергии. Книги его пользуются большим успехом.
Главная их тема — ужасы тирании Болта и противостояние сильных мужчин мерзостям ушедшей в прошлое эпохи. «Лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый день…» И так далее. Такой вот мужественный человек, Осгар Одульф.
Офицер, допрашивавший Эву, и женщина, кормившая Хари соленым паштетом, работают в управлении охраны порядка под началом четырехугольного инспектора. Начальство ими довольно.
Портье гостиницы «Земля» ушел на покой — сам попросился, чувствуя, что не справляется с оживлением гостиничной жизни, вызванным туристским бумом. Его место занял рассыльный в красной кепке, некогда сопровождавший Андриса. Молодая кровь вливается в сферу обслуживания.
Увы, ничего не известно о гостиничной кошке.
Инспектор управления службы порядка, оставшись на старом посту, получил тем не менее повышение по другому ведомству. Будучи раньше рядовым подпольной армии Цесариума, с отлетом последнего он стал руководителем всей оставшейся внутренней эмиграции. Подчиненных держал в узде, пас жезлом железным. В ожидании указаний исправно проводил встречи и тренировки боевиков, вербовал новых энтузиастов сильного Леха. Но от Болта не поступало никаких сигналов, эмиссары не приезжали, и инспектор стал проявлять все больше самостоятельности. Опираясь на крепкое и верное ядро (следователь Эвы, Сван, кое-кто из бывших косовцев), инспектор расширял сеть своих людей во всех сферах… Дальнейшая его деятельность, я думаю, сможет стать темой отдельного повествования. Догадываюсь, впрочем, что конец его связан с крупной ссорой с Маленьким Джоем, исполнявшим обязанности его телохранителя и не стерпевшим унижения: Джоя, которого жаловала сама Любимая Дочь, инспектор посмел назвать болваном за то, что. он не углядел, упустил Друза — помнишь юношу у выхода из пещеры? Джой пришил инспектора и поступил в распоряжение доктора Геле — очередного вождя движения.
Заслуженный вилосуй Кимон Стах вскоре спился и часто обходил таверны, пользуясь бесплатным угощением. О смещении Болта он узнал только по одному — важному, впрочем, для него — признаку: его стали гнать от питейных заведений. Как-то в темноте, глухой ночью, пытаясь найти путь домой, он свалился в яму, вырытую под фундамент строящегося тогда здания гостиницы «Земля», и сломал шею.
Квала Палех оставила игольный завод и стала писать стихи.
Их охотно печатают раскрепощенные журналы.
Цилеский и Кеворгян, космические завоеватели, упомянутые в ряду с Александром Филипповичем Македонским и Петром Алексеевичем Романовым, еще при жизни стали легендарными. Подробности их частной жизни, как это бывает с великими, столь одиозны, что приводить их здесь просто неловко. Скажу только, что при всей противоречивости скудного исторического материала, имеющегося в нашем распоряжении, мы вынуждены отклонить бытующую в ученых кругах версию, будто эти двое суть ипостаси одного исторического лица. Доводы сторонников этой версии сводятся, по размышлении, к двум: сходство военно-стратегических принципов, исповедуемых обоими, и близость литературных стилей, обнаруженная на основе изучения письменных памятников. Оба довода, однако, представляются неубедительными. Начнем с первого.
Модифицированный клин, асимметричная свинья, известная по школьным учебникам, но более по кадрам Эйзенштейна, в своем первозданном, равнобоком облике действительно была применена как при атаке на ниртианский оборонительный вал, так и при прорыве блокады в секторе Малой Итайки. Оба сражения разделены небольшим промежутком времени — менее года. Главная мысль историков, не желающих признать существование двух самобытных флотоводцев, заключается в том, что Кеворгян, будь он лицом отличным от Цилеского, не мог знать подробностей захвата Нирты, так как действовал в другом районе Галактики и связь с ним была потеряна лет за пять до описываемых событий. Это обстоятельство, наряду с трагическим исчезновением сведений о прошлом нескольких миллионов людей (в том числе Цилеского и Кеворгяна) во время третьего — самого крупного — антикомпьютерного бунта, вызванного страстями вокруг компьютерного вируса и повлекшего взрыв информатория космофлота, привело историка к мысли, что некий Цилеский-Кеворгян, разгромив ниртианцев, сломя голову бросился к Малой Итайке, тем же свиным рылом построил свою армаду, прорвал линию тяжелых платформ дальней защиты и принудил изоляционистов к капитуляции. Последним же гвоздем своей теории автор избрал цифру. Этот аргумент он извлекает торжественно, как фокусник — зайца из шляпы, подготовив к нему читателя длинными эмоциональными периодами, типа: «Нужно ли нам, серьезным исследователям, множить необязательные сущности — практика, осужденная еще на заре цивилизации средневековыми схоластами, — и там, где один доблестный землянин совершает серию героических деяний, выказывая себя гениальным стратегом, храбрым воином, а к тому же человеком безусловного дарования в философии, поэзии и живописи, растаскивать наследие мыслителя — воина — художника на части, приписывая его свершения двум, а то и — кто знает, как повернется в будущем историческая мысль — большему числу людей». Так вот, достает он этого зайца и называет его числом «сорок». Ровно сорок кораблей потерял Цилеский под Ниртой. Ровно на сорок кораблей меньше содержал малоитакийский клин по сравнению с ниртианским. Все ясно?
Гвоздь вбит. Конец спорам.
Но остались торчать уши. За них мы и потянем, чтобы поколебать уверенность читателя в правоте историка.
Мог ли разумный военачальник увести с только что покоренной территории все свои силы, все двести тридцать четыре уцелевших корабля из двухсот семидесяти четырех, вступивших в бой при Нирте? Совершенно очевидно, что им был оставлен оккупационный гарнизон, чтобы удерживать контроль над завоеванным участком пространства до его колонизации или освоения другим способом.
Вот и вытянули одну несуразность за торчащее ухо. Не могла разница в количестве кораблей под Итайкой и Ниртой составлять 40 единиц, если это был один и тот же флот. Она неминуемо была бы больше, Вынув же гвоздь, мы обрекаем все здание на разрушение. Ничего не доказано. Мог Цилеский прилететь к Малой Итайке? Мог. Но мог и не прилететь. Нет биографических подробностей — снимков, других данных, подтверждающих, что Цилеский и Кеворгян — разные люди? Нет. Но нет и данных, подтверждающих, что они суть одно лицо. Нельзя же всерьез считать, что два генерала, использовавшие сходный боевой порядок в сходных, кстати, боевых обстоятельствах, непременно сливаются в одно физическое существо. Так мы и Суворова с Наполеоном превратим в заурядного вояку, который по Чертову мосту прошел в Египет.
Второй аргумент, или гвоздь, на который сторонники концепции Кеворлеского вешают свою теорию, заключается в компьютерном лингвостатистическом анализе четырех уцелевших текстов: «Устава космослужбы» и «Письма к другу» Цилеского и двух отрывков из одной поэмы Кеворгяна. Установив тождественность некоторых статистических характеристик этих текстов, бойкие лингвисты делают вывод о принадлежности их одному автору.
Между тем совершенно очевидно, что ученые языковеды попались на розыгрыш. Иначе откуда бы взялась идентичность статистических характеристик воинского устава, частного письма и философской поэмы? Эти два шутника, вместе прошедшие жизненный путь от детского сада для одаренных до коллегии космоэкспертов, конечно же, умышленно написали устав в духе античной рассудочной поэзии, используя свою модификацию гекзаметра, что бросается в глаза любому непредвзятому исследователю: «В случае контратаки, буде в количестве том же вражеский флот пребывает, следует сомкнутым строем все отражать нападенья…»
Переписка их также носила исключительно шутливый характер, являясь, по сути, автопародией. Судите сами, до какой степени она приближена к языку уставов и прочих регламентов: «В случае моего отсутствия в означенном месте в означенное же время надлежит тебе принять самостоятельные меры по: 1) установлению причин сложившегося положения, 2) сообщению таковых всем заинтересованным инстанциям в соответствии с установленными требованиями, 3) ликвидации последствий, а в случае отсутствия таковых предотвращению причин, могущих эти последствия повлечь…»
Наконец, так называемая поэма при ближайшем рассмотрении оказывается переводом древнего текста инструкции к пользованию переносной газовой плитой. В этом легко убедиться по первым двум строфам: «Когда пред собою поставишь баллон, то убедись заранее: он левой, не правой, резьбою снабжен, на что обращаем внимание.
Заглушку с баллона сначала сними, сними ее на фиг совсем, редуктор с прокладкой к нему приверни ключом на двадцать семь…» И так далее — восемьсот строк.
Имея в своем распоряжении подобные тексты, наш мудрец и пришел к заключению о тождественности их авторов. И в известном смысле был прав: это, безусловно, коллективное творчество двух старых друзей.
Однако мы задержались, а нас ждут другие персонажи. В их числе два гвардейца и церемониймейстер, которые сопровождали Андриса, когда тот явился в пещеру Цесариума выручать Марью.
Актерами они, в сущности, не были. Так, болтались без дела и решили подработать статистами. Случилось, однако, что опытный глаз Вуйчича обнаружил в них природное пластическое дарование, развил его, и ребята эти позже, на Земле, организовали бродячую труппу, работавшую в популярном жанре историко-политического балета. Любимым спектаклем публики была цепочка пантомимических сцен, изображавших заседания всякого рода правительственных и законодательных органов в разные времена и на разных планетах. Особенным успехом пользовались сюжеты «Депутат кнессета, забывший дома очки, хочет узнать, который час, чтобы не опоздать к ужину по случаю дня рождения супруги» и «Ловля кота, проникшего на заседание Палаты лордов английского парламента». Лишь немногим уступали этим перлам живые картины «Единодушное одобрение повестки дня юбилейной сессии Верховного Совета», «Мэр столицы Малой Итайки открывает городской фонтан» и «Научно-практическая конференция общества «Память», посвященная 300-летию со дня рождения Владимира Митрофановича Пуришкевича».
Баккит вскоре после описанных событий ушел на покой. Он не пожелал возвращаться на высокоиндустриализованную Андромеду и поселился на Земле в уютном местечке Хотьково, где свел знакомство с соседом — Евгением Дамианидисом-Цодоковым[9]. Вместе они немало и плодотворно экспериментировали и в результате самоотверженной многолетней работы выпустили непревзойденный сборник кулинарных рецептов в двух томах. В первом томе, озаглавленном «Цодоков для едоков», как раз впервые и был опубликован ставший позднее всемирно известным рецепт торта «Айрини», сочетающего изысканность букета, нежную консистенцию и нулевую калорийность. Второй же том — «Кит в баке» — является уникальной коллекцией сведений и рекомендаций по речной, морской и океанической кухне. Воистину, жемчужиной этой коллекции является моржовый… (Только что пришло мне в голову, что даже жемчужина, которой я уподобляю это блюдо, есть также дар моря!) Так вот, моржовый хвост под хреном — это я вам доложу!
Два друга легко утешили огорченного В'Анью, который нашел их, когда его уволили по сокращению штатов (на должность экспедитора взяли робота, имевшего неосторожность обыграть начальника Управления шахмат и с позором изгнанного из Спорткомитета).
В'Анья испробовал профессии парикмахера, генного конструктора и егеря-натасчика и, наконец, успокоился в мирной кулинарной заводи, под сенью соусников, сотейников, дуршлагов и шумовок, по мере сил помогая Тому и Евгению в их напряженных трудах.
Теперь приспело время коснуться дальнейшей судьбы наших главных героев. С этой целью открывается очередная — и, видимо, последняя -
глава десятая
Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было…
Екклесиаст
Марья настояла на том, чтобы, следуя старинному обычаю, взять фамилию Андриса, и старый Лааксо надулся. Впрочем, обещал прийти. К тому же склочный характер Вересницкого изрядно ему надоел, и он снова вернулся в свой дом, по соседству с избой Рервика.
Ждали еще Года. Он обещал заехать попрощаться перед отлетом на Лех. Остаться на студии Рервика Авсей не захотел, как его ни уговаривали.
Итак, в доме над Ветлугой намечалась небольшая пирушка по поводу: а) бракосочетания Андриса Рервика и Марьи Рервик, в девичестве Лааксо; б) завершения супермультисериала «Судный день», снятого Рервиком, Вуйчичем и Годом на Земле, Лехе и в иных местах по сценарию неизвестного автора, содержащемуся в некогда присланной Андрису книге в старой коже с медными уголками и дополненному эпизодами из трагической истории Леха; в) возвращения Авсея Года на родину, которую, как он говорил, он любил больше всего на свете, потому что, как говорил он же, больше он не любил ничего.
Сейчас утро. Туман еще не поднялся. Зябко. На крыльцо, кутаясь в халат, выходит Марья.
Марья. Эй!
Эхо. Эй-эй-эй.
Марья. Есть тут кто-нибудь?
Велько (появляясь из-за угла дома, недовольным голосом). Ну есть, спала бы ты, ей-Богу. Чего над ухом орать.
Марья. Ты что делаешь? Андрис где? Который час? Авсей не приехал? Я бы съела что-нибудь, а ты?
Велько. Пять.
Марья (недоверчиво). Пять?
Велько. А это шестой. Поэтому остановись.
Марья. Остановилась.
Велько. Отвечаю по порядку на (подходит к крыльцу и показывает растопыренными пальцами) пять вопросов. Первое: Я насаживаю косу на черенок.
Марья. Зачем?
Велько. Если ты начнешь новую серию вопросов, никогда не получишь ответы на старые. Итак, второе. Андрис ловит рыбу, чтобы было чем кормить ораву, которая сюда вот-вот заявится.
Марья. Боже мой! Неужели так поздно?
Велько. Против этого вопроса я не возражаю, потому что он, по существу, совпадает с ранее заданным под номером три. Отвечаю: сейчас восемь часов десять минут. В-четвертых, Авсей не приехал, но, как я сказал, вот-вот явится, образовав ровно половину ожидаемой толпы, вторую половину которой образует твой отец. Наконец, в-пятых, да, да и еще раз да!
Марья. Ты о чем?
Велько. Женщина! Не ты ли спросила меня, съел бы я чего-нибудь? Отвечаю категорически — съел бы. Но пока нечего. Займись настоящим делом, если древний инстинкт, повелевший тебе принять родовое имя мужа, не исчерпал этим свою силу. Выполняй свой долг, корми семью!
Марья, пожав плечами, исчезает в доме. Вуйчич продолжает колдовать над косой.
Велько. Тьфу ты, кольцо-то лопнуло. (Озабоченно вертит головой.) Эй, Марья!
Марья (из дома). Чего тебе?
Велько. Кольцо для косы у вас есть?
Марья (по-прежнему из дома). Кольцо? Какое кольцо?
Велько. Для косы, говорю, кольцо есть?
Марья (появляется на крыльце со скалкой в руке). Не понимаю, о чем ты.
Велько. Да что с тобой говорить — баба, она и есть баба.
Марья. Посмотри в клети, там у Андриса много хлама, железок всяких. Я подожду блины печь, пока Андрис придет, чтоб горячие. Или невтерпеж? (Уходит в дом.)
Открывается правая кулиса: дряхлое крыльцо почерневшего дома, фрагмент ветхого забора. Старуха в грязной зеленой кофте с трудом нагибается и поднимает большой камень. В левой руке у нее кол.
Водянистыми глазами она скользит по фигуре Велька и поворачивается к нему спиной.
Велько. Бабушка!
Старуха не оборачивается.
Постойте, мамаша.
Старуха. Тьфу, сынок сыскался.
Велько. Ну простите, не знаю вашего имени.
Старуха. А зачем тебе?
Велько. Да просьба у меня.
Старуха. Ну, Полина.
Велько. Полина… А по отчеству?
Полина. Васильевна.
Велько. Полина Васильевна, что-то я вас не встречал здесь. Недавно, видно, построились. А дом вроде и не новый. Так специально заказывали?
Полина. Куда там! Его еще дед мой ставил, и-и-и когда — колхозов не было еще, во когда.
Велько (озабоченно трясет головой). Да вы веселая женщина, Полина Васильевна. Не найдется ли у вас…
Полина. Ах ты, засранец, куда…
Велько (ошарашенно). Да я только…
Полина. Я те дам в огород, я тебя… Вот сукин сын, вот…
Берет конец веревки, лежащей на земле, и тянет. На сцену выползает, упираясь, большой козел. Веревка привязана к рогам.
Велько (с облегчением). Я говорю, не найдется у вас кольца для косы? Косу мне насадить?
Полина. Кольцо-то… От скотина, чуть что — в огород. Найду, как не найти. Ты подожди, я сейчас — привяжу его и приду.
Полина исчезает за кулисами, слышен стук камня о кол.
Снова появляется.
А сам насадишь? Я вот Юрку прошу, Селиванова. Он насадит, коль не пьян. Ну пошли, кольцо найдем.
Полина и Велько исчезают в доме. Появляется Андрис.
С его плеча свешивается гигантская щука. Хвост касается земли.
Андрис. Марья!
На заднем плане появляется курчавый темноволосый бородач.
Он несет две табуретки, ставит их, уходит.
Марья (выходит на крыльцо). Ого! Но, Андрис, что я с ней буду делать?
Андрис. Вызовем Баккита. Положение действительно серьезное. К тому же ты его не видела… С тех пор как из больницы вышла.
Марья. Сейчас ему позвоню. Зови Велько — я блины пеку.
Бородач снова появляется — на этот раз с пишущей машинкой.
Устанавливает машинку на одной из табуреток. Уходит.
На крыльце дома Полины появляются хозяйка и Велько.
Велько. Спасибо, Полина Васильевна, выручили. Если не получится, я зайду, научите.
Полина. Отбить — покажу, а насаживать к Юрке иди.
Андрис. Велько!
Велько (замечает рыбу). Ух ты!
Андрис (Полине). Здравствуйте.
Полина. Здравствуйте. Отродясь такого не видала. Лавливал мой щук — вот таких (показывает руками). А такое полено…
Андрис. Да, ничего рыбка. Велько, Марья звала блины есть.
Велько. Ага. Полина Васильевна, пойдемте с нами.
Полина. Благодарствуйте, я уже поемши. Да и дел полон рот. Пойду. (Уходит.)
Велько (ей вслед). Хоть на рыбу-то придете? К вечеру, праздник у нас.
Полина (из-за кулис). Вечером, может, зайду.
Андрис. Кто это?
Велько. Не знаю.
Андрис. Когда этот дом-то появился? Чудят. Нет чтоб подальше поставить. И дом уж больно с претензией. Я таких и не встречал.
Велько. Да, интересная старуха. А внутри у нее такой музей! Ухваты, прялка, телевизор, плоские фотографии. Корову держит, козу, птицу…
Снова выходит бородач. В руках у него папка. Он садится за машинку, заправляет в нее лист бумаги и начинает стучать.
Андрис. Что-то здесь людно становится. Пошли, что ли?
Андрис и Велько скрываются в доме.
Бородач (бормочет, печатая). «…Остаются, конечно, кое-какие нерешенные вопросы, например, откуда взялась та книга в коже с медными углами? Имел ли успех снятый Рервиком фильм?
Что станет Андрис делать дальше — вернется в лоно документального кино или продолжит съемки фильмов художественных? Если да, то каких? Снова погрузится в изучение исторических мерзостей или станет снимать историю же, но в светлых ее проявлениях? Скажем, о савельевских Полине и Ереваныче. Вот собрать бы их всех вместе, за одним столом, перезнакомить — глядишь, что-нибудь и вышло бы…»
На сцене материализуется прозрачная кабинка, из нее выходят Баккит и В'Анья. Баккит, плотный, коренастый, с засученными рукавами, становится посередине и жестами начинает давать указания. Худой, чуть суетливый экс-экспедитор бегает по сцене, машет руками. Пространство между домами Андриса и Полины наполняется людьми. На специальном помосте идет разделка щуки. Этим занимаются Beлько и Юрий Иванович Селиванов — он же Ереваныч. Звучит музыка из «Прекрасной Елены» Оффенбаха. Там-сям плотоядные голландские натюрморты. В них, как в поваренную книгу, время от времени заглядывает Том Баккит. Из кабинки появляется Авсей Год. Он включается в общую деятельность. Накрывается длинный стол. Бородач бодро стучит на машинке, изредка поглядывая на происходящее. Полина и Марья расставляют посуду, блюда, кадушки, кувшины, миски, лохани. Всего жутко много. Авсей Год танцует менуэт на фоне раблезианского стола. Тут же бегают дети и собаки, среди последних — рыжий кокер Никси. Очень похожее на кокера существо с длинными, но стоячими ушами, как у осла, и совершенно черное, доверительно обнюхивает Никси. По-видимому, это ушан Нюкта. Бок о бок с Полининой козой пасется пегий ейл. Постепенно все занимают места за столом. В это время на велосипеде подкатывает краснолицый крупный мужчина в белой рубахе и фуражке с синим окелышем. Это Лаакс о.
Лааксо (Андрису). Ну, родственничек. Уже за столом, не дождавшись тестя? А я, старый дурак, привез вам подарок. (Прислоняет к дереву велосипед, вешает на руль кожаную почтальонскую сумку и снимает с багажника небольшой продолговатый пакет.) Теперь, как человек женатый, будешь стремиться почаще удрать из дома, а для этого нужен хороший предлог. Вот тебе (развязывает пакет, собирает длиннющий спиннинг) снасть — будем вместе удить. Я тебя научу.
Андрис. Спасибо, тестюшка. Садись пока моей рыбки отведать. Не на спиннинг, правда, ловил. Да уж чего там, мелочь, конечно. Том, старина, скоро рыбку-то подашь?
Баккит и В'Анья устанавливают на середину стола блюдо с гигантской щукой. Начинается всеобщий пир, галдеж, тосты, смех, танцы. Бородач время от времени прерывает трескотню на машинке, подходит к столу, опрокидывает рюмку, накладывает на тарелку того-сего и снова возвращается на свою табуретку.
Год (Андрису). Давно хотел спросить, кто дал тебе замысел фильма? Ведь жил ты на этой благополучной Земле, откуда тяга к кровавой истории?
Андрис. Честно говоря, до сих пор не знаю. Вот этот родственник, который ничего не слышит, потому что с ушами зарылся в паштет, и года не прошло…
Год. Меня?
Андрис. Что тебя?
Год. Не прошло.
Андрис. Не понял.
Год. Ты сказал — и Года не прошло.
Андрис. А-а-а. Извини. Так вот, сравнительно недавно, не прошло и э-э-э… полного периода обращения Земли вокруг Солнца, Лааксо приехал вот на этом велосипеде… Тесть, ты велосипед не менял?
Лааксо. Нет, почтальонам положен один на два года.
Год. Не понял.
Андрис. Чего ты не понял?
Год. Почему надо класть на меня велосипед. Точнее, на одного меня придется положить полвелосипеда, исходя из факта, что целый кладется на двух меня.
Лааксо. А-а-а. Извини. Один велосипед дается на двухлетний период. Так вот…
Андрис. Так вот, он привез пакет, в котором… (Продолжает вполголоса.)
Лааксо. Слушай, зять, а ты помнишь, какая была жара, когда я привез тебе этот чертов пакет? Именно после этого я решил — баста! Хватит, сказал я себе, хватит крутить педали и развозить почту в любую погоду, в любое время года…
Год. Вы опять! Издевательство какое-то. Я протестую. В любое время меня — что?
Лааксо. Виноват. Пардон. Скузи. Энтшульдиген зи битте. Икскьюз ми. Ана маср лиль таароф бик. Но я совершенно забыл про пакет.
Андрис. Да, там был пакет, а в нем книга. Велько, ты помнишь книгу?
Велько. Книгу? Конечно, я помню книгу. Ничто не заставит меня забыть эту книгу. На ней были медные углы, а внутри всякие страсти. Ты жутко заинтересовался. Виду-то не подал, просто сидел, читал, а всей своей позой подчеркивал, что это как бы пустяк…
Год. Не было этого!
Велько. То есть как это не было!
Год. Не подчеркивал я! Я вообще ее не читал!
Велько. Кто про тебя говорит?
Год. Ты только что заявил, что Авсей своей позой подчеркивал. Я протестую.
Велько. Слушай, ты не мог бы называться как-нибудь иначе? Хоть на время.
Андрис. Но кто все это написал, ума не приложу.
Лааксо встает из-за стола, идет к велосипеду.
Год. Тебе теперь нужен сценарий о будущем. Оно не менее страшно, чем прошлое. А снимать, конечно, на Лехе.
Андрис. Фантастику? Ты предлагаешь мне снимать фантастику? Все эти фокусы со временем? С разгоном света до семи с, хотя точно доказано, что максимум достижимо шесть. С трансмутацией вши в человека? Хотя известно, что возможна лишь обратная процедура — человека в вошь. Нет, это не для меня.
Лааксо. Вот, голубчик, прими и распишись. (Подает пакет.)
Андрис. Велько, почерк-то, почерк. Тот же! Или нет? И бумага такая же.
Ереваныч (встает со стаканом в руке). Эй, сосед, ты того. Письма читать потом будешь. Глянь, хозяйка-то совсем притихла. А почему она притихла? А потому, что стыдно. Стыдно ей. Что со стола ни возьмешь — все горько. Горько! Слышь?
Весь савельевский конец стола кричит вразнобой: «Горько!» Марья растерянно смотрит вокруг. На Андриса. Тот пожимает плечами. На Велько. Тот берет в рот кусок рыбы, подозрительно жует.
Велько. Нет, Юрий Иванович, это вы загнули. Рыба отличная. Я знаю, щука горчит, но Том постарался — никакой горечи.
Теперь растерян Юрий Иванович. Всеобщее замешательство.
К Марье подходит бородач. Наклоняется к уху. Она несколько раз кивает. Бородач подходит к Андрису и что-то шепчет ему.
Андрис. Вы это точно знаете?
Бородач. Абсолютно.
Андрис. Ну, это легко уладить. (Подходит к Марье и нежно целует ее в губы.)
Ереваныч. Во, теперь есть можно. (Опрокидывает стакан, закусывает.) А теперь, милый, читай, читай.
Марья. Погоди-ка. (Обхватывает голову Андриса и целует его.) Теперь точно, можешь читать.
Андрис (разрывает пакет, достает письмо). «Рервику — привет!»
Велько. Начало, насколько я помню, такое же.
Андрис. Пока только приветствие. И книги нет. Письмо, правда, длинное. Потом, наверно, прочтем, а?
Велько. Какой ты нелюбознательный, право. Чего тянуть, читай. Вон все гости делом заняты.
Действительно, гости не обращают внимания на Андриса, Марью и Велько. Савельевцы нажимают на выпивку и закуску, Баккит что-то энергично втолковывает В'Анье — видимо, по кулинарной части. Авсей Год задумчиво гладит собаку. Лааксо, подняв в одной руке стакан, а в другой насаженный на вилку маринованный огурец, понимающе кивает Юрию Ивановичу, который что-то показывает широко разведенными ладонями.
Андрис (продолжает читать письмо). «Что, приятель, дал себя охомутать? Так-так. Устал, видно, прыгать с места на место. По планетам шастать, кино снимать про нечисть всякую, кровопийц, изуверов, душегубов. Да, триумф «Судного дня» неоспорим.
Потрясенные зрители вновь и вновь впитывают чудовищные картины давней и близкой истории рода человеческого. Ты заслужил передышку. Ты и твои соратники. Но Андрис! Но Велько! Но Авсей!..»
Год. Я?
Велько. Ты, ты. Мы с тобой к славе приобщились, чуешь?
Год. Вот как?
Он встает, отпускает собаку и подходит ближе к Андрису.
Тот продолжает читать.
Андрис. «Страшная опасность грозит сообществу людей, безмятежно процветающему на ухоженных планетах. В чем она? А вот представьте…» Нет, Велько, удивительно знакомый почерк. Но решительно не могу вспомнить, где я его видел. Совсем недавно… Нет, не помню…
Бородач (хитро посматривает на Андриса, продолжает печатать, бормоча под нос текст). «Важный чиновник из некоего межпланетного ведомства прибывает на планету с говорящим именем Малдеб. Со времени последней инспекции этого края прошло много лет, быть может, несколько поколений. Чиновник бродит по планете, наблюдает, делает пометки и записи, по всей видимости, одобрительно оценивая происходящее. Организованное изъявление чувств, извлеченных из небольшого набора, аккуратная регламентация мотивов и поступков, строгие каноны в искусстве всех родов и жанров, автоматическое выполнение действий — как практически полезных, так и чисто ритуальных, короче, серая возня скучных людей, лишенных воображения и тяги к неожиданным поступкам. Через какое-то время чиновником, однако, начинает овладевать беспокойство. Он что-то ищет, ищет напряженно. Беседует с людьми, роется в подшивках газет, смотрит фильмы, листает учебники истории. Наконец наталкивается на крупный психиатрический лечебный центр и (несложно придумать сюжетный ход) попадает в него, хотя бы в качестве пациента. Малдеб, оказывается, много лет назад был выбран для заселения неизлечимо больными, неспособными жить среди обычных людей. С ними был отправлен немногочисленный медицинский персонал. Волею каких-то катаклизмов связь с Малдебом была прервана, контроль над ним на долгое время утерян. И вот инспектор явился. Что же он нашел?
Поначалу он решил, что обнаруженная на планете ситуация контролируется здоровыми людьми. Поэтому он и оценивал происходящее одобрительно, полагая, будто наблюдаемая им жизнь — гуманно дозволенный расплодившимся сумасшедшим способ существования, отвечающий их понимаю счастья. Пытаясь найти здоровых людей, которые, предположительно, управляли жизнью планеты, инспектор и попадает в сумасшедший дом, где прозревает.
Он начинает догадываться, что произошло. Больные полностью захватили власть, а медицинский персонал упрятали под замок. А может быть, немногочисленные здоровые люди и сами деградировали, поглощенные массой умалишенных. ДРАМАТИЧЕСКИЕ КАРТИНЫ ПОТЕРИ РАЗУМА. Это — для вас, Рервик. Это вам по плечу.
Жизнь на планете потекла по унылым законам недоумков. Сменялись поколения, сумасшедшие воспроизводили себе подобных, тщательно оберегая чистоту генетических линий. Всех, кто отличался от стандартов — неуемностью фантазии, парадоксальностью мнений и вкусов, вольнолюбием, — помещали в изоляцию, в лечебницу, в психушку.
Как должна быть понятна вам, Рервик, здоровому человеку, естественность игры и эксцентрики и болезненность мира предначертанных путей и мумифицированных правил…»
Андрис. Велько, здесь написано, что мне это понятно.
Велько. Раз написано — стало быть, понятно.
Андрис. Да, да, конечно. Но все же, как ты думаешь, что они имеют в виду?
Велько. Все очень просто. Если ты, скажем, сбиваешь чертиков с рукава или время от времени упираешь кулак в бок и говоришь: «Я чайник», — значит, ты нормальный, здоровый человек, полный фантазии и творческих исканий. А если утром пьешь кофе, съедаешь бутерброд с сыром и едешь в присутствие, там нажимаешь на клавиши компьютера или перекладываешь листы бумаги из большой кучки в маленькую и обратно, а потом возвращаешься домой, припадаешь к кормушке, делаешь сыну «козу», смотришь по тривизору восьмую серию «Охоты на стехиозавра» и ложишься спать, ты тяжело, неизлечимо болен.
Андрис. Вот оно что. Спасибо, Велько.
Велько. Не стоит благодарности.
Андрис. Теперь я понял.
Велько. Я всегда в тебя верил.
Андрис (протягивая Велько руку). Ты настоящий друг.
Велько (отвечая на рукопожатие). Да уж я такой.
Андрис. Так продолжим?
Велько. Вперед. Осталось совсем немного.
Андрис. Ты не вспомнил почерк?
Велько. Пока нет.
Андрис. Вспоминай. (Читает.) «Итак, инспектор видит, что Малдеб во власти сумасшедших, которые, естественно, считают себя нормальными, а нормальные, душевно здоровые люди — чудаки и фантазеры — сидят взаперти. Что делать?» (Андрис поднимает глаза на Велько.) В самом деле, что делать?
Велько (пожимает плечами). Может быть, там дальше написано? Давай посмотрим.
Андрис. Давай. Так ты еще не вспомнил?
Велько. Вот-вот вспомню.
Андрис (продолжает читать). «…Что делать? Это решать тебе, Рервик!» (Обращается к Велько.) Ты слышишь, Велько: мне решать.
Велько. Так решай, в чем же дело.
Андрис. Сейчас решу. Только письмо кончу. (Читает тихо-тихо, одновременно с ним бормочет текст бородач.)
Андрис и Бородач. «Можно устроить переворот, власть захватят нормальные сумасшедшие, которые упрячут сумасшедших нормальных в дурдом. Но при этом…» Бородач задумывается, смотрит в небо. Андрис тоже прерывает чтение, отпивает глоток из бокала. Бородач снова ударяет по клавишам, и оба продолжают бормотать.
«…Но при этом, овладев властью, нормальные сумасшедшие вполне могут постепенно превратиться в сумасшедших нормальных, а брошенные за решетку сумасшедшие нормальные — в нормальных сумасшедших».
Андрис озабоченно смотрит на Велъко, бородач удовлетворенно чмокает губами.
«Можно устроить инспектору побег из больницы, побег с Малдеба, возвращение на всесильную родину, откуда в должное время придет спасение малдебян, и восторжествует розовая справедливость. Все, взявшись за руки, встречают восход. Занавес.
Можно и убить инспектора при попытке к бегству, чем обречь Малдеб на дальнейшее неопределенно долгое существование в привычных рамках…
Можно оставить инспектора в лечебнице навечно, и он обретет счастье…
Можно свести его с ума, то есть сделать нормальным малдебянином, покорным серым человечком, вполне пригодным для благополучного существования на этой планете…
Можно…
Можно…
Можно…»
Велько. Я вспомнил!
Андрис. Что?
Велько. Ну и баба!
Андрис (заинтересованно). Где?
Велько. Именно эти каракули я видел на рецепте приготовления фаршированной рыбы, который Том Баккит продиктовал два часа назад Марье Рервик, в девичестве Марье Лааксо.
Андрис. Ты хочешь сказать, что все это…
Велько. Да.
Андрис. И все то…
Велько. Да.
Андрис. И книгу…
Велько. И книгу. Это, черт возьми, ее профессия.
Андрис (поворачивает голову к Марье). Дорогая!
Марья. Да, милый?
Андрис. Ах да, кажется, здесь… (Хлопает себя по карманам.)
Марья. Что ты ищешь?
Андрис. Записку, что ты написала мне утром. Вернее, оставила вчера с вечера. Ах, вот она, я завернул в нее грузила…
Вынимает из кармана ком бумаги, разворачивает.
Велько (читает через плечо Андриса). «Андрюсик, сделай себе яичницу с помидорами. Не забудь яйца взболтать со сливками. Целую».
Андрис. Вот видишь. Ты был прав. Это она.
Велько. Это она.
Андрис. Зачем ты это сделала, Марья?
Марья. Милый, мне казалось, что если я отвлеку тебя от прежних твоих занятий и займу добрым, длинным фильмом, да еще на тему мне близкую, это как-то сблизит и нас… И видишь, я не ошиблась. А продолжай ты снимать свои сумасшедшие репортажи или фильмы о камнях и насекомых, что бы с нами было?
Андрис. Вот видишь, Велько, видишь, Авсей, как все просто. Это отвечает на твой вопрос, откуда взялся замысел «Судного дня».
Год. Просто-то просто. Но эта женщина разрушает мои планы.
Андрис. Каким образом?
Год. Я думал поехать на Лех, а теперь…
Андрис. А теперь?
Год. Надо снимать. Ты уже решил, кому предложить роль инспектора?
Марья. Авсей, вы вполне сможете хотя бы часть фильма снять на Лехе.
Год. Ты так считаешь?
Марья. Уверена. А ты как думаешь, Андрис?
Андрис. Очень мило с твоей стороны, что ты решила со мной посоветоваться.
Марья. Не обижайся, милый. Год ведь так хочет на Лех. Велько, а ты что скажешь?
Велько (мрачно). Знаешь, я, пожалуй, сначала отвечу на тот, последний твой вопрос.
Марья. Это какой же?
Велько. Ты спрашивала, зачем я насаживал косу на черенок.
Марья. В самом деле?
Велько. Я обещал ответить, и отвечаю. Чтобы косить!
Велько берет косу, прислоненную к стене дома, вскидывает ее на плечо и отправляется за кулисы. Сидящие за столом постепенно расходятся. Остается только курчавый бородач за машинкой.
Бородач (печатает и приговаривает вполголоса). Сидящие за столом постепенно расходятся. У всех дела, да и вставать завтра рано. Становится темно, я еле различаю клавиши — так и не научился печатать вслепую. Большая луна повисает над трубой дома Андриса. Над всеми трубами домов. Над Волгой и Ветлугой. Над прошлым и будущим. Пора ставить точку — конец главы, конец письма, конец повести. Где-то сказано: «Конец дела лучше начала его». Конец всегда венчает дело — уже другие берега маячат за листа пределом, как многоцветные луга. Смешение времен и красок, тюрбанов, шляпок, шлемов, касок. Литература — карнавал, так этот жанр Бахтин назвал. Но в бутафорского огня игре, в шутих надсадном вое вдруг просквозит лицо живое — нет, нет, приятель, чур меня! Я прочь бегу, я снова рад в беспечный кануть маскарад.
Лекарство для Люс
Пьер неотрывно смотрел на тающее тельце девочки. Темные ямки ключиц, тонкие ручки с узелками суставов. Игла капельницы кажется огромной и жестокой в ниточке вены. Голубые глаза безмятежны, в них он старается не глядеть. «Именно таких — белокурых и голубоглазых, словом, североевропейский тип — чаще поражает этот ужасный недуг. Редкая болезнь, господин Мерсье, особенно у нас во Франции. Не ждите повторной вспышки, увезите дочь куда-нибудь в жаркий сухой климат — в Северную Африку, например, или в Мексику».
Он не внял совету врача год назад, когда болезнь только слегка коснулась его Люс. Он был занят. Работал. И вот машина как будто готова. Они проделали щель, через которую человек сможет протиснуться туда, в неведомое время. А Люс…
— Как себя чувствуешь, Люси? — доктор Жироду тоже избегал прямого взгляда в лицо девочки. Поневоле привыкнув за долгую практику к хладнокровной регистрации симптомов боли и страдания, он не мог смотреть на ребенка, улыбающегося за несколько дней — или часов? — до конца.
— Спасибо, доктор. Я сегодня так хорошо плавала. Вода была теплая-претеплая. И ракушку нашла вот такую. — Руки Люс оставались неподвижны, лицо сияло.
На тумбочке в углу — красный прямоугольник истории болезни. «Может быть, вас утешит известие, что девочка не сознает своего положения. Она живет воображаемой жизнью — играет, бегает, как вполне здоровый ребенок. Только все это мысленно. Она будет с восторгом рассказывать, какую красивую бабочку поймала, хотя подвижность у нее сохраняют только губы и веки. Эйфория на пороге смерти».
Доктор вытянул из красной папки листок с результатами последних анализов.
— Не хочу вас обманывать надеждой. На этой стадии мы вряд ли увидим что-нибудь утешительное. — Он близоруко поднес листок к одутловатому, в прожилках лицу.
— Господин профессор, мадам Жироду просит вас к телефону. — Закованная в крахмал сестра профессионально суха, однако видно, как тревожно расширены ее зрачки.
Старик бормочет что-то извинительное и выходит с листком в руках.
Пьер снова мысленно перебирает варианты. Лететь за лекарством одному? Но сможет ли он передать всю картину болезни. Послать Люс? Но куда? Где очутится беспомощный ребенок, не способный даже самостоятельно двигаться? Это лишь другой вид смерти. За тысячу лет от дома. На двоих машина не рассчитана, что, впрочем, к лучшему. Он имеет право рисковать только собой. Ведь аппарат даже не испытали. Что ж, вот подходящий случай. Нужно решить, куда лететь. Точность перемещения — и пространственного, и временного — невелика. А залететь слишком далеко — страшно. Скажем, десять тысяч лет! Какой будет цивилизация в это фантастически далекое время? Ну хорошо, он выберет век, он попадет туда. Но главное — как вернуться? Неопределенность обратного пути куда больше. И если высокая точность неважна при движении в будущее, то вернуться он должен в срок, чтобы не опоздать к умирающей Люс.
Минимальный прыжок машины — половина тысячелетия. Этого должно хватить. Пьер перевел взгляд на красный коленкор: «Люс Мерсье, 6 лет. История болезни. Основной диагноз…»
Он бросил свой старенький, не раз битый «Пежо» в Форж-лез-О и оставшийся путь до виллы Дю Нуи прошел пешком. Ветер тихонько тащил по дороге кленовые и каштановые листья. Уже в сумерках Пьер увидел знакомую позеленевшую черепицу. Он поправил на плечах лямки рюкзака, поставил ногу на осыпающийся фундамент ограды и ухватился за ржавые чугунные прутья.
Какая, однако, нелепость. Он вынужден… Да, просто-таки вынужден воровать собственную машину. Разумеется, они делали ее вместе, и вклад Шалона и Дю Нуи велик. И в расчетах, и в деньгах, тут ничего не скажешь. Но идея? Впрочем, идея тоже не его. Пьер вспомнил Дятлова. Вспомнил теплый от вечернего солнца камень, втащить который на холмик ему помог Жак Декур. Дятлов. Одобрил бы он поступок Пьера? Пожалуй, да. А если он погибнет и погубит машину? Именно это втолковывали ему весь вчерашний вечер Дю Нуи и Шалон, когда он заикнулся, что хочет воспользоваться аппаратом. Они говорили, что система стабилизации толком не проверена, что он невесть куда забросит машину, вряд ли уцелеет сам и ничем, естественно, не поможет несчастной девочке. Что ж, логика как будто на их стороне. Но что такое логика, если есть хотя бы ничтожный шанс, крохотная надежда? Пусть ему суждено погибнуть. Он умрет с сознанием, что использовал этот шанс. Ему не прожить на земле без Люс.
Аппарат помещался в ротонде — летней деревянной постройке в дальней части парка. Когда Пьер взламывал дверь, сухое дерево скрипело и стреляло. К счастью, сегодня кроме садовника Дю Нуи глухого Гастона на вилле никого не должно быть. Пьер уже сидел в машине, когда раздались торопливые шаги. Он сдвинул рычажок дистанции к минимуму и выглянул наружу. К ротонде, тяжело дыша, бежал Гастон.
— Мсье! — кричал он в ужасе. — Мсье! Нельзя!
Он неуклюже прыгал на подагрических ногах, вытянув вперед правую руку. Позади ковыляющей фигуры вспыхнули фары автомобиля.
Пьер захлопнул дверцу.
Крошечная пролысина в чащобе леса была так плотно огорожена жимолостью, что Пьер счел всякую маскировку машины излишней. Сунув под рубашку пакет с красной коленкоровой папкой, он начал пробираться сквозь кусты в ту сторону, где лес казался чуть светлее. Гулко ахало сердце.
Судя по холодным каплям росы, редко пробивающемуся пологому лучу солнца, треску птиц, нежным клочкам тумана, зябкому запаху ромашек было раннее летнее утро. Озноб от внутреннего возбуждения и ледяных уколов росинок гнал его вперед. Через час он согрелся, умерил шаг, успокоился. Успокоившись, начал рассуждать, а приведя в порядок мысли, испугался. Километр за километром шел он по лесу, абсолютно лишенному следов человека. Лежащие на земле деревья гордо подымали могучие комли с ветвистыми корнями — доказательство, что они упали сами, от старости, или были свалены бурей, не изведав грубых ударов топора.
Еще через час, когда тревога перешла в страх, заросли расступились и открылась даль: бескрайняя поляна в цветах, пологий склон травянистого холма, а на гребне — замок, каких немало повидал Пьер в среднем течении Луары. Крепостная стена срезает верхушку холма, над стеной — башни с черными пятнами бойниц. На густой синеве неба замок проступает светлым изломом.
Вглядываясь в это творение человеческих рук, которому теперь уже не менее тысячи лет, Пьер испытал огромное чувство облегчения. Он скинул репсовую куртку, расстелил ее на просохшей траве и прилег, положив рядом пакет.
Разбудили его звуки, совсем не похожие на шум леса; металлическое бряцание, глухой топот, скрип, нестройный гул голосов. Из-за выводка молодых дубов шагах в двадцати от Пьера на дорогу выезжал отряд всадников. В парном строю на тяжелых крупных конях ехали воины в кожаных куртках с нашитыми блестящими бляхами. В правое стремя каждого упирался тупой конец пики, украшенной узким языком флажка. За пикейщиками ехали двое на сухих легконогих скакунах. Один — с массивной золотой цепью поверх стального нагрудника — энергично жестикулировал. Павлинье перо на шапочке рыцаря беспокойно вздрагивало, когда тот поворачивал голову к собеседнику. Последний был одет в темно-лиловый балахон с откинутым капюшоном, над которым сияло выбритое круглое пятно на макушке.
Немного отстав от двух всадников, трясся на муле рыжий монах, колотя понурое животное босыми пятками. Следом за ним тонкий юноша в блекло-зеленой куртке и красных чулках тянул в поводу долгогривого красавца-коня, к седлу которого были приторочены шлем с белым плюмажем и треугольный, в ссадинах щит.
Наконец показался последний всадник — огромного роста бородач в кольчужной рубахе. От луки его седла тянулся аркан, накинутый на шею старика в лохмотьях со сбитыми в кровь босыми ногами.
Повинуясь изгибу тропы, участники процессии поворачивались к Пьеру спиной и, постепенно уменьшаясь, терялись в поле, оставив крепкий запах конского пота, звуки невнятной речи и память о затравленном взгляде пленника из-под грязных седых косм.
Какой же это век? Смутные обрывки сцен из прочитанных в детстве романов плясали вокруг рыцарей Круглого стола, Роланда, Тристана, Оттона, Айвенго, но сказать определенно, какому времени принадлежат люди, только что проехавшие мимо него, Пьер не мог.
Он встал на ноги и, осторожно отогнув колючие ветки, сделал шаг в сторону дороги.
— Эй!
Мгновенно ослабев от стреха, Пьер обернулся. В нескольких шагах от него стоял мальчишка, точная копия только что проскакавшего оруженосца. Он задумчиво грыз ногти и смотрел на Пьера.
— Ты откуда? — Мальчишка, улыбаясь, ждал ответа.
— Я? Я… оттуда. — Пьер махнул в сторону леса. Потом, собравшись с духом, выпалил: — Чей это замок?
— Замок, что ты видишь перед собою, принадлежит благородному и достославному рыцарю, воителю Святой земли и гроба господня, грозе мавров и сарацин, моему сеньору барону Жилю де Фору, и все эти земли и угодья принадлежат ему, а я — его кравчий и спешу в замок, чтобы поспеть к началу пира, который мой господин дает в честь своих гостей графа де Круа и аббата Бийона, только что проследовавших по этой дороге со своими слугами, пажами и оруженосцами… — тараторил паренек, а Пьер с изумлением сознавал, что тот говорит по-французски, хотя и с очень странным произношением. — А ты, наверно, колдун?
«Интересно, — думал Пьер, втолковывая кравчему благородного и достославного барона, что он просто мимопроезжий чужестранец, — интересно, во времена крестоносцев уже сжигали колдунов или инквизиция была учреждена позже?»
— И пусть не удивляет тебя моя одежда, — настойчиво говорил Пьер, — ибо такое платье в обычае на моей родине.
— Жаль, что ты не колдун. У нас есть одна колдунья, вот было б здорово, если бы вы встретились — устроили бы турнир, кто кого переколдует. Но ты все равно приходи в замок, ты, верно, голоден и устал от дальнего пути, а наш господин любит не только колдунов, но и путешественников, если только они добрые христиане, а ты ведь христианин — ты не похож ни на мавра, ни на еврея, ни на жителя страны Синь. А может быть, ты жонглер или трувер?
Пьер на мгновение задумался. Жонглер? Кажется, так называли бродячих комедиантов. Какая ирония судьбы! Мальчишка почти угадал. Но время ли сейчас признаваться в своем актерском прошлом?
— Нет, я не жонглер.
— Конечно, я и сам вижу, ведь у тебя нет ни арфы, ни обезьянки. Ну, я побежал. Приходи на закате, пир будет в разгаре. Спроси Ожье де Тьерри, это мое имя. Я проведу тебя в зал и найду угол, откуда все хорошо видно. Прощай!
Ожье де Тьерри дунул напрямик к замку, не разбирая дороги. Камзол его слился с густой зеленью дерна, и Пьеру казалось, что две тощие красные ноги сами бегут по склону холма, смешно сгибаясь и разгибаясь.
Пьер возвращался к машине. Какая-то сила тянула его туда вопреки логике и здравому смыслу. Ведь ни доблестное крестоносное воинство, ни все колдуны этого скудного, жестокого, пестрого и наивного мира не помогут ему доискаться до причины ошибки и устранить ее. Мысль о Люс сжимала сердце. Он шел и плакал и искал хоть какую-нибудь зацепку, чтобы оправдать себя и жить, хотя бы и здесь, в этой варварской каше из холопов, воинов и попов. Тогда, в сорок четвертом, он нашел себе оправдание — он бежал, спасая записи Дятлова, бежал, чтобы уберечь Бланш, а Декура с отрядом оставил пробиваться в горы. Тогда он тоже шел и плакал, и лес был чем-то похож на этот, хотя там были предгорья Альп, а здесь, судя по словам мальчишки, Нормандия.
Он вышел к знакомым зарослям жимолости. Сейчас он вытащит из машины рюкзак с консервами, разведет костер, поест, а уж потом обдумает свое положение. Низко нагнувшись и выставив перед собой локти, он нырнул в зеленую гущу, проскользнул на ту сторону и выпрямился. Прямо на него уставился апоплексического вида рыжий детина в коричневой рясе. Детина сидел на пне, прислонившись спиной к обшивке аппарата, и таращил на Пьера круглые пуговичные глазки. Левой рукой он придерживал на колене оловянную кружку, а правую воздел над головой, сжимая полуобглоданную кость. Тут же на траве и поваленной лесине лежало и сидело человек шесть бородатых парней в зеленых длинных кафтанах, а посреди поляны над догорающим костром висел черный котел, в котором ухало и кряхтело какое-то варево.
— Ваде ретро, Сатанас! — неожиданно высоким голосом провещал монах и костью нарисовал в воздухе крест.
Зеленые кафтаны повскакали и, разинув рты, уставились на Пьера.
— Что-то твоя латынь его не берет, дядя, — сказал один из них, толстяк с рыжей кустистой бородой. В его окорокоподобной руке была зажата деревянная мешалка, которой он только что орудовал в котле.
— Сгинь, сатана, рассыпься, — отбросил монах латынь, продолжая крестить воздух, между тем как его товарищи, потеряв, видно, веру в столь прямое и быстрое действие крестного знамения, приступили к Пьеру.
Очень быстро он был скручен, обмотан колкой веревкой и брошен на развилку корней большого дуба, росшего на самом краю поляны как раз напротив машины.
— Не тебе ли принадлежит эта штука? — начал допрос монах, указывая той же костью через плечо, в то время как рыжебородый кулинар поддел котел своей мешалкой и, ловко сняв с огня, опустил его на траву.
Кто ножом, кто ложкой стал выуживать из котла куски мяса и деловито чавкать. Худой паренек наполнил дымящейся похлебкой большую миску и поставил ее перед монахом.
— Спасибо, чадо. Накормить слугу господа — значит услужить самому господу. — Монах извлек из складок рясы изгрызанную ложку и припал к своей лохани.
— Так что же ты молчишь? — отдуваясь обратился он к Пьеру. — Или язык твой прилип к гортани твоей от страха перед гневом господним?
Язык Пьера отнюдь не прилип к гортани. Напротив, он обильно омывался слюной, и свирепый мясной запах терзал Пьера больше, чем страх перед чьим бы то ни было гневом.
— По-моему, это исчадие ада хочет жрать, — сказал толстяк-повар.
— Ты прав, Крошка, клянусь мощами святого Ингордана. Надо его накормить, ибо сказал принявший за нас муки на кресте: просящему у тебя дай!
Крошка пошарил в траве и выудил еще одну деревянную миску, правда, поменьше. Наполнив ее, он сунул туда деревянную же двузубую вилку и отдал подскочившему худому парню, который поставил еду перед Пьером и ловким движением ножа освободил ему руки.
— Ешь, ешь, — разрешил монах, увидав нетерпеливое движение Пьера. — Может, эта похлебка из козленка и не похожа на адское пойло из серы и змеиного яда, которым, как я слышал, питаются слуги преисподней, но ничего другого предложить тебе не можем. — И он закинул голову в смехе, открыв ослепительную молодецкую глотку.
Пьер жевал горячие куски нежного мяса, запивая их бульоном прямо через край миски. Носители зеленых кафтанов настроены были благодушно. Увидав, что Пьер покончил со своей порцией, тот же услужливый паренек нацедил кружку из бочонка и поставил ее рядом с опустевшей миской. Пьер отхлебнул горьковатой жидкости и услышал монаха.
— Ну, чадо, расскажи, как попал ты во владения нашей вольной ватаги, что это за железная труба и почему на тебе платье, изобличающее принадлежность к колдовскому сословию? А мы послушаем твой рассказ за кружкой доброго пива, сваренного лучшим пивоваром Нормандии — Теофилом Липкие Штаны.
— Я, — начал Пьер, — чужестранец, путешественник.
— Откуда и куда ты путешествуешь?
— Оттуда — туда. — Пьер неопределенно махнул рукой и добавил, кивнув на машину: — А это мой экипаж… карета, что ли, колесница…
— Ну да, помело! Ха-ха-ха! — загоготал Крошка, а за ним и остальные.
В следующее мгновение грянул пронзительный свист, и между кустов просунулась плоская румяная рожа с реденькими метелками усов.
— Это отряд де Тардье, — сообщила рожа. — Едут сюда, их человек сорок.
Разбойники пришли в движение. Побросав кружки, они схватили лежавшие здесь же в траве короткие мечи и луки. Крошка и монах вооружились суковатыми дубинами.
— Кто их ведет? — деловито спросил монах.
— Кроме де Тардье я не заметил рыцарей.
— Все равно их слишком много. Будем уходить. И прихватим с собой этого. — Он ткнул пухлым пальцем в то место, где только что сидел Пьер. Но Пьера там уже не было.
Через минуту поляна опустела. Пьер выбрался из своего гнезда между корней того же дуба, но с противоположной стороны — сюда он метнулся, улучив мгновение, когда все разбойники были заняты поисками оружия и расспросами часового, — и, окончательно освободившись от веревок, подошел к машине и забрался внутрь. Вскоре, волоча рюкзак за лямки, он уже готовился спрыгнуть на землю, но из-за кустов донесся храп и топот множества лошадей, а на поляне появились двое в кольчужных рубахах и принялись расстилать цветастый ковер как раз там, где несколько минут назад лежал Пьер, опутанный пенькой. «Смена декораций», — подумал он, опускаясь на порожек люка. Свесив ноги, он потянулся к нагрудному карману за сигаретой.
Между тем на поляну вступил черноволосый рыцарь, из-под низко обрезанной челки угрюмо смотрели темные красивые глаза. Он вел за руку молодую женщину в наряде, блестевшем, как елочный шар. Она взошла на ковер, перед краем которого рыцарь остановился и, низко склонившись, проговорил:
— Здесь, Алисия, ты сможешь отдохнуть и подкрепиться, чтобы усталость не помешала тебе насладиться праздником и, что не менее отрадно, доставить гостям наслаждение лицезреть совершенство столь полное, как твоя красота.
«Здорово заворачивает», — одобрил Пьер, на которого никто еще не обратил внимания.
— Благодарю, сьер Морис. Я действительно утомлена. Но не голодна.
— Может быть, глоток теплого вина с пряностями?
— Вина? Пожалуй. — Алисия опустилась на гору подушек, сваленных посреди ковра. — Немного мальвазии с корицей и кардамоном. — Она томно улыбнулась и, угнездившись в подушках, медленно подняла глаза.
Под ее взглядом Пьеру стало неуютно. Через секунду на него уставился рыцарь с челкой, а затем и все присутствующие на поляне.
— Как интересно, — хихикнула вдруг Алисия и, вновь обретя капризную серьезность ломаки, обратилась к Пьеру: — Простите нас, любезный сьер рыцарь, за бесцеремонное вторжение в ваши владения. Мы, славный защитник гроба господня сьер Морис де Тардье и я, Алисия Сен-Монт, дочь графа Вильруа де Сен-Монта, направляемся к замку высокородного барона Жиля де Фора, дабы принять участие в турнире и празднестве, которые он устраивает по поводу — впрочем, я не помню в точности, по какому именно поводу он дает этот праздник, — и вот мы остановились отдохнуть на этой дивной поляне, чтобы восстановить телесную бодрость, утраченную в известной мере вследствие тягот обременительного для слабой женщины путешествия, не зная, впрочем, что место это уже занято достойным рыцарем, носящим столь странное облачение…
«Боже, — думал Пьер, — а эта-то за кого меня принимает? Нет, дудки, за рыцаря я не сойду — придется еще ломать копья в честь прекрасных дам. Лучше работать колдуна, у меня для этого явно больше данных».
— …И соблаговолит назвать нам свое имя, дабы мы могли приветствовать его, как того заслуживает носитель столь славного имени. — Тут Алисия несколько запуталась и снова хихикнула, после чего ожидающе заморгала.
Вместо ответа Пьер выпустил густую струю синеватого дыма.
— Святая Мария, да вы колдун, — оживилась дама, не выказав, однако, никакого страха. — Сьер Морис, я никогда не видела колдунов, а вы?
— Мне, Алисия, всякое приходилось встречать в Палестине и других местах. Но если тебя заинтересовал этот… Почему бы нам не пригласить его в Лонгибур?
— Прекрасная мысль! — захлопала в ладоши женщина, сверкая камнями перстней и браслетов. — Не откажите в любезности даме, благородный сьер, — говорила она уже Пьеру, — согласитесь сопровождать нас в замок барона, где вам, ручаюсь, окажут самое изысканное гостеприимство, которого заслуживает столь могущественный чародей.
Пьер продолжал молчать. Де Тардье сказал что-то своим людям, и те, взяв машину в полукольцо, стали приближаться к сидящему Пьеру. Он швырнул рюкзак обратно в машину, встал и захлопнул люк.
— Ну-ну, — сказал он, — я иду.
Сохранять достоинство мага под недружелюбными взглядами латников было нелегко. В это время к Алисии подошел паж. Над серебряным подносом с двумя кубками вился пар.
— Принеси еще, — бросила Алисия пажу, протягивая Пьеру тяжелый металлический сосуд.
Он растерянно держал его двумя руками, пока такие же кубки не появились в руках Алисии и де Тардье.
— Пусть вам сопутствует удача! — звонко сказала Алисия.
Пьер выпил вино. Теплая сладкая волна прошла по телу.
— Садись, сьер чародей, и расскажи нам о своих чудесах, а еще лучше покажи что-нибудь не слишком страшное.
«В романах в таких случаях на помощь приходит солнечное затмение. А мне и затмение, начнись оно через минуту, все равно не поможет. Предсказать его я не могу, а тем более шикарно обставить». Пьер опустился на ковер рядом с томно взирающей на него дамой, тоскливо огляделся, достал зажигалку и неуверенно щелкнул. Алисия равнодушно посмотрела на язычок пламени и прилегла на подушках.
Пьер ошалело вертел головой. Кучка воинов закусывала холодным окороком. Пели птицы.
Очнувшись от задумчивости, Морис де Тардье встал и, буркнув: «Разбудить Алиску», направился к лошадям.
Они проделали уже знакомый Пьеру путь по трепетному летнему лесу, и Алисия непрерывно болтала, мучая удилами красивого гнедого мула, а рыцарь Морис де Тардье молчал, бросая на Пьера неприязненные взгляды. Молчал и Пьер, трясясь на могучем пегом жеребце позади пажа, и мысли его были расплывчаты и печальны. Ехавший впереди кавалькады воин поднес к губам рог и затрубил у подъемного моста замка Жиля де Фора.
Сотни коптящих факелов гнали к потолку темень, и та сгущалась вверху, в сплетении балок. Узкие щели окон рождали сквозняки, от которых языки светильников раскачивались, внося тревогу, размывая предметы, лишая четкости жесты. Прямо на Пьера смотрели удлиненные глаза узкого белого лика с бескровной полоской губ. За ним лучами расходились мечи и копья, схваченные щитом мрачной геральдики: ворон, несущий в когтях череп. Страх, отодвинутый было добряками-разбойниками и болтовней Алисии, с новой силой сжал сердце Пьера при виде этого лица, осененного птицей смерти и остающегося недвижным в мятежном метании теней.
Когда Пьер чуть свыкся с желто-красными полутенями и оторвался от магнетических глаз, перед ним мало-помалу стали материализовываться реальные предметы: убегающий к возвышению дубовый стол, гобелены с неуклюжими собаками, соколами и трубящими в рога рыцарями, огромный очаг, черной пастью жующий оленью тушу. Достигнув возвышения, стол подныривал под стоящего поперек собрата меньшей длины. За этим последним расположились хозяин и знатнейшие гости, среди которых оказались давешние утренние знакомцы — рыцарь с цепью и поп в лиловой рясе. За спинами публики попроще, сидящей на скамьях у длинного стола, шныряли и скалились вислоухие собаки.
Хозяин замка барон Жиль де Фор, чье лицо заворожило Пьера, сидел, склонившись низко над столом, и неподвижно глядел перед собой, слушая, как тучный дворецкий с резным посохом в руке говорил ему что-то о новоприбывших. Потом барон медленно поднялся, сошел по трем высоким ступеням с помоста и двинулся навстречу Алисии и Морису. Слух Пьера не мог выделить из общего гула, какими словами обменялись хозяин и гости. Жиль де Фор повел Алисию к своему столу, за ними в сопровождении дворецкого шел Морис де Тардье, Пьер почувствовал себя неуютно, стоя у дверей. «Большого почета тут не жди, — думал он, заходя за каменный выступ близ очага, колдун у них по социальной шкале где-то между конюхом и свинопасом. Тем более такой завалящий — кроме фокуса с зажигалкой и сигаретой ничего не показал». В этот момент кто-то потянул его за полу куртки. У локтя Пьера сиял черными глазами Ожье, кравчий сеньора замка.
— Молодец, что пришел. Сейчас будет самое интересное. Садись за стол.
— Скажи, Ожье, нельзя ли мне пристроиться где-нибудь в сторонке, ну хотя бы здесь? — Пьер показал на темную нишу за очагом.
— Здесь так здесь. — Ожье поманил поваренка, поливавшего оленью тушу вином из насаженного на палку ковша. — А ну-ка, Жермен, посади этого человека.
Жермен прикатил две деревянные колоды. На одну из них уселся Пьер, а на другую Ожье поставил тарелку с жареной дичью и кружку темного вина.
И снова мир распался на пятна и звуки. Вереницы слуг меняли блюда, гул наполнял сводчатую залу, и не мог Пьер расчленить этот великолепный оркестр звуков, красок и движений на вульгарные элементы, лишенные поэзии и высокого значения: хруст, сопение, урчание, шарканье, шмыганье, скрип, работа челюстей, локтей, подбородков, а вот холеная рука в перстнях и сале ползет по малиновому бархату, оставляя тусклый жирный след.
И вдруг — тишина и неподвижность. На возвышении у резного кресла барона выросла тощая фигура в рубахе из красных и зеленых ромбов с желтой обезьянкой на плече. Венок из темных привядших роз лихо сдвинут набекрень, лисье личико сосредоточенно, в левой руке — маленькая арфа. Уперев согнутую ногу в чурбак и утвердив арфу на колене, жонглер тронул струны. Резкий тревожный звук полетел к темным сводам.
— Небывальщину заморскую я не стану вам рассказывать, храбрые рыцари и прекрасные дамы, а послушайте побывальщину родной земли, милой Франции. Я песню заведу о храбром витязе, вам о Роланде пропою блистательном, служившем императору христианскому и победившем с Карлом тьму язычников, слуг мавританца-нехристя Марсилия.
Щелкнув по носу разошедшуюся не в меру обезьяну, певец снова бряцнул арфочкой и продолжал:
Зачарованно внимая стихам, Пьер вспомнил, как сбегал с уроков, предпочитая скучному Роланду пыльную зальцу синематографа «Мираж» с Гретой Гарбо на экране и тонкой рукой Симоны, сжимавшей острыми пальчиками его локоть.
Жонглер тем временем проигрывал всех героев. Тяжелым взглядом обвел он сидящих за малым столом рыцарей:
Вот Ганелон, предложенный Роландом на опасную должность посла, вырастает в гневного пророка собственной мести:
Деловито разработан план злодейской операции. Изменник Ганелон и Марсилий, склонившись над картой — или Пьеру так кажется, — водят пальцами по пергаменту. Вот оно, ущелье Сизы. Карл арьергард оставит у теснины, в нем будут граф Роланд неустрашимый и Оливье, собрат его любимый, и двадцать тысяч воинов-французов. На них… Ганелон шевелит пальцами, губами: он вычисляет. Мордочка жонглера напряглась…
За столом движение. Им, рыцарям, да и всякому ясно, как это много — сто против двадцати. Они давно уже знают, чем все кончится, но забыли. Они все переживают заново. На лицах напряженное внимание. Беспризорный олень сохнет в очаге. К Ронсевальскому ущелью, где встал лагерем отряд Роланда, спешат толпы мавров. В доспехах сарацинских каждый воин. У каждого кольчуга в три ряда. Все в добрых сарагосских шишаках, при валенсийских копьях и щитах… О, рыцари знают толк в оружии. Они понимающе переглядываются и чмокают губами, они живут этим. А он, Пьер, сбежал в кино с Симоной.
Окончив коллеж, он болтался без дела. Иногда помогал дяде продавать цветы. Но вот Симона привела его в театр Шатле, в студию самого Жан-Поля Моро. Тому был нужен мим. Он оглядел хрупкую, гибкую фигуру Пьера и удовлетворенно хмыкнул. Моро оказался прав: у Пьера обнаружился дар. Жан-Поль открыл ему бесконечный мир знаков, образующих язык пантомимы: зыбкий, как волны, шаг, птичий порыв кисти, скорбь белой маски лица.
Началась «странная война». Моро забрали в армию, и Пьер привязался к старому актеру Этьену Жакье. Жакье дал ему роль в готовящемся спектакле. Отрава драматического театра оказалась еще острее. Сладкой тайной звучали для Пьера имена Станиславского, Мейерхольда, Пискатора. О Станиславском рассказывал Владимир Соколов, который вел занятия по сценическому мастерству. «Смотрите сюда. — Соколов поднимал над головой коробок спичек. — Сосредоточьтесь на этом предмете. А теперь представьте, вы — спички!» Деревенея, Пьер ощущал себя тонким, оструганным. Он лежит в холодном сумраке, прижатый к жестким своим собратьям, и его далекий маленький затылок обмазан горючей коричневой массой. Но вот брызнул свет, огромные пальцы хватают его, затылок больно чиркает о шершавую стену. Шипение и жар окутывают голову, чернеет и гнется тело.
Этьен Жакье стал для Пьера пророком.
— Мальчик мой, — говорил он во время бесконечных прогулок по весеннему Монмартру, — театр — это корабль. Вольный ветер раздувает паруса занавесей, колосники — наш рангоут, сеть задника и канаты — такелаж. Софиты — это горящие иллюминаторы, и даже галерка созвучна галере. Каждый вечер ее заполняют рабы и пираты, жаждущие чуда — свободы и нежности. И спектакль снимается с якоря, чтобы подарить им это чудо… Театр выше жизни, Пьер. Я выхожу на сцену, чтобы не участвовать в грубой комедии, которую называют реальной жизнью.
Накануне его дебюта война перестала быть «странной». Немцы хлынули на Париж.
Пьер стоял в толпе на Елисейских полях. Старик в берете повторял:
— Франция, наша Франция… — по его щекам катились слезы.
«Человек одновременно актер и зритель в театре жизни. Он живет и наблюдает себя со стороны. Живет, но знает, что умирает. Жизнь — это игра в предание смерти». Какими мудрыми казались Пьеру эти слова Жакье. Но однажды он спросил, не правильней ли было бы на время оставить театр и сражаться.
— Весь мир сейчас сражается, — отвечал Этьен, — и весь мир играет. Я знаю, мы кажемся чудовищами, озабоченными только своим делом — делом комедиантов, безразличных к борьбе. Но у нас свое поле боя — сцена. Ставка в нашей игре — величие духа родины. Духа Мольера, Корнеля, Расина. Мы поднимем на щит героическое прошлое Франции.
Слова старого актера убедили Пьера. Со страстью включился он в постановку «Сида».
— Премьера будет 14 июля, — говорил Этьен, захлебываясь от возбуждения. — Представляешь, какой эффект!
За неделю до премьеры к Жакье пришел немецкий полковник.
— Комендатура, — сказал он, — возлагает на вас ответственную и почетную миссию: постановку оперы «Золото Рейна».
— Но я никогда не ставил опер, я не смогу! — возразил бледный Жакье.
— Ваша скромность делает вам честь, мсье, но в настоящую минуту она совершенно неуместна.
— Я… я очень занят. Я ставлю «Сида».
— Корнель подождет, — спокойно ответил немец. — Вы будете ставить Вагнера.
Через неделю, 14 июля 1940 года, Пьер навсегда ушел из театра. Он выбрал другое поле сражения.
Идет бой. Каждый из двенадцати пэров дает урок маврам. Перед Роландом вырастает волосатый язычник Шернобль. Сейчас, сейчас обрушится на него страшный удар Роландова меча — Дюрандаля. Рассказчик подкрадывается к этому мгновению, как лис к курятнику:
Жонглер взял с хозяйского стола кубок и отпил вина.
А потом уже обыденно будничная работа, и голос его ровен, а жесты ленивы. И рубит он, и режет Дюрандалем, большой урон наносит басурманам, и руки у него в крови, и панцирь, конь ею залит от ушей до бабок. А рядом грубоватый Оливье крушит неверных обломком копья. И певец снова воодушевляется. Он вращает над головой арфу и говорит, отвечая на вопрос Роланда, почему столь необычно его, Оливье, оружие: «Я бью арабов, недосуг мне доставать из ножен меч!» Добрый смех приветствует рассказчика. Все пьют, и он пьет. И хохочет со всеми: «У него нет… ха-ха-ха… Времени у него нет, некогда ему… Ха-ха, он их оглоблей!»
И вдруг посерьезнел.
Роланд трубит в свой рог, призывая дядю-императора на помощь. И голос певца напряжен и звонок и полон боли и отчаяния, потому что медлит Карл, дурачимый Ганелоном, мешкает с выходом на подмогу.
Но нет еще Карла, а рядом умирает Оливье. Ах, край французский, милая отчизна, увы, твоя утрата велика!
Глаза Алисии блестят слезами, мужчины хмурятся и закрывают лица.
Последний бой. Роланд с архиепископом Турпеном принимают удар четырехсот сарацин. Натиск отражен, и среди тысяч трупов лежит умирающий Роланд. И он поет элегию своему верному Дюрандалю, перед тем как его уничтожить. Жонглер, перебирая струны, заводит речитатив:
И мужчины уже не скрывают слез.
Тщетно бьет Роланд мечом о скалы. Сокрушается камень, но не зубрится Дюрандаль. И, обессилев, вручает рыцарь свою перчатку архангелу Гавриилу, уносящему его душу.
Певец умолк. Молчала восхищенная зала. Наконец поднялся Жиль де Фор:
— Отдохни, Жоффруа, отдохни и подкрепи себя пищей. Потом ты окончишь свою песнь, ибо нам хочется знать, как принял великий Карл известие о смерти любимого племянника, как отомстил он арабам, как осудил изменника Ганелона и что сталось с прекрасной Альдой — нареченной невестой Роланда. Но чтобы ты знал, сколь любим мы твое искусство, вот тебе награда. Прими ее сейчас, не будем дожидаться конца твоего рассказа — я уверен, он будет не хуже начала. — Жиль де Фор нагнул голову и снял с себя тяжелую золотую цепь.
Жоффруа опустился на колени и сорвал с плеча обезьянку, чтобы та не мешала барону.
— Спасибо, сьер рыцарь, мы с Матильдой старались.
Барон расплылся в улыбке, оживившей его тонкие бледные губы, и, надев цепь на шею певцу, слегка подтолкнул его к подоспевшему дворецкому, который повел Жоффруа вдоль длинного стола. Однако высокородные гости, успевшие осушить слезы, а заодно и кубки, как бы невзначай расставляли локти, так что бродяге-актеру не сразу нашлось место. Наконец он пристроился в самом конце стола возле юного пажа графа де Круа. Пьер с интересом рассматривал жонглера из своей ниши: талант поразительный. Уж он-то знал в этом толк.
Между тем пир разгорелся с новой силой. Женщины, по наблюдениям Пьера, не отставали от мужчин, уписывая пироги с начинкой из жаворонков, зайчат на деревянных спицах, нежных карпов, запеченных в дубовых листьях, жареную свинину с репой, запивая все это тягучим красным вином. Наконец слуги обнесли всех медными тазами с водой для омовения рук. И потекла беседа.
— Не удивительно, что подвиги Роланда находят отзвук в сердцах рыцарей: он им образец и доблести, и долга, и верности. Но что в рассказе нашего жонглера могло привлечь прекраснейшую даму? Ведь женская душа устроена не в пример грубым мужским натурам — туго натянутой струной откликается она на человеческие муки, а искусный Жоффруа так живо изобразил страдания искалеченных и умирающих бойцов, что это не могло не причинить вам боли, благороднейшая Алисия, — сказал де Тардье.
— Вы правы, Морис, — отвечала Алисия, — я сострадала Роланду и Оливье, но в этом и наслаждение от искусства, подаренного нам Жоффруа. Через страдание мы постигаем блаженство.
Граф де Круа поднял пьяную голову:
— А я, благородные сьеры, об одном сожалею: не волен я кинуться в страшную сечу и спасти храбрейшего из храбрых… Объясните мне, гордые рыцари, почему не могу я быть вместе с Роландом? Где тот конь, что отвезет меня в Ронсевальское ущелье? — В глазах де Круа заблестели слезы.
— Нет таких коней, граф, — сказал де Тардье, — судьба же Роланда прекрасна и возвышенна.
— Судьба, судьба, — пробормотал де Круа, — я не верю в нее и не желаю ей подчиняться.
— Не кощунствуй! — сурово произнес аббат Бийон. — Господь справедливо распорядился за нас, нам же остались деяния к вящей его славе. Ни прошлое, ни будущее не в нашей власти.
— А вы, святой отец, — заговорил Жиль де Фор с некоторой нотой брезгливости, — что вы нашли в словах Жоффруа?
Аббат вскинул голову и с достоинством ответил:
— Что могу я черпать в этой славной песне, кроме благочестия и веры в силу господа, вложившего Дюрандаль в Роландову десницу, дабы тот поразил язычников. И, укрепившись в вере, я возвращаюсь из тех героических дней в наше бренное настоящее, чтобы — увы! — убедиться, что даже цвет рыцарства начинает забывать о святом своем предназначении, о беспощадности к слугам дьявола…
— Что вы имеете в виду, отец Бийон? — мрачно перебил его Жиль де Фор.
— Не настаивайте на ответе, ибо я слишком чту законы гостеприимства, чтобы ответить на ваш вопрос без криводушия и лукавства, и слишком сильна во мне вера…
— Укрепленная фигляром Жоффруа?
— …и слишком сильна во мне вера, — не замечая издевательской реплики, продолжал Бийон, — чтобы укрыть от вас свои мысли.
— Так откройте их, святой отец, откройте их! Тем более что я заранее знаю, о ком пойдет речь.
— Да, о ней, о гнусной колдунье, о сатанинской змее, свившей гнездо в сердце рыцаря, некогда благочестивого и безупречного.
— Радуйся, монах, она уже в подземелье!
— Это ты должен ликовать, что одержал победу над бесом искушения.
— А я ликую! Я ликую, ха-ха-ха. Видит бог, как я весел. — Барон сгреб со стола серебряный кубок, мгновенно наполненный верным Ожье, и осушил его залпом.
Лицо Бийона, багрово-красное от вина и гнева, поворачивалось, излучая в зал самодовольство. Взгляд его споткнулся о Пьера, пробежал чуть дальше и вернулся. В следующий миг аббат нагнулся к Жилю де Фору и забормотал что-то ему на ухо. Хозяин замка повернулся в сторону очага, глаза его впились в Пьера. Вздрогнула и остановилась картина. Лысина дворецкого, склоненная к белому пятну на фоне резной высокой спинки. Остраненная улыбка Мориса. Изумленные брови Алисии. Туповатое любопытство в пьяных глазах графа де Круа.
— Эй, взять его! — Жиль де Фор тянул палец к очагу, а правая рука с кубком снова вознеслась к услужливому ковшу кравчего.
Пьер увидел вырезанный тенью острый кадык под серебряным донцем.
— К Урсуле его! Ей там скучно. Ха-ха-ха!
Два жарких потных тела стиснули его между собой, потащили к стене. Метнулась рука Алисии — и опустилась, перехваченная Морисом де Тардье. За креслом хозяина скорчилась запятой худенькая фигурка Ожье. Стало совсем тихо.
— А теперь послушаем конец твоей истории, Жоффруа, — сказал барон, отвернувшись от Пьера и опустив руку.
Что произошло дальше с Марсилием и Ганелоном, Пьер не услышал. Его вывели через вдруг обнаружившуюся боковую дверь, а потом стащили по узкой лестнице из дюжины крутых каменных ступеней в подобие каменного мешка, где вместо дверей была скользящая вверх-вниз решетка из деревянных брусьев, в окон не было вовсе. При тусклом свете факела, воткнутого в железное кольцо, Пьер увидал на полу кучу соломы и ворох тряпья. Решетка рухнула, и топот стражей замер наверху.
Пьер постоял с минуту и направился было к соломе, как вдруг куча тряпья шевельнулась, поднялась над полом и обернулась скрюченной старухой, с лицом, почти совершенно закрытым прядями нечесаных длинных волос. Она отвела космы со слезящихся глаз, с едва заметным удивлением глянула на Пьера и снова опустилась на пол, сцепив грязные руки и выставив острые, прикрытые бурой мешковиной колени.
Пьер тоже сел, скосив на старуху привыкшие к полутьме глаза. Тени, пробегая по ее лицу, оживляли его, сообщая выразительность бровям и губам. Нарисованная игрой факела мимика оборачивалась живым движением, откликом собеседника, ведущего откровенный и доверительный рассказ. Рассказ этот звучал тепло и человечно под многими метрами земли и камня, хотя голос был глух и бесцветен.
— Я читаю по твоим глазам, чужеземец в чудной одежде, что тебе отвратителен вид твоей сестры по заключению, — начала старуха и, не обращая внимания на протестующий жест Пьера, продолжала голосом настолько слабым, что только безнадежная тишина подземелья позволяла Пьеру расслышать ее речь. — Я расскажу тебе о своей жизни, ибо ты — последний, кто выслушает меня в этом мире. Знай, выхода отсюда нет ни тебе, ни мне: если мы не умрем от голода и жажды, то добрый барон облегчит наши муки и прервет страдания плоти и терзания душ милосердным топором или очистительным пламенем костра. Ты вздрогнул, чужеземец, ты не хочешь умирать. Ты молод. Но думаешь, я отжила свое? Знаешь ли ты, что я моложе тебя, что мне нет еще и тридцати зим? Да-да, и пятнадцати раз не пробуждалась к жизни земля по весне с тех пор, как барон увидал на охоте девочку Урсулу, плетущую венок из первоцвета. Был апрель, зеленый апрель был тогда, и барон был весел и молод, и собаки его окружили меня и лаяли, а я смеялась. Я брала их за шерсть у шеи и заглядывала в желтые глаза, и они затихали, и виляли хвостами, и лизали мне ноги. «Что ты сделала с моими собаками, девчонка?» — кричал барон, а я смотрела на него и смеялась, и думала, что если я возьму его за голову, как большого пса, и загляну в его сверкающие глаза — а как они сверкали тогда, в апреле! — то он упадет на колени и, как пес, потянется к моим ногам. И когда я подумала об этом, он затих, опустил свою плетку, подошел ко мне с безумным лицом и упал на колени. Он полз за мной, сминая траву и первые ландыши и пачкая мокрой землей свои бархатные штаны. Но я убежала и спряталась. А потом все рассказала отцу, и он избил меня тяжелой рукой кузнеца. И не велел выходить из дому. А как я могла сидеть в доме, когда пастуха Жиля укусила змея, и он распух, как подушка, и мне пришлось держать его за руку три часа, пока отрава не вышла. А потом у Марьяны были трудные роды. А еще через несколько дней кривому Гастону дикий кабан распорол живот. И никто не мог обойтись без Урсулы, а отец не пускал их в дом, и я убегала, когда он напивался и спал. Я приходила к ним и касалась их ран, и гладила живот Марьяны, и раны их затягивались, а я смотрела им в глаза, и они вытирали слезы и улыбались. Только потом мне хотелось спать, и ноги дрожали, как будто я бегом бежала от деревни до замка и обратно. — Голос старухи шелестел, становился временами невнятным, но опять обретал силу.
Когда она вдруг умолкла, Пьер насторожился — тишина стала нестерпимой.
И снова Урсула заговорила:
— Меня никто не боялся и не считал колдуньей. Все в деревне знали, что это сила перешла ко мне от матери, а к ней — от ее матери, и так было всегда. И когда капеллан из замка пьяный упал с лошади и сломал руку и долго болел, его принесли ко мне, и рука его стала здоровой к вечеру, а он сказал, что на мне лежит божья благодать. А потом капеллан увидел, как я велела нашему псу Вингу принести горшок с бальзамом, и тот принес его в передних лапах. И капеллан уже не говорил про божью благодать. Он сказал, что я ведьма, что во мне сидит дьявол и что теперь его ждет адское пламя, потому что он позволил ведьме его лечить. А меня, сказал он, надо забить камнями. Но люди не дали меня в обиду. Капеллана чуть не растерзали, но я упросила их отпустить его. А когда он уходил, я спросила, почему сын плотника Иисус мог исцелять прокаженных, возлагая персты на язвы их, а дочь кузнеца не может залечить рану своей рукой?
А потом он все-таки нашел меня, барон Жиль де Фор. Да я и хотела, чтоб он меня нашел. У него были сумасшедшие глаза и тонкие красные губы — как две змейки. Он искал меня, но никто не говорил ему, где я. Тогда он велел схватить пастуха Жиля, когда тот гнал стадо мимо замка. Он показал ему щипцы и раскаленную маску с шипами, и Жиль испугался. Барон приехал один, без слуг, без воинов. Он плакал и звал меня в замок. А мне так хотелось в замок, но я боялась отца. И я сказала, что не поеду. Тогда он сказал, что убьет отца. Он стоял и грозил, а я знала, что он его не тронет. Это сейчас он зол и морщинист, а тогда он был статен и весел, только бледен был так же, и губы были такие же тонкие, словно две змейки. Он вернулся в замок, и на следующий день я прибежала к нему сама. А отец сошел с ума и спалил кузню. Но что мне был отец! Я любила своего барона, он хохотал и говорил; ведьмочка моя. И мы были счастливы год за годом, и было таких лет десять. А потом он поехал воевать гроб господен. Вернулся через год совсем больным. Горел весь и сох, а тут еще рана на бедре открылась воспаленная, незалеченная. Смердела так, что стоять рядом никто не мог, слуги воротили нос, а лекарь сказал, чтоб звали капеллана. А я приходила к нему, ласкала его. И рана затянулась, жар спал, и сила вернулась в его тело. А от меня сила ушла. Вся сила моя, а с ней и красота, и молодость все в эту рану ушло навсегда.
И мой жар пропал, и руки мои уже не исцеляют, и дух мой не властен над человеком и зверем. А он, встав, сказал: «Уйди, Урсула. Ступай к отцу. Ты стала старой и безобразной». А я была молодой, пока во мне жила моя сила. Мать моя до сорока восьми лет была свежа, как девочка, и осталась бы такой, но лесничий графа Турпена застрелил ее из арбалета, когда она собирала травы у Круглого озера. А я стала старухой за те дни, когда лечила моего тонкогубого. Я заплакала и пошла к отцу, но он прогнал меня. «Ты не дочь моя, ты баронова подстилка, — кричал он, — а дочь моя Урсула давно умерла. Она была молодой, а ты — гнусная старуха. Посмотри, как ты безобразна». И взял меня за шею и наклонил над бочкой с водой, которая стояла у крыльца еще с тех пор, как я жила там, и я увидела свое лицо и испугалась, а он все наклонял мою голову, и лицо мое уже касалось тухлой воды, а пальцы его как клещи сдавили затылок. Но мимо проходил Жиль пастух. Он отбил меня у старика. Но и Жиль не узнал меня. «Оставь старуху, Кола», — сказал он отцу. А я подошла к нему ближе и сказала, что я Урсула. Та самая, которая спасла его от укуса гадюки, та самая, которую он все это время тайно любил. «Урсула умерла, — сказал пастух, — я сам убил ее».
И я вернулась в замок. Но барон не допустил меня к себе. Только разрешил жить в дальней башне и велел меня кормить. И с тех пор я живу без любви. Кому нужна любовь старой ведьмы…
Пьер сжался, оцепенев.
— А завтра — смерть, вечный покой, вечные муки. Барон теперь, — в голосе старухи появились злобные нотки, — он теперь женится на племяннице этого борова Бийона. Я всегда не любила попов, а этого ненавижу. Подлый аббат требует моей смерти, я знаю. Но они просчитались! Ненависть вернула мне силу, я выйду отсюда и убью их всех, убью, убью… — Старуха выла высоким голосом, и Пьера охватил ужас. — Я снова чувствую жар в моих руках, — шипела Урсула и тянула к нему скрюченную лапку.
Он вздрогнул от ожога. Старуха сидела неподвижно, отвернув лицо. На его колене расплывалось пятно горячей смолы, упавшей с факела.
И вдруг на Пьера нахлынуло неистребимое, сумасшедшее желание рассказать кому-нибудь, хотя бы этому нахохлившемуся монстру, тупо смотрящему во мрак, рассказать все-все: о неповторимом запахе кулис; о черной клеенке эсэсовских плащей на площади Этуаль; о том, как рвутся легкие, когда бежать уже не можешь, но бежишь; о том, как опустели глаза Базиля, когда Буше принес известие о смерти Колет; о том, как умирал Базиль и свистело его простреленное горло; о драгоценной коричневой тетради; об испуганных объятиях Бланш; о Люс, которая звонко смеялась и говорила: «Я сегодня бабочку поймала — в-о-о-т такую», — и показывала неподвижными руками.
— Я вообще считаю, что в этой затее «французского редута» к востоку от Роны много звона и мало толку. — Тяжелое лицо Дятлова в полумраке блиндажа казалось неподвижным.
Пьер сидел в углу перед ящиком с патронами и набивал пулеметные диски, стараясь не упустить ни слова.
— Вы полагаете, мы вообще тут сидим зря? В чем же вы видите ошибку, господин Дятлов? — Д'Арильи вытянул журавлиные ноги и упер их в ящик, блестя на Пьера идеально начищенными сапогами.
— В месте и способе ведения боевых действий. Здесь в горах максимум на что мы годимся — это сковать несколько тысяч немцев. Разве это стоящее дело для трех тысяч партизан плюс рота альпийских стрелков?
— Могу добавить, что сегодня к нам присоединились еще остатки одиннадцатого пехотного полка и саперная рота из Армии перемирия. Они не выполнили приказа Петена разоружиться, переправились через Рону у Баланса и явились в Васье.
— Прекрасно. Однако им не следовало переправляться.
— Прикажете идти на Париж?
«Неужели, — думал Пьер, — Базиль не чувствует, что д'Арильи над ним издевается. Ведь он смеется над Дятловым, эта аристократическая каланча».
— На Париж бы неплохо, — гудел ровный голос Дятлова. — Но Париж далеко. А вот оседлать дороги от Прованса на север и рвать составы, идущие в Нормандию, — этого от нас ждут и союзники, и де Голль.
— Я непременно передам генералу, что у него такой верный единомышленник. А пока, поскольку до де Голля еще дальше, чем до Парижа, я приглашаю вас от имени Эрвье в Сен-Мартен. Сегодня в двадцать ноль-ноль. Судя по болтовне Декура, там будут обсуждаться идеи, близкие к вашим. К тому же приехал связной из Тулузы. Кстати, русская. Поэтесса. Впрочем, эмигрантскую поэзию вы, конечно, не любите.
— Где уж нам, медведям, — и добавил по-русски: — «У нубийских черных хижин кто-то пел, томясь бесстрастно; я тоскую, я печальна оттого, что я прекрасна».
— Как вы сказали? Это русские стихи?
— Эмигрантская поэзия. Автор решил, что в Африке все черное, даже хижины. И у этих хижин бродит черная же, очевидно, дама, испытывая мучения, но вместе с тем оставаясь холодной. И, прогуливаясь в таком противоречивом расположении духа, упомянутая особа поет, ставя словами песни в известность случайных прохожих — разумеется, тоже черных, — что причина переживаемого ею угнетенного состояния заключается в высокой степени ее внешней привлекательности. Однако, если в двадцать ноль-ноль нас ждет Эрвье, то пора ехать. — И, надев широкий ремень с кобурой. Дятлов открыл дверь.
Изумленный Пьер смотрел ему вслед.
— Каков медведь, а? — сказал д'Арильи, когда Дятлов вышел. — Да ты в него влюбился, что ли? Смотри, станешь красным. У них там все красные, так же как в Нубии все черные. — И довольный, д'Арильи вышел вслед за Дятловым, оставив Пьера набивать пулеметные ленты.
Из дома Эрвье, где помещался штаб, расходились уже близко к полуночи. Было тихо. Немцы не стреляли, только изредка пускали ракеты. Дятлов стоял у палисадника и ждал Сарру Кнут — связного из Тулузы, чтобы проводить ее в дом Колет. Оттуда обе женщины завтра утром отправятся на запад. Так решил Эрвье. Маленькую Бланш Дятлов отвезет мадам Тибо — старуха не откажется взять внучку. При мысли о том, что Колет уедет. Дятлов испытывал жалость, почти страх: она попадет в самое логово немцев, а его с ней не будет.
Сарра Кнут вышла вместе с полковником. Эрвье подвел ее к Дятлову и сказал:
— Базиль, скажете Декуру, чтобы он вывел женщин к дороге на Шатильон. У заставы их встретит Буше, там они останутся до ночи. Затемно он выведет их к Дрому и переправит на тот берег. До Монтелимара они пойдут одни, а оттуда через Ним поедут в Тулузу, если поезда еще ходят. Проститесь с Колет и возвращайтесь к себе — боши что-то зашевелились. Клеман принял радиограмму от Сустеля. По их данным, к Веркору движется танковая дивизия Пфлаума. Предполагают, что в Гренобле ее переформируют, пополнят из резерва и направят в Нормандию. Вряд ли они будут с нами связываться, но…
Эрвье поцеловал руку Сарре, махнул Дятлову и исчез в доме.
В лунном свете Сарра казалась моложе, чем когда он увидел ее в штабе. Тогда он дал ей лет пятьдесят: лицо болезненное, с черными подглазьями, волосы почти седые, голос низкий, хотя и звучный. Говорила она немного медленнее француженок, не по незнанию языка, конечно, а, видимо, по складу характера, с некоторой обстоятельностью и московской округлостью. Сейчас она молчала, и профиль ее был чист и молод.
— Сколько вам лет, Сарра? — спросил он по-русски.
— Узнаю соотечественника. И не только по языку. Ни один француз не спросит женщину, даже такую старуху, как я, о ее возрасте. Мне сорок. Но уж коли мы говорим по-русски, то называйте меня и настоящим моим именем Ариадна. Ариадна Александровна Скрябина.
— Дятлов, Василий Платонович. А почему Сарра Кнут? Впрочем, это не мое дело.
— Я не делаю из этого тайны. Я пишу, вернее, писала стихи. А имя отце слишком ко многому обязывало.
— Скрябина? Александровна? Так вы — дочь?
— Да, его дочь.
— И давно вы во Франции?
— С восемнадцатого года. Мне тогда четырнадцати не было. Но Россию помню. Больше всего Москву. Арбат, Пречистенку. Кончится война, поеду в Москву. А вы откуда родом?
— Я из поморов. Но учился и жил до войны в Ленинграде.
— Как Ломоносов. Вы случайно не физик для полноты сходства?
— Именно физик. Правда, очень односторонний. Мозаикой не занимаюсь, стихов не сочиняю. Но люблю и слушаю с удовольствием, Прочтите что-нибудь свое.
— О, момент не слишком располагает к стихам, но… Вы первый человек оттуда, который услышит мои стихи. — И она негромким, но внятным низким голосом произнесла, почти пропела:
Когда она кончила читать, Дятлов помолчал, а потом попросил еще.
— В другой раз, вы не обижайтесь. Я сейчас не могу.
Колет уже легла. Она выскочила в рубашке, с торчащими, как у подростка, ключицами и прильнула к Дятлову, не замечая его спутницы.
— Базиль, Базиль, какой ты молодец, что пришел. Ты голодный? Ой, здравствуйте, проходите, сейчас я зажгу свет, только опущу шторы и закрою Бланш. Пойди, Базиль, посмотри на нее. Она сегодня так плакала. Мишо сказал, это зубки режутся. — Колет говорила без остановки.
Такой и запомнил ее Дятлов — в белой полотняной рубашке, полуребенка, смотрящую обращенными вверх, в его лицо, заспанными глазами и бормочущую быстро-быстро: «Она так плакала… зубки режутся…»
Восемь дней он ничего не знал о ней, а на девятый, когда немцы уже перекрыли все проходы и танки Пфлаума, двигаясь от Гренобля на юг, утюжили деревню за деревней, подползая к рубежу Сен-Мартен — Васье, на правом фланге которого держал оборону отряд Дятлова, к нему пробрался Буше и рассказал, что Колет, Сарра и еще четыре франтирера были схвачены в Тулузе во время облавы. Колет застрелили при попытке вырваться, остальных забрали гестаповцы.
Взвизгнув, решетка поползла вверх, и Пьер очнулся. Этот звук после стольких часов тишины — неужели ночь прошла? — показался и страшным и желанным. На пороге возникли те же два воина. Потоптавшись, один из них буркнул беззлобно, даже с некоторым, как показалось Пьеру, сочувствием:
— Ну, Урсула, надо идти. — А потом Пьеру, уже безразлично: — Вставай.
Старуха молча шагнула в проем за решетку. Пьер вышел следом и увидел, вернее почувствовал по мотнувшемуся свету и короткому шипению, как страж выдернул факел из кольца и швырнул в воду. Ступеньки были высокими, Урсула подхватывала расползающиеся тряпки, тонкие грязные лодыжки мелькали перед глазами Пьера. На последней ступеньке она обернулась и сказала громким хриплым шепотом:
— Это конец, чужеземец! Готовься к смерти, молись своему богу!
Пьер попятился. Но старуха уже мчалась вперед.
Коридоры замка были темны. Оранжевые пятна редких факелов создавали иллюзию сна, и Пьер шел легко и плавно. Реальность вернулась ярким солнечным светом, заливавшим двор, где широким кругом стояли слуги, воины, монахи, дети. Взгляд вырвал из толпы знакомые лица. Вот испуганно поникшая мордочка Ожье рядом с бородачом-гигантом, который вчера волочил на аркане босоногого оборванца. А вот и сам оборванец, но руки его уже свободны, и в глазах не мука, а живое гнусное любопытство. Разбойник-поп с красными наливными щеками высунулся из толпы своих зеленокафтанных приятелей, а за его плечом маячит Крошка, приоткрыв щербатый рот. Здесь же на корточках пристроился паж Алисии, а рядом — поливальщик оленя, как его, ах да, Жермен. И тучный дворецкий, и вертлявый Жоффруа… Отдельной группой на небольшом помосте стояли хозяин замка, аббат Бийон, граф де Круа, Алисия Сен-Монт и Морис де Тардье. Низко надвинув капюшон, в смиренной позе застыл перед аббатом рыжий монах в веревочных сандалиях.
В центре круга подобно верхушкам прясел торчали из куч хвороста два столба. Рыжий монах подошел к Урсуле и что-то забормотал, суя ей крест. Напряженная спина старухи не шелохнулась. Стражи медленно повели ее к одной из куч, на скате которой Пьер заметил широкую доску с набитыми поперечинами — нечто вроде трапа, ведущего к столбу. Старуха покорно ступила на трап. Пьер смотрел на нее как завороженный и не сразу понял, что монах с крестом уже стоит перед ним и шевелит толстыми губами. Урсула сбросила драный балахон и осталась в тонкой белой рубахе. Она прижалась спиной к столбу, и пока стражи обматывали ее веревкой, Пьер успел увидеть, как под отброшенными ветром седыми волосами гордо блеснули глаза.
Справа и слева, качаясь, поплыли лица, куча хвороста выросла и заслонила небо. Две сильные руки подперли поясницу и вознесли его, вновь открыв голубое окошко. Ноги в рифленых туристских ботинках уцепились за шершавый дощатый скат.
— Ин номине патрис эт фили эт спиритус санкти…
Позвоночник и затылок уперлись в столб.
Две серые приплюснутые фигуры медленно приближались к горе хвороста. Прозрачный огонь факелов едва виден в солнечном свете.
«Какой бездарный конец», — подумал Пьер и закрыл глаза.
— Стоп! Стоп! Все не так! Что за чучело мне подсунули? Помощника ко мне! Костюмера! Где помощник, я вас спрашиваю?
Истошный голос несся снизу. Пьер открыл глаза. Маленький патлатый человечек неистово рубил ладонью воздух и топал деревянными башмаками по древним плитам замкового двора.
Невесть откуда явился длинный нескладный мужчина в серых помятых штанах, в детских сандалиях с дырочками и начищенном медном шишаке. Он замер перед патлатым, приоткрыв рот и быстро двигая кадыком.
— Кто это? — визжал человечек, тыча пальцем в Пьера.
— Н-не знаю, — выдавил длинный, хлопая ресницами.
— А кто знает?
Длинный молчал.
— Что ни день, то скандал. Вчера какой-то хулиган палил из пищали по Лонгибуру. Пищаль в двенадцатом веке! А этот откуда взялся? Кто его одевал? Где костюмер?
Из толпы выдвинулась хрупкая девушка в платье служанки.
— Ваша работа? — Патлатый мотнул головой в сторону Пьера.
— Нет, — тихо ответила девушка.
— Так кто смеет мне мешать, черт побери! — Он быстро переступал деревянными подошвами, переходя в гневе с фальцета на бас и обратно.
— Видите ли, Реджинальд Семенович, — начал было длинный, но человечек остановил его жестом.
— Давайте его сюда, — сказал он устало. — И ее тоже.
Веревки отпустили обмякшее тело. Пьер сполз по хворосту.
— Кто вы такой? — спросил Реджинальд Семенович.
— Я Пьер Мерсье.
— Какой еще Мерсье, — застонал патлатый. — Урсула, звездочка моя, откуда он взялся?
Пьер оглянулся на старуху. Но старухи не было. Молодая горбоносая красавица с живым интересом смотрела на него желто-карими глазами.
— Понятия не имею, котеночек. Я думала, это твой новый ход.
— Господи, какой еще ход! Белены вы объелись, что ли? И вы, и вы… — Реджинальд Семенович тыкал пальцем в тихо приблизившихся Жиля де Фора, Мориса де Тардье, Бийона, Алисию. — Так кто же вы такой все-таки? — Он снова повернулся к Пьеру.
— Я уже сказал, мое имя — Пьер Мерсье. Могу только добавить, что я мирный путешественник. А вы кто?
— Я? — задохнулся человечек. — Вы не знаете меня? — Он взглянул на Пьера с неподдельным изумлением. Потом приподнял подбородок, слегка наклонил голову и произнес с расстановкой: — Я — Реджинальд Кукс.
— Видите ли, — сказал Пьер, — я прибыл из такого далека, что ваше имя вряд ли что скажет мне.
Лицо длинного в шишаке исказилось в приступе суеверного ужаса. Он наклонился к Пьеру и громко зашептал:
— Бог с вами, это же Реджинальд Кукс, главный режиссер Второй зоны Третьего вилайета.
— Режиссер? Вилайета? — Пьер с трудом ворочал мозгами. — Простите, меня только что хотели сжечь, и я как-то еще не совсем…
— Вот что значит вжиться в образ! — восхищенно пробормотал аббат Бийон.
— Но ведь как будто к тому и шло, — сказал Пьер, слабо улыбаясь.
— К тому шло, — повторил Жиль де Фор, — ха… ха… — И он зашелся тяжелым басом.
К нему присоединился заливистый дискант Реджинальда Семеновича Кукса, главного режиссера Второй зоны Третьего вилайета. Через секунду грохотала вся площадь: визжали мальчишки во главе с Ожье, ржали парни в зеленых кафтанах, церковным колоколом бухал разбойник-монах, сверкая зубами, смеялась Урсула, а Алисия, держась рукой за бок, вытирала глаза розовым кружевным платочком. Последним пришел в движение длинный в шишаке. Его тонкое блеяние разнеслось по двору, когда другие уже затихали.
Отсмеявшийся Кукс вновь подступил к Пьеру:
— Так откуда вы прибыли, мирный путешественник?
— Из этого… Из Форж-лез-О.
— Ничего не понимаю, — скривился Кукс. — А вы, Аристарх Георгиевич?
Длинный изобразил скорбную мину.
— Стойте, кажется, я знаю. — К ним, тряся полами коричневой рясы, пробирался монах. Его круглые пуговичные глаза светились. — Как же я сразу не понял, что это за штука, — говорил он. — Отсутствие движителей…
— Какая штука? — спросил Кукс.
— По-моему, этот парень пришлепал к нам из другого времени.
— Что? Как? — Кукс даже привстал на цыпочки.
— Это правда, — сказал Пьер. — Но ради бога, скажите, какой у вас век?
Все растерянно молчали. Первым откликнулся Аристарх Георгиевич:
— Шестой век Великой эпохи.
— Скажите, э… от рождества Христова это сколько?
Монах посмотрел на Пьера с удивлением и ответил:
— Двадцать пятое столетие, семьдесят восьмой год.
— Двадцать пятое! — закричал Пьер. — Все-таки двадцать пятое! Боже правый, значит, машина… значит, Дятлов… мы… — И он замолк, жадно озирая обступивших его людей.
— А откуда же вы, если не секрет? — Аристарх Георгиевич от нетерпения переступал с ноги на ногу.
— Из двадцатого. Вот к вам…
Реджинальд Кукс присвистнул!
— Экая даль. Надо отдать вас в хорошие руки. Аристарх Георгиевич, любезный, свяжите нас с Агентством по туризму.
— Сию минуту. — Помреж снял сверкающий шишак и, пристроив его под мышкой, крупно зашагал прочь. Все между тем сделались очень ласковыми к Пьеру. Морис де Тардье положил ему руку на плечо и говорил, что глубоко сожалеет о резких словах, сказанных им тогда на поляне. Алисия крутила пуговицу на куртке Пьера и восклицала:
— Подумать только! Ну просто не могу себе представить!
Тут снова показался Аристарх Георгиевич. С ним шел молодой человек в белой блузе и белых штанах. Он приветливо глянул на Пьера:
— Меня зовут Гектор. Мне выпала честь сопровождать дорогого и почетного гостя, многоуважаемый…
— Пьер Мерсье, — сказал Пьер.
— Многоуважаемый Пьер Мерсье. А сейчас не желаете ли отдохнуть с дороги?
Они шли по красной каменной галерее. Сквозь щели густо лезла трава. Провал слева внизу — сплошное зеленое буйство. «Джунгли какие-то», подумал Пьер.
— Такой пейзаж нынче моден, — пояснил Гектор.
Второй день этот голубоглазый красавец сопровождал Пьера повсюду.
— Скажите, я сделал ошибку? Мне не следовало прилетать?
— Нет, Пьер, вы не сделали ошибки, — ровно, дружелюбно сказал Гектор. Я представлю вас членам Совета, вашему делу дадут ход. А вы пока отдыхайте.
Показалась низкая дверь из рассохшихся досок, схваченных фигурными железными полосами. Гектор взялся за ржавое кольцо. Из открывшейся темноты пахнуло погребной сыростью.
— Прошу, — сказал Гектор.
Пьер согнулся и шагнул. Еще шаг. Брызнул свет. Большой белый мяч летал под низким синим небом. Несколько девушек бросились к ним навстречу.
— Это Пьер, — сказал Гектор. — Он из двадцатого века.
Всеобщий вздох изумления. Но не чрезмерного, как показалось Пьеру. Одна — кареглазая, красивая — подошла ближе. Впрочем, они все были красивыми. Пьер растерянно молчал.
— Меня зовут Полина, — объявила кареглазая. — Или просто Ина.
— А меня Елена, — сообщила смуглянка в голубой тунике.
— Пьер.
— Да, я уже знаю.
— Откуда?
— От Гектора. Он же только что вас представил.
— Ох, правда.
Его окружили, забросали вопросами.
— Вы видели когда-нибудь Пруста? А правда, что Набоков всегда жил в гостиницах? А Маяковский… Фолкнер… Бруно Травен… А Хлебников… О, Хлебников!
— Да бог с вами, — отбивался Пьер, — я многих этих имен и не слышал. Я, знаете ли, далек от литературы. Пруста, правда, читал, но видеть не мог он ведь умер, когда меня еще на свете не было. И вообще я всю жизнь, если не считать войны, прожил в одном городе, в Париже…
— Париж! — вздохнула Полина. — Ах, вы расскажете нам о тогдашнем Париже. — Она тронула его за руку и произнесла с чувством: — Пьер, правду скажи мне, скажи мне правду, я должна, я хочу все знать!
Пьер испуганно отшатнулся.
— Да что вы, голубчик. Это же Превер. О нем вы слышали?
— Превер? — обрадовался Пьер. — Превера я знал, — добавил он тихо, но в это время другая девушка, та, что спрашивала о Маяковском, запрокинув лицо, спасенное от чрезмерной красоты слегка вздернутым носом, вдруг продекламировала:
— А меня больше всего интересует Станислав Лем, — сказала девушка по имени Асса.
— Кажется, я где-то слышал это имя.
— Всего лишь слышали? То, что вы говорите, ужасно. — И она ушла.
— Ну вот, навалились на бедного путешественника, — сказал Гектор. — А он еще не пришел в себя после темницы Жиля де Фора.
— Почему темницы? — спросила курносая.
— Какая темница? — подхватил хор.
— Пьер вынырнул из времени совершенно неожиданно и угодил в поле «Славное игрище в Лонгибуре». Там его приняли за лазутчика, введенного Куксом для оживления игры, и с радостным усердием водворили в подземелье.
— Какой ужас! — прошептали девушки.
Пьеру, впрочем, показалось, что их шепот-возглас был слишком мелодичным, чтобы выражать искреннее беспокойство.
— Бедняжка, — сказала Ина. — Вы, должно быть, очень перенервничали.
— Ничего страшного, — бодрился Пьер. — Все было очень интересно. Пока меня не потащили на костер…
— Ах, костер! Ай, ай! — Лица девушек выражали совершенное сочувствие.
— Ина, — сказал Гектор, — мы идем к Харилаю. Не знаешь, где он?
— У него роль механика в «Среде». Фу, там дышать нечем, надеюсь, вы туда ненадолго. Возвращайтесь потом к нам! Ну пожалуйста!
Девушки, кланяясь одна за другой, побежали вверх по косогору. И только смуглянка в тунике смотрела вслед Гектору и Пьеру.
— Они тоже во что-нибудь играют? — спросил Пьер.
— Конечно. Игра называется «Матушка филология».
— Странное название. Что же они делают?
— Пишут. Литературные манифесты, критические статьи. Придумывают школы, течения. Дают им имена. Назовут, скажем, одних романтиками, а других утилитаристами. А потом бьют романтиков за безответственное стремление к безграничной свободе и неуемную жажду обновления, а утилитаристов — за близорукое пренебрежение высокими страстями и легкомысленное неприятие мировой скорби.
— И этим занимаются такие славные девушки?
— Да, они зубастые. Играют весело, от души.
Они вернулись к дверце, которая с этой стороны оказалась похожей на легкую садовую калитку. Пьер доверчиво шагнул в темноту, ожидая увидеть уже знакомую каменную галерею и глухие заросли. Но вместо этого он очутился на сером асфальте у гранитного парапета, за которым свинцово лоснилась вода, играя чешуей нефтяных пятен.
— Не удивляйтесь, дружище. У нас особые двери. Они свертывают пространство, сразу соединяя нужные точки. Сейчас мы в поле игры под названием «Среда, среда, среда…».
На другой стороне реки за таким же парапетом громоздились здания. Частокол труб, напоминающий гигантский крейсер, закрывал горизонт. Черно-белые столбы дыма вырастали из них и густо вспучивались под низким облачным небом.
— Здесь играют в отсталую индустрию, — говорил Гектор. — Наиболее увлекательные пассажи — отравленные реки, порубленные леса, изведенное зверье. Красные книги, штрафы, дебаты о безотходной технологии, проповеди об озоне, под шум которых живая природа потихоньку уступает место окружающей среде.
На той стороне приоткрылась дверь в бетонной стене и показался человек в спецовке. Пьер и Гектор столкнулись с ним на середине чугунного моста.
— Здравствуй, Харилай, — сказал Гектор. — Это Пьер из двадцатого века.
Харилай протянул тяжелую руку. Пожимая ее, Пьер заметил большой гаечный ключ, торчащий из кармана потертого Харилаева комбинезона. Механик улыбался озабоченно и вопросительно.
— Да, он прилетел, — сказал Гектор, — и мы сами не знаем, как.
От Харилая исходила какая-то основательность. Пьер вдруг подумал, что этот человек поможет ему. И пока Гектор излагал существо просьбы Пьера, тот впивался глазами в лицо Харилая, стараясь прочесть его решение и в то же время внушить ему ответ.
— Это очень серьезное дело, — веско сказал механик. — По всей видимости, придется…
Пьер почувствовал, что задыхается.
— …придется безотлагательно сыграть во Всемирный Совет.
Они возвращались в игру Гектора «Агентство по туризму».
— Пора обедать, — сказал Гектор. — Какую кухню предпочтете сегодня, дружище?
— Все равно.
— Напрасно, напрасно. Я вижу, последние слова Харилая оставили у вас неприятный осадок. Ну ничего. Ресторан «Сакартвело» — вот что поправит вам настроение. Застолье грузинских князей.
Ближайшая дверь вывела их в платановый лес. Дощатый стол на небольшой поляне был уставлен тонкогорлыми глиняными кувшинами. Многоцветье фруктов и овощей напомнило Пьеру сентябрь где-нибудь в Савойе. За столом сидело с полдюжины усачей в наглухо застегнутых красных рубахах и схваченных тонкими поясами темных кафтанах с расходящимися полами. Раздались шумные крики. Один из пировавших, худой, легкий, как перышко, взвился навстречу.
— Добро пожаловать, гости дорогие! — закричал он, топорща усы и вращая зрачками горячих глаз.
Пахло ароматным дымом: в стороне над открытым очагом на огромном вертеле жарился баран. Пьеру сунули в руки костяной в серебряном окладе рог, полный красного вина, пододвинули завернутые в тонкую лепешку ослепительно белый сыр и пахучую умытую траву.
— Кушай, дорогой, — сказал сосед, горбоносый смуглый старик. — Гость в доме — радость в доме. Здоровье дорогого гостя. — Старик поднял свой кубок.
Пьер ел дымящуюся баранину, запивал ее нежным вином. Ему было хорошо.
И Пьер подтягивал за тягучим тенором:
Замирал, когда врывался бас:
Гектор рассказывал пирующим про маленькую Люс. Князья смотрели на Пьера маслинами глаз, качали головами и цокали языком.
— Сколько же у вас игр?
— Много. Очень много. Не знаю точно. Впрочем, детали касаются тех, кто играет в статистику, — ответил Гектор.
— Интересно бы узнать их названия.
— Почему же только названия? Можно и посмотреть, и поиграть. Для начала могу познакомить вас со списком игр нынешнего сезона. Хотите?
Гектор подошел к ближайшему толстому дереву и, найдя дупло, удовлетворенно хмыкнул. Запустил руку в темную дыру и протянул Пьеру свернутый в трубочку лист бумаги.
— Изучайте.
Пьер уже давал себе зарок не выказывать удивления, однако вид у него был озадаченный.
— Все та же свертка пространства, — пояснил Гектор. — Дупло сыграло роль дверцы между моей рукой и библиотекой Совета нашей зоны.
— Но почему там оказался именно нужный вам список?
— Та же телепатия, только на железных принципах биомашинной технологии.
— Понятно, — неуверенно пробормотал Пьер и развернул пожелтевший листок. В десятке столбцов рукописной вязью теснились слова.
— Не удивляйтесь виду списка. В быту никто не желает иметь дело с кристаллами, голографией и прочей головоломной техникой. Всем подавай фолиант в коже с серебряными застежками или пергаментный свиток.
— И на всех хватает?
— Справились. Дома книг у нас в общем-то нет. Разве что в играх, где это необходимо. А так — протянул руку к ближайшей дверце и взял нужную книгу в библиотеке. Они там продублированы в соответствии со средней частотой запроса.
— Одним словом, в книги вы тоже играете.
— Угадали. Есть и такие игры, «Пожар в Александрии», например, или «Изба-читальня».
— Изба?
— Так назывался древний русский дом.
— А почему читальня?
— Когда-то в России шла борьба с неграмотностью — постойте, это ведь было как раз в вашем веке, — и книги, насколько я помню, хранились в бревенчатых домах — избах…
— Вот эта игра, — сказал Пьер, просматривая список. В том же столбце он прочел:
Трансвааль в огне
Дирижабль Нобиле
Белый квадрат на белом фоне
Базар в Коканде
Маки́
Большой футбол…
Пьер поднял голову.
— Тут все двадцатый век?
— Да, а вот двадцать первый. — Гектор провел пальцем по строчкам: — Экологический коллапс, Мафусаилов век. Марсианские хроники… А вот двадцать второй, двадцать третий…
Взгляд Пьера блуждал по листку, выхватывая разбросанные по векам игры: Ронсевальское ущелье. Тысяча видов Фудзи, ГЭС на Замбези, Бирнамский лес, Лагерь таборитов…
— А это что? — воскликнул он вдруг, возвращаясь к двадцатому веку. Маки́! Вы играете в макизаров? Это про наше сопротивление бошам?
— Да, а чему тут удивляться? Двадцатый век у нас в почете. Он признан одним из переломных в истории. Хотите посмотреть «Маки»? Правда, это в другой зоне, у нас в этом сезоне все больше по русской истории.
— Да. То есть нет. Не сейчас, по крайней мере.
В окоп, где сидели Дятлов, Декур и Пьер, спрыгнул д'Арильи, умудрившийся сохранить щегольство даже во время непрерывных боев последней недели. Он шел в штаб к Эрвье и решил дождаться темноты. Д'Арильи немедленно схлестнулся с Декуром, а мрачное молчание Дятлова, ради которого — это уже начинал понимать Пьер — аристократ всегда разглагольствовал, подливало масло в огонь.
— Попран рыцарский дух, веками, как драгоценное вино, сохраняемый цветом европейских наций, оберегаемый от тупых буржуа, темного пролетариата, извращенных интеллектуалов…
— Добавьте сюда плутократов, евреев и коммунистов, — вставил Декур, — и Геббельс будет вам аплодировать.
— Безвкусно манипулируя символами, рожденными в служении богу и чистой любви, Гитлер опошлил идею рыцарства, низвел священные ритуалы на уровень балагана.
— И это все, что вас не устраивает в нацизме? Будь они пообразованней, поутонченней, средневековые побрякушки не тасовались бы с такой наглостью, это не травмировало бы ваш вкус, и фашизм бы вас устроил, а? — Декур начинал распаляться.
— Не придирайтесь, Жак. Я бьюсь с ними от имени светлых идеалов рыцарства.
— Вы бьетесь с варварством сегодняшнего дня от имени варварства прошлого.
— Ого! А вы? Я-то знаю, за что умру. И знаю, как это сделать — у меня хорошие учителя: Тристан и Гавэйн, Роланд и Ланселот, Сид и…
— Зигфрид, — вставил вдруг Дятлов.
— Да, и Зигфрид.
— Вот и славно, д'Арильи. Вот и договорились. — Декур говорил беззлобно, но с неприязнью. — Вас не переубедишь, а вот Пьеру, которого вы пичкаете рассказами о славном французском рыцарстве, неплохо бы понять, что феодальная символика фашизма не случайна. Есть в рыцарском кодексе та апология ограниченности, которая питает нацизм. Причем немецкое рыцарство так же мало отличается от французского, как люди Кальтенбруннера от головорезов Дарнана.
Д'Арильи резко выпрямился, и его узкая голова поднялась над бруствером.
— Спрячьте голову, — сказал Дятлов.
— Хотя бы в храбрости вы не откажете французскому рыцарю?
— Не откажем, не откажем, — заторопился Дятлов, — нагнитесь только.
— А умирать надо без звона, д'Арильи. — Декур перевернулся на спину и принялся задумчиво жевать травинку. — Вы спрашивали, во имя чего я согласен умереть? Видите ли, я склонен смотреть на себя, как на лист большого дерева. И если лист отрывается и падает на землю, он удобряет почву. Качество почвы зависит от качества упавших листьев. А чем плодороднее земля, тем прекрасней будущий лес. Будущий, д'Арильи!
— Этак вы договоритесь до того, что во имя будущего процветания надо угробить как можно больше хороших людей, — нашелся д'Арильи.
— Надо не надо, а в истории так и получается.
— Ну, а вы, Дятлов, — д'Арильи не выдержал и обратился к нему прямо, вы, конечно, согласны с вашим собратом-марксистом? Что скажете?
— Скажу, что справа в трехстах метрах танки.
Пьер увидел несколько коробочек с лягушачьей камуфляжной раскраской. За ними густо шли эсэсовцы.
— Не менее роты, — сказал Декур.
— Давайте лучше посмотрим базар в Коканде. Или вот — «Коммунальная квартира». О чем это?
— Забыл. Школьные знания быстро забываются. — Гектор смутился.
— А играм учат в школе?
— Не совсем так. Школа и сама игра. Вернее, часть ее. Игра шире. Ведь игра — это жизнь.
— Возможно, вы правы, — сказал Пьер.
— А знаете, как называлась моя начальная школьная игра? «Розовый оболтус». — Гектор от души хохотнул. — В средней школе я играл в «Чуффетино», а вот высшая называлась вполне серьезно: «Пилигрим с Альтаира». Нас учили этике общения с пришельцами. Ох и весело же мы играли! И знаете, кто был отчаяннее всех, тот многого достиг. А кто смотрел в рот учителям и хватал пятерки, те оказались в сетях привычных, проверенных знаний, разучились спорить. А когда спохватились, хотели выпутаться — было поздно. У нас даже закон был, преследующий дидактиков, заглушающих творческие задатки малышей. Ну вот, однако, и базар. Заглянем, а там и в «Коммунальную», согласны?
Пьер кивнул. Они прошли ворота, выбеленные известью, и окунулись в цветную, громкую, жаркую круговерть. Кричали люди и ослы, пели нищие, с минарета плыл самозабвенный голос муэдзина. Горы груш истекали желтым соком, светилась покрытая белым пухом айва, бугристые комья винограда всех цветов — от янтарного до сине-черного — нежно тяжелели в тазах. Маленькими египетскими пирамидами громоздились курага и урюк, барханам изюма, арахиса, грецких орехов не было конца. Торговцы в тюбетейках и стеганых халатах, перехваченных пестрыми треугольными косынками, тягуче покрикивали, таскали бесконечные корзины, а чаще, скрестив ноги в благодатной тени просторного навеса, неспешно тянули чай из надтреснутых пиал, Пьеру захотелось пить, но Гектор, предупреждая его желание, уже вел его к чайханщику. Коричневолицый старик в грязной чалме щепотью насылал чай в пузатый фаянсовый чайник с надбитым носиком, налил кипятку и, передавая напиток Гектору, глянул на них из-под бровей. Пьера поразила кроткая мудрая печаль его выпуклых глаз.
Гектор накрошил в тарелку белую лепешку, и они принялись за чай. Все вокруг было в движении, один осел как вкопанный стоял посредине площади. На осле сидел молодой человек с реденькой бородкой. Босые пятки его утопали в белой пыли. Он громко понукал животное, но то не желало двигаться. «Вот говорят, ишак — глупое создание, — весело выкрикивал молодой человек, — но этот ишак совсем не глуп, если не хочет уносить меня из ваших несравненных мест!» Толпа смехом встречала каждое его слово.
— Ну как, хорошо передана атмосфера? — спросил Гектор, когда они покидали базар.
— Я не знаток Востока, но впечатление ошеломляющее.
Гектор был доволен.
— А какую помощь вы оказали бы нам, сделав замечания по играм, вам близким. Представляете, как драгоценна критика очевидца, скажем, того же движения Сопротивления для постановщика игры?
…Дятлов отбросил ненужный пистолет и тяжело опустил руки. Они приближались не спеша. У одного — лицо молодое, румяное, с рыжей щетиной. Другой — постарше, побледнее, в очках. Дятлов стал различать слова.
— Ты посмотри на него, — говорил молодой, — какая бандитская рожа. Такого и брать не хочу. Шлепну, и все.
— Давай, Фриц, давай, — улыбаясь, ответил бледный.
Молодой немец поднял автомат.
«Надо же — Фриц. Имя-то какое — нарицательное», — подумал Дятлов. Он сжал зубы, каменея желваками щек.
— Господа! — раздался вдруг звучный голос.
Дятлов вскинул веки. Немцы непроизвольно оглянулись. В десяти шагах позади них стоял д'Арильи.
— Падайте, Базиль! — закричал он.
Автомат в его руках затрясся.
— Откуда вы? — спросил изумленный Дятлов, когда стрельба смолкла. Почему вы не в штабе?
— Потом, потом, — бормотал француз. — Надо уходить, немцы рядом.
Они подобрали автоматы убитых и быстро зашагали к отряду.
— До Эрнье я так и не дошел. Возвращался к вам и…
— Понятно. Но зачем вы крикнули «господа»?
— Не могу стрелять в спину, — сказал д'Арильи.
Вечером Пьер развел маленький костер. Декур раздобыл бутыль сидра и, наливая Дятлову, сказал:
— Базиль, я слышал о твоем чудесном спасении. За тебя!
— Ну нет, — возразил Дятлов. — За рыцаря д'Арильи! Вот кто был сегодня на высоте.
И Пьер уже во второй раз выслушал во всех подробностях историю о том, как потомок графа де Круа спас потомка крепостных князя Юсупова.
— Это судьба. Дятлов, — сказал д'Арильи. Красный свет причудливо играл на его длинном лице. — Амор фати.
Дятлов хмыкнул, потом спросил:
— Ницше?
— Да, Ницше, Шпенглер.
— Фашистская философия.
— Бросьте, Базиль. Эта ваша склонность к хлестким эпитетам. Они неприложимы к большим мыслителям.
— К Ницше — может быть. Но Шпенглер — это уже полный распад.
— Шпенглер предельно честен: он предчувствует распад Европы и пишет о нем.
— И вы верите в это, д'Арильи?
— Это факт. У нас нет будущего, Базиль.
— За что же вы тогда сражаетесь?
Француз пожал плечами.
— Ах да, вы уже говорили. Так вы цените Шпенглера за честность?
— Несомненно. Кроме того, он тонкий мыслитель и блестящий стилист.
— Но разве не стал он идеологом немецкого фашизма? И не говорите мне, что я смешиваю нацизм с немецкой культурой. Та борозда, которую распахал Освальд Шпенглер, очень удобна для прорастания нацистских идей: судьба, противостоящая причинности, общность крови, инстинкт мужчины-солдата, этика хищного зверя…
— О, вы знаток, — сказал д'Арильи.
— Кстати, наиболее интересное, что у него есть — идею замкнутых, умирающих культур, — Шпенглер заимствовал у Данилевского. Так что напрасно он считал себя Коперником истории.
— Данилевский? Никогда не слышал такого имени.
— Данилевский писал о подобных вещах еще в прошлом веке.
— Я думал, вы физик, Дятлов, а вы, оказывается, философ.
— Я всю жизнь занимался проблемой будущего, — ответил Дятлов, — а это и физика, и философия. Шпенглер назвал дату смерти Европы — 2000 год. Меня интересуют другие сроки. Я хочу знать, что будет через тысячу лет. Более того, я хочу увидеть это собственными глазами. И я думаю, мое желание выполнимо.
— Вы, русские, большие оптимисты, — сказал д'Арильи.
Они стояли перед высоким угрюмым домом.
— Нам сюда. — Гектор толкнул тяжелую створку.
На лестнице было сумрачно. Пахло кошками. Сквозь пыльные окна с остатками витражей пробивался серый свет. Они поднялись на третий этаж и остановились у облупленной бурой двери, край которой был густо усыпан кнопками. Гектор долго изучал подписи под кнопками, потом нажал на одну четыре раза. Никто не открывал. Гектор помешкал и нажал еще раз. В недрах квартиры что-то пискнуло, дверь дрогнула и отворилась. Седая полная дама в халате с красными драконами молча смотрела на них.
— Мы к Николаю Ивановичу, — робко сказал Гектор.
Дама посторонилась. Гектор и Пьер вошли в пахнущий керосином и капустой полумрак. Пока они искали дорогу в темных закоулках, Пьер дважды стукнулся о сундуки, запутался в сыром белье и сбил плечом велосипедную раму. Жилье Николая Ивановича — узкая непомерно длинная комната с высоченным потолком — оказалось в конце сложной сети коридоров. Хозяин сидел у единственного окна за столом, рабочим и обеденным одновременно. На углу его стыл стакан бледного чая. Меж грудами книг и стопками исписанных листков голубоватой бумаги выглядывали кусок затвердевшего сыра, банка с остатками варенья, плетеная тарелочка с растерзанным хлебом. Бритый человек в круглых железных очках близоруко сощурился, протягивая мягкую сильную руку.
Выслушав историю Пьера, Николай Иванович задумался. Гектор и Пьер сидели на шатких стульях, а хозяин, стоя у стола, рассеянно ворошил бумаги. За стеной плакал ребенок. «Несчастье ты мое», — явственно произнес высокий женский голос. Грянули в дверь, раздался зловещий крик: «К телефону!» Пьер вздрогнул.
— Простите, — сказал Николай Иванович, выходя.
Вернувшись через пять минут, он сконфуженно объяснил:
— Домоуправ. Просит, чудак, чтобы я жильцам лекцию прочитал. О международном положении. — Он сокрушенно махнул рукой, забарабанил по столу. Потом воскликнул: — Что ж это я! Сейчас чай поставлю. Вот у меня и повидло…
— Нет, нет, спасибо. Мы только что из чайханы, — сказал Гектор.
— Ах так, — пробормотал Николай Иванович. — Ну а Харилай? Харилай что вам сказал?
— Он предлагает собрать Всемирный Совет.
— И правильно! — обрадовался Николай Иванович. — Вот и я так считаю. А вы, вы-то сами как думаете, голубчик?
Утром явился связной от соседей справа и сказал Дятлову, что они отходят на юг и через десять — пятнадцать минут с их стороны надо ждать немецкие танки.
— Мы перехватили радиограмму бошей: они собираются отрезать нас от Дрома. Речь шла о десанте.
— Похоже, только мы мешаем немцам замкнуть кольцо, — сказал Дятлов Декуру, когда связной ушел. — Пройдите по траншеям, Жак. Поговорите с ребятами. Сейчас будет… Да что там, сами знаете.
Декур исчез.
— Базиль, — сказал вдруг Пьер, — что вы тогда говорили про будущее?
— Тебе не хотелось бы слетать на тысячу лет вперед, малыш? В гости.
— Сказки, Базиль.
— Вовсе нет. Ладно, мы еще потолкуем об этом. А сейчас… — Дятлов обернулся к д'Арильи, — уходите, право. Эрвье вас ждет.
— Подождет.
Д'Арильи остался. И был убит в самом начале боя. Тихо скользнул по стенке траншеи и сложился на дне, устроив голову на горке пустых пулеметных лент.
А когда немцев отбили, пришел Буше.
— Представь себе число песчинок на этом берегу. — Широкое движение руки над охристой уходящей вдаль полосой, и взгляд Пьера послушно оторвался от нежной зелени миртовой рощи, следуя за приглашающим жестом. — Число капель в этом море. Представь себе пустоту. Всякая мысль есть мысль о чем-то. Чтобы мысли рождались и жили…
Волны мерно ударяли в берег, на секунду возникала и таяла белая молния пены.
— Мыслимые же формы суть идеи, сущности вещей. Идеи блага, истины, красоты — это сущие реальности, но они бестелесны, мир их совершенен и вечен. — Курчавый бородач в белом хитоне светлыми глазами смотрел на Пьера.
«Суть, сущие, сущности». Пьер потерянно моргал.
— Не люди ли придумали эти идеи, Платон? А ведь люди не вечны, — сказал юноша с широким гладким лицом.
— Я отвечу тебе так, Харитон. Души вещей живут до своих жалких воплощений, наряду с ними и после них. А людям, — Платон поднял палец, свойственно стремление обратить свою смертную природу в бессмертную и вечную, идеальную. Что есть счастье, свобода, жизнь человека в сравнении с государством, то есть идеей человеческого сообщества!
На всхолмии под высоким синим небом стоял беломраморный храм. Шесть кариатид западного портика смотрели в море, второй портик легкой ионической колоннадой открывался им навстречу.
За спинами учеников мелькнула голубая туника Елены. Она перехватила взгляд Пьера и подошла.
— Вам не нравится?
— Что вы, напротив, — сказал он. — Где мы?
— В Пирее, — прошептала она.
— А мне показалось…
— Да ты меня не слушаешь! — загремел философ, но сразу же смягчился. — Ты, видно, утомлен дорогой, и мысли твои рассеяны. Я понимаю твое нетерпение: попасть сюда в пору жатвы в год великих Панафиней и пропустить облачение Паллады в пеплос — это невозвратимая потеря. Ступай же, не теряй времени.
Толпа учеников двинулась вслед за Платоном к храму, оставив Пьера с девушкой на развилке дорог. Он снова взглянул на портик, перед глазами встала картинка из школьного учебника.
— Ведь это Эрехтейон?
— Да, — сказала Елена.
— Так он ведь в Афинах. А вы сказали, мы в Пирее.
— Какой вы, право, педант. Это во Второй зоне, где властвует Кукс, там все до ниточки, до последнего гвоздика… У нас проще. Разве этот холм над морем не лучшее место для такого храма? Идемте скорее, а то мы пропустим самое интересное.
Процессию они догнали через полчаса. Ладья с желтым флагом колыхалась на плечах мужчин в складчатых хитонах. За ними, оглашая воздух ревом и блеянием, шли коровы и козы с вызолоченными рогами, гонимые юношами и девушками под жертвенный нож.
— А почему все смотрят на этот желтый флаг? — спросил Пьер.
— Перед вами тот самый пеплос — знаменитый плащ, в который облекают Афину каждые четыре года. Лучшие вышивальщицы города трудились над ним, изображая сцены гигантомахии: Геракла с натянутым луком, саму Афину, придавившую Сицилией могучего Энкелада…
В этот момент из рядов гоплитов, топающих по свежим коровьим блинам, вышел стройный воин и, раздвинув толпу зевак, радостно бросился к Пьеру.
— Дружище, наконец-то я вас нашел! — закричал он, швыряя на землю шлем с конской гривой и прочие медные предметы. — Дать себя увести моему конкуренту! Меня же лишат премиальных, посадят на гауптвахту, отлучат от церкви и сошлют на галеры. Ну Елена, ну лань Керинейская, — говорил он уже девушке, глядя на нее с восхищением.
— Нечего возмущаться, Гектор. Забыл, как в прошлом сезоне умыкнули у нас ганимедянина? А Пьеру у нас понравилось. Платон его, правда, чуть не усыпил…
— Говорил, что ни в грош не ставит человека, когда речь идет о благе человечества? — Гектор улыбнулся Пьеру.
— Я не уверен, что правильно понял. Я немного запутался, пока слушал, — сказал Пьер.
— Еще бы! Когда мы вернемся, я сведу вас в Скотопригоньевск. Там Иван Карамазов в два счета докажет вам, что все обстоит как раз наоборот.
— Опять в российские снега? — сказала Елена. — А меня вчера звали в Четвертую зону. Там скачут на мустангах по красной степи, плывут по большой реке на колесных пароходах и поют спиричуэлы. Не хотите?
— В другой раз. А сейчас мне надо сообщить Пьеру нечто важное.
Уже отойдя на порядочное расстояние, они услышали голос Елены:
— Эй, шлемоблещущий Гектор великий! Захвати свои железки, их надо сдать в костюмерную!
— Итак, Пьер, завтра первое заседание Всемирного Совета, — весело объявил Гектор. — Я должен познакомить вас с Кубилаем. Это режиссер, которому поручено подготовить вашу роль на Совете. Вечерком вы немного порепетируете…
— Вы с ума сошли, Гектор. Какой режиссер? Какая роль? Нет, меня вы играть не заставите. Я должен паясничать, не будучи даже уверен, что вы мне поможете? Неужели нельзя прямо ответить, спасете вы мою дочь или нет. Скажете нет, я сяду в свою машину и уеду. Не знаю, правда, куда попаду, но вам что до этого. Вы пока сыграете во что-нибудь веселое. В инквизицию, в Бухенвальд, например.
— Ну-ну, Пьер. Успокойтесь. Уехать вам так просто все равно не дадут. Подумали вы о том, что, свалившись невесть откуда в наше время, нанесли, мягко выражаясь, чувствительный щелчок по нашим причинным цепям? Подготовительная комиссия Совета гудит, как тысяча муравейников. Полеты во времени допустимы только с причинными компенсаторами. Но ваш-то, простите, драндулет ими не снабжен. Он, кстати, вообще больше не способен работать. Так что прекратите бунтовать. — Гектор ласково улыбнулся.
Пьер подавленно молчал.
— Да будет вам! Не отчаивайтесь. Все не так скверно. Соберется Совет, потом другой. Люди там головастые, режиссеры толковые. Придумают что-нибудь. А сейчас пойдемте к Кубилаю. Очень приятный человек, талантливый.
Знакомиться пришлось на каком-то банкете. Люди, шум. Невысокий юноша с нежно-зеленой косынкой вокруг хрупкой шеи застенчиво посмотрел на Пьера сквозь дымчатые очки, пробормотал что-то, отведя взгляд, и сделал попытку скрыться.
— Кубик, Кубик, — сказал Гектор, ловя его за руку, — как вам не стыдно. У нашего гостя трудная роль на завтрашнем Совете, а вы…
— А что я, я горжусь, — начал Кубилай, овладевая собой. — Я горжусь столь сложной и лестной задачей. — И продолжал рассыпчатым тенором: — Несомненно, мы будем много и плодотворно трудиться. Мы создадим нечто новое, глубокое, своеобычное, волнительное. Мы высекем… нет, высечем искру подлинного искусства…
Пьер потерянно смотрел на юношу, который все больше распалялся. Узкий пиджак режиссера распахнулся, щеки горели.
— Дорогой Пьер! Вы будете играть себя в предлагаемых обстоятельствах. Я вижу это! — Кубилай подхватил бокал пенящегося вина с проплывавшего мимо подноса. — Позвольте провозгласить тост. Позвольте выразить те чувства искренней любви, которые я испытываю к вам. Вы… вы… Вот. — Он восторженно схватил руку Пьера и прижал ее к сердцу. Из-под дымчатых очков выкатилась слезинка. — Мы с вами будем играть на пичико-пичико, Пьер. За наши взаимоотношения! — Кубилай залпом осушил бокал, отбросил его протяжным движением и вдруг рухнул на колено, придавив растопыренной ладошкой орхидею в петлице.
После того как Пфлаум десантировал в самое сердце Веркора батальон парашютистов, положение стало безнадежным. Черный от горя и усталости. Дятлов послал Пьера — рацию разнесло осколком в руках Декура — сообщить Эрвье, что отряда больше не существует и с наступлением ночи он отправит оставшихся в живых полтора десятка бойцов во главе с Декуром на юг с приказом пробираться к Марселю, навстречу союзникам.
Эрвье кивнул Пьеру и продолжал диктовать Клеману радиограмму в Алжир. Она оказалась последней вестью из Веркора.
— Немецкая авиация бомбит Сен-Мартен, Васье, Ла-Шанель. Четыре часа назад с планеров десантирован батальон СС. Требуем немедленной поддержки с воздуха. Обещали держаться три недели, держимся полтора месяца. Если не примете срочных мер, мы согласимся с мнением, что в Лондоне и Алжире вовсе не представляют себе обстановки, в которой мы находимся, и будем считать вас преступниками и трусами…
Клеман поднял голову и вопросительно посмотрел на Эрвье.
— Да, преступниками и трусами. Передайте последнюю фразу дважды.
Помощь Веркору так и не пришла. Радиограмма слишком долго плутала по коридорам ведомства Сустеля, прежде чем попасть к де Голлю и его министру авиации Фернану Гренье.
Выслушав Пьера, Эрвье сказал:
— Передай Дятлову, его решение я поддерживаю. Пусть и сам уходит с остатками отряда.
Пьер вернулся в сумерках и увидел большое неловкое тело и лицо, такое же хмурое и сосредоточенное, как у живого Базиля.
— Пуля пробила горло, он не мог говорить. Только написал. — Декур вынул из планшета карту. На обратной стороне крупные буквы складывались в кривую строку: «Тетрадь Пьеру. Бланш… кю…»
— Какая тетрадь?
— Вот. — Жак подал Пьеру потрепанный коричневый блокнот в коленкоре. — Возьми.
Совсем стемнело. Холмик над могилой растаял. Декур выстроил отряд, а Пьер все сидел на теплом еще валуне.
— Ты чего? — подошел к нему Жак. — Пора, до реки двадцать километров.
— Вы идите, Жак. Я, пожалуй, останусь.
— Бланш?
Пьер кивнул.
Первое заседание Совета состоялось в замке Лонгибур. Председательствовал барон Жиль де Фор. Общее руководство постановкой осуществлял главный режиссер Второй зоны Третьего вилайета Реджинальд Кукс. Взаимодействие с подсоветами всех зон обеспечивал первый помреж Аристарх Георгиевич Непомнящий.
Обстановка напоминала Пьеру его первое посещение замка — стрельчатые окна, геральдические знаки, пышно разряженная толпа. Были, однако, отличия. Не горели смолистые чадящие факелы. Прекрасный рассеянный свет стекал из-под высоких сводов, падая на причудливые одежды членов Совета и зрителей: легкие туники, пестрые майки, шляпы самых диковинных форм. Председатель светился вдруг помолодевшим лицом. Вместо тяжелой кожи и тусклого металла он был облачен в белоснежный китель с пуговицами из сверкающих камней. Пьера тоже переодели. Кубилай нашел, что его куртка никак не соответствует духу роли. Вот почему Пьера обрядили в корявые кирзовые сапоги, темно-синий прорезиненный плащ и солидных размеров кепку из ткани «букле». Шею его укутали пестрым шарфом с болтающимися у колен кистями. На переносице угнездились черепаховые очки.
Звякнув позеленевшим колокольчиком, Жиль де Фор открыл заседание. Поднялся аббат Бийон, теребя пушок на щеках.
— Братцы, — начал он доверительно, — сестрички мои, давайте еще раз сердечно поприветствуем отважного Пьера Мерсье, храбро пронзившего пятисотлетний слой тягучего лежалого времени, чтобы привезти нам живое дыхание уже изрядно подзабытого нами двадцатого века.
Аббат повел глазами и слабо хлопнул в ладоши. В тот же миг зал наполнился гвалтом. О! А! Ы! У! Ура! Колыхались туники, взлетали шляпы. Члены Совета вскакивали на кресла и пускались в пляс. Почтенный старец в черном балахоне и белом жабо академика достал карманную чернильницу и в припадке восторга опрокинул ее на лысую яйцеобразную голову соседа. Тот немедленно принялся размазывать чернила по унылому лицу.
— Брат Цукерторт, — сказал академику джентльмен в узких полосатых штанах, укоризненно качая головой, — я вынужден буду сообщить ректору о ваших чудачествах.
Пьер безучастно смотрел на буйствовавший Совет. Ему хотелось размотать шарф и снять кепку, но Кубилай, предупреждая его движение, выглянул из-за колонны и погрозил пальцем. Пьер отвернулся и увидел Полину и ту, курносую, он забыл ее имя. Они восхищенно смотрели на него и яростно хлопали. Поневоле; Пьер улыбнулся.
— Что ни говорите, — продолжал аббат Бийон, когда шум поутих, — а мы уже ощущаем свежее, очистительное действие этого необычного визита. Прибытие дорогого гостя наполнило нашу жизнь новыми впечатлениями. Заработала фантазия, распустился букет невиданных доселе эмоций. Все это очень отрадно. Весьма… Но есть, однако, и некоторые закавыки. Я знаю, например, что представители научных игр поставлены этим визитом в тупик. Хотелось бы их послушать.
Бийон присвистнул и резко опустился в кресло.
Жиль де Фор предоставил слово академику Дрожжи.
— Друзья мои, — задребезжал старик с залитым чернилами теменем, — должен вам сообщить, что прилет этого обаятельного юноши никак не был предусмотрен нашими историческими программами и явился для нас полной неожиданностью. Причинная сеть испытала сильный удар. На компенсацию пришлось бросить четыре фундаментальные игры и одну субигру космологического ранга. С известным трудом мы выравняли положение, и сейчас я могу доложить высокому Совету, что все причинно-космические игры проходят в запланированных лимитах. Более того, мы приобрели ценный опыт, за что приносим благодарность этому милому молодому человеку по имени…
— Пьер Мерсье, — подсказал председатель.
— Да, да, — обрадовался старик. — Но вот вопрос: как быть дальше?
— А вот как! — В центр зала выкатился краснощекий толстяк, потрясая картонной папкой, в которой Пьер узнал историю болезни Люс. — Девочка больна. Мы даем папаше это, — он взметнул вверх пухлую руку с розовой облаткой, зажатой между большим и указательным пальцами, — и… Тра-ля-ля, сажаем папашу в его машину и… Тру-лю-лю, фьить! — И, напевая па-де-де из «Лебединого озера», он запрыгал на одной ножке, изящно помахивая рукой с красной картонной папкой.
Подскакав к Пьеру, толстяк сделал ему «козу», пощупал пульс и двумя пальцами оттянул нижние веки.
— Скажите, любезнейший, «а-а-а», — потребовал он.
Пьер обалдело раскрыл рот.
— Прескверный язык! Мы и вас, батенька, подлечим. Да, да. Три дня игры в «Осенний госпиталь», а тогда уже — тру-лю-лю, фьить. — И толстяк исчез, послав Пьеру воздушный поцелуй.
Потрясенный простотой решения, предложенного доктором, Пьер дальнейшие выступления понимал смутно, однако у него сложилось впечатление, что идея толстяка не всем пришлась по вкусу. Тоскливое чувство стало разливаться в сердце. Из-за колонны снова выглянул Кубилай и громко зашептал:
— Ярче, ярче играйте растерянность!
Ощущение пустоты и обреченности овладело Пьером, когда он увидел обугленный остов дома старухи Тибо. Баланс вымер; на его жителях срывали злость десантники Пфлаума, ворвавшиеся в городок по трупам защитников. Они жгли, стреляли, кололи, давили. Могла ли уцелеть в этом аду шестидесятилетняя женщина с грудным младенцем? Пьер добирался до Баланса неделю. За это время оставшиеся в живых макизары оставили Веркор, просочились на юго-запад и соединились с партизанами, освобождавшими Монпелье. Немцы, расстреляв более тысячи защитников Веркора, двигались к Тулону, навстречу американскому десанту.
Кто-то тронул Пьера за рукав.
— Кого-нибудь ищете, мсье?
— Здесь жила вдова Тибо. Вы ничего не знаете о ней?
— Мадам Тибо погибла в первый же день, когда боши вошли в город. — Говоривший оказался сутуловатым стариком. Правый пустой рукав серого пиджака приколот булавкой к карману. В левой руке сигарета. — Вы разрешите? — Он потянулся к тлеющей сигарете Пьера, прикурил. — Она ваша родственница?
— Да нет.
«Почему он ничего не сказал о ребенке?» — лихорадочно соображал Пьер, глядя в прищуренные от дыма глаза старика.
— Вот и я смотрю, откуда бы у мадам Тибо взялся такой молодой родственник. Ведь она вообще осталась одна, когда ее дочь ушла к русскому пленному. Он тут появлялся недавно, хотел отдать ей ребенка — их дочь, как он сказал. Но старуха взвилась! Знать, говорит, ничего не хочу. Пусть, говорит. Колет сама придет да на коленях у меня прощения просит, тогда, говорит, подумаю.
— Ну потом-то взяла, наверно? — голос Пьера неестественно зазвенел. — Внучка ведь.
— Плохо вы знали старуху Тибо, молодой человек. Если она что сказала, то как отрезала. Муж ее покойный, Жан Тибо, говаривал…
— И что же он, этот русский, так и ушел с ребенком?
— Жена нашего кюре взяла девочку к себе. Уж так он ее благодарил, так благодарил.
— И где она сейчас? У кюре?
— Кюре нашего расстреляли. А девочка осталась у его жены, мадам Бетанкур. Утром я их видел. Нас всего-то здесь осталось человек тридцать. В доме кюре сохранился радиоприемник. Мы слушаем. Американцы уже в Монтелимаре. Через день-два будут здесь.
— Извините, вы не покажете мне, где дом кюре?
— Покажу и провожу, молодой человек. Так вас, стало быть, интересует не старуха Тибо, а ее внучка? Что? Вы не расположены говорить. Напрасно. Сейчас-то как раз нужно говорить. Как можно больше. Мы столько лет молчали, знаете, или говорили шепотом. Я устал молчать, молодой человек. Хочется кричать о том, что было. Здесь, в Балансе. Здесь, во Франции. Здесь, в этом мире. Когда кричишь, начинает казаться, что это не страшно. Не так страшно, как когда молчишь. Или когда шепчешь. Мы и говорим, наверно, чтобы отогнать страх. А храбрецы молчат. Вы храбрец, мсье.
Увидев стройную тонконогую женщину лет сорока, пеленавшую ребенка, Пьер понял, что забирать Бланш — безумие. Но и оставить дочь Базиля он не мог. И Пьер остался. Три года он прожил рядом с мадам Бетанкур и Бланш, помогая им, чем мог, а когда в 1947 году вдова кюре скончалась от сердечного приступа, уехал с девочкой в Париж поступать в университет. В Веркоре осталась его юность, его боль и две дорогие ему могилы — Василия Дятлова и Люс Бетанкур.
Мяч в последний раз стукнулся о машину и отскочил в кусты. Цыплячья шея Харилая торчала из черной судейской фуфайки. Он достал свисток и трижды озабоченно свистнул.
— Продолжаем заседание!
Пока члены Совета гоняли мяч, Пьер скромно стоял на краю поляны. Был теплый день. Хорошо, Кубилай пошел на уступки: отменил шарф и очки. Правда, тут же сунул Пьеру холщовую торбу с бородатой рожей на одной стороне и кудлатой певицей на другой.
— Цукерторт, на кого вы похожи! Заправьте футболку, — сказал Харилай и, встав на широкий пень, призвал собравшихся к энергичному и деловому обсуждению проблемы.
Истерический выкрик прервал председателя. Какая-то женщина бросилась к Пьеру:
— Долой! Долой фальшивую радость! Долой проклятые игры! Долой режиссеров! Судью на мыло!
Она сорвала с головы парик. Потом еще один. Еще. «Сколько их у нее?» — изумился Пьер. Два крепких молодца подхватили кричавшую под руки. В одно мгновение они скрылись за деревьями.
— Талантливо сыгран стихийный протест, не правда ли? — спросил очутившийся рядом Гектор.
— Боже мой! — прошептал Пьер. — Она играла?
— Конечно. Такова ее роль.
— А эти, которые ее увели?
— У них своя роль, — терпеливо разъяснил Гектор.
Председатель снова овладел вниманием собрания.
— Итак, я предлагаю высказаться главному техническому эксперту инженеру Калимаху.
— Тот факт, — решительно заговорил Калимах, — что этот аппарат сработал, находится в вопиющем противоречии с наукой. — Инженер обернулся к Пьеру. — Сей сундук на гусеничном ходу мог закинуть вас черт знает куда, мог разрезать пополам — половину бросить в двадцать третий век, а другую в двадцать седьмой. Он мог вообще растащить вас по атомам — на каждую секунду по атому. Вы, дорогой мой, вытянули один шанс из миллиарда.
Пьер виновато улыбнулся.
— Вы сами это построили? — Инженер небрежно кивнул на машину.
— Не совсем, — сказал Пьер. — Это длинная история. Идею машины выносил один человек. Василий Дятлов. Но построить ее он не успел. Дятлов погиб. Перед смертью он передал мне свои записи. Потом я с двумя друзьями… — Он замялся.
— Расскажите подробно, — потребовал председатель, — это интересно.
Как быстро Париж стал прежним, довоенным Парижем. Только чуть сосредоточенней. Только куда голоднее — двести граммов хлеба в день. Из них половину он отдавал Бланш. Но без Шалона и Дю Нуи было бы совсем тяжко. Когда после занятий он забегал за девочкой и вел ее в Люксембургский сад, увалень Шалон встречал их, случайно, конечно, как он всегда подчеркивал, либо у входа, либо на главной аллее и тащил за собой, бормоча:
— Тут, понимаешь, Альбер оказался… У него новая девушка. Он хочет ее показать тебе.
Или:
— У Альбера сегодня праздник. Он расстался с Жюли и хочет нас угостить.
Альбер Дю Нуи встречал Бланш безупречным поклоном, сверкал зубами и пробором, сажал ее на плетеный стул и грозно кричал:
— Самую большую чашку кофе со сливками и самое вкусное пирожное доля мадемуазели!
Когда Пьер намекал, что ему неловко, Дю Нуи говорил:
— Оставь свою пролетарскую заносчивость. Считай, что ты экспроприируешь моего отца.
К выпуску стало ясно, что сближает эту троицу многое. Лидером незаметно стал Шалон. Он увлек их в организацию Ива Фаржа. А когда Пьер показал ему тетрадь Дятлова, Шалон сказал, что отныне ему понятно, зачем он живет, а также зачем живут они — Пьер Мерсье и Альбер Дю Нуи. Смысл этот явствовал из такого сообщения:
— Ну что ж, это… Ясное дело, а? И вообще…
Они работали. Бланш росла. И когда в апреле 1961 года мир с восхищением встречал Гагарина, Бланш стукнуло семнадцать лет, Шалон написал последнее уравнение, а Пьер и Альбер расшифровали последние расчеты вычислительного центра компании «Дю Нуи и сын». Стало очевидным: идея Дятлова не блеф. Время не более властно над человеком, чем пространство.
Как они ликовали! Альбер привез ящик шампанского, Пьер позвонил Бланш, чтобы она приезжала на виллу Дю Нуи, где они обычно работали, Шалон приволок старика Гастона, садовника. Они пировали всю ночь и решили отдохнуть недели две, а потом уже взяться за постройку самой машины. Тогда казалось, еще немного, ну, скажем, год, и… Кто знал, что от цели их отделяют семь мучительных лет.
Отдыхать они все вместе поехали в Сен-Мартен. Пьер любил горы, и потом он хотел показать Бланш могилу ее отца. Он провез их по знакомым местам, рассказал о Дятлове, д'Арильи, Декуре и обо всех-всех. В Балансе они зашли в дом, где когда-то жил кюре, и Бланш вспомнила этот дом и его хозяйку, Люс Бетанкур. За ними увязался парнишка с велосипедом. Он влюбился в Бланш сразу, бесповоротно. Водил ее в кино, на танцы. Потом аккуратно доставлял в кабачок, где Пьер с Шалоном и Дю Нуи сиживали по вечерам в блаженном безделье. Накануне их отъезда он подошел к Пьеру и звонким голосом попросил руки Бланш.
— Ну, а она, что она тебе сказала? — спросил Пьер.
— Она велела подойти к вам, мсье, и сказала, что сделает так, как вы сочтете нужным.
— Сочту нужным? — Пьер опешил.
У Бланш и раньше были приятели, но она расправлялась с ними без его помощи. «Может, она влюбилась в мальчишку? — подумал Пьер. — Он симпатичный, простой. Смотрит на нее с обожанием».
— Вот что, дружок, зови-ка сюда Бланш. Я сочту нужным всыпать ей как следует, чтобы она не морочила голову такому славному юноше.
Бланш появилась только поздно вечером.
— Что за фокусы? — спросил Пьер тоном скрипучего папаши. — Зачем ты мучаешь бедного парня?
— А что ты ему ответил?
— Обещал отстегать тебя крапивой.
— Что ж, приступай.
Тут только до Пьера начало доходить, что Бланш, возможно, и впрямь влюбилась. Что ей уже семнадцать. Что в последние месяцы он почти не разговаривал с ней серьезно, считая ребенком, а она… Она ведь скоро уйдет. Не с этим, так с другим.
— Ты стала совсем взрослой, дочка. Если он так тебе нравится, я не буду возражать, я…
И тут что-то произошло. Бланш билась в рыданиях и выкрикивала горькие упреки:
— Ты хочешь избавиться от меня. Ты обрадовался… Хорошо, я уйду. Ты никогда, никогда меня не любил. А я… Я всегда мечтала, что ты будешь приезжать от Дю Нуи и Шалона домой, и я буду… — Бланш плакала неудержимо, как ребенок. — И не смей называть меня дочкой! Ты мне не отец. Я никогда не считала тебя отцом! Ты — Пьер. Мой Пьер. Ты был моим Пьером. А теперь…
Они вернулись в Париж и скоро поженились. А через два года Бланш умерла от родов. Дочку Пьер назвал Люс, в память госпожи Бетанкур, спасшей ее мать.
Игре в Совет не было конца. Какие декорации! Версальский регулярный парк и тучные колонны египетских храмов, шатры Тамерлана из белого войлока и зал заседаний ООН, ночлежка из пьесы Горького и кают-компания ракеты Земля — Альтаир. За всем шутовством Пьер с трудом улавливал ход дела. Обдирая шелуху лицедейства с речей и реплик, вопросов и заявлений, аргументов и возражений, исходящих то от упакованных во фраки дипломатов, то из уст трясущих кружевами вельмож, а то и услышанных в бормотании шамана догонов, когда отблески ритуальных костров ложились на маслянистое зеркало Нигера, Пьер пытался удержать в памяти суть того, что произошло на последних заседаниях, то бишь в предшествующих актах, картинах, сценах и явлениях.
— В хрониках не отмечен факт создания машины времени в двадцатом веке, — назидательно поднимал палец худой мужчина со скучным взором, явившийся на Совет в калошах и пальто на вате. — Теоретические работы группы Шалона при «Эколь Нормаль» быстро зашли в тупик и сейчас представляют интерес лишь для играющих в историю науки. Поэтому возвращать туда, в двадцатый век сей агрегат весьма опасно, чревато, я бы сказал… Как бы чего не вышло. И вообще, перемещения во времени с момента узаконенного введения таковых в обиход подвержены были и есть строжайшей регламентации соответствующим Уложением, какового Уложения параграфы 76 и 144 недвусмысленно полагают невозможным…
Пьер потерял мысль, но Гектор перевел ему, что оратор указал на нежелательность возвращения Пьера и машины в двадцатый век, поскольку это может перекроить всю историю, в то время как появление его, Пьера, в их времени теперь уже вполне безопасно, а стало быть, он может оставаться здесь как угодно долго.
— А закон статистического подавления мелких возмущений? — ехидно бросил на ходу ловкий усач в оперенном берете. — Отпустить его, без машины конечно, а девчонку — вылечить. Пусть ее, чего там, — и ускакал, нахлестывая вороную лошадь.
— Предлагаемое деяние означало бы непозволительное вмешательство в ход исторического процесса, — бубнил тот, в калошах, поглаживая зачехленный зонтик, — а потому считаю своим долгом предостеречь. Быть надлежит предельно осторожным, а вы, сударь, — он повел головой в сторону исчезнувшего всадника, — манкируете, да-да.
— Но раз история не сохранила факта создания машины в двадцатом веке, стало быть, следы ее были уничтожены, что я и предлагаю сделать, оставив машину здесь и возвратив нашего гостя в его мир после небольшой процедуры, избавляющей его память от лишнего груза, — вставил Харилай. — А девочку, что ж, я думаю, девочку надо вылечить, а?
— Фи, не нравится мне эта ваша «небольшая процедура», Харилай. — Это говорил Николай Иванович. — Пьер, я уверен, даст слово, что прекратит работу над машиной. Правда, если он сам захочет подвергнуться…
— Чтобы избегнуть, так сказать, соблазна, — подхватил Харилай.
— Вот именно. А сам факт исцеления одной девочки не страшен по той же причине подавления мелких возмущений, — закончил Николай Иванович.
— Протестую! — не унимался владелец зонтика. — Почему из миллионов обреченных в этом суровом веке мы должны спасать одну, именно эту девочку?
— Что говорить об абстрактных миллионах! Добро всегда конкретно. Самый естественный поступок — вылечить девочку и вернуть ей отца, предоставив истории развиваться естественным путем.
— Но на естественном пути ребенок и должен погибнуть…
И так без конца.
Доктор сдержал слово, и Пьер провел несколько дней в «Осеннем госпитале»: кленовые листья, рябина, заморозки по ночам и слабый запах прели в парке, где молчаливо и печально стояли белые античные боги. Дважды его навещала Урсула. Они ходили по зябким аллеям, и Пьер чувствовал легкое головокружение. Прощаясь с ним после второй их встречи, она сказала:
— Ну вот, Пьер. Теперь вы никогда не будете болеть — в том смысле, который имеет слово «болезнь» в вашем веке.
Ночь после госпиталя ему выпало провести в бунгало южноафриканского магната. Широкая лежанка, застланная шкурами, деревянные маски над камином. Спать не хотелось. Пьер сидел в кресле, смотрел на огонь и вспоминал отсветы костра на лице Дятлова в последнюю его ночь, за несколько часов до того, как он послал Пьера в штаб с сообщением об отходе отряда.
— Что происходит, — говорил Дятлов, — когда глубину океанской впадины измеряют тросом? Рано или поздно трос обрывается под собственной тяжестью. То же происходит с причинными цепями. При очень большой длине они изнемогают и рвутся. И тогда новый мир становится независимым от старого. Это значит, что, улетев на тысячу лет вперед, можно встретить культуру, забывшую своих отцов, столкнуться с дикостью, каннибальством…
— Значит, д'Арильи прав? — спросил Пьер. — Нет смысла стараться ради будущего?
— Вовсе нет. Разрыв преемственности не фатален. Чтобы передать будущему эстафету разума, нужно просто хорошо строить. Не пирамиды — общественный порядок, противостоящий дикости. Но и слетать туда, к потомкам — тоже ведь очень заманчиво.
— Нам отправиться туда? Может, реальнее, ждать их к нам?
— Для этого нужна машина. Откуда взять машину им, если ее не сделаю я, ты, твой внук… Двигаться по времени запрещает причинный парадокс. Вот улетишь ты лет на сорок назад и отобьешь невесту у собственного дедушки. Как тогда родится твоя мать?
— Действительно, — пробормотал Пьер.
— К счастью, мы живем в вероятностном мире. Значит, можно лететь в такие далекие времена, где вероятность воздействия на причинную цепь, могущую парадоксально изменить наше время, ничтожна. Недавно я прикинул кое-что. Изолировать аппарат от причинного окружения впрямую невозможно такой энергии не сыскать во всем нашем мире. Но есть другой путь: не через барьер, а сквозь него. Энергии немного, а эффект! — Дятлов засмеялся, похлопал по вещевому мешку. — Здесь описан этот путь…
— Скажите, Гектор, когда наконец соберется последнее заседание? Боюсь вас обидеть, но эти игры, эти чудеса так далеки от меня. Проходит неделя за неделей, а там… Люс.
— Напрасно волнуетесь, дружище. Если Совет примет решение помочь вам, то вас вернут в тот же момент времени в прошлом, из которого вы отправились к нам. Но ваше раздражение, Пьер, оно необоснованно. Вот уже сто пятьдесят лет мы играем.
— Но ведь бывают минуты, когда вам не до игр? Бывают и здесь несчастья, утраты друзей, родных, любимых… И потом, простите мне высокопарность, но где же собственное лицо вашего времени? Один мой друг, знаток театра, говорил, что великий актер не имеет собственного лица, собственной души. Это и позволяет ему без остатка воплощаться в иной образ, в чужую душу, в другую жизнь. Но ведь это страшно — не иметь собственной души, своего лица…
— Что вы называете лицом времени?
— Ну, свою поэзию, свою философию, научные открытия, страсти, страдания — свои, не заимствованные у других эпох.
— Все это отлично вписывается в систему игр. Научные открытия? Так входят в роль, что заткнут за пояс Эйнштейна. Стихи? Так разыграются, что твой Байрон! Важно, чтобы режиссер и актеры были талантливы. Вспомните, ведь и в вашем веке жили великие актеры — разве их страдания на сцене не были прекрасны?
— Это так, но они потому и были прекрасны, что походили на жизнь. А у вас и жизни-то… нет. — Пьер испуганно взглянул на Гектора.
— Наш друг хотел сказать, — вмешался Харилай, — что трагедия необходимый компонент положительного развития общества. Но, милый Пьер, если игра стала нашей жизнью, разве жизнь стала от этого менее насыщенной? Менее полнокровной? Менее достойной? Напротив, каждый из нас проживает множество жизней, имеет столько судеб, сколько им сыграно ролей. Индивидуальность не страдает. У нас есть гениальные универсалы: Дубовской-Галстян был великолепен в образе Иосифа Прекрасного, вызывал слезы своим Борисом Годуновым, пять лет играл гарибальдийца, ранчеро с Дальнего Запада, космолетчика, поселенца на Обероне, да что там говорить… Все дело в умении отдаться игре. И она станет жизнью. Неотличимой от настоящей.
— Может быть, вы и правы, Харилай. Но мне не по себе, когда я думаю, что вы не игру сделали жизнью, а жизнь — игрой. Вот вы сказали, этот актер вызывал слезы. Значит, зрители плакали по-настоящему?
— Конечно же по-настоящему. Что может быть проще настоящих слез при игре в театр! Это умеет любой ребенок.
Последний акт разыгрывался в просторной избе на окраине села. По широким лавкам под тускло блестевшими окладами рассаживались, побрякивая шпорами ботфортов, задумчивый Харилай, оживленный Гектор, рассеянный Николай Иванович и еще человек пять-шесть — члены Совета, которых Пьер хорошо помнил по прошлым сценам. С печи на шитье мундиров таращились хозяйские дети, допущенные в избу. Сам же хозяин с прочими домочадцами был удален по этому случаю в сарай позади дома. Пьера усадили на трехногий стул у стены, откуда хорошо было видно всех. И вроде собрались начинать, да мешкал Харилай, пока не дождался еще одного: шумно дыша взошел в горницу на коротких пухлых ногах тучный старик в белой фуражке, один глаз закрыт черным шелком, другой смотрит сонно. Дверь прикрыл — и в угол, за печку, в складное кресло. Глаз рукой загородил и вроде дремать начал. Пьер почувствовал глухое раздражение. От привычного лицедейства веяло жутким холодом. Сейчас, в этой избе они решат. Чужие. Даже лучшие из них — Гектор, Харилай, Ина.
Он начал свою речь в ослеплении. На ощупь. Он не видел их.
— Я виноват перед вами, — говорил он, — я ворвался в ваше время, чем-то нарушил спокойное течение вашей жизни, ваш уклад, привычки. Простите. Правда, я летел с надеждой спасти самое дорогое мне существо, маленькую девочку, чья судьба затеряна для вас в безмерной толще прошлого. Я надеялся. И мне стыдно сознавать, что я стал жертвой собственного эгоизма, надумав решать свои проблемы с помощью других эпох, чужих, как мне теперь начинает казаться. Там, в прошлом, я думал, что мы должны помогать друг другу. Мы — вам, тем хотя бы, что стараемся сделать своих детей лучше, сделать вас лучше, ведь вы — наши дети. А вы могли бы помочь нам своей мудростью. Я верил, ваша мудрость и сила столь велики, что вы сможете помочь самозваному гостю из древней, страдающей, а в ваших глазах — просто мрачной эпохи. Помочь, несмотря на его личную незначительность, слабость. Однако мое самоуничижение кажется мне ошибочным. Глядя на вас, я начинаю понимать, что и опыт нашего времени бесценен. Он утрачен вами, это сделало вас другими, чужими…
Я смотрел на вашу жизнь и думал: да живете ли вы? Вы способны чувствовать боль, но боль эта не настоящая. Вы проливаете кровь, иной раз ручьями, но это шутейная кровь, одно из чудес хитроумной технологии. Вы изобрели новые слезы и муки, но это стерильные слезы, сделанные гением химии, они не оставляют следов-морщинок на безукоризненной коже. А муки так точно рассчитаны психологами, что превратились в род щекотки. Ха-ха, как больно, хи-хи, как печально, го-го, как тяжко… И вот я, ископаемое, подумал: не есть ли это чудовищный обман? Абсолютное равнодушие предельно сытых людей? И еще я подумал: боже мой, так вот какое будущее нас ожидает! Мы, напрягая все силы, боролись… нет, боремся в трудном, кровавом, жестоком, горящем нашем двадцатом веке. Да, в грязном и подлом веке, но вместе и таком светлом из-за свершений его лучших людей, его настоящих героев, из-за высоких движений души, неодолимого стремления людей к справедливости. Мы боремся против крови, огня, мук… И я вижу, их нет. Нет настоящих. Есть поддельные. Но для чего? Да, и тепло, и сыто, и всего вдоволь, и выдумка безгранична, но объясните мне, для чего? Нет, наши слезы, наши страдания предстают теперь иными. Надо ли избавляться от них? Может быть, они делают жизнь подлинной? Простите, я запутался…
Страшная это пропасть — половина тысячелетия. Наверно, я ошибаюсь, я просто не в силах понять истинных глубин вашей жизни. Она должна быть прекрасной и цельной. Видимо, все там, дальше, за этими играми. Может быть, с высоты своих знаний вы поймете меня, покрытого шерстью пришельца, который вторгся в ваш мир не для забавы, поверьте, а из страха за маленькую девочку. И еще я сделал это в слепой, но твердой убежденности, что люди далекого будущего не только намного разумнее нас, но и намного добрее. Эта вера и заставила меня дернуть рычаг той несуразной в ваших глазах колымаги, в проводах, кристаллах и железе которой билась, однако, гениальная мысль, стучало живое сердце моего друга, товарища по борьбе с варварами нашего времени Василия Дятлова. Его внучку и мою дочь я и прошу вас спасти.
— Прелестно, голубчик, ну распотешил старика, ну спасибо! — Сухонький длинноносый человек в камергерском мундире опустил слуховую трубку и кинулся обнимать Пьера. — До слез довел, шельмец. Ай-ай-ай, а Кубилаша-то где? Где негодник прячется? Дайте-ка я его поцелую.
Вынырнувший из-за мундирных спин Кубилай почтительно взял старичка под локоток и повел в сторону.
— М-да, неплохо сыграно. Немного резковато по нынешним меркам, но… Весьма, весьма, — вытянув гусиную шею из золотого стоячего ворота заговорил незнакомый Пьеру генерал. — Мне вот что представляется, господа Совет. Не посмотреть ли нам судьбу нашего гостя и его дочери в реальной истории? Может статься, там и есть решение, а?
— Там-то решение есть, куда ж ему деваться, — заметил багроволицый кривоногий старик, поигрывая темляком изогнутой сабли, — да только прилично ли это, милостивые государи, узнавши судьбу человека и чад его, ему таковой не открыть? А открыть так уж совсем невозможно.
— Полно, вздор все это. Важно не сокрыть судьбу от Пьера Мерсье, а привести его в состояние резиньяции, так сказать, дабы с покорностию ее пинки и уколы принимал, — задумчиво поднял палец Николай Иванович.
Наступила пауза, во время которой Пьер подумал, что еще одной говорильни не выдержит и либо взбунтуется, либо действительно впадет в состояние резиньяции. Знай Пьер немного лучше русскую историю, он понял бы, что в разыгрываемой сцене все, до того сказанное, значения не имело никакого, и с большим вниманием следил бы за дремавшим в складном кресле стариком с повязкой на глазу.
Речь Пьера привела в восторг и Гектора. Сияя, он толкал локтем корнета, в котором без труда можно было узнать Полину.
— Посмотри, что Кубилай сотворил с этим новичком! Отличный парень этот Пьер. Веселый, а?
Ина вспыхнула:
— Ты сказал веселый? А по-моему, вы с Кубилаем настоящие ослы. Вам не приходило в голову, что Пьер не играл? Ему больно. Очень больно. — В глазах Ины застыли слезы. — Только, пожалуйста, не думай, что и я сейчас играю. Лучше скажи: долго там еще намерены его мучить?
Гектор растерянно посмотрел на девушку.
— Ты всерьез? Не может быть. Ведь все уверены, что Пьер в полном восторге. — Гектор замолчал. И вдруг побледнел от внезапной догадки: — Слушай, а если… А что, если он вообще не уверен, что мы дадим ему лекарство?
— А я тебе что говорю.
— Ой-ой-ой! У Кубилая ведь еще десяток сцен в программе. Надо срочно кончать все это. — Гектор схватил Ину за руку и, грубо нарушая торжественное течение высокого Совета, полез по рядам.
Между тем два седоусых унтер-офицера установили на поставце ящик красного дерева с большой серебряной трубой. Подле ящика тотчас возник вертлявый субъект в табачном сюртуке. Поклонившись в сторону печки, субъект утвердил сверху ящика черный диск и покрутил торчащую сбоку ручку. Чарующая, чуть угловатая музыка вошла в избу сразу со всех сторон.
— Симфоническая поэма Людмилы Кнут, в девичестве Люс Мерсье, — торжественным фальцетом объявил владелец табачного сюртука, когда музыка умолкла.
— Алоизий Макушка собственной персоной, — прошептал Николай Иванович на ухо Пьеру. — Главный историк режиссерского консулата.
— Мысль о том, что решение наше надлежит выводить из естественного течения истории, — заговорил Макушка нормальным голосом, — подвигла меня на исследование некоторых обстоятельств, приведших тому триста лет к появлению хронолетов Владимира Каневича. Избегая частностей, могущих утомить высокое собрание, сообщаю главное следствие произведенной экзаменации, состоящее в том, что поименованный Владимир Каневич приходится по материнской линии правнуком Людмилы Кнут, в девичестве, как уже указывалось, Люс Мерсье.
В это время Пьер заметил, как Гектор что-то горячо втолковывает Кубилаю, оторопело смотрящему то на Гектора, то на него, Пьера.
Выдержав паузу, чтобы позволить всем оценить важность сказанного, Макушка продолжал:
— Дочь присутствующего здесь Пьера Мерсье есть необходимое звено в цепи событий, приведших, во-первых, к появлению у нас человека из далекого прошлого, поскольку таковое вызвано ее тяжелым недугом, во-вторых, к созданию машины времени, ставшей тривиальным предметом материальной культуры нашей эпохи. Цепь эта разорвана сейчас, и мы держим в руках ее части, раздумывая, соединить их или оставить эту цепь разъятой.
Я веду вас вдоль этой цепи, милостивые государи: в первой половине трудного века, известного невиданными бурями в жизни общества, потрясениями умов и государств, родился и погиб в зените дарования Василий Дятлов. Вот первое звено. Через тридцать без малого лет его друг, стоящий перед вами, с двумя помощниками сделал первый, несовершенный по нашим меркам, аппарат, воплотивший идею Дятлова. Аппарат этот перенес своего создателя к нам. Это — второе звено. Здесь цепь обрывается. Ибо третье звено — Люс Мерсье — умирает в своем двадцатом веке.
Макушка снова прервался. Кубилай с Гектором и Иной пробрались к сидящему за печкой старику.
— Если Люс Мерсье останется жива, — продолжал историк, — то через много лет выйдет замуж за внука погибшей вместе с ее дедом Сарры Кнут, дочери русского композитора Александра Скрябина. Она сама станет известным музыкантом, а ее правнук Владимир Каневич создаст аппарат, способный вернуть Пьера Мерсье к его дочери, а дочь — к жизни. Я кончил.
В наступившей тишине Пьер услышал тихий скрип за печкой. Грузная фигура старика распрямилась, он отнял руку от лица, извлек из шлица мундирного сюртука гигантский платок и отер лоб. Потом заговорил размеренно и внятно.
— Благодарю всех, господа. Благодарю вас особенно. — Он слегка поклонился Пьеру. — Как только что было отмечено, аппарат Каневича — это живая часть нашей культуры. Мы без нее — не мы. Раз был в истории Владимир Каневич, значит, история уже распорядилась за нас. Мы не делаем благодеяния, мы спасаем друг друга. Спасая прошлое, мы спасаем себя. Отказать Пьеру Мерсье — значит взорвать наше собственное существование. Человечество едино не только в пространстве, но и во времени. («Боже мой, — сверкнуло в уме Пьера, — он буквально повторяет Базиля»). Однако, что это я? Пространство, время… А душа-то человеческая? К ней, к душе продираться надо. И пусть бездна лет, пусть неразличимы вдали их лица. Можем ли мы смотреть на них в перевернутую подзорную трубу с холодным, жестоким сочувствием, равноценным презрению? Нет, господа! Прав, навсегда прав Федор Михайлович. Не на муках и страданиях строим храм. Быть в силах и не помочь младенцу? Да можно ли помыслить такое! Мне остается только в согласии с историей и ролью в этой пиесе сказать: «Господа! Властию, данной мне отечеством, приказываю…»
Синеющее окно вспыхнуло румянцем. В избу вошел темнолицый пожилой человек в длинной белой рубахе. Стало тихо.
— Пьер Мерсье, человек из прошлого, здравствуй!
Стен не было. Было бескрайнее поле. И тысячи лиц, лишенных грима. Человек протягивал Пьеру руки:
— Не сердись на наших детей, Пьер Мерсье. Это удача, что ты попал к ним. Они показали тебе нашу Землю. Они полюбили тебя.
— Дети? — пробормотал Пьер. — Вы сказали — дети?
— Да, Пьер. Это их дом, их школа. Они кажутся тебе взрослыми, но вглядись в них сейчас, вглядись внимательно.
— Боже мой, дети! — Пьер переводил взгляд с кудрявого, расплывшегося в улыбке Гектора на вдруг застеснявшуюся Алисию. Маленький Кукс пригладил вихры и смотрел на Пьера серьезно и напряженно, как отличник на доску с текстом трудной задачи. Кубилай лучился любовью и нежностью, а Турлумпий, щекастый Турлумпий пялил свои пуговицы так же, как на поляне при их первой встрече.
— Уже много лет, как Земля отдана детям, — говорил старик. — Сначала с ними жили педагоги и воспитатели. Но потом необходимость в этом исчезла. Взрослые стали даже мешать свободному развитию детей, их творчеству. Выяснилось, что лучшей формой такого развития является игра. Игра для нас — путь к знанию, утверждение личности, постижение живой истории. В нашем мире нет зла, рожденного темными движениями человеческой души, и мы оказались бы бессильными перед космосом, не постигни мы опыта борьбы прошлого. Но закалка против зла — не главная цель игры. История человечества, и твоего века тоже, Пьер, учит не только борьбе, но и состраданию. И, отдаваясь игре до конца, наши дети постигают главную науку — науку добра. Дети встретили тебя, они же отправят тебя домой. Они вылечат твою Люс.
— И все это они сделают сами? Дети?
— Не совсем. Мы поможем им. Хотя главное они уже сделали. Мы не сразу узнали о твоем прибытии, и на плечи детей легла эта задача — понять, что они встретились с человеком из далекого прошлого. Мне приходилось заниматься психологией людей вашего времени, и я знаю, как нелегко перешагнуть лежащую между нами пропасть. Твой приезд стал экзаменом для их умов и для их сердец. Мне кажется, они выдержали экзамен. Правда, тебе пришлось немало испытать, но это не вина детей, а скорее их беда — слишком уж широка оказалась эта пропасть. И все-таки они приняли правильное решение.
— Но что происходит с ними потом, когда кончается детство? Почему они скрыли от меня ваш большой мир?
— Вырастая, мы покидаем Землю и… — Старик повел рукой.
Открылся синий проем, и Пьер увидел пляску хвостатых звезд, толчею планет, блеск парящих в космосе величественных сооружений.
— Наш мир мог испугать тебя. Дети не хотели причинить тебе боль. Пусть, увидев лишь верхушку айсберга, ты получил превратное представление о нашем времени. Горька была твоя речь на Совете. Но помнишь, ты сказал — истинные глубины нашей жизни могут быть дальше, за этими играми. Так и есть, Пьер.
— Так вы не дадите мне взглянуть на ваш взрослый мир? Это запрещено?
— Мы ничего не запрещаем. Но подумай, прежде чем решиться. Ты можешь испытать такое потрясение, что никогда не оправишься. Пожелай ты остаться у нас навсегда, я бы не отговаривал тебя. Но были люди, сильные люди, рожденные после тебя, Пьер, которые, прожив с нами краткий миг, возвращались домой и навсегда оставались несчастными. А ведь ты хочешь вернуться… — Старик отступил на шаг. — Теперь я оставлю тебя на время.
Он ушел, а Гектор, Ина, Асса, Харилай и другие, сияя, бросились к Пьеру:
— Ну вот, ну вот, что я говорил, что я говорила…
Пьер напрягся, ожидая, что вот-вот услышит властное указание Кукса или Кубилая: «Ярче, ярче изображайте восторг!»
Но и Кубилай и Кукс прыгали рядом и кричали:
— Ну вот, я же говорил! Я говорил!
Ах, какие были проводы!
Ставил, конечно, Кукс, забияка и большой любитель покомандовать. Толстяк, сидевший на последнем Совете за печкой, скинул повязку — мешала и топал впереди парадирующих войск, воздев треуголку на шпагу и вопя что есть мочи: «Виват!» Бивак разбили у стен Лонгибура. Пьер сидел на слоне. Пальцы ласкали твердый цилиндрик в кармане куртки — маленький пенал со щепоткой оранжевого порошка, врученный ему нынче утром доктором из «Осеннего госпиталя». Пока пили-ели (Кубилай все норовил с Пьером чокнуться и поцеловаться, но не дотянулся — высоко), площадку огородили, увили лентами, обставили флажками, и грузинский князь в рог затрубил. Граф де Круа и Морис де Тардье пустили коней в галоп, сейчас сшибутся, затрещат копья, рассыплются, и — за мечи! Нет, передумали. Алисия им язык показала и по хоботу — к Пьеру, с венком из ромашек. И села рядом. Елена в пурпурной столе перебирала струны кифары. Проскальзывая длинными ногами, шел клетчатый Арлекин, смотрел провалами глаз, изгибал шею. Как ударом хлыста, сорвало Пьера с места. Он сполз по крутому боку, вскочил на стол:
— Там, у нас в Шатле, это делали так!
Он пустил волну по рукам — туда, обратно, снова туда. И вдруг застыл в мучительном изломе.
— Еще, еще! — ревела толпа, а мим — Пьер узнал Жоффруа — глядел на него с восторгом темными кругами на меловой маске.
Кукс и Кубилай, отталкивая друг друга, бросились к нему — пожать руку, помочь слезть. Кубилай оказался проворней:
— Голубчик, это… это… Нет слов. Вы — гений. Умоляю, на одну минуту. Вот это движение… — и увлек Пьера в сторону.
Поляна за стеной жимолости раздалась, чтобы вместить всех. На трибуне скрипел Алоизий Макушка:
— Дорогие сограждане! Мы собрались здесь в эту торжественную минуту, чтобы проводить, как говорится, в дальний путь нашего, так сказать, замечательного и, я не боюсь этого слова, старого друга, — и бил пробкой о графин.
Из машины, весь в мазуте, вылез Калимах и поставил на землю большую медную масленку.
— Ты у меня полетишь, — мычал он, хмуро прицеливаясь разводным ключом к торчащему болту, которого раньше, Пьер мог поклясться, в машине не было, как пить дать, полетишь.
— Свечи прокалил? — подошел Харилай. — Прокали свечи-то. Отсырела, небось, стояла сколько…
— И то, прокалить, — согласился Калимах. — Тащи паяльную лампу.
Что-то острое уперлось Пьеру в бок.
— Считаю своим долгом предостеречь, — зашептал старый знакомый в калошах, убирая зонтик, — шум, пение… Чего ж тут хорошего. Произнесение речей при большом скоплении публики. Это знаете, чревато. Полезайте-ка вы в машину и — скатертью… то есть счастливый, как говорится, путь. И вам хорошо, и нам спокойней. К обоюдному, так сказать. А то как бы они того… не передумали, а? — и, не выдержав, прыснул.
Пьер еще увидел прощальный взмах Гектора, немного растерянные лица Полины, Ассы. Он вытер щеки.
— Не скучай, Пьер! Счастливо!
— Счастливо и вам! Спасибо за все.
Люк захлопнулся.
— Мсье! — кричал Гастон. — Стойте! Нельзя!
Кто-то толкнул садовника в спину. В ротонду ворвались Шалон и Дю Нуи. Скрипнул, распахиваясь, люк. Показалась нога в рифленом ботинке. Потом рука и, наконец, смущенное лицо Пьера.
— Ты сошел с ума! — закричал Шалон.
— Пьер, милый, разве так можно, — сказал Альбер.
— Да что вы, друзья, — медленно и тихо сказал Пьер. — Я только хотел попробовать…
Но Шалон уже вытаскивал из машины рюкзак и, поднимая его, взглянул в глаза Пьеру:
— Попробовать? А это что?
— Простите меня, — еще тише сказал Пьер.
— Слава богу, хоть ты жив. Ты включал ее?
Пьер смотрел на них сквозь слезы, не слыша слов.
— Ничего, ребята, не огорчайтесь.
— Так она не работает?
Пьер покачал головой.
— Ты не находишь, что он какой-то странный? — повернулся Дю Нуи к Шалону.
— Он потрясен неудачей, Альбер. И нам это тоже предстоит пережить.
— Простите, я очень тороплюсь, — сказал Пьер. — Подбросьте меня до Форж-лез-О, я там оставил машину.
Он не сводил глаз с тщедушного тела, страшной иглы. Ему казалось, что миновала вечность с тех пор, как он уронил оранжевую крупинку в колбу капельницы, хотя на самом деле не прошло и половины суток. Пьер брал руку девочки пытаясь ощутить намек на ответное движение. Но нет, ничего не изменилось. Ничего. Утренний луч играл на красном коленкоре истории болезни.
— Ну, как ты сегодня себя чувствуешь? — Доктор вытянул из папки листок.
— Ой, мы опять с папой купались. И ракушку нашли огроменную, во! — Руки Люс дрогнули.
Доктор снял очки и поднес листок к глазам.
— Господин профессор, вас к телефону, — объявила сестра.
— Что? А? Послушайте, мадам Планше, что вы мне подсунули? — Он свирепо ткнул пальцем в листок. — Чей это анализ?
Лицо сестры покрылось пятнами, близкими по цвету к кресту на ее наколке.
— Это анализ Люс Мерсье, господин профессор. Я сама, — она сделала паузу, — сама вложила его в историю болезни пациентки.
— А в лаборатории не могли напутать? — спросил доктор, смягчаясь.
— В лаборатории сегодня не было других анализов, господин профессор. Вас ждет у телефона мадам Жироду, господин профессор.
— Не было других анализов? — Доктор надел очки. Он увидел привстающего Пьера и повернулся к ребенку. Знают ли они, какое чудо произошло? Какая милосердная воля вернула девочку этому человеку, а ей подарила настоящий мир, с настоящей травой, с морем, в котором можно по-настоящему плавать, в котором водятся живые рыбы и полным-полно огроменных раковин.
— Ах да, иду, иду. Дождитесь меня, Мерсье. Я сейчас вернусь, только поговорю с женой. Дождитесь меня непременно.
Победитель
Ду Фу
- Давно бы я бросил
- Служебные дрязги и ссоры.
- Лишь бедность мешает мне
- Жить в добровольном изгнанье.
Друг мой, человек склада скорее мечтательного, чем энергичного, более склонный к покорному приятию ударов и щелчков обидчицы судьбы, нежели к встрече таковых с оружьем, признался как-то, что давно уж находится во власти идеи столь же соблазнительной, сколь и несуразной, особенно если взять во внимание бытовые и гражданские обязанности, несомые им как мужем и отцом, с одной стороны, и членом трудового коллектива — с другой. Идея эта, по его словам, заключалась в том, чтобы сбежать. Сбежать!
От кого? От чего? От мытья посуды — домашней повинности. Вечерних уроков математики — дочь не Софья Ковалевская, сами понимаете. От телепевцов, кудрявых и с волосами в облипочку — сами понимаете, жена без них не может. Патентных формул до обеда и чугунной дремоты после — служебный долг. Куда? Здесь менее конкретно.
В уединенный уголок. В глухой скит. На заброшенный хутор. В живописную двухэтажную гостиницу провинциального городка. В городке нет докучливых приятелей и родственников, а в гостинице скрипучие стулья и диван обустроены одинаковой плюшевой бахромой — шарики на треугольных шнурочках. А если в Сибирь — лесником? Или бакенщиком. В тундру, в ярангу. Да, неплохо бы, но ширится, растет зазор между местом и целью. Кстати, а какова цель? Да писать. Конечно же писать.
Ах, эта стыдная самодеятельная писанина. Драгоценные листки, запрятанные в ящик стола под ксерокопии английских научных статей. Абзац. Еще абзац. Неуверенная строка. Остановка. И вдруг — суматошная испуганная страница. Так ярко встал перед глазами очередной эпизод из детства. Это ничего, что сейчас многие пишут о детстве, говорил он себе. Ведь у каждого оно свое.
Поскольку воплотить в жизнь идею побега мой друг (дадим ему для дальнейшего удобства имя — Илья) в силу упомянутой нерешительности нрава не мог, он затолкал ее, как говорят психиатры, в подсознание, откуда она норовит вылезти в разных обличьях. В том числе — в рассказах.
Да, да. Не добравшись до места глухого, медвежьего, пригодного для сотворения тягучего, прекрасносонного романа, Илья, хоть и с ленцой, принялся за рассказы. Героя он нередко помещал в заваленную снегом избу или на чердак старой дачи, называл Ильей, снабжал пачкой бумаги, пишущей машинкой довоенной породы, консервированной фасолью, супами в пакетах, индийским чаем и пряниками.
И заставлял писать. Стихи, рассказы. Длинный роман о детстве.
Занятие это шло туго, вещь не клеилась, в тоске и мучениях бродил герой по хрустким снежным тропинкам или шуршал листьями в сентябрьской роще, много и плодотворно размышлял. И всегда наступал момент, когда в повествование вплеталось нечто таинственное.
Или, если хотите, странное. Этот элемент можно определять и многочисленными словами иноземного происхождения: мистический, фантастический, иррациональный, трансцендентный, паранормальный, а может быть, даже интеллегибельный. В одном из таких рассказов, например, учитель ботаники беседует с Александром Сергеевичем Пушкиным, взахлеб читает ему Блока, Хлебникова, Маяковского, а при расставании, потрясенный глубиной духовного контакта, дарит поэту на память электрическую лампочку — единственный предмет своего века, оказавшийся в деревенском доме. В другой новелле соседка по опустевшему дачному поселку оборачивается музой, волшебно и неслышно нашептывавшей герою строки гениальной поэмы. Еще где-то речь шла о любителе птиц, генерале в отставке. Старик страдает: никчемная жизнь, досадная судьба — ни единого выстрела по настоящей цели за долгие годы службы. Но приходит утешение в виде пустившего корня, расцветшего яркими цветами торшера, в раскидистых ветвях которого поселился звонкий птичий мирок. Как-то родилась непритязательная история о молодом мечтателе, нечаянно открывшем в себе способность усилием воли перемещать планеты, чем вызвал ажитацию в ученом мире и едва не погубил карьеру горячо любимой жены. История эта, впрочем, закончилась вполне благополучно, и растревоженный небосвод вернулся к установленному природой состоянию. Был еще рассказ про нечаянную встречу с духом старого дома. Дух являлся самодеятельному сочинителю, в миру фотографу, и вовлекал его — во сне ли, наяву? — в события, имевшие место в этом жилище на протяжении многих прошлых лет. Времена путались, сменялись поколения. Фотограф бродил среди любвеобильных польских офицеров корпуса Понятовского, занимавших дом недолгую неделю, но успевших недостойно обойтись с хозяйкой (вызов со стороны героя, ответные насмешки, ее глаза, полные мольбы и благодарности, полуоборот у двери, узкая рука); пил чай у телевизора с горбатой линзой (запах гусиных шкварок из коммунальной кухни, соседка зашла на Райкина, то же девичье лицо в лунном свете крохотного экрана, но вместо шелестящего шелка бесшумная байка халата); спорил до бульканья в горле с худым слабогрудым боевиком-народовольцем (неряшливые пальцы на чинной голубоватой скатерти, серебряные кольца салфеток и опять она — отвернулась к окну, длинная гимназическая шея). Ну и так далее.
Рассказы Илья посылал всегда в один и тот же толстый журнал и каждый раз получал один и тот же ответ.
«Благодарим за внимание. К сожалению, Вам не удалось в полной мере… Всего наилучшего. Литконсультант В. Пышма».
Приняв с покорностью очередной щелчок, мой друг после недолгого перерыва вновь брался за перо. Именно за перо, поскольку машинки у Ильи, не в пример его героям, никогда не было, да и печатать он не умел. И через какое-то время у меня раздавался телефонный звонок.
— Здравствуй, — говорил Илья. — Ну как ты там?
— Ничего, помаленьку.
И я бежал в булочную за пряниками или козинаками к чаю, ибо друг мой большой сладкоежка. Он являлся с чистенькой рукописью и бутылкой «Алазанской долины». Я любил эти вечера.
Илья читает слегка заунывно, иногда чуть удивленно поднимая голос в конце фразы. Я слушаю, не боясь звякнуть ложечкой или сделать глоток, а то и прервать чтеца сообщением, никакого отношения к рассказу не имеющим. Когда Илья уходил, я сдвигал на край письменного стола дежурный перевод «Трудов электрохимического общества» и садился за перепечатку только что прослушанного сочинения, с горечью думая: «Ну что же он, литконсультант В. Пышма. Неужто и на этот раз отпишет Илье свое обычное «к сожалению»?» И вот однажды, после нукактытам-ничегопомаленьку, Илья пришел ко мне с двумя бутылками, но без рукописи. На вопросительный мой взгляд сказал:
— Я там был.
— Где?
— В редакции.
— Ну?
— Говорил с ним.
— С Пышмой?
— С Пышмой.
— И что?
— Да так. — Илья уставился на свой стакан. — А впрочем, слушай.
Литконсультант был поджар, спортивен, элегантен. И чудовищно доброжелателен. Он подхватил Илью под руку и, поскольку время было обеденное, — повел в редакционный буфет. (Рекомендую сосиски — всегда свежие и более того — мясные, хе-хе, и поговорим в непринужденной обстановке… Уже обедали? Ну ничего, чаю или кофе выпьете.) И вот они сидят на разных берегах зеркально-черного стола, один над штабелем сосисок, другой при чашке кофе.
Красивый сероглазый Пышма изящно ест, не покладая ножа. Речь его сочувственна и весома.
— Мне кажется, дорогой коллега, главная сложность, стоящая на вашем пути, заключается в том, что вы все время покушаетесь на законы жанра. Возьмем этот ваш рассказ, из последних, о студенте, как его…
— Никита.
— Да, Никита. Вполне обкатанное в литературе начало. Столичный юноша. Неудачная любовь. Бегство — прочь, прочь отсюда. И где-то в глуши, после тяжких дневных трудов, мучительные бдения над листом бумаги. В традициях исповедальной прозы, хе-хе. Попытки осмыслить прожитую с младенчества жизнь. Я правильно излагаю основную линию?
Пышма опрятно прожевал кусочек сосиски и ласково взглянул на Илью.
— Я… не знаю. Я как-то иначе это представлял. По крайней мере, когда писал.
(Я тоже. Когда читал. Помню озноб, который бил Никиту в телефонной будке на Покровском бульваре. Расплывшиеся лица встречных, сполохи салюта. И честное признание самому себе, что здесь больше обиды, чем боли. Невезения, чем утраты. Признание, впрочем, состоялось потом, на перроне Вытегры, куда Никита выволок бессмысленно щегольской чемодан и откуда был уведен — жить дальше — прорабом Фомой Ильичом Фабером, крепко шагавшим белесыми сапогами по лимонным разводам собачьей мочи на снегу.)
— Бросаются в глаза красивости слога, несколько… э-э… нарочитые. Скажем, «лимонные разводы собачьей мочи».
Илья смотрел в стол.
— Они обычно появляются, когда у автора не слишком богатый запас свежих мыслей… Вы не должны на меня сердиться, коллега, литература не терпит недоговоренности, лицеприятия… М-да, запас мыслей или, если хотите, изобретательность в сюжетных поворотах оставляют желать… Тогда в ход идут комары, штопающие воздух, жирные запятые попугаев или вот эти… разводы — в зависимости от климата и прочих обстоятельств. Хотите еще кофе, я принесу?
Илья машинально кивнул.
Пышма быстро вернулся и ловко поменял пустую чашку Ильи с растерзанной сахарной оберткой на новую с венцом бежевой пены.
— Комаров у меня не было, — сказал Илья.
— Верно, комары не у вас.
— А мне нравится.
— Что?
— Комары, штопающие воздух.
— Так и мне они нравятся. Еще как! Но все это — матерьял. А матерьял, как говаривал один утонченный мыслитель, никогда не спасает произведение искусства, и золото, из которого отлита статуя, не прибавит ей, знаете ли, святости. Творение искусства живет формой — ей оно и обязано красотой своей, глубиной мысли и чувства… Впрочем, вернемся к вашей постройке. Никита чередует детские воспоминания, передаваемые бумаге, с бесконечными разговорами. Главный собеседник — этот прораб с говорящим именем. И вот все тонет в словесах, ни действия, ни поступков…
(Были ли поступки? Никита как раз писал, чтобы выяснить это окончательно. Где он их только не искал. Заглянул во двор послевоенного детства — там Толян, мастер на поступки. Никиту он презирал и поколачивал, да еще не больно, а как-то грязно. Обидно. И этот желтый плевок в школьной уборной — мерзкая скользкая блямба, впившаяся в ботиночный шнурок. Огненно-рыжий автор плевка-поступка приказал харкотину не трогать, так идти в класс.
Зато были смелые письма, полные стихов и намеков. «Люда, люди тоскуют люто, если их не погладить встречей, небо ясное им не любо, и дожди от тоски не лечат…» Пока не увидел, как узенькое жало — клик! — выскакивает из рукояти. У владельца этого инструмента красивые бешеные глаза, худые пальцы и мать — дирижер с мировой известностью. Очень способный на поступки юноша.
И так далее. Никакого действия. Вернее, противодействия. Хрестоматийный трус. Это было ясно всем, кроме самого Никиты, и стало открываться ему только там, в Вытегре, когда, вернувшись с трассы, он садился писать.
— Свет не мешает? — спрашивает Никита Фабера, у которого поселился.
— И что ты каждый раз спрашиваешь, — отмахивался Фома Ильич. — Мне-то что — глаза закрыл и сплю. И тебе советую. Через работу дурь из головы выходит, а от писанины мозги засоряются.
Как-то, уже лежа в постели, Фабер спросил:
— Слышь, 'Никита, ты что засмеялся, когда имя мое узнал?
— Говорящее оно у вас.
— О чем говорит?
— О профессии. Хомо фабер — человек-строитель.
— Ишь ты. А твое что значит? — поинтересовался Фабер.
— Мое? — Никита криво улыбнулся. — Мое в переводе с греческого «победитель».
И человек-строитель засыпал, а победитель продолжал разворачивать бесчисленные фантики, в которых, как он думал, была упакована истинная его натура.
— Все речевку выучили? — Зина, старшая пионервожатая, обводит их ясным взглядом. — Пррроверяю. Айнетдинов!
— «Кто шагает дружным строем? Те, кто новый мир построят…»
— Булинов!
— «Кто шагает дружным строем…»
— Ванцев!
— «Кто шагает…»
— Денисов!
Никита собирается с духом.
— Я не буду.
— Что не будешь?
— Говорить это.
— Не выучил речевку?
— Нет такого слова. — Голос Никиты звенит и прерывается. — Есть речение. Я в словаре смотрел.
Зина овладевает собой.
— Слово ему не нравится. Всем нравится, а ему не нравится. Ладно, стихи говори.
— Не стихи это. Звон какой-то. Разве нельзя новый мир строить без этой… речевки?
Тишина. Лицо Зины в пятнах. Ах, если б так. А то…
— Денисов!
— «Кто шагает дружным строем…»
— Друскин!
— «Кто шагает дружным строем…»
Но может быть потом, выйдя из школьного коридора…)
— А Фабер у вас и вовсе не получился, — сказал Пышма. — Не чувствуете вы его. Неживой он. Так, ходячая укоризна Никите. Прописать такой характер, изобразить, пусть не глубоко, но хотя бы правдоподобно, вам оказалось не по зубам. Да и трудное это дело — описывать не интеллигентскую рефлексию, а настоящую жизнь и земные мысли. Не в вашем жанре. Фабер и понадобился вам для того только, чтобы Никита мог вволю наговориться и посетовать на несвободную, запрограммированную свою судьбу. Да еще чтобы определить вашего героя на стройку, где его должно было оглушить бревном. Тоже, кстати, не новый прием — стукнуть человека по голове, дабы снабдить необычайным даром. И предвиденья его, по традиции, мрачны и ужасны.
(Пышма прав. Несть числа прорицателям. И все они не предвещают ничего радостного. Калхас сулит беды ахейцам. Тиресий открывает Одиссею страшные тяготы его судьбы. Иисус предвидит измену одного ученика и отступничество другого. Нострадамус и Александр Блок предсказывают ужасные войны. Воланд уведомляет Михаила Александровича Берлиоза о жутком его конце. Джонни у Стивена Кинга ждет явления фашиствующего президента.
И только румяные путешественники во времени точно знают, что все будет хорошо.
Никита отлеживался после удара, думал о доме. Новогодний конверт снеговик с носом-морковкой в левом верхнем углу — встал перед глазами за минуту до того, как вошел Фома Ильич.
— Здорова ж у тебя голова, Никита. Сваи забивать, ха! Плясать можешь?
— Нет пока.
— Ну ладно. Держи. — И протягивает письмо. С морковным носом. И пароходом на зеленой марке. Все точно.
И не распечатывая конверта, Никита знает: отчим оправился от ревматической атаки и уехал в Цхалтубо, мать оформляет пенсию, дважды звонила Наташа…
Покатилось, поехало.
В мозаике кадров увидел он Фому Ильича в короткой несвежей рубашке с тощими, обвислыми, исколотыми ягодицами… Учетчицу Настю с распухшим от слез лицом… Себя — старцем, руки охватили лоб, глаза прикрыты, в почтительной тишине он встает, огибает резной угол стола — и падает ничком на ковер. Конец. Тьма.)
— Вы делаете попытку показать нам другого, новообращенного Никиту. Человека, чей дар позволил ему не только заглянуть в будущее, но и посмотреть вокруг себя и на себя по-иному. Мне, правда, все время мешали ваши — или Никитины — размышления о необязательности того будущего, которое является в его видениях. О возможности изменить эти трагические судьбы. Я всегда считал очевидным, что будущее — результат нашей волевой деятельности. Так что Никита, по-моему, ломится в открытую дверь.
(Завидный оптимизм. А если судьба — коридор. Пасть удава.
Неизбежность. У Никиты этот страх смешан с надеждой. Он одновременно знает будущее и пытается его преодолеть, изменить, разделить судьбу жертвы. Знание заурядной цепочки событий, которая составит его жизнь, перестает быть главным. Никита начинает совершать поступки. Первый — спасение Насти от этого борова, вечно пьяного бульдозериста, чье скотство виною рождения несчастного урода, увиденного Никитой на руках Насти там, в будущем…)
— Чувствуется, вы не знаете, как быть дальше. Эти планы Никиты залучить Фабера в Москву, показать, как бы случайно, знакомому онкологу — все это очень искусственно. Описывать повседневное существование ясновидца — задача для вас чересчур сложная. Куда проще поразмышлять о его страстях, сомнениях и страданиях. Сюжет пробуксовывает, становится откровенно скучно. А между тем выход из таких положений найден еще Гоголем. Помните — проснулся майор Ковалев, а нос на месте. И вам бы разбудить Никиту в одно прекрасное утро и нет уж его обременительного дара.
(Ах, Пышма, Пышма. Я снова вынужден признать вашу правоту. Конечно, так бы удобней. Хватило бы Никите до конца дней заботы о Насте да о Фабере. Зачем еще ежедневно, ежечасно прознавать о будущих драмах родных и друзей, близких и знакомых, а то и вовсе чужих людей — прижали в автобусе к молодцу в оранжевой ветровке, и ты видишь, как его накрывает лавина в Баксане. А с Настей…
— Тебе одного бревна мало, недобиток, падло? — Черный вонючий кулак сгреб рубашку, подтянул к подбородку. Бульдозерист сопит и больно бьет Никиту коленом в низ живота.
Школьный ужас унижения. Но Никита поднимает глаза и видит перед собой отца обреченного жалкого существа. Страх сменяется жалостью. Колебания уверенностью, знанием, что надо делать.
Собственно, предощущением встречи Никиты и Насти и кончается рассказ, потому что соединение этих людей неизбежно, но настолько непонятно, что писать об этом Илья не осмелился.)
— Вот и кажется мне, — подвел итог Пышма, — что могли вы написать вполне сносный рассказ о том, как приехавший на стройку юноша, преодолев сложности перехода к новой жизни, обретает счастье в труде и любви — иначе говоря, женится на милой Насте и забывает о детских метаниях и страхах. Либо, если уж засела в вас непреодолимая тяга к фантастике, незачем бить человека поленом по голове, а честно сажайте его в машину времени и в тысяча первый раз жуйте жвачку временных парадоксов. Вы же, коллега, уселись между стульев, по каковой причине и почернели фиаско.
— Ты огорчен? — спросил я, когда Илья кончил. — Плюнь. Выбери другой журнал.
— Знаешь, — улыбнулся он, — я и сам хотел так поступить. До встречи с этим… Пышмой. А теперь мне кажется… Мне кажется, он будет ждать.
— Чего?
— Еще рассказов.
Самонадеянность никогда не отличала моего друга. Поэтому я принял его слова за шутку. И разлил остатки вина.
— Ты помнишь моего отца? — спросил Илья.
— Конечно.
Я хорошо помнил болезненного мрачноватого соседа по исчезнувшему уже дому, что стоял в несуществующем уже переулке, сбегавшем к Москве-реке от каменного терема бояр Романовых.
— В последний год он совсем ослабел, стал рассеянным. Часто погружался в какую-то задумчивость, перебирал старые конверты, две-три фотографии. А за несколько дней до смерти почувствовал себя лучше, повеселел и сказал, что собирается съездить в Керчь. Он родом из Керчи. Их было четверо, рассказывал он мне. Он, два его друга, Борис и Иван, и Ксения. Всегда вместе. Все общее. А после войны так и не встретились. Несколько писем — и все. А ведь эти трое живы. Иван Филиппович приезжал на похороны. Вот я и подумал — живут люди, очень нужные друг другу. Только они не знают об этом. А когда узнают — уже поздно. Теперь представь, что по какой-то странной случайности, магическому совпадению все они в один и тот же день приезжают в город своего детства…
И я уже знаю, пройдет два-три дня, и в моей квартире раздастся телефонный звонок.
— Ну как ты там? — спросит Илья.
— Ничего, помаленьку, — скажу я. А потом побегу в булочную за печеньем к чаю, потому что друг мой большой любитель сладкого.
Дело шло к ноябрю, по каковой причине в профкоме имелись в избытке соцстраховские путевки.
— Ты тему сдал? Сдал. Отгулов хватает? Хватает. Чего тебе еще надо? За семь-то рублей!
Действительно — чего? Я и поехал. И не пожалел. Не то чтобы место было уж очень. Боже сохрани. Там-сям рощицы березово-осиновые. Черные, разбитые трактором дороги. Небо низкое. Правда, в рощу заедешь — там награда. Сумасшедшая земляничина.
Кучка престарелых опят. На корточки присядешь — волшебный моховой лес в паутине и ошметках коры. И вот как-то, имея при себе палку и пакет с десятком свинушек, я взбираюсь на холм, где лесок чуть погуще, и на самой опушке у крутого склона натыкаюсь на роскошную спину: по нежной охре витиеватый герб табачной фирмы. Выше — вязаная шапочка красно-белого колера. На крайнем юге — серебристые дутые сапоги-снегоходы. Человек оборачивается, и я вижу худощавое интеллигентное лицо мужчины средних лет, немного растерянное. Я улыбнулся. Он улыбнулся.
— Здравствуйте, — говорит.
— Здравствуйте.
Тут замечаю у его ног приличных размеров корзину, совершенно пустую. Он ловит мой взгляд:
— Хозяйка дала, сказала, есть еще грибы. А я что-то не вижу. Вы удачливее. — И кивает на мой пакет.
— Хотите? — Я протянул ему свою добычу. — Мне все равно их девать некуда. Я в пансионате.
— А я, знаете, так приехал. На свой страх и риск. Вон в той деревеньке поселился. — Кучка изб была хорошо видна, серый толь светился. — Так славно здесь дышится и пишется.
— Вы пишете?
— Пробую.
Вот, думаю, для Ильи находка. Живой герой.
В это время солнечный луч растолкал облака и слабо осветил крышу сарая, с которого начиналась деревня.
— Красиво, — сказал мой собеседник. — Посмотрите — излом крыши как замшевый.
Дал бы тебе литконсультант по мозгам за этот замшевый излом, подумал я. Но спорить не стал. Что красиво, то красиво.
Мы пошли вдоль опушки, спутник мой говорил, а я машинально тыкал палкой меж корней и слушал. Впервые за свою некороткую уже жизнь решился он вот так уехать от дел, от дома, чтобы перевести в слова и записать те картины, которые вереницей проходят в его воображении, разгадать смысл слышимых им сумбурных звуков. Беда в том, говорил он, что в картинах этих много непонятного, а голос, рождающий звуки, слаб. Но здесь, он верит, произойдет чудо. Здесь так тихо, что голос этот зазвучит внятно.
— «Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется…» — отозвался я, чтобы сказать что-нибудь.
— Да, так не ново все это. Но ведь каждый открывает заново самые простые истины. Иные раньше, иные — как я — позже.
— Вы извините, — я глянул на часы, — мне пора. Опоздаю к обеду. Заботы, так сказать, суетного света.
— Конечно, конечно. Рад был встрече. Может быть, зайдете как-нибудь. Крайний дом, как раз возле того сарая с замшевой крышей. — Он протянул руку и, растерянно улыбаясь, добавил: — Совсем забыл представиться. Владимир Алексеевич. Владимир Алексеевич Пышма. Буду вас ждать.
И хотя мне следовало торопиться, я смотрел ему вслед, пока нелепый узор на светло-коричневой куртке не перестал мелькать среди голых осиновых стволов и облысевших кустов малины.
Поломка в пути
Алeксандр Пушкин
- О, нет, мне жизнь не надоела,
- Я жить люблю, я жить хочу…
Александр Блок
- О, я хочу безумно жить…
Осип Мандельштам
- Я должен жить, хотя я дважды умер…
Дежурному диспетчеру
В порядке компенсации расходов на энергообеспечение фургона типа «Ласточка» из пансионата «Евтерпа» отгрузить в энергосеть Тверской губернии (Савельевский энергощит, 27.01.1985, 4 часа утра) пятьдесят два киловатт-часа.
Экспедитор службы Т-перевозок Аскольд Диров
В конце января выдалась свободная неделя, и я решил сбежать из города. Лешка Бажулин, мой друг и владелец роскошной избы в умирающей деревеньке на высоком волжском берегу, как раз собирался в свое поместье и с радостью согласился взять меня с собой. Но в день отъезда пасмурно сказал:
— Вот ключ, старина, езжай на здоровье. Я погряз, — и крепкой ладонью умельца-экспериментатора провел по горлу.
В потрепанный древний «Москвич» я напихал продукты, двухлитровый термос с розовой цаплей на эмалевом боку, могучий приемник «Ленинград», лыжи и Лешкину бензопилу (попросил прихватить — все равно, мол, на машине).
Провозившись, я выехал лишь в пятом часу навстречу тусклым сумеркам. Когда, миновав Калинин, свернул на Ржевское шоссе, было совсем темно. Мне предстояло проехать город Старицу, потом километров двадцать до поворота на Савельево, а там полчаса проселком. Вот и указатель. Но где дорога? Слева от шоссе ровное снежное поле. Я выскакиваю из машины, бегаю туда-сюда, наконец решаюсь сойти с асфальта и тут же проваливаюсь по пояс. Замело проселок. Неужто возвращаться? Ну нет.
В трех километрах в сторону Старицы стоит большое село. Набравшись смелости, я постучался в ближайший к дороге дом и упросил хозяев разрешить мне оставить машину на подворье. Потом быстренько вытряхнул из мешка книги, набил его провизией, взял бензопилу, лыжи и двинулся в путь, бросив в машине приемник и прочий скарб. Не стану долго рассказывать, как брел я в полной тьме, утопая в снегу. Из лыж я соорудил нечто вроде салазок, на которых волочил рюкзак и проклятую пилу. До места добрался под утро почти без сил. Ввалился в нетопленый дом продрогший, злой, голодный, и поначалу сделалось мне очень тоскливо. Однако уже через пару часов в печи гудел огонь, я расправился с банкой голубцов и ломтем ветчины, сопроводив это, сознаюсь, стаканом водки, и настроение мое заметно улучшилось. Днем я немного поспал, а ближе к вечеру, умиротворенный и вполне довольный жизнью, вышел прогуляться и навестить тетку Настасею, с которой познакомился в прошлый свой приезд, года два назад. Она одиноко жила на другом конце деревни, обе дочери ее давно перебрались в город. Рядом светились окна еще в двух-трех избах, мой же конец деревни был необитаем.
Я принес тетке Настасее две пачки индийского чая — старинной ее привязанности — и кольцо «краковской» колбасы. Мы долго пили чай. Настасея жаловалась на суставы, крещенские морозы и трудности с кормом для поросенка.
Вернувшись, я закинул еще несколько полешек в печку и уселся над чистым листом бумаги. Мне хотелось что-то написать, хотя я еще не знал, что именно. Рассказ? Стихи? Мысль о писательском уединении и была подоплекой моего бегства. Помнится, о похожем состоянии сказал поэт:
Тут я должен оговориться. Я не поэт и не писатель. Профессия моя далека от литературы. Просто юношеская тяга к сочинительству — стихов в особенности — с годами так и не покинула меня. Я не считал это большим пороком и храбро читал свои сочинения друзьям. Как-то я даже послал подборку стихов в один толстый журнал. Через месяц пришел ответ — не без теплых ноток, но, увы, отрицательный. Несмотря на отказ, отклик редакции согрел мою душу, позволив и далее заполнять бумагу обрывками стихотворений. Но в журналы я больше не писал.
Итак, я сижу у стола. За спиной потрескивает печь. Карандаш оцепенел в руке. Я смотрю в темное окно. Я медлю этой зимней ночью. Так проходит и следующий вечер. И еще один. Впрочем, я не горюю. Отрава уединения придает какую-то значительность моему безделью. Ночами сижу, а потом сплю до часу дня.
Вылезаю поколоть дрова — лучшие моменты. Варю суп из концентратов. Читать нечего, приемника нет. Но это неплохо. Какой-то писатель сказал, что чужие книги — ножницы, которые перерезают жизнь мысли.
Тянулся четвертый вечер. Ему предшествовал багровый в полнеба закат. Я смотрел из окна на красно-синие пласты снега, тяжело нависшие над крутым берегом. Казалось, вот-вот они грозно ухнут в жаркую печь заката.
Кто искушен в литературном деле, знает — стихотворение пишется с конца. Поймав последнюю строку, ты чувствуешь, к чему надо двигаться. И дорога постепенно выстраивается. Только новички торжественно начинают с первой строчки. Набросав ее, они тотчас принимаются мучительно грызть карандаш. Я уже не так наивен.
Но, скажем честно, и не мастер. Я начинаю с серединок. Ими же обычно и заканчиваю. Вот и сейчас, насмотревшись на заоконные краски, я вывел:
Кто глядел? Ну конечно, лирический герой. Поэт.
С кем? Почему не с ней? И кто стекал на снег — закат, вечер или глядящий в окно? Все это действительно необъяснимо. Я уже вижу совсем другую картину. Подмосковный поселок. Двухэтажный дом, засыпанный снегом. Суровые под белою шубою ели. Насупившись, они бредут, подступая к стенам.
Почему чужой? Не знаю, но в этот зимний вечер он так далек от меня. Я кладу карандаш. Подпираю голову рукой. Тепло набегает сзади легкой волной. Закрываю глаза.
И тут же открываю их. Изумленно смотрю в косоватое окошко.
Там разгорается странный свет. Розово-голубое зарево освещает снег шагов на сорок вокруг. Какой-то блин, сворачиваясь и разворачиваясь, кренясь на бок, уткнулся в сугроб. Я тру глаза, качаясь на шатком стуле.
Раздается стук. Совсем тихий, но я вздрагиваю. Стучат в дверь.
Очень деликатно.
— Кто там? — кричу я хрипло.
— Простите, пожалуйста. Так неловко вас беспокоить.
Голос мужской. Голос приятный. Неожиданно звучно доносится он из-за толстых досок. Я откидываю крюк, выглядываю в темный провал. Пол мгновенно покрывается белым налетом на шаг от порога.
— Ну кто же там? — спрашиваю.
Две рослые фигуры топчутся у крыльца. Я почти не вижу их в слепящих снежинках.
— Да заходите, избу выстудите!
Они входят. Молодые, в темных плащах. Нет, скорее длинных шинелях с накидками. Они неловко стряхивают снег, и я вижу в их руках перчатки и черные цилиндры. Лица бледные, испуганные.
Молчат.
— Добрый вечер, — говорю я.
— О, добрый вечер! — хором вторят они.
— Видите ли, — говорит один из них, — в наши намерения… э-э… совершенно не входило причинять вам…
— Я уже это понял, — перебиваю я с абсолютно неуместной иронией.
Говорящий краснеет. Румянец заливает совсем еще мальчишеское лицо с красивыми темными усами.
— Но судьбе было угодно… То есть я полагаю… — Он умолк.
— У нас небольшая беда, — подает голос второй, — и мы очень надеемся на ваше доброе расположение и вашу помощь.
— Конечно, — говорю. — Чем могу быть полезен?
— Мы путешествуем, — продолжает второй. Он потирает руку об руку.
— Да вы замерзли. Идите к печке. — Я делаю шаг назад, давая ему дорогу. Он благодарно кивает и устремляется к горячей беленой стенке. — И вы погрейтесь, — говорю я усатому. — Вон что творится. — И закрываю дверь.
Теперь они оба оглаживают теплый печной бок, и я могу их рассмотреть. Оказывается, второй тоже с усами. Только они светлые и негустые. Их даже не сразу заметишь. Зато глаза задерживают внимание. Умные, цепкие. Да хохолок льняных волос на покатом лбу.
— Так вы путешествуете, — поддерживаю я разговор.
— Да, да, — говорят они опять разом, — так получилось, что наша машина…
— Наши сани, — говорит темноусый.
— Наш вертолет, — добавляет второй.
— Наш… э-э… экипаж…
— Так вертолет или сани? — спрашиваю я.
— Сани, сани, — подтверждает темноусый. — Они стали терять энергию.
— Терять энергию? — повторяю я. — У вас что, аэросани?
Темноусый мешкает с ответом. Заговорил светловолосый:
— Простите, вы по какой части служите? — Он скользнул взглядом по столу, бумаге. — По агрономической?
— Почему вы решили?
— У вас не крестьянский вид.
— Ну и что?
— А живете в деревне, в избе…
— Ах, вот вы о чем, — смеюсь я. — Так вы ошибаетесь. Я здесь не живу. Я здесь случайно. Приехал на несколько дней. Я из Москвы. И раз вам интересно, скажу: по образованию я физик, работаю в информационном отделе одного научного института.
— Физик? — говорит темноусый. — Это замечательно. Тогда вы нас поймете.
— Польщен, — говорю я. — Так что с вашими аэросанями?
— Это не совсем аэросани. Это такой, знаете, аппарат… Новые испытания… — Он смотрит на товарища.
— И вдруг, — подхватывает светловолосый, — случайная авария. Теряем энергию. Вынужденная остановка. И нам как воздух нужна электрическая энергия. А у вас горит свет, и мы подумали… — Он поднял глаза на лампочку, голо висящую на пыльном серо-желтом шнуре.
— О, электроэнергия не проблема, — говорю я весело. — Сколько угодно, о чем речь.
— Но, — теперь запинается светловолосый, — нам нечем заплатить…
— Вы это серьезно? — Я внимательно смотрю на него.
— Вы уж нас извините. Мы, наверное, идем по дуге вместо хорды. Но эта нелепая остановка… Она сбила нас с толку.
— Послушайте, довольно реверансов. У вас какие-то секреты, ну и Бог с ними. Меня они не интересуют. А помочь я готов. Электричество — это чепуха. Что еще?
— Вы нас не так поняли. Решительно никаких секретов. Просто мы сознаем, сколь удивительными вам представляемся. Ввалились ночью, в глуши, зимой воистину как снег на голову. Да еще в таких одеждах. — Светловолосый слегка повел цилиндром.
Блеснул белый шелк подкладки.
— Да, одежда у вас та еще.
— Мы взяли ее в костюмерной.
— Я так и подумал.
— Ну вот и хорошо. Нас необычайно радует, что мы столкнулись с человеком образованным, физиком. Физик без труда поймет, что машины бывают всякие… и полеты… и…
— Так кроме электроэнергии вам что-нибудь нужно?
— Ничего. Какое у вас напряжение?
— Двести двадцать вольт вас устроит?
— А мощность? — быстро спросил темноусый.
— Точно не знаю. Полагаю, несколько киловатт.
Темноусый оглядывается на своего спутника. Они задумываются.
— Лучше бы, конечно, мегаватты, — говорит наконец темноусый, — иначе долго… Будем это… валандаться. — И посмотрел на меня неуверенно.
— Помилуйте, откуда здесь такая мощность?
— Да, да, конечно. Спасибо большое. А соединительный провод у вас есть?
— Поищем.
Я беру фонарик, и мы с темноусым идем в клеть. Лешка — мужик хозяйственный, и мы тут же натыкаемся на великолепный моток толстого провода.
— Прекрасно! — восклицает мой гость.
Мы возвращаемся.
— Позвольте, я вас чаем напою, — говорю я.
— Чай? О нет, что вы.
Я вижу, что чаю им хочется, и ставлю чайник. Подбрасываю в топку дров. Гости следят за моими действиями.
— Мне нужно к машине, — встрепенулся темноусый.
— Возвращайтесь, — говорю я. — Закипит скоро.
— Да, — спохватывается светловолосый, — мы же еще не представились. Аскольд.
— Вахтанг, — говорит темноусый.
— Илья, — говорю я.
Мы трясем друг другу руки. Вахтанг выходит.
Я начал хозяйственную возню. Сгреб свой писательский инвентарь.
Протер стол.
— Вы нас очень выручили, — говорит Аскольд. — Такой мороз. Будем надеяться, что в машине…
В сенях хлопнула дверь.
— Аскольд! — Это голос Вахтанга.
— Простите. — Аскольд выходит.
Мне очень хочется посмотреть на «сани», но я боюсь показаться назойливым. Я делаю шаг к двери и слышу взволнованный шепот:
— Он замерз очень.
— Но ведь он его узнает.
— А что делать?
Мне становится неловко. Я отхожу к печке. Чайник вот-вот закипит. Появляется Вахтанг. За ним в проеме маячит Аскольд.
— Илья, — говорит Вахтанг, — там у нас еще двое. Им холодно. Не разрешите ли…
— Вы меня просто удивляете, — перебиваю я, — тащите их сюда. Будем чай пить.
Огонь горит ярко. Отблески из-за чугунной дверки ходят по стенам. Я испытываю приятное возбуждение. Столько гостей!
Вахтанг и Аскольд исчезают. Проходит минута. В сенях скрипит дверь. Топчутся люди. За Аскольдом протискивается коренастый человек, бородатый, с каштановой гривой. Одной рукой он прижимает к груди цилиндр, другую протягивает мне.
— Вадим.
— Илья.
За широкой спиной Вадима стоит еще один. Я никак не разгляжу его. Только вижу, что роста небольшого, волосы спутаны. Темно-рыжее колечко приклеилось ко лбу. Медленно я огибаю монолитную фигуру Вадима. В избе тихо. Слышно, как трещат в печи поленья. Я продолжаю свой плавный танец. Наконец Вадим сдвигается в сторону, и я вижу четвертого гостя целиком. Я вижу его в желтом свете пыльной шестидесятисвечовой лампочки, в красноватых отблесках пламени. Я смотрю на него и молчу. Губы одеревенели.
Сознание раздвоилось. Одна половинка вспорхнула испуганной птицей, вторая продолжает регистрировать детали. Землисто-желтую кожу, бакенбарды, настороженные грустные глаза, белый клок шарфа у подбородка. Мне кажется, что молчание длится долго. Но я не в силах прервать его.
— Узнал! — раздается громкий шепот Аскольда.
И в этот момент вновь включается движение. Вадим продвигается к печке. Аскольд и Вахтанг расстегивают шинели. А невысокий человек с печальными глазами делает шаг вперед и негромко говорит:
— Пушкин, Александр Сергеевич.
Он говорит это, обращаясь ко мне. С трудом шевельнув губами, я отвечаю чуть слышно:
— Коротков… Илья Евгеньевич.
И касаюсь его холодной ладони. Глаза его оживляются, он поводит плечами и говорит:
— Однако я замерз.
— Александр Сергеевич, — подбегает к нему Вахтанг, — к печке прошу, к огню.
— Да, да, благодарю. Здесь хорошо, тепло.
Гости снимают шинели. Клокочет чайник.
Рядом со мной стоит Аскольд.
— Скажите, — шепчу я трагически, — ведь это настоящий Пушкин?
— Самый что ни на есть, — отвечает Аскольд с улыбкой.
— Но как это возможно? И кто же вы?
— Служба Т-перевозок. — Он слегка вытягивается и щелкает лакированным сапожком.
— Каких перевозок?
— Перевозок во времени.
— Так вот оно что… Эти ваши «сани»…
— Вы правильно поняли.
— Ничего я еще не понял, — бормочу я.
— Вообще-то и не предполагалось, что вы должны понять. Игра случая. Но коли так получилось — спрашивайте.
— Откуда же вы и куда?
— Мы только что из 1837 года. В этом году умер Александр Пушкин. У нас была возможность за мгновение до кончины забрать его со смертного ложа. По понятным причинам нам пришлось сделать это незаметно, то есть пойти как бы на подлог, хотя подлога не было. Вот почему я и могу утверждать, что ваш гость — это Пушкин. Мы везем Александра Сергеевича — с его, разумеется, согласия — туда, где он будет жить привольно и долго. К сожалению, это не осуществилось в его время. Но разве сие справедливо?
— Вы сказали «долго»? — спросил я.
— Да, — ответил Аскольд беспечно, — лет сто, если не больше. Гены в роду Пушкиных крепкие.
— И как там у вас?
— О, неплохо. Осенние дубравы. Тихие рощи. Книги. Перо и бумага. Прогулки с новыми друзьями. Специальный пансионат для великих неудачников истории.
— Неудачников?
— Я неточно выразился. Но в любом случае люди должны прожить отпущенный им природой срок.
— Вас посылают только за великими?
— Не только, но по преимуществу. — Он взглянул на меня, и я смутился.
— Послушайте, но ведь я был в Святогорском монастыре, я видел могилу… Кто же там?
Аскольд посмотрел на меня очень серьезно.
— Кто? Раз вы так задаете вопрос, ответ может быть только один: там Пушкин.
Мне кажется, что к нашему разговору начинают прислушиваться. Пора разливать чай. Благо кружек и стаканов хватает.
— Прекрасный бивак, господа, — говорит Пушкин, грея руки граненым стаканом.
— Отлично вышло! — громогласно хохочет Вадим. — А мы боялись.
— Послушайте, — говорю я, — у меня есть водка. Может быть… Надо же отметить такую встречу.
— Подумать, водка, — говорит Вахтанг.
— Водка, — повторяет Вадим, — такое еще время. Кстати, который тут у нас год?
— Конец двадцатого века, — отвечает Вахтанг, — а точнее нам может сказать наш добрый хозяин.
— Объяснил! — фыркнул Вадим. — Век и я успел разглядеть. Именно о точной дате идет речь. — Он повернулся ко мне.
— Двадцать шестое, нет — уже двадцать седьмое января тысяча девятьсот восемьдесят пятого, — сказал я.
— Спасибо. Так и напишем в отчете: ночь в январе лета одна тысяча девятьсот восемьдесят пятого.
Я тем временем выволакиваю на стол все припасы. Мне хочется угостить всех на славу. Полголовки сыра, две банки лосося, колбаса, румынская фасоль, баночка чавычи, хрустящие хлебцы, коробка конфет «Южный орех».
— А знаете что, — говорит вдруг Аскольд, глядя на все это богатство, — глоток крепкого не причинит нам особого вреда. Уважим традиции эпохи?
— Уважим! — поддерживает его Вадим.
— Без сомнения, — соглашается Вахтанг.
— Я готов присоединиться, господа, — говорит Пушкин, — если только… — И смотрит на Вадима. Тот с улыбкой кивает.
Я тащу из сеней бутылку «Пшеничной». Разливая водку, ловлю себя на мысли, что воспринимаю происходящее как сон. Тем не менее я очень деятелен. Вспоминаю: у Лешки на случай отключения электричества припасены свечи. Я леплю их на кругляши, служащие здесь подставками, и зажигаю. Получается красиво.
Набираюсь наглости, поднимаю стакан:
— Дорогие гости! Насколько я понял, ваш неожиданный, но чрезвычайно для меня приятный визит есть следствие случайных обстоятельств, какой-то, надеюсь, совсем ничтожной аварии. Да не прозвучит это кощунством, но я благодарю судьбу за эту поломку, незначительную для вас и столь щедрую для меня. Это подарок, поразительный, волшебный подарок. Я чувствую, вы делаете что-то очень важное, хотя и далеко не все понимаю. Я счастлив, что могу хотя бы в малом помочь вам. За вас, за счастливое, успешное завершение путешествия!
Нестройные, но одобрительные возгласы. Не очень умело, но искренне гости протягивают стаканы. Звон. Видно, что все проголодались. Только Пушкин почти не ест.
— Александр Сергеевич, попробуйте, пожалуйста, вот это. — Я подкладываю на его тарелку бледно-розовый ломтик рыбы и робко замолкаю, вспомнив «Страсбурга пирог нетленный меж сыром лимбургским живым и ананасом золотым».
— Благодарю, — тихо отвечает Пушкин.
— Александр Сергеевич еще не вполне здоров, ему не нужно много есть, — говорит Аскольд.
— У меня есть кое-какие лекарства, травы, — лепечу я.
— О, спасибо, в этом нет нужды. Наш Вадим — врач. Все будет в порядке, не тревожьтесь.
Аскольд встает с ответным тостом.
— Мы тоже благодарны судьбе за встречу с таким прекрасным, гостеприимным и таким понятливым человеком…
Я протестующе машу рукой.
— По опыту мы знаем, — продолжает Аскольд, — сколь нелегким бывает общение между людьми даже соседних веков. А нас разделяет куда большее время. Наше приключение изменяет печальный счет в лучшую сторону. Оно напоминает нам: никогда не теряйте надежду на встречу с единомышленником и другом. Лучшие люди всех эпох в едином союзе. И это прекрасно. За нашего хозяина!
— Ура! — кричат Вадим и Вахтанг.
— Ура! — вторит порозовевший Пушкин.
Мы сидим с Александром Сергеевичем у печки. Аскольд и Вахтанг на улице. Они возятся с машиной. Вадим задумчиво подпирает косяк двери. Пушкин смотрит на огонь. Потом поднимает голову.
— В ходе застолья, Илья Евгеньевич, я заключил из слов ваших, что попал во время, отдаленное от моего на полтора столетия.
— Это так, — подтвердил я.
— Господа же Аскольд, Вахтанг и Вадим, — продолжал он, — говорили мне незадолго до нашей остановки, что родная для них эпоха отстоит от моей на три века. — Он улыбнулся. — Выходит, мы остановились как раз на полпути.
— Выходит, Александр Сергеевич.
Он подошел к окну и рукой стер со стекла тусклый налет влаги.
— Эту остановку и мне надлежит полагать удачею, ибо она, помимо несомненного удовольствия говорить с вами, дает мне случай узнать о мире, новом для меня совершенно, но и отличном от того, где живут мои благородные похитители. Взяв это в соображение, вы поймете и, поняв, простите великодушно то любопытство, быть может неуместное, которое заставляет меня с жадностью глядеть вокруг себя.
Пушкин отвернул голову и стал смотреть в окно. Мой взгляд последовал за ним.
Светила ярчайшая луна. За упавшей изгородью шло нетронутое снежное поле, обрубленное с трех сторон лесом, а с четвертой — черной стеной сарая и двумя-тремя увязшими по заколоченные окна избами. «Я провижу гордые тени грядущих и гордых веков», — пролязгали в памяти чьи-то громкие стихи.
Пушкин перевел взгляд внутрь комнаты и стал оглядывать ее с напряженным вниманием. Дощатый стол, лавка с косо поставленными ногами, два табурета. Печь с облупившейся побелкой. Блестящие никелированные шарики кровати. Что еще? Полка с кухонными причиндалами. Утыканные гвоздями бревенчатые стены, потолок, оклеенный грязноватой и кое-где порванной бумагой. И, весь в узлах, шнур с лампочкой. Сиротливый представитель материальной культуры гордого века.
И тут на меня нашло детское желание похвастать перед великим поэтом техникой наших дней. Боже мой, ведь он и железной дороги не видел. «Веселится и ликует весь народ» — это было позже. Показать бы ему цветной телевизор. Сцену из оперы «Евгений Онегин». «Маленькие трагедии» со Смоктуновским и Высоцким.
Или балет. Он, кажется, любил балет. «Блистательна, полувоздушна, смычку волшебному послушна…» А может быть, по страшному контрасту хоккей. Безумную схватку мужчин двадцатого века. «Динамо» — «Буффало сейбрс». Но нет телевизора. Даже приемник остался в машине. Нет ничего. Все чудеса нашего мира — панорамное кино и лазеры, компьютеры с ладонь и ракеты с двaдцатиэтажный дом, Третьяковка и музей его, Пушкина, имени, где в живописи страсть и страдание века, — все это там, за десятками километров леса и снега…
Распахивается дверь. Входит Аскольд.
— Послушайте, — говорю я под влиянием импульса, — может быть, вы задержитесь на день-другой? У меня тут недалеко автомобиль. Так хочется свозить Александра Сергеевича в Москву. Ну пожалуйста! Ведь он там родился.
Я уже бормочу, понимая бессмысленность просьбы и предчувствуя ответ. И слышу его:
— Это невозможно. — Аскольд улыбается и качает головой. — Не огорчайтесь так. У нас отличные историки. Александр Сергеевич все увидит и все узнает.
Господи, о чем я думал, о каком телевизоре? Ведь Пушкин уже видел их аппарат, эти «сани». Чего он только не увидит там…
А наше время? Останется у него в памяти небритый бирюк в развалившейся избенке. Двадцатый век! Россия!
— Ничего, я ничего, — говорю. — Я не огорчаюсь.
— А вы знаете, Александр Сергеевич, — обращается Аскольд к Пушкину, — мне кажется, наш радушный хозяин сочиняет стихи.
— О! — вырывается у Пушкина.
Я краснею.
— Вы почитаете мне что-нибудь? — с пылом восклицает поэт.
С упреком гляжу на Аскольда. Запинаясь, объясняю, что читать свои стихи не могу. Аскольд отводит взгляд.
— Ты нам нужен там, Вадим, — говорит он.
Они выходят.
— Вы должны, вы обязаны познакомить меня с вашими сочинениями, — с тем же жаром говорит Пушкин. — Российская поэзия двадцатого столетия. О, это волнует меня необычайно!
— Поэзия двадцатого столетия? — переспрашиваю я. — Хорошо, Александр Сергеевич. Я согласен. Не свои стихи, конечно. У меня их, собственно… Я прочитаю вам любимых моих поэтов. Книг у меня здесь, к несчастью, нет. Я почитаю, что помню.
— Давайте же! — говорит Пушкин.
Он садится на лавку, закидывает ногу за ногу. Бросаются в глаза узкие панталоны со штрипками, порыжевшие на сгибах кожаные сапожки. Взгляд ожидающий, тревожный.
Я начал с Блока. Со строк, что обожгли меня еще в ранней юности.
Память у меня хорошая, стихов помню много. Сначала от волнения я запинался. Но взгляд Пушкина был полон такого жадного внимания, что я немного успокоился. Впрочем, нет. Спокойствие — не то слово. Голос мой и теперь был неровен, но причины тому были другие. Другое, более высокое волнение вело меня от строки к строке.
Несколько раз слушатель мой выказывал необычайное возбуждение, и я на миг замолкал. Но он тут же хватал меня за руку и шептал жарко: «Еще, еще!»
Что это была за ночь! Горя щеками и задыхаясь, я переходил от поэта к поэту, вновь возвращался, кружил и петлял. «Наше священное ремесло существует тысячи лет… С ним и без света миру светло. Но еще ни один не сказал поэт, что мудрости нет, и старости нет, а может, и смерти нет».
Я читал. Грохотала и хохотала, хрипела и пела, любила и била поэзия двадцатого века. Русская поэзия.
Иногда Пушкин вскакивал, жарко расспрашивал об авторах стихов, о том, как они жили и как умерли.
Я читал. «Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые… Война гуляет по России, а мы такие молодые!» Я торопился, захлебывался. Боялся — не успею. Вот это. И это. А без этого как же?
Временами, цепенея, я говорил тихо и тонко. «Врасплох застигнутый подсвечник метнулся тенью по стеклу, в стакане вздрогнул и вздохнул последний из лесу подснежник». И снова обретал голос и чеканил:
О, сколько это продолжалось! Я хотел представить всех, рассказать обо всем. Но разве стихи не сделали это за меня? Не вплавили в себя наше бешеное, страшное, страстное время? Разве не говорят они, как мы любим и умираем? Можно ли об этом поведать одними стихами? За одну ночь?
Пушкину можно.
Со спазмами в горле читал я:
Я посмотрел на Пушкина. В его глазах стояли слезы. Я затих.
Я молчал и плакал вместе с ним. Хотелось сказать: «Дорогой Пушкин, это огонь вашей души уже сто пятьдесят лет светит русским поэтам. Вы слушаете ваших продолжателей, ваших детей…» Но я сказал другое:
— Александр Сергеевич, в Москве, на улице, которая раньше называлась Тверской, стоит памятник. Вам. Как вы думаете, что на нем написано?
— Ну, коли памятник, что-нибудь лестное.
— Надпись очень короткая. Всего одно слово.
— Какое же?
— Пушкину.
Растворилась дверь, вошли все три путешественника.
— Александр Сергеевич, пора, — сказал Аскольд.
Пушкин сделал шаг ко мне. Мы обнялись.
— Прощайте. Спасибо, — сказал он.
Потом были объятия с Вахтангом, Вадимом и Аскольдом.
Вдруг я заметил, что Пушкин с любопытством смотрит на лампочку, все еще сверкавшую под потолком. «Бог ты мой, — подумал я, — ведь для него и эта штука из разряда чудес».
— Аскольд, — спросил я неожиданно для самого себя, — могу я сделать Александру Сергеевичу маленький подарок? Вот эту лампочку. На память.
— Разумеется, — ответил он с легкой улыбкой, — вы вполне можете это сделать.
Схватив полотенце, я вскочил на табуретку и вывинтил лампочку. Подошел к Пушкину. В синих рассветных сумерках блеснули его глаза. Я протянул ему горячую стеклянную грушу.
— Осторожно, Александр Сергеевич, не обожгитесь. Возьмите перчаткой.
— Благодарю, — тихо сказал Пушкин, бережно принимая подарок. — Я не забуду стихов, прочитанных вами.
На пороге я тронул Аскольда за рукав.
— Мне следует молчать о вашем визите, я так понимаю?
— Вовсе нет, — ответил он, — вы вольны рассказывать о нем кому угодно. Единственно… — Он на секунду замешкался. — Подумайте, не поставите ли вы себя в неловкое положение. И простите нас за то, что мы ничего не оставляем вам на память. Это не в наших силах. От прошлого будущему подарки естественны. Будущее всегда получает дары из прошлого. Обратное, к несчастью или счастью, невозможно.
— Что вы, что вы… — забормотал я.
— Но сказать кое-что я должен. Будущее, откуда мы прибыли, зная об ошибках и трагедиях прошлого, даже многое зная, не вправе вмешиваться. И я не вправе открыть, что ожидает вас, ваших близких, вашу страну… Но вот мой совет: вникайте в стихи — истинных поэтов, больших поэтов. Там есть все — и прошлое и будущее. Помните строки — «Товарищ, верь: взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна…»? Вы понимаете меня?
Был долгий беспокойный сон. Проснулся я далеко за полдень. Лежал, глядя на голубое морозное окно. События минувшей ночи казались мне прекрасным видением, но я не мог подобрать ключа к их смыслу. Люди всех эпох — в едином союзе. Они образуют цепочку во времени. В настоящей поэзии — правда о будущем. Не эти ли мысли развивал привидевшийся мне человек с редким именем Аскольд?
Поэзия…
Но как часто в России убивали поэтов.
От страха перед будущим?
«Перепутались все времена, через Лету не сыщется брода…» Чье это? Не помню. Да и важно ли — чье? Времена перепутались. Еще совсем недавно нас кидало в средневековье. Мы только-только выползаем. И как нужен нам пушкинский жар. «Изыде сеятель сеяти семена своя».
Я встал. Сумерки сгущались. Рука потянулась к выключателю.
Что такое? Вздрогнув, я смотрю на потолок. На узловатом шнуре одиноко висит голый черный патрон.
Без света я пробираюсь по избе, выхожу на крыльцо. На смутном небе горит единственная, маленькая, но хорошо заметная звездочка.
«Пойти к Настасее, дрова поколоть», — думаю я.
Окна
Велемир Хлебников
- Смотрите, вот она!
- Вот то курчавое чело, которому пылали раньше толпы.
- И с ужасом
- Я понял, что я никем не видим,
- Что нужно сеять очи,
- Что должен сеятель очей идти!
Забор был старый, пепельно-серый от дождей, столбы подгнили. Одна завалившаяся секция подвязана с той стороны электрическим шнуром к березе. Выше шнура на стволе толпились сыроватые опята. Третье утро подряд Илья думал, что хорошо бы их срезать. Он обходил участок, возвращался в дом, грел на электроплитке чайник, грыз черствые пряники, садился за работу. Стучал будильник. Шуршали мыши. Рука повисала над бумагой.
Сентябрь оказался холодным. По недостроенному дому бродили сквозняки, плитка горела день и ночь. Темнело рано. В сумерках за гнилым забором начиналась неясная жизнь. Доносились голоса, музыка, тихий смех, звук отъезжающего автомобиля. Илья вскакивал, вглядывался в окно, а то и выходил из дому, подбирался к самому забору.
Прислонясь лбом к березе, слушал — невнятное женское бормотанье, звуки лопнувшей струны, чей-то монотонный счет, как будто кто-то мерно перекладывал из сундука в сундук цехины или дублоны. Окна соседней дачи слабо светились, словно по комнатам ходили со свечой.
Днем дача эта казалась совершенно заброшенной. На крыльце перед заколоченной дверью нетронутым ворохом лежали желтые листья. Ветер шевелил забытую бельевую веревку. Илье хотелось рассмотреть дом поближе, но перелезть через забор он не решался, а дачные проулки, сколько он ни петлял, уводили в сторону. Чужие дома смотрели равнодушно, даже враждебно. После трехдневных блужданий Илья оставил эти попытки, но по ночам невольно продолжал слушать волнующие его шумы.
В воскресенье приехала Ванда. Выкладывая из сумок продукты, она ровным голосом сообщала городские новости. Позже, разгребая грязь и моя посуду, сказала, что мечтает найти для Ильи приходящую домработницу. Здесь, в поселке, никого нет, но вот в соседних, где и зимой живут, а может быть, в окрестных деревнях… Илья спросил, кому принадлежит дача за гнилым забором. Ванда не знала.
Но обещала при случае справиться у хозяев того дома, в котором нынешней осенью приютился Илья. «Нет, не нужно, — сказал Илья, — это не так важно». Ванда посмотрела на него с удивлением.
В ночь на вторник за забором пел сильный красивый женский голос. У Ильи стучало сердце. Он слушал до утра, потом беспокойно спал под грудой рваных ватных одеял. Встал поздно, наскоро попил чаю и вышел. Гроздья рябины краснели среди поблекших берез. Обогнув поржавевшую водоразборную колонку, Илья углубился в переулок, спустился в маленький овраг, свернул направо, потом еще раз направо и выбрался на площадку, от которой лучами расходились улочки, образованные глухими заборами. Зная коварство этих улочек, Илья медлил. Потом выбрал одну. Наугад.
Шагов через сто натолкнулся на выцветшее объявление: «продаецца доски тёс старая железа». Он хмыкнул, счел объявление добрым знаком и двинулся дальше. Прошел еще несколько шагов и вздрогнул. Штакетины обмотаны знакомым электрошнуром. Встав на носки, Илья глянул поверх забора. Было неуловимое сходство.
Были и отличия. Дверь наискосок забита доской, но крыльцо чисто подметено. Бельевая веревка исчезла, но остались гвозди. На одном висел темно-красный вымпел, на другом болталась подкова.
«Я знаю, я чувствую, что здесь кто-то есть», — подумал Илья. Он ушел на другую сторону, перепрыгнул канаву и спрятался за толстой сосной. Поначалу он бездумно смотрел в небо, на желтые и красные верхушки деревьев, потом начал считать, потом вспоминать стихи. Когда, невнятно бормоча, дошел до строк «Свет в окошке шатался, в полумраке — один — у подъезда шептался с темнотой арлекин», чуть не прослезился. «Эге, — сказал он себе, — значит, пора. Уж кто-нибудь там да вышел».
— «Там лицо укрывали в разноцветную ложь…» — закричал он громко и выпрыгнул из-за сосны.
На другой стороне улочки стоял загорелый старик с тростью и смотрел на Илью испуганно.
— Здравствуйте, — начал Илья живо, может быть, даже чуть развязно.
— Здравствуйте, — осторожно ответил старик.
— Меня зовут Илья, — продолжил Илья в той же свободной манере, но сбился и добавил неуверенно: — Евгеньевич.
Старик смотрел на него молча, жевал губами. Пробормотал себе под нос:
— Открытое. Довольно широкое. Чистое. — Потом сказал громче, голосом ясным: — Можете называть меня Александром Ардикеевичем.
— Очень приятно, — сказал Илья, стараясь не выказывать удивления. — Я, знаете ли, привык, что живу один чуть ли не в целом поселке. Вот, вышел прогуляться. И вижу, я здесь не один. Приятно. Ведь мы соседи?
— По-видимому, так, — нехотя согласился старик.
— Вы тут один? — продолжал выпытывать Илья, ужасаясь собственной бесцеремонности.
— Да, да, совсем один.
За спиной старика коротко вскрикнула калитка, и тонкий голос взволнованно сообщил:
— Они почти открылись!
Выглянула девушка. Копна пепельных волос. Длинный черный халат в белых драконах и лилиях. При виде Ильи глаза ее изумленно расширились. Калитка снова подала голос, и девушка исчезла. Старик закашлялся, достал платок. Трость гуляла из руки в руку. Потом он посмотрел на Илью и сказал:
— Темнеет нынче рано. А я-то хотел до леска дойти. Дай, думаю, грибов поищу. Грибов-то уже мало. Но полон еще запахов лес.
— Угу, — сказал Илья, — хорошо дышится.
Лес был мал и редок, начинался сразу за последними дачами и тянулся с тысячу шагов до деревни Глебово. Старик ворошил палкой листья, цепко смотрел сквозь прозрачный подлесок и углядел-таки несколько запоздалых боровиков и моховиков. Он не ленился нагибаться, срезал грибы ножом и клал в крохотную торбочку. Илья, сколько ни вертел шеей, ни одного гриба не обнаружил. Это его не трогало. Он поглядывал на темно-красную щеку, худой горбоносый профиль и жадно слушал. Старик оказался разговорчивым.
Легко откликался на любую тему, помнил бездну интересного.
Сначала Илью увлекло рассуждение о времени. В который раз, говорил старик, наталкиваемся мы на эту завораживающую загадку.
Вот, скажем, философ Плотин жил и творил, если не ошибаюсь, в третьем веке от Рождества Христова и в сочинениях своих следовал Платону. И хотя Плотина и великого его предшественника разделяют не сорок лет, не столетие, даже не три столетия, а целых шесть веков, — вдумайтесь в это! — для нас, глядящих на них из временного далека, эти два античных философа стоят как бы рядом. Та же штука и с пространством. Знаете, мне приходилось жить в Андах, в маленькой горной деревушке. Так оттуда Москва и Лондон кажутся близкими соседями. А если смотреть, скажем, от Фомальгаута, то рядом оказываются Северная Корона и Солнце.
Когда задумываешься об этих пространствах, о временных протяжениях, в коих движется человеческий дух, становится как-то смутно на душе, и мельтешение ваших десятилетий — я сказал «ваших»? Простите, конечно же наших, — так вот, мельтешение это представляется сущей суетой, вы согласны? Потом разговор перешел на грибы, от которых перекинулся на антибиотики, и старик сообщил, что пенициллин задолго до Флеминга изобрела бабка Макариха из села Волицы, которая более сотни лет тому назад исцеляла гнойные раны и язвы заплесневелой закваской из хлебной дижки — так называла бабка кадушку. Старая Волица превратилась в городишко Вольный, и правнуки бабки не лечатся уж закваской из дижки, а ходят за пенициллином в аптеку, что в первом этаже панельного урода, грязно-серого и по швам промазанного черным варом. Эти дома почему-то как плесень — увы, не целебная — покрывают вашу… (Я опять сказал «вашу»? Простите…) Да, они покрывают землю, но бабка Макариха уже не увидит этого…
Между тем тропа вывела их на опушку. На той стороне небольшого поля под низким небом светились крыши изб.
— Что ж, пора и назад, Илья Евгеньевич, — сказал старик.
— Пожалуй, пора, Александр Ардикеевич, — сказал Илья.
На обратном пути Илья рассказал об институте, о том, как за весну и лето он выполнил годовую нагрузку, чтобы уединиться в пустом осеннем поселке и написать давно задуманную повесть.
Рассказал, что за две недели написал три строчки, да и те нелепые, что махнул на повесть рукой, но не жалеет, о времени не жалеет, потому что… Тут он запнулся. Старик смотрел с дружелюбным вниманием.
— Потому что хорошо здесь думается и дышится, что-то узнаешь о жизни, о себе, глубокое, правдивое… А писательство… Бог с ним… Этот зуд у многих. Я вот только думаю, если б Акакий Акакиевич Башмачкин писал… хотя бы дневники, в стол складывал, а мы бы сейчас нашли… Писать должен каждый, если пишется… Как вы думаете?
— А я так же думаю, — сказал старик и добавил задумчиво: — Чем славен человек? Душою. Душа — это мысли, чувства. Воплощенные в знаки, они вечны. Пишите, друг мой, пишите. Только честно, просто.
— Это-то и трудно. Так и крутится в тебе эдакий бес, шепчет: пиши красиво, пиши фальшиво, на продажу.
— Нельзя. Тогда окно мутнеет, мутнеет… И ему больно.
— Кому больно? — не понял Илья.
— Простите, я хотел сказать, что душу беречь надобно. От фальши болеет она.
Они шли вдоль заборов.
— Пригласил бы вас на ужин, да грибов-то… — сказал Александр Ардикеевич, останавливаясь и намереваясь прощаться.
— Грибы есть, — сказал Илья простодушно, — хотите, принесу опят? На целую сковороду.
Старик глянул пронзительно.
— Приносите. Добрый будет ужин.
Илья кинулся домой, выплеснул из ведра воду, побежал к березе.
Срезая грибы, думал о девушке в драконах и лилиях, о старике, который сделал вид, что никакой девушки нет. Опят набралось три четверти ведра.
Он опять заблудился. Проулки петляли. Илья торопливо шагал мимо незнакомых дач, поворачивал, возвращался, зло бормотал про подлого старикашку, пригласившего его неведомо куда. Но и я хорош, думал он, не мог перелезть через этот проклятый заборишко.
Когда он совсем было отчаялся, в закатных лучах встала розовая крыша. Чуть качался на ветру бордовый вымпел.
— Входите, я вас жду, — раздался голос старика, как только Илья, осторожно преодолев пространство от калитки до крыльца, взялся за скобу двери, забитой доской. Доска ничуть не помешала двери открыться. Темный коридор, лестница на второй этаж, впереди сквозь приоткрытую дверцу синим небом светилось окно. Илья робко двинулся на этот свет, толкнул дверь, увидел пустую комнату, посреди которой подрагивала оставленная кем-то качалка. Он повернул назад, заглянул еще в одну комнату, полную хлама, но тоже безлюдную.
— Да здесь я, Илья Евгеньевич.
Александр Ардикеевич, укутанный пледом, чистил картошку.
Две керосинки светились слюдяными оконцами. По углам залегли тени.
— Давайте я вам помогу, — сказал Илья.
Когда картошка зарумянилась, а грибы шипели в темной кипящей жиже, Илья достал из сумки буханку хлеба и бутылку водки.
— Я подумал, вдруг хлеба мало. Куда сейчас побежишь.
— А это зачем? — высоким голосом спросил старик, кося испуганным взглядом на бутылку.
Илья смутился.
— На улице холодно. Грибы жареные. Обычай такой.
— Ах, обычай, — сказал старик с облегчением.
Вдвоем они накрыли на стол.
— А разве мы больше никого не пригласим? — спросил Илья.
— Кого? — изумился старик.
— Не знаю. Так… я подумал. У вас тут кто-то поет вечерами.
— Я живу один, — сказал старик.
Грибы получились отменные. Александр Ардикеевич и Илья церемонно чокались стаканами, неспешно беседовали. На этот раз старик был задумчив, говорил мало, ел еще меньше. И вдруг сказал:
— Илья Евгеньевич, вам никогда не казалось, что вы — это кто-то еще?
— В каком смысле?
— Словно кто-то выглядывает из вас, видит мир вашими глазами. И в то же время этот кто-то — не вы.
— В смысле, гомункулюс? — промычал Илья, жуя.
— Нет, не гомункулюс. Не алхимический карлик. Тут иное.
— Ну, вообще-то, может быть. Бывает иной раз странное чувство. Но чаще мне кажется, что я сам выглядываю из себя. Понимаете? Сам себе клетка. И хочется вылезти. Знаете, в духе одной метафоры — раздвинуть ребра и выбраться на волю.
— Это ближе. Да. Думаю, вы меня поймете.
Илья молчал.
— Вас наверняка интересует загадка человека. Предлагаю одну мысль. Представьте себе: тьма, полная тьма. Во всем беспредельном мире. Что это значит? Ведь мир, мы знаем, полон света. Но если некому смотреть на этот свет, то он — тьма. Разлетаются сверкающие спирали галактик, льют свет звезды, но в мире тьма. Доколе? Пока в доме не распахнут окна.
Илья перестал жевать.
— Помните, кто-то сказал: человек — это эволюция, осознавшая самое себя. Скажем проще — увидевшая себя. Увидевшая мир, свет, жизнь. Да, мы окна. В большой многомерный мир. Вспухали, вспухали среди трав какие-то особые, странные ростки — и в них открывались глаза. Это чудо. Но еще большим чудом стало явление человека. До этого дух словно в камере темной сидел. Я имею в виду не Божественный дух, нет. Человеческий. Люди — это мозаичное миллиардоликое окно. Понимаете теперь смысл их единства? Я провожу эксперимент… Представьте — темный дом. И вдруг распахивают окна. Свет заливает… Да будет свет! Но он был вечно. Не всегда были глаза.
— Да будут глаза? — тихо, с легкой вопросительной интонацией сказал Илья.
— Да будут окна! — улыбнулся в ответ старик. — Бывают окна разные широкие, чистые, бывают маленькие, мутные, кривые. Каждый может сделать свое окно шире, чище. Может, наконец, рядом открыть еще одно и еще…
«Мы — окна», — пел Илья, возвращаясь. «Мы — окна!» — горланил он в ночной пустоте. «Да, но кто же все-таки выглядывает из нас в этот мир?» — бормотал он, засыпая.
Наутро Илья проснулся в отличном расположении духа. Выбежал в сад, со вкусом сделал зарядку, разрывая руками холодный прозрачный воздух и шумно дыша. Потом подошел к березе и по привычке долго смотрел на соседний дом. И вдруг понял — его тянет к старику.
Хорошо сидеть у него вечером и неспешно беседовать. Ах, как хорошо. Но удобно ли навязываться? И какой найти предлог? Не пригласить ли старика сделать ответный визит? Долг вежливости.
Утвердившись в этой мысли, Илья отправился после обеда к Александру Ардикеевичу. Но в тот день ему не везло. Проулки коварно петляли. Загадочного дома он не нашел. В сумерках вернувшись к себе, Илья долго глядел на темную дачу за гнилым забором и качал головой.
Допевал песню чайник на только что выключенной плитке.
Убаюкивающее тепло накатывало в спину. Илья записывал рассказ Александра Ардикеевича о том, как он собирал грибы в одной южной стране. В том вчерашнем рассказе неведомый лес выступал объемным, слоистым, красновато-серым. А здесь, на измаранной половине листа, проступало нечто жалкое и плоское. Ни одного точного слова. Корявые буквы отвратительны. «Я дико бездарен», — сонно думал Илья, опуская тяжелые веки. Чуть скрипнула дверь.
В сгустившемся воздухе поплыли голубовато-белые драконы и лилии. Пепельные волосы светло стекали, тонули в складках черного плаща. Она смотрела строго и просто. «Пишите», — сказала и села на стул, хромой древний стул с резной высокой спинкой. В напряженном взгляде Ильи светилось недоумение. Она кивнула. Он взял ручку и сразу понял, что пальцы его лишены ненужной и шаткой свободы. Мозг был ясен и пуст. Слова лились в него, рука бежала, под пером проступали летящие чистые строки. Илья уже знал, что пишет когда-то задуманную поэму о друзьях, верных спутниках университетских лет. Было время, они собирались, шумели, спорили.
В косноязычном юношеском бормотании проступала тоска по самопретворению, лезла жадная тяга к творчеству. Ныне они — творцы.
Их семеро. Физик, создавший новую систему растрового микроскопа. Биолог, который теоретически описал механизм сокращения мышц. Философ, бросивший интеллектуальную перчатку мировой энтропии. Журналист, опубликовавший блестящую серию статей о народных целителях. Художник, пишущий острые и точные портреты, гротескные, как у Модильяни. Инженер, награжденный медалью за придуманный им тепловизор. Музыкант, выборматывающий музыку вместе со стихами.
Да, это его друзья, голодные от молодости, возбужденные и счастливые. Они построили корабль, фрегат дружбы, в борта которого бьют бессильные волны. Куда плывут они под стон мачт?
Прям ли их путь? Один ли он для всех? Белый след бежит по густой воде. Светятся полулуния парусов. Задумчивы темные окна в деревянных бортах. Окна. Искание и бытие. Тяжелый, спокойный взор людей, понявших подлинность своей цели. Окна фрегата! Стих бьется, возвращается в старые переулки, любови, ошибки… Была ли тогда измена? Чьи шаги отзвучали за поворотом? Новая волна бьет в скулу судна, и брызги леденят кожу. Фрегат продолжает путь.
Илья не встречал друзей полгода. Он спрятался от них. Может быть, и надо было исчезнуть на время? Он так ясно слышит их голоса. Он видит, что шире и светлее открываются окна в корабельной обшивке.
Илья кончил писать. Поднял глаза. Она все так же спокойно сидела на стуле, сложив на коленях смуглые руки.
— Странно, — сказал Илья.
Ее губы едва улыбнулись.
— Я думал, ты исчезнешь.
— Я скоро уйду, — сказала она.
— Нет, я не хочу.
— Мне надо.
— Останься. Поговорим.
— О чем?
— Зачем ты мне диктовала? Я буду мучиться теперь, что все это написано не мной.
— Это написал ты.
— Послушай! — гневно сказал Илья. — То, что ты мне нашептала, прекрасно. Но я не могу выдавать это за свое.
— Это твое. Я только помогла перенести на бумагу, иначе утром ты бы все забыл. Это слишком глубоко в тебе, понимаешь? Ты не умеешь доставать.
— Не знаю, — сказал Илья, — может быть. Не знаю. Но зачем тебе это? Кто тебя прислал? Старик?
— Я сама. И он меня прислал.
— Зачем? Кто вы?
— Мойщики окон. Мы приходим к тем, кто нас ждет.
— Я ждал вас?
— Да, — сказала она.
— Откуда вы?
— Издалека. Хотя мы близко.
— Почему ваш дом полон звуков? Что за машины к вам приезжают?
— Там, с той стороны, город. Так уж стоит дом. Там всегда праздник. Музыка. Гости. Веселые, немного пьяные люди. Не думай об этом.
— Могу я посетить вас еще раз? Мне можно приходить к вам?
— Да, — ответила она после легкой паузы.
— Я хочу проделать ход в заборе. Мы ведь соседи.
— Сквозь забор нельзя, — сказала она быстро. — Только по улице.
— Почему?
— Так стоит дом. Нельзя через забор. Ты попадешь не туда.
— Теперь я знаю, как выглядит муза, — сказал Илья. — «Муза в уборе весны постучалась к поэту, сумраком ночи покрыта, шептала неясные речи…» Муза в осеннем венке, в пожарище листьев кленовых, в холоде дней уходящих, ночей, раздвигающих крылья… «Будешь навеки печален и юн, обрученный с богиней».
На этот раз она улыбнулась глазами.
— Мне не нужна муза, — сказал Илья, — мне нужна женщина из плоти и крови.
— Я знаю, — сказала она.
Стало совсем светло.
— Постой, — сказал Илья, когда она была в дверях, — скажи, там, на фрегате, должна была быть девушка. Такая смешливая. Разрушающая гармонию, создающая гармонию. Подруга, которая подругой быть не могла.
Она задумалась на секунду. Прикрыла глаза.
— Нет. Ее там не было.
— Странно, — сказал Илья. — Но погоди, еще вопрос. К великим вы тоже приходите? Неужто и гении пишут под диктовку?
— Мы приходим ко всем. Только не все нас замечают. А некоторые — так просто выгоняют.
— Ты придешь еще?
— Приду.
Белые лилии растаяли за дверью.
Илья проснулся в полдень. На столе — груда исписанных листов. Он не стал их читать. Боялся. Он томился до вечера. Она не пришла, и ночь была ужасна. Илья вздрагивал от каждого шороха. Выходил на крыльцо. Спускался в сад. Возвращался. Полночи простоял у березы. Чудились бубнящий голос и плач. Продрогнув, под утро он лег в постель. Во сне дважды приходил к нему старик Ардикеевич, говорил: «Я мойщик, я мойщик окон». И смотрел с укором. В четвертом часу дня, закутавшись в старую кофту, Илья отправился в гости. «Я найду этот дом, — бурчал он, углубляясь в коварные закоулки, — я вас найду…» Крошечный — Илье по пояс — морщинистый мужик в кепке с пуговкой стоял на дороге. «Маладой чек, — пропел мужик, — доски не нужны? Я досочек припас, доски-тес, железу оцинкованную…» Он заступил дорогу. Илья оттолкнул доброхота. «Младой чеэк…» — несся вслед слабый надтреснутый голос.
На этот раз он вышел к дому довольно скоро. Вымпел на ржавом гвозде казался совсем бурым. Подкова болталась. Илья постучал. Еще раз. Дернул дверь. Косо прибитая доска не пускала. Он развернулся и яростно заколотил в дверь ногой. Отворилось окно.
Илья увидел знакомое сморщенное лицо карлика в кепочке.
— Тесу надумали взять?
— Мне… Александра Ардикеевича, — сказал Илья, запинаясь.
— Нету его. Никого нету, — ответил торговец стройматериалом.
— Но… как же…
— Съехали они, говорю, что господин Тардикка, что мадам его. Съехали.
Лицо уплыло в сумеречную глубину. Окно захлопнулось. Илья постоял с минуту, потом пошел назад.
— Ага, — сказал он, пройдя шагов сто, — стало быть, съехали. Понятно.
Когда Илья говорил «понятно», это означало у него довольно серьезную степень растерянности. «Хотел бы я знать, придет ли она», — бормотал он. Только сейчас он сообразил, что не знает ее имени. Она не назвалась, а он не спросил. Была надежда на вечер.
Но никто не пришел. Ветер с холодным шелестом обрывал листья на березе, луна восковым кругом повисла над поселком. Постепенно круг желтел, краснел, наливался бордовым. Илья ушел в дом. Сел за стол и решительно пододвинул кипу листков. Строки вновь обожгли его и повели далеко. Он дочитал до конца. Мысли разбегались. Доносились голоса. Где-то спорили. Нет, это убеждали его. Слышишь?
Ты знаешь свой путь. Следуй им. Ты должен отъединиться на время от всего внешнего. Отойти от жены. «Уже», — сказал Илья. От семьи. «Ее и не было». Забыть мелкие, низкие, личные хлопоты.
«Это трудно», — сказал он. И тогда глаза твои откроются. И ты будешь продвигаться шаг за шагом, ступень за ступенью — и открывать глаза другим. И засияют чистые окна. «Мне пришла в голову идея рассказа», — сказал Илья. Их придет еще немало. «О самоубийце. Я знал одного самоубийцу. Теперь я понимаю, почему он был не вправе это делать. Помню его слова. Его лицо. Но если не ты открывал окно — не тебе и закрывать. Мой, протирай, шлифуй стекла. Вот твоя задача. Так?» Никто не ответил. Было слышно, как за стенами бродит ветер. Илья уронил голову на стол и забылся.
Проснулся он от пения. Пели там, далеко. Нет, она не пришла.
А почему, собственно, должна была прийти? Хочешь, чтобы надиктовала тебе собрание сочинений? Да нет, не о том речь. Я уже, наверно, влюблен. Несомненно влюблен. Не знаю, как без нее дальше…
Господи, а как же путь отъединения?
Он вышел на крыльцо. Луна стала меньше, темно-красный цвет сменился бледной зеленью и серебром. Окна соседнего дома светились. Илья прислушался. Больше не пели, едва доносилась музыка. Оборвалась. Шум мотора. Голос. Ее голос. Захлебывающийся, раненый. Опять мотор. Голос все тише. Мотор умолкает вдали.
И тишина. «А-а-а!» — закричал Илья и кинулся к забору. «Нельзя через забор». Он ударил ногой по штакетинам. Секция послушно легла на землю. В три прыжка достиг он крыльца. Дернул дверь.
Не открывается. Дернул сильнее. Держит. Рванул яростно. Поддалась. Холодно и пусто. Лунный свет заливает комнаты. Илья не слышал ничего, кроме гула собственного сердца. Дважды обошел он оба этажа, спотыкаясь о рухлядь плетеные стулья, медные шандалы, связки книг, — пока не наткнулся на не замеченную ранее дверцу. Открыл. Зеленый луч сквозь драную соломенную штору освещал кресло-качалку. Александр Ардикеевич, господин Тардикка, сидел в кресле неподвижно. Плед сполз, зацепившись за колено. Лунная спица колола глаз. Старик улыбался.
— Куда вы дели ее, несчастный старик? — хрипло сказал Илья, хватаясь за подлокотник и резко поворачивая качалку.
Господин Тардикка с легким стуком упал на пол. Илья наклонился. Перед ним была восковая кукла. Чуть дальше, у стены стояла большая плетеная корзина. В ней лежало несколько скомканных платьев, одно — в драконах и лилиях…
В воскресенье приехала Ванда. Илья ей понравился. В его глазах, еще недавно встревоженных и больных, светилось отрешенное спокойствие, может быть, даже затаенная мудрость.
— Ах, — сказала она, — ты был прав. Здешний воздух тебе на пользу. А в Москве по тебе все скучают. Объявились твои друзья, звонят наперебой. Всем ты стал нужен.
— Не может быть, — сказал Илья.
— Да, да, звонят вовсю. Кстати, в этом доме напротив, — ты интересовался, — так вот, там лет пять никто не живет. Хозяин умер, наследники за границей, в Бирме, что ли. Или в Непале. А жил в нем — мне Наташа Артемьева рассказывала — один чудак. Художник. Картины его, правда, нигде не выставлялись. И делал он восковые фигуры. Зачем — никто не знал. Во всяком случае, он ничего не продавал.
— Восковые фигуры? — спросил Илья деланно ровным голосом.
— Да. И исчез он из своей московской квартиры при загадочных обстоятельствах.
— При каких же?
— Заперся дома и много дней не выходил. Когда взломали дверь, квартира оказалась пуста. Только окно в мастерской распахнуто настежь. В феврале. На восьмом этаже. И с тех пор никаких следов.
— Действительно, история, — сказал Илья.
— И еще Наташа рассказала, что в детстве, когда она приезжала сюда на лето, бабушка строго-настрого запрещала ей подходить к забору перед этим домом.
— Почему?
— Не знаю. Боялась чего-то.
— Понятно, — сказал Илья. — И Наташа никогда не нарушала запрет?
— Говорит, что нет.
— А тот художник, говоришь, исчез через окно?
— Неизвестно.
— Странная история. Впрочем, — усмехнулся Илья, — свое окно распахнуть может каждый. Даже обязан.
— О чем ты? — спросила Ванда.
Илья не ответил.
Водолей и Весы
Сейчас я опять пребываю под знаком Водолея, это темный и влажный знак.
Герман Гессе
Эта история началась с одной случайной встречи.
— В тебе большая сила, — сказал ему тогда Федор. — Ты и сам не знаешь какая. Я тебе одно скажу: не лезь наверх. Это не твое.
Володя улыбнулся. О том, чтобы лезть наверх, он и не думал. А вот о другом, что теперь захватило его, он раньше не догадывался.
С Федором Свешниковым он столкнулся месяца два назад на опушке густого леса. Оба покосились на грибные трофеи друг друга и вдруг легко разговорились. Федор был могучего сложения человек около сорока, под высоченным, лысым до макушки, лбом горели карие глаза. Володя был лет на десять моложе, но они враз подружились. Он стал наведываться к Федору в деревенский дом, где тот жил совсем один.
В первый же приход Володи, когда стоял он у калитки под проливным дождем, держа над собой уже бесполезный зонтик, Федор сказал, спокойно улыбаясь:
— Ишь разыгрался. Отпустил я его, он и разыгрался.
— Кого отпустил? — спросил Володя, взойдя на крыльцо.
— Да дождь. Он, вишь, давно норовил, а у меня крыша разобранная была. Ну я и держал его. Три дня держал. Крышу вот кончил — отпустил. Давай, говорю. Теперь можешь лить.
Володя посмотрел на Свешникова с восхищением и страхом. «Если он и сумасшедший, — подумал, — то уж очень диковинный и симпатичный сумасшедший».
Как-то он застал Федора за рубкой дров. Легко и нежно опускал тот зажатый в ручищах топор на кряжистые кругляши, которые тут же тихо разваливались на ровные половинки.
— Дай мне попробовать, — попросил Володя в приступе того минутного восторга, который охватывает горожанина при виде косы или топора.
Федор молча протянул ему топор. Володя установил полено, размахнулся и нанес отчаянный удар. Топор косо вошел в бок вязкой березы и застрял. Володя с трудом вытащил его и ударил снова еще яростней. Топор намертво увяз в равнодушном полене.
— Не так надо, — сказал Федор. — Ты руками лупишь, а надо — мыслью.
— Это как? — не понял Володя.
— Подыми топор да опускай спокойно, но живо, а как он входить в полено станет — ты вообрази ярко, что полешко это пополам — пых!
Что-то внушительное, убеждающее почудилось Володе в этих словах. Он вскинул топор, задержал его на мгновение в верхней точке, заставил себя увидеть это проклятое полено раскроенным надвое и ударил без суеты, даже нежно. Полено с легким щелчком развалилось на две одинаковые половинки. Потрясенный Володя (он не ожидал столь быстрого результата) выбрал колоду потолще, попробовал — получилось. За полчаса изрубил он гору дров и вдруг почувствовал себя властелином вещей.
Потом они пили чай.
— Послушай, а можно совсем без топора, одной мыслью? — спросил Володя.
Федор поставил чашку, посмотрел на него внимательно и сказал неторопливым своим басом:
— Смотри-ка! Ты быстро соображаешь. Можно. Только трудно это.
— А как? — загоревшись, выпытывал Володя.
Свешников взял чайную ложечку из нержавейки, положил на чистое место стола и сказал:
— А ну, двинь.
Володя испуганно глянул на ложку, а потом, почувствовав вдруг успокоение и силу, представил себе, как этот блестящий кусочек металла бежит к краю стола. В тот же миг ложка тихо тронулась с места, поплыла вдоль клеенчатой складки, как-то нехотя, подъехала к краю и упала на пол с тусклым звяком. Вот тогда-то Федор и сказал ему:
— В тебе большая сила!
— Поздравь, Судариков, — сказала Леля, — меня поставили на двенадцатое ноября. Ты рад?
— Лелечка, еще бы! — Володя вскочил и, подбежав к Леле, принялся ее целовать.
— Ну ладно, Судариков, — говорила Леля, увертываясь. — Волобуев хотел просунуть своего аспиранта, но за меня вступился сам Склянкин.
Леля занималась астрономией и вот готовилась защищать диссертацию. Что-то там об устойчивости планетных орбит. Володя же работал ассистентом на кафедре физики одного института.
Вместе с Лелей они учились в университете, по окончании которого и поженились. «Вот теперь у меня будет жена-кандидат», — вздохнул Володя, когда Леля убежала. Сам он диссертацию писать не собирался, поскольку, как постепенно выяснилось, физику терпеть не мог. Как занесла его судьба на физфак, он и сам диву давался. Но сделанного не воротишь, и теперь он изнывал на лабораторках, вдалбливая бойким и нахальным студентам устройство баллистического гальванометра или тонкости опыта Милликена. Сам же он был мечтателем, поигрывал в шахматы и тайно писал стихи, а написав — никому не показывал, даже Леле, которую очень любил.
У Лели дела шли хорошо. Была она веселой, способной, удачливой. Сломив сопротивление довольно трудной темы, она вышла на финишную прямую и гордо ждала триумфа. Впрочем, не ее успехи тревожили Володю. Хуже было другое. Вокруг Лели постоянно роилась туча блестящих поклонников. Романтики-астрономы, разъезжающие по дальним горным обсерваториям и толкующие про квазары, пульсары и реликтовое излучение. Рослые загорелые кандидаты, доценты, доктора. «А я кто? — спрашивал себя Володя с горечью. — Что я собой представляю?»
На Москву надвигался теплый и нежный вечер бабьего лета. Володя не спеша брел по Гоголевскому бульвару и от нечего делать искал рифму к слову «эспандер». Вчера ему позвонил школьный приятель, самодеятельный поэт, и попросил подыскать к этому спортивному словечку нестандартную рифму. Приятель еще не окончил фразы, как Володя выпалил: «Испанец». Но друг обиделся: «Такую рифму и Евтушенко мог придумать. Мне бы что-нибудь похитрее». — «Ладно, подумаю», — сказал Володя. И вот сейчас, отвергнув пару вариантов, он наконец нашел: «Заспан до дыр».
«О!» — сказал он. Рифма ему понравилась. И сию же минуту сложился бессмысленный стишок: «Этот эспандер, старый испанец и вольтерьянец, — заспан до дыр». Володя нараспев бормотал свое сочинение и вдруг увидел Лелю. Она шла под руку с молодым человеком в ярко-желтой куртке. Это был ее коллега Игорь Бусел. В прошлом году они с Лелей присутствовали на банкете по случаю Игоревой защиты.
Володя поспешно спрятался за дерево. Ревновал он Лелю?
О да. Подозревал ее? Ни в коем случае. Но почему же он трусливо скрылся за этим толстым тополиным стволом?
Вернувшись домой, Володя сел за письменный стол, заваленный Лелиными бумагами, и уставился в окно. Вдруг взгляд его упал на листки папиросной бумаги, чуть шевелящиеся от сквозняка.
Прописными буквами было напечатано:
АСТРОЛОГИЯ. НОВЫЕ НАДЕЖДЫ
Он пододвинул всю пачку и начал листать. Сначала шел какой-то псевдонаучный треп, мелькнули имена Нострадамуса, Кеплера, фрау Букелы и Санжаревского. Потом пошли гороскопы. Бросился в глаза заголовок: «Женщины Весов». Володя стал читать: «Знак воздуха. Влияние Венеры, которая щедро наградила их изяществом и способностью любить. Под этим знаком родились Брижит Бардо и Софи Лорен. Их главное занятие — любовь. Они любят спать допоздна, обожают украшения и лакомства…» Постой, ведь и его Леля любит валяться до полудня, может в один присест съесть банку варенья, а от шоколадных конфет ее не оторвать. Он нашел даты. Весы: 24 сентября — 23 октября. Так и есть, у Лельки день рождения через неделю. Подумать только! Он принялся читать дальше. «Они ненавидят упреки, сцены и различные осложнения. Малейшее противоречие вызывает у них слезы и гнев…» Точно-то как, батюшки мои! «Они избалованны, — продолжал он чтение, — эгоистичны, но ласковы, как дети, и быстро забывают хорошее и плохое. Любят комплименты и переходят от увлечения к увлечению».
Володя поежился. Так, но где же ее способности? А, вот: «Характер легкий, ум ясный. Рожденный под знаком Весов чаще всего баловень судьбы. При некотором поощрении работает с энтузиазмом.
Его цвет — зеленый, синий и коричневый. Камень — опал. День — суббота и среда, но не пятница. Месяц — август, но не сентябрь.
(«Хм, а ведь сейчас как раз кончается сентябрь», — подумал Володя.) Брак — Близнецы или Водолей».
«Так, — подумал Володя. — Ну, хорошо, а кто же я?» Оказалось — как раз Водолей. Он углубился в текст. «Знак воздуха. Под покровительством Сатурна и Урана. Характер мечтательный, натура эмоциональная. Влияние Сатурна обрекает Водолея на покорность судьбе. Это планета несбывшихся мечтаний, меланхолии, грусти».
«Ах, как похоже», — додумал Володя. И глаза его едва не увлажнились. «Уран, — читал он дальше, — напротив, планета действий, вдохновительница ученых. Поэтому характер Водолея противоречив: с одной стороны мечтательность и покорность судьбе, с другой — энергия, дерзание…» Володя пропустил несколько абзацев, потом наткнулся на такое вот утверждение: «Водолей скромен, сдержан, редко обременяет других просьбами. Он может стать отличным ученым, особенно физиком или астрономом».
«Это я-то физик и астроном? Слегка привирают прорицатели».
Листая дальше, Володя наткнулся на главу «Как составить точный гороскоп». Он взял чистый лист и не торопясь выписал то, что относилось к нему, если исходить из точной даты его рождения:
Знак зодиака — Водолей
Ведущая планета — Сатурн, Уран
Планета декады — Сатурн, Луна
Планета дня Венера
Планета года — Луна
Планета цикла — Сатурн
Если верить астрологам, то он, Владимир Судариков, есть сплетенное взаимовлияние четырех планет. «Вот ведь чушь, — думал он, выписывая свой «точный гороскоп», — а как завораживает!» Оказалось, что судьбу его ведут в основном два небесных тела — Сатурн и Луна. «Влияние Луны несет с собой глубокую восприимчивость, развитую интуицию, а вместе с ними и подвластность настроениям, нерешительность… Требуется большая самодисциплина, чтобы уберечься от праздности, к которой склоняют Луна и Венера, от расплывчатой мечтательности, от бессмысленной траты сил». А Сатурн? Боже! Эта планета выплеснула на него всю апатию, синюю меланхолию, робость, мелочное самокопание и тоску.
Володя поднял глаза, невидяще уставился в окно. Да, да. Так и есть.
Угораздило же родиться под несчастной планетой!
«А ну посмотрим еще кого-нибудь. — Володя вспомнил ярко-желтую куртку рядом с Лелей. — Вот, скажем, этот Бусел. Веселый, уверенный. Кажется, он родился в конце марта, Лелька еще звонила, поздравляла. Так, это будет… Овен. Что же тут?» Володя стал читать: «Овен — знак огня. Покровительство Юпитера и Марса. Характер сильный, натура властная. Рожденные под знаком Овна одарены жизненной силой и энергией…» Вот оно как! Пришла в голову мысль проверить гороскопы на друзьях. Он припоминал их дни рождения и чем больше читал, тем больше находил поразительных совпадений. Встречались и неточности, но совпадений было куда больше. «Так можно мистиком стать. Жалким человечком, верящим в эти сказки, — размышлял Володя. — Поверь в них хоть чуть-чуть, а там пойдет, покатится…»
Динькнул звонок. Володя побежал открывать. Вошла Леля.
— Судариков, ты дома?
— А где ж мне быть? — мрачно ответил Володя.
— Ты почему такой бука?
— Не знаю. Может быть, этой чепухи начитался. — Он тряхнул папиросными листками.
— Ах, это. И как впечатление? Интересно?
— Интересно, — согласился он. — Но объясни, что это такое?
— Юра Гаевский перевел. На Западе сейчас бум астрологии. Он дал почитать для общего развития.
— И вы, астрономы, в это верите?
— Ну, что ты, Судариков. Но забавно, согласись.
— Забавно, — сказал он. — Скоро будет и у нас бум.
В перерыве между занятиями на кафедре зашел разговор о психотронике.
— Под Калугой, в Алабышеве, один дед живет, ему уже девяносто, — рассказывала старший лаборант Эвелина Семеновна. — К нему больные едут отовсюду. А он, дед, только глянет — и сразу решение готово: или будет лечить, или прогоняет. А лечит он так: рукой заряжает воду в трехлитровой банке и велит пить понемногу. А еще определяет, кому какой камень или металл носить можно, а какой нельзя. А еще может сказать, кем ты был в прошлом воплощении.
— И вы, Эвелина Семеновна, в деда этого верите? — спросил ассистент Алик Григорьев, высокий, сутулый, в очках.
Эвелина Семеновна пожала плечами, закуривая сигарету.
— Приспичит — поверите, — кисло изрек доцент Адонис Петрович Мурашкин. — Небось у Чумака-то по телевизору лечились?
— Ну уж, извините, — начал вскипать ассистент Грищук, крутя длинным носом и жилистой шеей, — тогда надо наплевать на всю науку, которая уже триста лет со времен Галилея…
— Господи, да при чем здесь наука? — Эвелина Семеновна снисходительно выдохнула дым. — Вот вы можете мне сказать, что есть человек? А? Кстати, вы не видели фильма, где Жозе Ариго кухонным ножом снимает катаракту? Нет? Советую посмотреть.
— А где? — наивно спросил Грищук.
— Лечение, спириты там всякие — еще куда ни шло, — сказал Адонис Петрович. — Все же какое-то взаимодействие организмов. Что касается телевизора — тут психологическое воздействие. Но вот с телекинезом я никак не могу согласиться. Те, которые двигают предметы, ложки, там, стрелки, — иллюзионисты или шарлатаны. Чтобы без всякого физического агента человек воздействовал на мертвую вещь — это уж чистая мистика.
— Ну почему же без агента? — возразил Алик Григорьев. — Говорят, пальцы способны излучать ультразвук. Давайте-ка прикинем, какая нужна мощность, — Алик подошел к доске, взял мел, — чтобы удержать на весу, скажем, шарик от пинг-понга. Допустим, шарик весит… — мел застучал по доске, — а направленный ультразвуковой луч…
— Чепуха, — махнул рукой Мурашкин. — Вот скажите, Володя, ведь правда телекинеза быть не может?
— Ну почему же… — тихо ответил Володя и покраснел.
Наступил Лелин день рождения. У Судариковых собрались гости.
Леля испекла свой фирменный пирог с капустой. Было весело и шумно. Поздравляя Лелю, Игорь Бусел произнес витиеватый тост и вручил подарок маленький знак Весов на тонкой цепочке.
— Вот это мудро, — закричала густым басом высокая румяная блондинка, Лелина подруга Наташа, — какой же это астроном без своего знака зодиака!
И тут же возник спор об астрологии.
— А что, — говорила Наташа, — в устройстве мира не все еще понятно. Но может, и вправду действуют на нас планеты.
Наташа работала в редакции одного популярного журнала и отличалась широтой взглядов.
— Умница, Наточка, я тоже за астрологию, — закричала Леля.
Игорь Бусел скептически улыбнулся.
— Ну да, — сказал, слегка запинаясь, Юра Гаевский, маленький взъерошенный усач, чем-то похожий на Дениса Давыдова, — ты, Игорь, конечно, за рафинированную науку.
— Допустим, — ответил Игорь. — А ты полагаешь, что возможна другая наука, так сказать, рука об руку с чертовщиной?
— А данные Кукушевского тебе ничего не говорят?
— Слыхал я все это — Кукушевский, Лоуэл, болтовни-то много.
— Почему же болтовни? — сказал Юра с легкой обидой.
— Могу сказать определенней — не болтовня это, — а лженаука.
— Что это такое — лженаука? — закричал Юра. — А твоя прекрасная наука застрахована от ошибок?
— Дело не в ошибках, а в определенных правилах действий, в определенном строгом языке. По одним правилам — наука, по другим — что-то иное.
— А я тебе скажу так. Пока возможен свободный спор, как на афинской площади, никакой лженауки не будет. И весь вред не от лженауки или каких-то лжеидей, а от декретированных истин. Все помним про единственно верное учение, про самые научные теории. Ну и что получилось? Когда наука вместо аргументов начинает давить авторитетом — тогда и получается лженаука. А так спорь о звездах сколько влезет — вреда не вижу.
— Ну да, такой демагогией можно оправдать и астрологию, и хиромантию, и графоманию… — раздраженно начал Игорь, рубя рукой воздух.
— Графологию — ты хотел сказать, — заметил Юра. — А вообще у тебя типичный снобизм ученой братии, кое-что узнавшей, но вообразившей, что знает все.
— Ребята, кончайте спорить, давайте лучше выпьем, — сказал Володя, вставая. — Посмотрите, у всех налито?
На другой день с утра у Володи не было занятий, и он, перемыв посуду, поехал к Федору. Тот задумчиво сидел на опрокинутом ведре у деревца черноплодной рябины. Услыхав скрип калитки, он поднял голову и сказал вместо приветствия:
— Все обсуждают…
— Кто? — не понял Володя.
— Да на конгрессе.
— На каком конгрессе?
— Да я и сам не знаю. Конгресс идет. Спорят, спорят. Про космос чего-то.
— Ты-то как их слышишь?
Федор посмотрел на него ясными глазами.
— А вот, — ответил, — рябину снимал, да и услышал вдруг. Вроде как радио.
— Интересно?
— Я тебе потом расскажу, а ты посмотри в газетах — может, встретишь где.
— Послушай, Федор, ты под каким знаком родился?
— Ну подо Львом, — неохотно ответил тот. — А чего это ты?
— Скажи мне, знаки эти, планеты — действуют они на нас, на судьбу нашу?
— Вон ты о чем, — протянул Федор. — А ты как думал?
И Володя вдруг понял — действуют.
Леля тихо и мирно дышала. Володя ворочался в постели. Белый луч чертил на стене таинственные знаки. «Луна», — вздохнул Володя. Нет, к Луне у него не было претензий. Эта бледная красавица делала жизнь приятней. «А что, — подумал он, — если бы у Земли было два спутника, как у Марса? Или не было вообще? О, тогда земная поэзия пошла бы другим путем. Поэт не сказал бы «Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою луна»… Не родились бы слова «Сижу я печальный; с деревьев листва слетает. В садовой беседке так много луны сегодня». Не было бы Лунной сонаты. И так далее, не говоря о том, что все ночи были бы глаз выколи. Нет, Луна — это хорошо». Но почему-то всерьез обиделся, если не сказать взъелся Володя на далекий Сатурн — планету слабых, беспочвенных мечтателей, планету грусти, лени и разбитых надежд.
«Почему я не родился под знаком Юпитера? — думал он, крутясь под одеялом. — Или Марса…» Он вспомнил, чем награждает своих подопечных этот воинственный бог. Силой и решительностью, авантюристической жилкой и любовью к бродяжничеству, азартом, огнем, страстью… «Вот и был бы я бродягой с горячим и решительным сердцем. Ну почему я не родился под Марсом?» И, засыпая, он так ясно представил себе, как холодный Сатурн срывается с места и уносится вдаль, а на его месте утверждается огненно-красный суровый Марс.
Марс воспаленной точкой висел над горизонтом. Ветер разодрал в клочья сизые ватные облака. Двое стояли у борта небольшого суденышка, готовившегося с утра в очередной раз распахивать глади Азовского моря. Стоящие молча поплевывали в черную воду.
Вдруг один из них поднял голову, глянул в небо и дернул приятеля за рукав с тускло светящейся флотской нашивкой.
— Григорий Иваныч, ты только глянь, — сказал он изумленно, тыча пальцем в сторону горизонта, — ты только глянь!
Под куполом обсерватории было спокойно. Молодой астроном Лева Кислюк, жуя бутерброд с сыром, бурча под нос и пританцовывая, приближался к телескопу. Настроение было отличное. Последняя серия снимков колец Сатурна и его работа закончена. Телескоп, урча плохо смазанным часовым механизмом, медленно поворачивался в сторону этой внушительной планеты, опоясанной серебристыми полосами знаменитых своих колец, открытых еще, кажется, Галилеем. Лева привычно стукнулся о стремянку и, потирая ушибленную коленку, заглянул в окуляр и стал «фокусироваться». Бутерброд выпал у него изо рта. «Ва-ва», — сказал он и лязгнул зубами.
Последний раз хотел он взглянуть на столь знакомые ему кольца, но никаких колец не было. Не было и самого Сатурна. Черное бархатное пустое небо загадочно смотрело на Леву сквозь окуляр.
Кислюк принялся бешено вращать винты. Тщетно. Сатурн исчез.
Лева отпрянул от телескопа и, опрокинув стремянку, загрохотал вниз.
— Аркадий Афанасьич! — взывал он почти рыдающим голосом, потирая уже другое колено.
Сонный Аркадий Афанасьевич нехотя поднялся под купол и приткнулся лбом к окуляру.
— Ну что ты говоришь, Лева, — начал он скрипучим голосом и осекся. Вместо зеленоватого Сатурна на него смотрел нахальный рыжий Марс.
Когда Володя вечером вернулся домой, он застал Лелю, сидящую в оцепенении с телефонной трубкой в руке.
— Лелечка, ты чего? — спросил он ласково.
— Судариков, — сказала она торжественно, — мир перевернулся.
— Как это перевернулся? — поинтересовался Володя.
— Он исчез.
— Кто исчез?
— Сатурн.
— Сатурн? — похолодев, пробормотал Володя. — Куда же он исчез?
— Болтается где-то за Марсом. Точнее, за тем местом, где должен был находиться Марс. А сам Марс теперь на месте Сатурна. Вся Солнечная система летит к чертям. И вместе с ней моя диссертация.
— А это точно? — спросил Володя. — Эти твои астрономы не напутали? Телескопы у них не поломались? Может, это шутка?
— Какие уж тут шутки, Судариков. Обсерватория гудит, как улей. Вот, только что звонили.
— Ну и дела, — сказал Володя, опускаясь на стул. — Ты знаешь, Лелюшек, — продолжал он осторожно после минутной паузы, — я должен тебе признаться… в одном…
— В чем это еще? — сказала Леля и слабо улыбнулась.
— Мне кажется, это я виноват.
— В чем виноват? Что ты мелешь, Судариков?
— В исчезновении этого несчастного Сатурна.
— Судариков, у тебя нет температуры?
— Лелечка, милая, я не уверен, но мне кажется. Понимаешь, я умею двигать предметы. Ну как тебе это объяснить… Вот, смотри, — он поднял глаза вверх, — следи за люстрой.
Леля возвела равнодушный взор к потолку, и в этот миг люстра начала раскачиваться. Сильнее. Все сильнее.
— Судариков! — завизжала Леля. — Останови немедленно.
Люстра замерла на секунду в отклоненном положении, а затем плавно опустилась и больше уже не двигалась.
— Ну, Судариков, ты даешь. — Леля выцарапала из пачки сигарету. — Как ты это делаешь?
— Этого сразу не объяснишь.
— И ты скрывал?
— Понимаешь…
— Ладно, ладно. Но при чем здесь Сатурн?
— Я, собственно, ничего такого не хотел. Это все твои гороскопы. Стал я задумываться о Сатурне — это моя планета, понимаешь? Ну и зашвырнул его нечаянно. Я, конечно, не уверен… Может, совпадение…
— Судариков, это ужасно. Выходит, ты и Землю перевернуть можешь. Тоже мне, Архимед!
— Господь с тобой, Лелечка. Для чего ее переворачивать. Я и Сатурн этот с радостью вернул бы на место.
— Верни, Судариков, — умоляюще сказала Леля. — Через месяц защита, а тут вся астрономия летит в тартарары. Твой Сатурн сделал то, чего, как доказывает моя работа, не может быть никогда.
— Я попробую, Лелечка.
— Пожалуйста, голубчик, ты уж постарайся. Я люблю постоянство в небесном мире. Не нужны мне летающие тарелочки и скачущие планеты. Честное слово, в небесной механике не нужна никакая перестройка. Так было уютно думать, что в мире есть что-то устойчивое. Хватит с нас путаницы в людских делах.
— Я постараюсь, Лелечка. Но ведь ужас в том, что это уже произошло. Устойчивость нарушена. Это уже случилось. Научный, так сказать, факт.
— Э, фактом, больше, фактом меньше. Ты только возврати эту несчастную планету на место, и через день уже невозможно будет доказать, что она куда-то отлучалась. Ну, почудилось двум-трем астрономам. Бывает.
— Слушай, Леля. Вообще-то забавно все это. Что, если еще пару планет куда-нибудь закинуть? А?
Леля посмотрела на него испуганно.
— Да чего там — планету. Давай какой-нибудь город передвинем. Москву к Лондону поближе, а Харьков, скажем, к Хьюстону. Или наш дом к Черному морю.
— Судариков, прекрати! — закричала Леля. И вдруг жалобным голосом с наворачивающимися на глаза слезами: — Ну, пожалуйста. Хочешь, я на колени встану? — И действительно начала клониться.
— Леля! — Испуганный Володя схватил ее за плечи. — Я же шучу.
— Кончай шутить, Судариков. Верни Сатурн на место. Да, и Марс не забудь.
На следующее утро Володя поехал к Федору. Тот выслушал его молча.
— Неужели это я сделал? — воскликнул Володя.
— Ну. — Федор наклонил голову. — Однако не надо было так.
— Да я ж случайно, я и думать не думал.
— Наперед будешь думать. Запомни, так свою судьбу не изменишь.
— А я смогу вернуть все назад?
— Сможешь, — сказал Федор, — сможешь.
— Но как?
— А ты и сам знаешь. — Федор посмотрел на него жгучими своими глазами.
По коридору обсерватории шел человек. Серебряные жидкие волосы обрамляли его румяное лицо. На серый лондонский костюм легко был наброшен белый халат. Почтительная свита двигалась чуть поотстав в том же темпе. Это был член-корреспондент Петр Максимиллианович Склянкин. Забравшись под купол, он решительно двинулся к телескопу.
— Ну, что тут у вас за страсти? — недовольно процедил он, пристраивая лоб к аппарату.
Заглянул в окуляр. Почмокал. Свита затихла. В стороне у стенки стоял Лева Кислюк, зажав в руке бутерброд с сыром.
— Вы что, разыграть старика решили, судари мои? — строгим фальцетом сказал член-корреспондент.
Лева испуганно засопел.
— С каких это пор у Марса кольца, а? Я вас спрашиваю! — нажимал академический фальцет.
— Позвольте, Петр Максимиллианович, — робко начал стоявший за его спиной Аркадий Афанасьевич.
— Отчего же не позволить, позволю. — Склянкин отпрыгнул от телескопа. — Пожалте, полюбуйтесь на свой Марс. Фантазеры. Романтики. Революционеры.
Аркадий Афанасьевич заглянул в телескоп.
— Ну? — требовательно спросил Склянкин.
Несчастный астроном ничего не ответил. Он молча смотрел в телескоп и сопел.
— Судариков, дай я тебя поцелую, — Леля повисла у него на шее. — Мир снова устойчив и уютен. Сатурн на месте. Как ты напугал меня, однако. Обещай, что больше ничего такого не выкинешь, шалун ты эдакий.
— Конечно, Лелечка.
— Это же просто какое-то космическое хулиганство. Смотри, об этой истории — никому!
— Никому, Лелечка.
Он покорно склонил голову. Человек, который мог двигать планеты.
Дятлы-рояли
Виктор Соснора
- Взойди в мой дом,
- и ты увидишь, как посмешище
- любой людской уют,
- там птицы (поднебесная тоска)
- слови полузабытые поют.
«Рассказать или нет?» — думал Илья Игнатьевич, меняя стекло с мазком на предметном столике микроскопа. Совсем было собрался, но увидел, что у Ксении Ивановны сложный билирубин, и решил отложить до обеда. В обед, точно, удобнее, и боцмана не будет. Пальцы Ильи Игнатьевича с профессиональным проворством орудовали стеклами, крутили микровинт, но мыслями он был далеко, не слышал стеклянного звяка посуды, которую боцман, наклонив медный затылок, составлял в сушильный шкаф, не замечал привычного шума центрифуги и лишь изредка бросал взгляд на Ксению Ивановну.
В два часа Василий Лукьянович, по обыкновению, отодвинул локтем штатив с пробирками, постелил чистую тряпицу на серое в проплешинах сукно стола и, заскрипев стулом, потянулся к своей кошелке. Кряжистая фигура боцмана внушала Илье Игнатьевичу известную робость — чувство, которого он стеснялся, особенно в присутствии Ксении Ивановны. И чего, казалось бы, робеть. Чего смущаться.
Ему, врачу как-никак, — обыкновенного лаборанта. И человек Василий Лукьянович был не злой, хотя все больше молчал, а его тяжелые короткие кисти всегда были, если только он не возился с пипетками и мерными цилиндрами, сжаты в колючие рыжие кулаки.
На тряпицу легли два крутых, в трещинках, яйца, розовая луковица, шмат буженины собственного приготовления.
Подталкиваемый в спину домашними запахами, Илья Игнатьевич вышел на улицу, чтобы там, в тополиной тени напротив крыльца лабораторного домика, дожидаться замешкавшуюся с последним анализом Ксению Ивановну.
Так сказать или нет? Ведь решит, что спятил. Она хоть женщина романтическая и начитанная, но все же женщина, а они в необычное верят с трудом. Скорее сбывшееся сочтут вымыслом, чем позволят себя провести болтуну и выдумщику. Илья Игнатьевич, правда, не имел особых оснований для столь широких обобщений по части женского характера. Сам он был с детства застенчив сверх меры.
В школе тихоня, институт закончил в какой-то задумчивости. В больнице, где проходил интернатуру, боялся.
Ответственности, начальства, анекдотов, коллег, пациентов. Сам и попросился в лабораторию. Жене, впрочем, по душе был тихий его нрав, но потом, видимо, стал раздражать, и она уехала с немолодым, но напористым главным инженером какой-то стройки, оставив Илье Игнатьевичу почти взрослого сына и блокнот кулинарных рецептов, написанных крупным уверенным почерком. Прошло время. Сын стал студентом.
По вечерам, пробираясь на кухню, Илья Игнатьевич огибал разбухшую вешалку, путался в чьих-то сапогах и слышал взрывы смеха за дверью, всегда закрытой. Увидав по телевизору фильм, в котором пожилой благообразный мужчина, сидя в тюремной камере, клеил конверты и чувствовал себя совершенно счастливым, Илья Игнатьевич ощутил непреодолимое желание и самому вести столь же покойную, уединенную и небесполезную для общества жизнь.
После женитьбы сына квартиру разменяли. Переехав на окраину в собственную комнату, Илья Игнатьевич мало-помалу стал избавляться от робости и душевного неуюта. Быт его постепенно обрастал удобными мелочами и привычными занятиями. Гостей у него не бывало, и свое жилье в чреве панельного параллелепипеда он почитал за настоящую крепость в английском смысле этого слова. Самодельные стеллажи потихоньку заполнялись книгами. Там, в тисненых переплетах за листами папиросной бумаги, жили цветные птицы. Солнечная цапля с черными стрелами на распушенных желтых крыльях. Султанская курочка, ковыляющая на беспомощных лапках. Хмурый заспанный кагу с растрепанным сиреневым хохлом. Вечерами, когда, утомленный, откладывал Илья Игнатьевич книгу, представлялся ему густой красивый лес.
Он лежит на маленькой поляне и вникает в птичью жизнь. В просветах ветвей синеет небо, птицы поют свободно, и их язык становится все более привычным, все более понятным.
А на днях случилось вот что. Илья Игнатьевич припозднился — читал, как маленькие соколы-чеглоки ловят лапками жуков-навозников, потом брюшко откусывают, а что осталось — на землю бросают. Жестокая привередливость чеглоков ему претила. Искалеченные жуки ползали, страдали, и он расстроился. Глаза уже смыкались. Илья Игнатьевич отложил книгу, потянулся выключить торшер, сонным взглядом ухватил какую-то неровность на стройном лаково-желтом стволике, да сразу же и похоронил это впечатление в медлительных сонных мыслях. Утром, отставляя торшер от дивана, почувствовал укол. Осторожно убрал ладонь. На гладкой поверхности обозначилось шершавое вздутие. Торчал острый сучок с приклеенной будто тугой изюминкой-почкой.
Теплая загадочность события весь день дремала в его мозгу.
Под вечер, когда почка заметно увеличилась, Илья Игнатьевич взволновался не на шутку. «Вы только подумайте, — бормотал он, шагая по комнате. — Нет, каково, а? Впрочем, я всегда знал, я чувствовал, я знал это», — говорил он в стену довольно бессвязно, ибо сам не очень понимал, что он должен был чувствовать и знать.
Наконец Ксения Ивановна, пожелав боцману приятного аппетита и тронув отраженную створкой шкафа короткую стрижку, спустилась к щуплой фигурке Ильи Игнатьевича, маячившей у крыльца.
По дороге в молочное кафе — десять минут ходьбы от больницы — Илья Игнатьевич для разгону заговорил о любимом предмете.
— Вот пеночку, Ксения Ивановна, о которой я вам вчера рассказывал, многие знают. Птица у нас известная, из породы славок. А то есть еще пуночка. Та побольше, с мою ладонь. Живет в тундре. И вот что интересно. Прилетают пуночки на север ранней весной. Сначала самцы. И каждый себе участок ищет. Как найдет — никого туда не пускает. Сам взлетит на валун повыше и поет. Часами напролет поет: «Пи-и!» Ну, потом уже самочки прибывают, и у каждой пары место определено. Можно сказать, квартирный вопрос решен…
Так и не добрался в тот день до главного. Духу не хватило.
Зато на следующий день случилось такое, что молчать уже стало невмоготу.
— Что это с вами сегодня, Илья Игнатьевич? Вы словно именинник, румянец даже, — спросила его Ксения Ивановна, когда они двинулись привычной дорогой.
— У меня, Ксения Ивановна, событие, — начал он вдохновенно, запнулся и продолжил тугим голосом. — У меня дома торшер. Такой, знаете ли, на деревянной ноге.
Ксения Ивановна улыбнулась.
— Торшер — это хорошо. Рада за вас.
— Вы вот смеетесь… — Он замолчал.
Ксения Ивановна посмотрела на него внимательно. И тут Илья Игнатьевич как в воду:
— Он у меня зацвел.
— Кто зацвел?
— Торшер.
— Торшер? Да вы шутник, Илья Игнатьевич!
— Сам понимаю, странно звучит. Но это так. Зацвел голубым цветком. Ветку пустил с листьями.
— И много их, цветов?
— Один.
— Один — это еще ничего. Не совсем, значит, совесть потеряли. — Ксения Ивановна засмеялась низким смехом и посмотрела на Илью Игнатьевича с интересом, какого прежде ее взгляд не выражал.
Но он этого не заметил. Обиделся.
А домой шел весь в ожидании. Что там? И увидел: ствол от вечернего солнца золотой и теплый, вторая ветка проклюнулась, а первая еще два цветка дала. И не сдвинуть уже его с места — тонкими упругими нитками впился тяжелый блин в сырой паркет.
Смирив волнение, Илья Игнатьевич как ни в чем не бывало поужинал покупной котлетой с чаем, сел в кресло под торшером и открыл любимую книгу «Осы, птицы, люди».
Шли дни. Бесконечной чередой тянулись стекла и склянки с биоматериалом. После работы Илья Игнатьевич возвращался прямо домой. Если раньше, бывало, нет-нет да и сходит в кино или посидит часок на бульваре, а то пройдется по магазинам — просто так, поглазеть, — то теперь спешил он под сень своего чуда, ласкал пальцами теплый ствол, носил из кухни воду в стакане, опасливо плескал на расползавшиеся корешки, следил, запрокинув голову, за уходящими вверх ветвями, отмечая путь древесного жука или божьей коровки. Голубых цветов становилось все больше, и в лаборатории он скучал по их слабому холодновато-горькому запаху.
В беседах с Ксенией Ивановной он избегал возвращаться к этой теме, боялся насмешки. Но как-то не выдержал:
— А знаете, Ксения Ивановна, отчего я сегодня проснулся?
— Не знаю, Илья Игнатьевич. От будильника, наверно.
— А вот и нет. Дятел над головой стучал. Так долбил!
— Ай-яй, Илья Игнатьевич, прямо беда с вами. Не доведут до добра ваши птицы.
— Опять не верите, — сказал он. — А вы…
И тут Илья Игнатьевич выпалил то, что, казалось, никогда и вымолвить не сможет:
— А вы приходите, сами увидите.
Выпалил и трусливо замолчал.
Ксения Ивановна тоже промолчала. А возвращаясь домой, дошла до подъезда, представила стерильный уют своей кухни, холод большой, чисто прибранной комнаты, повернулась и пошла в кино.
Давали какую-то комедию, грустную и нелепую.
Рассказы Ильи Игнатьевича о птицах Ксения Ивановна слушала вполуха, хотя виду не подавала. Думала о своем. То мужа вспоминала, еще молодого, до болезни, то консерваторский класс с белым роялем, то медучилище, то ясные глаза мальчишки в детской комнате и голос его, очень искренний: «Я потому, тетенька милиционер, Сашка порезал, что он биту мою зажал. Хорошая бита, сам лил…» Тетенька милиционер не выдержала, сломалась.
Старалась, правда, не опускаться, следила за собой. Журналы покупала на автобусной станции, старик киоскер оставлял «Новый мир», «Иностранку», «Неделю». Ходила иной раз и в театр, на выставку. А на концерты, в оперу на живую музыку — никогда. Не могла смотреть на волшебные руки людей — там, на сцене или в оркестровой яме. Сразу ощущала два своих негнущихся пальца, боль возвращалась через тридцать почти лет. Зато дома, поставив пластинку на черный тяжелый диск, Ксения Ивановна начинала жить настоящей, а не выдуманной жизнью. Под звуки «Страстей по Иоанну» все это — анализы крови и желчи, мочи и ликвора, молочные обеды с Ильей Игнатьевичем, редкие письма и звонки дочери — исчезало, и она, перестав притворяться лаборантом и женщиной средних лет, восходила по бесконечным ступеням хоралов, выше, выше, сладко цепенела душа, и медленные слезы радости стекали по ее щекам.
«У птиц ведь свои композиторы, Ксения Ивановна. И свой Бах. Глухарь. Застаньте его на току — сколько размеренной страсти в глухариной любовной песне…» Чудак Илья Игнатьевич! Убегает теперь после работы как ошпаренный. Вваливается, должно быть, в свою берлогу, достает из «Морозко» кислый крупчатый творог, ест с кефиром, повидлом мажет, чтоб не морщиться, и садится разглядывать цветные картинки при свете торшера. Вообразить его цветущим деревом! Это, однако… Да это все равно что принять ее, Ксении Ивановны, комнату за старинную гостиную с барочной мебелью… Ксения Ивановна жила на втором этаже кооперативной башни, облицованной веселой зеленоватой плиткой. Широкая тахта в ее комнате застелена пушистым новозеландским пледом, в полках среди книг посверкивают хрустальные вещицы, голубеют за стеклом серванта высокие бокалы, привезенные дочерью из Чехословакии. Но сейчас она не замечает этого. Она отчетливо видит синие штофные стены в золотых медальонах, легкую лепнину потолка, ореховый узор паркета, голубую, под стать стенам, обивку диванов и кресел и множество людей, замерших в ожидании. Илья Игнатьевич, нахохлившись, сидит рядом с литой фигурой боцмана, на шелковом пуфе пристроился старик киоскер, за которым стоит ясноглазый паренек, так мастерски отливающий биты.
А вот другой мальчик, постарше, тоже ясноглазый, — вожак ватаги, оравшей в лучезарной тишине майского вечера:
— В-Союзе-нет-еще-пока-команды-лучше-«Спартака»!
Тогда он больно крутил ей запястье и приказывал кричать: «Спартак» чемпион!» А сейчас сосредоточенно ждет, сидя между ее дочерью и худым сутулым мужчиной, отвернувшим лицо. Еще дальше, в полутьме, — сжавшаяся пара старичков, он и она, но лиц их тоже не разглядеть. Только что убрали ворох цветов с белой крышки рояля. Больше ждать невозможно. Она опускает руки, и в воздухе повисают нервные взрывы скрябинской сонаты.
Василий Лукьянович был молчалив оттого, что стеснялся грубого, громкого своего голоса, ставшего таким от прошлой его морской службы. А после контузии, поразившей Василия Лукьяновича в самом конце войны, стал он глуховат на правое ухо, отчего заговорил еще громче. Кончал он службу в тылу, сначала санитаром, потом фельдшером. Дело оказалось непустое, и продолжал бы он эту работу на гражданке, да только досаждали бестолковые, еле бормочущие пациенты, сами не знавшие, что с ними стряслось.
Приходилось переспрашивать по многу раз, наклоняя левое ухо.
Василий Лукьянович поразмыслил и пошел в лаборанты.
В людях Василий Лукьянович ценил основательность, в речах — трезвость, в поступках — дисциплину и разумность. Ксению Ивановну уважал, угадав в ней характер за внешней мягкостью. Илья же Игнатьевич, хотя и врач и начальство, был, по его меркам, человек несерьезный, пустоватый человек, звенящий какой-то, а потому Василий Лукьянович своего коллегу жалел, внешне; правда, никак этого чувства не проявляя. Но то, что услышал он сейчас, случайно, конечно: курил после обеда на лавочке за кустами жасмина, когда Илья Игнатьевич и Ксения Ивановна прошли мимо, — поразило и расстроило Василия Лукьяновича. Скажите пожалуйста, дерево у человека в квартире выросло. Дятлы стучат. Заместо потолка — небо. Ну и наплел. Ну и гусь. И Ксения Ивановна хороша.
Нет чтобы одернуть, коллегу в чувство привести. Эх, все-таки баба есть баба. Слабая порода.
Дятлов было два. Под их уютный перестук Илья Игнатьевич, умильно прикрыв веки — притворщик! — следил, как плавно движется она по комнате, собирая на стол. Вначале покрыла его — Василисиным взмахом от себя хрусткой, в квадратах складок скатертью, уже лет пять не тревожимой в нижнем ящике гардероба. Поставила две тарелки толстого фаянса и рядом с каждой положила тронутую желтизной салфетку в серебряном потемневшем кольце. Птицы на миг угомонились, непривычная тишина заставила его поднять голову и потерять из виду стол и руки Ксении Ивановны. Оказалось, дятлы взлетели повыше и возились там с гнездом, притыкая былки и веточки. За последнее время торшер заметно вырос. Буйная крона скрыла, унесла вверх протечный потолок. Илья Игнатьевич вглядывался, любопытствуя увидеть знакомые желтые кляксы, но глазам открывались синие куски неба, где выше редких облаков завис темный крестик сапсана.
Он снова опустил глаза. Два невидимых — от чистоты и тонкости — бокала таяли друг против друга, а в стороне, на краю стола, теплым куриным духом исходила фарфоровая супница, оперенная ручкой половника. Ксения Ивановна, должно быть, решила, что он задремал. Тихо отвела рукой синецветную ветку, наклонилась и сказала:
— Илюша, Илюш, встава-ай. Обед на столе. Боже, хорошо-то как.
Худой мужчина и старички уже были на своих местах. Она скинула плащ, прошла в дальнюю комнату переодеться. К инструменту вышла в черном бархатном платье, села за клавиатуру и задумалась. Первый звук полоснул пространство. Он резал его и рвал, и в черные треугольные дыры лезли другие звуки. Вот они хлынули неостановимой лавиной — бантов, колпаков, чулок под летящими фалдами. Они хватают ее и тащат, она смеется и отбивается. Жарко горит солнце на рожке охотника. Пастушок идет краем поля, закинув голову к ликующему небу, и сквозь гуд недалекого леса пробиваются крики валторны. А там, за углом, за внезапно открывшейся крепостной стеной, за островерхими башнями тесного города взрывается ярмарка, заполняя собой кривые улочки, булыжные площади, колокольчиковое поле. Солнце заходит, светло и волшебно бегут по клавишам пальцы, а если и ошибаются, то ошибаются легко и лукаво. Так играл Иосиф Гофман.
Но вот невидимая сила сбила звуки в могучие упряжки, пальцы стали собранней, удары — резче и суровей. В игре проступила страшная размеренность и точность. Какая дерзкая поступь басов.
Какие смелые порывы открыли дорогу вверх. Какие мертвые паузы оттенили стремительный бег. И вдруг — в повисшем пустом пространстве с дивной загадочностью встает одинокий звук. Так играл Сергей Рахманинов.
Низкое небо опустилось над полем. В застоявшейся его зелени плыли подкрашенные розовым облака. Одна-единственная птица тонко звенела над умолкающей травой. По полю шла девочка в венке из ромашек. Она уходила к горизонту, не думая о дороге.
Скажи, куда? Скажи, зачем? Звуки вопрошают, бьются, замирают.
И вместе с теплым вечерним туманом все вокруг затопляет высокая светлая нежность. Так играет она, Ксения Адоскина.
В пятницу из кошелки Василия Лукьяновича, помимо обычной снеди, явились капустный пирог, пакет подсохшего зефира и бутылка без этикетки.
— Вот, — сказал он, поводя рукой над столом. — Это, значит… — и, опережая удивленно-сердитую морщинку на лбу Ксении Ивановны, добавил, кивнув на бутылку: — Легкое очень, домашнее…
Илья Игнатьевич, направившийся было к выходу, чтобы на улице поджидать Ксению Ивановну, застыл в дверях.
— Что вы сказали, Василий Лукьянович?
— Я в том смысле — день рождения у меня. Шаг, стало быть, к этой…
— Ну что вы такое говорите, Василий Лукьянович, — заторопилась Ксения Ивановна.
— К пенсии, говорю, шаг. Недолго, два годика осталось. Это вы молодежь, а я… Словом, давайте это… отметим, что ли.
Такую длинную речь в стенах лаборатории Василий Лукьянович произнес, пожалуй, впервые.
— Ах, ну право, — приговаривала Ксения Ивановна, нарезая кулебяку, расставляя мензурки и бумажные тарелочки и передавая Илье Игнатьевичу миску с помидорами — мыть. Тот покорно, даже с готовностью, ушел.
— Я вот, Ксения Ивановна, хотел сказать вам, — начал Василий Лукьянович, — про Илью. Вы ведь тоже, наверно, заметили.
— Что я такого могла заметить?
— Птицы эти, деревья…
— Да, птиц он любит. А что?
— Птиц и я люблю. Особенно чаек. Я к тому, что заговаривается он. У него ведь птицы-то на этом… Только не думайте, не подслушивал я. Случайно вышло. А вы… нехорошо, Ксения Ивановна, подыгрываете вы ему. Вам бы урезонить человека.
— Господи, да о чем вы, Василий Лукьянович?
— О торшере его, о чем же еще. Дятлы у него там поселились, цветы лезут. Того гляди груши рвать начнет.
— Ах, вот что вас беспокоит, — сказала Ксения Ивановна ровным голосом.
— Ну да. Совсем ведь с катушек сойдет.
— Эх, Василий Лукьянович, голубчик. И все-то у вас прямо, и все-то у вас ровно. Ну торшер, ну цветы. Тут радоваться надо, коли такая удача. Не часто выпадает человеку, чтобы вот так. Я и сама недавно этого не понимала. А жизнь, она ведь… Да нет, не умею я объяснять. Знаете что? Приходите-ка вы лучше в воскресенье ко мне, с Натальей Павловной приходите. Я вам сыграю.
В комнату, толкнув коленом дверь, протиснулся Илья Игнатьевич. Левой рукой он прижимал к себе миску с умытыми влажными помидорами, а правой робко выставил букет привядших бордовых гладиолусов.
— Извините, цветы немного того. Но другие еще хуже были. Вот, Василий Лукьянович, мы с Ксенией Ивановной поздравляем вас. И пусть все ваши желания исполнятся.
— Уж не с вашего ли… не из вашего ли сада цветы? — басовито брякнул Василий Лукьянович, но в конце фразы поперхнулся и закашлялся. Кашлял долго, натужно, до слез.
— Будьте здоровы, Василий Лукьянович! — сказала Ксения Ивановна. — Это очень важно, чтобы желания исполнялись. Ведь тогда все будут счастливы. Вот у вас какое самое заветное желание?
Василий Лукьянович немного помолчал, разливая вино. Потом, когда уже выпили, сказал:
— Я, знаете, до войны под Мелитополем жил, у самого моря. А возвращаться не стал — не к кому. В разных местах бывал. Доучивался, работал. Здесь вот зацепился, а все туда тянет. Думаю себе, на пенсию выйду, уговорю Наталью, поедем в нашу Степановку. — Он еще помолчал и тихо добавил: — Лодку куплю, стану рыбу ловить.
Так, за разговором, они и не заметили, что кончился обед.
В этот день двери запирала Ксения Ивановна, и — такое случилось впервые — Илья Игнатьевич и Василий Лукьянович дождались ее. Некоторое время шли втроем. А когда она свернула к себе, мужчины продолжали путь по медленно остывающему булыжнику. Илья Игнатьевич рассказал боцману об удивительной птице колпице с расширяющимся книзу клювом, странным образом похожим на лопату и на молоток. Василий Лукьянович, в свой черед, объяснил Илье Игнатьевичу, как берет кефаль на Бирючьем острове, который и не остров вовсе, а самый край длиннющей Федотовой косы. Уже прощаясь, Василий Лукьянович сказал:
— Я чего спросить хотел, что это с Ксенией-то происходит?
Илья Игнатьевич смотрел не понимая.
— Эти ее разговоры о рояле, о том, будто играет она. Надо бы отвлечь ее от мыслей этих. Какая уж тут игра, сами понимаете.
— Да что вы, Василий Лукьянович, — вздохнул Илья Игнатьевич облегченно. — Подумаешь, рояль. Ну появился у Ксении Ивановны рояль. Ну играет она на нем. Но ничего такого тут нет. А играет, между прочим, замечательно. Да ведь Ксения Ивановна и женщина необыкновенная. Понимаете ли вы это? Вы должны понять. Со мной тоже, скажу вам по секрету, удивительная история вышла. Вот у вас, например, есть дома торшер?..
Потом, когда Илья Игнатьевич, махнув рукой, юркнул в свой переулок, Василий Лукьянович замедлил и без того неторопливый шаг. Сейчас пройдет он мимо глухого куба бойлерной с намалеванными на грязной стене спадающими буквами — ЦСКА, минует перевернутую урну у подъезда, откроет визгливую створку с красной фанерной заплатой и станет подниматься, хрустя скорлупой у мусоропроводной колонны с вырванными крышками. Он войдет в квартиру, где делит стол и постель с женщиной, много лет назад пришедшей сюда, чтобы досадить другому (как и он привел ее, чтобы досадить Марианне и забыть ее плечи в соленых каплях), да и оставшейся — стирать и стряпать, гасить в себе и в нем вожделение и молчать, молчать, молчать. Он распахнет окно, выходящее на крутой подъем к нефтебазе, где надсадно воют бензовозы, он откроет окно, эх, дятлы-рояли, и высунется до пояса…
Илья Игнатьевич торопился. Он ждал сегодняшним вечером в гости Ксению Ивановну. Она обещала прийти на ужин к половине восьмого. Илья Игнатьевич летел домой. Сейчас он войдет к себе, отыщет кнопку среди корней, впустит этот задумчивый свет, похожий на свет забытого фонаря в листве ночного парка. И лишь две мысли слегка тревожили Илью Игнатьевича. Во-первых, дятлы селятся в дуплах и гнезд никогда не вьют. И во-вторых, он твердо помнил, что серебряные кольца для салфеток мать продала сразу же после войны.
Василий Лукьянович распахнул окно, выходящее на крутой подъем к нефтебазе, откинул створки, эх, дятлы-рояли, и высунулся по пояс. Он увидел красную глину азовского пляжа, вдохнул запах степи и моря, горечь и соль коснулись губ. Там, где вода теряет прибрежную желтизну и сливается с сине-зеленым небом, глаза схватили белый косой мазок — баркас чудака или городского бездельника: какой серьезный рыбак выйдет в море в этот час. Да и не ходят теперь рыбаки под парусами.
Но это был парус. А над ним, но ближе, на густо окрашенном холсте неба стремительную двойную линию выводила пара сизых точек. Чайки.