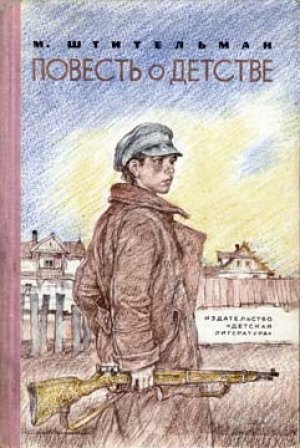
Писать предисловие к новому изданию «Повести о детстве» Михаила Штительмана я взялся с радостью и горечью. С радостью — потому, что люблю эту книгу и был дружен с ее автором. С горечью — именно поэтому. С радостью — потому что очень многое вспомнилось из — теперь уже далекого — прошлого. С горечью — именно поэтому.
В давние, предвоенные, годы издательство в городе Ростове-на-Дону обратилось ко мне с предложением взять на себя редактирование этой повести молодого ростовского прозаика. Тогда мы и познакомились с Михаилом Ефимовичем — в ту пору Мишей — Штительманом.
Потом случилось нам вместе проводить отпуск на берегу Черного моря. Помню, как безуспешно учил его плавать. Держал его в воде на вытянутых руках — он не весил ничего, — осторожно опускал руки, и он немедленно тонул. Удивительная худоба не давала ему ни малейшей опоры на воде. Если воспользоваться выражением одного остроумного человека, у Миши было не телосложение, а теловычитание… На отсутствующем туловище помещалась относительно большая голова с огромными глазами. Казалось, эти глаза и тянули его камнем на дно.
Потом мы ушли — почти одновременно — с народным ополчением. Он — из Ростова, я — из Москвы. Оказались примерно на одном участке Западного фронта, где-то неподалеку друг от друга. Он нашел меня по очеркам и заметкам, публиковавшимся в армейской газете. Прислал глубоко тронувшее меня письмо, в котором даже в тех условиях проявилась его до застенчивости нежная душа. Я ответил, и он написал еще раз. Очень грущу теперь, что война не сохранила этих дорогих мне писем доброго художника, милого человека, моего друга.
Позже мы увиделись в Москве: свели нас совпавшие по времени командировки. Со Штительманом приехал ростовский поэт, его сверстник Гриша Кац. И встретились мы все вместе в гостиничном номере у их земляка — Михаила Александровича Шолохова. Он был в городе проездом: направлялся на фронт в качестве военного корреспондента газеты «Красная звезда». В тот вечер — с перерывом лишь на воздушную тревогу — Штительман и Кац много пели. Михаил Александрович, любящий пение, понимающий в нем толк, удивлялся, что не знал раньше, какие у них звонкие тенора… Наутро все мы разъехались в свои воинские части.
Вскоре пришло письмо. Оно есть у меня. Миша писал об этом вечере в Москве, о прощании у подъезда «Национала», о том, что никогда еще мы не расставались, так мало зная о своем будущем. Писал, что воспоминания — большое и тревожное богатство на войне, хорошо что они есть. Писал, что будет у нас наше завтра, будет большое общее счастье возвращения. Писал, что командование части представило его к правительственной награде — ордену «Красной звезды» и что он никогда не думал, что его «представят к ордену за… войну».
Счастье возвращения изведать ему не довелось.
Потом не было больше ни писем от Миши, ни — долгое время — известий о нем. Впоследствии выяснилось, что и он и Гриша Кац погибли.
Вот почему в воспоминаниях смешиваются и радость и горечь.
А книга, написанная Михаилом Штительманом, живет. Она перед нами, дорогие читатели, скоро вы перевернете страницу, и вас гурьбой окружат ее герои — и непохожие друга на друга, и в чем-то схожие, повеет воздухом маленького окраинного городишка дореволюционной России, которые назывались местечками… И оживут перед вами надежды и каждодневные заботы населявших такое местечко людей, их стремления, их заблуждения и предрассудки, и то новое, что с революцией вошло в их жизнь, переделало их психологию, круто изменило их судьбу.
Мальчик Сема Гольдин со смешным прозвищем «Старый нос» — образ, несомненно, автобиографический. В нем так много того, что было присуще Мише Штительману! Да и на то надо обратить внимание, что всех остальных и всё остальное в повести видим мы такими и таким, как оно запечатлевалось в больших, удивленных глазах Семы.
С первых страниц предстанет основная группа героев и персонажей. Каждому посвящена отдельная глава.
Вот два человека, которые пестовали детство Семы, — бабушка и дедушка.
«У дедушки всегда деловой вид, всегда он куда-то торопился. Прежде чем совершить сделку, дедушка с жаром рассказывает, эта сделка может дать.
— Допустим, — говорит дедушка, — мадам Фейгельман согласится продать свой дом с флигелем за пятьсот рублей. Как раз сейчас хочет купить дом без флигеля мосье Фиш… Мм продаем Фишу дом, а на комиссионные забираем флигель и сдаем его семье Ровес. Это даст нам… — дедушка щурит правый глаз, — пятьдесят — шестьдесят рублей в год!
Но потом выясняется, что мадам Фейгельман не продает своего дома, а думает лишь его продать, когда ее сын Моська, которому сейчас год, достигнет совершеннолетия, а господин Фиш действительно хотел купить дом на те деньги, что он заработает при покупке партии леса у польского помещика, но так как помещик прогорел и лес не прибыл, то он, Фиш, пока дом не покупает. Так рушится вся дедушкина постройка! Два дня бабушка распекает его за флигель, а на третий дедушка придумывает остроумную операцию с бязью и подсчитывает, что это дело может дать.
Все дни старик что-то ищет, что-то прикидывает, берет на заметку… Отрывки разговоров, случайно услышанные слова, чьи-то намеки — все это мысленно склеивает он, как клочки разорванного письма, и составляет очередной план. Нужду свою дедушка старательно прячет. Заняв до четверга рубль, он расплачивается в четверг. Правда, он пошел на новый заем, но это никого не касается. Одним словом, дедушка крутится!»
А бабушка? Вот затеяла она кормить желающих домашними обедами… «И пусть не подумают, что из-за денег. Просто бабушка делает одолжение. Не все равно — готовить на двух или на пятерых? Она только докладывает к этому делу, но у нее такое сердце, что она просто не может отказать…»
У бабушки был четкий план: Фрейда скажет Фейге, Фейга скажет Двойре, Двойра — Хиньке, Хинька — Риве. Если не сегодня, так завтра клиенты будут наверняка!.. А когда в первый же день дедушка позволил себе выразить сомнение: «Ой, Сарра, ты, кажется, берешься не за свое дело!» — рассерженная бабушка напомнила мужу, что ему не следует бояться убыточности начатого дела, поскольку он ничего не вложил в это дело. Дедушка еще пытался наступать, засвидетельствовать свою нелюбовь к пустым затеям… И вот тут-то и последовала решительная контратака: бабушка негодующе переспрашивает: «Это пустые затеи? А флигель покупать — не пустые?» — и, услышав о флигеле… дедушка сконфуженно умолкает.
Есть у Семы потешный и славный приятель. Зовут этого мальчика Пейся. Характер у него совсем не Семин: он может и смалодушничать, и угодничать, служа у богача Гозмана, который выгнал Сему, не стерпев непокорного характера своего служащего и его острого ума. Однако это в характере Пейси поверхностное, легко слетающее, как шелуха. А сердце у Пейси доброе, притом он забавнейший и упоенный враль, не истощимый на выдумки и не теряющий присутствия духа, когда его пытаются уличить в явных несуразицах, которыми полны его истории. Сема и Пейся то ссорятся, то мирятся, а под конец становятся настоящими друзьями.
В какой-то степени, лишь в какой-то степени под стать бабушке и дедушке Семы «посредник», маклер Фрайман. Но в нем заложено и нечто другое. Если старики Гольдины строят свои воздушные замки, рассчитывая лишь на удачу, никому не грозящую ни бедой, ни убытком, то Фрайман — натура паразитическая, извлекающая свой хотя и небольшой доход из того, что посреднику удается урвать из заработка «облагодетельствованных» им людей.
Сема на несладком опыте услужения у господ Гозманов. Айзенблитов, Магазаников узнает, что такое дух эксплуатации, что тянут за собой жадные мечты о наживе. Эти господа хотели бы прибрать к рукам многое не только в местечке — и прибрали бы, если бы не революция.
Фрайман определил Сему сначала на службу к мануфактуристу Магазанику, потом — к обувщику-«европейцу» Гозману. Он же устроил к Гозману и Пейсю… Побывав и «компаньоном» у водовоза Герша, Сема в конце концов попадает на кожевенную фабрику Айзенблита.
Вот где люди помогли ему найти себя.
Дело в том, что на фабрике было много друзей Семиного отца. Все здесь помнили Якова Гольдина…
Но сначала несколько слов о том, что же это за местечко, где происходили описанные в повести события.
Вот речка, на берегу которой оно стояло, «маленькая, смешная речка Чернушка. Семе представлялось, как хорошо было бы, если б Чернушка впадала „в какой-нибудь порядочный океан…“ Сема поплыл бы по речке и увидел корабли, настоящие города… Он понимал, что мечтать об этом глупо, что Чернушка никуда не впадает, а к середине лета и вовсе высыхает, но — „почему не помечтать — это ж ничего не стоит“…»
По реке — и улицы. «Говорят, что в больших городах каждая улица имеет название: ну, допустим, Крещатик, или Садовая, или еще какие-нибудь. В Семином городе улицы не имели никаких названий, и даже при желании заблудиться здесь было трудно. Во-первых, всего три улицы, во-вторых, что такое улица? Если в местечко въезжают дроги, так задние колеса стоят на тракте, а оглобли упираются в конец улицы. Вот и гуляй по таким проспектам!»
И вот в таком-то местечке уже копили силы, вызревали дельцы недюжинного масштаба…
В начале книги мы видели Гозмана всего-навсего злобным самодуром, издевающимся над «мальчишкой на побегушках», досадующим на то, что этот мальчишка сметлив и умен, а его собственный сын — полукретин.
Во второй части мы узнаем пошире, что представлял собою этот коммерсант и предприниматель. Он не выезжал из местечка, однако был известен не только в Киеве, но и в Варшаве. Нельзя было увидеть Гозмана гуляющим с ребенком или сидящим на скамейке под тенистым деревом. У него не было желаний, присущих обычным людям. Все, что его интересовало, так или иначе связывалось с рублем. Он и в карты не играл, не прокучивал денег: Гозман «делал деньги — со злобой, с упорством, нанося увечья людям и не замечая их страданий…»
Так жило местечко, своим микромирком, со своими стремлениями и философией. Одни неутомимо барахтались в трясине, веря и не веря в слепую, шалую удачу, в возможность выбраться когда-то на гребень жизни. Другие надеялись одолеть жизнь, подмять ее под себя, стать господами жизни, на беде и горе других построить свое благополучие. А как изменить само течение жизни, как направить его по новому руслу, — знали совсем иные, не похожие на них люди.
Это — отец Семы, это — рабочий айзенблитовской фабрики Антон Дорошенко, это — в годы революции военный комиссар Трофим Березняк, это — матрос-балтиец Степан Тимофеевич Полянка и это — юные их помощники, набравшиеся жизненного опыта, «курьеры военного комиссара»… Сема и Пейся, а также девушка, которую полюбил Сема, Шера.
Вторая часть книги отделена от первой недолгим сроком: Семе исполняется всего лишь пятнадцать лет. Но эта часть охватывает огромные сдвиги в жизни местечка, которые возникают как отражение и как малое звено великих революционных событий в жизни всей страны.
В связи с этим на смену бытовым сценкам, где в зарисовки тех или других сторон жизни местечка вкрапливались выполненные также в бытописательской манере колоритные портреты обитателей местечка, представителей различных его социальных слоев, — на смену всему этому приходит живопись, углубляющаяся в характеры, в психологию персонажей и тем самым в итоге некоего диалектического процесса, поднимающаяся над бытом, наполняющая повесть содержанием возвышенным. Если в первой части преобладает людское, то здесь на первый план выходит человеческое.
И в первую очередь связано это со всеми сюжетными линиями, которые прочерчиваются в эпизодах, где либо присутствует, либо все окрашивает собою образ отца Семы, мотив преемственности поколений. Вот где обретают полную силу произнесенные и подхваченные в главах первой части слова о том, что в Семе есть «кусочек от его папы», вот где раскрывается подлинный пафос этих слов.
Обратим внимание на страницы, где описан приход отца, его возвращение из царской ссылки. Всмотримся в плачущие большие серые глаза человека с маузером, в фигуру его старой матери, опустившейся подле него на колени, вслушаемся в ее вырывающийся будто прямо из сердца голос:
«— Ты приехал… Я не надеялась дожить до этого дня. Теперь я могу умереть. Единственный мой… Счастье мое… Ты совсем белый, — с тоской произнесла бабушка, — ни одного черного волоса! Где твоя молодость, сын? Где ты потерял ее? — застонала она. Но вдруг, вспомнив что-то, бабушка вскочила и закричала: — Сема, ты здесь? (Побледневший и испуганный, он стоял рядом.) О чем ты думаешь? Почему ты не двигаешься? Это ж твой папа! Твой папа!»
И вслед за этим — мужественно нежная сцена встречи отца с сыном. И волнующая сцена чудесного исцеления, как в библейской притче, старика, к которому возвратился сын.
А вскоре картина прощания Семы с отцом — прощания, казалось, на короткое время…
«Опустив руки, стоял Сема на дороге, провожая глазами отца. Господи! Хотелось не стоять, а бежать за ним, бежать и бежать, целовать его белую голову, худые руки, вылинявшую куртку. Прощай, отец!.. Его уже не было видно, а Сема все стоял, и прохожие с удивлением смотрели на него. Какая-то телега, громыхая, проехала мимо, черные брызги, полетели вправо и влево, но Сема не заметил их».
И вот — после милых страниц, отданных первой, детской любви Семы и Шеры, лирическим воспоминаниям бабушки и дедушки, с юмором написанным эпизодам, в которых участвуют Полянка, Пейся, после главки, где показано расставание с уходящими на один из фронтов гражданской войны Антоном, Моисеем, Полянкой, — командировка Семы в тот район, где он надеялся встретить отца, комиссара района, и на этот раз последнее, навсегда, прощание с отцом.
Задержитесь, дорогие читатели, на финальных страницах книги, не торопитесь, очень внимательно, открыв свое сердце тому, что их наполняет, читайте их, и вам сдавит горло глубокое волнение, омоют глаза светлые, очищающие душу слезы.
Прекрасно завершается книга. Концовка как бы не ставит точки. В подтексте она, эта концовка, несет что-то, что дает возможность угадывать наступающее стремительное возмужание юного героя повести.
Еще немного — об авторе книги. Родился он в Одессе, в 1911 году. Детство прошло на Украине. Юношей работал на заводе в Ростове-на-Дону. Был журналистом — сотрудничал в газетах, альманахе, журнале… В 1934 году выпустил первую книгу «Сын родился» — сборник рассказов, в 1936 году — «Рассказы о друзьях». Продолжал работу в газетах.
На войне был секретарем редакции армейской газеты «К победе». Это была газета 19-й армии. В 1941 году погиб в районе Вязьмы.
Если эта книга попадет вам, дорогие читатели, в руки впервые, вы узнаете нового для вас писателя. И пусть напутствуют вас в вашем чтении слова другого писателя о своем молодом собрате по профессии:
«Товарищ Штительман!
Примите 1000 моих извинений. Только недавно прочитал. Книга теплая, и я не раскаиваюсь, что чтение отложил на осень. Когда холодно, теплое согревает. Привет!
Мих. Шолохов.23 ноября 1938 г.»[1]
Ну вот, товарищ Штительман, ну вот, хороший мой Миша, вашу книгу встречают тысячи новых, молодых глаз, тысячи распахнутых навстречу ей сердец.
Ю. Лукин
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Отцу моему посвящаю
Все люди живут по-людски, только у одного Семы не жизнь, а сплошное мучение. Конечно, он взрослый человек, понимает, что — почему, но уж слишком много у него забот. Подумайте только, вот сейчас бабушка Сарра уж наверняка ищет Сему. Вообще эта бабушка — минуты она не может прожить без него, как будто он дает ей воздух. Сема — туда, Сема — сюда, все Сема!
Надо принести дров со склада — Сема; надо натаскать воды на кухню — Сема; надо развести самовар — Сема; надо дедушке принести шкалик — Сема; надо занять у соседки стаканчик крупы — кто бы вы думали? — тоже Сема! Просто голова кружится. И хорошо, если бы все говорили: Сема — это золотой мальчик; хорошо, если бы все были им довольны, — тогда можно терпеть. Но нет же, его еще ругают! Легче выучиться талмуду[2], чем угодить бабушке. Каждый день его ругают: он весь в папу, он минуты на месте не стоит, он не уважает старших, у него ветер в голове, и — мало этого — он еще вдобавок… Старый Нос. Да, да, Старый Нос!
За что же дали Семе это дурацкое прозвище? Шагу не может он ступить по местечку, только и слышит: «О, Старый Нос идет!» или «О, Старый Нос уже все знает!» У других мальчиков тоже есть прозвища, но такого нет ни у кого.
Мальчика Пейсю прозвали Вруном; так ему и надо, потому что Пейся всегда что-нибудь придумывает. Он, например, выдумал, что его папа, мясник Шлема, поставляет мясо к царскому двору. Кто поверит этому шарлатану? Может быть, завтра он придет и скажет, что царь звал Шлему пить кофе или кушать котлеты.
Пейся-Врун. И никак его иначе не назовешь. Еще какой врун! Вчера Сема встретил на улице Пейсю. Пейся нес какой-то сверток и с таинственным видом прошел мимо. Но Сема не может его пропустить, не узнав, что у Пейси в свертке. Он останавливает Пейсю и спрашивает:
— Куда ты летишь, что у тебя в свертке?
— А тебе, Старый Нос, все нужно знать?
Семе очень тяжело слышать такие противные слова, но он не может уйти, не узнав, что в Пейсином свертке.
— Ты, наверно, был у отца? — допытывается Сема, и глаза его блестят от радостного возбуждения.
— Я был на станции, я там получал груз! — с гордостью отвечает Пейся и тычет пальцем в таинственный сверток.
— Груз? — повторяет Сема. — А ну покажи!
— А ты никому не скажешь?
— Никому.
— А побожись!
— Чтоб я так жил!
— Еще!
— Пусть у меня руки отсохнут!
— Еще!
— Чтоб у меня бабушка умерла!
Клятва эта убеждает Пейсю. Он уводит Сему за угол и, оглянувшись по сторонам, медленно развертывает сверток:
— Здесь американская летучая мышь!
Сема широко раскрывает глаза:
— Американская? Вот черт! Ай да Пейся! Ну, показывай! Что ж ты возишься?
Пейся откидывает край листа. Сема видит обыкновенного дохлого маленького мышонка. Американская? Летучая? Какой врун! Сема с негодованием уходит. Пейся пытается держаться важно, он даже кричит вслед Семе:
— Завидуешь, Старый Нос!
Но он уже сам не верит своей выдумке, и мокрый, тщедушный мышонок лежит в его грязной руке.
И вот Сема рассуждает: если Пейсю прозвали Вруном — это правильно! Он и есть самый настоящий врун. Если сына заготовщика Фомы прозвали Нехай — это правильно: пусть не сует после каждого слова это самое «нехай» — кто его выдумал? Если тощую тетю Фейгу прозвали, извините, Коровой, так и это правильно. Она ведь всю жизнь только и знает, что говорит о корове. Ей нужна обязательно корова, иначе она не может. Чудачка эта тетя Фейга!.. Но, спрашивается, почему его прозвали Старый Нос?
Бабушка говорит Семе, что он — Старый Нос потому, что он все знает, всюду суется и во все вмешивается. Вот и угоди после этого бабушке! Он все знает, так это, оказывается, плохо. «Пожалуйста, сделайте одолжение, — думает Сема, — я не буду во все вмешиваться. Сами ходите по воду, сами пилите дрова, сами занимайте крупу, сами несите курицу к резнику — всё сами. Старый Нос! Выдумали человеку прозвище…»
Сема вздыхает: день только начался — и уже столько надо обдумать. Думать… Сема вспоминает — вчера гимназист Ясинский, рассказывая что-то деду, сказал: «Шел я по улице, ни о чем не думая…» Что это значит: ни о чем не думая? Сема пробует ни о чем не думать, но это занятие злит его. Он думает о том, что он ни о чем не думает, — получается ерунда. Этот Ясинский — или чудак, или врун вроде Пейси. Надо будет спросить у дедушки. Покончив с Ясинским, Сема тихонько спускается на пол — он сидел в кухне на посудном столике. Бабушка с утра куда-то ушла, в доме было совершенно пусто — никто не мешал ему.
Сема подходит к окну, и вдруг он видит, что во дворе стоит Пейся, корчит рожи и показывает ему огромный нос. Сема взбирается на подоконник и быстро прыгает вниз. Он хватает за шиворот Пейсю и пригибает его к земле.
— Дурак, Старый Нос! — кричит Пейся задыхаясь.
— Кто Старый Нос? — свирепо спрашивает Сема.
— Я, я — Старый Нос, — покорно говорит Пейся.
— Проси прощения, Врун!
— Прошу.
— Нет, повторяй за мной: «Я, Пейся-Врун, прошу у тебя, Сема, прощения».
— Я… — дрожащим голосом, заикаясь, повторяет Пейся, — Врун… прошу у тебя…
— Ладно! — великодушно заявляет Сема. — А где твоя мышь?
— Улетела, она ведь летучая.
— Да она дохлая, твоя мышь!
— Я достал для нее лекарство, и она теперь опять летает.
Сема с удивлением смотрит на Пейсю. Как можно так врать?. И хоть бы глазом моргнул!
— Ну, знаешь что, убирайся отсюда. Это наш двор!
— Ладно, ладно, — говорит Пейся, — придешь к нам, я тебя тоже не пущу.
— Я с детьми не играю, — важно говорит Сема и лезет обратно в окно.
Вдруг он слышит крик:
— Долго рос Старый Нос! Семка-тесемка!
Сема стремительно поворачивается, но поздно: Пейся уже за воротами. Издалека доносится его тоненький голосок:
— Долго рос — Старый Нос! Семка-тесемка!
«Убью! — думает Сема и сжимает кулаки. — Убью! Мышь летучая!»
В это время во двор входит бабушка. На ней почему-то черная шаль, та самая, которую она надевает лишь в большие праздники. С бабушкой идет человек с палкой, в сером люстриновом[3] пиджаке и соломенке. Сема его никогда не видел. Почему на бабушке черная шаль? Что это за человек, интересно знать? Сема прячется за шкаф, бабушка с гостем проходят в комнату. Интересно! Да пусть его тридцать раз называют Старый Нос, должен же он знать, что делается в его собственном доме. И Сема прячется у двери.
Бабушка. А как Яша выглядит? Наверно, похудел. Ты понимаешь, все ночи я лежу с открытыми глазами. И он все время — передо мной.
Человек с палкой. Он выглядит, тетя Сарра, не очень хорошо, но его уже оставил кашель.
Бабушка. А он получил мою посылку?
Человек с палкой. Получил. Я даже сам сухарики ел — объедение! У вас, тетя, на такие вещи золотые руки.
Бабушка. Ну, так ты разденься, умойся и ложись. Придет старик, мы поговорим. Хорошо? Вот здесь умывальник…
Бабушка открывает дверь и сталкивается с Семой. Сема сконфуженно смотрит на нее и… растерянно разводит руками.
— Я здесь искал…
— Что ты искал? — кричит бабушка. — Что ты искал, мамзер?[4] Искал! Все тебе нужно, Старый Нос!.. Поди-ка лучше купи дров на складе!
Сема любит дедушку больше, чем бабушку. Он и не пытается скрывать это. Когда бабушка говорит: «Эх ты, Старый Нос!» — это у нее звучит так, как будто она говорит: «Эх ты, дурак, чтоб тебя черти утащили». А когда дедушка говорит: «Эх ты, Старый Нос!» — это у него звучит так, как будто он говорит: «Эх ты, мой дорогой, трудно тебе приходится».
Профессий у дедушки много: он был продавцом живой птицы, бакалейщиком, агентом по страхованию жизни, приказчиком, комиссионером по продаже и покупке домов. Всего не перечислить! Но ни одна профессия не сделала его карман тугим. Шутя, он говорит, что ему нужно уметь считать, самое большее, до десяти. Дедушке приходится иметь дело с маленькими цифрами: грош, пятак, гривна, пятиалтынный…
Но жить нужно — нужно зарабатывать деньги. Нужно выдумывать деньги! Это очень трудно. Когда дедушка был молодым, он надеялся на помощь свыше. Бог, мало ли что может бог! Град пустить, метель поднять, зрячего ослепить, реки осушить.
Но потом дедушка изменился, и с богом у него установились довольно холодные отношения. Во всяком случае, на него дедушка особенно не рассчитывал.
Сейчас дедушка — комиссионер по покупке и продаже домов. Нельзя сказать, чтоб это было очень прибыльное дело. В местечке многие имеют свои домики, но никто не собирается их продавать или покупать. На прошлой неделе семья Нюрельман продала свой дом. Почему? Нюрельманы уезжали в Америку. Но, во-первых, не каждый день люди уезжают за океан, во-вторых, кроме дедушки, в местечке есть еще девять комиссионеров по покупке и продаже домов. Поэтому дедушка часто лезет в чужие дела и вместо домов продает картофельную муку, щепу, камни для бритв…
У дедушки всегда деловой вид, всегда он куда-то торопится. Прежде чем совершить сделку, дедушка с жаром рассказывает бабушке, что́ эта сделка может дать.
— Допустим, — говорит дедушка, — мадам Фейгельман согласится продать свой дом с флигелем за пятьсот рублей. Как раз сейчас хочет купить дом без флигеля мосье Фиш… Мы продаем Фишу дом, а на комиссионные забираем флигель и сдаем его семье Ровес. Это даст нам… — дедушка щурит правый глаз, — пятьдесят — шестьдесят рублей в год!
Но потом выясняется, что мадам Фейгельман не продает своего дома, а думает лишь его продать, когда ее сын Моська, которому сейчас год, достигнет совершеннолетия, а господин Фиш действительно хотел купить дом на те деньги, что он заработает при покупке партии леса у польского помещика, но так как помещик прогорел и лес не прибыл, то он, Фиш, пока дом не покупает. Так рушится вся дедушкина постройка! Два дня бабушка распекает его за флигель, а на третий дедушка придумывает остроумную операцию с бязью и подсчитывает, что это дело может дать.
Все дни старик что-то ищет, что-то прикидывает, берет на заметку… Отрывки разговоров, случайно услышанные слова, чьи-то намеки — все это мысленно склеивает он, как клочки разорванного письма, и составляет очередной план. Нужду свою дедушка старательно прячет. Заняв до четверга рубль, он расплачивается в четверг. Правда, он пошел на новый заем, но это никого не касается. Одним словом, дедушка крутится!
Днем, падев свои черные в белую полоску, тщательно выутюженные брюки, он выходит в город. Около аптеки он встречается с друзьями. Они говорят обо всем, кроме того, что их действительно интересует. Прислонившись к железным перилам, они толкуют о фальшивомонетчиках, о новом правительстве во Франции, о недавно назначенном губернаторе, даже о революции. Это больное место дедушки. Когда произносят слово «революция», дедушка вздрагивает, как будто называют его фамилию. Из-за этой революции его сын торчит где-то в глуши, и дай бог дожить до его возвращения.
Дедушка вздыхает и, постукивая палкой по деревянному тротуару, медленно идет домой. По дороге он заходит в обувной магазин Гозмана и уславливается, чтоб его имели в виду, если прибудет небольшая партия дамской обуви. У него есть покупатель — что-нибудь особенное! Прощаясь, он начинает думать, кто бы мог быть покупателем, если действительно обувь прибудет. Новая комбинация! Может быть, выгорит дело…
Чем ближе подходит дедушка к дому, тем хуже становится его настроение. Завтра опять нужно идти на базар. Боже мой! Базар пожирает все. При этой дороговизне только Ротшильду[5] хорошо… Навстречу дедушке бежит Сема. Пальцы торчат из его больших, завязанных веревочкой ботинок… Дедушка гладит Сему по голове:
— Что это у тебя такие синяки под глазами, Сема? Ты ел что-нибудь?
Сема прижимается к дедушке, обнимает его:
— Ел, дедушка, много ел!
— Ну, вот и хорошо!
Дедушка лезет в карман, шарит рукой, но потом вспоминает, что денег нет, и вздыхает.
— Дедушка, а у нас гость!
— Какой гость?
— Я знаю? — пожимает плечами Сема, — Может быть, даже этот господин от папы. Бабушка спрашивала у него, как выглядит Яша.
— От папы?.. Что ж ты мне сразу не сказал, Старый Нос!
И, оставив Сему, дедушка бежит в дом.
Есть в местечке большой, глубокий колодец. Каждый день уносят сотни ведер воды, а колодец все полон и полон. Хорошо Гершу: его товару нет конца. Само небо дарит заработок! И нашел же человек. Десять лет тому назад Герш продал все, что у него было, и купил — что бы вы думали? — обыкновенную бочку. Потом поехал на ярмарку и купил рыжего костлявого коняшку.
С тех пор Герш живет, как министр. Со своей бочкой приезжает он к колодцу, набирает и развозит по домам воду. Конечно, не каждый может себе позволить такую роскошь — покупать у Герша воду! Герш поставляет воду только самым богатым и почтенным людям: раввину[6], купцам Магазанику и Гозману…
Все было б хорошо, но у Герша есть конкурент, и этот конкурент не дает ему покоя. Старый черт отбивает у него кусок хлеба. Старого черта зовут Лазарь Солас. И, хотя Герш ругает его, он заслужил свой заработок. Он почетный человек. Он герой. Он георгиевский кавалер.
В 18… году молодой широкоплечий Лазарь был призван в действующую армию. Доктор пришел в восторг от его выправки. Чтоб у еврея была такая грудь! Ширина — косая сажень. Его зачислили в кавалерию — это была большая честь.
Через несколько лет в местечко пришел усталой походкой хмурый человек в солдатской форме с Георгиевским крестом на груди. Это был Лазарь Солас. Он с любопытством смотрел на прохожих, но его не узнавали. Дома он застал трех рыжих евреев, тощих и длинных.
— Евреи, что вы здесь делаете, хотел бы я знать? — улыбнувшись, спросил он и, бросив бескозырку, опустился на стул.
— Странный вопрос, господин солдат, — ответил младший, — мы сыновья Аврама Соласа.
— Ну, так я тоже сын Аврама Соласа. Я тоже у себя… А где мать?
Поднялся плач, сбежались любопытные соседи. Вернулся с крестом! Все-таки не даром послужил Лазарь. Теперь он почетный человек, шутка сказать — георгиевский кавалер! Одно жаль, что мать не дожила, — ах, как бы она радовалась! Хорошая была старуха. Но какое счастье будет его детям — это же бывает раз в сто лет!
Что значит георгиевский кавалер? Боже мой, это значит, что Лазарь Солас имеет право жительства во всей Российской империи. Хочет Лазарь — он берет чемодан, садится в поезд и приезжает в Москву. Хочет Лазарь — он берет чемодан и приезжает в Петербург. Рай! Хочет — что хочет. Может поехать в Область Войска Донского, в Ростов! Да! Приедет и скажет градоначальнику: «Я решил у вас пожить», — «А кто вы такой, позвольте узнать?» — скажет градоначальник. «Я — георгиевский кавалер» и градоначальник — под козырек: «Добро пожаловать, милости прошу».
Вот что значит Лазарь Солас!
А если захочет его сын выучиться, скажем, на доктора или даже на горного инженера — пожалуйста! Хоть на академика! Никакой процентной нормы!.. Конечно, какая-нибудь пуля могла попасть ему в печень или даже в сердце, но ничего — обошлось. И теперь большое счастье!
Так говорили евреи в синагоге[7], на базаре, в лавках и дома. Все говорили, кроме Лазаря Соласа и его братьев. Какие-то странные люди — они не радовались.
Лазарь Солас женился. Жена подарила ему одного за другим трех сыновей. Сыновья росли, как все дети бедняков: в пыли улиц, в духоте хедера[8], в тесноте мастерских. Геройство отца не дало им счастья. Были они такие же тощие, как братья отца, рыжие и тощие; только младший пошел в Лазаря — из подковы он мог сделать конторскую линейку. Ну так что?
Шли годы, пожелтел Георгиевский крест, поблекли глаза, выцвела старая боевая куртка солдата. Вечерами скучный сидел Лазарь Солас у ворот своего дома. И люди равнодушно проходили мимо него.
Право на жительство? Но зачем оно ему нужно в семьдесят пять лет? Верните ему молодость, и он отдаст все эти льготы. Дети могут учиться? А на какие деньги? На те, что он скопил в царской армии?
И вот георгиевский кавалер стал конкурентом Герша. Герш развозит воду — Лазарь разносит воду. У него нет клячи, нет бочки. У него только широкие, жилистые руки. Пять — десять клиентов — тридцать — сорок ведер в день. В пятницу вдобавок к деньгам для него пекут булочку, в субботу он отдыхает — дети слушают его рассказы, с завистью смотрят на крест и хотят в солдаты.
А сыновья? Старший работает на фабрике, средний переносил тяжести — надорвался и слег, младший давно ушел из местечка, где он — никто не знает. И ходит с ведрами по пыльной дороге старый солдат, георгиевский кавалер, разносит воду по домам, получает булочку в пятницу, — и никто уж ему не завидует.
Интересный человек — Лазарь. Как бы хотелось Семе его послушать! Как бы хотелось!..
И вдруг такое счастье: Сема заходит с дедушкой в дом и видит, что возле бабушки и человека в люстриновом пиджаке сидит он, Лазарь, георгиевский кавалер. Сема радостно потирает руки. Не будет же Лазарь сидеть молча в чужом доме. Что-нибудь Лазарь расскажет — послушаем! Но дедушка портит все дело. Он подлетает к гостю, хватает его за пуговицы:
— Послушай, это ты видел моего сына? Ты своими глазами видел?
Лазарь смеется:
— Это же мой сын, мосье Гольдин. Разве мой сын может соврать? Мое горе, что он видел вашего сына. Мое горе — и ваше счастье.
Дедушка садится и вытирает платком лоб:
— Ну, рассказывай все подробно. Ты поверишь, я не узнал тебя. Бороду отпустил… Сколько лет тебя не было?
— Много лет. Больше десяти.
— Гм! Подумайте — больше десяти!
Вдруг бабушка замечает Сему:
— Ты еще здесь?
Как будто от нее что-нибудь отвалится, если он послушает.
— Да, здесь.
— Иди спать сейчас же! Чтоб мальчик любил только крутиться среди взрослых! Все ему нужно!
Сема быстро забирается под одеяло. Он закрывает глаза и даже похрапывает, но он все слышит. Каждое слово!
О Семином папе всегда говорили, что у него все не как у людей. Молодой человек, вместо того чтобы учиться солидному делу, пошел в сапожники. Во всем роду Гольдиных не было сапожников, так он решил быть первым, как будто его просили или перед ним кланялись. Зачем это, кому это нужно? Один бог знает. Разве он не мог пойти по мануфактурной части? Или — отчего нет? — выйти в раввины? С такой золотой головой все можно!
Семин папа никого не послушал и стал сапожником. Бабушка после долгого раздумья смирилась с этим. Конечно, было бы приятней, если б ее сын дошел до доктора, удачно женился, взял за женой хорошее приданое и купил себе свой собственный кабинет. Но что поделаешь! Дети не слушают старших. Сумасшедшее время наступило. И люди — не люди, а какие-то звери.
Вот хотя бы Фрейда, хозяйка бакалейной лавки. Бабушка у нее каждый день делает покупки: на полкопейки перцу, на копейку уксусу, на три копейки селедки, на полторы копейки керосину и за эти же деньги — еще немножко соды в придачу. И так — много лет. Кажется, люди уже должны знать, с кем они имеют дело. Но теперь сумасшедшее время. Эта Фрейда — гори она огнем! — отказала бабушке в кредите. Прямо взяла и отказала. Ужас! Бабушка целый день пролежала с головной болью.
Так вот, Семин папа стал сапожником. Ну что ж, ставь латки, ставь латки на латки, делай набойки, а если случится такой праздник — сшей новую пару. Все-таки, если говорить откровенно (бабушка начала утешать дедушку), сапожник — это даже лучше, чем посредник, чем сват, чем служка в синагоге. А что бы сделал дедушка, если б его сын вздумал стать тряпичником, или жестянщиком, или маляром? И ходил бы по дворам?
Так рассуждала бабушка. Привыкшая к тревогам, смятениям, несчастьям, она быстро сживается с новым горем и находит утешение в том, что в мире есть еще что-то более тяжелое, более страшное… Если Герш Литвак повесился, она вспоминает о том, что уехавший в Америку Шустер там, в Филадельфии, открыл в комнате газ и отравил не только себя, но и трех детей. Это же хуже? Если у Зоей Нехамкеса провалилась торговля, бабушка вспоминает о том, как прогорел колбасник Жохельман, и не только прогорел, но и сам заболел горячкой. Это же хуже? Лишь бы было здоровье! Живое горе — легкое горе.
Но у Яши все шиворот-навыворот, все не так, как у людей. Бабушка говорит — брито, Яша говорит — стрижено. Бабушка говорит — день, Яша — ночь. Бабушка говорит — да, Яша — нет. Он совсем не хочет находить утешение в том, что есть бедняк несчастнее его.
Совсем наоборот! Если Шустер и его дети погибли в Америке, так Яша вспоминает хозяина — Магазаника, который остался здесь в местечке и живет, как царь. Почему он имеет сейф в банке, а бежавший от него Шустер ничего не нашел? Почему нам плохо, а купцу Гозману хорошо? Почему исправник плюет на Лазаря с крестом и кланяется Гозману, хотя того зовут Мендель-Меер-Ицхок. Почему? И так на каждом шагу он ставил эти колючие «почему», где нужно и где не нужно. И что же? Его отправили «на поправку» в Туруханский край, без него там минин[9] не состоится — как раз не хватало одного еврея к молитве.
Ах, эта милая бабушки! Утром она надевает свой рыжий парик, ходит с палочкой по комнате и ворчит без умолку. Хотелось бы видеть живого человека, который ее переговорит! Не дай бог попасть ей на язык!
Что же это? Сема приоткрывает левый глаз. Что же это все время они говорили: Яша такой сякой, а сейчас расспрашивают про каждую мелочь? А дедушка каждый раз вскакивает, хватает гостя за пуговицы, смотрит ему в глаза, как будто в них что-нибудь написано.
— Значит, вы говорите, он через год может вернуться? — недоверчиво спрашивает дедушка.
— Я думаю, да. Но вообще трудно гадать.
— Почему? — тревожится бабушка. — Что значит — трудно гадать?
— Ему могут предложить поехать в другое место.
— Хорошо, — говорит дедушка. — А скажите, если не секрет, как вы попали к Якову?
Гость смеется:
— Я же сын георгиевского кавалера. Я имею кругом право жительства. Когда хочу, я меняю климат!
— Нет, серьезно?
— Серьезно — я попал туда по этапу, а уехал один.
Дедушка выходит на цыпочках в коридор, плотно закрывает двери и, вернувшись в комнату, тихо спрашивает:
— Значит, вы бежали?
— С моим характером трудно сидеть на одном месте.
Какая красота! Сема не может улежать в постели. Ведь это же самый настоящий живой арестант, беглый, с каторги. Какая красота!.. Так вот какой младший сын у Лазаря! Бабушка берет его за руку и отводит в сторону. Что это за секреты? И вечно бабушка что-нибудь придумает. Иди догадывайся, о чем они говорят. Зовут дедушку… Сема напрягает слух: «Надо купить паспорт… Чужая фамилия… Один месяц…»
Потом бабушка подходит к Лазарю и, положив руку на его плечо, важно заявляет:
— Ну, мы решили: пусть этот месяц он пробудет у нас.
Урра! Сема подбрасывает одеяло. Урра! Каторжник будет жить у нас, у нас, у нас! Ведь это радость…
Бабушка склоняется над внуком и проводит рукой по его лбу:
— Вспотел. Бедный мальчик! Ничего хорошего не видит.
Странный человек эта бабушка, честное слово! Ее трудно понять. «Ничего хорошего»! А живой арестант?.. Смешная женщина! И это у нее называется «ничего»… Сема зарывается головой под подушку. Все известно — теперь можно спать.
Соседи с любопытством наблюдают за домом Гольдиных. Что-то там происходит — в этом они уверены. Как видно, старик схватил где-то хороший куш. Но где, на чем? Может быть, он устроил хорошую комбинацию с партией хрома? Людям счастье, людям везет. Вот так всегда бывает: тихий, тихий, а умеет вовремя сливки снять. Но где?
Соседи теряются в догадках. Но что бы там ни было, в доме завелись деньги — это слепому видно. Спрашивается, с чего бы это Семка вдруг перестал таскать воду из колодца, — ведь руки у него, слава богу, работают. Но он воду не носит. Каждое утро к ним является Лазарь с ведрами. За спасибо же это не делается?
Может быть, их новый квартирант хорошо платит? Он ведь у них снимает комнату со столом. Тоже интересно знать, чем занимается этот приличный молодой человек. Говорят, он племянник казенного раввина из местечка Лобны и приехал сюда выбирать невесту. На всякий случай к нему уже заходили вчера три свата — он отказался: хитрит, наверно, уже сторговался с четвертым… Такой симпатичный молодой человек… Ходят, правда, еще слухи, что этот квартирант вложил состояние в бриллианты, но прогорел и остался, что называется, без копейки. Так чего же он явился сюда, этот прощелыга? Но разве можно залезть в чужую душу? Завтра окажется, что он вовсе выжидает, пока упадут цены на сахар, и вывезет отсюда вагон или два… Тогда у Семкиного деда будет вполне приличный заработок…
Они уже искали знакомства с молодым человеком, думали — нельзя ли переманить к себе на квартиру такого выгодного жильца. Им казалось, что этот приезжий — не приезжий, а просто мешок с золотом. Им казалось, что даже стоять рядом с приезжим — прибыльное дело.
Если б кто-нибудь сказал, что дедушкин гость — беглый каторжник или арестант, преступник, — ему бы рассмеялись в глаза.
Никто не догадывался, что старый Лазарь носит воду для того, чтобы незаметно перекинуться парой слов со своим сыном, никто не догадывался, что в доме Гольдиных было по-прежнему уныло, голодно и тихо.
Сын Лазаря уходил куда-то на весь день. Прощаясь с бабушкой, он весело напевал, как будто последние три года провел на одесском лимане, а не в глухом, далеком краю. Ни одним словом, ни одним движением этот человек не выдавал себя. Он был спокоен. Можно было подумать, что он действительно приехал выбирать невесту и не знает, какому свату довериться. Когда бабушка видела, что мимо дома идет полицейский, она дрожала в смутной тоске и тревоге. Моисей, улыбаясь, смотрел на нее.
— Что вы боитесь? — говорил ей он. — При чем тут полиция? Зачем ей идти к человеку, который ищет невесту? Разве они мне дадут приданое?
Бабушка смеялась:
— Вам, кажется, один раз уже дали?
— Дали, но из десяти я взял только пять.
— Чего? — спрашивала бабушка.
— Лет, конечно, — спокойно отвечал Моисей. — Лет каторги!
И, надев шляпу, он выходил на улицу. Моисей так нравился ей, что она уже начинала находить в нем сходство с сыном: то он улыбнулся, как Яков, то он поднял брови, точно как Яков, то он запел песенку, которую любил Яков. «Лишь бы его не схватили», — вздыхала она и брала в руки молитвенник.
Сема жестоко ошибался в бабушке. Он не знал о ее бессонных почах, он не знал, как много надежд возлагала старая мать на своего единственного сына. Он не видел слез бабушки — долгих и тихих слез: она плакала ночью, когда в доме все спали и ветер шумел за окном…
Дедушка уходил рано утром. Теперь уж почти всегда молчал он за чаем, и это был тревожный, плохой признак. Старик бродил по пыльному базару от рундука к рундуку, из лавки в лавку, щупал кожу, рассматривал узоры на ситце, стучал пальцем по подошве новых ботинок, хвалил механизм часов. Кожа была чужая, ситец был чужой, часы были чужие. У него был маленький карманный бумажник с шестью отделениями — в них было пусто.
Может быть, написать прошение на высочайшее имя? Но «высочайшее имя» было очень далеко от старика, еще дальше, чем сын, о котором хотелось просить. Кому не завидовал в эти дни мосье Гольдин! Даже тряпичнику, даже стекольщику, даже Гершу.
Долгий тянулся день — с поисками, надеждами, расспросами… А там, в полутемной комнате, старуха придумывала что-то на обед, и длинный, худой мальчик, всегда чем-то озабоченный, с любопытством и жадностью ожидал, что получится у бабушки из ее загадочной смеси.
Он слишком много знал для своих лет, Старый Нос. Он уже знал вкус соли и перца!
В тот день, когда приехал Моисей, заболел учитель в хедере. Не то он объелся на свадьбе у своей племянницы, не то жена его избила. Учитель слег, и все мальчики, желая ему добра и успехов главным образом на том свете, надеялись, что болезнь затянется. Они провели три ликующих дня. Домашние хлопоты — не тяжесть и не бремя. А вот высидеть в хедере пять часов, смотреть на горбатый нос учителя, на его красную бороду и вечно слюнявые, мокрые губы — маленькое удовольствие.
Но прошло три дня, и выяснилось, что болезнь не опасна, что это вовсе не болезнь, а усталость, что ребе[10] Иоселе уже вышел и с радостью ждет учеников. Бабушка дала Семе два куска хлеба, густо посыпанных солью, и Сема, угрюмый и злой, пошел в хедер.
На улице он встретил Пейсю. Врун тоже торопился в синагогу, но, увидев Сему, подбежал к нему:
— Мир?
Сема согласился:
— Мир.
Они пошли вместе.
— Иоселе выздоровел, ни дна ему, ни покрышки!
— Выздоровел, рыжий черт!
Помолчали. Пейся посмотрел на Сему. Он хотел что-то спросить, но не решался. Сема заметил это: «Так вот почему мир. Ладно».
— Семка, — отважился наконец Пейся, — кто это у вас живет?
— А зачем тебе?
— Так просто!
— «Так просто»? Обойдешься!
Опять помолчали. Пейся вынул из кармана какую-то штучку и вызывающе взглянул на Сему:
— Свисток. Настоящий, с косточкой!
— На айданы[11] поменяем?
— Что я, с ума сошел?.. А сколько дашь?
— Два.
— Что я, с ума сошел?.. А больше не дашь?
— Четыре.
— Что я, с ума сошел?.. А ну, покажи!
Сема вывалил горсть айданов и, охраняя их рукой, показал Пейсе. Айданы были тяжелые, со свинцом. Пейся заволновался, глазки его забегали:
— А в придачу про квартиранта расскажешь?
— Ничего я тебе не скажу. Хочешь — делаем дело, хочешь — нет.
— Ну, меняем!
Сема выхватил из рук Пейси свисток и закричал:
— Цур менки без разменки!
Сделка состоялась. Друзья повеселели.
— Сема, правда, что ваш жилец привез сундук с деньгами?
— Неправда.
— А что?
— Мешок привез.
— Честное слово? А правда, что он ищет невесту?
— Ну откуда я могу знать? Замолчи, а то заберу айданы.
Они вошли в серый маленький домик с матовыми окнами.
В синагоге помещался хедер.
Ребе сидит за столиком. На нем длинный сюртук и выцветший лиловый картуз. Белыми тонкими пальцами с длинными, грязными ногтями он почесывает свою густую рыжую бороду. Полная нижняя губа ребе отвисла, видны зубы, маленькие, острые, желтые.
— Ну, уже скоро будет тихо? — лениво говорит он.
Но шум продолжается: кто-то кого то ущипнул, ударил, обманул. Скрипят скамейки, падают на пол книжки. И опять раздается тоненький, злой голосок ребе:
— Ну, я спрашиваю: будет тихо наконец или вы скучаете за этим?
Иоселе поднимает кантчик — палочку, к которой прикреплено множество узеньких, как лапша, ремешков. Наступает тишина. Тощая крыса шмыгнула в угол, черная кошка постояла в раздумье и прыгнула на колони учителя. Тишина. Глаза ребе закрыты. Ему надоели худые, вытянутые лица детей, их рваные куртки, их веснушки, мокрые носы. Все противно ребе. Он слушает себя:
— И приснился фараону сон, и не мог понять фараон сна своего. Будто стоит он на берегу реки, и выходят из вод ее семь коров, тучных плотью и хороших видом. И смотрит фараон — идут за ними следом семь других коров, тощих и худых. И съели тощие и худые семь первых коров, упитанных.
И еще снится фараону: семь колосьев всходят на одном стебле, полных и хороших, и вырастают позади них семь колосьев, засохших, тонких. И поглотили колосья тонкие семь колосьев хороших.
Призвал фараон вещателя самого молодого — ничего тот не сказал ему. Призвал фараон вещателя самого старого — ничего тот не сказал ему. Послал гонцов фараон к Иосифу — и тот все сказал ему:
«Семь коров тучных, семь колосьев полных — это семь лет. Семь коров тощих, семь колосьев пустых — это семь лет. Наступят на земле твоей семь лет урожая обильного, а потом придут семь лет голода, и забудется урожай весь, и голод истощит страну. Колосья пустые поглотят колосья полные!..»
Голос ребе звучит ровно, глаза его закрыты. Пейся перебирает айданы в руке — тяжелые айданы, со свинцом. Сема смотрит на свисток и думает: коровы тощие, коровы толстые, фараон… Может быть, такой сон был у дедушки, и поэтому в доме пусто и даже в пятницу перестали печь? Вообще жизнь становится труднее, и Сема уже не понимает, что — почему… Эта рыжая борода рассказывает про фараона, и Сема должен слушать от начала до конца. А если у Семы есть дела поважнее?
— Ребе, почему полицейского называют фараон? А?
Иоселе открывает глаза и ударяет ладонью по столу. Испуганная кошка соскакивает на пол. Дети притаились. Пейся сочинил вопрос… Интересно, долго он думал? Ребе подбегает к мальчику и, брезгливо оттопырив мизинец, хватает его за ухо.
— Я спрашиваю, где тебя учили? — кричит ребе. — Я спрашиваю тебя, паршивец, где ты слышал такие слова, чтоб ты не дожил их повторить!
Ребе толкает Пейсю в угол, привычным движением срывает штаны:
— На колени, ты!
Он сует в дрожащие Пейсины руки веник:
— Держи, мерзавец!
Пейся стоит на голых коленях с веником в руках, плечи его вздрагивают — он плачет:
— Я ничего не думал!
— Я тебе покажу, я тебе покажу «ничего не думал»! — орет ребе, бегая по комнате. — Ну, что вы сидите? Я спрашиваю!
Все знают, чего ждет ребе. Уже много лет существует это наказание — пусть лопнет тот, кто придумал его! Полуголый ребенок стоит в углу на коленях с веником в руке. По очереди подходят все воспитанники и плюют ему в лицо, или в спину, или на ноги.
— Ну, что вы сидите? — нетерпеливо повторяет ребе. — Я спрашиваю!
Встает сын Магазаника, подходит к Пейсе и лениво плюет на него один раз, потом, накопив слюны, — второй.
— Молодец! — говорит ребе и успокаивается. — Следующие.
Сема поднимается со своего места. Лицо его спокойно и решительно. Ребе ласково смотрит на Сему: «Ай да Старый Нос!» Старый Нос медленно подходит к ребе и, склонившись к его уху, громко говорит:
— Вы понимаете, я плевать не буду. Не буду! — повторяет он. — Я не могу плевать, вы понимаете? Не хочу! Пусть он это сделает за нас. — И Сема указывает пальцем на Магазаника. — Ему это нравится.
Ошеломленный ребе молчит. Он обводит глазами класс и нервно облизывает губы:
— Шарлатан! Такой шарлатан! Несчастный голодранец! Тебе, наверно, захотелось повидаться с твоим милым папой?
— Хорошо, я плюну, — тихо говорит Сема и плюет на сюртук ребе.
Лицо Иоселе зеленеет. Задыхаясь, он кричит:
— Все идут домой! Он остается здесь!
Мальчики молчат. Сын Магазаника трусливо оглядывается по сторонам.
— Вы слышите? Все идут домой! Он остается здесь!
Трое быстро и весело выбегают из комнаты. Остальные сидят молча на своих местах.
— Идите же! — кричит ребе.
Все сидят. Учитель хватает кнут и быстро выходит навстречу испуганной жене. Сема стоит посреди комнаты, к нему подбегают ребята. Пейся сидит на полу, слезы текут по его худым немытым щекам.
— Сема, что ты наделал? Что теперь будет? Боже мой, что теперь будет?!
Комната пустеет. За окном идет дождь, по вязкой грязи молча шагают дети.
На другой день, рано утром, к дедушке прибежал посыльный из хедера.
— Идите скорее, — сказал он, тяжело дыша, — ребе Иоселе вас со вчера ждет!
— Ну, если он ждет со вчера, так подождет еще час, — спокойно ответил дедушка и сел пить чай.
— Нет, господин Гольдин, вы идите скорее, — не унимался посыльный…
— Что там, горит, что ли? — вмешалась бабушка. — Сема, а ну-ка, скажи, что ты там наделал?
— Ничего я не наделал! — хмуро огрызнулся Сема. — Пусть он не лезет!
— Кто это «он», хотела бы я знать?
— Ну, что ты хочешь от ребенка? — быстро сказал дедушка. — Оставь его. Я сам всё узнаю.
— Ой, — вздохнула бабушка, — что-то там не так. Я по его глазам вижу, что там что-то не так.
— Будет вам гадать! — закричал Сема.
— Сема, что ты делаешь? — Дедушка строго нахмурил брови и оттолкнул недопитый стакан. — Что ты делаешь? Разве можно кричать на бабушку? Она только и думает, чтоб из тебя вышел человек, она недосыпает и недоедает, чтобы тебя учить, а ты кричишь… Твой папа никогда не кричал на бабушку, даже когда он был прав!
Дедушка замолчал, быстро надел пиджак и, пригладив щеткой редкие волосы, вышел с посыльным на улицу.
— Ну, вот видишь, — укоризненно сказала бабушка, — даже дедушка на тебя рассердился. А если б ты слушал старших…
— Слушать старших и плевать на товарищей, да? Сегодня я заплюю Пейсю, а завтра мне нахаркают в лицо! Этому вы меня учите? Да? Так, может быть, велел мой папа? Да? Может быть, он просил, чтоб на меня плевали? Да?
Сема взволновался, обида теснила его грудь, хотелось плакать…
Бабушка удивленно взглянула на него:
— Ша! Я уже ничего не сказала. Ша! Пусть будет тихо… — и, бросив на плечо серое полотенце, начала молча вытирать стаканы.
— Что скажет ребе Иоселе? — вежливо спросил дедушка.
Учитель молча взглянул на него, потом, взяв в руки какой-то листок, потряс им в воздухе и закричал:
— Когда люди не хотят, что я могу с ними сделать?
— Чего не хотят?
Ребе подвинул стул и присел поближе к дедушке:
— Будем говорить откровенно. Я же знаю вас не первый год. Мне кажется, что, когда у человека есть всего-навсего один внук, можно найти время посмотреть за ним. Мне кажется, что когда этот один внук начинает лезть на голову, так берут снимают ему штаны и накладывают внуку столько, сколько он стоит. Мне кажется, — неутомимо продолжает ребе, — что, когда бьют, извините, по заднице, лезет в голову. Мне кажется…
Дедушка встал и сухо сказал, не глядя на ребе:
— Я пришел не затем, чтоб узнать, что вам кажется. Для этого у меня нет лишнего времени. Что вы хотите?
Учитель опять взял в руки листок и обидчиво произнес:
— Конечно, что бы ни случилось, я во всем кругом виноват. За вашего Семку, оказывается, тоже я виноват. Это же не ребенок, а… — он остановился, подыскивая нужное слово, — а стачечник какой-то. Он мне всех детей перепортил, он их черт знает чему учит!
— Чему? — спросил дедушка.
— Что я вам буду говорить! Если б это касалось только меня, так я бы еще помучился с ним. Но вот пишут… — Он снизил голос до шепота: — Господин Гозман пишет — «дурное влияние»! Вы ж понимаете: к вам все время имели снисхождение, если сажали рядом с сыном Гозмана или Магазаника вашего Семку. Мы же хорошо помним, где его папа, и если теперь вы заберете Семку, так уверяю — будет лучше для вас! Шлема тоже забрал своего Пейсю. Я бы с удовольствием, но нельзя же, чтоб из-за двух портилось еще тридцать. Мне кажется…
— Вам не кажется, что вы старый дурак? — закричал дедушка. — Он еще смеет меня учить! Он еще смеет ругать мальчика! Тьфу! Черный сон на твою голову! — И, хлопнув дверью, дедушка выскочил на улицу.
Каждую минуту выбегал Сема за ворота, смотрел во все стороны с тревогой и нетерпением, ожидая возвращения дедушки. Но старик пришел лишь к обеду. Сбросив пиджак, он медленно скрутил папироску и прошел на кухню к бабушке. Они говорили шепотом, но Сема знал, что говорят о нем. Он приготовился выслушать строгие слова дедушки и даже готов был просить прощения. Если хорошо подумать, то внуку совсем не обязательно поднимать голос на бабушку. Но дедушка вышел из кухни улыбаясь; бабушка, вытирая руки о фартук, быстро шла за ним:
— И что же ты не мог все это сказать тихо? Спичка!
— Нет, — отвечает дедушка, — я уже ему вывалил все, что у меня было на сердце…
Дедушка снимает брюки, аккуратно складывает их и, откинув одеяло, ложится в постель.
— Сема, — говорит он, — возьми там на столе табак и иди сюда.
Скрутив папироску, Сема подает ее дедушке:
— На, кури.
— Этому ты как раз мог бы не учиться. Ну, слушай, внук, если я на тебя не кричу, это не значит, что ты прав. Ты бы мог вести себя лучше! Одним словом, придется тебя забрать из хедера. Что ты прыгаешь? Ты думаешь, я тебе позволю бегать по улицам? Конечно, раз ты дома, бабушке должно стать легче. Но книг ты выпускать из рук не должен! Маленьких детей нет, никто тебе не мешает — сиди читай хоть целый день. Понял?
Сема не верит своим ушам. Свобода! Значит, не надо идти в хедер, не надо смотреть в рот Иоселе, не надо крутить голову с фараонами. Как жаль, что этот Моисей пропадает где-то и приходит только поспать. Теперь у Семы есть время и он мог бы затеять что-нибудь с сыном Лазаря.
— Дедушка, — говорит торжественно Сема, — будь спокоен! Я всем покажу, что такое Старый Нос. Я даже деньги зарабатывать буду!
— Деньги… — вздыхает дедушка, думая о чем-то другом. — Деньги — хорошая вещь…
Сема выбегает во двор. Может быть, он будет строить голубятню. Может быть, нарежет камышей на реке и продаст. Может быть, откроет торговлю сельтерской. Он же свободный человек. Боже мой, хочет — что хочет!
Бабушка вытирает пыль. Что бы у человека ни было на душе, комната тут ни при чем. В комнате должно быть чисто.
Старик ходит где-то там по базару, еле ноги тащит. Вы́ходит он что-нибудь — никто не знает. Так пусть хоть ему будет приятно войти в дом: всё на своем месте, зеркало блестит, самовар блестит, кровать блестит. А посмотрели бы, какой кухонный столик у бабушки! Другая неряха напихала бы тряпок, развела тараканов, а здесь и кухонный столик — просто что-нибудь особенное. За этот столик можно губернатора посадить.
Да что там столик, возьмите половую тряпку. Возьмите ее в руки и посмотрите внимательно. У кого держится тряпка столько, сколько у бабушки? А все-таки три комнаты, и полы моют часто.
И на все это — только одни ее руки. Бабушка вытирает пыль и напевает. Она напевает с такой горечью, что кажется — вот-вот бабушка расплачется:
Тут бабушка останавливается и, вздохнув полной грудью, с повой силой продолжает:
Бабушка прячет тряпку в шкафчик, садится штопать носки и опять затягивает свою песню с гневом, горем и злобой.
Сема лежит на полу и думает. Вот он уже слышит эту песню пять лет. И бабушка никак не может выяснить раз и навсегда, где ее золотые годы. Все время она на кого-то сердита, на кого-то кричит. Может быть, бабушка думает, что в один прекрасный день к ней придет сам бог и скажет:
«Слушай, Сарра, знаешь ты что — вот твои золотые годы, на тебе их, и не морочь мне голову».
— Сема! Сема! — вдруг кричит бабушка.
Сема нехотя поднимается.
— А ну посмотри, что там торчит в щелке?.. Куда ты смотришь? Вот здесь, на полу, около кровати.
Сема шарит рукой и нащупывает что-то металлическое:
— Что я вижу, бабушка, это же самый настоящий рубль!
— Не может быть, покажи!
Бабушка берет монету, внимательно рассматривает ее сквозь очки:
— Действительно, рубль! А ну посмотри, Сема, может быть, там еще закатилось.
Сема смеется:
— Там же не склад.
— Ну хорошо, тогда слушай. Мы сделаем дедушке сюрприз. На тебе еще девять копеек. Иди в лавку. За девять копеек купишь шкалик. А на рубль возьмешь: крупы два фунта, муки четыре фунта, два золотника чаю, пять полешек дров, только сухих, и гильз коробочку. Ты запомнишь? Ты не перепутаешь, Старый Нос?
Нет, нет, Сема не перепутает. Вот он уже выскочил из комнаты, мелькнул за окном, понесся по улице. Тише, ведь так можно, не дай бог, разбиться.
Бабушка опять затягивает песенку:
Но голос ее звучит спокойно и весело.
С канавы на канаву, с бугра на бугор, с камешка на камешек — бежит, летит Старый Нос. Два серых мешочка у него в руке и серебряный рубль в кармане. Кто, кто во всем местечке сейчас равен Семе? И какое это удовольствие — покупать за наличные деньги? Первым делом Сема заходит в казенку[12], покупает для дедушки шкалик водки — на это у него отложено отдельно девять копеек. Небрежно расплатившись, он идет в лавку к Фрейде.
Хозяйка стоит за стойкой. У нее большой горбатый нос, широкие смуглые жилистые руки. Если приклеить усы, получился бы настоящий мужчина… В лавке запах ванили и керосина. Горит лампа на конторке.
— Здравствуйте, тетя Фрейда!
— Здравствуй, а что?
Ей уже нужно знать «а что». Но Сема не торопится, он подходит к высокому мешку и берет на ладонь горсть муки.
— Мука неважная, — говорит он понимающим тоном взрослого.
Это только и нужно было тете Фрейде. Она вскакивает из-за прилавка и подбегает к Семе:
— Это называется мука неважная? А где вы видели муку лучше? Где, я вас спрашиваю? Разве во всем местечке найдется что-нибудь подобное? Это не мука, а солнце! Конечно, когда не было денег, знали дорогу только ко мне, а теперь с этим квартирантом вы совсем загордились.
Сема небрежно машет рукой:
— Ну хорошо, тетя Фрейда, взвесьте четыре фунта.
Хозяйка облегченно вздыхает и берет совок. Сема смотрит, как сыплется белая мука, и видит уже пухлый, румяный калач с горбушкой.
— Пшено есть? — высокомерно спрашивает Сема.
— А как же, обязательно.
— Два фунта! — сухо бросает Сема. — Два.
Хозяйка суетится: какая у мальчика легкая рука!
— Кроме — ничего? — угодливо спрашивает Фрейда. — Может быть, вы возьмете цукерки?[13] Знаменитые цукерки, даю вам честное слово.
— Два золотника чаю и… ну, и четверть фунта цукерок. Сколько там получается? Девяносто восемь копеек? А гильзы вы положили?
— Положили, положили! — заискивающе говорит хозяйка. — Какой ты уже молодец стал, Сема! Совсем мужчина!
Сема гордо выпячивает грудь и лезет в карман. Сейчас, одну минуточку. Что такое, где же рубль? Сейчас, одну минуточку… Сема выкладывает на стойку свисток, две пустые спичечные коробки, кусочек засохшего рогаля. Может быть, в другом кармане? Может быть, монета упала здесь где-нибудь? Сердце Семы лихорадочно бьется, руки его дрожат. Боже мой, где же рубль?!
— Шарлатан, — визжит тетя Фрейда, — голодранец! Пошел вон, чтоб я глаза твои не видела!
Мука высыпается, пшено высыпается, цукерки падают на стойку, пустые серые мешочки летят в растерянное лицо Семы.
После истории с злополучной находкой прошел месяц. В доме все было по-прежнему. Только Сема стал молчаливей и тише. Раньше он знал, что нужно идти в хедер, слушать молитвы, учить псалмы. Теперь все это ушло от него. Он был одинок и грустен. Свисток валялся где-то на кухне, айданы, тяжелые айданы, со свинцом, уже не радовали Сему.
Хотелось чего-нибудь вкусного. Сколько в мире прекрасных вещей: суп с клецками, жаркое из мяса, маринованная рыба, бульон с лапшой!.. А разве маковки — плохая вещь? Или хлеб с медом? Или хворост? Или просто горячий чай с сахаром!
Ну, что стоит Магазанику позвать Сему и подарить ему сто рублей. Разве Магазаник от этого похудеет? Но важный купец и не знает Семы, он даже не подозревает, что живет на свете Старый Нос…
С Пейсей дружба не получалась. Встречаясь с Семой, Пейся твердил:
— Черт тебя дернул лезть! Что ты, не мог плюнуть? Слюны у тебя не хватило? Теперь из-за тебя страдать!
Дурак, вылитый дурак!
Магазаник не звал Сему. В жаркие дни лежал Старый Нос на полу в темной пустынной комнате. Считал до ста, до двухсот, до тысячи — и засыпал. Однажды ему приснился пирог с черносливом, но на самом интересном месте, когда он подносил ко рту кусок пирога, его разбудила бабушка.
— Встань-ка и пиши! — Она протянула ему большой желтый лист.
— Что? — недоуменно спросил Сема.
— Пиши, что я буду говорить! — Бабушка задумалась — «Здесь домашние»… Написал — домашние? Так! «Обеды». А ну-ка, прочти.
И Сема с удивлением прочел:
— «Здесь домашние обеды».
— Теперь повесь это на дверь! Понял?
Ни черта нельзя понять у этой бабушки. Неужели и она начинает выдумывать комбинации? Сема не ошибся. Выйдя на улицу, бабушка с гордостью взглянула на объявление и пошла к базару. Старый Нос побежал за ней. Около башни им встретилась лавочница Фрейда. Бабушка быстро прошла мимо нее. Фрейда удивленно крикнула:
— Куда вы спешите, извиняюсь, как на пожар?
— Мне нужно делать покупки.
— Покупки? — встрепенулась Фрейда. — Какие, извиняюсь, покупки?
— Разве вы не знаете? Я же даю домашние обеды. У меня уже три клиента!
И бабушка, помахивая пустой кошелкой, двинулась дальше. Так она проходила около часа, знакомым и незнакомым жаловалась на дороговизну, на то, что ей особенно трудно — ведь она дает домашние обеды! И пусть не подумают, что из-за денег. Просто бабушка делает одолжение. Не все равно — готовить на двух или на пятерых? Она только докладывает к этому делу, но у нее такое сердце, что она просто не может отказать…
В полдень вернулись домой. Бросив в угол пустую корзинку, бабушка загадочно улыбнулась. Фрейда скажет Фейге, Фейга скажет Двойре, Двойра — Хиньке, Хинька — Риве. И, если сегодня нет клиентов, уж завтра они будут наверняка!..
Пришел дедушка, устало вздохнул, поставил в угол палку и, вымыв руки, молча сел к столу. Проглотив кусочек хлеба с солью, он спросил бабушку:
— Где же борщ?
— Какой борщ?
— Там же написано: «Здесь домашние обеды».
— Я не знаю, что тебе так весело! — обидчиво сказала бабушка.
— Ой, Сарра, ты, кажется, берешься не за свое дело!
— А что, ты боишься убытков? То, что ты вложил в это дело, ты получишь обратно!
— Я не люблю пустые затеи.
— Это пустые затеи? А флигель покупать — не пустые? А партия хрома — не пустые? Чтоб человек только болтал языком!..
Услышав про флигель, дедушка сконфуженно умолк и вышел в другую комнату.
Вечером бабушка учила Сему:
— Если придет человек, ты не бросайся как угорелый. Ты ему скажи: «Хорошо, я передам бабушке, но вряд ли она согласится. Она уже кормит трех. Может быть, скажи, она согласится. Может быть… — повторила бабушка. — Но вряд ли». Ты понимаешь?
Еще бы, теперь Сема все понимал. Он еще сделает такое лицо, как будто ему уже надоело разговаривать о домашних обедах, как будто все местечко только и мечтает сесть к бабушке за стол. Внук был доволен бабушкой, бабушка — внуком.
Сема долго не мог уснуть. Что будет, если эта затея удастся? Что будет? Красота! Каждый день варить, печь, жарить, чистить. Ох, съесть бы что-нибудь вкусненькое. Например, суп с клецками. Что на свете лучше!
На другой день Сема и бабушка взволнованно ждали клиентов. Бабушка сидела на кухне, Сема — в передней. Он прислушивался к шагам на улице, к скрипу двери, к каждому шороху. Наконец в дверь постучали. «Начинается!» — радостно подумал Сема и пошел открывать. Лицо его было спокойно и равнодушно. Впустив человека в котелке, с рыжими мохнатыми усами, Сема предложил ему стул и холодно осведомился, в чем дело.
— Я бы хотел, — сказал вошедший, — видеть вашу бабушку.
— Насчет обедов? — небрежно спросил Сема, и сердце его замерло.
— Да, — многозначительно сказал еврей, — как раз насчет обедов.
Сема вспомнил поучения бабушки и, не глядя на гостя, вяло, словно нехотя, произнес:
— Сейчас скажу… Она уже кормит трех. Может быть, она согласится, но вряд ли! Не успевает и за этими убирать.
Сема прошел в кухню. Бабушка оправила чепец и шепотом спросила:
— А какой он из себя?
— Я знаю? — сухо ответил Сема. — Еврей с усами. Какая нам разница, кого кормить?
Бабушка прошла в переднюю; пришедший вскочил со стула и побежал ей навстречу:
— Мы здесь живем только полгода. И, может быть, вы меня не знаете?
Бабушка вежливо улыбнулась.
— Так вы меня узнаете! — закричал еврей. — Разве так между порядочными людьми поступают? Я не знаю, что вы молчите. Моя жена здесь визави дает обеды, так вы тоже суетесь!.. У вас из-за этого бессонница? Ну хорошо, я вам покажу домашние обеды! — прохрипел гость и выбежал на улицу.
— Сема, дай мне воды! — тихо сказала бабушка.
В тот день больше клиентов не было. Желтая бумажка с надписью: «Здесь домашние обеды», уныло висела на двери.
И тогда подвернулось новое дело. Прямо, можно сказать, счастье само полезло в руки — и кому? Семе — Старому Носу. Шел он по улице и увидел Герша. Водовоз гордо сидел на своей пыльной двуколке и задумчиво смотрел на костлявые бедра рыжего коня. Заметив Сему, Герш приподнял кнут и крикнул:
— Иди-ка сюда, Старый Нос!
Сема подошел.
— Что ты ходишь по улице, хотел бы я знать?
— А так. Почему мне не ходить?
— Когда я был такой парень, как ты, я уже вносил свою долю в дом.
— А где я найду эту долю? — обидчиво сказал Сема и усмехнулся: — Может быть, вы знаете адрес?
— Когда ищут, так находят! — уклончиво ответил Герш и внимательно взглянул на Сему.
— Может быть, вы скажете еще что-нибудь? — спросил Старый Нос и поправил болтавшееся позади бочки ведро.
— Хотя Лазарь вам носит воду и я это не люблю, я бы мог с тобой сделать дело. Я решил расширить свое предприятие, — важно сказал Герш и хлопнул ладонью по бочке. — Ты видишь, как я живу? Я, можно сказать, самая заметная фигура в местечке. Кто меня не знает? Но сейчас я уже стар и могу себе позволить такую роскошь — взять помощника. Он будет у меня жить, как вице-губернатор. Сидеть будет здесь, пожалуйста, рядом со мной. И, когда мы подъезжаем к дому, он должен сойти, налить из бочки ведро и занести клиенту — только и всего. Ты понимаешь? А для такого мальчика, как ты, это целое удовольствие — весь день катаешься на собственном фаэтоне. А?
Предложение ошеломило и обрадовало Сему, но он решил не подавать виду. Вспомнив, что говорят в таких случаях взрослые, Сема деловито спросил:
— Короче, сколько я буду с этого иметь?
— Сколько? — Герш сдвинул на затылок картуз. — Сколько — ты хочешь знать? Одну пятую с дневного оборота! Если я развезу десять ведер — два все равно как у тебя в кармане.
— А что это значит на деньги?
— Два ведра — это уже копейка!
Сема быстро прикинул: два ведра — копейка, двадцать ведер — десять копеек. В месяц это триста копеек. Триста копеек — три рубля. Три рубля на земле не валяются!
— Хорошо, я согласен.
Утром, ничего не сказав дома, Сема побежал к своему компаньону. Герш пил чай из блюдечка, крупные капли пота выступили на его высоком лбу.
— Ты уже пришел? В добрый час!
— В добрый час!
— Иди во двор. Надо напоить коня, поскоблить и запрячь.
Семе не очень понравилось такое начало, но он промолчал.
Сразу ж нельзя стать вторым хозяином. Но все дело в том, что он просто боялся подойти близко к этой проклятой лошади, чтобы ее черт забрал. Тощая, тощая, а если она ударит копытом, допустим, в живот — конец Семе. А рот какой — боже мой! — там лежит язык, как десять Семиных языков, и все время плюется. Может быть, у этого друга насморк, но к нему подойти страшно! Отважившись, Сема поставил ведро с водой и, толкнув его слегка ногой, отбежал в сторону. Обошлось благополучно. Наполеон — так звали рыжего коняшку — укоризненно взглянул на Сему и с жадностью окунул морду в ведро. Вышел Герш. Заткнув за пояс кнут, он подошел к Семе и строго сказал:
— Я вижу, у тебя под руками не горит! Ну, смотри-ка сюда…
Через пять минут они были у колодца. Сидя рядом с Гершем, Сема старался не смотреть по сторонам, ему было стыдно. Но потом он подумал: «Что здесь стыдного?» — и, выпрямившись, даже нарочно стал заглядывать в лица прохожим. Когда Герш кричал: «Эй!», Сема, стараясь подделаться под грубый голос возницы, тоже кричал: «Эй!» Герш возмущенно ругал проклятого Наполеона, и Сема важно хлопал кнутом по тощей спине коняшки. Кому-кому, а Наполеону стало вдвое тяжелее…
Проехав молча несколько улиц, Герш гордо сказал:
— Ну как, приятно с Гершем ехать?
Сема промолчал. Сидеть возле толстого водовоза было жарко, смотреть в зад коню — скучно, таскать воду — трудно.
— Такой мальчик, как ты, должен был бы догадаться.
— О чем?
— С чем ты едешь? Ты едешь с водой. С кем ты едешь? Ты едешь с Гершем! Так все должны это знать.
И вот дребезжит по желтой пыли тачанка, стучит о колеса жестяное ведро, и на всю улицу раздается звонкий голос Семы:
…Опустившись в изнеможении на землю, Сема смотрит на Герша:
— На сегодня хватит?
— Да. Почин дороже денег.
— А сколько же я заработал?
— Сколько? Ты уже хочешь знать, Старый Нос? Сейчас посчитаем.
— Я считал.
— Молодец! Я тоже считал. Мы отпустили шестьдесят ведер. Так? Так. Магазаники брали у меня воду вчера? Брали. Шесть ведер долой. Гозманы брали у меня воду и вчера? Шесть ведер долой. Фрайманы брали и вчера? Четыре ведра долой… Гинзбурги брали и вчера? Три ведра долой… Итак, остается двадцать ведер — это новые клиенты, которых мы получили уже с тобой вместе. Значит, честно ты заработал одну пятую с двадцати — это будет четыре. Четыре — это будет две копейки. Две копейки все равно как у тебя в кармане. Получишь в четверг. Хорошо?
Сема молчит. Если бы он был сильнее, он ткнул бы этого Герша с его арифметикой головой в ведро. Такой прохвост! Отпустили шестьдесят, а считает двадцать. Но ведь те сорок ведер он своими руками из колодца вытянул и в дома занес. Почему же Герш кричит долой? Почему?
Медленно, опустив голову, идет Сема домой. Если так действительно живет вице-губернатор, то Сема ему не завидует.
Дедушка бегает взад и вперед по комнате. Устав, он садится на стул и сердито говорит:
— Кто вас просит? Эта выдумала обеды. Я же говорил, что это пустая затея, — нет, не послушалась. И что теперь? Ничего. Один срам. А этот совсем с ума сошел. На бочку полез. Водовоз! Это мне больше всего нравится. Умнее ты не мог ничего придумать. А? Я тебя просил или бабушка тебя просила? Или ты думаешь, что если папы нет, так ты сам себе хозяин?
Дедушка закуривает папиросу и тихо, непривычно строго говорит:
— Довольно! Чтоб вы больше ни в какие дела не совались. Я поступаю на службу.
Хорошо, дедушка поступает на службу, хорошо, даже превосходно! А кто вернет Семе заработанные деньги? Даже те несчастные две копейки, про которые Герш сказал, что они все равно как у Семы в кармане, даже те четыре гроша он не отдает. Почему, спрашивается? «Сема нарушил договор. Еще с него следует неустойка».
Вот и сговорились с этим старым прохвостом. Недаром он живет, как министр!
Перемены, перемены, перемены. Дедушка служит. У дедушки есть должность, и он теперь совсем редко бывает дома. Но бабушка довольна. О, она уже не будет дурой: если дедушка принесет в дом рубль — что бы там ни было, десять, двадцать копеек она отложит. Пусть лежат на черный день. И главное — надо экономить: обед на три дня, кушать побольше зелени, не обязательно готовить мясное (это даже вредно), получше торговаться на базаре и вообще не строить из себя большую барыню.
Допустим, покупается курица: крылышки, пупочек и лапки идут на холодец — это раз, из филе можно сделать котлеты — это два, пупочки сварить в бульоне — это три, потом их зажарить отдельно — это четыре. Бульон поставить в холодное место — и, пожалуйста, готов обед на три дня, знаменитый обед.
Но почему обязательно курица? А какие чудеса можно сделать из морковки, щавеля, лука, капусты, если в доме еще есть мука и масло… Покупали у Фрейды. Зачем? Разве нельзя сходить к привозу и сделать покупки у крестьян? Все свежее и вдвое дешевле. Нет, главное — надо экономить!
Такой наказ дает себе бабушка. Но Семе от этого не жарко и не холодно. Все равно он один, и ему некуда деть себя. Как жаль, что провалилось дело с Гершем, с этим толстым мошенником, с этим старым плутом. Но все-таки хорошо, что Сема догадался в первый же день спросить о своем заработке: ведь чем позже бы он спросил, тем больше денег замотал бы водовоз. Теперь надо держать ухо остро и, если что-нибудь подвернется, сразу не лететь.
Сема сидит над толстой книгой, бабушка с восхищением смотрит на него. Он читает, как взрослый, с таким выражением! Бабушке некогда — она месит тесто, ей еще нужно порубить мясо, растереть лук и взбить белки, — но разве можно не подойти к мальчику, когда он читает?
«Шесть лет засевай землю свою и собирай произведения ее. А в седьмой оставляй ее в покое, не трогай ее, чтобы питались неимущие из народа твоего, а остатками после них питались звери полевые…»
Интересные вещи пишет этот старик… Только Сема не понимает его. Какая земля? Какие остатки? Где они? Старый Нос знает, что есть земля пана Лисовского, есть земля пана Квятко и есть даже земля господина Магазаника. Но он что-то нигде не слышал, что есть еще земля Семы Гольдина. А может быть, правда есть и кто-нибудь обокрал его? И Сема как бы невзначай спрашивает бабушку:
— Да, бабушка, я совсем забыл, где моя земля?
— Какая земля? Что с тобой?
— Ну, та, которую на седьмой год нужно оставлять в покое.
— Что ты мелешь, Старый Нос, что ты выдумываешь? Сиди и читай. Будь хорошим мальчиком, и я спеку тебе кихеле!
Сема сердито смотрит на бабушку и вновь берется за книгу.
«Никакой вдовы и сироты не притесняйте. Если кого-либо из них притеснишь, то едва возопиет ко мне, услышу я вопль его, и возгорится гнев мой, и поражу вас мечом…»
Хорошее — «едва возопию»… Когда папу забрали первый раз и увели в участок, мама так горько плакала, что соседи даже удивлялись, откуда у нее берутся силы. И что же? Мама умерла, а тот офицер, что забрал папу и посадил его за решетку, ходит по улице как ни в чем не бывало, и никто его не то что мечом — пальцем не тронул! Почему, спрашивается?
В комнату входит Моисей; он торопливо моет руки и садится к столу:
— О чем задумался, Старый Нос?
Сема пожимает плечами:
— Или я ошибаюсь, или он.
— Кто — он?
— Тише, — говорит Сема и показывает на черную книгу.
Моисей смеется и с любопытством смотрит на Сему:
— А ты знаешь, кто написал эту книгу?
— Знаю.
— Вот как? А ты помнишь, где сказано: «Трава засыхает, цветы увядают — слово же бога нашего пребудет вечно!»
— Помню, — смущенно отвечает Сема. — Здесь сказано.
— И ты после этого спрашиваешь?
Сема уже не рад, что затеял этот разговор, но отступать ему не хочется.
— Да, спрашиваю! — говорит он дрогнувшим голосом.
— Молодец! — серьезно отвечает Моисей и притягивает Сему к себе. — А почему это тебя интересует?
— Надо знать правду!
— Вот как? — Моисей весело улыбается. — Когда я был мальчиком, мне тоже хотелось поскорее все узнать. И вот ребе мне сказал: «Слушай, мальчик, если мы видим розу, мы восхищаемся ее красотой и не спрашиваем, почему красива она. Если мы видим крапиву, мы остерегаемся ее и не спрашиваем, почему колется она. Роза должна радовать, крапива должна обжигать! Всему на свете дано свое, все на свете предуказано свыше, все мудро, и не нужно спрашивать. Много будешь знать — скоро состаришься! Много будешь думать — рога вырастут!»
— Ну и что? — спрашивает Сема. — Ты послушался ребе?
— Черта в зубы, — отвечает Моисей, — черта в зубы я его послушался! И ты видишь — большие рога у меня выросли или, может быть, я похож на старика?
Сема, смеясь, щупает его лоб: как будто рога еще не выросли.
— Так, значит, в этой книге неправда?
— Да.
— Ты же пугаешь меня, дядя Моисей. Это святая книга: если ее уронить, надо три дня поститься. Хорошенькое дело!
— А кто тебе сказал, что ты должен обязательно читать святые книги? Разве без них люди не растут?
— Но где ж тогда правда? — испуганно спрашивает Сема.
— Успокойся, — весело говорит Моисей. — Она живет и ходит. Ей уже тридцать раз хотели руки и ноги переломить. И все напрасно. Она ходит и ходит. В каждом городе для нее построили дачу: в Киеве — Лукьяновку, в Москве — Бутырки. Но сколько ей ни строят, все мало. Ее связывали по рукам и ногам, били шомполами, гнали по этапам, пускали сквозь строй, топили в воде, огнем жгли — и хоть бы что: живет! И будет жить! Понял?
— Нет, дядя Моисей, — вздыхает Сема, — это я как раз не понял.
— Сколько тебе лет, Старый Нос?
— О, мне уже одиннадцать лет, дядя Моисей.
— Одиннадцать? Тогда это не опасно. У тебя еще будет время все понять!
Когда лавочница Фрейда проходила мимо завода Айзенблита, она думала, что с ней случится удар. Молодой человек, который живет у Гольдина, стоит около ворот и торгует какой-то дрянью. Боже мой, можно ли так ошибаться! Ведь только вчера она хотела открыть Семкиной бабушке кредит под этого самого квартиранта. Хорошо бы она выглядела сейчас!
Оказывается, что этот Моисей копейки не стоит. Какое счастье, что она не успела сделать этой глупости! Но, с другой стороны, разве могла быть Фрейда умнее всех? Ведь все говорили, что он богач, как будто сами рылись в его карманах. А теперь — здравствуйте пожалуйста! — торгует какими-то палочками. Верь после этого людям!
Моисей действительно открыл торговлю. Рано утром вышел он из дому с ящиком в руках. Бабушка благословила его: пусть будет удача! Сема недоуменно смотрел ему вслед. Старый Нос не мог понять арестанта. Сын Лазаря в глазах Семы был выше, умнее и смелее окружающих, и то, что он вдруг занялся обычным и скучным делом, обидело и разочаровало мальчика. Нет, не этого он ждал от Моисея. Сема любил Моисея именно за то, что он не был похож ни на кого.
Моисей прошел несколько шагов и вдруг повернул обратно. Увидев это, бабушка испуганно закричала:
— Сема, беги скорее к нему! Пусть не возвращается. Это же плохая примета!
Сема побежал.
— Слушай внимательно, — сказал ему Моисей. — У меня под подушкой лежит такой небольшой пакетик. Он мне будет нужен днем. Через час ты возьмешь его и принесешь к заводу. Я буду там. Не разворачивай и не показывай никому. Понял?
— Это я как раз понял, — смеясь, ответил Сема.
— Ну вот, возьмешь — и ко мне.
— Будь спокоен, Моисей, я знаю…
— А это не будет так, как с рублем?
— Тогда, Моисей, иди сам! — обидчиво сказал Сема.
— Ну, ну, я пошутил. Я знаю — ты у нас молодец!
Моисей взвалил на плечи ящик и быстро пошел к заводу.
Семе было очень интересно знать, что лежит в этом пакетике. Он откинул в сторону подушку и ходил вокруг кровати с задумчивым видом, то и дело посматривая на пакет, завязанный серой тесемкой. Устав ходить, он присел на кровать и принялся изучать сверток со всех сторон, потом подбросил его на руке, потом приподнял, потом посмотрел на свет. Задали работу Старому Носу!
«А что, если я посмотрю, — подумал Сема, — разве это будет грех? Во-первых, я в комнате один, а во-вторых, во-вторых…» Не придумав ничего, Сема разозлился и рванул тесемку — он увидел аккуратно сложенные листки бумаги. Все остальное уже не интересовало его. «Подумаешь, счастье — бумага, и если бы еще чистая, а то исписанная бумага». Равнодушно взглянув на листок, он прочел первое слово: «Хавейрим» («Товарищи»), и презрительно сплюнул.
Вот если б он нашел настоящую бомбу, это была бы красота! Говорят, что у ребе такая густая борода, что мыши путаются в ней, а один раз прыгнула кошка и та не смогла выбраться. Но ничего, бомба не запуталась бы в этом рыжем лесу. Она бы ему показала, что значит Сема, она бы ему показала, старому дьяволу, она бы… Сема расхрабрился и забегал по комнате. Он строил планы мести самые дерзкие: закупорить ребе в бочку и бросить в воду, чтобы ветер гнал ее от берега к берегу, облить ребе керосином и поджечь, удавить, утопить… Что еще можно сделать?
— Ты забыл, что тебя ждут? Чем у тебя голова занята?
— Бабушка, не трогайте мою голову, — с досадой отмахнулся Сема и, взяв пакет, вышел на улицу.
День выдался жаркий, желтая пыль крушилась над местечком, в домах были закрыты ставни: люди прятались от солнца. Посвистывая, Сема побрел к заводу. У дома Пейси Сема ускорил шаг, но это не спасло его.
— Ау, Старый Нос!
— Что ты еще хочешь?
— Ничего я не хочу. Можешь не задаваться.
— Ну, ну, ты молчи!
— Я не знаю, зачем ты ругаешься, — примиряюще сказал Пейся. — Хочешь яблоко? Смотри, какое яблоко.
Отказываться было глупо, и Сема присел на камешек. Пейся, обрадованный тем, что нашел наконец собеседника, принялся за свое:
— Папа вчера…
— Мясо царю, — хмуро перебил Сема. — Знаю!
— Нет, совсем другое.
— Что другое?
— Папа ехал мимо речки и захотел руки помыть. Подошел он к берегу и видит: боже мой, рыба идет прямо-таки пластом. Что делает папа? Снимает картуз и окунает в воду. Вынимает — полный картуз рыбы, и какой! Тогда папа захотел покушать, раз рыба сама идет. Он развел костер и стал варить уху.
— В чем же он варил? — недоверчиво спросил Сема.
— Слушай дальше! — важно воскликнул Пейся, польщенный вниманием. — Он вспомнил, что в телеге есть кусочек воска. Он слепил из воска котел и сварил в котле такую уху, что мир не видывал!..
— Вот и врешь! Воск-то тает, дура! — перебил его Сема и встал.
— Подумаешь! — нашелся Пейся. — Воск тает! Папа развел такой огонь, что вода вскипела раньше, чем растаял воск.
Сема расхохотался: находчивость Вруна показалась ему забавной. И где только он подслушивает эти сказки, кто сочиняет их? Ай да Врун!
— Ну, расскажи еще что-нибудь.
— Ты же не веришь, что я тебе буду даром рассказывать.
— Ладно, верю… — снисходительно сказал Сема и зашагал.
— Я буду сегодня делать змея! — крикнул ему вдогонку Пейся. — Штук пять сделаю и выменяю.
— Сделай мне.
— Из пальца я тебе сделаю?
— Зачем? Зачем из пальца? Я бумаги достану! — крикнул Сема, прижимая к груди сверток.
— Достанешь, тогда и будет разговор! — деловито ответил Пейся.
Приятели расстались.
Моисей стоял у фабричных ворот. Ящик его был открыт — шла бойкая торговля.
— Молодой человек, — кричал Моисей, — вы торопитесь? Вы, может быть, идете представляться родителям своей невесты? Остановитесь, на вашем костюме я вижу пятно. За один пятак я выведу ваше пятно, как будто его никогда не было на белом свете!
Он говорил весело и легко. И Сема с удивлением заметил, что рабочие останавливались. Он не верил своим глазам, но Моисей торговал. И как быстро он орудовал пальцами: в два счета завертывал покупку и получал деньги. Как будто он всю жизнь выводил пятна! Как будто он всю жизнь продавал эти палочки! Прохожие останавливались. Десятки лет они носили засаленные пиджаки — и кто думал об этом? — а Моисей в две минуты убеждал их, что дальше так шить невозможно. Кто бы мог догадаться, что какие-то палочки — прибыльное дело?
Заметив Сему, Моисей, продолжая весело покрикивать, поманил его к себе. Сема подошел.
— Принес?
— А как же!
— Ну, стой здесь. Положи это дело сюда. Когда я тебе скажу: «Заверни», ты возьмешь листочек и завернешь. Но, если я тебе ничего не скажу, ты ничего не бери.
— А что я буду с этого иметь? — деловито спросил Сема.
— Одну пятую с оборота, — засмеялся Моисей. — Как у Герша…
Дело пошло. Когда кончились палочки, принялись за чернильные порошки — они лежали в ящичке отдельно, в маленьких конвертиках… Рабочие выходили из фабричных ворот и, с любопытством глядя на ящик, останавливались подле Моисея.
— Завернуть! — приказывал Моисей.
И Сема быстро упаковывал порошки, с восхищением глядя на своего партнера.
— Откуда ты взял приказчика? — шутливо спрашивали покупатели у Моисея.
— Это сын Гольдина!
— Того Гольдина?
— Да, того.
И рабочие с любопытством всматривались в веснушчатое лицо Семы.
— Похож-таки на отца.
— Это будет видно, — улыбаясь, отвечал Моисей.
По пути домой Моисей спросил Сему:
— Ну как, дружище?
— Очень нравится, — откровенно признался Сема. — Завтра тоже будем?
— И завтра и послезавтра.
— А послепослезавтра?
— Дела найдутся… Ну, держи свою долю.
Прислушиваясь к звону медяков в кармане, Сема счастливо улыбался. Ну, если два дня — так два дня. И то пригодится!
— Слушай, дядя Моисей, у тебя нельзя немного бумаги забрать?
— Забрать? Зачем забрать? — Моисей остановился и удивленно посмотрел на Сему.
— Совсем мало. Какой-нибудь пустяк. Я сегодня могу устроить замечательное дело. Ты понимаешь, Пейся из моего товара будет делать змеи и менять их, а то, что выменяет, — пополам. Ты понимаешь, какое дело, дядя Моисей? Дай бумаги!
Но дядя Моисей ничего не ответил. Всю дорогу он шел молча.
«Я не понимаю, — рассуждал Сема, — что случилось? Подумаешь — попросил несколько дрянненьких листков! Я могу ему заплатить, сколько они стоят».
Моисей заговорил только дома. Поставив на пол пустой ящик, он вынул горсточку монет и протянул ее Семе.
— Мы уже в расчете? — удивленно сказал Сема.
— Нет, — ответил Моисей и улыбнулся. — Так тебе нужно несколько листков?
— Штук десять, не больше.
— И что будет?
— О! — с жаром воскликнул Сема. — Будут замечательные змеи! Мы их обменяем в два счета.
— Так… — задумчиво сказал Моисей. — А с кем бы вы делали это дело?
— С кем? С сыном Лурии, с сыном ребе. Мало ли с кем!
Старый Нос с любопытством остановился. Что он хочет, Моисей? Разве Сема опоздал, разве Сема не принес вовремя его жалкий сверточек?
Моисей продолжал загадочно улыбаться:
— Ну, садись и слушай внимательно. К кому попали бы эти змеи? К сыну Лурии. Так. К сыну околоточного. Так. К сыну ребе. Так… Ну, довольно. Слушай, что могло быть. Ребе Иоселе увидел змей и прочел, что на нем написано. Ничего хорошего там не сказано ни о нем, ни о раввине, ни о царе. Тогда твой ребе берет змей и идет к околоточному. Околоточный берет змей своего сына и спрашивает: не то ли самое написано в нем?
— Потом?
— Потом зовут детей и лупят их каждый по-своему. Дети говорят, что змеи выменяли у Пейси. Зовут Пейсю. Пейся говорит, что он тут ни при чем — бумажки дал Сема. А чей Сема сын? Сын каторжника. Приглашают Сему и спрашивают, где он взял эти листочки. Сема отвечает: листочки дал Моисей. Потом приходят сюда гости и отправляют дядю Моисея на поправку, потому что он похудел и ему вреден здешний климат.
— И куда бы тебя отправили? — испуганно спрашивает Сема.
— Если бы меня не отправили на свиданье с покойной мамой, то меня бы загнали в какую-нибудь Пинчугу. Прошлый раз я жил в деревне Погорюй, а теперь бы меня сунули в деревню Покукуй.
Сема встал и, тяжело вздохнув, сказал:
— Ну, не надо мне твоих листочков даже… — он остановился, — даже даром.
— Я думаю, что ты научишься ими пользоваться, Старый Нос, — весело сказал Моисей. — Ну, рассуди сам, зачем на небе эти листочки? Там они ни к чему. А здесь — другое дело. Сначала листочки сыплются, а потом дерево падает! Понял?
— Как раз это, дядя Моисей, нет, — застенчиво говорит Сема, — но остальное все понял. Теперь если б меня спросили, чьи листочки, я бы…
— Что — ты бы?
— Я бы молчал.
— А тебе — раз по зубам!
— А я ни слова.
— А тебе — два по зубам!
— А я ни слова.
— А тебя головой об стенку!
— А я ни слова.
— О, в тебе, кажется, есть кусочек от твоего папы. — смеется Моисей и ласково обнимает Сему.
Дедушка приходит со службы и застает их в горячем споре. Молча присаживается он к столу и слушает.
— Ну, что ты не понимаешь? — говорит Моисей. — Я, конечно, попал в тюрьму. Ты думаешь, я был намного старше тебя? Тюрьма — это такая штука: принимают молодых, выпускают старых. Посидел я там полтора года, и захотелось мне на улицу. И я сумел сделать дело. Год я дышал чистым воздухом, но жандармы услышали мой запах, и я опять очутился в тюрьме. Это была пересыльная тюрьма со всеми удобствами и видом на море. Там я познакомился с твоим папой. Он все время торопился знать, что будет завтра.
— Я вижу, что у Семы нашелся воспитатель, — вступает в разговор дедушка. — Ты ему не можешь рассказать что-нибудь веселее?
— Почему нет? Вы не думайте, что Старый Нос ничего не смыслит. В нем есть хороший кусочек от его папы.
Дедушка смеется:
— Сема, ты слышишь, что он говорит? Не дай бог, если к папиному кусочку прибавится еще кусочек от Моисея. Бабушке опять придется иметь дело с передачами.
— Ну, этим еще не пахнет, — успокаивающе сказал Моисей. — А как ваша служба? Есть на хлеб с маслом?
— Ай, служба… — Дедушка машет рукой, — Лучше встретить волчицу, потерявшую детей, чем дурака, нашедшего деньги!
— Кто же этот дурак?
— Не дурак, а дураки, — поправляется дедушка. — Первый — это мой хозяин, второй — его компаньон, а третий, самый большой, — это я. Служащий глупцу сам глупеет. Я от них ухожу!
Бабушка стелит скатерть и важно расставляет тарелки:
— Кончайте уже говорить — ужин на столе.
С каким вкусом бабушка произносит эти слова: «Ужин на столе», с каким удовольствием она их выговаривает, — честное слово, стоит специально прийти послушать!..
— А ну-ка, повернись сюда. Подними руку!.. Опять у тебя дырка в рукаве. Не понимаю, — смеется дедушка, — каждые три-четыре года шьем тебе новый костюм, и все не хватает!
— Разве это дырка? — возражает Сема. — Это ерунда. Вот это дырка, я понимаю! — И он с важностью показывает рваный башмак.
— Ничего, — утешает Сему дедушка, — иногда люди носят дорогие штиблеты, но далеко не идут.
— Ну, мой папа уже далеко пошел.
— Твой папа, Сема, особенный человек. Хотя он мой сын, я могу это сказать.
— Особенный… Что ж в нем особенного?
— У папы, Сема, такое сердце, что на четверых хватит.
— А на какие деньги теперь будем ему посылки слать? Службы уже нет, дедушка!
Но дедушка, видно, не намерен продолжать этот разговор; ущипнув Сему за щеку, он ударяет ногой об пол и неожиданно запевает:
Знаешь ты эту песню? — спрашивает дедушка.
— Нет, не знаю.
— Такой большой кавалер уже должен знать хорошие песни. А эту ты знаешь?
— Не знаю.
— Какой стыд! Это же…
В это время входит бабушка. Она недоуменно смотрит на деда:
— Нашел себе занятие. Во-первых, ты разбудишь Моисея. Во-вторых, отчего тебе так весело?
— А что? — не соглашается дедушка. — По-твоему, весь город должен знать, что Гольдин без службы? Пусть лучше думают, что мне хорошо, пусть думают и даже лопаются от зависти.
— Положим, базар уже все знает.
— Знает, так тем лучше. — И дедушка берет бабушку под руку и, улыбаясь, напевает:
— Я вижу, что ты выживаешь из ума. Лучше бы спросил, где я была.
— О, ты уже, наверно, начинаешь давать домашние обеды.
— А если да, так что?
— Ничего. Твои обеды…
— Могут сосвататься к твоему флигелю! — отрезает бабушка.
— Моисей… — вдруг кричит Сема, — Моисей встал!
Спор утихает. Бабушка снимает платок и, взяв в руки тарелки, идет на кухню; дедушка ставит перед собой коробочку с гильзами и, насвистывая, набивает папиросы.
— Я имею к вам разговор, — тихо говорит Моисей.
Сема забивается в угол и делает вид, будто внимательно изучает пятнышки на стене. Он щурит глаза, поплевывает, трет рукавом, что-то шепчет, но уши его — там, около дедушки и Моисея.
— Я должен знать точно, кто я, — говорит Моисей. — Вы мне сказали тогда, что отец у меня умер от чахотки. Так. Братья есть, сестры есть? Как их зовут? Что они делают?
— Вы можете быть спокойны, как за железной стеной. Вы, то есть настоящий владелец паспорта, — в Америке, братьев у него нет. Есть одна сестра — слепая, она живет в местечке Трегубы. Вяжет чулки. Он был щетинщик и дома жил мало. А люди, знающие его, предупреждены.
— Значит, одна сестра… — задумчиво повторяет Моисей. — Одна, это хорошо.
— А что, вы собираетесь в дорогу?
— Я должен через пять дней уехать.
Сема бросается к Моисею и взволнованно спрашивает:
— Как, ты уедешь? Надолго? Кто же будет у нас?
— Кто будет? — смеясь, повторяет Моисей. — Черт его знает, кто будет и что будет!
— Ты ж мне не рассказал, как ты бежал!
— Тише, Сема! — сердито кричит дедушка. — Что ты пристал с глупыми вопросами? Сколько раз я тебе говорил: не вмешивайся, когда говорят старшие!
Сема обиженно умолкает. Ох, эти старшие — покоя от них нет человеку!
Старый Нос сидит, опустив голову на колени. Он гадает: если Моисей подойдет к нему перед уходом, значит, останется, если нет — уедет. Если дверь откроется, значит, останется, если нет — уедет. Если в странице меньше ста строчек, останется, если нет…
— Обидели молодого человека, — слышит Сема знакомый голос и поднимает голову.
Моисей, улыбаясь, стоит рядом с ним:
— Обидели молодого человека… Может быть, молодой человек пойдет с Моисеем к фабрике?
— Конечно, пойдет. — И Сема быстро натягивает куртку. — А где ящик?
— Здесь, со мной.
— Ну, пошли!
…Опасаясь подозрений, Моисей продолжал торговлю порошками и палочками, хотя нужды в этом уже не было. Покупки завертывались в чистые белые листки, и, может быть, поэтому покупателей стало меньше. Но по-прежнему весело покрикивал хозяин, и Сема восхищенно следил за каждым его движением. Они вышли сегодня позже обычного. Моисей разложил товар и, подстелив платок, присел на камень:
— Ну, мудрец, загадки умеешь отгадывать?
— Загадки? Смотря какие.
— Ну, ответь мне: чего нельзя увидеть?
— Своих ушей.
— Ну, это положим! — Моисей быстро приподнял брови, и уши его смешно зашевелились. — Видел, брат?
— Видел, — с восхищением повторил Сема, пристально глядя на красные уши Моисея. — Как же это они сами?
— Нет, ты отвечай на вопрос.
— Значит, не уши?
— Нет… Ну, слушай. Нельзя увидеть следов птицы в небе, следов змеи на скале. Правильно?
Сема подумал:
— Как будто правильно.
— А кого не хочется видеть?
— Не знаю.
— Того, кто сюда идет, только не смотри на него.
Через площадь медленно и тяжело шагал полицейский — сомнений не было, он шел к ним. Сердце Семы испуганно сжалось.
— Беги, дядя, — прошептал он, — направо, через сквозной двор! Попадешь к Пейсе, скажешь — я послал…
Моисей засмеялся и погладил Сему по голове:
— Спасибо, но давай не будем спешить.
Полицейский подошел и, небрежно кивнув головой, сказал:
— Ну-ка, пойдем со мной!
— У меня торговля, ваше благородие, — спокойно ответил Моисей.
— Ладно, — хмуро прервал полицейский. — Пойдем. Здесь всего ходу два шага!
Моисей захлопнул ящичек и, подмигнув, отдал его Семе:
— Понесешь домой.
Сема хотел ответить, но язык не слушался его. Молча принял он товар, с затаенным дыханием ожидая конца. Моисей пошел с полицейским. Сема робко поплелся за ним.
— Ты по-вашему, по-еврейскому, знаешь? — спросил полицейский Моисея.
— Знаю, — ответил Моисей, — читать обучен.
Они подошли к воротам. Почти целиком ворота были обклеены серыми листками. Вокруг все больше и больше теснился народ.
Ткнув пальцем в листок, полицейский сказал Моисею:
— Читай, торговый человек, слово в слово читай, как есть. У этих жидков правды не узнаешь!
Моисей все понял: полицейского обманывали, ему читали вымышленный текст. Но вряд ли сейчас в этом есть смысл. И громко, во весь голос, стараясь, чтобы было слышно стоящим позади, Моисей начал читать:
— «Товарищи!
Царское правительство душит всякую свободную мысль, давит всех, кто не принадлежит к господствующей шайке чиновников, попов, капиталистов и дворян. Оно гнетет чужие национальности, скучивает евреев в тесной черте оседлости, где они задыхаются под гнетом нужды и бесправия…»
— Довольно! — сказал полицейский и сорвал листок. — Хватит! — Обернувшись к толпе, он закричал: — Чего уставились? Разойтись сейчас же велю! Разойдись, нечисть проклятая!
— Тут и православные есть, — насмешливо крикнул кто-то.
— Что? Кто сказал?
В ответ раздался протяжный свист.
Через час Моисей и Сема были дома. Весело потирая руки, Моисей рассказал дедушке о происшедшем.
— И ты ему прочел?
— А что же! Я всем прочел. Я ему оказал услугу, этому черту лысому.
Сема с восхищением смотрел на Моисея: как приятно быть большим, смелым и умным! Очень даже приятно!
Да, Моисей был умным и смелым. Вчера полицейский сорвал листки и широким ножом соскабливал с ворот клочки серой бумаги, а сегодня чья-то невидимая рука опять расклеила их. На дверях синагоги, на заборах, у входа в народную чайную появились эти листки с призывом к революционному действию. Стены и двери замазывали черной краской, со злобой срывали прокламации, но листков было много, и они опять появлялись в самых неожиданных местах. Утром жители местечка видели четыре серых листка даже на дверях полицейского участка. Ливень обрушился на местечко, и какой ливень!
Сема ходил по улицам, посмеиваясь, потирая руки. Хитро сощурив глаза, он с любопытством смотрел на прохожих. Неистовство полицейских смешило его. «А ну-ка, сорвите еще! — шептал он. — А на Песках тоже есть, и около станции есть, и на башне есть! А ну, сорвите еще!»
Ему хотелось подойти к кому-нибудь и сказать, что он еще вчера знал, где появятся прокламации. Но говорить об этом запретили, и, с трудом сдерживаясь, Старый Нос бродил от дома к дому, прислушиваясь к шуму уличной толпы. Около аптеки он встретил Моисея. Моисей шел с высоким загорелым парнем в желтой панамке. Они говорили о чем-то, не обращая внимания на суету. Увидев Сему, они остановились.
— Что это такое? — спросил Моисей. — Что за шум?
— Чепуха! — в тон ему ответил Сема. — Листки какие-то расклеили и вот никак не сорвут!
— Познакомься, — сказал Моисей, обращаясь к спутнику, — сын Гольдина.
— Гольдина? — переспросил парень. — Очень приятно! — и протянул руку.
Сема смутился. Между тем незнакомый человек, внимательно осмотрев Сему с ног до головы, сказал что-то Моисею. Тот кивнул головой:
— Ты, Сема, какой номер ботинок носишь?
— Не знаю.
Они неожиданно вошли в магазин. Спутник Моисея велел приказчику подобрать пару ботинок мальчику.
— У меня нет денег, — испуганно сказал Сема.
— Ничего, мы сочтемся! — деловито ответил парень и, склонившись на одно колено, стал примерять Семе ботинок. — Ну-ка, поставь ногу хорошо. Так! В носках не жмет?.. Смотри, мизинец-то выпирает.
— Нет, не жмет, — недоуменно сказал Сема.
— Ну-ка, пройдись.
Сема прошелся. Ботинки неподражаемо скрипели, ходить в них было приятно и скользко.
— Теперь гуляй! — сказал парень улыбаясь.
— Как, разве они теперь навсегда мои?
— Навсегда! — успокоил Сему Моисей. — Можешь с ними делать, что хочешь. Только не меняй на айданы!
На улице спутник Моисея пожал руку обоим и ушел к станции.
— Ах, я забыл! — воскликнул Сема.
— Что ты забыл?
— Я забыл узнать, сколько я ему должен.
— Узнаешь!
— Дядя Моисей, а кто он?
— Кто он? Заготовщик из Трегубов. Папин большой друг.
— Друг… — задумчиво повторил Сема.
Всю дорогу Сема с радостью рассматривал свои ботинки, стараясь не споткнуться и не запылить блестящих штиблет. Бабушка открыла дверь и остановилась в изумлении:
— Сема, откуда это у тебя?
— Он!
— Как тебе не стыдно! — напустилась бабушка на Моисея. — Что, у тебя деньги шальные? Он еще мог бы носить старые!
— Ничего. Мы с ним сочтемся! — сказал Моисей.
— Ты хоть сказал спасибо? — не унималась бабушка. — Ах ты лемех, лемех! Ты не знаешь, что нужно сказать?
— Спасибо, — смущенно повторил Сема.
— А теперь садись и скорее снимай ботинки!
— Почему, бабушка?
— Он еще спрашивает — почему! — возмутилась бабушка. — Снимай скорее и забудь, что они у тебя есть! Будешь надевать на пасху. Понял?
Сема с грустью опустился на стул и начал расшнуровывать ботинок. Моисей, улыбаясь, смотрел на него:
— Ничего не поделаешь. Бабушку надо слушать.
— Знаю! — вздохнул Сема. — Я уже устал ее слушать.
— Ко мне завтра придут гости, — сказал Моисей, обращаясь к бабушке. — Можно будет приготовить что-нибудь к чаю?
— Отчего нет, если есть на что… А сколько у тебя будет гостей?
— Много… Один.
— Один? Ну, это не страшно! — И бабушка, взяв у Моисея деньги, вышла из комнаты.
Какая это хорошая вещь — гости! Когда приходят гости, на кухне горит плита, бабушка стоит над котелком с тестом, и во всем доме так вкусно пахнет. Бабушка лепит пирожки, и Сема с любопытством следит за ее быстрыми руками. В тарелке лежит яблочное повидло — начинка к пирожкам. Ну, как не взять ложечку?
— Сема, Сема, не хватай, я тебе говорю! Успеешь еще!
— Я только попробую, — тихо говорит Сема, — может быть, мало сахару, — и лезет ложкой в тарелку.
Бабушка открывает железную дверцу короба и внимательно смотрит на лист с пирожками:
— А ну, Сема, они еще не пригорели?
— Пригорели, пригорели! — кричит Сема. Ему хочется, чтоб поскорее вынули пирожки.
Но бабушка не поддается обману.
— Они еще посидят пару минут, — важно говорит она Семе.
— Пусть посидят, — скрепя сердце соглашается Сема.
Из столовой доносится шум. Старый Нос слышит чей-то незнакомый голос и быстро выбегает из кухни.
На кушетке сидит Моисей. По комнате ходит парень, с которым Сема встретился вчера утром. Совсем белые, похожие на лен волосы падают на его маленькие, весело сощуренные глаза. Не смущаясь, Сема вбегает в комнату.
— А где ты потерял «здравствуйте»? — спрашивает Моисей.
— Здравствуйте… — отрывисто говорит Сема. — Я не знаю, как вас зовут.
— Меня? Трофим, — удивленно отвечает парень.
— Вот, — деловито продолжает Сема, — я хотел бы знать, сколько я вам должен.
— Ты хочешь расплатиться? — серьезно спрашивает Трофим.
— Я хочу знать сколько.
— Пожалуйста — ботинки стоят четыре рубля.
— Три семьдесят пять, — поправляет Моисей.
— Это все равно — четвертаком больше, четвертаком меньше.
— Так пусть уж лучше будет четвертаком меньше! — пробует шутить Сема.
Но Трофим строго смотрит на него и продолжает:
— Четыре рубля и полпроцента месячных. Через месяц отдашь — две копейки добавишь, через два — четыре копейки, через три — шесть копеек…
— Ни за что! — возмущается Сема. — Такие проценты? Что вы!
Неожиданно Трофим опускается на стул и начинает громко хохотать. Его маленькие глаза сощурились, на щеках появились ямочки.
— Ни за что, говоришь? Ну, я пошутил.
— Но сколько же я вам должен?
— Нисколько, — улыбаясь, отвечает Трофим. — Я твоему папе больше должен.
Бабушка ставит на стол блюдо с пирожками и молча кланяется гостю.
— Знакомься, — важно говорит Моисей. — Это мать Гольдина.
Трофим протягивает руку, но бабушка почти не смотрит на него: на улице осень, а он в одной рубашке и еще панамку где-то выкопал — желтую панамку!
Трофим вынимает кисет и, закуривая, задумчиво произносит:
— Так вот какая мать Гольдина!
Сема протискивается вперед и, обращаясь к гостю, с важностью говорит:
— А я сын Гольдина — Сема. Не забыли?
— Как забыть? — серьезно отвечает Трофим. — Отлично помню!
— Он у нас молодец, — говорит Моисей. — По-русски читать научился.
Сема смущается: он не любит, когда его хвалят. К тому же не сам он выучился — Моисей помог. Старый Нос проходит в соседнюю комнату и, слегка приоткрыв дверь, внимательно прислушивается к каждому слову. Вдруг, вспомнив что-то, Сема вздрагивает и подается вперед. «Неужели не останется?» — думает он и пристально смотрит в щелку. Совершена непоправимая ошибка! Ведь там, на столе, на большом блюде, пахучие пирожки с повидлом! Кто станет думать о том, что Сема не ел, кто догадается отложить ему хотя бы пяточек в сторону? «Никто, — с горечью отвечает себе Сема, — никто!» Он видит, как Трофим, весело улыбаясь, кладет в рот пирожок и, обращаясь к Моисею, говорит:
— Это мне на один зуб!
«А сколько у него зубов? — с тревогой думает Сема. — Может быть, штук тридцать! Пирожки пропали. Ах, дурак, дурак!»
Когда Сема, отважившись, вышел в столовую, на блюде лежал последний пирожок, одинокий и тощий. «Наверно, пустой, — с тоской подумал Сема. — Определенно пустой! Его бабушка под конец вылепила, когда повидло кончилось». Он прислушивается к разговору, стараясь не думать о пирожках.
— Загулял ты здесь, — говорит Трофим. — Когда в путь? Жаль ведь — дни пропадают!
— Не знаю, — задумчиво отвечает Моисей. — Мое дело сделано. Привез, сдал, выждал. Теперь я спокойно могу сесть в поезд. Мой товар пошел хорошо. А?
Они тихо прощаются.
Из кухни доносится голос бабушки:
— Сема, Сема, иди сюда!
Сема тихонько подкрадывается к столу, хватает пирожок и быстро разламывает его: так и есть, пирожок пустой, даже ложка повидла в нем не ночевала!
«Милые люди, нечего сказать! У них на каждый зуб по пирожку, а у него на тридцать зубов ни одного порядочного пирожка. Где же правда?» — обиженно спрашивает Сема и идет на кухню. Бабушка встречает его с тарелкой в руках, она сердится:
— Где ты болтаешься, я не знаю! Ты думаешь, пирожки будут тебя ждать?
Сема облегченно вздыхает и садится к столу. Все-таки есть правда на белом свете…
Религиозный обычай запрещает евреям работать по субботам. И в местечке праздновали этот день. Правда, две трети жителей выполняли святой обычай со странным усердием: они не работали не только в субботу, но и в воскресенье, и в понедельник, и во вторник, и во все остальные дни недели. Но что о них говорить — этим людям просто некуда было деть свои руки.
Субботу праздновали, и нужен был человек, исполняющий за небольшую плату работы по дому. Конечно, не один бедный еврей с удовольствием пожертвовал бы субботой ради остальных дней недели и поработал бы у своего набожного соседа, зажигая свечи, разводя самовар, протапливая печь. Но закон есть закон, и в субботу одинаково нельзя работать и сытому еврею и голодному.
Так появилась в местечке единственная работа, которая лежала, лезла в руки, но ее никто не смел взять. Субботнюю работу исполнял иноверец. Он был нужен, незаменим один раз в неделю.
Эту работу избрал себе Трофим. Новое занятие открывало ему двери всех домов. Но он не был в большом восторге.
— Скучное дело… — задумчиво сказал он Моисею. — Скучное. Ходить по домам в субботу, чистить там что-то. Ерунда!
— Конечно, ерунда, — согласился Моисей. — Но это безопаснейшее занятие: ты ходишь из дома в дом, и никто на тебя внимания не обращает. Только — ты извини меня — старайся побольше быть чудаком.
— В этой области не работал, — засмеялся Трофим.
— Нет, я серьезно. Ходи по местечку, песни пой. Понятно?
На площади они разошлись в разные стороны. Вечером Моисей сказал деду:
— Тут у меня приятель будет работать. Похвалите его, скажите — добрый работник.
— В каком же деле он будет служить? — оживился дедушка.
— Дело пустяковое. В субботу будет по квартирам…
— А-а… — разочарованно протянул дедушка. — Важная персона.
— И откуда ты выкопал такого приятеля? — удивилась бабушка.
— Откуда? Он был у нас один раз. Молодой такой.
— А, этот, в панамке…
— Этот!
— От большого ума человек не станет зажигать свечки и выносить сор, — язвительно заметила бабушка.
Моисей промолчал. Сема, слушавший весь разговор, не поддерживал бабушку. «Не понимает она, — подумал Старый Нос. — Моисей ведь тоже палочками торговал. Э-э! Это все понимать надо». Ему казалось, что теперь уж он понимает все.
На другой день, гуляя по улице, Сема неожиданно встретил человека в желтой панамке с ведром в руке. Он весело шагал по деревянному настилу, размахивая ведерком.
— Здравствуйте, — тихо сказал Сема.
— А ты откуда меня знаешь?
— Так мы же знакомились.
— Забудь. Мы познакомились только сегодня. Понял?
— Понял, — ответил Сема и с любопытством взглянул на Трофима. — А что вы сейчас делаете, если не секрет?
— Откуда у меня секреты, — громко сказал Трофим и неожиданно запел:
Люди останавливались и, смеясь, слушали Трофима. Один из прохожих даже подошел к нему:
— Зайдешь ко мне сегодня. Вон третий дом. Работа будет.
— Рад стараться, ваше благородие, — ответил Трофим и шутливо взял под козырек.
— Значит, вы будете ходить по евреям в субботу? — нетерпеливо спросил Сема.
— Да.
— Разве вы больше ничего не умеете?
— Зачем, я умею еще кое-что. Но пока достаточно этого.
Ответ был неясен, но этим он и понравился Семе. Старый Нос любил все таинственное.
— А где вы будете жить?
Но Трофим не ответил. Постукивая кулаком по донышку ведра, заломив на затылок желтую панамку, он опять запел:
Из высокого кирпичного дома вышла, улыбаясь, девушка и махнула рукой:
— Молодой человек, послушайте!..
Трофим хлопнул Сему по плечу и быстро зашагал навстречу девушке. Это была его первая суббота. И сейчас он делал почин. Сема постоял еще несколько минут у ворот дома. Со двора доносился веселый голос Трофима:
«Хитрый, черт! — подумал с восхищением Сема. — Вроде Моисея. И денег заработает кучу». Последнее он считал особенно важным.
Поздно ночью у речки встретились два человека. Они говорили шепотом.
— Молодец, хорошо начал, — сказал один из них. — Главное, правдоподобно.
— Ну как, похож я на шабес-гоя?[14]
— Вылитый!
— Вот и отлично.
— Завтра я уеду. Вот тут всё, что я могу тебе передать. Это остаток, дополнительно деньги прибудут. Транспорт «Правды»[15] ожидается через две-три недели. Кто теперь вместо меня приедет — не знаю. Тебя известят.
Они обнялись молча.
— Да, вот еще… За мальчиком смотри. Хороший мальчик! Если надо будет, помоги. Мучатся люди. А стыдно это: семья Гольдина не должна так мучиться. Мы отца заменить должны!
— Я понимаю, — ответил широкоплечий человек в желтой панамке. — Понимаю…
— Ну, прощай, Трофим! Завтра я еду.
— Прощай, Моисей! Удачи!..
Все время Сема старался не думать об отъезде Моисея. Он уговаривал себя, что этого не будет, что в самый последний момент Моисей передумает. И даже сейчас, когда на полу стоит раскрытый чемодан; и бабушка, вздыхая, медленно укладывает вещи, Сема не верит в неизбежность разлуки.
— Моисей, — тихо говорит он, — чем тебе здесь плохо? Может быть, ты останешься?
— Смотри, какая любовь! — смеется дедушка. — Мальчик прямо похудел за эти дни.
— Я ненадолго, — серьезно отвечает Моисей, — ненадолго. Скоро увидимся!
— Тише, — вмешивается вдруг бабушка. — Сема, дай ему уже покой… Смотри, Моисей, что я тебе кладу: четыре носовых платка, две пары чистого белья, три рубашки. Вот видишь: раз, два, три. Я их всюду заштопала. Носки…
— Хорошо, хорошо, я вам верю.
— Когда ты будешь отдавать в стирку, скажи, чтоб не клали много жавеля. Ты слышишь? А то они тебе все белье перепортят!
— «Все белье», — насмешливо повторяет дедушка, — «все белье»! Можно подумать, что у него дюжины крахмальных рубах.
Но Моисей внимательно выслушивает советы. Он даже выясняет, что такое жавель, как будто ему очень важно знать это. Постепенно наполняется чемоданчик, и бабушка, захлопнув крышку, говорит:
— В добрый час! Чтоб все было хорошо!
Все садятся; перед отъездом нужно посидеть молча — это к удаче. Наступает тишина. Моисей перебирает какие-то листки и, нахмурив брови, записывает что-то на папиросной коробке; Лазарь задумчиво рассматривает свои шершавые загорелые руки; бабушка сидит с закрытыми глазами, губы ее шепчут молитву; Сема прижимает к груди старую, истрепанную книжку — подарок Моисея; дедушка барабанит пальцем по столу, потом медленно обводит всех глазами и, улыбаясь, говорит:
— Веселая компания! С вами было б хорошо очутиться на острове. Одно удовольствие!
Моисей поднимается и ласково обнимает дедушку:
— Ой, молодец! Честное слово, молодец! Иметь такого мужа — счастье! Вы посмотрите на него — в кармане ни гроша, на голове осталось три волоса, зубы выпали…
— Извиняюсь, — перебивает дедушка, притворяясь рассерженным, — во-первых, есть два настоящих зуба. Я не знаю, что вы к ним имеете? Во-вторых, почему три волоса? У меня даже лысина не видна! Где же справедливость? Я вас спрашиваю.
Все смеются. Бабушка, улыбаясь, берет его под руку и, укоризненно качая головой, говорит!
— Веселый бедняк! Он будет жить сто двадцать лет.
— Конечно! — убежденно отвечает дедушка. — Мне же нужно в своей жизни узнать, что значит — хорошо. До сих пор я верил другим на слово. Но я хочу сам узнать… Правильно, Моисей?
— Узнаете, — говорит Моисей, застегивая куртку. — Ну, будем прощаться.
Сема осторожно кладет книжку и подходит к Моисею. Да, он уезжает. Завтра в комнате будет тихо — останется бабушка, останется дедушка, но Моисей!.. Зачем уезжает он? Как приятно будить его по утрам, слушать рассказы о подвигах — ведь такие интересные истории знает Моисей! О, эти предательские слезы — они приходят, когда их никто не зовет. Хорошее дело — при Моисее оказаться плаксой! Сема быстро вытирает глаза и молодцевато выпячивает грудь. Вот уже дедушка первый протягивает руку Моисею.
— Будем живы, — говорит он, — все придет!
— Аминь! — смеясь, отвечает Моисей и подходит к бабушке.
Бабушка обнимает его и, плача, целует в губы, в глаза, в лоб:
— Дай бог тебя видеть здоровым! Пусть будет так, как я тебе желаю!
— Пусть будет, — соглашается Моисей и, обращаясь к отцу, говорит: — Ну, ваше благородие, давайте с вами.
Старый Лазарь смотрит на сына, на его потертый чемоданчик, на ветхую, выцветшую куртку:
— Опять прощаемся. Бог знает, увидимся еще или нет?
— Я знаю, отец, — увидимся, тебе ж еще нет ста лет.
Но никто не смеется.
Бабушка подняла фартук к глазам, дедушка задумчиво смотрит в окно, Сема ждет.
— Ну, Сема, смотри, будь хорошим парнем! Не потеряй кусочек от твоего папы! Ну, посмотри на меня, молодой человек… Вот так. Теперь ты уже знаешь, из чего нельзя делать змея, а? Знаешь?.. Ну, давай свою руку!
— Прощай, Моисей, — тихо говорит Сема.
— Почему — прощай? — спрашивает Моисей и поднимает Сему к самому потолку. — Почему — прощай? «До свиданья» надо говорить. — И, взяв чемодан, быстро выходит на улицу.
Лазарь, Сема и бабушка выбегают вслед за ним.
— Будь здоров, Моисей! — кричат они. — Будь счастлив, Моисей! Удачи, Моисей!..
Но Моисей уже не слышит их.
Дедушка пьет шестой стакан чаю. Ему жарко, и после каждого глотка он останавливается и затевает с бабушкой политический спор. Он предсказывает, что будет с Россией через год, но бабушка упорно не хочет верить в его пророчества. Тогда он обращается к Семе. И Старый Нос, гордый этим признанием, усердно поддакивает деду.
— В воздухе, — говорит дедушка, — пахнет войной. И какой войной! Сколько в этом году истощаются? Сотни! А почему? Не хотят служить в царской армии. Все надоело! Фишман выбил Шнееру все зубы — и Шнеер теперь молится на Фишмана. Ты подумай, что делается! Человек остался без зубов — и он радуется. В каждом доме что-то нюхают, пьют крепкий чай и сидят ночи напролет. Зачем? Не хотят служить.
— Ну так что? — упорствует бабушка. — Ну так что?
— Сема, посмотри на нее. Она не понимает — что! Будь я сейчас на месте Вильгельма, что бы я сделал?
— Ой, Абрам! Почему ты должен думать за кайзера? Почему Вильгельм не думает, что бы он делал на твоем месте?
— Потому что это труднее, — смеется дедушка. — Сколько бы он ни думал, он бы ничего не придумал!
— Так я и знала: у тебя все карманы набиты шуточками.
— Конечно. Если б шуточки можно было разменивать на деньги, я был бы самый богатый человек… Какой сегодня день?
— Среда.
— Ну да, среда. Я бы хотел знать, где сейчас Моисей. А? Ой, это голова!
— Лучше б он сидел на одном месте, — не соглашается бабушка. — В его годы уже пора иметь свой дом.
— Ай, ты выдумываешь! Человек старается, чтобы люди перестали плакать, чтобы люди жили как люди. Так это плохо?
— Кол исроэл еш логем хейлек леойлом габо[16] — тихо говорит бабушка.
— Спасибо тебе! На том свете! А если я хочу получить свою долю на этом? Сема должен радоваться оттого, что на том свете ему будет хорошо? А глик от им гетрофен![17]
— Я не знаю, зачем при ребенке говорить такие вещи!
— Все равно узнает. Так пусть лучше узнает раньше, чем позже!
— А ну, что с тобой говорить! — машет рукой бабушка. — Ты сына испортил, ты внуку тоже голову забьешь!
— Я сына испортил? Это мне больше всего нравится! Я испортил? Ты думаешь…
— Хорошо. Пусть будет по-твоему! Идем лучше спать. Мальчик уже еле сидит.
Но дедушка не может успокоиться. Из темноты доносится его горячий шепот. Дедушка продолжает спор в постели:
— Если б я был на месте Вильгельма…
Но Сема не слышит, что бы сделал дедушка на месте германского императора. Сон берет свое. Сема закрывает глаза: он видит дедушку на троне, в мантии и с короной на лысеющей голове. Дедушка сидит на троне, держит в руках листок рисовой бумаги и, поплевывая, скручивает папироску.
Ночью раздается стук — один, другой, третий. Сема прислушивается. Бабушка тормошит деда:
— Абрам, ты слышишь? Кто-то стучит!
— А, брось, тебе кажется! — огрызается дедушка. — Вдруг ночью к тебе придут! — и поворачивается к стенке.
Но стук повторяется, кто-то рвет дверь. Дедушка вскакивает с постели, торопливо натягивает брюки, зажигает свет и, взяв в руки коробку спичек, кряхтя и ругаясь, идет в коридор. Слышно: отодвигается тяжелый засов. Дедушка, побледневший, с синими, дрожащими губами, вводит в комнату трех человек в военной форме. Сема приподнимается на подушке. Одного он знает — этот офицер когда-то уводил папу, — бабушка показывала его Семе. Офицер садится к столу и тихо, скучающим голосом произносит:
— Старые знакомые… Вот я опять к вам. Не радуетесь? Знаю. Радости мало. Придется осмотреть ваш дворец, с вашего позволения, господин Гольдин.
— Прошу! — говорит дедушка. Он немного пришел в себя и, надев пиджак, присел рядом с офицером.
— Посторонних в квартире уже нет? — спрашивает офицер.
— И не было, ваше благородие.
— Ну, не дальше как вчера у вас накрывали стол на четыре персоны…
— У нас девять стульев, ваше благородие, это ничего не значит.
— Так, так… — Офицер выбивает трубку об ножку стола. — Ну, а квартирант-то ваш куда отбыл? Этот, как его…
— Соломон Айзман, — подсказывает дедушка. — Торговый человек, сегодня здесь — завтра там!
— Вы уверены, что он — Айзман?
— У евреев, ваше благородие, есть такой обряд — брис. Я у него на брисе не был.
— И другого имени его не знаете?
— Евреям при рождении дают несколько имен. Я, например, сразу и Аврам и Ицхок — Аврам-Ицхок. Может быть, он Шлойма-Янкель. Все может быть!
Офицер вынимает из кармана пакетик.
— Ну-ка, мальчик, скажи, — обращается он к Семе, — кто это?
Сема смотрит на карточку — перед ним Моисей, только без бороды, с бритой головой, в длинной серой шинели.
— Дайте посмотреть… — говорит Сема. — Ой, какое знакомое лицо! У нас в синагоге был шамес[18] — так точно он!
Офицер забирает карточку и бережно прячет ее в карман.
— Так, так… Хорошая семья Гольдиных, — задумчиво говорит он, — отличная семья!
— Слава богу, — подтверждает дедушка.
— Вы думаете? Гм… Ваш сын не ошибся, выбрав вас в отцы.
— Я тоже не ошибся, выбрав его в сыновья, — говорит дед и, улыбаясь, закуривает папиросу.
— Да, с вами говорить легче. У вас уже опыт. С новичками труднее…
— Растет клиентура? — насмешливо спрашивает дедушка.
Но офицер не слышит его:
— Кончили?
— Ничего не обнаружено, ваше благородие, — отвечает один из спутников офицера.
— Плохо ищете!
— Все обыскано. Решительно все.
— Ну что ж, придется идти… Вы, — говорит офицер, обращаясь к дедушке, — приятный собеседник! С вашим сыном, например, говорить было невозможно — молчальник. Ну, а с вами, я думаю, выйдет легче.
— Немного.
— Ну вот: захватите пару белья, подушку. Побыстрее, мы уже заболтались с вами.
Бабушка вскакивает с постели. Тихий тон беседы обманул ее.
— Что такое, Авраам? Что такое, боже мой? Скажи скорее, что такое?
— Ша! Не волнуйся, — говорит дедушка и целует ее в лоб, — Ша! Наверно, донос. Все выяснится. Со мной им делать нечего!
Бабушка молчит. Схватившись руками за седую голову, она испуганно смотрит на офицера.
Дедушка целует Сему в побледневшие губы и тихо говорит:
— Ты теперь один мужчина в доме. Береги бабушку, внучек. Береги…
Но дедушка не договаривает: тяжелая рука офицера ложится на его плечо.
— Оставьте ваши жидовские штучки, старый клоун, — холодно говорит он, — Ступайте живо! Семеечка, черт бы вас побрал!
Сема увидел потемневшие дедушкины глаза, последний прощальный взгляд, взмах руки — и дверь захлопнулась. Сема выскочил на улицу: вдали слышалось мерное звяканье шпор… Дедушку увели.
Улицы были тихи, и синий туман стоял над местечком, когда Сема, наспех натянув куртку, побежал к Трофиму. Путь лежал через серую базарную площадь, мимо низеньких окраинных домишек — к реке. Здесь у жестянщика Фурмана снимал угол Трофим. Сема постучал в окно торопливо и громко. Со скрипом отворилась дверь. Заспанный хозяин сердито посмотрел на Сему:
— Что ты разбарабанился тут, мальчишка?
— Мне Трофима.
— «Трофима, Трофима»! — передразнил его Фурман. — Ты бы еще ночью пришел, мальчишка!
— Мне Трофима, — угрюмо повторил Сема.
Хозяин с недоумением взглянул на раннего гостя и ворчливо сказал:
— Хорошо! Увидишь твое счастье — Трофима.
Они прошли в дом. В комнате стоял кислый запах пеленок и сна. Окна были плотно закрыты. На постели, покрытой пестрым, сшитым из лоскутьев одеялом, лежали ребятишки, и мать их, раскинув руки, спала с открытым ртом. Мухи медленно ползали по ее бледному лицу, садились на нос и губы.
— Веселая картинка, а?
Сема оглянулся. Широкой рукой почесывая волосатую грудь, стоял Трофим, прислонившись плечом к стене.
— Чего это ты? — спросил он и громко зевнул. — Пойдем уж на кухню. Расскажешь.
В кухоньке Трофим сел на табурет и, подперев кулаками голову, приготовился слушать.
— Дедушку арестовали, — тихо сказал Сема.
— Как так, что ты мелешь?
— Арестовали, — грустно повторил Сема, — пришли и арестовали.
Трофим подошел к ведру, зачерпнул кружку воды, вылил себе на шею и вытерся краем рубахи.
— Так, так… — задумчиво повторил он, сощурив глаза и закусывая нижнюю губу. — Так! Долго сидели?
— Часа три. Про Моисея спрашивали. Как зовут его, спрашивали, где он.
Трофим улыбнулся:
— Это хорошо. Моисей-то не взят. Ищут.
— А зачем же дедушку?
— Допытаться хотят. Подтвердить подозрения.
— И он там был, — горячо зашептал Сема, схватив Трофима за руку, — я его лицо запомнил!
— Кто?
— Тот, что папу забрал. Офицер.
— Это хорошо, что лицо запомнил. Помнить надо!
— Если б я не был маленьким, если б я был сильный, как ты, Трофим, я бы… я бы, может быть, убил его.
— Ну и что дальше?
— Да, убил бы. Только мал я. Разве одолеть мне такого?
— Да ты уж и не мал вовсе, — строго сказал Трофим. — У нас, в местечке Эстерполе, мальчик был — полиция за него трех Трофимов отдаст! Огонь!
— Мальчик? Кто это? — с завистью спросил Сема.
— Мося Гольдштейн. Четырнадцать лет ему!
— А что он делает?
Но Трофим не ответил.
— Садись, поешь. Тощий ты какой.
Он поставил перед Семой тарелку с холодной картошкой, подвинул краюху хлеба и соль. Сема осторожно отломил ломтик.
— Да разве так едят парни? — рассердился Трофим. — Так птички клюют! Надо хлеба побольше, чтоб за обе щеки. Силу, брат, копят!
Сема послушно принялся за еду, стараясь глотать побольше. Трофим улыбался, поглядывая на него:
— Вот это я понимаю! А щи горячие с перчиком любишь?.. Нет? А с коня на коня прыгаешь?.. Нет? И в бабки не играешь?
Трофим вздохнул и неожиданно стал серьезным:
— Слушай, Старый Нос! Что офицера запомнил — это хорошо! Помнить надо. А что щи не любишь — это плохо! Любить надо. И с коня на коня прыгать надо. А то как же, — удивился Трофим, — без этого никак нельзя!..
— Я научусь, обязательно научусь, — успокоительно сказал Сема.
Из комнаты донесся крик детей. Утро началось. Сема напялил картуз и протянул руку Трофиму:
— Идти, что ли?
— Иди, дружок! Бабку утешь. Выпустят его. Подержат и выпустят… Денег вот у вас нет. Денег вам достать надо — это да…
— Я скоро сам зарабатывать буду, — уверенно сказал Сема.
— Ну вот, под твои заработки и занять надо! Дело верное! — засмеялся Трофим, открывая дверь.
Сема вышел на улицу. Маленькая девочка несла с колодца ведро воды. Вода судорожно плескалась, и ведро дрожало в ее слабой руке.
— Ну, давай поднесу! — услужливо предложил Сема.
— Не надо, — испуганно сказала девочка, точно боясь, что ведро будет украдено. — Иди ты, не надо!
Сема расстроился, плюнул и с чувством обиды на глупую девчонку медленно пошел домой.
Бабушка искала заработка. В длинном черном платье с вытянувшимся желтым лицом бродила она по местечку. Сема уныло шел за ней. Он не верил в успех поисков и с тревогой смотрел на бабку. Она шла медленно, тяжело дыша, едва передвигая ноги.
— Может быть, мы вернемся?
— Куда? — спрашивала бабушка.
— Домой.
— Что нас ждет дома?
Сема не находил ответа.
— Я уже стала совсем слепая! — виновато сказала бабушка. — Посмотри, кажется, здесь живет Фейга?
— Здесь.
Они вошли в дом. Хозяйка встретила их у самых дверей. Размахивая полотенцем, она гнала мух из комнаты.
— Хорошо, хоть тебя застали, — сказал Сема.
Фейга ему не ответила. Тяжело хлопнув полотенцем по столу, она зашибла нескольких запоздавших мух.
— Ужас, — воскликнула она, обращаясь к бабушке, — покоя от них нет!
— Мне бы твои заботы, — ответила бабушка.
— А что еще?
— Сестра должна была б знать: Авраама забрали.
— Это я знаю, — спокойно сказала Фейга. — Так что, нужно сесть на пол и плакать? Бог даст, обойдется.
— Что же делать? — спросил Сема.
Фейга заходила по комнате. Двоюродная сестра бабушки была деловым человеком. Ее муж — фантазер и выдумщик Лейба, одержимый идеей строительства сахарных заводов, — всю жизнь писал письма исправнику, губернатору и в министерство. Он заслужил насмешливое прозвище «заводчик» и умер совсем молодым, не дождавшись ответа. У Фейги на руках остались дети; она сумела их вырастить. Фейга работала банщицей и этим кормила семью.
— Что делать? — повторила Фейга, положив на стол белые, пахнущие мылом руки. — Ты ж не имеешь никакой хазоке!
Бабушка тяжело вздохнула. У нее было хазоке на горе — и больше ничего… Хазоке — это наследственное право на место. По старинным обычаям, оно передавалось от отца к сыну, от матери к дочери, из рода в род. Если отец был служкой в синагоге, то и сын мог продолжать дело отца. Мать Фейги была банщицей — и Фейга продолжала ее ремесло. Никто не смел посягнуть на это доходное место при бане. Обычай охранял ее тщедушное право. За хазоке цеплялись зубами. Если торговка кореньями промышляла у лавки Шолоша, то это было ее место. Никто не смел уже стать здесь. Это ее хазоке, ее право! Слепой нищий, стоявший на выгодном месте, у железных ворот на базаре, имел свое хазоке. Он был владельцем этого места, он мог передать свое нищее счастье сыну или продать за хорошие деньги право собирать подаяние именно здесь, у железных ворот. Сам раввин следил за исполнением обычая. Раввин умел утешить: у вас нет денег, ваши дети босы, ваш дом пуст — не смейте жаловаться, не прогневайте бога. Ведь у вас же есть хазоке, а у других нет и этого! Каждому внушалось, что он чем-то владеет, что он чему-то хозяин. Нищий, побиравшийся у аптеки, завидовал нищему, стоявшему на базаре, но первый не смел прогнать последнего. Сам раввин следил за порядком. Что значит прогнать? Ведь это его хазоке, его наследство — место у железных ворот; еще отец слепого здесь протягивал руку. Слепой нищий — хозяин!
Так жили люди. Если у них не было денег — это горе. Но если у них было хотя бы хазоке… Но у бабушки ничего не было: ни хазоке, ни денег. Отец ей ничего не оставил. Он и не имел ничего — даже места у железных ворот! Теперь она могла лишь купить у кого-нибудь наследственное право. Но где взять денег и на что способны ее старые руки?
— Не надо унывать, — утешает Фейга, — я подумаю. Может быть, купим хазоке. Знаешь у кого?
— У кого? — спрашивает бабушка.
— У Злоты. Она скубит курицы в резницкой. И она уже не хочет скубить. У нее сын — приказчик. И она продаст свое место — чтоб я так жила! И ты будешь сама себе хозяйка. Разве ты не сможешь поскубить утку или очистить гуся? — весело спрашивает Фейга.
Но бабушка не верит в такое счастье:
— На это ведь тоже нужны деньги.
— Достанем. Потом ты выплатишь.
И вот бабушка — хозяйка: она владеет правом чистить чужих кур… Она имеет место в резницкой. И, наверно, кто-нибудь уже завидует ей. Она владеет хазоке. Потом, когда вернется дедушка, она сможет кому-нибудь продать свое место. Она не будет просить дороже — она только вернет свои деньги.
Сема стоит у дверей сарайчика и с любопытством смотрит на резника.
С базара идут хозяйки с корзинками. Куры тоскливо кудахчут, предчувствуя близость конца; гуси уныло задирают головы, тычутся желтым носом в стенки кошелок, ища спасения.
Резник в засаленном сюртуке красным платком вытирает мокрые ловкие руки. Он молчалив и важен. Блестящий нож лежит на стойке. Серенький молодой петушок, вытянув шейку, готовится к прыжку. Вот он задорно мотнул гребешком и… но ему не уйти из равнодушных и сильных рук Нахмана. Резник двумя пальцами заламывает назад петушиную головку, быстро вырывает перья на шейке и, взяв со стойки нож, легко проводит лезвием по оголенному месту… Еще раз-другой метнулся петушок, закричал, вздрогнул, хлопнул крылышками и замер. Нахман поднимает петушка, ждет, пока стекут на каменный пол последние капли крови, и небрежно бросает его… Руки резника опять заняты: трепещет и изламывается гусь, смешно дрыгая посиневшими лапами.
— Ну и работа! — вздыхает Сема и смотрит на бабушку.
Она сидит на полу, у самых дверей, в черном, туго завязанном платке. Рядом с ней сидят еще две женщины; они косо смотрят на бабушку, пришедшую разделить их небольшой доход. Не так уж много птицы несут к резнику — одна бы управилась, а тут трое! Но бабушка сидит молча, она не зовет к себе хозяек, она только смотрит на прохожих тихим, просящим взглядом.
Кто-то, слышит Сема, спрашивает у резника:
— Это старуха Гольдина? — и добавляет: — До чего дошли!
Экономка Магазаника бросает бабушке на колени двух кур.
— Только чтоб было чисто. Чтобы не осталось ни одного перышка! — властно говорит она.
— Хорошо, — соглашается бабушка.
С любопытством хозяйки осматривает она курицу, дует на спинку, раздвигает перья:
— Желтенькая! Замечательная курица! Будет фунта полтора смальца. Сколько отдали?
Но экономка молчит, и бабушка, вздохнув, начинает быстро вырывать перья. Руки ее измазаны кровью, платье покрылось темными пятнами. «Какая жирная курица, — думает бабушка, — мясо будет хорошее, косточки мягкие — ведь она еще молодая!»
— Скоро уже будет конец?
— Сейчас, — отвечает бабушка. — Одну минуточку!
На серую ладонь ее летят две монетки; она приподнимает руку и, сощурив глаза, внимательно смотрит на них:
— Сема, сколько тут?
— Четыре копейки.
— Ну, тоже неплохо.
Бабушка раскрывает висящий на шее черный мешочек, бросает обе монетки и крепко затягивает шнурок. Почин дороже денег!
Вечером Сема, улыбаясь, спрашивал бабушку:
— Ну, большая прибыль?
— Лучше, чем ничего.
— А что же будет со мной?
— А что же должно быть с тобой?
— Я должен зарабатывать деньги. Ты слышала — он мне сказал: «Береги бабушку!»
— Слышала, все слышала…
— У тебя уже есть свое хазоке. А у меня?
— Но ты еще маленький ребенок.
— Я не ребенок! Довольно из меня делать ребенка. Я должен зарабатывать деньги! — упрямо повторяет Сема.
— Ну хорошо, — соглашается бабушка. — Пойду с тобой к Фрайману.
Сема выходит на улицу, медленно закрывает ставни, пробует рукой заборчик палисадника. Забор дрожит — починить надо. Ну ничего, все пойдет к лучшему. Фрайман — большой умница, он поможет. И тогда Сема с бабушкой что-нибудь придумают. Можно поехать в уезд — просить за деда. Можно — в губернию. Были б деньги…
Черное небо нависло над местечком. Изредка раздаются глухие раскаты грома, и вновь наступает тишина. Похожие на слезы капли дождя медленно ползут по оконному стеклу.
Бабушка спит. Всю ночь простояла она, молясь и плача. Тускло горели желтые свечи, и в слабом мерцании хилых огоньков видел Сема иссеченное морщинами лицо бабушки, ее худые вздрагивающие плечи, ее безвольные горестные руки, ищущие что-то в полутьме. Она стояла у стола, раскачиваясь из стороны в сторону. Синие губы ее шептали молитву. Бабушка устала просить счастья — она просит смерти. «Пусть мне будет, — шепчет она, — то, что должно быть ему. Пусть мне, — тихо повторяет бабушка, — пусть мне».
В белой сорочке, босая, ходит она по комнате, заламывает кверху руки и все шепчет, вздыхает и стонет. Совсем маленькой стала бабушка. Она идет в угол, останавливается у дедушкиной кровати и молча смотрит на постель, на пустую, холодную дедушкину постель с рыжим колючим одеялом… Бабушка гладит рукой подушку, к которой прижималась его худая небритая щека, и слезы одна за другой тихо падают на наволочку.
Да, она ругала его за флигель, за партию хрома, за выдумки с лесом, но разве есть для нее жизнь без него? И опять шепчет бабушка: «Пусть лучше мне, чем ему, пусть мне…»
Так проводит она ночь в тоске и тревоге. Утром падает она в постель, но и во сне не находит покоя. Она что-то кричит, машет рукой, просит и плачет. Сема испуганно смотрит на нее: «Спи, бабушка, спи!» И опять наступает тишина. Сема ходит по комнате. Комната кажется ему чужой: комод, старый, добрый пузатый комод продан, его место пусто, поставить нечего. В углах завелась паутина, запылился самовар, на потолке большое пятно, и на пол уныло падают дождевые капли. Третий месяц нет дедушки, что же будет дальше? И почему он ничего не пишет? Может быть, он знает, сколько ему осталось сидеть: день, неделю, месяц?
Дедушка был хороший человек, так почему же держат его? Почему? Бабушка все ночи молится, отчего же бог не помогает, разве он не знает дедушку? «Глаз за глаз, — учит святая книга, — зуб за зуб, обожжение за обожжение, рана за рану и ушиб за ушиб». Так накажи же, господи, тех, кто угнетает нас! Рану воздай за рану, ушиб за ушиб!
Но где брать деньги на передачи? Остался стол, остался самовар, осталось зеркало, а дальше? Сема готов продать самого себя, но кому, интересно знать, нужны его руки, его ноги, даже его голова! И хотя Семе было стыдно брать деньги у Трофима, теперь он видит, что без них обойтись нельзя. Эти деньги — спасение. Но он обязательно отдаст, когда заработает. Трофим дал десять рублей — ему их вернут с благодарностью. Фейга купила место в резницкой — ей всё возвратят. Уж Сема с дедушкой постараются. Скорей бы вернулся он!
Они заходят вместе к господину приставу. Впереди идет Сема. Бабушка молча следует за ним. Ведь она совсем не знает по-русски.
— Добрый день, ваше благородие! — говорит Сема.
Бабушка низко кланяется.
— Ладно, — отвечает пристав и смотрит почему-то Семе под ноги.
— Ваше благородие, что же наше прошение? Когда выпустят дедушку? У нас ведь никого нет, нам никто помочь не может. Вы подумайте, — с тревогой продолжает Сема, — вы только подумайте, ваше благородие, — одни в целом свете!
Бабушка пытливо смотрит на пристава, но его толстое, тщательно выбритое лицо ничего не выражает. Нельзя понять, чего желает он им: добра или зла. Едва сдерживая слезы, Сема повторяет:
— У нас один дедушка!
Пристав, крякнув, встает и, взяв со стола фуражку, принимается дышать на козырек и чистить его рукавом. Бабушке становится ясно, что пристав не думает о них и не слушает Сему. Ему все равно, сколько у этого малыша дедушек: два, пять, ни одного. Ему важно, чтоб блестел козырек. Бабушка толкает Сему и шепчет по-еврейски:
— Дай же ему, дай.
Сема неловко протягивает конверт. В конверте — добрый пузатый комод и все бабушкины заработки: двадцать рублей новенькими ассигнациями. Пристав откладывает в сторону фуражку и, глядя куда-то на дверь, деревянным голосом спрашивает:
— Один, значит, дедушка?
— Один! — вздыхает Сема. — Я и бабушка. Он у нас один.
— Хорошо, — говорит пристав. — Государь милостив. Скоро дома будет.
Сема обрадованно вскрикивает, бабушка смотрит на пристава, и ей кажется, что лицо его посветлело и глаза стали лучистыми. Бабушка спрашивает Сему: «Ну что? Как? Скоро?» Она падает на колени, гладит ноги пристава, целует его блестящие сапоги, его толстые, красные руки, пуговицу с орлом на его мундире. Слезы бегут по ее лицу. Она вытирает их неловко рукой и быстро выбегает из комнаты. Сема идет за ней.
Пристав смотрит им вслед.
— Один дедушка, ишь ты! — повторяет он и деловито принимается считать деньги.
Через три дня в дверь постучали, и, опираясь на руку какого-то неизвестного человека, вошел дедушка. Бабушка принялась целовать его, плача, причитая, воздавая славу богу. Сема гладил руку дедушки — теплую, дорогую руку.
— Дедушка! — радостно говорит Сема. — Ты похудел, ох, какая у тебя борода, но ты такой же, честное слово, такой!
— Что ж ты молчишь, Аврумеле? — улыбаясь, говорит бабушка. — Садись!
И вот дедушка поднимает свои серые глаза и говорит:
— Мой сын в Сибири. Но можно было б сделать хорошую операцию с партией хрома. Лес продают вагонами… Но почему же стреляют в невинных, я хочу знать? Он же совсем ребенок, наш Яков, мой единственный! Почему его бьют и считают: раз, два, три? Ой, и они считают — раз, два три… Они считают, может быть, до ста считают, Саррочка!
И дедушка, опустив голову, тихо, беззвучно плачет.
— Что с тобой, Аврумеле, что с тобой? — испуганно спрашивает бабушка. — Аврумеле, опомнись!
Неизвестный человек, спутник дедушки, вежливо говорит:
— Не извольте беспокоиться, мадам. Они не в себе. Третий месяц не в себе… С вас получить за то, что привел!
Бабушка стонала, плакала, покрасневшими глазами следила за каждым движением дедушки, говорила с ним громко и шепотом, пыталась объясняться жестами, но старик холодно смотрел на нее пустым, равнодушным взглядом. И бабушка поняла, что потеряно все. Сейчас больше, чем когда бы то ни было, жаждала она смерти, конца, но жизнь продолжалась, и нужно было что-то делать.
Заработок в резницкой был ничтожно мал. Кур приносили не каждый день. Только в пятницу думали о бульоне, и только в пятницу она кое-что уносила в своем черном, болтавшемся на груди мешочке. Она садилась к столу и осторожно высыпала выручку. Медленно пересчитывала бабушка свой дневной заработок, аккуратными столбиками выкладывала монетки: грош к грошу, копейку к копейке. Черный мешочек не был тяжелым, и столбики эти не были высокими. Сощурив глаза, пристально всматривалась она в каждую монетку, но от этого полушка не становилась гривенником.
Сема предложил продать дедушкин стол, но вещи дедушки были ей особенно дороги, и самая мысль о продаже стола испугала ее. «Вот и похоронили заживо», — пробормотала бабушка. Ей представилось, что дедушка уже умер, и вот торопливо продают его шляпу, его синий праздничный жилет, и чьи-то чужие, грубые руки небрежно щупают товар… Она заплакала. Сема не мог видеть ее слезы. Холодная тишина стояла в комнате. Неужели нельзя изменить все это? Неужели все так и будет? А может быть, опять пойти к Трофиму? Но Семе надоело видеть себя скучным и просящим. Да что же, черт побери, разве у него не гольдинская голова, разве у него руки не работают!
— Бабушка, — твердо сказал он, — бросьте плакать! Мы сегодня идем к Фрайману.
— К Фрайману? — переспросила бабушка. — Ах, лучше б я не дожила до этих дней!
— Мы должны пойти к Фрайману, — упрямо повторил Сема.
— Хорошо, — сказала бабушка, вытирая платком глаза. — Пойдем.
Дедушка не любил Фраймана. Не раз в ответ на укоры бабушки он сердито отвечал:
— Я же не Фрайман. Что ты от меня хочешь?
Во всех делах дедушка оставался верен себе: он не кланялся, не юлил, не плутовал. Встречая Магазаника, он не торопился первым снять шляпу и не старался заговорить с купцом.
«Если я ему нужен, — говорил дедушка, — он меня сам найдет. Человек должен уважать себя».
Фрайман исходил из другого.
«Человек должен кушать, — улыбаясь, отвечал он дедушке, — и дети его тоже должны кушать». И для этого он пускался на все, терпеливо вынося плевки, ругательства и унижения…
Маленький, подвижной, юркий, в белой бумажной манишке за гривенник, в желтой соломенке, сдвинутой на затылок, с озабоченным видом мотался он по городу. Всегда у него были какие-то дела, в которые, впрочем, никто не верил. Его не уважали, но признавали: Фрайман мог пригодиться в самых неожиданных случаях. Он знал, где лучшие пиявки, как получить шифскарту[19], к какому врачу нужно пойти перед призывом, кто из них берет и кто не берет, где в Киеве живет поверенный — недорогой, но все равно как Плевако…[20] Карманы его костюма были набиты образцами товаров, которые кем-то продавались и, конечно, «совсем даром»: здесь были щепотка муки в бумажке, лоскуток гризоновского шевро, пробы пшеницы, ржи, гороха.
В базарный день, в воскресенье, ходил он от лавки к лавке и, сощурив глаза, присматривался к прохожим. По походке, по манере держать руки, по одному взгляду мог он почти безошибочно оценить, чего человек стоит. Он сразу определял: покупатель это или так просто, будет брать оптом или в розницу. Особенным вниманием Фраймана пользовались изредка приезжавшие в местечко польские помещики.
Заметив издали подходящую фигуру, Фрайман стремительно подлетал к ней и, галантно приподняв шляпу, спрашивал!
— Что пан думает купить?
Едва пан успевал повернуться, Фрайман уже овладевал им:
— Паи хочет набрать на костюм, так почему пан идет к Зюсману? Разве пан не знает, что лучший товар у Магазаника, и совсем недорого? Пан хочет черный материал в белую полоску, а что пан скажет о таком кусочке?
И Фрайман с торжествующим видом вытаскивал из своего кармана лоскуток материала. Пан щурился, пыхтел и покорно шел за новым знакомым. В первом же магазине Фрайман выяснял, как покупает пан. Оказывается, этот старый шляхтич любит торговаться, и, входя во второй магазин, Фрайман бегло и незаметно уже бросал приказчику:
— Нужно хорошо накинуть!
Так шел он следом за покупателем из лавки в лавку, от рундука к рундуку. Он внимательно рассматривал материю, пробовал на ощупь, смотрел на свет, ворчал, покрикивал на приказчиков, как будто сам покупал. Постепенно пан оттеснялся все больше и больше, ему оставалось только платить, если проводник убеждал его, что сделка стоящая. Для большего эффекта в одном из магазинов Фрайман учинял скандал.
— Что вы, — кричал он, — с ума сошли просить за эту дрянь пять рублей? Что, у нас, — он имел в виду себя с помещиком, — деньги валяются? — И, гневно отбрасывая товар на стойку, он гордо выходил на улицу, держа под руку ошеломленного пана.
Пан с благодарностью смотрел на бескорыстного друга и уже без всяких сомнений следовал за ним.
На заезжем дворе Фрайман упаковывал все покупки, причмокивая, расхваливал их и, зная слабость помещика, неустанно повторял:
— Ведь мы же их обдурили. Где вы найдете за такие деньги такие штиблеты? Это все равно как даром!
Растроганный пан благодарно кивал головой и протягивал Фрайману бумажку. Иногда это был рубль, иногда трешница — услуги ценились по-разному. Но главное уже было сделано — Фрайман хорошо знал, что в следующий приезд пан уже сам будет искать его. Распростившись с помещиком, Фрайман выскакивал на улицу и быстрым шагом отправлялся к базару. Он заходил в мануфактурный магазин и, потирая руки, весело говорил:
— Как вам нравится этот сазан, а? Ловко мы его… — и, переходя на деловой тон, добавлял: — Я вам дал сегодня торговать двадцать рублей. Сколько я с вас имею?
Хозяин выдавал Фрайману рубль, и Фрайман летел дальше, в обувной магазин, собирая подати за помещика, которого он привел сюда. К концу дня Фрайман оказывался обладателем целого состояния в три-четыре, а то и в пять рублей.
Хорошо, конечно, если б это было каждый день или хотя бы раз в неделю. Но разве сны повторяются часто? Разве можно привязать к себе счастье? В следующее воскресенье уже, как назло, не было ни одного стоящего покупателя, через неделю приезжал не помещик, а его эконом. Пойди сговорись с экономом! Он сам рад оторвать. Или приезжает настоящий помещик. Но зачем ему Фрайман? С деньгами он как-нибудь сам найдет дорогу. И помещик гонит Фраймана с его дешевыми услугами ко всем чертям.
Но человек должен кушать, и Фрайман, между прочим, имеет еще одно занятие. Когда в бедной семье подрастает ребенок и родители убеждаются, что мальчик уже может иметь свой рубль, они ведут мальчика к Фрайману, и тот берется в два счета устроить мальчику жизнь. Пользуясь связями в торговом мире, Фрайман определяет паренька на службу в лавку, в магазин или в мастерскую. За свои услуги Фрайман берет лишь первый двухнедельный заработок мальчика. Обе стороны остаются довольны друг другом…
Но так как все равно денег не хватает, Фрайман часто пускается на хитрость. Устроив мальчика в мастерскую и получив через две недели за услуги, он начинает морочить голову родителям. «Мастерская, — говорит он, — это хорошо, но лавка лучше. Давайте я устрою вашего птенчика в другое место». И, легко убедив оторопелых родителей, Фрайман опять зарабатывает на мальчике несколько лишних рублей…
Об этих фокусах Фраймана знали далеко не все: свои дела обставлял он очень аккуратно, и за ним укрепилась слава человека, который всегда может вывести мальчика в люди. Правда, он берет за это хорошие деньги. Но что на этом свете делается даром?
И вот Сема познакомился с Фрайманом. Бабушка объяснила маклеру, чего она хочет. Фрайман задумчиво покачал головой, потом, внимательно взглянув на Сему, сказал:
— Сделать это нелегко. Но для вас я попытаюсь… Сколько будет семью пять?
— Тридцать пять, — бойко ответил Сема. — А что?
— Читать и писать можешь?
— Боже мой, — с гордостью воскликнула бабушка, — он и по-русски может! Он же у нас грамотей!
— Я подумаю.
— Я вас очень прошу. Вы же знаете, если б не несчастье с мужем, я бы ни за что не отпустила Сему.
— Не просите, — надменно произнес Фрайман, — для вас я сделаю. Он будет иметь хорошее место.
Бабушка неловко поклонилась Фрайману и незаметно приказала Семе сделать то же самое. Но Сема неожиданно спросил:
— А сколько вы возьмете за это?
— Деловой человек! — засмеялся Фрайман. — Я возьму заработок за первые две недели. И ни копейки больше!
— Так, — хмуро повторил Сема и, не прощаясь, вышел вслед за бабушкой.
Фрайман не заставил себя долго ждать. На другой день он явился, как всегда суетливый, торопящийся куда-то. Бегло окинув взглядом комнату, Фрайман подошел к зеркалу и неожиданно постучал по нему согнутым указательным пальцем.
— О, — воскликнул он, — знаменитое стекло! За него можно взять хорошую цену… Где же ваш маленький?
— Сейчас, один момент, — поспешно ответила бабушка. — Сема, Сема, иди сюда!
— Давайте торопиться! Я же знаю, когда нужно идти к Магазанику. Если идти утром — ничего не выйдет, даю вам честное слово. Если идти после обеда — так он вас на порог не пустит!
— Когда же идти?
— О, вот это как раз нужно знать! — засмеялся Фрайман и тихо добавил: — После обеда Магазаник любит поспать, зачем же ему мешать, я вас спрашиваю? Надо зайти, когда хозяин отдохнет, и не только отдохнет, но уже сидит и пьет чай с вишневым вареньем. Вот это время! Хорошо даже, если вы зайдете после третьего или четвертого стакана, — совсем другой человек, даю вам честное слово… Но, дорогая моя, где же мальчик?
— Я здесь, — нервно говорит Сема. — Мы пойдем?
Фрайман, выпятив нижнюю губу и нахмурив брови, внимательно осматривает его со всех сторон.
— Что у тебя рубаха торчит? Ты не можешь ее воткнуть в штаны? А ну пройдись! — строго говорит он Семе.
Сема неловко проходит по комнате.
— Зачем ты голову опустил? Куда ты смотришь? Ты там потерял что-нибудь? Подними голову! Вот молодец!.. Нет, — говорит он, обращаясь к бабушке, — мальчик неплохой… Я уже там зондировал почву!
Непонятное слово «зондировал» вызывает почтительное удивление Семы, и он с любопытством смотрит на Фраймана.
— Ну, мадам, я беру мальчика. Из него выйдет человек!
— В добрый час, — с тревогой говорит бабушка, — в добрый час.
По улице они идут молча. Около дома Магазаника Фрайман останавливается, подтягивает жилет и поправляет опавшие крылышки черного бантика на манишке.
— Вот, — говорит он, обращаясь к самому себе, — так будет хорошо… Твое мнение, Сема?
Сема молчит.
— Ты видишь эту манишку? — продолжает Фрайман. — Она сделана из бумаги. Ее покупают в пятницу, чтобы поносить неделю и выбросить. Но я, я ношу ее две недели — и ни одного пятнышка!
Довольный собой, он вежливо стучит в дверь:
— Господин Магазаник дома?
— Дома.
— Я на одну минуточку, — оправдываясь, говорит Фрайман и, схватив Сему за руку, тащит его за собой.
В высокой светлой комнате, у стола, покрытого розовой, в цветочках, скатертью, сидит хозяин. На нем бархатная ермолка и черный гладкий сюртук с шелковыми лацканами. Он медленно тянет из блюдечка чай, и его кудрявые, чуть тронутые сединой волосы прилипли к мокрому, покрасневшему лбу.
— Я вам говорил относительно мальчика. Знаете, внук старика Гольдина.
Хозяин кивает головой и ловким движением забрасывает в рот три вишни.
— Он может вам пригодиться в лавке, — продолжает Фрайман, щуря глаза и заискивающе улыбаясь. — Почему мальчику не крутиться возле хорошего дела?
Хозяин кивает головой и, подняв пустой стакан, молча протягивает его прислуге. Девушка в белом платочке берет маленький чайничек и льет заварку, пристально глядя на хозяина. Магазаник внимательно следит за ней. Когда заварка достигает установленного уровня, хозяин кричит:
— Цы!
И девушка останавливается. Она ставит стакан на стол и осторожно набирает из сахарницы ложечку песку — одну полную, потом другую и опять выжидающе смотрит на хозяина. Магазаник поднимает руку:
— Цы!
Вынув из буфета банку с вареньем, девушка неуверенно кладет в фарфоровое блюдечко вишни. Раз, два, три… Бегло взглянув в тарелочку, хозяин властно цедит сквозь зубы:
— Цы! — и вспоминает наконец, что его ждут.
Подняв густые, лохматые брови, Магазаник удивленно смотрит на Сему.
Сема чувствует на себе острый, цепкий взгляд хозяина, но ему хочется смеяться. «Цы, — думает он, — цы! Почему же просто не сказать: довольно? Ой, боже мой, — цы…»
Фрайман незаметно наступает ему на ногу, и Сема плотно сжимает губы.
— Так вот он, этот мальчик, — говорит Фрайман.
Хозяин облизывает ложечку и задумчиво смотрит на Сему.
— Он вам пригодится, умный мальчик! — не унимается Фрайман.
Хозяин кивает головой. Сема нетерпеливо переминается с ноги на йогу. А вдруг Магазаник сейчас крикнет: «Цы!» — что тогда? Но бесстрашный Фрайман не останавливается:
— Ему можно прийти завтра утром?
Хозяин кивает головой и сосредоточенно давит ложечкой лежащие на дне стакана вишни…
Выйдя на улицу, Фрайман глубоко вздыхает и, положив руку на плечо Семы, важно спрашивает:
— Ну, как тебе понравился наш разговор?
Сема насмешливо отвечает:
— Очень.
Но Фрайман не замечает насмешки:
— Ты заметил: он мне ни одного плохого слова не сказал!
— Но он же все время молчал?
— Ай, что ты понимаешь! — с возмущением говорит Фрайман. — Другие бы мечтали о таком приеме. И какое обращение! Вот это я понимаю — богач!
Но Сема не разделяет восторгов Фраймана:
— Значит, мне завтра прямо в лавку?
— Да, — отвечает Фрайман и, хмуро взглянув на Сему, строго произносит: — Цы! Цы!
Хозяин Семы был человек со странностями. К сорока годам он имел уже хорошее состояние, вложенное в дела верные и приносящие солидный доход. Лучшие дома в местечке принадлежали ему. В двух банках Киева — Азовско-Донском и Торгово-Промышленном — Магазаник имел кредит. Он был обладателем ценных бумаг и умел ими пользоваться. Но за все время он почти не выезжал из местечка. Как купец второй гильдии, он имел даже право побывать в Петербурге, но его не тянуло в столицу. «Что я там не видел? — спрашивал он. — Мне и здесь хорошо».
Его дела требовали людей. Ему нужны были помощники дешевые и выносливые. Но Магазаник никому не говорил об этом. Он был девятым сыном заурядного меламеда[21] и самым удачливым. Он нажил состояние, его братья нажили горб. Так почему не помочь им, их детям, их дальним и близким родичам?
К Магазанику приходили племянники и племянницы. Они говорили то, о чем думали их матери и отцы. Они просили денег. Магазаник отвечал им: «Денег я вам дать не могу, но сердце — не камень. Я вам помогу заработать деньги!»
В заброшенных местечках, в окрестных деревушках, на базаре и на бирже он разыскивал родственников. Все с удивлением следили за молодым купцом: добрая душа, дай бог ему здоровья! И он находил двоюродных братьев своей матери, троюродных племянников своего отца, находил и давал им кусок хлеба. В лавках Магазаника не было ни одного чужого человека — от мальчика до приказчика все были связаны с ним родством, хотя бы самым отдаленным, и все чувствовали себя обязанными ему. Разве не протянул он им руку в трудную минуту? Да, протянул. Разве не кормит он их сейчас? Да, кормит. И разве это не божеское дело?
Магазаник был верный слуга богу, но больше всего он думал о себе. Чужие руки в деле — опасные руки, и он с удовольствием посматривал на своих служащих: это сын покойной тети Ривы, это сын дяди Шлемы, а это муж дочери дяди Шлемы. Все свои, все родные, все желают ему добра.
Однажды к Магазанику пришел его брат Нахман, чахлый человек с впалой грудью. Он дышал со свистом, и руки его дрожали.
— Соломон, — сказал он Магазанику, — вы (все братья говорили ему «вы») мне все-таки мало платите.
Магазаник улыбнулся и ласково взглянул на брата:
— Ну какие могут быть счеты между родными! А? Сам подумай: я тебе чужой или ты мне — человек с улицы? Разве не одна мать несла нас под сердцем?
— Но вы мне все-таки мало платите, — упорствовал Нахман.
— Ой, ты не понимаешь меня! Неужели ты думаешь, я забуду кого-нибудь из вас? В моем завещании тебе будет отрезан хороший кусочек!
Этим кончался разговор. Магазаник, статный, плечистый человек с красным затылком и большими крепкими челюстями, не собирался умирать. О завещании он говорил часто так просто, для утешения родни. Он нередко притворялся больным, ставил себе примочки, глотал пилюли. Магазаник притворялся, «чтоб не сглазили». В действительности он за всю свою жизнь болел лишь один раз — корью… В общине не знали его отношений со служащими-родственниками, не знали, сколько и кому он платит. Знали лишь то, что сам Магазаник позволял знать.
В эту «семью» попал Сема мальчиком. Ничего подобного ему не приходилось видеть раньше. Он с любопытством следил за сложными ходами хозяина, но понять их было ему не под силу. Родственники, бывшие на таких же птичьих правах, что и Сема, встретили его злобно: во-первых, они родственники, — стало быть, ближе, чем он, к хозяину; во-вторых, прибавился еще один рот.
Мальчика шпыняли, кормили пинками и щелчками при всяком удобном случае. Его наняли в лавку, но в лавке почти не держали. Сему посылали с кухаркой на базар, он выносил из кухни мусор, выливал помои, помогал чистить картофель, вытирал носы у чьих-то сопливых детей и бегал за водкой конторщику. Рубашка на нем была всегда мокрой; узенькие ладони его покраснели и покрылись водянками.
Нахман — чахлый брат хозяина, злой на всех и видевший во всем подвохи против себя, — невзлюбил его с первого раза.
— Что ты расселся, как барон? — визжал он, когда Сема, уставший от пинков, опускался на табурет. — Ты думаешь, мы тебя будем даром кормить? У тебя руки отсохли? — И, подняв с пола картофельную шелуху, он совал ее Семе в лицо: — Ты не можешь убрать это, мальчишка!
Сема покорно выполнял приказание.
В кухню забегал племянник хозяина Мордх. Раздувая ноздри, он говорил:
— Хорошо пахнет. Кажется, сегодня борщ?.. А что ты делаешь, Семка? Ты хочешь заработать гривенник?
— Хочу, — недоуменно отвечал Сема.
— Хочешь? — повторял Мордх, — Очень хорошо! — И, повертев перед Семиным носом монеткой, швырял ее на пол.
Сема оглядывался по сторонам и лез на четвереньках доставать монетку. Запыленный, измазанный сажей, усталый, он поднимался с монеткой в руках.
— Нашел-таки! Молодец! — кричал Мордх. — Теперь дай монетку сюда… Так. Теперь повернись… Так. Теперь гуляй! — И, ударив Сему коленом в зад, он весело смеялся: — Потеха с этими детьми! Ой, одна потеха!
Но Сема не видал в этих шутках ничего хорошего. В бессильной злобе сжимал он кулаки, не зная, кому пожаловаться. Однажды, осмелившись, Сема рассказал обо всем старшему приказчику Магазаника, Майору, — человеку с рассеченной губой и ленивыми, как у кошки, глазами.
— Ты жалуешься! — Он укоризненно покачал головой. — Тебя пустили в дом как своего, а ты жалуешься. Ты же знаешь, что здесь нет ни одного чужого. Так скажи спасибо за это!
И больше Сема никому не жаловался.
Домой он приходил ночевать, усталый и сердитый. Но, видя бабушку, склонившуюся над постелью деда, старался быть веселым и придумывал даже всякие небылицы о том, как хвалил его хозяин и чем кормили сегодня в обед. Он перечислял вкусные, недоступные ему блюда, рассказывал, какой жирный, желтый бульон с клецками подавали к столу, и бабушка верила и улыбалась.
С каждым днем служба становилась труднее; он хотел узнать, что такое сарпинка, нансук, мадаполам, чесуча — эти слова повторялись часто в лавке, — но его гнали во двор, в кухню или на базар.
Каждый в этом большом сумасшедшем доме мог на него прикрикнуть. И Сема стонал от злобы.
Важный и молчаливый хозяин, которому все говорили почтительно «вы», редко показывался в лавке. У него были большие дела в других местах: он диктовал письма в Лодзь, в Варшаву, — оттуда к ярмарке присылали партии знаменитого сукна. Он советовался, запершись в комнате, куда лучше поместить деньги. Иногда он играл в шахматы, но все боялись у него выигрывать. Изредка к Магазанику приходили бедняки за помощью на лекарство. Он состоял членом благотворительного общества и однажды даже был шафером на свадьбе одной бедной девицы, дочери заготовщика.
Магазаника Сема видел лишь во время обеда. В доме был заведен порядок — все обедали вместе. Это была дань родству, дань крови. В пятом часу в большую светлую столовую собирались люди Магазаника. Они садились за длинный стол и ждали. Каждый знал свое место. Половина стола была покрыта белой тяжелой скатертью, половила — желтой клеенкой. За второй половиной сидел Сема вместе со всеми родственниками. За первой — господин Магазаник, его слепая мать, жена, две дочери и сын Нюня, гимназист лет четырнадцати, который говорил только по-русски и поэтому открыто презирал всех окружающих.
Обед не начинали, пока пустовало кресло в центре стола. «Сам» выходил ровно в пять, и все облегченно вздыхали, увиден его: ожидание кончалось — наступал обед. Магазаник ел медленно, тщательно разжевывая, причмокивая и кряхтя. Он любил поесть и ел молча. Так же, как в первый вечер, его желания и приказы выражались отрывистым «цы!». Никто не смеялся — видимо, успели привыкнуть к странностям хозяина и даже, подобно Фрайману, старались подражать ему.
Выйдя к столу, Сема с удивлением заметил, что на первую половину подавалось одно, а на вторую — другое. На белой скатерти стояла чашка с жирным, пахучим бульоном, на клеенке — большая кастрюля с борщом из старой капусты. Все ели усердно, тарелки вытирались комочком хлеба — до блеска. Лица были угрюмые и сосредоточенные.
На другой, на третий день повторялось то же самое. «Там» ели жаркое с чесноком, с жирными кусками мяса; «тут» — жареный картофель и студень, липкий и серый. Сема отважился и шепотом спросил у Нахмана:
— Что это такое?
Нахман ответил ему:
— Ты думаешь, я все время буду здесь сидеть? Я еще там тоже посижу!
Но ответ этот ничего не объяснил Семе, и после обеда, когда все торопливо выходили из комнаты, он подошел к хозяину и повторил свой вопрос. Магазаник насмешливо взглянул на него и, вытащив из жилета зубочистку, ответил:
— Ты еще мал, чтобы понять. Во всем мире есть две стороны стола. Одни сидят там, — он показал пальцем на клеенку, — другие — тут. Нужно стараться перейти с той стороны, но это не так легко. Многие считали бы за счастье попасть хоть туда. — И он опять показал на клеенку.
Сема ушел на кухню и, помогая кухарке вытирать тарелки, недоуменно твердил про себя: «Две стороны стола! Две стороны стола!..» Было тягостно и тоскливо. Хотелось поскорее уйти из этого дома с его путаницей и загадками. Неожиданно Фрайман пришел Семе на помощь. Он предложил мальчику попытать счастья в другом месте: это входило в планы предприимчивого маклера.
Фрайман ходит по комнате и что-то оживленно доказывает бабушке.
— Вы же понимаете, — говорит он, — я вам не враг, пусть бог накажет моих детей, если я вам желаю что-нибудь плохое. Но, когда сажаешь цветок, хочешь, чтоб он расцвел лучше. Сема уже понюхал кусочек мануфактуры — хорошо! Но я иду и думаю: «А что, если ему пойти — как раз наоборот — по обувному делу?» Это же будущее! — И он гордо взмахнул рукой. — Будущее!
— Ой, господин Фрайман, если бы вы знали, как я вам благодарна! Я даже не знаю, что бы мы делали без вас! — взволнованно говорит бабушка.
Но Фрайман не унимается:
— Будущее! Они же сейчас работают на оборону. Ой, что вы понимаете!.. — Он многозначительно поднял кверху указательный палец. — Крестьянский ботинок! Во всех станицах Дона знают обувь Гозмана. И потом Гозман — это же не Магазаник, это европеец. Он же из пыли делает деньги — и как красиво! Аржан контан. Ни одного векселя…[22] И сколько я себе ни морочу голову — лучше этого для вашего Семы ничего нет.
— Дай вам бог здоровья, господин Фрайман. Мальчик уж вас никогда не забудет. А как же мы рассчитаемся? — спрашивает бабушка.
— Ну, кто об этом говорит, — обиженно заявляет Фрайман, и манишка вылезает из его пиджака. — На тех же началах: за первые две недели получу я. Вы же понимаете — больше я с вас не возьму.
Бабушка растроганно благодарит Фраймана и зовет Сему.
— Ну-ка, посмотри на меня, — говорит ему Фрайман. — Мы сделаем из тебя настоящего обувщика. Ты хочешь быть обувщиком?
Сема молчит: ему неприятна горячность Фраймана.
— Ты молчишь, потому что ты молод. — Ты еще не знаешь, что значит обувщик. Думаешь, я зря забрал тебя от Магазаника? Я все время крутил себе мозги, где бы лучше тебя пристроить. Но это, кажется, самое лучшее. Завтра же мы с тобой пойдем.
— Завтра?
— Да. Только смотри весело. Господин Гозман любит веселых. У него был один приказчик, так он все время вздыхал. Гозман сказал ему: «Если б мы торговали гробами, так делу нужны были бы ваши вздохи, но мы торгуем обувью. Знаете что: нате вам… до свиданья. Когда я заведу торговлю гробами, я вас буду иметь в виду!» Ты понимаешь, Сема, что значит веселые глаза?
Сема понимает все, и ему хочется послать к черту Фраймана, но он сдерживается и, неловко переминаясь с ноги на ногу, ждет, что будет дальше.
— И потом, — продолжает Фрайман, обращаясь к бабушке, — нужно же знать Гозмана, что это за человек. Европеец! По секрету вам скажу, он даже курит в субботу. Да, да, честное слово! И он любит, чтоб мальчик был чистым, чтоб от мальчика хорошо пахло.
Истощив запас своих пожеланий, Фрайман быстро прощается. Бабушка вручает ему куртаж[23]: Семин заработок за две недели у Магазаника. Ведь какое его дело, что бабушка передумала делать из внука мануфактуриста. Правда, совет дал Фрайман, но он разве заставляет ее? Если не хочет — не надо!.. Присев на кончик стула, он сосредоточенно пересчитывает монетки. Очень хорошо, все точно. Прощаясь, он говорит:
— Значит, завтра идем. Уверяю вас, мадам, вы мне скажете спасибо. Хозяин ему будет — ну все равно как родной отец.
У господина Гозмана новый служащий — Сема Гольдин. Рубль в месяц, веселые глаза, уметь отвечать и уметь молчать. Вот и всё. Больше от мальчика ничего не хотят. Мальчик сидит на скамеечке — он уже вымел сор, помыл пол, почистил мелом ручки двери и сейчас может отдохнуть. Дедушке очень плохо, и нельзя понять, что с ним. Компрессы, горчичники, порошки — ничто не помогает. Он не хочет есть, ему силой вливают ложечку жидкой каши. Только пить и пить. Сема с тоской думает о дедушке, вздыхает и вздрагивает. Рядом стоит хозяин. На нем длинный черный сюртук, белый жилет с блестящими перламутровыми пуговицами и бархатная ермолка. Он смотрит внимательно на Сему, и тот вспоминает, что нужны веселые глаза. Черт знает, где их взять, эти веселые глаза!
— Я вам нужен, господин хозяин?
— Принеси стул.
— Вот, господин хозяин.
— А если на нем пыль?
— Была, господин хозяин.
— Ну-ка, позови Менделя.
Приходит конторщик Мендель, и хозяин, иронически улыбаясь, спрашивает:
— Что ж там у тебя получилось?
— Итого мы будем иметь на балансе[24] пять тысяч рублей чистой прибыли. По дебету…[25]
— Что вы мне говорите — дебет, кредит![26] Я имею то, что я могу пересчитать своими руками. Это я имею! А то, что я буду иметь, считать рано. Ваш дебет еще может полететь к черту.
— Господин Гозман, для того чтоб проделать этот фокус с имитацией, нужна помощь свыше. Вы же понимаете, исправник…
— Что вы мне говорите, — нетерпеливо прерывает Гозман, — исправник, а губернатор не знает, что такое Гозман? Об этом не беспокойтесь. Они у меня все здесь! — И он хлопает себя по карману.
Сема удивленно поднимает брови: его хозяин, должно быть, богатый человек, если у него в одном кармане помещаются губернатор с исправником. Интересно, что он насовал в другие карманы? Ребе Иоселе, наверно, поместится в карманчике от жилетки, а раввин?
— О чем ты думаешь? — спрашивает Сему Гозман и толкает локтем Менделя: — Мендель, какие были у нас с ним условия?
Конторщик почтительно улыбается:
— Рубль в месяц, веселые глаза, уметь молчать и уметь отвечать.
— О! — восклицает Гозман. — О, это самое. Где же твои веселые глаза?
— Они только что были тут, — бойко отвечает Сема и выжидающе смотрит на хозяина.
Хозяин задумчиво чешет бороду:
— Хорошо отвечаешь… Мендель, дай ему гривенник за ответ!
— Больше ничего? — спрашивает Сема, но его не отпускают.
Хозяину скучно — в два часа к нему придут люди, а пока почему не позабавиться. Приказчики, зная привычку Гозмана, подходят ближе. С сожалением и любопытством смотрят они на Сему. Хорошо ответит — его прибыль, а если плохо ответит — у хозяина ручка, дай бог не видеть ее!
— О чем же ты думал? — лениво спрашивает Гозман и, сощурив глаза, смотрит на Сему.
Но Старый Нос не сдается, он принимает бой. Глядя в упор на хозяина, Сема говорит:
— Я думал, все ли карманы у вас заняты: в одном — губернатор с исправником, а что в остальных?
Приказчики громко смеются. Поединок мальчика с хозяином нравится им. Ай да Старый Нос! Ум как бритва — режет и режет.
— Что вы смеетесь? — сердито кричит Гозман и, стараясь быть спокойным, добавляет: — Ответ неплох… Мендель, прибавь еще гривенник!
— Я могу идти? — спрашивает Сема.
— Куда ты торопишься? — насмешливо говорит Гозман. — У тебя там яичница пригорит?.. Ты мне лучше скажи, что делать, если в местечке провинился единственный банщик и его нужно посадить в тюрьму?
Сема молчит. Приказчики подходят ближе, их начинает пугать участь мальчика: вот так всегда кончаются эти забавы. Сейчас закричит: «Пошел вон, дурак!» — и даст такую затрещину, что мальчик неделю головы не повернет.
— Что делать? — Сема весело смеется. — Зачем сажать банщика, если он один? Посадить резника — у нас их двое.
— Хорош ответ, — сердито говорит Гозман и встает. — Будешь раввином… Мендель, прибавь ему еще гривну!
Но никто не смеется. Лицо хозяина сурово, брови нахмурены. Он кричит:
— Что вы столпились здесь? Может быть, вам позвать музыкантов? За прилавки!
Все расходятся. Сема берет в руки веник и начинает опять подметать пол.
Смешанное чувство злобы и смущения вызывал в хозяине этот тощий лопоухий мальчишка. Его веселые и быстрые ответы казались Гозману дерзкими и насмешливыми. Он привык к голосам покорным, словам тихим и мягким. И вдруг какой-то молокосос вступает с ним в разговор, как с равным. И главное, все это происходит на глазах у его людей, для которых самое большое удовольствие — видеть хозяина в смешном положении. Весь остаток дня находился Гозман под впечатлением утреннего происшествия. И тридцать раз говорил он себе: «Ну что ты, дурак, думаешь об этом мальчишке?» — и все же мысль неизменно возвращалась к маленькому Гольдину. «Какая порода, — возмущался Гозман, — какая никуда не годная порода!»
Может быть, следовало просто отодрать Семку за уши. Но что бы он доказал этим? Свою слабость? Нет, конечно, очень хорошо, что он сумел сдержать себя и даже бросил три гривенника этому шалопаю. Хорошо, и нечего об этом больше думать.
Но, придя домой, Гозман опять вспомнил о своем новом служащем. Сын купца Мотл сидел на подоконнике и с торжествующим видом вырывал крылышки у мух. Ловил он их очень ловко, умело и хитро, и видно было, что не первый день эта охота увлекает мальчика.
— Что ты там делаешь? — крикнул Гозман.
Мальчик вздрогнул, медленно сполз с окна и подошел к отцу, продолжая сжимать в кулаке злую, жужжащую муху.
— Ну-ка, скажи мне, о чем ты думаешь?
Мотл ухмыльнулся и, взяв отца за руку, осторожно подвел его к столу. В перевернутом кверху дном стакане кружился серенький паучок.
— Сам поймал, — тихо сказал Мотл, точно боясь голосом спугнуть паука, — сам!
Отец с тоскливым недоумением взглянул на сына и без всякой надежды на получение ответа спросил:
— Если в местечке провинился единственный банщик и его надо посадить в тюрьму, как быть, Мотелз?
— В нашем местечке? — переспросил Мотелз.
— В нашем, вашем, — закричал отец, — ну какая разница! — и вышел к себе в комнату.
Он сел в большое, глубокое кресло и с горечью подумал, что всю жизнь он мечтал увидеть на вывеске надпись: «Гозман и сын», а сын вот… И чем больше размышлял он о сыне, тем больше злился на Сему, как будто тот был всему виной.
На другой день, войдя в магазин, хозяин столкнулся лицом к лицу с мальчиком, и, хотя Гозман увидел Сему сегодня лишь в первый раз, он с непонятной раздражительностью прикрикнул:
— Что ты все время крутишься под ногами!
Старый Нос удивленно поднял брови, но промолчал и отошел в сторону. В течение всей недели Гозман избегал мальчика и, встречаясь, старался не смотреть ему в глаза. Но все же хозяина тянуло затеять с мальчиком разговор: еще теплилась надежда, что ответы его были лишь случайно хорошими ответами. Сглупи Сема хоть раз — и к нему вернулось бы расположение хозяина, но всего этого, как назло, не знал Старый Нос.
Гозман спрашивал у приказчиков, как работает мальчик, нарочито холодным и равнодушным голосом, надеясь услышать хоть одну жалобу. Но приказчики были довольны.
Хозяин посылал Сему делать кое-какие покупки для дома, ненужные покупки, желая проверить его честность. Но Сема аккуратно приносил сдачу — точно, копейка в копейку. Так неожиданно нарушил Старый Нос душевное равновесие старого купца.
Однажды, заметив, что Сема сидит со скучающим видом на лесенке, Гозман, притворно улыбаясь, спросил его:
— Где же твои веселые глаза?
— В моих глазах, — ответил Сема, — как раз столько веселья, сколько полагается на рубль, который мне дают.
И опять ответ этот разозлил хозяина, и опять оторопевшие приказчики, разинув рты, стояли вокруг. Надо было чем-то отбрить дерзкого мальчишку, но Гозман не нашелся, и деланная, деревянная улыбка появилась на его лице. Еще больше, чем раньше, хотелось ему осрамить мальчишку, уличить его в чем-то грязном и нехорошем, но повода не было. «Выгнать его ко всем чертям! Взялся на мою голову», — думал хозяин. Но он слишком хорошо знал, какие длинные и злые языки у приказчиков, и боялся подвергать себя бессмысленному риску…
Задумчиво чертя какие-то кружочки на листе бумаги, слушал Гозман очередной доклад конторщика Менделя.
Когда Мендель кончил, хозяин неожиданно спросил его:
— Как тебе нравится этот голоштанник?
Смекнув, о ком идет речь, Мендель предложил:
— Надо позвать его бабку.
Но Гозман отрицательно покачал головой:
— Хорошее дело! Ты что думаешь, я не могу справиться один с этим юнцом? Или я его выучу, или я его выгоню.
И с новой злобной энергией принялся хозяин осаждать мальчика туманными и путаными вопросами. Приказчики, которым и раньше приходилось испытывать на себе странные упражнения Гозмана, не видели в этом ничего хорошего.
— Изведет ребенка! — со вздохом говорил старый приказчик Яков. — Лучше б уж дрался. Меня в детстве колодкой били — и то легче.
Сему злили эти нападки. Он ходил по магазину, выкатывал ящики, вытирал пыль, сортировал обувь с постоянным чувством нервного ожидания, что вот, может быть, сейчас его окликнет хозяин и спросит… Впрочем, бывали дни, когда Гозман забывал о Семе, но он умел, добрый хозяин, нагонять упущенное…
— Мальчик, к магазину подъезжает помещик. Знаешь, как дверь открыть?
Сема смущенно смотрел на хозяина. Пыльная тряпка дрожала в его руке. Он не знал, как открыть дверь.
— Болтать мастер, — надменно сказал Гозман, обрадованный растерянностью мальчика, — к делу не принюхиваешься. Мендель, сбрось гривенник.
Сема улыбнулся.
— Что ты скалишь зубы? — опять рассвирепел хозяин. — Позор таких вещей не знать!
Он остановился, ожидая просьб, признаний, но Сема продолжал стоять молча и с вызывающим вниманием пристально смотрел в глаза господина Гозмана.
— Что ж ты молчишь? — прошептал Мендель. — Скажи: «Буду стараться». Ну?
Сема ничего не сказал. Хозяин повернулся на каблуках и быстро пошел к конторке.
Однажды, придя на службу, Сема встретился с Пейсей, Эта встреча удивила его.
— Ты что здесь делаешь?
— Я? — сухо переспросил Пейся. — То же, что и ты!
— Вот как! — удивился Сема. — Фрайман устроил?
— Фрайман. Только ты, пожалуйста, ко мне не приставай!
— К тебе? Да на что ты нужен?!
В первый же день Пейся заслужил неприязнь служащих. Все время торчал он возле конторки, угодливо и заискивающе глядя на хозяина. Насмешки Гозмана не обижали его: он льстиво улыбался и покорно кивал головой.
— Дурак ты! В хедере на тебя плевали и здесь плюют, — с искренним сожалением сказал Сема.
— Оставь ты меня! — нахмурился Пейся. — Что ты мне — опекун, что ли? Как меня учили, так я и делаю!
Яков насмешливо взглянул на спорщиков и, подойдя к Пейсе, серьезно сказал:
— Приказчиком быть хочешь?
— Очень хочу! — вздохнул Пейся.
— Стараться надо!
— А я стараюсь.
— Мало. Больше надо!
— А что еще? — с любопытством спросил Пейся.
Но ему не ответили. Пейся обиженно сжал свои тонкие губы и отошел в сторону.
— Когда так начинается — это плохо… — задумчиво сказал Яков.
— Почему? — спросил Сема.
— Может быть, и хозяином будет, а человек из него не выйдет. Низко голову гнет… А под тебя подкоп, — тихо добавил он. — Жди, выгонят!
— Мальчик! — послышался голос хозяина. — Мальчик!
Едва Сема успел повернуться, Пейся уж влетел в конторку.
Через минуту он вышел оттуда с сияющим лицом и, пряча в карман голубой конверт, гордо сказал:
— Велел письмо отнести. Гривенник за дорогу! Во-о!
— Ну и что? — холодно спросил Сема.
— К раввину письмо. И раввин за дорогу даст. Два гривенника будет!
— А ты его в плечо поцелуй. Пятак прибавит!
— Дурак! — зло проговорил Пейся и выбежал на улицу.
— Не умеешь ты жить, — сказал Семе конторщик Мендель, глядя на его залатанную куртку.
— Почему?
— Уж я не знаю. Хозяина почитать надо. О, это великая вещь — хозяин! Всех нас кормит.
— Ну, не даром же?
— Ясно, что не даром. А не захочет — бросит кормить. Другие найдутся. Хозяин — великая вещь. Если б ты понимал!
— А я понимаю.
— Ой нет! — вздохнул Мендель. — Что ты понимаешь? Если б ты понимал, ты бы немножко зажал себе рот. Сегодня ты мальчик, а завтра ты писец, а послезавтра ты приказчик. С головой — компаньоном стать можно!
— А я все делаю. Что прикажут — делаю.
— «Делаю»! — повторил Мендель. — Важно ведь, как делаю. Делать надо с улыбкой, с удовольствием, с почтением, тихо, как приличные люди. Вот возьми этого Пейсю, разве он умнее тебя?
— Ну?
— Ну и ну. Он уже получает не рубль, а два рубля.
— За что же это, — возмутился Сема, — за что? За то, что голову гнет и глаза веселые. Это мне нравится! Рубль прибавили!.. Ты что же, побоялся сказать? — обратился он к Пейсе. — Знаменитые секреты!
— А я тебе доносить должен! — огрызнулся мальчик. — Я же не такой шмендрик, как ты. Мне еще прибавят!
Но Сема не мог уже слушать. «Это не по правде, — говорил он себе, — не по правде, разве я меньше делаю? Так почему же ему да, а мне нет? Вчера ящики таскать — у Пейси живот болел, а рубль — ему. Почему же ему?»
Хозяин подошел к стойке и заговорил о чем-то с Яковом. Сема, неловко потолкавшись, тихо сказал:
— Господин Гозман, можно мне спросить?
Хозяина приятно удивил этот вежливый тон, и он недоуменно пожал плечами:
— Отчего нет, спрашивай!
— Почему ему да, а мне нет?
— Что ты говоришь, я не понимаю?
— Почему Пейсе…
— Ах, вот что! — Гозман насмешливо улыбнулся. — Ты хочешь знать почему? А разве я тебе должен давать отчет? Га? А завтра ты спросишь, почему я плачу Якову больше, чем Менделю. Га? Ты, наверно, забыл, что ты мальчик.
— Нет, я как раз хорошо помню, что я мальчик и он мальчик, только почему он… За что дается этот рубль?
Гозман кладет пухлую руку на плечо Семы и мягким, как ему самому кажется, голосом говорит:
— Так ты хочешь знать, за что дается этот рубль? У тебя любопытство твоего папы! Ну, слушай. У одного хозяина служили два мальчика. Одного звали Пуня и другого звали Пуня, и были они похожи как две капли воды. Только один Пуня получал рубль в неделю, а другой — два рубля. Тогда рублевый Пуня пришел к хозяину и сказал: «Почему вы мне платите меньше, чем ему? Мы оба мальчики, оба Пуни, одно дело делаем, а по-разному получаем». Хозяин ему ответил: «Ты видишь, вон там по дороге возы проехали, побеги узнать, что они повезли». Пуня рублевый догнал возы, спросил и вернулся к хозяину! «Это крестьяне повезли хлеб на ярмарку». — «Так, — ответил хозяин и обратился к Пуне двухрублевому: — А теперь ты лети и узнай, что повезли». Прошел час, другой. Пуня рублевый крутится и улыбается: он все узнал точно — нечего проверять! Но вот вернулся его товарищ. Он прибежал весь запыленный, вспотевший. «Что, Пуня?» — спросил хозяин. И Пуня сразу ответил: «Ничего, господин хозяин, я их догнал. Крестьяне везли хлеб на ярмарку. Просили по рублю за мешок. Я им дал рубль две копейки, и они уже завернули к нам во двор».
Окончив свой рассказ, Гозман медленно приглаживает усы, хитро улыбаясь, смотрит на Сему, на веселые лица приказчиков, потом, помолчав, спрашивает:
— Ну, ты понял, почему этому Пуне давали больше на рубль?
— Почему этому Пуне прибавили рубль, — ядовито говорит Сема, — я понял, и я к нему ничего не имею, но почему этому Пейсе прибавили рубль, я понять не могу.
— Твои уши слышат, что язык мелет? — кричит Гозман. — Ты, наверно, думаешь, что разговариваешь с водовозом. Ты, ты!.. — И, не найдя подходящего слова, хозяин тяжелой рукой хватает Сему за ухо: — На́ тебе за твои вопросы! На́ тебе за твои ответы! На́ тебе за твой дурацкий язык!..
Дверь открывается, и в магазин входят покупатели. Брезгливо оттолкнув в сторону Сему, Гозман идет им навстречу. Его покрасневшее от злобы лицо приветливо улыбается.
Сему никогда не били. Он был единственным ребенком в семье, и ему прощалось многое. Бабушка могла прикрикнуть, но рука ее ни разу не поднялась на внука. В нем было все самое дорогое: память о загнанном сыне и надежда на будущее. Не раз бабушка спрашивала себя: «А что, если б у Яши вовсе не было детей?» И ей становилось страшно от этой мысли. Она ворчала, называла внука Старым Носом, непоседой, дикарем, но внутри у нее жил целый мир невысказанных ласковых слов, и в этом мире Сема был «наш колокольчик», «наша травочка», «наш мизинчик».
Разве не горько, не обидно было ей вести своего единственного внука к Фрайману, делать его мальчиком на побегушках, ставить его под чужую руку? Однажды в жаркий полдень она встретила внука на улице. Сема нес на спине туго набитый мешок.
— Боже мой! — испуганно воскликнула она. — Как ты тащишь эту тяжесть?
Внук засмеялся:
— Это пух для подушек хозяину.
Но то, что мешок оказался легким, бабушку не утешило. Она с тоской смотрела вслед удалявшемуся малышку, и острая, щемящая боль не унималась в ее усталом сердце.
…Сема ушел из магазина раньше обычного. Приказчики утешали его: «Господи, ну кого не бьют», но он смириться не мог. Одинокий и грустный, бродил Сема по тихим улицам местечка, думая об отце, который так нужен здесь, так нужен!..
В местечко пришла весть, что проезжает государь император. Сначала не верили, потом поверили. В витринах появились портреты царя, ветер колыхал трехцветные флаги. Готовилась манифестация. Правда, царь проезжал не мимо местечка, а верст за сто от него. Но дух царя витал близко, и надо было дышать и радоваться.
Выставляя на витрину портрет государя, Сема внимательно посмотрел на его лицо. Тщедушная рыжая бородка, вздернутый нос и бесцветные вялые глаза Николая не вызывали в Семе никаких чувств, кроме удивления. Сема дышал, но не радовался.
Гозман строго осматривал служащих;
— Сегодня все должны блестеть. Чтоб у всех были веселые глаза. Слышите! Закрываем в два часа и идем в синагогу… А ты, — набросился он на Сему, — мудрец, что уставился в портрет, ты не видел своего государя? Где твои веселые глаза?
— Он их выплакал, господин Гозман, — тихо сказал приказчик Яков.
— Что ты сказал? — возмутился Гозман.
— Я сказал, что нужно иметь сердце и не мучить сироту, когда надо и когда не надо.
— Ой, я не выдержу, — притворно засмеялся Гозман и опустился на стул. — Яков, я тебе прямо скажу, если б твои сыновья не служили в армии, я бы тебя выгнал.
— Не волнуйтесь, господин Гозман, — спокойно сказал Яков, — они еще вернутся, и они еще, может быть…
— Что ты сказал? А ну, договори…
Яков отвернулся и махнул рукой:
— Время договорит, хозяин.
С испорченным настроением вошел в синагогу господин Гозман. Его люди — хорошие люди: умеют молчать, умеют отвечать, но что-то отвечать они стали не так, как нужно. Может быть, надо этого мальчишку убрать? Яблоко от яблони недалеко падает…
Вежливо здороваясь, прикладывая два пальца к котелку, он прошел в первый ряд и уселся в свое привычное кресло, рядом с Магазаником. Они сидели рядом уже двадцать пять лет.
— Читали последние газеты? — спросил Гозман у Магазаника.
— Вы же знаете, что я не читаю газет. То, что мне нужно знать, бог подсказывает.
— Если б я только слушал его подсказки, я бы уж давно вылетел в трубу.
— Но я не лечу?
— Вы — другое дело. У вас маленький оборот.
— Как — маленький? А что, у вас больше?
— Вы же считаете за деньги векселя, а я их не считаю, — сухо ответил Гозман и встал.
Молебен в честь проезда государя императора начался. После раввина должен был говорить Гозман. Он вытер платком руки и лоб, оправил жилет и, чуть-чуть сдвинув назад котелок, прошел к амвону[27]. Вокруг стихли. Женщины склонились с балкона, через перила, чтобы лучше слышать. Сема протиснулся вперед. Он увидел дедушку, стоящего в проходе. На нем был желтый чесучовый пиджак, заштопанные манжеты торчали из рукавов. Дедушка что-то шептал и пристально смотрел на Гозмана. Последнее время старик часто заходил в синагогу — его не боялись: он был тих и молчалив.
Подняв кверху руку, Гозман торжественно заговорил:
— Мы шлем пожелание здоровья нашему благочестивейшему монарху государю императору Николаю Александровичу, благословенному другу евреев. Волнуются наши сердца радостью большой, когда слышим о победах, что дарует провидение отчизне нашей. Мы воспитываем в наших сыновьях великую любовь к святой родине… Наши сыновья…
Неожиданно он умолк. Сидящие позади приподнялись со своих мест. Сема протиснулся сквозь толпу:
— Что такое?..
Около Гозмана стоял дедушка. Его серые глаза бессмысленно блуждали. Схватив Гозмана за рукав, дедушка, всхлипывая, заговорил:
— Сыновья?.. Где сыновья, я вас спрашиваю? Сыновья там — посмотрите! Разве вы не видите, где сыновья? И — боже мой! — их бьют, палками бьют и считают: раз, два, три!
Гозман оттолкнул дедушку и закричал:
— Что такое? Уберите этого сумасшедшего!
Дедушку схватили служки и повели. Сема стоял около Гозмана растерянный и испуганный.
Гозман зло взглянул на него:
— О чем ты думал? Он же мне испортил всю музыку!
Сема ничего не ответил и побежал за дедом. Все смотрели ему вслед, женщины плакали. Гозман опять поднялся к амвону и заговорил, но его слушали плохо.
Царь проехал мимо местечка. Но все осталось на своем месте. По-прежнему Гозман был Гозманом, а приказчик Яков — приказчиком Яковом. Сему рассчитали.
Так и не стал он ни мануфактуристом, ни обувщиком. У Пейси прибавилось работы, у Семы освободились руки. Куда теперь деть их? Больше всех расстроился Фрайман: он думал сунуть мальчика еще в один магазин, все было приготовлено, и вдруг такой провал. Ведь если прогнал Гозман — кто возьмет?
В метрической выписке Семы записано еще одно имя: Асир. Асир — значит счастливый. «Где же мое счастье, — спрашивал себя Сема, — за каким углом оно ждет меня?»
Сема вошел в комнаты, вымыл руки, поправил сползшую набок подушку на кровати дедушки и, сняв ботинки, принялся рассматривать свои босые длинные ноги.
Вскоре это занятие наскучило ему, и он подошел к зеркалу. Когда-то, в хорошие дни, он любил подолгу стоять возле зеркала, корча смешные и страшные гримасы, причудливо хмуря брови, выставляя вперед нижнюю челюсть. Любил он зачесывать наверх волосы — в эти минуты Сема казался себе взрослее, старше. Он очень хотел быть большим. Сема знал свое лицо наизусть и сейчас, с тоскливым любопытством взглянув на себя, он удивился; резкие морщинки легли у рта, нос вытянулся, щеки, покрытые коричневыми веснушкам, ввалились, и только большие глаза его, серые и угрюмые, блестели по-прежнему. «На черта стал похож, — зло подумал Сема, — цапля какая-то!»
Бабушка с волнением следила за ним. И в дедушке и в Семе она не любила одного — молчания. Молчание не сулит ничего хорошего. Наконец, не вытерпев, она спросила:
— Что ты ходишь из угла в угол? Почему ты молчишь? Случилось что-нибудь?
— Ничего не случилось. Не нравлюсь я Гозману. Рассчитал. Запах от меня плохой!
— Ты слишком много стал понимать, — сухо сказала бабушка. — В твои годы нужно уважать старших.
Сема ничего не ответил, и молчание его еще больше разозлило бабушку.
— Мальчик не держится на одном месте. На что это похоже? Куда это годится? Знал бы дедушка про твои фокусы… А что будет теперь? Ты, наверно, думаешь, что для тебя новые магазины построят. Ты, наверно, думаешь…
— Оставьте, — оборвал ее Сема, — я ничего не думаю.
За окном промелькнула широкая фигура Трофима. Увидев его, бабушка всплеснула руками и заворчала:
— Вот он идет. Что он крутится, этот русский? Только его не хватало, и сколько раз я уже говорила: он тебе не пара.
Трофим помешал бабушке. Она холодно взглянула на него и нехотя ответила на поклон. Подмигнув Семе, Трофим быстро засунул в карман желтую панамку, поставил на стол туго набитый узел и, обратившись к бабушке, сказал:
— Давайте присядем!
Сема повторил его слова по-еврейски.
— Какие у меня с ним дела? — недоуменно повела плечами бабушка. — Какие дела? — и села.
Трофим быстро развернул узел. Не глядя ни на кого, он вынул две пары теплого белья, синюю фланелевую рубашку, три пачки табаку и высокие блестящие калоши. Каждую из вещей он внимательно рассматривал и клал возле бабушки. Выложив все, он постоял с минуту в раздумье, потом, хлопнув себя по лбу, засмеялся:
— Самое главное забыл. — Он полез в карман и вынул свернутые в клубок шерстяные носки. — Мать сама вывязала, а я и забыл. Вот была бы обида!
Сема с удивлением смотрел на груду вещей.
— Галантерейный магазин… — задумчиво сказал он. — Можно открывать оптовую торговлю.
— Что он хочет? — растерянно спросила бабушка.
Сема не успел ответить. Трофим наклонился к ней и, указывая пальцем на вещи, тихо сказал:
— Сыну, туда. Понимаете?.. Туда, — повторил он и взмахнул рукой.
Но бабушка ничего не поняла. Взглянув на Сему, она спросила опять:
— Что он хочет?
— Ничего он не хочет. Сами не догадываетесь? Ведь это папе сделали посылку. Папе! — И, обратившись к Трофиму, Сема деловито спросил: — Это от себя?
— Куда мне, — засмеялся Трофим. — Это от нас!
Бабушка хотела что-то сказать, протянула руки к Трофиму, потом схватила коски и, прижавшись щекой к колючей шерсти, громко заплакала.
— Ну, это уж вовсе ни к чему… — проворчал Трофим. — И чего плакать? Вот народ!
— Это она от радости.
— Привычка у нас — от горя плачут, от радости плачут!.. Ну, как там твой хозяин?
— Рассчитали меня — вот что.
— Рассчитали? А ты зачем нос повесил? Подними сейчас же!.. Моисей вот привет шлет.
— А где он? — встрепенулся Сема.
— Где положено, — уклончиво ответил Трофим. — Жив, здоров, сам ходит, вам кланяется!
— Не взяли его?
— Какое там! Брали. Но что с ним сделаешь — в Трегубы возили, все в один голос говорят: Айзман, и только, даже бородавка на губе вроде отцовской.
— Здорово! — с восхищением воскликнул Сема. — Какой у нас Моисей, а?
— Тобой недоволен.
— Мной?
— Если, говорит, в нем есть кусочек от его папы, надо ему ремесло в руки. На фабрику Сему — так и пишет. Не выйдет из него купец, не та порода.
Услышав имя Моисея, бабушка подняла глаза:
— Что с Моисеем?
— Ничего! — радостно ответил Сема. — Все хорошо. А меня на фабрику.
— Что ты болтаешь? — встревожилась бабушка. — На какую фабрику…
— Ремесло в руки!
— Хорошее дело! Оттуда через полгода калеки выходят. Еще тебя там не хватало!
— Трофим говорит — меня там делу научат. А, бабушка?
Бабушка молчит.
— Трофим говорит — мастеровым я стану. А, бабушка?
Бабушка молчит.
— Ну, чего ты молчишь? — обиженно спрашивает Сема. — Разве лучше, чтоб на мне Гозман ездил? Посмотри на меня. Разве во мне не сидит кусочек от моего папы? И разве он плохой, этот кусочек?
Бабушка улыбается, смотрит на Сему, на Трофима и вытирает кончиком платка мокрое от слез лицо.
— Нет, внучек, он совсем не плохой!
— Ну, вот видишь! — загорается Сема. — Так почему ты думаешь, что мне нужно сидеть возле печки? А? Ты помнишь, что хотел узнать дедушка? Он хотел узнать, что такое хорошо. Он не хотел верить другим на слово. Узнал он? Нет. Так почему бы мне не попробовать? Может быть, я все-таки докопаюсь, где оно лежит — это хорошо!
— Дай бог, — тихо говорит бабушка.
Через два дня Сема был принят учеником на фабрику Айзенблита и в конторе получил свой рабочий номер. Рано утром прошел он в цех, с удивлением вдыхая незнакомый, крепкий и острый запах мокрой кожи.
Рабочие, которых он видел сегодня впервые, то и дело останавливали его, подробно расспрашивали о здоровье деда.
Все они, точно сговорившись, повторяли, что мальчик весь в отца: одни глаза, одни брови, — просто вылитый отец! Сема заметил, что людям было почему-то особенно приятно находить в нем это сходство, и какое-то неясное, новое, радостное чувство, названия которого он еще не знал, овладело им.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
«Что делает ребенок? Ребенок уже пришел?» Сема узнает бабушку по ее милым вопросам. И кого она спрашивает? Соседку по двору! Эта старая кочерга с папильотками должна знать, что бабушка его называет ребенком. И до каких пор это будет продолжаться, до каких пор будет продолжаться такое издевательство? Ребенок! Года два тому назад — это другое дело, но сейчас Семе уже, слава богу, пятнадцать лет, чтоб он жил до ста двадцати! Пятнадцать, а бабушка — никакого внимания!
Кажется, если б Сема сейчас был старше вдвое, для бабушки он оставался бы прежним ребенком, который спит раскрывшись, который не ест, а лемжает, который не пьет, а тянет, который не ходит, а летит. Вот такая теперь жизнь, можете любоваться и завидовать! Усы бы отпустить хоть какие-нибудь, даже самые рыжие, но как это сделать? Над верхней губой у Семы торчат три золотых волосика. Чтобы их увидеть, надо очень захотеть, надо подойти близко — и тогда… Ах, ну что об этом говорить!
Ребенок! Хорошо, если б бабушка говорила ему это на ухо, по секрету. Но у этой женщины нет секретов. Через всю улицу она может крикнуть: «Наш ребенок тут не проходил?..» А ребенок ходит длинный, худой, нескладный, и штаны на нем уже такие короткие, что их впору подарить младшему брату, если б он был. Хорошо иметь брата или хотя бы какую-нибудь сестру… Вот у мясника Шлемы не семейство, а целый клад: сын Пейся — это раз, сын Ицхок — это два, дочь Хиня — это три, дочь Злата — это четыре, и жена ходит беременная — это пять, а может быть, даже и шесть, если родится двойня.
Вот это жизнь!
В полдень Сема возвращается с работы домой, и не с кем слово вымолвить. Дедушка кричит, командует, что-то строит во дворе, но не узнает никого. Есть дед — и нет деда. Бабушка… У нее одно дело: она охает. Даже в самый хороший день она раскопает, о чем поплакать. Вот, например, сегодня. Бабушка вошла и, увидев Сему, всплеснула руками:
— Ты уже пришел? А я только что спрашивала соседку.
— Я уже слышал, — хмуро отвечает Сема, — лучше б вы не спрашивали.
Бабушка удивленно смотрит на него и, вдруг вспомнив что-то, идет на кухню:
— Ты же голодный, ребенок мой!
Сема молчит. Бабушка ставит на стол тарелку с зеленым борщом и сама садится рядом с внуком, пристально следя за каждым его движением. Изредка она произносит такие слова:
— А хлеб?
— А корочку?
— А картошечку?
— А капусту, это же свежая капуста!
Потом она встает, убирает тарелку и разражается речью:
— Мальчик, такой, как ты, должен иметь силы. А откуда они у тебя будут, если хлеба ты в рот не берешь, если корку ты не кушаешь, если картошку ты оставляешь, если свежая капуста для тебя не еда!..
Сема, тяжело вздохнув, опускает голову. Ох, этот обед — наказание какое-то. А бабушка говорит, говорит и вспоминает все его грехи: на прошлой неделе было мясо, так самое полезное, жир, он выбросил, в пятницу утром жарила картошку — вся сковорода осталась полной. Вчера он, правда, ел с аппетитом, но как он позволил себе стать таким голодным. Мог прийти раньше!
Сема молчит, и бабушка постепенно успокаивается, она вытирает фартуком вспотевший лоб, поправляет сбившуюся косынку и медленно опускает обеденную посуду в котелок с теплой водой. Что теперь делать? С бабушкой заключен мир до следующего обеда, дед спит, в комнате жарко. Сема встает, берет в руки книгу и идет к дверям.
— Куда ты? — испуганно спрашивает бабушка.
— К реке.
Ты будешь купаться?
— Наверно.
— Лучше не надо! — умоляюще говорит бабушка. — Кто купается вечером?
— Но сейчас же еще день! — возмущается Сема.
— Правильно, — покорно соглашается она, — когда ты войдешь в воду, будет еще день, но, когда ты выйдешь на берег, будет уже вечер.
Вот такая бабушка женщина…
У реки было так тихо и небо было таким высоким и прозрачно голубым, что Семе вдруг стало хорошо. Он быстро сбросил одежду и вошел в мягкую, теплую воду. Пройдя несколько шагни, он окунулся с головой, поплыл и выпрыгнул у зеленого островка посреди реки. Три грустные плакучие ивы, печально опустив ветви, глядели в воду. Они росли почти рядышком, так тесно прижавшись друг к другу, что Семе показалось, будто им холодно. Но было тепло. Ветерок, вкрадчивый и тихий, робко шевелил листву.
Сема лег на спину и, подложив руки под голову, закрыл глаза. С мокрых волос его медленно скатывались капли, он не замечал их и лежал так, ни о чем не думая. Ему просто было хорошо. И грязные, соленые кожи, и едкий запах краски, и мутная коричневая вода, стекавшая по желобку в цехе, и бабушка с ее докучливым обедом — все забылось. Ничего на свете не было, кроме этой тихой реки, и хотя в ней купали тощих усталых коней и босые женщины на берегу били о катки только что выстиранное белье, Сема любил свою родную речку, вот такую, какая она есть — маленькая, смешная речка Чернушка.
Так он лежал на воде и мечтал, что вот хорошо было бы, если б Чернушка впадала в какой-нибудь порядочный океан и Сема поплыл бы по ней и увидел живые, настоящие корабли и пароходы, живые, настоящие города и узнал бы, что там. Он понимал, что глупо мечтать об этом, что завтра все равно нужно идти на работу и Чернушка вовсе никуда не впадает, а попросту высыхает к середине лета… Но почему не помечтать — это ж ничего не стоит… «Что, тебе жалко?» — обратился он к самому себе и поплыл обратно к берегу.
В реке на сваях стоит серый деревянный дом, большой и заглохший, и какие-то зеленые и желтые речные травы взбираются на его стены. Здесь была когда-то водяная мельница, а сейчас хорошо, поднявшись на старую крышу, смотреть вокруг — вот конец Чернушки, вот соседнее местечко Райгородок, вот помещичья усадьба… Рядом с мельницей — маленькая кузня: почерневшая калитка с подковкой, прибитой на счастье; старый, слепнущий кузнец склонился над ведром, и ветер доносит к Семе шипение стынущего в воде раскаленного куска железа, запах речной сырости и дегтя.
Сема кладет на голые колени штаны и, задумчиво глядя на кузнеца, напевает песенку, услышанную на фабрике:
Слуха у Семы нет никакого, но что делать, если иногда человеку очень хочется петь? И Сема продолжает:
Поет Старый Нос, и очень ему жалко этого мальчика без подушки. Он уже собрался в третий раз затянуть сначала свою песню, но вдруг кто-то тронул его за плечо. Сема поднял голову — рядом с ним стоял Пейся в ярко-розовой рубашке навыпуск.
Внимательно оглядев Пейсю, Сема спросил:
— Скажи мне, пожалуйста, зачем ты напялил на себя эту розовую наволочку?
Пейся недоуменно пожал плечами:
— Во-первых, это рубашка, а во-вторых, я бы не сказал, что очень красиво сидеть без штанов.
Они помолчали. Пейся по-прежнему служил у Гозмана, по-прежнему весело врал, но многое изменилось в нем: надежды не оправдались, хозяйская милость исчезла, приказчиком его делать не торопились. Совсем недавно Сема помирился с Пейсей, и прежде всего он заметил, что Пейся всем говорит «вы». И Семе. Отчего взбрело это ему в голову, никто понятия не имеет. Но, если он хочет на «вы», пусть будет на «вы».
— Так что вы скажете? — улыбаясь, спросил Сема, натягивая штаны.
— Что я скажу? — переспросил Пейся. — Я скажу, что я только что подслушал интересный разговор.
Пейся умолк, ожидая, что Сема сейчас начнет просить его и умолять: расскажи, ради бога, какой это был разговор? Но Старый Нос решил не доставлять Вруну такого удовольствия и, хитро посматривая на Пейсю, молчал. Пейся кашлянул, оправил рубашку и задумчиво повторил:
— Да-а! Интересный разговор…
Сема продолжал молчать; подсучив штаны, он принялся рассматривать свои ноги с таким живым и острым любопытством, как будто увидел их впервые.
— Мизинец! — удивленно воскликнул он. — Посмотри, какой он скрюченный, ну точно старенькая старушка. Когда я был маленький, большой палец у меня назывался Мотл, а мизинец — Двойра.
Выведенный из себя, Пейся опустился на землю и, схватив Сему за ворот рубашки, быстро заговорил:
— Короче. Вы знаете слепого Нухима? Он же не какой-нибудь там полуслепой. Он слепой на оба глаза, и он ничего не видит уже двадцать лет. А жена его зрячая. И вы, наверно, помните, какое у нее лицо. Помните? Возьмем, во-первых, нос — у нее такой приплюснутый нос, как будто на нем кто-то сидел несколько дней. Возьмем, во-вторых, нижнюю губу — она кончается как раз у подбородка; можно подумать, что ее специально растягивали — для красоты! Так вот, сидит эта дамочка на скамейке со своим слепым мужем и говорит ему! «Мне тебя таки правда жаль! Твое горе, что ты меня не видишь. Когда я иду, так все оборачиваются. Я красива, как свет, и мне очень жаль, что ты не можешь получить удовольствие и посмотреть на меня». Вот это был разговор!
Сема смеется и уже с интересом смотрит в плутовские и насмешливые глаза Пейси:
— Тебя вместе с музыкантами надо посылать на свадьбы. Ты бы веселил народ!
Польщенный похвалой, Пейся гордо выпрямился, но Сема не умолкает:
— Так когда ты слышал этот разговор?
— Только что. Я же специально пришел к вам.
— Хорошо, Пейся, — лукаво улыбаясь, продолжает Сема. — А это ничего, что слепой в прошлом году умер?
Пейся растерянно разводит руками:
— Умер? Не может быть! Это другой слепой умер!
Постояв немного в раздумье, он вдруг обрадованно восклицает:
— Постойте, но жена его жива?
— Жива, — подтверждает Сема.
— А я что сказал! — уже высокомерно говорит Пейся и похлопывает Сему по плечу: — Жена жива!.. Идемте, уже поздно.
На мосту они расстаются. Прощаясь, Пейся шепчет Семе на ухо:
— Я могу сообщить одну новость только для вас.
— Какую?
Вы помните, у вас когда-то был компаньон Герш-водовоз?
— Помню, — улыбается Сема.
— Он уехал из местечка в прошлом году.
— Знаю.
— Так он вернулся.
И с торжествующим видом Пейся зашагал по улице. Сема направился домой. Подойдя к дверям, он осторожно, просунув палочку, сбросил крючок и вошел в коридор. «Кажется, уже спят, — подумал Сема. — Опять опоздал!» В эту минуту он услышал знакомый голос бабушки. Обращаясь к кому-то, она спрашивала:
— Ну, где же это может быть ребенок так поздно?
Сема тяжело вздохнул и вошел в комнату.
Говорят, что в больших городах каждая улица имеет название: ну, допустим, Крещатик, или Садовая, или еще как-нибудь. В Семином городе улицы не имели никаких названий, и даже при желании заблудиться здесь было трудно. Во-первых, всего три улицы, во-вторых, что такое улица? Если в местечко въезжают дроги, так задние колеса стоят на тракте, а оглобли упираются в конец улицы. Вот и гуляй по таким проспектам!
Около дома Магазаника расположился красный ряд, и тут было все: сладкий струдель на лотках, сельтерская вода с пузыречками, цукерки-подушечки, картузные лавки, монополька и даже штатский портной «Париж». Но больше всего любил Сема иметь дело с продавцами цукерок. Какие были цукерки! Подойдешь к лотку и сам не знаешь, что взять: желтая рыбка, зеленая лошадка, куколка, пистолет и двугорбый верблюд. Или купишь себе слона, и раз — откусил ему хобот. И все удовольствие стоит грош!
Даже теперь, возвращаясь с работы, Сема любил пройтись по красному ряду. Все-таки интересно смотреть, как какой-нибудь старый еврей продает конфеты: берет в потную жменю десяток цукерок и сует покупателю. А покупатель доволен — он обсасывает их тут же, не отходя от магазина, тем более что две конфеты он несет младшему брату, а что случится, если он за свои труды лизнет разок и его сласти? Ничего!
И еще интересно смотреть на парикмахера, когда он ставит пиявки. Раньше эти черные штучки плавают в банке, а потом их берут и лепят, допустим, вам на затылок. Красота! Не только молодые люди, вроде Семы, приходят смотреть на цирюльника, но даже солидным, положительным господам это очень интересно… Так раздумывая, бродил Сема по улице и вдруг увидел своего старого приятеля Герша. Он сидел около маленького лотка и, отгоняя широкой черной ладонью мух от своего товара, выкрикивал:
Видно было, что его очень клонит ко сну, и временами Герш переставал скликать покупателей, голова его падала на лоток, и он начинал так шумно храпеть и пыхтеть, будто хотел сдуть на землю весь свой знаменитый товар… Он постарел, Герш-водовоз! Куда делась его гордая осанка, где потерял он свой трубный голос? Кажется, еще вчера несся Герш на своей двуколке и, подгоняя кроткого Наполеона, кричал: «Вье! Вье!» — а потом ловко спрыгивал на мостовую, засовывал за голенище кнут и привычным движением вытирал вспотевшие, мокрые руки о хвост покорной лошади. Вье, вье — и вдруг тпру? Что же случилось с Гершем? Он осунулся, оброс, опустился, и даже из ушей у него торчат серые пучки волос.
Сема прошел перед самым носом отставного водовоза, но Герш даже не взглянул на него. «Э-э, — подумал Сема, — старые счеты: он боится, что я потребую долг. Чепуха, кто теперь будет спорить из-за трех грошей?»
Но вот и сам Герш заметил гуляющего подростка. Он сразу оживился при виде покупателя и весело затянул:
Сема порылся в карманах, вытащил тяжелый пятак и подошел к купцу:
— Дайте мне две кисленькие конфеты.
— Если две кисленькие, — заискивающе сказал Герш, — то надо еще одну сладенькую, на закуску!
— Хорошо, — согласился Сема и протянул монету.
Герш внимательно осмотрел пятак и, спрятав его в карманчик люстриновой жилетки, принялся с особым усердием отгонять мух. Но Сема не уходил: он знал, что вся его оптовая покупка стоит грош и ничего не случится, если он все же потребует сдачи.
— Сдачу? — удивленно спросил Герш и вздохнул: — Опять давать сдачу! — Отсчитывая деньги, он мечтательно произнес: — Эх, если бы я всю жизнь не давал сдачи, я бы был самый богатый человек на свете.
Сема засмеялся:
— А вы меня не узнаете, мосье Герш?
— Что значит, я тебя не узнаю? — обидчиво спросил водовоз. — Это меня не узнают!.. Был раньше человек, хозяин — сглазили. Ведь вы все завидовали мне, — вдруг закричал он, — вам всем хотелось сесть на мою бочку!..
— Да, — покорно согласился Сема. — И какая была бочка и какие были обручи!..
— А какой был Наполеон, — мечтательно произнес Герш, — ах, какой это был Наполеон! Прямо не лошадь, а целый конь!
— Где же он?
— Нету. Сдох… А какие у него были глаза! Он же все понимал. Вы поверите, когда у меня не брали воду, так у него слезы капали. Вот такие слезы, как яйцо. Чтоб у лошади было вдруг сердце! Это, наверно, единственная лошадь с добрый сердцем. Давал ей овес хорошо. Не овес — тоже хорошо. Сено? Пожалуйста… — Он тяжело вздохнул. — Ну, а ты все живешь? — вдруг с какой-то неожиданной обидой в голосе спросил Герш и замолчал.
Сема понял, что разговор окончен, и медленно побрел домой. «Вот тебе и Герш! Где же счастье Герша? — думал Сема. — Старость, а где его теплый кров, и почему в местечке так мало людей, счастливых надолго?»
Задумчивый, вошел Сема в дом, вымыл руки и присел к столу.
Бабушка с кем-то разговаривала на кухне. Сема подошел к окну — из лесного склада вывозили на телегах обаполы, хозяин вышел на улицу проводить в добрый путь покупателя. «Я это уже видел», — подумал Сема. Почти все, что он видел сегодня, он уже видел вчера или позавчера. Встречал ли он учителя из хедера, приказчика Якова или самого Магазаника — он знал заранее, что скажет или сделает любой из них.
«Все это уже было, — думал Сема, — все это уже было». И только то, что он слышал на фабрике, — он слышал впервые. Рабочие говорили друг с другом быстро, какими-то забавными прибаутками, смеялись, вспоминая далеких друзей. Слова их бежали куда-то мимо Семы, но, непонятные и значительные, они волновали его. Порой ему хотелось вмешаться в разговор, но он боялся, что ляпнет что-нибудь не к месту и озорные сапожники засмеют его. Он слушал и молчал.
Ему очень хотелось пригласить в гости кого-нибудь из них, особенно Залмана и Лурию — друзей отца, но он знал, что бабушка избегает встреч с ними. С эгоизмом несчастной матери в каждом из оставшихся на свободе друзей Якова она видела виновника его тяжелой доли. «Почему он там, а они тут? Он один страдает за всех!» — так говорила бабушка. Но Семе было очень хорошо с ними. И они, будто угадывая его желание, часто и подолгу рассказывали об отце. Сема слушал их, закрывал глаза, и ему было очень горько, что он не может себе представить его. Были какие-то смутные очертания, но не было живого отцовского лица, его серых насмешливых глаз, его быстрых, веселых рук, которые так часто ласкали сына.
Около часа стоял он с закрытыми глазами у окна. Бабушка, войдя в комнату, испуганно вскрикнула и подбежала к Семе:
— Что с тобой? Случилось что-нибудь?
— Ничего, — тихо ответил он.
— Я знаю твое «ничего»! — не унималась бабушка. — Ничего — это значит: тебя уже опять рассчитали.
Сема рассмеялся:
— Не рассчитали… И давайте кушать. — Он знал, что такой просьбой можно мгновенно успокоить бабушку.
Суетясь у стола, она рассказывала ему последние дворовые новости:
— Солдатка Фекла получила письмо из лазарета с черной печатью. Ты подумай, так-таки убивают направо и налево. А в присутствиях сейчас почти не смотрят и только говорят: «Годен, годен!»
— Война, — согласился Сема, осторожно отодвигая тарелку.
— А Фрейда видела сон, будто по местечку бегут крысы, целое большое стадо. Жирные, тучные. Наверно, еще будет голод!
— Может быть… Я сегодня видел Герша. Вернулся, торгует конфетами в красном ряду.
— Ай-я-яй! — сокрушенно вздохнула бабушка. — Конец свету приходит. Человек же имел свою лошадь! Целое состояние! — Неожиданно она умолкла, сосредоточенно прислушиваясь к чему-то. — Так я и знала, — воскликнула бабушка, — она уже там!
— Кто?
— Кошка на кухне! — крикнула бабушка и, схватив палку, выбежала из комнаты.
Сема подошел к постели деда. Сколько раз стоял он здесь, тоскуя, надеясь и ожидая! Сколько раз думал он, что вот сейчас встанет балагур-дед, встанет, ущипнет Сему за подбородок и скажет:
Дед лежал с открытыми глазами, но они никуда не смотрели, — казалось, что он спит…
Все чаще думал Сема об отце и все чаще завидовал Пейсе. Конечно, мясник Шлема не бог весть какой умница, но Пейсе он — родной отец, и разве даст он его кому-нибудь в обиду? Ни за что! Если б сегодня Сема узнал, как пройти в далекое сибирское село, он без страха ушел бы отсюда. В его годы можно уже делать такие дела! Но писем от Якова не было, страшные сны приходили ночами к бабушке, и она уже не надеялась увидеть сына.
Только на фабрике говорили об отце, как будто он на минуту вышел за ворота. «Придет твой отец, — утешали Сему, — не так быстро человек падает!» Сему удивляло внимание незнакомых, чужих людей. Что он им — внук, племянник, брат? Нет, он им просто Сема. Так в чем же дело? Разве у них других забот нет? «Тут что-то есть, — размышлял Старый Нос. — Тут есть какой-то большой секрет…» И, ложась спать, он хотел, чтобы скорее прошла ночь, потому что скучно спать, а там, в цехе, каждый день — новость.
Когда Сема пришел впервые на фабрику, он оглянулся и чуть не спросил, где здесь дверь. Ему хотелось уйти поскорее. Где же машины, где же эти знаменитые механизмы? Днем и ночью горят лампы; на маленьких табуретках сидят сапожники в толстых фартуках; над столами склонились закройщики. Рядом мочат кожу. Мальчишка с веснушчатым лицом собирает на полу обрезки картона. В воздухе сладковатый запах клея, серые облака табачного дыма. Кто-то напевает песенку, кто-то разговаривает, не вынимая мелких гвоздей изо рта, кто-то свистит. И кругом стук молотков и монотонный треск машин.
Где тут дверь? Ведь этот сумасшедший дом в десять раз хуже лавки Гозмана.
— Ша, мальчик! — успокоил вдруг Сему старый человек в очках, с коротким и широким ножом в руке. — Я Залман Шац. Вот этим ножом я крою товар. Допустим, шевро Блюменталя или хром Фрейденберга, и, кроме того… — он склонился к Семе, — и, кроме того, мы были уж не такие большие враги с твоим папой!.. — Он засмеялся. (И Сема облегченно вздохнул.) — А то, что ты видишь, — продолжал старик, — это кожевенно-обувное производство. Ну, что я могу сделать? — Шац растерянно развел руками. — Вот такое оно есть, хвороба на его голову!
Так начался первый день. Рабочие провожали Сему испытующими взглядами. Он чувствовал, что к нему присматриваются. Залман Шац то и дело отрывался от доски и искоса поглядывал на Сему. После работы он задержался, вымыл в каком-то желтом ведре руки и, вытирая их, крикнул:
— Сема, можешь вылить это ведро!
Сема выполнил приказание без большого удовольствия. Шац — закройщик, и таких, как он, здесь человек двадцать, сбивщиков тоже не меньше, и есть же еще отдельщики! Если каждый будет его посылать с ведром, то как же ремесло попадет в руки? Поставив пустое ведро, Сема присел возле старика.
— Молодец! — сказал Шац.
— Почему мне не оказать вам любезность, — степенно произнес Сема.
Залман засмеялся:
— Хороший ответ… Ты знаешь, — сказал он уже серьезно, — человек не должен никогда допускать, чтоб ему садились на шею. Ты понимаешь? Это же неудобно, если у тебя вдруг сидят на шее. Но человек должен уметь делать все. Ведро вынести — пожалуйста. И пол помыть, и дрова порубить… Белые руки — это большое горе!
Их беседу прервали. Какая-то женщина с носом, похожим на клюв, вошла в цех и удивленно спросила:
— А дома вам мало места? Или завтра вы не успеете наговориться?
Шац не ответил, и они оба вышли на улицу.
— Кто это?
— Его мамаша.
— Чья?
— Ты еще успеешь узнать.
Больше Залман ничего не сказал, и они молча расстались.
Через несколько дней к Семе подошел паренек с лицом, покрытым светлыми веснушками, как будто его только что окунули в кастрюлю с манной кашей.
— Будем знакомы, — важно сказал он по-еврейски.
— Пожалуйста, — согласился Сема. — Гольдин.
— Антон Дорошенко.
Сема вопрошающе взглянул на пария:
— Что это за еврей с таким именем?
Антон засмеялся:
— Я как раз не еврей, но я ученик Шаца.
Дорошенко уже был на верной дороге. Он пришел на фабрику год назад, бегал за обедом мастеру, за ключами хозяина, писал адреса на конвертах, подметал цехи, а теперь вот его подпустили к стойке.
— Глаза нужно иметь! — поучал он Сему. — Все время смотри. Не бойся, не устанут! Вот я уж скоро строчить на машине буду.
— На машине? — с завистью переспросил Сема.
— А ты что думаешь? — Антон быстрым движением схватил со стойки кусок товара и протянул его Семе: — Что это такое?
— Кожа.
— Чудак! — возмутился Антон. — Это опоечный хром. Идет на тонкие изделия. Есть еще шеврет. Есть еще выростковый хром, идет на сапог, на крестьянский ботинок. Понял?
— Понял, — тихо произнес Сема. Никогда еще в жизни не испытывал он такой робости.
— А что такое брисовка, знаешь?.. — с радостью продолжал свой допрос Антон. — Эх, ты! А самая знаменитая подошва чья? Радиканаки!
«Брисовка, шеврет, радиканаки, — с тоской повторял Сема, уже испуганно глядя в разгоревшиеся глаза Антона. — Что он хочет от меня, этот еврейский Антон?»
— Может быть, на сегодня довольно? — застенчиво спросил Сема, чувствуя себя глупым и маленьким.
— Довольно, довольно! — снисходительно согласился Антон. — Это я так, любя. Смотреть надо!
Шац, молча наблюдавший за подростками, подошел к столу.
— Ты видишь эту фигуру? — сказал он, указывая на Дорошенко. — У меня последние волосы выпали, пока этот господин научился отличать козла от хрома!
Сема хотел было спросить, как это можно перепутать козла с сортом кожи, но быстро догадался, что речь идет о каком-то другом, незнакомом ему козле, и, покраснев, отошел в сторону.
Несколько месяцев Старый Нос бегал от рабочего к рабочему. Все относились к нему внимательно. Хотелось поскорее получить ремесло в руки. Кого просить об этом? За все время Сема лишь однажды видел хозяина. Господин Айзенблит приехал в блестящем лакированном фаэтоне с кучером, похожим на толстую женщину. Ловко спрыгнув на тротуар, он прошел в свой кабинет, о чем-то пошептался с бухгалтером и потом вышел к рабочим.
На нем был чесучовый пиджак и белая пикейная жилетка с перламутровыми пуговицами. В руках у него была коричневая палка. Боже мой! Никогда в жизни Сема не видел такой палки. По ней ползли какие-то золотые змеи; серебряные дощечки с загнутым углом блестели на солнце, а ручка была белая, из настоящей слоновой кости. Подумать только, где-то в Африке ловят слона, вырывают у него клыки и делают Айзенблиту ручку на палку. Восхищенный, стоял Сема, но хозяин, чем-то недовольный, быстро шагал из цеха в цех, морщился и все время повторял:
— Что вы закрылись так? Ведь нет никакой атмосферы!
В тот же день хозяин уехал. Говорили, что он делает большие дела в Одессе и Киеве… А фабрика — это так просто. Она же ему не мешает? Потом Айзенблит играет в шмен-де-фер — загляденье! Стоит посмотреть. Рядом с ним лежит лопатка, и он все время загребает банк. Хозяин уехал, и Сема никак не мог угадать, кто же здесь старший.
Залман Шац поучал его:
— Что говорят — делай. Так ты узнаешь еще что-нибудь. Пройдет время, и через много лет ты вдруг скажешь себе: «Э, хорошо, что я как раз умею резать картон на стельки». У человека, Сема, ничего не пропадает, все за ним идет.
Сема соглашался, но ему очень хотелось догнать Антона, который каждый день серьезно и строго говорил с ним, щедро вываливая на новичка десятки новых загадочных слов… «И откуда он все знает?» — с тоской думал Сема.
Иногда в цех заходила старая женщина с клювом и сердито смотрела на рабочих.
— Кто это? — спрашивал Сема у Антона.
— Да его ж мамаша!
Женщина подошла к Шацу и что-то сказала ему, указывая на Сему. Шац утвердительно кивнул головой. «Мамаша» ушла, и Залман рукой поманил к себе Гольдина:
— Ну, для начала подойдет и это. Сядешь на каблуки!
— Что это значит? — растерянно спросил Сема, поднимаясь с табуретки.
— Будешь собирать каблук. За сборку каблука две копейки в карман! Поучишься — перейдешь на сбивку. Еще поучишься — на отделку.
Радостно взволнованный, Сема с нетерпением ждал конца работы. После звонка он первым убежал домой.
— Ну, бабушка, — весело сказал он, входя в комнату, — я уже сажусь на каблуки.
— Что такое? — удивилась она.
— Буду делать каблуки.
— Каблучник! — со вздохом произнесла бабушка.
Лицо ее стало таким печальным, что Сема не решился больше говорить о своем успехе.
Вскоре Сема научился собирать каблук, и ему стало легче разговаривать с Антоном. К тому же Антону надоела серьезная роль учителя. У него был приятный, мягкий голосок, и он со вкусом пел какие-то озорные песни. Это занятие ему нравилось, и рабочие любили слушать его. Успел Сема ближе познакомиться с «мамашей». Женщина с птичьим клювом оказалась матерью хозяина. Она говорила, что любит всегда быть среди людей и поэтому здесь ей приятнее, чем дома. Но Сема уже знал, почему старуха торчит на фабрике.
Она, конечно, не вмешивалась в хозяйство. Избави бог! — это дело мужчины. Но, когда Сема принес приемщику партию готовой обуви, «мамаша» вырвала из его рук дамскую туфлю и закричала:
— Взгляните на этот каблук! Куда он смотрит? Он же косой какой-то! А этот каблук так скривился, как будто он хочет спать. А почему шатается этот каблук? Он пьяный? Чья это работа, я спрашиваю?
— Купера, — сообщил Сема, — он попросил меня отнести.
— Бери это и отправляйся назад, — строго сказала «мамаша», отодвинув в сторону оторопевшего приемщика и смахнув прямо в мешок обувь со стола. — Ты подумай сам, — обратилась она к Семе, — они хотят его сделать нищим! Где еще платят одиннадцать копеек за сбивку пары, а где платят шестнадцать копеек за отделку? Я мать, я женщина добрая…
Сема больше не слушал ее. Если человек все время кричит: смотрите на меня, я добрый, смотрите — я всех люблю, то от него ничего хорошего уже ждать нельзя…
В среду платили жалованье, и Сема с удивлением заметил, что «птичий клюв», как и в прошлый раз, сидит около кассира и отбирает у рабочих какие-то деньги.
— В чем дело? — тихо спросил Сема у Шаца. — Почему она хватает из рук?
— Почему? — переспросил Залман и улыбнулся. — «Мамаша» нам занимает деньги. До получки! Она одалживает, допустим, двадцать рублей на пятнадцать недель. Каждую неделю ты должен дать два рубля. Понял?
— Так получается ведь не двадцать, а тридцать!
— А ты что хочешь?
Когда Сема отходил от кассы, старуха задержала его. Она ткнулась клювом в ведомость, потом улыбнулась, и кадык испуганно вздрогнул на ее тощей шее.
— Если у тебя будет нужда, я всегда рада помочь.
— Спасибо, — вежливо сказал Сема, — сейчас мне как раз не нужно.
«Мамаша» сразу перестала улыбаться, и лицо ее стало серьезным и строгим. У Семы возникло огромное желание — просто так схватить ее за нос, но он знал, что шутка эта может окончиться плохо, и, поклонившись, вышел из конторы. Уже было ясно, что служба у Айзенблита не предвещает ничего хорошего. «Зато я каблучник!»— попробовал себя утешить Сема, но тут же он вспомнил разговоры «мамаши» о пьяных каблуках, и ему стало скучно.
Все-таки у Семы отцовская голова! Другой бы сидел на каблуках полгода, а может быть, даже целый год. Но у Старого Носа не такой характер — у него душа не лежала возиться с несчастными каблуками так долго. И он перешел на сбивку. Нельзя сказать, что он сразу стал каким-нибудь там особенным сбивщиком. Но три пары в день он сдавал приемщику, а три пары — это тридцать копеек… тоже не идти пешком! Залман Шац радовался его успехам. Поглаживая серые пушистые усы, он говорил:
— Вот ты уже без пяти минут мастер. Твой отец имел дело с латками, а у тебя в руках новые штиблеты!
Рабочие, смеясь, слушали старика и с любопытством смотрели на Сему. Коренастые, широкоплечие, с маленькими русыми бородками, они были похожи на финских рыбаков больше, чем на евреев местечка. Семе казалось, что пусти их на плоту в открытое море — всё в порядке, они вернутся домой не с пустыми руками! Привычные комнатные друзья дедушки всегда жаловались: то им жарко, то им холодно, то они заработали меньше, чем могли, то они потеряли больше, чем имели. Все это надоело Семе. «Будьте здоровы с вашими охами», — думал он и с интересом вслушивался в разговоры новых знакомых.
Старый Нос даже завидовал им. Веселые люди! Оказывается, еврей может жить и без охов. Нередко Сема оставался допоздна в цехе, усаживался на высокий табурет и с восторгом следил за работой сдельщиков.
Это была любимая песенка сапожника Лурии. Он напевал ее, покачивая в такт головой, изредка взглядывая на Сему, и хитро подмигивал ему: не унывай, мол, говорил его взгляд. Чтоб заработать, имею две руки и на каждый палец по сыночку! В другом углу склонился над машиной Антон. Мягкий свет лампы падал на его мальчишеские худые щеки. У стола стоял высокий, похожий на раввина Залман Шац с лохматыми, свисающими на глаза бровями. Можно было подумать, что он молится, но в руке его, перевязанной на ладони серым куском полотна, был зажат нож. Залман кроил товар. Изредка они переговаривались. И вдруг оказывалось, что за день перед глазами Семы прошло много смешного, жалкого, любопытного, а вот он смотрел и ничего не увидел.
— Большой умница этот Эля, — смеясь, говорит Антон. — «Мамаша» пришла и спрашивает, который час. Все говорят — девять. Ну девять так девять. Кажется, хорошо? Нет. Вскакивает Эля и кричит: «Четверть двенадцатого».
Сема уже хорошо знал, что каблучник Эля, не к месту сообщивший хозяйке точное время, теперь уж приобрел прозвище: Четверть Двенадцатого.
— Ну, а как вам нравится этот толстый Калман? В лавке у девочки спрашивают, что она любит кушать, встает из-за прилавка Калман, которому в субботу сто лет, и тоненьким голоском сообщает: «Я люблю рыбочку!» Как будто его спрашивали!
Сема, смеясь вместе со всеми над глупым приказчиком Калманом, который похож и на комод и на перину сразу, знал, что Калмана уже больше нет, а есть Рыбочка. Хорошая рыбочка, с таким животом и с такой, извиняюсь, лысиной!.. В цехе еще долго смеялись и опять вспоминали какие-то смешные истории и опять смеялись с таким аппетитом, что у Семы на глазах выступали слезы, начинало колоть в боку и дышать становилось совсем невозможно. А когда появлялась «мамаша», они разговаривали с ней вполголоса, вежливо и даже почтительно, но у них были такие задорно-хитроватые лица, как будто они знали что-то очень важное, чего хозяйка еще не знает. Так разговаривают с приказчиком, которого хозяин решил рассчитать, и все уже знают об этом, кроме самого приказчика. Приказчик еще очень важен, дуется, говорит сквозь зубы, что-то нехотя обещает, и люди почтительно слушают, кивают головой и думают: «Дуб! Ты можешь уже не так ломаться. Все равно — последний день!»
Сема заметил, что и в горе новые друзья оставались веселыми, как будто они наверняка знали, что за тяжелой пятницей придет легкая суббота. Сегодня вечером, когда в цехе осталось совсем мало людей, Антон вытащил из кармана аккуратно сложенный листок и принялся медленно читать вслух. Это было письмо от брата из действующей армии.
— «Поклон нам, — писал он, — дорогие, и я даже точно не знаю, как я сейчас называюсь. В один раз я не могу это написать. Короче говоря, поклон вам от рядового пятого пехотного, армии его императорского величества государя всероссийского и царя польского, великого князя финляндского и прочая, прочая, прочая, полка. Пока я выучил свой чин, с меня стекла одна бочка поту и еще маленькое ведерко…»
Так было написано все письмо. Выслушав до конца солдатское послание, Лурия задумчиво почесал затылок:
— Говорят, что скоро будут брать ратников второго разряда. И мне, значит, надо выручать сына. Но как я пойду к Фрайману, если я все время гнал его от себя?
Сему обрадовала возможность оказать услугу. Он легко спрыгнул с табуретки и подбежал к Лурии.
— Моя бабушка, — заговорил он торопливо, — с Фрайманом вот! — он поднял два пальца. — Я вам сделаю дело!
Лурия недоверчиво взглянул на Сему и спросил:
— Ты сделаешь?
— Да, — обидчиво повторил Сема, уже сам немного сомневаясь в успехе, — я сделаю дело!
Когда начались мобилизации одна за другой, Фрайман понял, что терять время нельзя. Он оставил в покое местечковых мальчиков, забросил свое маклерское дело и принялся обрабатывать призывников. Его быстрый и легкий ум находил тысячи способов избавления от окопов, и так как никто очень не хотел стать героем, у Фраймана сразу нашлась прибыльная работа. Он начал соперничать с местным аптекарем и, слава богу, небезуспешно.
Аптекарь устраивал по знакомству грыжу, делал желтуху, давал нюхать какие-то страшные порошки, а экзема у него получалась — на загляденье! Надо было только иметь ржавый гвоздь и баночку какой-то мази. Но драл аптекарь с каждого три шкуры. Никакой совести не было у этого проклятого фармацевта. Фрайман пошел людям навстречу, он устраивал освобождение от призыва наверняка, без боли и в два раза дешевле.
Что же делал Фрайман? Во-первых, у него была компания, во-вторых, надо было видеть этих красивых компаньонов. Говорят, что, когда бог их произвел на свет, он испугался, схватил вещи и спрятался в раю. Такие это были красавцы!
Милых молодых людей собрал Фрайман. У одного было отбито легкое, и он каждую секунду раскрывал рот, как щука, брошенная в миску с водой. У другого, когда он ходил, правая нога подпрыгивала до потолка, и можно было подумать, что она хочет вырваться и убежать в другое место. У третьего было два глаза, так один смотрел на речку, а другой — в поле. Может быть, это даже удобно, но таких почему-то не брали служить…
Эти симпатичные женихи назывались «гееры». Они ходили в присутствие. А те, которые уклонялись от службы, назывались «штееры». Они стояли. Они не ходили в присутствие. И чтобы геер пошел за штеера, нужен был Фрайман, умеющий сторговаться и сделать дело.
Просители приходили к Фрайману, и он, как какой-нибудь большой чин, говорил:
— Предъявите ваш вид на жительство.
Внимательно изучив паспорт, он спрашивал:
— Вам отсрочку или белый билет? — И, мельком взглянув на клиента, он небрежно бросал: — Вам, кажется, будет к лицу тридцать седьмая статья!..
Затем начинался торг. Холодный и бесстрастный, сидел Фрайман, равнодушный к тревогам просителя. Медленно поглаживая усы, он говорил:
— У меня цена без запроса. И я не один. Я там мажу, и я тут мажу. И я наизусть уже знаю все статьи.
Вскоре достигалось соглашение, и один из компаньонов после ухода клиента принимался по чужому паспорту зубрить свои имя, фамилию, приметы.
…Прежде чем затеять с Фрайманом разговор относительно сына Лурии, Сема держал совет с бабушкой и Пейсей. С бабушкой потому, что она бабушка, и с Пейсей потому, что он все же торговый человек.
Бабушка отнеслась к его затее более чем сдержанно:
— Я бы на твоем месте не лезла в чужие дела. Тебе они много помогают?
— А ремесло откуда? — возмутился Сема.
— Подумаешь, жара в печке! — И бабушка пожала плечами, ничего не прибавив к этой туманной фразе.
Пейся оказался сговорчивее:
— Конечно, нужно пойти к Фрайману. Он у отца покупает мясо и очень любит филейную часть, — добавил Пейся, как будто знать это Семе совершенно необходимо.
— А много он возьмет?
— Возьмет? Взять нужно уметь. Два брата получили наследство, два брата и сестра. Сестра была добрая и отказалась от своей части. А братья были злые, и они погрызлись из-за ее доли. Тогда раввин их помирил.
— Как?
— Он взял себе третью долю.
Сема с удивлением взглянул на Пейсю. Розовая рубашка испачкалась, запылилась, и цвет ее определить было уже невозможно.
— Это та самая наволочка? — спросил Сема.
— Нет, — спокойно ответил Пейся, — это другая. Ту я подарю вам на именины.
Друзья вместе направились к Фрайману. Он встретил их вежливо, с оттенком растерянности и удивления:
— Что такое? Насчет работы?
— Нет, — мягко ответил Сема, — насчет призыва.
— А при чем тут я? — возмутился Фрайман. — И потом вы же непризывной возраст!
— А если сложить вместе? — запальчиво спросил Пейся.
— Ша! — прикрикнул на него Сема. — Дай поговорить с человеком… У нас есть двоюродный брат — дедушкиной сестры дочери сын.
— Крупное родство! — не удержался Пейся.
— Так вот, — продолжал Сема, — как помочь?
— Он здоров? — деловито осведомился Фрайман.
— Не очень.
— Язвы у него нет?
— Чего нет, того нет! — вздохнул Пейся.
— А деньги?
— Немного.
— Что же вы хотите, — удивился Фрайман, — язвы у человека нет и денег тоже нет! Что же у него есть? — Он помолчал с минуту, — Как-нибудь особенно помочь я не могу. Но все-таки… Я дам вам одно военное лицо, и пусть ваш родственник пойдет к нему с кем-нибудь, кто знает по-русски, и скажет, что от меня. Военное лицо запишет фамилию. Гарантии я дать не могу, но может быть… Придется всунуть в его собаку рублей двадцать.
— В собаку? — встревожился Пейся.
Но Фрайман не удостоил его ответом. На маленьком листке маклер написал адрес.
— Это в городе? — спросил Сема.
— А где же?
Они простились. Выйдя на улицу, Сема спрятал в карман листок и посмотрел на Пейсю:
— О чем ты думаешь?
— Я думаю, что можно взять собаку и всунуть ее в трубу, или в колодец, или в яму. Но как это всунуть в собаку двадцать рублей — понятия не имею. Если б хотя бы было благородное животное, но собака?..
— Довольно! — прервал его Сема. — Сын Лурии едет в город, и я еду с ним. Я знаю по-русски.
— Кажется, я еду тоже, — медленно произнес Пейся, с тревогой глядя на товарища.
Но Сема уже не слышал его. В город! В город! В настоящий город, с улицами и с конкой. Хоть на один день, хоть на один час!..
Взрослые люди не бегают. Но в этот день Сема как-то забыл, что он взрослый человек. Только что его видели возле базара, а через пять минут он уже сидел дома у Лурии. Удивленный сапожник не верил своим ушам: неужели этот мальчик сумеет сделать дело? Но Сема так рассудительно и спокойно рассказывал о беседе с Фрайманом, что Лурия уже видел своего сына Биню навеки освобожденным от военной службы. Один лишь Биня, молчаливый и малоподвижный, недоверчиво смотрел на Сему, уверенный, что мальчик хочет поживиться возле чужого горя. Говорил он медленно, растягивая слова, припевая, и Семо казалось, что он спит стоя.
— Папа, — спрашивал он, — так вы хотите, чтоб я ехал ним?
— Попробуй, — отвечал отец.
— А в чьем кармане будут деньги? — тревожился Биня, сердито глядя на Сему.
— В твоем, в твоем! — успокаивал его отец.
Но Биня опять недоверчиво качал головой и щупал Сему испуганными глазами. Он был уверен, что Сема — жулик и обязательно обманет его… Сема вздохнул и обиженно отошел в сторону: он и раньше слышал, что у Бини нет лишнего ума. Но сегодня Сема убедился, что у него и на самого себя ума не хватает.
Оставалось еще получить разрешение «мамаши» на поездку в город. Приняв кроткий, смиренный вид, Сема вошел в контору. «Мамаша» стояла у окна и, подняв на свет кредитку, рассматривала водяные знаки.
— Что еще? — строго спросила она, увидев Сему.
— Еще, — пустился на хитрость Сема, — я хотел попросить два рубля взаймы.
«Мамаша» испытующе взглянула на Сему и, молча подойдя к столу, протянула дне бумажки:
— Отдашь и среду с полтинником.
«Она с ума сошла, — подумал Сема, глядя на худой клюв „мамаши“. — Целый полтинник! Где это виданы такие сумасшедшие проценты?» Но спорить нельзя было — покорно поклонившись, он пошел к дверям. У самого порога он остановился и вновь повернул к старухе.
— Что еще? — повторила она удивленно. — Ты хочешь сказать спасибо? А разве я не понимаю? Я тоже была молодая…
«Ну, положим, — улыбнулся Сема, — это было очень давно».
— А молодости, — продолжала «мамаша», — всегда нужны деньги.
— Я имею к вам еще одну просьбу, — покраснев, торопливо заговорил Сема, — отпустите меня на два дня в город. Там моего дедушки сестры дочери сын… — Он остановился, подыскивая нужные слова и не зная, что же все-таки сказать о сыне дочери дедушкиной сестры.
— Хорошо, — неожиданно согласилась «мамаша», — я тебе дам пакет, и ты его занесешь. И, если тебя спросят, как мое здоровье, скажешь, что я еле дышу.
— Черта с два, — прошептал про себя Сема, забирая у «мамаши» письмо, — такие тощие сто лет живут…
Он вежливо поклонился и вышел из комнаты. Два рубля Сема завязал в платок и спрятал — тратить он их не собирался и занял только для того, чтоб умилостивить «мамашу». Но… Но, коли в какой-нибудь городской лавке продается черный шарф, он не пожалеет денег и купит бабушке подарок. Черный кружевной шарф — какая это красота! Семе казалось, что во всем смете нет вещи более нарядной и более дорогой. Но бабушка, о которой только что он так тепло думал, встретила его сурово:
— Что это еще за поездка в город? Ты посмотри на меня, я когда-нибудь уезжала из дому? А тебя несет!
— Я еду с сыном Лурии, — оправдывался Сема.
— Даже с самим Лурией, — не сдавалась бабушка, — даже с его дедом и его прапрадедом… Нет, вы подумайте, — обратилась она неизвестно к кому, — пускать мальчика одного в город! Чтобы, не дай бог, попал под конку, или отравился, или упал в воду!
— А мост? — искал спасения Сема. — А колокольчик на конке?
Но бабушка не слушала его, и Сема с обидой думал: «Кричишь на меня, а я еще собирался тебе шарф купить!» Собственное великодушие казалось Семе таким огромным, а бабушкина строгость такой невыносимой, что он чуть не заплакал. Но бабушка не могла долго сердиться. Через полчаса, видимо решив что-то, она подошла к Семе:
— Хорошо. Если ты поедешь, что ты возьмешь с собой?
Услышав это «если», Сема мгновенно ожил, он готов был согласиться на суп, и на кашу, и на пышки, и на что угодно.
— Эх, — вздохнула бабушка, — если б ты мне сказал о поездке раньше на день! Я поджарила бы котлетки, испекла пирожки с капустой… Только ты, — неожиданно загорелась бабушка, — только ты не прыгай, пока лошади не остановятся! Понял? Еще не хватает мне внука под колесами!
И вот они едут. Трясется телега по пыльной дороге, скрипят колеса, лениво бегут непослушные кони.
— Вье! — кричит возница, размахивая кнутом. — Куда вы едете, проклятые!
А «проклятые» сворачивают то влево, то вправо, и телега трясется еще больше.
— Вье! — кричит возмущенный возница. — Чего вам не хватает, проклятые, — боли в животе?
Кони молчат, и возница опять спрашивает их о чем-то.
На сене сидят пассажиры. Сена мало, то и дело кто-то вскакивает — это неожиданно обнаружился гвоздь в телеге или крючок.
— Что вы лошадей пугаете? — обрушивается на пассажира хозяин. — Подумаешь, какой-то там гвоздик! Вам надо ехать на дутых шинах!
Все умолкают потому, что возница опасен в своем гневе. Он ругается с ошеломляющей быстротой, проклятия его страшны и неожиданны: «Чтоб у вас под ногами трава не росла! Чтоб вы забыли вкус чистой воды! Чтоб ветер разнес тепло вашего крова!..»
К тому же все знают, что он может остановить телегу на полпути и уже тихо, спокойно сказать:
— Вам не нравится мой экипаж? Ищите другого, если вы такой крупный барон.
Рядом с Семой сидит Биня. У него испуганные глаза, как будто он видит, что с неба спускается черт. Напротив, между двумя толстыми еврейками с кошелками и живой птицей, замер Пейся в тоскливом недоумении. Повернуться он не может, еврейки сдавили его с обеих сторон, а курицы почему-то решили, что для них самое лучшее место — колени Пейси. Несколько раз он с мольбой смотрел на своих соседок, но они словно не замечали его грустного взгляда и, обращаясь к курицам, спрашивали:
— Птички, вам хорошо тут?
«О, чтоб вы сгорели, проклятые! — думал Пейся, со злобой глядя на тучную курицу, которая с особой бесцеремонностью расположилась на его коленях. — Эта дура воображает, что она в курятнике», — возмущался Пейся, тяжело дыша и заливаясь потом. Когда он сделал попытку пошевелиться, курицы сердито закудахтали, и соседки посмотрели на Пейсю с такой ненавистью, что у него сразу отнялся дар речи он еще раз вздохнул и закрыл глаза…
Биня сидел все с тем же испуганным лицом, зажав обеими руками свою правую ногу. Он очень опасался покушения жуликов и был уверен, что они могут из-за кармана сорвать с него всю штанину вместе с ногой. Несколько раз останавливались в пути, возница сходил, шел к колодцу, поил коней из ржавого, погнутого ведра.
— Уже скоро? — решился наконец спросить Сема.
— Скоро, скоро! — огрызнулся возница и так замахнулся споим свистящим кнутом, что казалось — он обязательно огреет двух-трех пассажиров…
«Боже мой, — молился вконец сдавленный Пейся, — хоть бы приехать живым!»
Вдруг раздалось долгожданное: «Тпру-ру!» — и кони остановились. Сема облегченно вздохнул и легко спрыгнул с телеги, за ним вылез Биня, испуганно озираясь и держась за карман. Пейся, мстя за все пережитое, свирепо толкнул наседок и спустился на землю.
— Где же город? — спросил он.
Но город уже был перед ними. На холмах у реки расположился он, веселый и шумный. Снизу доносились чьи-то громкие голоса, и весла уверенно рассекали воду. Друзья прошли через мост, удивленно всматриваясь в лица прохожих.
— Как пройти в город? — обратился Сема к человеку в желтой соломенке.
— Очень просто, — вежливо ответил он и, неопределенно махнув рукой, отправился дальше.
— Спасибо, — поблагодарил Сема, тщетно пытаясь разгадать жест прохожего.
Выдавать свое смущение было стыдно, и Сема повел Биню и Пейсю в город. Он заметил женщину, торопливо идущую куда-то с корзинкой, и подумал: «Она же не идет в степь за покупками!» И ребята побежали за ней. Вскоре они очутились на центральной улице. Все здесь удивляло и восхищало путников. То и дело Пейся толкал Сему, Сема — Пейсю, и только Биня шел встревоженно молчаливый.
— Смотри, какая улица! — восторгался Пейся. — Надо обязательно найти, где ее конец!
— А ты знаешь, что здесь написано? — загадочно спрашивал Сема, указывая на русскую надпись на вывеске. — «Кухмистерская Жане». Ты понимаешь?
Неожиданно все трое остановились в изумлении.
— Боже мой, — всплеснул руками Сема, — сколько извозчиков! Два, четыре, шесть, и все запряжены парами, и какие фаэтоны — ай-я-яй! А что там стоит справа?.. Смотри, Биня, — он толкнул сына Лурии, — целый закрытый домик на колесах, с окошками, с дверцей!
— Я знаю, — обрадованно воскликнул Пейся, — мне говорили! Это ландо. Это — когда свадьба. Все равно, знаешь, ну, как катафалк, но для жениха с невестой…
В это время извозчики почти все сразу спрыгнули со своих экипажей (они сидели не на козлах, а на пассажирском сиденье) и подбежали к приезжим.
— Молодые люди, — хриплым голосом сказал по-еврейски один из них, — вы хотите куда-нибудь ехать?
Сема вызвался вести переговоры. Заглянув в бумажку, он кивнул головой:
— Да, на Емошанскую.
— О-о! — многозначительно произнес извозчик и покачал головой, — Вам придется идти пешком. Вот видите этот высокий серый дом, так от него пойдете влево до сада, а там стоит пожарная дружина, вы пройдете мимо и спуститесь по Херсонской, а оттуда поднимитесь на горку.
— Ох, — испуганно вздохнул Пейся, — туда же можно проехать, если так далеко!
— Можно, — пожал плечами хриплый извозчик и закашлялся, и вместе с ним начали кашлять остальные извозчики, — можно, но нельзя. Это будет вам дорого стоить, — тихо добавил он.
— Едемте! — вдруг закричал Биня, которому страшно хотелось избавиться от своих денег и перестать наконец бояться жуликов. — Езжайте уже! — властно повторил он.
Они сели в фаэтон — трое на заднее сиденье. Скамеечка впереди оставалась свободной.
— Вот хорошо, — вздохнул Пейся. — Мы можем ехать и смотреть себе по сторонам!.. Ой, какая железная ограда около дома!
Но любоваться долго не пришлось. В экипаж с лету вскочил грузный мужчина и уселся на скамеечке.
— Это моей сестры сын, — вежливо сообщил извозчик.
«Очень приятно, — подумал Сема, — мне еще нужно знать его родню». Настроение явно ухудшилось.
Вдруг лошади остановились, и двое мальчишек уселись в ногах у пассажиров.
— Это чтоб вам было тепло, — опять сообщил извозчик. — Вам не мешает?..
— А если я скажу, что мешает, он их выбросит? — спросил Сема у Пейси шепотом.
— Молчи, — огрызнулся Пейся, — еще подножки свободные.
Видеть что-нибудь уже было невозможно, потому что ребятишки в ногах подрались друг с другом и по ошибке то и дело щипали то Биню, то Сему…
Но тут на какой-то улице сошел племянник извозчика, вместо него вскочил другой пассажир, который принялся уговаривать Сему, что ему будет удобнее сидеть на скамеечке. Сема отказался:
— За свои деньги я могу ехать как человек!
Наконец извозчик, обернувшись к ним, сообщил:
— Емошанская улица, молодые люди!
Биня залез в карман и дрожащими руками отсчитал деньги. Пейся вежливо поклонился извозчику:
— Спасибо, спасибо вам!
— Что ты его так благодаришь? — удивился Сема.
— Все-таки любезный человек, — ответил Пейся, провожая глазами фаэтон. — Вот это выезд!
— Не даром катал! Заплатили чистыми деньгами.
Пейся вздохнул с сожалением:
— И еще надо идти пешком… Где же этот номер двенадцать?
— Наверное, где-нибудь близко. — Сема остановился и, взяв приятеля за руку, с любопытством огляделся по сторонам: — Вы только подумайте! Справа — дома, слева — дома. Полная улица домов!..
Но у Бини не хватило терпения выслушать до конца рассуждения Семы.
— Давайте искать номер двенадцать, — умоляющим голосом произнес он, — стоит же дело! Что вы хотите от меня?
И друзья, задрав головы, принялись искать номер 12.
Около дома номер 12 они расстались с Пейсей. Условившись к вечеру встретиться у реки, Биня и Сема прошли наверх по крутой деревянной лестнице.
— Стучи, — прошептал Биня, передавая Семе приготовленные деньги, — стучи!
Но Сема не решался поднять руку, он вспомнил слова Фраймана о собаке, в которую нужно всунуть рубли, и волнение охватило его. Смущенный, взглянул Сема на Биню, но в глазах его не было сочувствия.
— Стучи же, — повторил он зло, — пусть будет конец!
Сема дернул дверь. Послышались шаги, и на пороге появился человек в сюртуке военного покроя, распахнутом на мохнатой груди.
— Вам что? — спросил он удивленно.
— Мы с братом от Фраймана, — тихо сказал Сема, отчаянно напирая на «эр» и стараясь как можно красивее говорить по-русски. — У нас дело, ваше превосходительство.
— Какое же у вас дело? — насмешливо произнес человек и, гордо выпрямившись, разгладил усы. — Я слушаю.
— Ваше превосходительство, — взволнованно заговорил Сема, — мой брат ожидает призыва! Их восемь человек в семье…
— Так, так… — задумчиво произнес военный. — И что же?
— И вот он один из кормильцев. Без него им совсем горе…
— Видите ли, — важно вымолвил его превосходительство, — я думаю…
Но ему помешали высказать, что же он думает. Из комнаты выскочил взъерошенный худой человек в длинном халате с тростью в руке.
— Ты о чем думаешь, болван? — закричал он, размахивая палочкой. — Все двери растворил настежь! Мало тебе сквозняков!
— К вам пришли, барин, — смущенно прошептал «его превосходительство» и сразу стал маленьким, как Сема.
Барин сердито дернул плечами и, строго взглянув на пришельцев, кивнул головой:
— Ступайте за мной!
Они пошли. «Мое счастье! — вздохнув, подумал Сема, — Хорошо, что я еще не успел дать взятку этому болвану!..» Биня был угрюм и бледен, он не мог понять, что произошло.
— Ну, слушаю, — сказал барин, выбивая прогоревший табак из трубки. — О чем вы там говорили?
— Мы думали, — осмелев, сообщил Сема, — то есть мы вас не видели. И мы думали, что это он — генерал.
— Да? — важно затряс головой барин и довольно улыбнулся. — А генерал-то вовсе я!
И по тому, как гордо произнес он эти слова, Сема понял, что барину очень хочется стать генералом, но до генерала ему еще идти и идти! «Может быть, — снисходительно подумал Старый Нос, — он писарь. Может быть…» И Сема медленно и степенно, по-прежнему напирая на букву «эр», рассказал о судьбе Бини.
— Хорошо, — буркнул барин, — буду иметь в виду. — И, взяв со стола листок, спросил: — Фамилия, имя, отчество, год рождения, вероисповедание?.. — Сема не знал, как приступить к делу, а на него продолжали сыпаться вопросы: — Семейное положение, грамотность, объем груди…
Сема лениво отвечал, с тревогой размышляя, а куда же деть деньги, если эта проклятая собака, как назло, запропастилась. Неожиданно барин отошел от стола, перед Семой что-то блеснуло, и он едва удержался от радостного восклицания. Собака! Так себе, ничего особенного, даже не живая, но собака. Прямо на Сему внимательными, немигающими глазами со стола смотрел толстый мопс с глупым добрым лицом и надписью, висевшей на лапах: «Жертвуйте героям войны».
Сема облегченно вздохнул и подошел ближе. На голове у мопса была такая широкая щель, что в нее можно было сунуть чемодан с деньгами.
— Разрешите, — обратился Сема к барину, — пожертвовать героям?
— Прошу, — любезно согласился хозяин.
Сема опустил в щель две бумажки, и ему показалось, что мопс подмигнул правым глазом и сморщился, будто собираясь чихнуть.
— Будьте здоровы! — вежливо сказал Сема не то мопсу, не то «генералу» и, взяв Биню под руку, вышел в коридор.
На улице Биня спросил Сему:
— Ну, что ж ты молчишь?
— Не знаю, — честно признался Сема, — что выйдет из этого. Деньги дали, а дальше?
— Что ты кладешь мне камни на сердце? — обиделся сын Лурии.
— Нет, зачем же… Я просто думаю, что теперь надо Фрайману напомнить о тебе. Я думаю, что он с генералом в компании…
Биня задумчиво взглянул на Сему и покачал головой:
— Плохо нам, Сема.
— Плохо, Биня, — согласился Сема, вспоминая все обиды и огорчения детства и наполняясь жалостью к себе и к Бине, — плохо!
— Если б хоть знать точно, что когда-нибудь станет хорошо.
— А кто это знает?.. — рассеянно спросил Сема. — Ты куда?
— Поищу знакомых… Поедем на рассвете?
— Да.
Биня повернулся и зашагал. Сема долго провожал его глазами. Большой парень! Он мог бы уже стать отцом детей, но он даже не знал еще мужской одежды. Интересно, давно он носит эту рыжую кофту? И когда он уже оденется, как подобает мужчине? Сема медленно побрел по улице. Странное дело! Он думал, что на него будут смотреть и даже указывать пальцами. Парень из местечка! Но в городе никто не замечал его присутствия.
По мостовой взад и вперед важно шагал городовой с револьвером на толстом красном шнуре. Сема остановился, посмотрел на него… Слепой нищий с выцветшей шляпой в руках сидел на стульчике возле большого дома. Сема подошел и, с любопытством заглянув в шляпу, бросил копеечную монетку. Нищий поднял голову и запел какую-то странную песню:
Сема внимательно слушал нищего, а он пел еще и еще, без слуха, без мелодий, без голоса, и все его песни кончались одним смешным и жалким припевом:
Сема пошел дальше, заглядывая в богатые витрины магазинов, рассматривая дома, балконы, крыши. «Все железные! — с завистью подумал он. — И хоть бы одна крыша попалась соломенная или черепичная. А дорогу выложили камнем, как будто семечки в землю повтыкали. Тоже выдумка!» И хотя все виденное нравилось Семе, он не переставал фыркать и брезгливо выпячивать нижнюю губу. Он завидовал. А когда Сема увидел несущийся по улице зеленый вагон, запряженный четверкой строптивых коней, он замер от восхищения. Город есть город, что говорить!
Неожиданно Сема почувствовал на себе чей-то взгляд. Он удивленно оглянулся. Никого не было. Только около бакалейной лавки, прислонившись к железным перилам, стоял молодой человек в рваной куртке с худощавым заросшим лицом. Он как-то очень знакомо щурил глаза, веселые и быстрые, и казалось, что все устало в человеке: и руки, и ноги, а вот глаза — нисколько. Сема тихо, как бы про себя, произнес: «Трофим!» И через секунду они уже сидели рядом на бульварной скамье.
— Вы устроили меня на работу, — торопливо заговорил Сема, точно боясь, что им помешают, — и на другой день вас не стало. Бабушка меня спрашивает, где он, а что я могу сказать?..
— Работаешь? — спросил Трофим.
— Сбивщик я, — с гордостью ответил Сема. — А вы?
— Я очень устал, — тихо сказал Трофим.
Долго сидели они молча друг подле друга, и Семе очень хотелось сделать что-нибудь хорошее своему любимцу, но он не знал, с чего начать. Одежды у Семы лишней не было, вот, может, деньги? Сема вспомнил, что в кармане у него запрятаны два рубля, взятые у «мамаши».
— Трофим, а Трофим, вам деньги нужны? — спросил он, стесняясь своего вопроса.
— Нужны, — просто ответил Трофим.
Сема протянул ему две бумажки. Трофим встал, сосредоточенный и угрюмый.
— Вот и простимся, — сказал он и улыбнулся. — Как папин кусочек?
Сема молчал, ему не хотелось расставаться.
— Парень ты взрослый, — продолжал Трофим, — понимаешь. Дома нет у меня. Мать не считает живым… — Лицо его стало строгим и даже злым. — А вот выживем, Сема. Нет нам никакого резону умирать!
Он потрепал Семин чуб и, хитро сощурив глаза, спросил:
— Что, работник, не пьешь?
— Нет, — испуганно ответил Сема.
— Держись! — предупредил его Трофим шепотом. — Отец придет!
Трофим ушел, а Сема все сидел на бульварной скамье и задумчиво повторял его последние слова: «Отец придет». Значит, жив? Значит, это может быть? Он встал и побежал к реке так быстро, как будто погоня неслась за ним.
— Отец придет, — повторял он на разные лады, жалуясь, спрашивая, угрожая кому-то. — Отец придет!..
Он лег в траву на берегу реки и сразу уснул. Когда Сема открыл глаза, спускались сумерки, тихие и осторожные, и казалось — им тоже было жаль уходящего дня. Сема оглянулся, привстал и потом вновь опустился на траву, удивленный и испуганный. На берегу реки стоял монастырь — большой, загадочный и молчаливый. Высокие каменные стены с бойницами окружали его. Они были так высоки, что из-за них едва-едва виднелся золотой купол.
Сема прошелся по монастырской насыпи, подошел к старым стенам монастыря и услышал несущийся откуда-то издалека торжественный голос органа. Шумно и тягостно-однотонно вторили ему, гремели и замирали тяжелые колокола. Стоя у этой большой стены, Сема почувствовал себя таким одиноким, беззащитным и маленьким, что ему захотелось молиться богу. Взглянув на купол, такой далекий, уносящийся к небу, Сема снял шапку и тяжело вздохнул.
Красные стены, бойницы, из которых когда-то глядели угрюмые жерла пушек, тяжелые мраморные доски с надписями на чужом, непонятном языке, люди в коричневых рясах, выходившие из широких ворот монастыря, рождали в Семе какие-то смутные мечтания о далеких, неведомых землях. Ему вдруг мучительно захотелось уйти навсегда из-под низкой крыши местечка.
Неожиданно кто-то тронул его осторожно за локоть. Рядом стоял Пейся, запыхавшийся и утомленный.
— Весь город обегал, тебя искал, — сказал он, вытирая пот. — А я на базаре был. Ужас! За курицу, как за быка, дерут.
— Молчи, — попросил его Сема, — молчи, ради бога!
Он продолжал смотреть на замок удивленными детскими глазами. Кто эти люди в рясах? Кто воздвиг эти стены? О чем думали люди, строившие монастырь сто или тысячу лет тому назад? Только сегодня, здесь Сема узнал, что мир уже долго жил до него, что мир стар. Ему хотелось припасть ухом к высокой мокрой траве и услышать, что происходит там, под землей.
Ему хотелось узнать, кто раньше ходил по этому берегу, кто взбирался по его крутым холмам, кто первым сидел у этой шумной роки. Спрашивать было не у кого. Они молча побрели на заезжий двор, спотыкаясь о камни, пугаясь больших и тяжелых теней монастыря.
После поездки в город Сема стал молчалив и угрюм. Шутки Пейси не веселили его. Все реже появлялся Сема на улице, и бабушка с тревогой всматривалась в его похудевшее лицо. «Может быть, ты болен?» — спрашивала она, но Сема знал, что болезни нет никакой, а было что-то другое, большое и неспокойное, чего он сам не мог объяснить себе. Роясь в книгах, Сема нашел рассказ о беззащитной принцессе, глупой и доверчивой. Но принцесса не вызвала в нем сочувствия, потому что она была вялая, хворая, милостивая к своим недругам. Она их прощала, а они смеялись над ней. «Ну и дура!» — пробурчал Сема, отбрасывая в сторону книжку. Не этого искал он в рассказах.
Жил в местечке чудак учитель Мотл Фудим. Он готовил молодых людей к экзаменам на звание аптекарского ученика. Но так как будущих провизоров было мало, он часто голодал, не имея заработка. В свободное время Мотл придумывал замысловатые конструкции дверных замков, и воры, пользуясь их несовершенством, таскали у него последнее. Но это не пугало Фудима. Узнав о происшедшей краже, он возбужденно потирал ладони и кричал:
— Интересно, интересно! Посмотрим, как они открыли мой замок!
Учитель прибегал домой и внимательно изучал дверь; что похитили в его комнате, он не хотел знать.
— Вы мне говорите — рубашки, рубашки! — тяжело вздыхал он. — Разве это лезет мне в голову? Третий замок выдумываю — и все не то!
Он был чудак, этот Фудим, худой, маленький, большеголовый, с тяжелой гривой священнослужителя. Глаза его, всегда выпученные, придавали лицу удивленное выражение, и, когда учитель смотрел на человека, всем казалось, что сейчас он должен обязательно спросить: «Что вы? Не может быть!» — или еще что-нибудь в этом роде. Сема пошел к Фудиму за книгами для чтения. Учитель был действительно удивлен просьбой молодого сбивщика и так выкатил глаза, что Сема испуганно подумал, а вдруг они выпадут. Но все обошлось благополучно. Фудим, порывшись в ящике, вынул какие-то две книжки и протянул их Семе.
— Читайте… — рассеянно сказал он и указал на дверь: — Я сейчас сделаю такой замок, что даже святой дух не войдет без ключа!
До позднего вечера сидел Сема, склонившись над столом, и встал, когда почувствовал, что силы покинули его и сон охватывает тело. Утром Сема тщетно пытался вспомнить прочитанное. Слова, люди, поступки — все смешалось в его памяти, и он просто не мог понять, что к чему.
Вторая книга оказалась легче, но, читая, он пугался ее желчных слов, ее угроз и прорицаний.
«Я господь бог ваш, — читал Сема, — вывел вас из земли Египетской, сокрушил шесты ярма вашего и повел вас с поднятой головой. Если презрите уставы мои и законы мои отвергнет душа ваша, то я с вами поступлю так: пошлю на вас ужас, чахотку и горячку, томящие глаза и мучающие души, и будете сеять напрасно семена ваши, и съедят их враги ваши. И будете поражены перед врагами, и будут властвовать над вами неприятели, и побежите вы, хотя никто не гонится за вами».
Сема переводил дыхание, вытирал выступавший на лбу холодный пот и читал дальше:
«И сломлю гордыню вашего могущества и сделаю небо ваше, как железо, и землю вашу, как медь… И вселю робость в оставшихся из вас, и погонит их шелест свеянного листа!..»
Сема никогда не продавался размышлениям — есть бог или нет. Может быть, есть и, может быть, нет. Когда Семе было плохо, он вспоминал о боге и даже шептал тихонько перед сном молитву: «Шма исроэл аденой, элоейну, аденой эход»[28]. Все-таки, если сказать откровенно, к кому Сема может толкнуться со своими делами? К губернатору? Нет. К исправнику? Нет. К царю? Конечно и конечно, нет.
Остается один бог, с которым можно говорить в любое время и сколько вздумается. Уж кто-кто, а бог был дан в полное Семино распоряжение. И в последнее время Сема все чаще и чаще спрашивал его: «Если ты такой мастер на все руки, что в какую-нибудь неделю сотворил небо и землю, свет и тьму, вечер и утро, зелень и деревья плодовитые, светила и птиц крылатых и, мало этого, образовал еще человека из праха земного и вдунул ему в ноздри дыхание жизни, — если ты такой мастер, так почему ты не мог пальцем пошевелить и спасти маму, если не маму, так папу, если не папу, так деда? Тут что-то не то».
И, читая ворчливые, злые слова бога — «и сделаю небо ваше, как железо, и землю вашу, как медь», Сема думал: «Неужели Иегова, этот пухлый, розовенький еврей с бородой, похожей на облако, неужели он такой злой и мстительный? Если надо спасать, до него не дозовешься, если надо проклясть — пожалуйста, он тут как тут! Нет, здесь что-то неладно».
Сема откладывал толстую черную книгу и шел в синагогу. Он стоял позади всех, надвинув на брови вылинявший картуз, настороженно прислушиваясь к молитве. Красиво и весело пел молодой кантор[29], невнятно бормотали старики, как будто слова запутывались в их бородах и не могли выбраться. А наверху громко и шумно рыдали женщины, и их покрасневшие лица были мокры от слез. «Почему сюда так часто приходят просить? — спрашивал себя Сема. — И всё просят и просят!» Он не находил ответа и сам начинал молиться, потому что бог его знает, как быть с богом? И так плохо, и этак не очень хорошо.
А жизнь двигалась своим чередом. Осыпалась акация возле дома дедушки, шуршали под ногами желтые листья яблони, все чаще шел дождь, тихий, утомительный и такой мелкий, что его не было видно. Наступала осень. Только иногда ночью, совсем редко, живые молнии прокалывали небо, тяжелый гром рушился на крыши местечка, сверкая, падали капли дождя, и казалось, что сверху сыплются искры.
Осень лишила Сему реки. Берег покрылся грязными водорослями, желтоватой тиной, сбитым камышом. Часами сидели Сема с Антоном и Пейсей на мокрой скамье палисадника, и Антон тихо пел незнакомые Семе грустные песни:
И Сема тихо вторил ему:
— Хорошо ты поешь, Антон, — с завистью говорил Пейся. — Когда у человека тут тесно, — он ударял себя по груди, — петь хочется, Антон!
Антон рассеянно смотрел на него и затягивал:
Потом они вставали и шли трое, босые, дощатым тротуаром, перекинув через плечо связанные шнурками ботинки.
— Ребятушки, — вздыхал Антон, — в городе артисты есть, какие артисты! Ничего не делают, только песни поют. И если б сказали мне: можно, иди, — всё бросил бы! В городе — это жизнь! Музыка играет с утра до ночи…
Однажды, так вот гуляя в сумеречный, дождливый вечер, подошли они к дому Лурии.
— Зашли, что ли? — спросил Антон, дергая ручку двери. — Биня-то дома остался.
— Как будто остался, — неуверенно согласился Сема. — Они еще Фрайману деньги должны.
— Ну, да зайдем, — повторил Антон, — посидим, пока хмара пройдет!
Они ввалились в комнату. Хозяин сидел у стола босой и парил мозоли в высокой чашке с кипятком.
— Мы вам, кажется, помешали? — вежливо осведомился Пейся.
— Помешали? — удивился Лурия. — Нет! Жена поставила на печь две цибарки: если хотите, можете тоже попарить!
Пейся поспешно отказался и так уставился в покрасневшие ноги хозяина, что старый Лурия, смущаясь, сказал:
— Не смотрите так на мои мозоли. Я боюсь, что вы их сглазите.
— А где дети? — улыбаясь, спросил Сема.
— Не знаю, — пожал плечами Лурия, — у каждого есть дела, а заработок только у меня.
Гости молчали, и хозяин, внимательно оглядев всю тройку, спросил:
— Может быть, вы хотите выпить, так шкалик уже на столе.
— Нет.
— Так чего же вы пришли? — возмутился Лурия.
Но друзья не успели ответить — в комнату без стука ввалился Майор, старый знакомый Семы, приказчик Магазаника, человек с рассеченной губой и ленивыми, как у кошки, глазами.
— Ой, боже мой, — закричал он, — я не выдержу!
— Тихо, — засмеялся Лурия. — Не пугайтесь! Это родственник моей жены. Он любит шутить.
Но Майор не шутил, он бегал по комнате, стонал, хватал себя за волосы. Наконец, обессилев, упал на стул и заплакал, громко всхлипывая и причитая, как женщина.
— Главное, обидно мне, — кричал он, тяжело дыша, — за что все это? За что, бог мой родной, ты наказываешь меня?
— Перестань уже! — возмутился Лурия, стукнув кулаком по столу. — Жена умерла?
— Нет, — затряс головой Майор, — как раз все здоровы.
— Здоровы? — переспросил хозяин. — Тогда пойди вылей на голову ведро с колодца, и все пройдет!
Семе не приходилось видеть плачущих взрослых мужчин, и он уже был не рад своему посещению.
— Пойдемте, — тихо сказал он Антону, — хмара прошла!
Они встали.
— Нет, — неожиданно воспротивился Майор, глядя на них красными испуганными глазами, — я хочу, чтобы все знали. Я хочу, чтоб вся Россия знала… — Он выпил залпом высокую стопку водки и торопливо заговорил: — У кого я служу? Я служу у Магазаника. Десять лет я меряю аршином его мануфактуру. Вы это знаете? — обратился он к Антону. (Антон кивнул головой.) — Хорошо, — продолжал Майор, хватаясь за волосы, — он мне делает честь! У него все родные, а я так… просто. И вот настало мое время идти в присутствие, еще год тому назад. Хорошо, Магазаник зовет меня к себе и говорит: «Царь Николай перекрутится без тебя, у него солдат хватит. А твоей семье нужен ты, и в лавке тоже будет трудно без твоих золотых рук. Одним словом, я плачу за тебя сто рублей, и ты не годен. Но на всякий случай, — говорит он мне, — понемногу истощайся, чтоб у тебя не был слишком богатый вид!..» Один бог знает, сколько я выпил черного кофе, сколько я проглотил дыма и не спал ночей! Утром я приходил на службу — господин Магазаник смотрел на меня и хвалил мое лицо. «Молодец, — говорил он, — уже желтый, как лимон! Я даю сто рублей, а ты делаешь вид!» Так мы вместе старались. Я говорил жене: «Теперь уже дело верное: вид делает свое, деньги — свое, и я остаюсь дома. В две руки всё легче!»
— Ну и что же? — заговорил Пейся, теряя терпение. — Вас все-таки взяли?
— Нет, не взяли! Я пришел на комиссию, врачи пощупали, постукали и дали белый билет. Я вернулся домой, мы немножко поплакали от радости, конечно, и я пошел благодарить хозяина. Господин Магазаник вышел ко мне и сказал: «Чужое горе — мое горе, кто плохой друг своему единоверцу, тот плохой сын своему богу». — «А как же будет с деньгами?» — спросил я. «Мне это не спешно, — ответил хозяин, — по частям отдашь сто рублей, и никаких процентов мне, конечно, не надо!»
— Очень любезно с его стороны, — не удержался Пейся.
— Любезно, — согласился Майор. — Восемь месяцев я выплачивал частями долг. И можете поверить, что жене я горжетки не покупал и у детей, извините, не было лишней рубахи. Наконец я выплатил эти сто рублей, и все пошло хорошо. Но вдруг вчера мы сидели с конторщиком Меером, и он мне под большим секретом говорит… и что он мне говорит? Что господин Магазаник таки хотел внести сто рублей, но, когда он увидел, что я таю на его глазах, он решил, что все обойдется без него, и сто рублей он пока оставил у себя. Вы понимаете?
— Что же вы? — спросил Сема, хватая Майора за пиджак. — Он вам вернул ваши деньги?
— Деньги… — пожал плечами Майор. — Откуда? Я продолжаю делать вид, что он меня спас. Если я скажу слово, он меня выгонит. Если пойду жаловаться, будет еще хуже! Просто за мое горе я ему подарил сто рублей. И пусть все знают, — устало добавил он, — пусть вся Россия знает.
— Вы дурак!.. — закричал Сема. — Антон, скажи ему, объясни ему, что так нельзя!
— А дети? — тихо спросил Майор. — Они найдут себе второго отца?
— «Дети, дети»! — со злобой повторил Сема. — Кто ограбит неимущего — навеки потеряет тепло своего крова! Кто осудит невинного — падет замертво!.. Где правда, Лурия?
Лурия подошел к побледневшему Семе и обнял его за плечи.
— Я люблю, когда ты сердишься… — задумчиво сказал он. — И отец твой тоже такой сумасшедший!
Но Сема не слышал его слов, он выбежал на улицу, бледный, дрожащий, с серым, осунувшимся лицом. «Боже мой, — спрашивал он себя, — что же это?..» Товарищи его молча шли рядом. Дождя уже не было, черные лужи блестели на дороге.
Трудно было почтальону Цомыку разносить эти письма с тяжелой черной печатью. Он был добрый человек и любил больше денежные переводы. Но с его желаниями никто не считался, и оттуда, с фронта, с линии огня, приходили лаконичные уведомления: смертью храбрых пал ваш сын, смертью храбрых пал ваш муж… В синагоге шли траурные моления, осиротевшие дети просили подаяния на базаре, и было страшно, потому что никто не знал, что будет завтра. Ожидали новых печальных вестей, ожидали новых мобилизаций. Воздух был полон тревожных и тягостных предчувствий.
Рассказывали, что житель местечка белобилетник Квос однажды утром отказался встать с постели. Он заставил жену поставить ил стуле близ кровати какие-то баночки, склянки, бутылки с микстурами. «Пусть видят, что я болен!» — сказал он. Он лежал на больших жарких подушках, испуганно глядел на дверь, ожидая, что кто-то придет и его поволокут на фронт. «Всех будут брать, — твердил Квос, — всех, у кого ходят ноги!..» В тот же день все местечко узнало, что Квос не хочет вставать, и это маленькое происшествие еще больше встревожило людей.
«Мамаша» неожиданно для всех устроила аукцион в пользу детей героев, и с ней вместе у столика под белой шелковой крышей стояла жена Магазаника. Сема со стариком Залманом Шацем пришел посмотреть на эту торговлю. Они остановились поодаль и молча наблюдали за дамами. Вскоре к ним подошел господин Гозман и с серьезным видом положил на стол бумажку, точно он действительно верил в эту игрушечную затею. Появился и Магазаник, сопровождаемый Фрайманом. Он вежливо поклонился «мамаше» и, вытащив из кармана старый, потертый кошелек, протянул дамам десять рублей. Оглянувшись, он увидел Залмана и Сему и, тяжело ступая, направился в их сторону. Фрайман побежал за ним.
— Да, — сказал Магазаник, вздохнув, — сейчас нужно думать друг о друге!
Залман молчал. Семе было противно смотреть на величаво-спокойное лицо купца. «Я вас презираю!» — хотелось сказать ему, но Сема знал, что слова эти ни к чему, и он угрюмо молчал.
— Если я не ошибаюсь, — обратился Магазаник к Семе, — вы были у меня в доме?
— Мальчик служил у вас, — вежливо сообщил Фрайман.
— Цы! — прикрикнул на него купец. — Я это сам знаю. — Он замолчал, чувствуя неприязнь стоящих рядом людей, испытывая что-то похожее на смущение. — А вы как дышите, Шац?
Старик поднял на него глаза и укоризненно покачал головой:
— Некрасиво, господин Магазаник! Стыдно спрашивать! У меня там два сына. У них есть сто шансов стать покойниками. Сто из ста!
Магазаник пожал плечами:
— Долг!
Шац посмотрел на него с удивлением:
— Я не слышал, что вы тут говорили. Но для вашего здоровья будет лучше, если вы сейчас же уйдете!
Руки старика дрожали, он был гневен и страшен в эту минуту.
— Старый человек, — поучающе произнес Фрайман, строго глядя на Шаца. — Разве можно так разговаривать? Вам желают добро, а вы…
— Цы! — возмущенно прорычал Магазаник и, с силой оттолкнув оторопевшего Фраймана, пошел к экипажу.
— Боже мой, — схватился за голову маклер, — у всех нервы, а я должен терпеть!
Он искал сочувствия у Семы или Шаца. Но Сема молчал, а Шац смотрел на него с таким угнетающим сожалением, что Фрайману вдруг показался тесным воротник, и, поспешно развязав галстук, он перебежал на другую сторону.
— Горе, — сказал Шац, прощаясь с Семой, — горе…
За столиком громко смеялась «мамаша», разговаривая с женой купца:
— Я таки женщина, но меня не так легко обкрутить.
— Еще бы!
— И я ему сказала: «Я бросаю векселя в печку. И можете меня…»
Она нагнулась и, прошептав что-то купчихе на ухо, засмеялась еще громче. Но, смеясь, она заметила приближающегося Сему, и лицо ее приняло скорбное, почти страдальческое выражение.
— Ты идешь с работы? — спросила она его голосом умирающей.
— Да, — ответил Сема.
— Ну, как твое здоровье?
— Очень хорошо, — вежливо ответил Сема. — У меня его столько, что даже немного лишнего.
— А как твои бабушка?
— Тоже очень хорошо! У нас все хорошо, мадам. Одно удовольствие, и пирожки с маком!
— Ты шутишь, — грустно улыбнулась «мамаша». — Но бабушка ведь такай старенькая, совсем старенькая!
Сема посмотрел на напудренный клюв «мамаши» и удивленно поднял брови:
— Она — старенькая? Что вы, мадам, она одних лет с вами!
Сема любезно раскланялся, а «мамаша» осталась стоять с открытым ртом, как будто она поперхнулась его словами. Редкие зубы ее торчали, как поднятые грабли.
Возвратись домой, Сема застал Пейсю, который с озабоченным видом мотался по комнате.
— Наконец-то! — воскликнул он. — А я тебя жду и жду.
— Что-нибудь случилось?
— Не говори! — махнул рукой Пейся. — Конечно, случилось. Пойдем!
Но тут в их беседу вмешалась бабушка. Она подошла к Пейсе и, угрожающе взглянув на него, закричала:
— Куда пойдем? Куда пойдем, я спрашиваю? У тебя там иголки торчат? У тебя под ногами земля бежит? Ты не видишь, что ребенок пришел и ему надо покушать?
— Пусть кушает, — с досадой согласился Пейся, нетерпеливо постукивая ногой.
Но Семе уже самому не хотелось есть. Новость! Какая же, интересно, новость?
— Не могу, — прошептал Пейся и перевел глаза на бабушку. — При ней нельзя.
— Бабушка, уже всё? — робко спросил Сема.
— Как это всё? — возмутилась бабушка. — А суп я кошкам вылью? Перестань сидеть на одной ноге!.. А ты, — напала она опять на Пейсю, — ты можешь съесть буханку хлеба! У тебя жир висит. Ему бы твой аппетит!
— Бабушка!
Но бабушка продолжала греметь, стучать вилками и ножами, и даже на кухне, где никого, кроме кошки, не было, она продолжала ворчать.
— Пойдем! — Сема подмигнул Пейсе. — С супом я кончил.
Но и на улице Пейся продолжал таинственно молчать, и это разозлило Сему.
— Ты будешь говорить? Или я сейчас плюну и уйду.
— Буду. Но надо найти место. Чтоб никого, понимаешь?
— Понимаю, — недоверчиво произнес Сема и пристально взглянул на Пейсю. — Я знаю твои тайны. Опять слепого жена?
— Нет, совсем другое.
— Ну говори уж!
— Сейчас, одну минуточку. — Пейся внимательно посмотрел направо, потом налево, заглянул в какой-то чужой двор и, наконец успокоившись, зашептал: — К нам приехал Мойше Доля. На постоянное жительство!
— Что ты говоришь? — искренне удивился Сема. — А кто он такой?
— Ты не знаешь, кто он? — обиделся Пейся.
— Как раз не знаю, — признался Сема. — Наверно, певец?
— «Певец, певец»! — с презрением произнес Пейся. — Не знать таких вещей? Фу, прямо стыдно перед людьми! Спроси у любого старого еврея — все его знают. Это самый сильный человек на свете!
— Положим, — не сдавался Сема, поддразнивая приятеля. — Я знаю, например, в Африке…
— Африка, шмафрика! — рассвирепел Пейся. — Раз говорю, значит, знаю. Я его сам видел. Если он положит тебе на голову палец, ты войдешь в землю, как спичка. Понял? А если он поедет верхом на лошади и у него не будет кнута, так он вырвет по дороге дерево, и оно ему будет прутик.
— Еще что? — холодно спросил Сема, стараясь скрыть свое любопытство.
— Тебе мало? — возмутился Пейся. — Хорошо! Он приезжает на ярмарку и видит воз с грушами. Он опрокидывает воз и выбирает себе грушу покрасивее. А если он подставит плечо к стене дома и легонько нажмет, дом сдвинется с места.
— Понятно, — согласился наконец Сема.
— А пусть, — воодушевился Пейся, — а пусть кто-нибудь попробует при нем обидеть слабого или маленького. Ужас! Порошок! Пыль!..
Пейся был счастлив: внимание друзей доставляло ему теперь самое большое удовольствие в жизни. Он не мог минуты просидеть молча — одна история наступала на другую, другая на третью. Он сочинял и верил в каждое свое слово и порой сам задумывался: было это на самом деле или нет. В магазине его слушали вяло и неохотно, дома уставали от его рассказов, и он терпеливо искал слушателей на стороне. С одинаковой охотой он говорил с глухим стариком и с пятилетним мальчишкой. Дети бегали за ним по пятам, назойливо требовали сказок. Он присаживался на секундочку и тотчас же забывал о времени. Хозяин старался не посылать его никуда: он знал, что на пути Пейси возможны встречи, а были бы встречи — истории найдутся.
— Хорошо… — сказал Сема, задумчиво глядя на разбушевавшегося Вруна. — Это все правда?
— А я разве когда-нибудь врал? — удивился Пейся, искрение возмущаясь.
— Когда-нибудь — нет… — уклончиво ответил Сема. — А что такое Доля: это фамилия или чин?
— Сейчас скажу, — оживился Пейся. — Мойше нигде не работает, ну, а кушать ему как раз нужно. Каждый день он приходит на базар и, увидев, что ты, допустим, покупаешь лошадь, говорит: «Я здесь имею долю!» И, если ты еще хочешь жить, ты даешь ему рубль. Потом Мойше идет дальше и видит, что еврей в лавке набирает жене на платье. Он берет в руки товар и говорит: «Я здесь имею долю!» Еврей знает, чем может кончиться такое удовольствие, и дает Мойше полтинник. Будь уверен, Мойше знает, к кому подойти. Он высматривает, кто делает покупку побогаче, и у того требует долю… Так вот: жил Мойше в местечке Дрылов, а теперь переехал сюда. Здесь еще целы все его доли!
— Где ж он будет жить?
— Пойдем посмотрим. Здесь близко, возле лесного склада.
Друзья пошли. По дороге Пейся продолжал расписывать нового жителя местечка:
— Ведро воды может выпить.
— Еще что? — уже лениво спросил Сема.
— Он мой знакомый.
— Еще что?
— Дочка у него есть! Вдвоем приехали.
— Дочка тоже такая?
— Нет, — Пейся махнул рукой, — ерунда! Хворостиночка.
Вдруг Пейся остановился и, пытаясь спрятаться за Сему, прошептал:
— Он идет!
— Куда ж ты прячешься? — удивился Сема. — Он же твой знакомый.
— Молчи! — разозлился Пейся. — Чтоб человек не мог минуту помолчать!
Прямо на них шел растрепанный мужчина в короткой измятой куртке, с заспанным лицом и очень большими красными руками. Увидав ребят, он остановился, кашлянул, и Семе показалось, что в его ухо стрельнули из пушки. Мойше Доля подошел к Пейсе и, положив тяжелую руку на его плечо, чуть-чуть прижал Вруна к земле.
— Ничего умного… — задыхаясь, прошептал Пейся. — Допустим, вы меня победите. Так что здесь особенного? Я уверен, что вы сильнее меня.
Доля расхохотался и внимательно посмотрел на приятелей.
— Вы уже не такие малыши, как мне показалось… Почем фунт лиха, знаешь? — обратился он к Пейсе.
— Знаю.
— А ты? — спросил он у Семы.
— Я знаю, почем два фунта.
— Получается, что вы нюхали горе?
— Нюхали, — согласился Сема, смелея. — Можем вам уступить долю!
Мойше засмеялся:
— Смелые воробьи! Уважаю… — И, весело подмигнув обоим, он побрел дальше.
Провожая взглядом тяжело переваливающегося с ноги на ногу Мойше Долю, Сема с завистью сказал:
— Вот это медведь — я понимаю!
— А я что говорил? — обрадовался Пейся. — Мы с ним всегда так разговариваем.
— Ты ж в первый раз с ним говоришь!
— В первый, второй! Что ты придираешься? — обиделся Пейся и небрежно протянул Семе руку.
Он не мог больше стоить на месте — скорей бежать, скорей рассказывать!
В субботу утром Сема проснулся с мыслью, что ему нужно радоваться. Лежа в постели, он перебрал в памяти все события вчерашнего дня и не нашел в них ничего особенного. Говорил с Магазаником — это раз, пошутил с «мамашей» — это два, познакомился с Долей — три. Ничего особенного! И все же какое-то радостное ощущение не покидало его. Да, хорошо быть таким сильным, как Мойше. И откуда у еврея вдруг берется такая сумасшедшая сила?
Сема начал насвистывать веселую песенку, но его свист привлек внимание бабушки.
— Что с тобой? — удивилась она. — Разве можно свистеть в комнате?
— Нельзя, — согласился Сема, не зная, чем, собственно, вызван этот запрет.
— Ну, слушай внимательно, — продолжала бабушка. — На подоконнике стоит тарелочка с селедкой. Уксус возьмешь в шкафу. Понял? Лучок там же, на верхней полке. Когда покушаешь, завернешь хлеб в полотенце. А то он засыхает в две минуты. Понял?.. А я, — добавила бабушка важно, — ухожу по делу.
Бабушка уходит по делу!.. Это очень даже интересно. Но какие могут быть дела в субботу?
Сема встал, вышел во двор, медленно вытянул из колодца ведро с водой и тут же на высоком замшелом камне принялся умываться, фыркая и брызгаясь. «Ах, хорошо! — восхищался он, выливая на голову кружку холодной воды. — Очень хорошо!» Обтеревшись докрасна колючим полотенцем, Сема вернулся домой. На плите уже кипел чайник, крышка дрожала и прыгала. Сема отодвинул чайник в сторону и, усевшись к столу, принялся уничтожать селедку. Это была маленькая, несчастная рыбка без жира и без мяса. Есть ее было скучно. Чтобы насытиться, Семе пришлось мочить в уксусе куски хлеба. Он кашлял, крякал и ел… К концу завтрака пришла бабушка — лицо ее было сосредоточенно и серьезно.
— Так быстро? — улыбаясь, спросил Сема.
— Пока только одни разговоры, — уклончиво ответила бабушка.
— О чем?
— Тебе уже нужно знать?
— Обязательно! — Сема отодвинул тарелку в сторону и присел поближе к бабушке, с интересом ожидая ее рассказа.
Но бабушка молчала. Сощурив правый глаз, она что-то прикидывала и подсчитывала в уме.
— Половина, — наконец сказала она, развязывая платок. — Еще нужна уйма денег!
— Для чего? — деликатно спросил Сема, уже ерзая на стуле.
— Мы покупаем корову, — небрежно сказала бабушка таким спокойным и даже легкомысленным тоном, что Сема испугался.
— Кто это — мы? — осведомился он с тревогой, глядя на бабушку.
— Конечно, не я с тобой. Нас целая компания. Лурия, Шлема, Фейга… Мы покупаем себе корову.
— Кому ж она раньше будет? — засмеялся Сема. — Такая компания!
Бабушка обиженно пожала плечами:
— Ты еще мальчик. Нас всего восемь человек, и мы будем иметь свою корову. Понял? Подоили и в восемь кастрюлек вылили. А со временем… — бабушка вздохнула, — со временем она даже сможет дать приплод, и у нас будет своя телка.
— Странная затея.
— Ай, что ты понимаешь! — Бабушка строго посмотрела на Сему. — Ты разве знаешь вкус молока из-под коровы? Вот, допустим, перед вечером я беру маленький стульчик, сажусь и начинаю ее доить. Первым делом я даю тебе стакан парного молока. Это, Семочка, полпуда здоровья и пять лет жизни. А потом я беру ведро и разливаю в восемь кастрюлечек…
— Бабушка, — оборвал ее Сема, — это пустые сны. Ничего не выйдет, и можете не торопиться с кастрюлями.
— Почему? — дрогнувшим голосом переспросила бабушка, — Собрались ведь не мальчики, а взрослые люди и решили купить корову. И каждый вносит свою долю… Эх, Сема, — мечтательно произнесла она, — если у кого-нибудь, не дай бог, заболеет ребенок, так пошли надоили — и есть молоко. Ты понимаешь, что это значит?
— Нет, — признался Сема. — Что касается меня, так я люблю соленые огурцы…
В тот же день Пейся, смеясь, рассказывал Семе об утреннем совещании у отца:
— Ты бы видел, какие у них были лица. Такие важные и серьезные, как будто они уже имеют стадо. А папа мой — самый важный, потому что он мясник и больше всех понимает в коровах. Они уже советовались, в чьем дворе держать корову, и каждый хотел, чтоб корова стояла у него.
— А на выгон кто будет гонять?
— По очереди. Их же целых восемь хозяев…
Прошло несколько дней, и незаметно для себя Сема тоже увлекся будущей коровой. Он разговаривал о том, какие бывают масти, чем лучше кормить и поить их собственную Машу. Дух хозяина неожиданно проснулся в Семе. И, беседуя с бабушкой, он, к ее удовольствию, с важностью повторял:. «Наша корова должна быть…» или «У нашей коровы должно быть…» Он уже видел ее, живую, перед своими собственными глазами.
В среду к бабушке пришли все компаньоны на деловой совет. Пришел Лурия, избранный кассиром и доверенным лицом по покупке коровы. Пришел Пейсин папа, Шлема, поставлявший мясо царю. Пришла банщица Фейга — двоюродная сестра бабушки. И пришел просто так кучер Магазаника, Агафон, в котором неожиданно заподозрили большого знатока коров. Пришли Сема и Пейся.
— Да… — задумчиво произнес Лурия, когда все уселись вокруг большого обеденного стола. — А сколько, к примеру, она может дать молока в день? Как вы думаете, Агафон?
Лица всех гостей стремительно повернулись к кучеру. И Агафон, смущаясь и все же важничая, сообщил:
— Смотря по тому, какая бывает корова. Есть, допустим, корова калмыцкая…
— Калмыцкая? — с тревогой воскликнула бабушка, как будто в этом слове таилось для нее что-то ужасное.
— Да, — подтвердил Агафон, обрадованный действием своего рассказа. — А бывает, допустим к примеру, корова немецкая. Так вот немецкая калмыцкую перешибает, как все равно пить дать!
— Что он говорит? — опять взволновалась бабушка, не понявшая последних слов Агафона.
— Ничего особенного, — успокоил ее Лурия. — Если будет что-нибудь важное, я вам дам знать.
— Ну хорошо, — согласился Пейся, — а немецкая сколько даст в день?
— Я думаю… — нетвердо ответил Агафон, не зная, что же от него ждут: уменьшения или увеличения цифры, — я думаю, кварт восемь набежит.
— Это нас вполне устраивает… — опять подал свой голос Пейся, почувствовавший себя хозяином коровы.
Но неожиданно его оборвал отец:
— Что ты суешься? Тебя не спрашивают, что тебя устраивает!.. Скажите, Агафон, сколько корова весит?
— Весит? — удивился кучер. — Смотря какая…
— Ну, приличная.
— Приличная — пудов пятнадцать.
— Хорошо! — вздохнул мясник, привыкший больше иметь дело с тушами. — А сколько, пан кассир, — обратился он к Лурии, — мы имеем денег?
Лурия вытряхнул на стол содержимое своего кошелька и, внимательно подсчитав все деньги, сообщил:
— Девять рублей.
— Голова и передние ноги, — деловито прикинул мясник.
— Оставьте ваши шутки, Шлема, — улыбаясь, сказал Лурия. — А как мы будем делить молоко, если она, предположим, даст меньше, чем восемь кварт?
— Как? — Шлема удивленно поднял брови. — Прежде всего молоко больному ребенку, а потом остальным.
— Интересно, — возмутилась бабушка, — у меня один мальчик, а у вас шестеро, так у вас же всегда есть шанс, что один заболеет!
Сема и Пейся дружно прыснули, но бабушка сердито посмотрела на них, и они замолчали. Взяв в руки карандаш, Лурия принялся подсчитывать, сколько еще нужно денег для покупки приличной коровы. Все с затаенным дыханием следили за его карандашом.
Тишину нарушил Агафон неожиданным предложением.
— А все-таки, — серьезно сказал он, обводя глазами присутствующих, — я бы лучше купил лошадь!
— Зачем она нам, чудак? — удивился Шлема.
— Ездить, — резонно ответил Агафон, и только в эту минуту все заметили, что кучер изрядно выпил и его клонит ко сну. — Ездить! — упрямо повторил он, ища поддержки.
Но никто ему не сочувствовал, только Сема и Пейся в душе были за лошадь — ведь это большое удовольствие прокатиться в своем фаэтоне!
В один из праздничных дней Шлема и Лурия отправились на ярмарку в соседнее местечко покупать корову. Их возвращения ждали с тревогой и страхом.
— Только бы им не подсунули калмыцкую! — беспокоилась бабушка.
— Это еще хорошо, — подливала масла в огонь жена Лурии. — А вдруг дадут слишком старую?
— А глаза у них есть? — возмущалась бабушка, уже готовая принять бой.
Компаньоны вернулись поздним вечером. Впереди важно шел Шлема, обмотав тяжелой веревкой руку; за ним медленно плелась корова, уныло и тягостно мыча. В стороне по деревянному настилу шел Лурия, задумчивый и грустный, — видно было, что его терзают большие сомнения.
— Купили? — остановила его бабушка. — В добрый час! Ну как, ничего себе корова?
— Посмотрите, — уклончиво ответил Лурия.
— Но сейчас ведь темно.
— Придете утром в сарай.
— Лурия, — обратился к старику Сема, силясь сдержать улыбку, — это корова или так просто?
— Кажется, так просто? — шепотом ответил сапожник. — Мне что-то не нравится ее вид.
Утром во дворе Лурии собрались компаньоны, сумрачные и встревоженные. Посреди двора стояла корова на худых пятнистых ногах и, смущенно опустив голову, ковырялась в земле.
— Что она ковыряется? — тихо спросила бабушка. — Она уже ела что-нибудь?
— Ела, — ответил Шлема, глядя куда-то в сторону на забор.
— Ну, — деловито сказала бабушка, засучивая рукава, — теперь надо брать ведро и доить!
— Уже пробовали! — прошептал Шлема, угрюмо почесывая затылок.
— Что значит — пробовали?
— «Что значит, что значит»! — рассвирепел мясник. — Ни одной капли из нее не выгонишь! Не корова, а несчастье на мою голову!
— Волноваться не надо, — неожиданно успокоила его бабушка, — А вдруг она такой породы, что доится через день? Надо позвать Агафона!
Все согласились, и кучер немедленно был приглашен на осмотр. Он вошел, важно пригладил бороду и, нахмурив брови, приблизился к корове. На ее широкой костлявой шее дрожал маленький, застенчивый колокольчик.
— Так вот что, — наконец произнес Агафон, снисходительно прогоняя мух от коровы, — есть еще такие коровы — яловки. Она, видно, из них.
— Что, что? — переспросила бабушка. — Что это вдруг за яловки?
— Ничего, говорю, — повторил Агафон, — корова как корова, всё на месте, только молока, извините, не дает… Сказывал вам — лошадь покупайте! — с злобой добавил он и пошел со двора.
— Куда же вы смотрели? — встрепенулась бабушка. — Двое мужчин поехали — и такой позор! Этот жулик на ярмарке вас ждал! Нельзя было спросить? Нельзя было подождать? Или вам деньги жгли карман?
— Это он, — показал Лурия на Шлему и улыбнулся. Обычное смешливое настроение вернулось к нему, и он уже со стороны смотрел и на себя и на корову.
— Это вы? — удивилась бабушка. — Вы, мясник, позволили себе влезть в такую лужу?
— Еще можно выручить часть денег, — извиняющимся голосом произнес Шлема и вытер пот с лица. — Только ее придется убить.
— Убивайте, режьте, делайте, что хотите!.. — Бабушка махнула рукой. — Сема, пойдем!
Но уйти сразу же не удалось. Распахнув настежь ворота, во двор ввалился Мойше Доля.
Он строго посмотрел на собравшихся, потом шлепнул ладонью по спине коровы, со злостью сплюнул и выругался.
— Кто здесь старший? — спросил он сердито. — Вы, Шлема? Будьте любезны вернуть мою долю!
Шлема растерянно оглянулся, ища поддержки, но все уже покинули двор Лурии. Только бабушка стояла около коровы и с тоской смотрела на ее худую спину.
— Боже мой, — шептала горестно бабушка, — на ней даже мяса нет! И она еще смеет сходить за корову!
Но корова, не понимая чувств бабушки, подняла на нее свои испуганные, сиротские глаза и замычала тоскливо и глухо.
Корову ругали за то, что она корова, и за то, что она не корова, и за многое другое. Наверно, за всю свою жизнь она не переживала ничего подобного.
Однако вскоре выяснилось, что корова не так уж безнадежна.
К бабушке пришел Шлема с Лурией. Сдвинув на затылок картуз, Шлема, улыбаясь, сообщил:
— Оказывается, нужно выждать время, и она будет доиться.
— А я что говорила! — обрадованно воскликнула бабушка. — Я это сразу заметила по ее глазам!
— Да? — удивился Лурия. — А сколько, по-вашему, нужно ждать?
— Я знаю? День или три дня… У меня есть терпение.
— Хорошо, — вежливо согласился Шлема. — А год вы не хотите?
— Год? — Бабушка опустилась на стул и засмеялась. — Это уже слишком много для меня.
— Но вы подумайте, — уговаривал ее Шлема, — ведь мы ее купили совсем даром, по дешевке. Пройдет какой-нибудь год, и, если с коровой ничего не случится, она начнет лить молоко.
Но бабушка уже не слушала его.
— Ничего не надо! — воскликнула она, размахивая руками. — Довольно дешевок! А то будет, как с тем мужем.
— С каким мужем? — заинтересовался Лурия.
— Вы разве не знаете? Был на свете один муж, и он любил иметь дело с дешевками. Он принес домой полдюжины стульев. Жена взглянула на покупку и ахнула: косые, хромые, ведь на них смотреть стыдно! «А зачем тебе на них смотреть? — успокоил ее муж. — Тебе на них сидеть надо. И потом это дешевка, полцены, все равно как даром!» Прошло два месяца — стулья расклеились. Потом муж принес ей отрез на платье, зеленый, как укроп. «Зачем мне такое платье?» — спросила жена. «Что ты спрашиваешь? — обиделся муж. — Хотя это крашеный кусок, но дешевка, за полцены!» Жена вздохнула и спрятала материю в комод. Пусть лежит! Потом муж притащил на себе кровать, широкую, с большими птицами на спинках. «Зачем еще это?» — возмутилась жена. «Ты ничего не понимаешь! — рассердился муж. — Хотя сетка здесь гнилая, но кровать досталась мне по дешевке, за полцены!» Жена постояла, постояла, покачала головой и сказала: «Знаешь ты что, будь здоров с твоими дешевками!» — и ушла к другому…
Лурия засмеялся и положил руку на плечо бабушки:
— Так что вы нам советуете? Не иметь дела с дешевками?
— Конечно. С курицей-наседкой я еще могу помириться. Но корова-наседка… — Бабушка растерянно развела руками. — Бог с ней!
На этом и порешили. И, может быть, потому, что было принято решение, все вдруг стали говорливы и веселы. Гора свалилась с плеч! Все сразу почувствовали, как хорошо жить, не имея коровы, — ну просто одно удовольствие!
— Будем уж смеяться с горя, — сказал Лурия. — А вы заметили, как у нее торчат лопатки? Это же горбунья какая-то!
— Да, — подхватил его слова Шлема, — а вы бы видели, как она сегодня посмотрела на меня. Она уже сама не рада, что попала в такую историю!
— Вы так говорите, — вдруг вмешался в разговор Сема, — как будто бы корову покупал я, а не вы.
Шлема закашлялся, почувствовал себя неловко и, подмигнув Лурии, быстро вышел из комнаты. В тот же день корова была продана. Компаньоны ничего не заработали на ней. Но кто думал о прибыли? Спасибо, что обошлись без большого убытка!
И все пошло по-старому, только Сема, к своему удивлению, заметил, что бабушка заважничала. Да, да? Встречаясь со знакомыми на базаре или на улице, она, куда надо и куда не надо, умудрялась вставить такую фразу: «Когда у нас была корова…»
«Когда у нас была корова»! Стоит послушать, с какой важностью бабушка произносит эти слова, стоит посмотреть в эту минуту на ее лицо!
Мойше Доля быстро привык к местечку и чувствовал себя хозяином положения. Сема всегда с удовольствием наблюдал за ним во время прогулок по улицам. Мойше шел по прямой линии, не сворачивая ни влево, ни вправо, и все встречные уступали ему дорогу. Одни это делали испуганно-быстро, другие с важностью переходили на противоположную сторону, как будто им просто наскучило гулять здесь. Заметив толпу, Доля спокойно шел на нее, и толпа рассекалась надвое.
Люди провожали его пристальными взглядами и вздыхали с облегчением, когда он наконец исчезал. Сразу начинались разговоры о том, что не такой уж сильный Доля, что он просто нахал, что он «представляется», что он, хотя и сильный, но дурак. Да, дурак! На последнем особенно настаивали люди тщедушные и узкогрудые. Возможность хоть так обругать сильного, здорового Долю, которому они тоскливо завидовали, доставила им огромное удовольствие. Но, ругаясь, они готовы были сию же секунду отдать Доле весь свой ум и все свои доблести в обмен на кусочек его здоровья. Всех больных огорчало не только его пребывание в местечке. Вообще его существование на белом свете было им неприятно. «Здоров как бык! — бурчали они. — И хоть бы когда-нибудь у него болели зубы!»
Мойше слушал все это, молча заходил в лавку, просил приготовить ему небольшую покупку — крупы, сахара, масла, муки. И, пока взвешивался товар, он с любопытством вертел на указательном пальце маленькую пудовую гирю. Уже это не предвещало ничего хорошего, и хозяин аккуратненько заворачивал кулечки, заискивающе засматривая в глаза Доле и боясь сказать лишнее слово.
Только однажды у Доли произошла осечка. Он вошел в магазин Гозмана и, остановившись у прилавка, принялся рассматривать обувь. Двери были открыты, и Сема вместе с другими любопытными наблюдал за происходящим. Мойше отбросил в сторону пару желтых туфель и попросил показать что-нибудь шевровое. Черные ботинки, высокие, с пряжками, видно, пришлись ему по вкусу, и он, причмокнув, сказал:
— Вот это товар! Я здесь имею долю.
В это время из конторки вышел Гозман и, заложив большой палец левой руки в карманчик жилетки, приблизился к Мойше.
— Что вы сказали? — спокойно спросил он, приподняв правую бровь.
— Я здесь имею долю, — повторил Мойше, с удивлением рассматривая осмелевшего купца.
— Почему? — заинтересовался Гозман.
— Так просто.
— А-а, — протяжно произнес купец, — а я думал, что вы мой компаньон!
Присев на стул, Гозман задумчиво почесал затылок и, закрыв глаза, вытянул ноги. Через секунду он взглянул на Долю и удивленно спросил:
— Вы еще здесь? А я думал, что вы давно ушли.
Мойше пожал плечами, озадаченный неожиданным отпором, и, не глядя ни на кого, повернул к выходу. Большой, широкоплечий, он вдруг показался смущенным и маленьким, а купец продолжал сидеть на стуле и рассеянными глазами провожал непрошеного гостя. Сема с досадой плюнул и пошел вслед за Долей. Он готовился к приятному зрелищу. Он ждал, что вот-вот посрамленный и испуганный Гозман убежит в конторку, но вышло наоборот. Спокойствие купца ошеломило Долю, и он сдался. Может быть, сейчас, идя по улице, Доля уже забыл о происшествии в магазине, но Семе, у которого с хозяином были свои счеты, эта победа доставила мало удовольствия.
— Скажите, — отважился спросить Сема, — почему вы его не толкнули?
— Воробей, — засмеялся Доля, — ты уже хочешь клевать?
— Да, — вздохнул Сема, — если б мне вашу силу!
— А в участок ты бы за меня сел? — Доля, опустив голову, взглянул на Сему и, улыбаясь, подбросил его вверх, как мячик. — Хорошо? Может быть, еще раз?
— Папа! — раздался крик.
И Мойше, спрятав за спину руки, прошептал Семе:
— Это моя дочь!
Похоже было, что Доля испугался ее появления. Но Сема не собирался бежать. Он вспомнил слова Пейси о «хворостиночке» и решил сам посмотреть на нее. Интересно, какая может быть дочь у Доли! Девушка приближалась к ним. В темном ситцевом платье с высоким воротником она казалась даже старше Семы. Она не опустила глаза, как это часто делали при встрече девочки, а посмотрела на Сему в упор строгим и каким-то пробирающимся далеко взглядом.
— Ты мог разбить мальчика, — тихо сказала она отцу и вновь посмотрела на Сему. — Разве ты не видишь, что он слабенький? — укоризненно спросила она Долю.
Доля молча поднял свою большую красную руку и провел ею по голове дочери. Девушка улыбнулась, ее бледное, строгое лицо покрылось легкой краской, но глаза, какие-то особенные, черные грустные глаза смотрели испытующе строго. Никогда еще в жизни Сема не видел таких больших и глубоких глаз — казалось, они забирали его всего целиком, с измятой кофтой, с коротенькими, узкими штанами, с рыжими шнурками на ботинках. Глаза были какие-то чистые, словно вымытые, и тихий, добрый свет падал на него, и ему было почему-то стыдно, и дыры на его штанах шевелились, как живые.
Сема неуклюже кивнул головой и побежал без цели, без толку, не думая ни о чем. Сердце стучало так сильно, что казалось, будто оно бьется в горле. Он остановился, вздохнул, широко раскрыв рот, и понял, что произошло что-то непоправимо ужасное. Подняв глаза, он увидел вечернее небо, темное, низкое, с одинокой желтой звездой. Надо было идти домой, но ноги не слушались его, да и не мог он идти сейчас в маленькую комнату. Он должен был оставаться здесь, на этом широком пустыре, где всего так много: воздуха, земли, неба.
И раньше Сема встречал девушек, но они не были похожи на нее. Краснощекие, полногрудые, с быстрыми, сильными ногами, они ходили по улице, подруги-невесты, чего-то нетерпеливо ждущие, жаркие и шумные. От них пахло мылом и чем-то домашним, вкусным. Они садились на скамью и насмешливо осуждали прохожих, пели песни, смеялись. И все они мечтали о городе без названия, им хотелось уехать куда-то далеко и надолго.
Иногда они волновали Сему своими стыдными расспросами, своими движениями и больше всего тем, чего не договаривали они, с любопытством глядя на растущего парня. Но все же он редко думал о них, и сны его были спокойны. И вот эта девушка, которая уже забыла о своей случайной встрече, чем-то зацепила и встревожила его. И, вспоминая свое неловкое молчание и думая о том, каким, должно быть, смешным и жалким был он в руках у Доли, Сема краснел и тяжело дышал.
«Как же ее зовут? — спрашивал себя Сема. — Эля? Или, может быть, Эсфирь? Или Злата, или Шера, Двойра, Шенделе?» Все имена казались ему некрасивыми для нее. И он продолжал искать: «Может быть, Ревекка, Елона, Рахиль, Лия?..» Он терялся в догадках, и ему было досадно думать о девушке, не зная ее имени. Он вздохнул и направился к Пейсе…
Приятель играл с отцом в шахматы; его слон творил чудеса, совершая под шумок недозволенные ходы.
— Он же только что стоял тут, — удивлялся Шлема, глядя на Пейсиного слона.
— А теперь он тут, — отвечал Пейся, передвигая фигуру.
— Хорошо, — вдруг хватался за голову Шлема, — а где мой конь?
Пейся смотрел куда-то мимо доски, и видно было — не без его участия произошла гибель отцовского коня…
Сема нетерпеливо ждал.
— Выйди на одну минуточку! — прошептал он.
— Сейчас, — согласился Пейся, бросая прощальный взгляд на поле. — Папа, слышишь, чтоб все оставалось на месте!..
Игроки не очень доверяли друг другу.
На улице Сема внимательно посмотрел на товарища. Он привык к Пейсе, но сейчас в нем не хватало решимости сразу все рассказать.
— Уже сухо, — сказал он, — можно даже сесть.
Они опустились на скамейку.
— У тебя есть дело? — спросил Пейся.
— Нет, так просто.
Несколько минут они молчали, и заскучавший Пейся, позевывая, принялся рассказывать, как Гозман сегодня выпроваживал Долю из магазина.
— Смотрю, — воодушевился Пейся, — смотрю, он как ударит его! Раз и два…
— Я все видел, — оборвал его Сема. — Ты мне лучше скажи: ты когда-нибудь влюблялся?
— Что, что?
— Я спрашиваю, — устало повторил Сема, — ты когда-нибудь влюблялся?
— Я влюблялся? Что ты! — оправдываясь, произнес Пейся. — Хотя постой… Один раз. Да! Один раз в меня влюбились.
— Кто?
— Как тебе сказать… — замялся Пейся. — Тут была у нас одна соседка. Лет тридцать пять. Ну, правда, толстая. Она влюбилась и просто проходу мне не давала. А я мимо! Она такая толстая, что мне смотреть жарко.
— А что же?
— Ничего. Проходу просто мне не было. Как увидит — кричит: «Пейсинька, Пейсинька, не сочтите за труд, вытяните ведро из колодца!» или «Пейсинька, Пейсинька, не сочтите за труд, наколите дров!» Стерегла меня. Вечером заметит, кричит: «Пейсинька, не сочтите за труд, почините засов на двери?» Дышать без меня не могла!
— И это всё?
— Всё, — развел руками Пейся.
— Ну, будь здоров!
— Будь здоров, — удивленно простился Пейся.
— Да, — остановил его Сема, — скажи-ка, как зовут эту?.. — Он щелкнул двумя пальцами. — Ну, эту, хворостиночку?
— А-а, — разочарованно протянул Пейся. — Ее зовут Шера.
Возвратившись домой, Сема все время повторял про себя:
«Шера, Шера!» И хотя совсем недавно он отбросил это имя как неподходящее, сейчас оно казалось ему самым красивым на свете. Он тихо погасил свет и лег в постель. Нет, не спать, только думать о ней… Но думал Сема недолго. Прижавшись щекой к подушке, он быстро уснул, и сны у него были какие-то простые, домашние: кошка опрокинула кастрюлю, бабушка взбивает белки, и пена летит с тарелки на пол.
Еще один удар молотка, еще один деревянный гвоздик влетает в подошву, и еще одну песенку затягивает Сема:
И говорить нечего, на что похожа эта песенка, если она попалась на язык Семе. Кто ее слышал когда-то, теперь не узнает, потому что у Семы все мотивы на один мотив, и этот один мотив не имеет никакого мотива. Но он такой парень… Он думает, что поет, он даже уверен в этом. Уже Семе тридцать раз намекали, что он песни хорошо… рассказывает. И хоть бы что! Поет!
А тут еще с ним случилось что-то невеселое. Целый день тянет он какую-то погребальную, и можно не завидовать его соседям. Но что соседи? Соседи — чужие люди, бабушка и то не выдержала.
— Сема, — тихо сказала она, — может быть, уже хватит?
— Чего? — удивился он, с досадой прерывая пение.
— Твоих песен…
— А что, разве очень плохо?
— Очень, — неловко призналась бабушка. — И потом ты еще так кричишь, как будто тебя режут.
— Я кричу? Не может быть!
Бабушка с таким состраданием, с такой жалостью взглянула на Сему, что он не смог сдержать улыбку.
— Больше не буду. А ты… — Сема замялся, — посиди здесь, чтоб я опять…
Но бабушку не пришлось уговаривать. Опять? Нет, уж лучше она сама посторожит его, и песен пока не будет. К тому же всегда приятно поговорить с умным внуком. Кажется, вчера он бегал за ее юбкой, а сейчас, пожалуйста, смотрите — молодой человек… Если б только он ел, как мужчина!
— Ну, бабушка, — заговорил наконец Сема, с трудом отвлекаясь от тягостных размышлений, — расскажи мне что-нибудь!
— Что тебе рассказать, Сема? — вздохнула бабушка. — Когда-то здесь кругом был густой лес. А там дальше, где теперь станция, отец Гозмана держал шинок, и, может быть, два человека за день заходит к нему. И вдруг провели железную дорогу, старик Гозман открыл заезжий двор и зажил, как помещик. Повезло!..
— Нет, бабушка, — прервал ее Сема, — ты лучше мне расскажи, как ты полюбила дедушку.
— Я? — переспросила бабушка, застенчиво улыбаясь. — Хорошо… Мы жили на хуторе Кривуха, а дедушка — на хуторе Долгий. Дедушке тогда было уже пятнадцать лет, и пора было подумать о невесте. И вот отцу его сказали, что на Кривухе есть женщина, торгует мылом, и у нее есть черненькая племянница, статная и красивая, как раз для вашего мальчика. Понял? Это дедушка был мальчиком. И ему сказали: «Поезжай в кривухинскую баню, а по дороге зайди, купи мыла». А моей тете дали знать, чтоб девочка — это я — целый день сидела в лавке. Так мы и встретились. Я ему завернула в бумажку мыло, а он пошел в баню. Я не смотрела на него, он не смотрел на меня.
— Ну, а дальше?
— А дальше прислали сватов.
— А дальше?
— А дальше приехал худенький мальчик и ни за что не хотел со мной поздороваться за руку и все время говорил: «Я хочу домой!»
— А дальше?
— А дальше я поспала всю ночь, хотела вспомнить, как выглядит жених, но не могла. А потом меня повезли к ним в гости. И все их родственники собрались смотреть на меня. А я не знала, что сказать… Потом родственники вышли, и мы остались вдвоем. Дедушка молчал, а я думала: «Ну, скажи уж два слова!» И так мы просидели, пока стемнело, и дедушка наконец сказал: «Можно уже зажечь лампу!» — и долго возился с фитилем, а потом подошел ко мне и улыбнулся: «Ну, лампа ужо горит!» А я ответила, что надо прикрутить фитиль, а то может лопнуть стекло. А дедушка сказал, что лампа сильно коптит и было б хорошо подрезать фитиль. Но я не согласилась, я сказала, что, может быть, просто в ней мало керосину. «Керосину много!» — рассердился дедушка и так тряхнул лампой, что она потухла.
— Интересно! — засмеялся Сема. — А дальше?
— Дальше была помолвка, а потом свадьба.
— И это всё?
— Всё.
Сема опустил голову и задумался. Нет, в этом деле бабушка не советчик. Но у кого же спросить, у кого узнать, что нужно делать? И опять ему представилось бледное лицо Шеры, ее маленькие руки и глаза, смотрящие прямо на него с любопытством и сожалением. Почему он думает о ней и вообще что это такое? Может быть, он болен? Сема провел рукой по лбу и решительно встал.
Был бы Моисей или Трофим — Сема все бы выяснил. Наверняка и с ними случался такой испуг! Но их нет. И к кому пойдет Сема? Пейся не поймет. Антон не догадается. Шац слишком стар. Лурия слишком насмешлив… Один! Во всем белом свете один… Надо пойти к ней и сказать… Что сказать? И где это видано — Сема вдруг вспыхнул, — чтоб мужчина ходил первым. Даже дедушка вот… А чем он хуже дедушки?
Сема взволнованно заходил по комнате. Он ничего не хочет, ему просто приятно видеть ее, вот и всё. А почему приятно — он не знает, и довольно этих вопросов. Надо написать письмо. Сема взял в руки перо и склонился над листком белой бумаги. «Дорогая Шера!..» Нет! Почему это вдруг с первого раза уже дорогая? «Здравствуйте, Шера!..» Глупо! При чем тут «здравствуйте»? Еще бы писал: «С добрым утром!..» Неожиданно ему вспомнились читанные давно строчки, и перо быстро понеслось по листу:
«Многие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее.
Глаза твои голубиные под кудрями твоими, волосы твои, как стадо коз… Как лента алая, губы твои…»
Нет, и это не для нее! «Глаза твои голубиные», а у нее вовсе не голубиные. И при чем тут «козы»? Сема со злостью скомкал бумажку и, опустив голову на грудь, тяжело вздохнул. И откуда взялось это несчастье!
После работы Сема, не умываясь, вышел на фабричный двор и присел тут же, на камне, подперев кулаками лицо. «Хорошо бы податься куда-нибудь, — думал он, — на поезде. И ищи Сему! А потом через несколько лет приехать сюда богатым. Приехать, построить бабушке с дедом высокий дом, и чтоб зимой били фонтаны. А потом прийти к Магазанику и сказать: „У вас шелк есть?“ — „Есть. Сколько вам?“ — „Всё!.. А сукно есть?“ — „Есть. Сколько вам?“ — „Всё!“ — и вывезти всю Магазаника лавку. И еще пойти к Гозману: „У вас мальчиковые ботинки есть?“ — „Есть!“ — „Заверните все!“ — и вывезти на телегах всю гозмановскую лавку. И купить еще пару лошадей, привести их Гершу и сказать: „Вот вам будет Наполеон, а вот вам будет Бонапарт…“ Эх!.. — Сема глубоко вздохнул. — Надо еще Пейсе купить рубашку, чтоб он не ходил в этой розовой наволочке… А Шере…»
Но Сема так и не успел решить, чем обрадовать Шеру. К нему подошел сапожник Лурия и, насмешливо улыбаясь в порыжевшие от табака усы, сказал:
— Мечтаешь!
Сема молчал.
— У меня для работы десять пальцев, — опять заговорил Лурия. — И на каждый палец по сыночку…
«Знаю уже, — сердито подумал Сема, — докладывал! Что дальше?»
— И я не так уж часто, — продолжал Лурия, — жалуюсь. Я всем доволен. Почему? Я знаю: нашим детям будет лучше, и детям детей — совсем хорошо. Твой папа, — добавил он шепотом, — называется социаль-демократ — большевик. Хорошо, пожалуйста, если он так хочет. А я никак не называюсь. Я называюсь просто Лурия. Но я его понимаю… И мне хочется, Сема, когда он приедет, чтобы к нам не было упреков, что сын его высох, или похудел, или еще что-нибудь!
Сема молчал, не зная, что сказать, и все продолжай думать о своем.
— Ты не воображай, что я хочу выслужиться перед твоим отцом. Ты еще не можешь понять, в чем дело. Но, одним словом, если ты грустный, я должен знать почему. Может быть, тебя обидели, так скажи. Я сейчас же…
— Нет, Лурия. — Сема улыбнулся и поднял на него глаза. — Все хорошо.
— А-а, — понимающе протянул Лурия и кивнул головой. — Значит, Сема, мы имеем дело с сердцем. Так почему ты мне сразу не сказал? Я ведь тоже был влюбленный!
«Да! — насмешливо подумал Сема. — И говорил про лампы?»
— А ты знаешь, — понижая голос, сказал Лурия, — что в наше время говорили относительно любви? Не знаешь? Ну, тогда слушай. — Он закрыл глаза и каким-то новым, торжественным голосом начал читать на память:
Лурия остановился и испытующе взглянул на Сему:
— Ну как? Понимали что-нибудь в наше время?
— Еще, еще, — попросил его Сема, — читайте!
Лурия довольно улыбнулся:
— Ну, слушай!
Лурия ласково похлопал по плечу удивленного Сему и, скорчив смешную гримасу, сказал:
— А ты думал, что мы всю жизнь были такие старые и некрасивые? Ты думал, что я сразу родился лысый, с фальшивыми зубами? Да, Сема?
— Что вы! — начал оправдываться Сема, стараясь не упустить из памяти только что слышанное. — Вы и сейчас молодой!
— Может быть, — пожал плечами Лурия, — но, должно быть, уж очень темно! — Он засмеялся и, пожав Семе руку, вышел за ворота на улицу.
Сема медленно побрел домой. Веселое настроение, возникшее минуту назад, мгновенно исчезло.
После разговора с Лурией стало почему-то еще грустнее. Наверно, потому, что Сема знал, как много горя у сапожника, как трудно ему быть веселым. И то, что он, забыв обо всем, утомленный после работы, остановился подле него, и то, что вспоминал он специально для него, для Семы, какую-то старую забытую легенду, — все это растрогало Сему, и ему стало жалко Лурию, его жену, детей… «Счастье твое умножу, — повторял Сема, — горе твое приемлю!..»
На другой день после обеда Сема решил выйти на улицу и при случае подойти к Шере. Он даже придумал красивую фразу, с которой можно начать разговор. Он подойдет и скажет:
«Вы меня не знаете, но я знаю вас. И мне хочется иногда слышать ваш голос и смотреть в ваши глаза, если это вам не помешает».
Дважды повторил он эту фразу и остался доволен: все вежливо, как подобает приличным людям. Он отправился на прогулку, но, как назло, Шера не попадалась ему на глаза. «Может быть, заболела? — вздыхал Сема. — Может быть, уехала?..»
К вечеру, возвращаясь домой, он шел особенно медленно, вглядываясь в каждого встречного, надеясь все же повидать Шеру. Но Семино счастье! Аптекаря, у которого всегда открыт рот и язык похож на сырую котлету, он встретил три раза, а Шеру — ни одного. Такое адское невезение! Он готов был уже повернуть к мосту, но вдруг увидел выходящую из ворот девушку. Волнение охватило Сему. Он быстро повторил про себя: «Вы меня не знаете, но я знаю вас. И мне хочется иногда слышать ваш голос и смотреть в ваши глаза, если это вам не помешает». Всё в порядке, и, пригладив непокорные пучки волос, Сема направился навстречу Шере.
Кажется, хорошо? Нет! У Семы никогда не бывает хорошо до конца. Шера шла по улице, но на руке ее болталось пустое ведро. Что может выйти приличного из такой встречи с пустым ведром? Это же первый признак неудачи! Отступать, однако, было уже поздно, и Сема, столкнувшись лицом к лицу с Шерой, тихо сказал:
— Здравствуйте!
Она кивнула головой, с удивлением взглянула на него, и наступила минута молчания, очень долгая и трудная для обоих.
Сема, как назло, забыл заученную фразу, и только последние слова: «если это вам не помешает» — каким-то чудом уцелели в его памяти. Куда годятся эти слова — с ними никуда не сунешься!
— Вы идете набирать воду? — краснея, спросил Сема.
— Как это вы догадались? — улыбнулась Шера.
— А ведро же, — развел руками Сема, чувствуя себя плохо и вспоминая дедушкину лампу.
До самого угла шел он рядом молча и только на другой улице, обрадовавшись чему-то, заговорил торопливо и громко.
— Вы меня не знаете, — воскликнул Сема торжественно, — но я знаю вас!..
— Почему? — неожиданно оборвала Сему Шера, глядя на него смеющимися глазами. — И я вас тоже знаю. Вы — Сема. И вы даже… — она лукаво улыбнулась, — и вы даже Старый Нос.
— Кто сказал? — возмутился Сема. — Я ему!..
— Что — вы ему? — с любопытством спросила Шера и перебросила через плечо тяжелую косу.
— Уши надеру! — угрюмо ответил Сема.
— А еще что?
— Подзатыльников дам!
— Я вижу, Сема, вы не скупой.
— Нет! — сердито огрызнулся Сема. — Он уже получит от меня! Нужно только знать, кто он.
— Это не секрет, — пожала плечами Шера, — мой папа…
Сема посмотрел на Шеру каким-то внезапно остановившимся взглядом и проглотил слюну. В милое положение его поставила эта девчонка! Интересно бы он выглядел, если б захотел отвесить подзатыльник Доле.
— Придется отложить… — смущенно сказал Сема. — А мы ведь уже прошли колодец.
— Вернемся, — улыбнулась Шера. — Так вот, папа сказал: «Этот мальчик — Старый Нос. Он воробей». Это у папы самое ласковое слово… Я вот тоже воробей.
— У нас, наверно, одна стая. — Сема галантно поклонился и, взяв у Шеры ведро, принялся доставать воду из колодца.
Шера подошла к нему и, положив руку на его плечо, заглянула вниз. Ведро еще не коснулось воды, но вот оно опустилось, зачерпнуло немножко. Сема дернул веревку еще раз — и ведро сразу отяжелело.
— Готово, — сказала Шера и, положив свои руки на его, смуглые и шершавые, принялась тянуть веревку.
В эту минуту какой-то незнакомый холодок пробежал по спине Семы, и ему захотелось, чтоб веревка была очень длинной и колодец бесконечно глубоким… Опустив осторожно вдвоем ведро на землю, они молча подняли головы, и глаза их встретились.
— Шера, — тихо сказал Сема, — теперь я вижу, капая вы красивая. У вас глаза как угли.
Но Шера не обрадовалась комплименту.
— Знаете что, — сказала она, — пойдемте к нам. Как раз папа дома, и вы сможете надрать ему уши.
— А как я доберусь до них? — улыбнулся Сема. — У вас есть подходящая лестница?
Они пошли вместе. Сема нес ведро, и, так как он мало думал об этом, вода то и дело выливалась на землю.
— Оставьте мне хоть кружечку! — взмолилась Шера.
— Скажите, — Сема вдруг остановился, — а он вас никогда не трогает?
Лицо Шеры мгновенно сделалось грустным, и Сема понял, что он ляпнул что-то неподходящее.
— Он никого не трогает, — гордо ответила Шера, — слышишь, мальчик! Это только говорят о нем. Ему уже больше сорока лет. И он не виноват, если ему негде руки приложить. Он не виноват, что мама умерла, он не виноват, что у нас никого нет…
Сема уже очень жалел, что затеял этот разговор, но Шера продолжала с укором смотреть на него.
— Он мухи не обидит! А ты говоришь! — с обидой сказала она, неожиданно переходя на «ты».
— Я ничего не говорю! — оправдывался Сема. — У меня тоже нет мамы.
— А кто у тебя есть?
— Бабушка, дедушка.
— Бабушка, дедушка? — удивилась Шера. — И они тебе не могут сделать брюки длиннее?.. Тут же наверняка есть запас, — деловито добавила она. — А ты сам не можешь причесаться? И почему у тебя нос черный? Ты нюхал сажу?
Сема смущенно молчал. Откуда вдруг сажа?
— А из рукава пальто, — не унималась Шера, — торчит локоть. Зачем ждать, пока дыра вырастет? Нужно заштопать, пока она маленькая. Ты понимаешь что-нибудь в этих делах?
— Нет, — признался Сема, — я только иногда для бабушки просовываю нитку в иголку. Бабушка плохо видит.
— А я и дрова рублю, — сказала Шера, — и обед готовлю. И окна у меня блестят… На мне все хозяйство лежит! — вздохнула она. — Мама наша больная была. А у папы сразу руки опустились, побледнел, испугался… Пришлось все самой делать. Видишь?
Но Сема ничего не видел: уже наступил вечер, и улица была темна и пустынна.
— Называется — ушла на минуточку, — всплеснула руками Шера, — и сказала папе: одним моментом будет чай. Хорошая минуточка! — Она подошла к ведру и махнула Семе рукой: — Ты иди! Тебя там ждут, а меня тут ждут.
— Я пойду, — колеблясь, ответил Сема. — А если бы нам еще раз повидаться?
— Даже два, — улыбнулась Шера, — у меня ведь знакомой души нет. А тут вдруг такой кавалер! Только слушай, Сема, — сказала она тихо, — если ты уж нюхаешь сажу, так вытирай после этого нос. Хорошо?
Сема радостно кивнул головой. Сейчас он был согласен на все…
Проходя мимо высокого дома Магазаника с большими, светлыми окнами, Сема заметил маленькую, притаившуюся у забора фигуру. Конечно, какое дело Семе до этой фигуры, пусть делает, что ей хочется, тем более что Сему ждет бабушка. Но все-таки интересно знать, что нужно этому еврею в поздний час возле дома купца? Сема тоже притаился.
Человек в синей куртке с поднятым воротником бесшумными шагами подкрался к забору и, оглянувшись по сторонам, быстро перепрыгнул во двор. Сема последовал за ним. «Наверняка жулик в маске!» — с волнением подумал Сема. В местечке завелась своя собственная маска! Человек, согнувшись, подбежал к полуоткрытому окну и остановился. Сема подполз к нему и поднял голову. Никакой маски не было! Перед ним стоял Антон, к чему-то настороженно прислушиваясь.
— Вот это встреча! — воскликнул Сема, вытирая пот.
— Молчи, — прошептал Антон, зажимая ему ладонью рот. — Слышишь?
Из окна доносились незнакомые звуки какой-то городской веселой песни.
— Что это? — тихо спросил Сема, не понимая, что здесь особенного нашел Антон.
— Стой тихо! — разозлился Антон. — Не понимаешь?
— Что это? — вновь спросил Сема, удивляясь еще больше.
— Фисгармония играет! — прошептал Антон, приставив ухо к окну. — Слышишь?
Сема пожал плечами и тихо выбрался со двора. «Фисгармония — подумаешь, какое счастье! Он даже не знает такого слона и ничего — жив, здоров. Вот Шера — это другое дело. И как все получилось просто, — с удовольствием вспоминал Сема, — я ей сказал, и она мне сказала!.. Как будто знакомы сто лет!..»
Тревоги остались позади, и веселое настроение вновь вернулось к Семе. Все-таки жизнь — интересная вещь, даже если в местечке не ходит конка.
Живой человек, если он еще ходит своими ногами, горевать не должен. Вот, допустим, у Гозмана есть такой служащий — Ланцет. Он очень худой и от этого страшно переживает. Такое трудное положение… И действительно, Ланцет очень худой, и кажется, что он весь состоит из палок: две палки внизу, две палки в рукавах и самая тоненькая палка — та, на которой он носит свою голову. Одним словом, Ланцет — не красавец, и влюбиться в него с первого взгляда нет никакой возможности.
Но кто сказал, что это навсегда? Ланцет — живой человек, и всякое бывает! Есть, например, такая болезнь, что если после нее не умирают, то появляется волчий аппетит, и человек начинает поправляться. Или совсем другой случай. Пейся рассказывал, как делали кресло: взяли обыкновенный худой стул и стали его обивать каким-то войлоком, подсыпать опилки, и стул так распух и заважничал, что попробуй теперь сесть на него. Жизнь! В жизни всякое происходит!
И не надо горевать… Сема шел на работу, потихоньку напевая забавную песенку деда:
Но, как всегда, Семе и сегодня не повезло с пением, потому что он встретил Пейсю.
— На работу? — охрипшим голосом спросил Пейся.
— Нет, — серьезно ответил Сема, — рыбу ловить.
— Хорошее дело, — согласился Пейся, как-то странно поворачивая голову. — Я знал одного человека, он забросил на ночь невод, а сам лег на краешек сетки и уснул. Проснулся, смотрит, он уже в реке, — оказывается, ночью его утащили рыбы. Он, конечно, сильно расстроился.
— Знаю, — сказал Сема, испытующе всматриваясь в красное лицо Пейси. — А ну-ка, поверни ко мне голову!
Пейся повернулся всем туловищем.
— Я же прошу повернуть голову.
— Не могу, — растерянно прошептал Пейся, указывая пальцем на воротник.
Сема быстро расстегнул черненькую куртку Пейси и остановился в изумлении. На розовую наволоку Пейся напялил галстук, который сразу был серым, малиновым, бурым и кремовым. Галстук так туго стягивал шею, что лицо Пейси покраснело: поворачивался он сразу лишь корпусом и говорил каким-то сдавленным, чужим голосом.
— Где ты это выкопал? — сердито спросил Сема, ткнув пальцем в галстук. — Это же хвост жар-птицы!
— Вы ничего не понимаете! — прохрипел Пейся, обижаясь и переходя на «вы».
— Ну, и умрешь к вечеру.
— Типун вам на язык! — торопливо пробурчал Пейся и, с трудом сняв галстук, зажал его в правой руке.
— Хорошо, — успокоившись, улыбнулся Сема. — Теперь я могу идти на работу. А хомут свой повесь на гвоздик.
— Сам знаю, — надув губы, проговорил Пейся, с нежностью глядя на галстук. — Наверно, завидуешь?
— Да, — согласился Сема, — сплю и во сне вижу.
Времени оставалось мало, и он быстро зашагал, покинув у лавки обиженного приятеля. Около фабрики Сема увидел городской фаэтон с поднятой крышей. Кучер, ловко спрыгнув с облучка, расстегнул кожаный фартук, и на землю осторожно сошла какая-то женщина в шапочке, похожей на кастрюлю, перевернутую дном вверх; за дамой выпрыгнула девочка с голубым бантом; потом, опираясь на палку, вылез мужчина с лицом постаревшей мыши, в пальто с бархатным воротником. Навстречу им выбежала «мамаша» и, широко улыбаясь, принялась целовать девочку, потом даму, потом мужчину, громко, со свистом чмокая.
Войдя в цех, Сема столкнулся с Лурией.
— Видел? — спросил он Сему.
— Видел.
— А с каким вкусом они целовались, ты заметил? Как эта мадам ни вертелась, ей все-таки пришлось поцеловать «мамашу».
— А кто они такие? — спросил Сема.
— Не знаю, — пожал плечами Лурия, — наверно, ее родственники по мужу.
— Наверно, — кивнул головой Сема, — Это я им в городе письмо заносил.
Сема опустился на табурет и принялся за работу.
«Боже мой, — думал он с тоской, — целовать такую ведьму! Недаром сын бежит от нее!»
— Ну как, Сема, — крикнул со своего места Лурия, — твое здоровье уже поправилось?
— Слава богу, — улыбнулся Сема.
— Я это сразу заметил. Раз, думаю, Сема стал меньше петь, значит, дело идет к выздоровлению. А скажи ты мне, пожалуйста, когда ты научишься опрокидывать стопку?
— Не знаю, — смутился Сема, — от нее так пахнет…
— Неудачник! — расхохотался Лурия. — Кто же ее нюхает? Нюхают корочку хлеба и запивают стаканом воды!
Шац громко чихнул. И Лурия, указав на него, сказал:
— Вот видишь. Правда!
— Он тебя научит, — засмеялся Антон. — Мне пить нельзя. У меня голос. А тебе можно.
— У меня тоже кое-какой голос, — неуверенно произнес Сема и замолчал.
К концу дня, собрав свою и чужую работу, Сема направился в контору к приемщику. Но приемщик куда-то вышел, и «мамаша», сердито взглянув на Сему, принялась осматривать обувь. Она была чем-то очень рассержена, и Старый Нос это сразу почувствовал.
— Куда смотрит этот каблук? — опять спросила она, стуча туфлей по столу.
Теперь уже Сема знал, как отвечать, и, подняв глаза на «мамашу», сказал:
— Каблук смотрит вниз. Он задумался.
«Мамаша» вздрогнула и еще более сердито спросила:
— А куда смотрит этот каблук?
— Он смотрит на дверь. Он хочет уйти.
— Это ты, кажется, хочешь уйти, — закричала «мамаша», с неожиданной силой отталкивая мешок, — но ты еще побудешь здесь!
— В этой комнате? — тихо спросил Сема, предчувствуя бой и вспоминая все свои поступки. Может быть, за то, что пошутил с ней тогда? Хорошо! Он выпрямился и посмотрел на «мамашу».
— Это я тебе заняла два рубля?
— Как раз вы, — признался Сема.
— И это ты мне натворил вместо спасибо?.. Да?
— Что? — искренне удивляясь, спросил Сема.
— Он еще смеет спрашивать? — рассвирепела «мамаша» и так хлопнула ладонью по столу, что связка ключей, висевшая у ее пояса, задрожала и зазвенела. — Он еще пучит на меня глаза!
Сема тяжело вздохнул и расстегнул ворот рубашки. История оказывалась темной и загадочной.
— Ты в город ехал?
— Ехал, — признался Сема и опустил глаза.
— Смотри мне в глаза! — закричала «мамаша» и толстая синяя вена вздулась у нее на шее. — Смотри прямо в глаза!
Черт его знает, что делать с этой старушкой: то ей плохо, что он выпучил глаза, то ей не нравится, что он опустил глаза. Сема попытался сделать так, чтоб глаза не были выпучены и не были опущены, но «мамаша» усмотрела в этом новое преступление.
— Ты еще гримасы корчишь, мамзер!
Сема молчал.
— Я тебе дала отнести пакет.
— Я его отнес и вручил в собственные руки.
— Кому?
— Какой-то женщине…
— Моей двоюродной сестре, — перебила его «мамаша».
— Вашей двоюродной сестре, — покорно повторил Сема.
— И что она тебя спросила?
— Как ваше здоровье.
— И что ты сказал?
— То, что вы велели.
— Что?.. — закричала с новой силой «мамаша», и над верхней губой у нее выступили капельки пота. — Говори, что ты сказал?
— Я сказал… — Сема почти с нежностью взглянул на «мамашу» и заговорил жалобным голосом: — Я сказал, что хозяйке очень плохо, что она еле передвигает ноги, что она болеет всеми болезнями, что она… — Сема остановился в нерешительности. — Что она уже одной ногой на том свете…
— Кто тебя просил? — всплеснула руками «мамаша».
— Вы! — твердо ответил Сема. — Вы мне велели передать, что вы еле дышите.
— Иди сговорись с этим истуканом! А ты знаешь, что ты наделал? Ты наделал такой переполох среди родственников, что они уже сегодня прилетели получать наследство. Они уже испугались, что они зевнут свою часть!
Сема молчал, с трудом сдерживая смех. Теперь он уже понял, почему у родственников «мамаши» были такие кислые лица и почему они так лениво целовались. Действительно, радости мало. Они по дороге уже подсчитывали деньги. И вдруг — здравствуйте пожалуйста! — покойница жива.
— Что ты стоишь, как пень? — вспомнила о нем хозяйка. — Чтоб глаза мои тебя не видели! Слышишь? Чтоб ты не смел стоять около меня! Слышишь? И я еще поговорю с твоей бабушкой, каторжник!
— Мне можно идти? — вежливо спросил Сема.
— Он еще спрашивает! — возмутилась «мамаша», опускаясь на стул и тяжело дыша.
Сема тихонько вышел в коридор, потом, постояв немного, возвратился назад и, вынув из штанов кусок мела, быстро нарисовал на дверях тощую птицу с огромным клювом. «Очень похоже», — подумал он, с восхищением глядя на свой рисунок. Интересно, какое у нее будет лицо, когда она увидит это.
Вечером бабушка куда-то уходила, потом, вернувшись, плотно закрыла все двери и позвала Сему к себе. У нее был суровый, озабоченный вид. «Началось, — подумал Сема. — Интересно: сегодня рассчитали или рассчитают завтра?»
— Сядь здесь, — тихо сказала бабушка.
— Сел, — сообщил Сема.
— У тебя злой язычок.
Сема пожал плечами:
— Язык как язык.
— Зачем ты разозлил хозяйку? Ты думаешь, работа валяется на тракте. Или ты ждешь наследства откуда-нибудь?
Сема молчал. Бабушка продолжала с тихой горечью:
— Я забросила кур. Я отказалась от места в резницкой. Ты начал зарабатывать. Так нет! Надо было тебе нагрубить хозяйке… Она имеет к нам жалость, и ты не уволен.
— Нет? — удивился Сема.
— Пока нет. Но ты же уже должен понять, Сема, — с важностью произнесла бабушка, — что ты уже давно не ребенок! Ты взрослый человек.
— Что, что? — переспросил Сема, не веря своим ушам.
— Ты уже не ребенок! — повторила бабушка, укоризненно качая головой. — Тебе должно быть стыдно!
Ему должно быть стыдно! Это интересно. А ей? День и ночь она твердила, что Сема ребенок, и гладила его и вздыхала. А теперь оказывается, что Сема уже не ребенок, а взрослый человек. Семь пятниц на неделе у этой бабушки.
Вскоре выяснилось, что Сему оставили на фабрике совсем не потому, что «мамаша» — ангел.
Просто господин Айзенблит, которому все время шла карта, проигрался в пух и прах. И теперь он сидел в Одессе, любовался закатом солнца и ждал перевода из дому. Он писал своей мамочке, что он все равно свое возьмет, а пока нужно продать фабрику. И дальше он сообщал, сколько нужно денег, — это была цифра с порядочным количеством нулей.
Но «мамаша» не решилась сама вступить в сделку. Покупатель есть, но пусть лучше приедет сын, сговорится в добрый час и ударит по рукам. Она продавать не станет потому, что, если потом представится более выгодный случай и будет уже поздно, сын загрызет ее. Окажется, что во всем виновата она.
Сын приехал. Он был хмур, заспан и зол на весь свет.
— Хорошо выторговался! — сказал он, тяжело дыша и сбрасывая на кушетку пальто.
— Всё? — спросила «мамаша», боясь смотреть на сына.
Айзенблит кивнул головой.
— В один вечер?
— Да.
— Пробовал отыграться?
— Да.
— И что же?
— Погиб окончательно.
Айзенблит встал, сбросил пиджак и взволнованно заходил по комнате. Спущенные подтяжки болтались у него сзади, как хвост.
— Кто покупатель?
— Сам понимаешь… — «Мамаша» пожала плечами. — Он!
— Хорошо.
Вечером пришел покупатель и за круглым столиком пил чай с лимоном.
— Несчастье, — сказал он, глубоко вздыхая, — с каждым может случиться. Я не люблю делать прибыль на чужом горе.
— Я решил, — упавшим голосом ответил Айзенблит. — Не вы, так другой. Но лучше вы. Обувь вы знаете. Вы не дадите погибнуть делу.
— Не дам, — согласился будущий хозяин и встал. — Нужно посмотреть баланс. Беру с активом и пассивом. И вы увидите, что будет в следующем году!
«Мамаша» вышла и вернулась с толстой конторской книгой.
— Проводки[30] все сделаны?.. — отрывисто спрашивал покупатель. — Сколько неучтенных векселей?.. Дебиторская задолженность?[31] Сколько безнадежных?…
Он надел очки в толстой золотой оправе и попросил счеты.
Сема остался не потому, что «мамаша» была ангел. «Мамаша» покидала фабрику, и ей было все равно, кто останется здесь и что будет — хоть потоп! Она была добрая женщина, и у нее был свой счет в банке, а у сына — свой. Его счет закрыли, ее остался.
Знакомиться с новым хозяином Семе не пришлось. Он слишком хорошо знал Гозмана и с каким-то смешанным чувством нетерпения и страха ждал его появления.
— Новый хозяин! — сказал Сема Лурии.
Сапожник внимательно посмотрел на него:
— Лошади все равно, кто сидит в фаэтоне.
— Так это мы лошади?
— Нет, — засмеялся Лурия и похлопал Сему по плечу, — ты еще жеребеночек, а я уже старый, слепой конь!
Гозман пришел в цех днем с озабоченным, задумчивым видом. Приемщик побежал в контору и принес ему стул. Гозман махнул рукой и не сел.
— Теперь будете иметь дело со мной, — сказал он хмурясь. — Раньше я продавал чужую обувь, а теперь у меня будет свой ботинок. — Он взял со стола сапог и постучал ногтем по подошве. — Я хозяин не добрый. Я не люблю с рабочими делать куценю-муценю. Хозяин — это хозяин, рабочий — это рабочий.
Гозман вынул из кармана серебряный портсигар с изображением Наполеона в треуголке у сожженной Москвы и закурил толстую, душистую папиросу.
— Моя жена, — продолжал он, — или мать моя сюда дороги знать не будут. Мужчина имеет дело с мужчиной. Понятно? Фабрика — не сапожная мастерская. Меняется не только вывеска. Тары-бары за работой — этого не будет. Захотел — пришел, захотел — ушел… этого не будет. С мастером запанибрата — этого не будет. Двадцать хозяев — этого тоже не будет.
— Что же тогда будет? — как бы про себя спросил Лурия.
— Порядок. — Хозяин заложил руки за спину и подошел к окну. Несколько минут он стоял молча, потом, поманив к себе пальцем приемщика, спросил:
— Окна когда-нибудь моют?
— Моют.
— На них полпуда грязи!
— Полпуда, — согласился приемщик.
— Надо мыть часто! — сказал Гозман, брезгливо прикасаясь пальцем к стеклу. — А то еще день, а уже жгут лампы.
Направляясь к выходу, он заметил Сему, склонившегося над колодкой. Улыбаясь, он кивнул ему головой:
— Научился носить фартук?
— Сначала меня заворачивали в пеленки, а потом надели штаны. Все приходит в свое время, господин хозяин.
— Верно, — ответил Гозман, продолжая улыбаться. — А молчать ты научился?
Сема пожал плечами:
— Если это очень нужно, господин хозяин.
— А отвечать? Хотя это как раз ты и раньше умел. Расскажи им, сколько ты получил гривенников!
Гозман склонился к жестяному умывальнику, вымыл руки, вытер их носовым платком и вышел из цеха.
— Вы имеете вещь, — сказал Лурия, провожая хозяина взглядом. — он понимает свою выгоду.
— Я думаю… — согласился Шац, поднимая очки на лоб, — Я хорошо знаю всю их породу. Отец его тоже был хороший кулак. Ездил верхом на лошади, скупал лес и бил приказчика перчаткой.
— Сема, — отозвался вдруг Антон, — ты с ним старый знакомый?
— Да.
— А что это за гривенники?
— За хороший ответ.
В это время к Семе подошел Лурия и, взявши стульчик, подсел рядом:
— Я сказал насчет лошадей, и ты обиделся. А, Сема? Так я пошутил. Это они хотят… как бы это объяснить… чтоб мы с тобой были лошади. Понимаешь: я и ты. И они запрягают нас в воз и говорят: «Вье!» — и кладут на этот воз — я знаю? — что им только вздумается: лес, дом, стадо. А мы с тобой должны везти. Тогда мы поворачиваемся и говорим: «Бог с вами, что вы делаете, тут же вышло недоразумение, мы не лошади!» Но они нас не слушают, они знают одно: им нужно ехать… Жених, ты понимаешь, что я говорю?
— Понимаю, — кивает головой Сема. — Я даже знаю один случай, когда воз шел под гору и лошади вырвались и перевернули этот воз, и прямо ужас, что было!
— Ой, молодец! — Лурия засмеялся и обнял Сему за плечи. — Я таки вижу, что ты не подкидыш. Я смотрю на тебя и вижу весь твой древний род!
Старик встал и вразвалку побрел к своему месту. Вокруг его розовой блестящей лысины еще росло несколько волос, и, как назло, они завивались. И сколько Лурия ни смачивал и ни приглаживал их, стараясь прикрыть свою лысину, ничего не получалось: волоски были с характером и быстро возвращались на свое привычное место.
Бабушка с таким волнением переживала весть о разорении Айзенблита, что Сема, удивляясь, спросил ее:
— Скажите правду, может быть, вы его компаньонка?
— Нет, — призналась бабушка. — Но как это можно проиграть в карты целое состояние — ума не приложу! Выиграть — это я еще понимаю, но проиграть…
— Хорошее дело! — засмеялся Сема. — Вы же понимаете, что можно выиграть, — значит, кому-то надо проиграть.
— Да, — покорилась бабушка, — так это должно было случиться с Айзенблитом! Такое несчастье…
— Можете так не убиваться, — успокоил Сема бабушку, — даже после разорения он богаче нас с вами. Дом у них есть? Есть. Лошадь есть? Есть. А серьги у «мамаши»! Такие серьги, что они тянут ее к земле!
— Ай, оставь Сема, — рассердилась бабушка, — я не люблю считать чужие деньги! Гозман уже видел тебя?
— Да.
— И он ничего не сказал?
— Поговорили.
— «Поговорили»! Мне нравится этот тон! — опять возмутилась бабушка. — Что он тебе — приятель, товарищ? «Поговорили»! Я тебя прошу, пока ты сидишь на работе, забудь, что у тебя во рту лежит язык. Понял? А потом придешь домой и выговоришься за целый день!
В дверь постучали. Бабушка подошла, выглянула в коридор, и по ее недовольному взгляду Сема понял, что пришел Пейся.
— Сема уже пообедал? — раздался заискивающий голос Пейси.
— Пообедал, пообедал! — небрежно ответила бабушка.
— А какой аппетит?
Но бабушка не удостоила его ответом. Пейся вошел в комнату и, сев на стул, принял такой важный вид, как будто пять минут тому назад его выбрали казенным раввином.
— Ну, — спросил Сема, зная, что у Пейси уже что-то накопилось, — что скажешь?
— Теперь у нас с вами опять один хозяин.
Сема пожал плечами:
— Подумаешь, большое счастье!
— Нет, — все-таки не сдавался Пейся, — служим в одной фирме. А как вам нравится история с Айзенблитом?
— Интересная история!
— А почему он проиграл, вызнаете? Тут же целый секрет есть. — Пейся подвинул стул ближе к столу и зашептал: — В Одессе есть одна старуха, ну прямо-таки ведьма — огонь! Куда там вашей бабушке!..
— Ну-ну! — прикрикнул на него Сема.
— Так вот, — с жаром продолжал Пейся, — у этой старухи дурной глаз! И если человек замечает ее издали, так он скорее переходит на другую сторону и хватается за пуговицу. Да! И притом у нее всего-навсего один зеленый глаз, и ночью он светится, как у кошки. И вот она узнает, если где свадьба, и идет туда со своим глазом. И там уже родители откупаются от нее, иначе будет горе жениху или не посте. Так вот, когда Айзенблит играл, пришла в зал эта старуха и начала на него смотреть. Он дурак, должен был подойти и заплатить ей, чтоб она прошла. Но Айзенблит пожалел денег, и она своим зеленым глазом прожгла его карман.
— Хорошо, — согласился Сема, — но смотрела же она на всех, а проиграл почему-то Айзенблит.
— Здравствуйте! — быстро нашелся Пейся. — Так те, которые с ним играли, специально привели старуху. Они ей потом отдали половину выигрыша. Понял?
Сема, улыбаясь, посмотрел на друга. Молодец! Нет конца его историям!
Отец Гозмана прожил сто восемь лет. До последнего дня он не знал, что такое очки; умирая, не верил, что это уже конец, и бил об пол склянки с лекарствами. Это был злой, нелюдимый человек с широкими волосатыми руками и упрямым, всегда настороженным взглядом. В домах местечка редко били детей, но над столом Гозмана висел тяжелый ремень для сына. Никаких карманных денег, никаких папирос, никакого баловства. Часто он говорил сыну: «Сколько бы у тебя ни было и что бы у тебя ни было — надо уметь спать на твердом!» По завещанию, он разрешал наследнику прикоснуться к оставленному капиталу лишь спустя пять лет. До этого — делай деньги сам. Нужно уметь спать на твердом!
Сын пошел в отца. Он тоже был одинок, не имел друзей и не искал их. Его называли гордецом, не любили и завидовали ему. Купец не выезжал из местечка, но его знали в Киеве и в Варшаве: он умел купить и умел продать. Никто не видел Гозмана гуляющим с ребенком или сидящим на скамейке в саду — того, чего хотел каждый человек, он не хотел. Все мысли его были связаны с деньгами. Он торговал кожей, обувью, мукой, лесом — всем, что сегодня приносит прибыль. Магазаника он терпел, Айзенблита презирал. Гозман не играл в карты, не угодничал перед богом, не кутил с женщинами: он делал деньги — со злобой, с упорством, нанося увечья людям и не замечая их страданий.
Фабрика, купленная на ходу, раздражала его. Ход был не тот, не его! Он проверил списки постоянных покупателей — не те покупатели, не в ту дверь стучались! Он просмотрел конторские записи — не та выручка, не его!.. В уездной скоропечатне Гозман заказал бланки и визитные карточки, на них была изображена какая-то фабрика, большая, в два этажа, с дымящимися трубами и высокими воротами. Такой он видел свою фабрику в будущем, но покупателю она представлялась уже сейчас как существующий факт. Надо было завоевать славу ботинку Гозмана, и хозяин не скупился на копейку. Он вызывал к себе мастеров и кричал:
— На доклад не жалеть! Тик — самый лучший! Гризбон — самый лучший! Чтоб ботинок играл, чтоб его жалко было надеть!..
Еще только вышли на рынок первые партии, но уже шумели в губернии. Нет, Гозман — не Айзенблит. Это голова! У купцов в местечке и в уезде он ничего не покупал. К нему засылали образцы кожи и подошвы — он отказывался.
— Я могу вам продать, — улыбаясь, отвечал Гозман. — А если хотите, — продолжал он, — я могу сегодня иметь подошву из Белостока, хром из Берлина, имитацию[32] из Риги. Сколько угодно!..
Подавленные купцы покидали его. Оптовый покупатель не давался в руки! Они рассказывали о Гозмане друзьям в губернии, приезжим вояжерам[33], но именно этого он хотел. Теперь уже все чаще подлетали к дому купца фаэтоны из города — представители разных фирм предлагали товар самый лучший, в кредит! Гозман отказывался. Ему ничего не нужно. И тогда они шли на уступки, просили его: пять месяцев кредита, шесть месяцев, ж он снисходительно соглашался. Слава бежала впереди его ботинка. Фабрикант не нуждается в кредите! Фабрикант покупает за наличные, открытым счетом на девяносто дней! Сделаете скидку в пять процентов? Пожалуйста, он оплатит покупку за тридцать дней!
Так начинал Гозман. Он приходил на фабрику в шесть часов утра, или в два часа дня, или поздним вечером. И это тоже делало свое дело. Рабочие знали, что приход хозяина всегда внезапен. В цехах сосредоточенно стучали молотки, люди работали молча. Опять, как и тогда, в лавке, Гозман расставлял ловушки. Он налетал на фабрику, щупал все испытующим взглядом, кричал и ругался. Гнать, гнать, гнать! Можно было собирать рубли — Айзенблит собирал копейки. За рублями пришел он. Рабочий должен спать и видеть во сне ботинок!
Ах, как ему хотелось прогреметь, стать на дороге тех, что еще вчера не верили ему, чтобы они приходили к нему с заказами, чтобы они ждали, а он думал. Чтобы они сломали не один зуб на этом орехе! Ему привезли кожу из далекого Таганрога; он пошел на сделку, хотя мог купить дешевле здесь, совсем рядом. Но он знал, что стоит иногда потерять рубль, чтобы найти десятки, — дело там только начинается, и его почин запомнят. День становился тесен. То, что у Айзенблита делали письма, у него исполняли люди. Появились вояжеры «от Гозмана», и они ехали не туда, куда все. Он имел дело с Доном, с Кубанью. Пошел в ход дешевый крестьянский ботинок!
Однажды Сему вызвали в контору к хозяину. Рядом с Гозманом сидел вояжер-новичок, приезжий, перетянутый из другой фирмы. Сема вошел и смущенно остановился на пороге:
— Вы меня звали?
— Да, звал, — быстро ответил Гозман. — Возьми бархатную перчатку и перечисть всю коллекцию. Чтобы блестело!
Какую коллекцию? Вояжер поставил перед ним ящик с обувью — по одному ботинку каждого сорта. Перечистить! Эту коллекцию везет с собой вояжер…
Гозман забыл о Семе и, обращаясь к вояжеру, заговорил:
— У меня нужно уметь торговать. Покупатель должен за вами бегать.
Вояжер молчал.
— Если вы приезжаете в Мариуполь, где вы останавливаетесь?
— У меня есть знакомые, — робко ответил вояжер.
— К черту знакомых! Вы останавливайтесь в лучшей гостинице… Зачем, Сема?
— Чтобы был вид! — краснея, выпалил Сема, шурша бархатной перчаткой.
— Вот, — строго сказал Гозман. — Вид! Если вы остановитесь в какой-нибудь дыре и придете к купцу принять заказ… Что он скажет, Сема?
— Зайдите завтра.
— Слышите? Этот мальчишка всегда умел отвечать!.. И вы не идете к купцу, а приглашаете его к себе в гостиницу… И на столе лежит не обувь, а что, Сема?
Сема сконфуженно молчал: черт его знает, что лежит на столе!
— На столе, — продолжал Гозман, — бутылочка коньяку, фрукты. Не дрожите над копеечкой. Вы сделаете за день то, что другие тянут неделю. Вы закусываете, говорите о политике, а потом раскладываете коллекцию и не хвалите и не просите… Понятно я говорю?
Вояжер радостно кивал головой и быстро записывал что-то в книжечку. Сема, перетирая обувь, с интересом следил за беседой.
— А если вы едете в русский район или в станицу, в каком вы едете классе?
— В третьем.
— Глупости! Вы едете во втором… Зачем, Сема?
— Чтобы был вид!
— Правильно. Вы едете во втором, и кто-нибудь вас увидит: или родственник купца, или приказчик. И когда вы с чемоданчиком пройдете в станицу, так уже обязательно будут говорить: «Вот идет тот, что приехал вторым классом!» И купец узнает об этом раньше всех!.. Что еще, Сема?
— Еще, я думаю, если б вы послали сами себя, все было б продано в два счета.
— Каждый на своем месте… — хмуро ответил купец и строго посмотрел на Сему: — Что ты перетираешь шесть пар два часа? Иди!
Сема пожал плечами и, стянув перчатку, молча прошел в цех.
Бабушка говорит, что она без очков не может сделать шагу. Но то, что не надо, она видит раньше всех. Бабушка жалуется, что уши у нее стали не те. Но то, что не надо, она всегда услышит, и если не услышит, так догадается.
— Почему у тебя такой утомленный вид?
— Некогда голову поднять.
— Смотри, — возмущается бабушка, — только пришло это проклятие — и уже людям плохо! Чтобы уже его сыну выпала такая доля!
Но Сема устал, и он молча принимается за еду. Бабушка стоит около него, и по всему видно, что ей хочется поговорить. Все-таки целый день одна! И Сема идет на уступки.
— А что нового? — спрашивает он, вытряхивая из кости кусок мозга.
— «Что нового»? — насмешливо улыбается бабушка, — Это нужно у тебя спросить. Такой мальчик, прежде чем пройтись с барышней, показывает ее бабушке!
Сема оставляет в покое кость и с удивлением смотрит на бабушку. Красивая история! Не успел он сделать двух шагов с Шерой, как уже все известно. Кажется, было темно и кругом ни души! Но бабушке успели донести.
— Зачем ее показывать?
— Что значит — зачем? — смеется бабушка. — А вдруг у нее что-нибудь лишнее или чего-нибудь не хватает?
— У нее все в порядке, — уже робея, говорит Сема.
— Ты знаешь! Это я посмотрю — и сразу все увижу. Я увижу, как она ставит ногу и как она вытирает стакан. Я даже могу сказать, какими словами она будет ругать свекровь.
— Она добрая, бабушка. У нее язык не повернется.
— Ой, Сема, какой ты еще!.. — Бабушка с сожалением смотрит на него, — Чтоб ты знал: каждая женщина — это две женщины. Одна — до свадьбы, другая — после… Женщина должна себя поставить в доме. Она должна быть хозяйка, а он должен думать, что он хозяин.
— И вы тоже так? — лукаво спрашивает Сема.
— А как же? — удивляется бабушка. — Конечно! Я всегда держала дедушку в руках. Но я, Сема, знала, с какой стороны возле него стать. Если он кричит, я молчу. Я жду — пусть уж сгорит вся спичка! Но, если он молчит, — угрожающе произнесла бабушка и взяла в руки половник, — я даю ему попробовать свой голос… И мы никогда не ругались!
Сема, улыбаясь, смотрит на бабушку. А она доверчиво раскрывает свои секреты внуку… У бабушки веселое настроение. Хорошо, что ей мало нужно для этого: она удачно купила курицу и с одной — подумать только! — стопила больше фунта жиру. Будет на чем жарить целую неделю… Бабушка умиленными глазами смотрит на Сему. Ей кажется, что он самый красивый мальчик в местечке. Пусть скажут, что нет!
Надо уметь спать на твердом. Хозяин день и ночь проводил на фабрике. Дело пошло — высылались образцы в Ростов, в Нижний Новгород, в Кизляр и Ставрополь. Молва о Гозмане привлекла купцов. Покупатели появились новые, солидные — таких не знал Айзенблит. У них были не только магазины, но земельные угодья. Им был открыт широкий кредит — их векселя учитывались государственным банком. Но обуви выходило меньше, чем нужно. Гозману становилось тесно. Он пускался на новые комбинации, скупая товар мелких мастерских и ставя на ботинках свое клеймо. Он сам стал заказчиком. Но и это не спасало его.
Фабриканты из уездного города путались в ногах. Гозман покупал одних, пускал по ложному следу других, готовил банкротство третьим. Расширять дело — скорее, сегодня, сейчас! Надо было построить тот, уже нарисованный на бланке второй этаж. Советоваться не с кем, и на риск он шел один. У Гозмана были свои люди в чужих фирмах. Он знал, что задумали Кобылянский и Волчек, мешал им, опережая, продавая дешевле и покупая дороже. Вся сложная и путаная механика торговли, с ее неожиданными ударами и обманными успехами, лежала в его голове, потому что он был суеверен и ничего не записывал.
Строить Гозман решил после нового сезона, а сейчас нужно было что-то придумать и догнать спрос. В местечке Куштум, где две улицы занимали сапожники, он открыл вторую мастерскую. Но старые сапожники давали обувь на деревянных шпильках — это выходило из моды, покупатель ждал другого. Гозман искал выхода — кредитные билеты шуршали у его кассы, и надо было их впустить. Откуда могла прийти прибыль? Деньги мог дать простой крестьянский ботинок. Его надо выбросить много, чтобы стало черно в глазах! Еще пятьдесят рук — и все будет хорошо. И чтобы эти руки не просили больше, чем им дадут. Чтоб они были дешевы… Гозман думал и нашел выход. К черту куштумских сапожников!
Рано утром войдя в цех, Сема невольно остановился. Все уже работали, а посередине, склонившись у большой плетеной корзины, стоял Гозман в жилете, без пиджака, красный и злой. Подле него суетились приемщик и Мендель. «Скорее, скорее!» — кричал купец и сам, помогая им, бежал к стойкам. Он хватал с полок тяжелые железные колодки и бросал их в мешки. Мендель беспомощно путался, размахивая руками и силясь отодвинуть тяжелую корзину. Гозман с досадой следил за ним, потом подошел и, рванув плетенку, принялся сбрасывать в нее стельки, заготовки, набойки, коробки с гвоздями. Потом все корзинки вытащили во двор и погрузили на две телеги. Хозяин вымыл в цехе руки и послал домой за стаканом кофе. Из дому принесли чайник, перевязанный толстым полотенцем, — он напоминал человека, болеющего зубами. Кофе был еще теплый. Гозман пил медленно и молчал: у него было хорошее настроение.
Вчера он придумал «руки». Неожиданно, и скрывая это от всех, он нанес визит начальнику уездной тюрьмы. Они говорили недолго, сразу поняв друг друга. Гозман передает тюрьме оптовый заказ на крестьянский ботинок и отчисляет казне от каждой пары. Начальник тюрьмы получает куртаж лично от него. Но арестанты должны работать, как на царя. Вечером они заключили контракт на один год. Утром было отправлено все необходимое: колодки, заготовки, набойки, гвозди. За высокими черными решетками открылся второй цех гозмановской фабрики. Он был в выигрыше дважды. Скрывая от рабочих контракт с тюрьмой, Гозман все же мог в любое время несколькими словами остановить строптивых и унять неугодных: «Хотите уходить? Пожалуйста, даже все — на меня работают арестанты». Гозман получал не только ботинок, но и кнут…
Сема вместе с другими видел, как грузили на телеги корзины. Все знали, что Гозман затеял мастерскую в Куштуме, и никого это особенно не тревожило. На всякий случай Лурия прижал Менделя, но и тот подтвердил: да, Куштум. Все шло по-старому. Однажды, выходя из фабричных ворот, Сема увидел Пейсю. Он не удивился, не обрадовался: эти встречи были нередки. Пейся сидел на камне и с меланхоличным видом щелкал подсолнухи. Ни верхней, ни нижней губы не было видно: скорлупу он не сбрасывал, и она облепила весь его рот.
— Хочешь семечек? — осторожно спросил он, стараясь, чтоб шелуха не свалилась с губ.
— Нет, я еще не обедал.
— Подумаешь! — Пейся пожал плечами, — В них же масло… Я знал одного знакомого — он купил большой стакан семечек и выдавил бутылку масла… Что ж ты не берешь? Это семечки из города! В одной штуке вот такое зерно — как огурец.
— Из города? — недоверчиво повторил Сема. — Когда же ты был в городе?
— Вчера. Меня посылали с письмом. И куда бы ты думал?
— К Волчеку.
— Нет.
— К Хаскину?
— Опять нет. — Пейся смахнул наконец шелуху с губ и, встав, торжественно произнес: — Меня посылали в тюрьму.
— В тюрьму? — Теперь уж Сема присел от удивления и зависти. — Ты видел живую тюрьму?
— Еще как видел. На окнах решетки, а окна маленькие, как моя дуля, и у самого потолка. А замки, Сема, что-нибудь особенное — как отсюда до угла. Я отвез от хозяина какую-то бумагу. Одним словом, чепуха. Я сидел и ждал ответа. И я больше всего боялся, чтоб меня там не забыли.
— И это все правда?
— Провались я на этом месте два с половиной раза.
— А зачем же ты уехал?
— Я же тебе говорю — письмо! Они что-то делают для нас. Ты уже понял наконец?
— Понял! — воскликнул Сема и, дернув за козырек Пейсин картуз, бросился бежать.
Он еще ничего не понял, но почувствовал — вернее, угадал, — что между отправкой колодок в Куштум и поездкой Пейси есть какая-то связь. Сема побежал домой, но потом, раздумав, свернул в сторону и без стука ворвался в квартиру Лурии. Старик сидел у стола и, окуная хлеб в солонку, закусывал перед обедом.
— Что такое? — спросил он.
— Пейся, — запыхавшись, заговорил Сема, — ездил в тюрьму. Они что-то делают для нас.
— А что я говорил? — Лурия хлопнул ладонью по столу, вскочил и, сорвав с гвоздика пальто, вышел на улицу.
Сема пошел с ним.
На другой день Гозмана разбудили рано, сообщив, что рабочие не вышли. Он протянул руку к тумбочке, взял часы и посмотрел время.
— Они еще могут выйти, — сердито сказал Гозман, — только шесть! — и, повернувшись, уснул.
Его не решились больше беспокоить. Но рабочие не вышли. Гозман проснулся в десять и начал вспоминать, что было. «Снилось мне или в самом деле?» — спрашивал он себя. Кажется, это не сон. Кажется, совсем наоборот. Гозман сел в постели и позвал Менделя.
Конторщик явился растерянный и смущенный.
— Нет? — спросил Гозман.
— Нет.
Хозяин, сощурившись, закурил папиросу. «Что их ударило? Контракт. В этом нельзя сомневаться. Если я рву контракт — я теряю. Если я закрываю фабрику — я теряю. Заказы горят, сроки подходят к горлу. Проклятые люди, они стали слишком много о себе понимать!.. Чего они хотят, я хочу слышать?»
— Вы здесь Мендель?
— Здесь.
— Они возле фабрики?
— Да.
— Пусть пришлют представителя. Но одного, не десять!
Гозман умылся, оделся, просмотрел почту, велел подать завтрак в спальню — на двух. Но аппетит был испорчен. И яйца заварили слишком круто, и молоко пригорело, и масло с привкусом!
Вскоре пришел делегат. Хозяин не удивился, увидав Лурию, — он знал старика давно.
— Присаживайтесь, — сказал Гозман. — Завтракать будете?
— Мы завтракаем утром.
— Ваши требования? — перешел к делу хозяин. — Я не одобряю поспешности, но, если вы быстро начали, надо быстро кончить.
— Расторгнуть контракт с тюрьмой.
— Почему?
— Этот вопрос лишний, — засмеялся Лурия. — Кроме того, предупреждаю, арестантская работа не сойдет за нашу. У них не ботинок, а тюремная пышка.
— Я должен подумать.
Лурия встал и поклонился:
— Это право хозяина.
К вечеру Гозман дал ответ. Он не мог закрыть фабрику и не мог порвать контракт: и то и другое было невозможно — подходили сроки векселей, покупатели ждали исполнения заказов. Хозяин придумал третье. Да, он согласен разойтись с тюрьмой, но через месяц. Иначе ему угрожает крупная неустойка. А через месяц, пожалуйста, — он готов. Рабочие должны раз в жизни войти в его положение!
План новой комбинации был прост. Все должно остаться по-старому. Если кому-нибудь не нравится, он дает расчет, но не теряет работника. Недовольные будут держать молоток там, где работают на казну, — место в тюрьме найдется. Заберут двух — замолчат сорок. Нужно только выиграть время. Но верный план был вырван из рук и смят. Неожиданное известие из России о свержении царя сбило с толку купца и расстроило все замыслы. Он сразу свернулся и притих.
Быстро запродав партии уже готовой обуви, Гозман сказал — пас. Он решил временно выйти из игры и выждать. Не советуясь ни с кем, он повесил замок на воротах фабрики, перевел часть денег в Варшаву и, сказавшись больным, ушел от людей. Несколько раз его испытывали, предлагая вступить в выгодную сделку, но он упорно отказывался. На столе у купца лежали пачки русских газет, он читал и ждал, что будет. Заказчики по-прежнему присылали письма, но он их складывал в ящик не читая.
У Гозмана сорвался большой и, казалось, верный кон. Прыжок не получился. Все пошло ходором…
Более полугода прошло в смутном ожидании нового. Царя нет — это было для всех. Теперь каждый ждал чего-то для себя. И хоть Сема меньше других понимал, что же происходит вокруг, о чем толкуют на митингах, зачем едут в город выборщики, — все же для него это ожидание было точным и определенным: он ждал отца. Заметив издали незнакомого человека, Сема бежал ему навстречу и взволнованно всматривался в чужое лицо. Он знал, что вот так вот может зайти в местечко отец, тоже усталый, запылившийся, измученный дорогой. И тоже кто-нибудь посмотрит на него с подозрением, а Сема выйдет и скажет: «Тише, господа, это мой отец».
Очень приятно было думать об этом и рисовать себе картины встречи, первые слова и движения. Что, например, сделает бабушка? Что скажет дед? Одно казалось Семе совершенно обязательным: как только приедет отец, они пойдут вместе гулять. Без этого нельзя. Пусть все видят, что это не выдумка, что у Семы правда есть живой, настоящий отец! И все будут подходить, и будут отзывать Сему в сторону, и будут просить познакомить с отцом. А когда отец начнет говорить, вокруг соберутся люди, начнут прислушиваться к его словам, и только Сема будет себе спокойно прохаживаться — все это он уже знает, лично ему отец это раньше рассказывал.
Сема мечтал о встрече, но каждый день обманывал его. Одно время Старый Нос приставал к Лурии с вопросами. «Как вы думаете, — говорил он, — когда вернется папа?» Теперь уж он стеснялся спрашивать. Ему казалось, что Лурия смущенно отводит глаза в сторону, будто что-то знает и не может сказать.
Однажды на взмыленном коне в местечко въехал солдат. Он спешился возле красного ряда, вытер фуражкой вспотевшее лицо и попросил пить. Ему поднесли ведро. Он поднял ведро над собой и начал пить большими, крупными глотками, и вода стекала по подбородку вниз, и на гимнастерке его появились широкие темные пятна. Люди окружили его, и Сема тоже был среди них. Все ждали, что скажет солдат, а он все пил, и люди почтительно молчали. Солдат был очень маленького роста, и поэтому все удивились, когда он заговорил густым, охрипшим басом.
— Так что, — сказал он, — еду до дому, а войне дали чистую. В Питере и в Москве теперь совдепы. Большевики взяли власть, войне конец, земля наша. Ленин постарался! — засмеялся солдат. — И, как ни верти, обратно ходу не будет! А что гайдамаки пылят, — он указал в сторону города, — это ничего! Теперь мы секрет понимаем: что к чему.
Он легко вскочил на коня и, помахав фуражкой, исчез. Сема стоял в растерянности. Что это? Хорошо или плохо то, что говорил солдат? И что значит — обратного ходу не будет? Куда ходу?
Он оглянулся и увидел возле себя Шеру.
— Слышала? — спросил он ее.
— Гайдамаки пылят, — ответила Шера, — ты понимаешь? Иди домой! Мы с папой придем к вам.
— Почему? — удивился Сема.
— А кто у вас есть? Дедушка в постели? А вдруг что-нибудь? Иди! — повторила Шера. — И закрой ставни.
Сема, не отвечая, пошел домой. И лишь теперь он заметил, что улица опустела и в местечке стало тихо, как ночью. У лавки Гозмана приказчик торопливо опускал железные шторы. «Черт принес этого солдата, — подумал Сема. — Жили спокойно, так нет!»
Бабушка выбежала ему навстречу с испуганным криком:
— Что ты плетешься? Иди скорей!
Он вошел в дом и плотно закрыл двери.
— Подними крючок, — сказала бабушка, с тревогой глядя на дверь, — теперь просунь сюда палку!.. Так. Теперь пойди проверь ставни.
Сема с удивлением смотрел на бабушку.
— Что ты смотришь? — рассердилась она. — Стреляли, ты слышал?
— Нет, — признался Сема.
— То, что не надо, ты всегда слышишь!
— Откуда стреляли?
— Еще я должна знать — откуда! Иди уж живей в комнату и не стучи каблуками.
— Когда стреляли? — робко спросил Сема, боясь гнева бабушки.
— Только что. Дали таких два залпа, что я думала — конец свету. Интересно, где были твои уши в это время?
— Не знаю, — смутился Сема. — Там солдат приезжал.
— Что он говорил?
— Войны нет. Большевики в Москве. А здесь, где-то близко, пылят гайдамаки.
— Боже мой! — всплеснула руками бабушка. — Что делается! Я же тебе говорила: евреям будет плохо.
Их разговор прервал выстрел, тяжелый, глухой и далекий. Бабушка зашептала молитву. Сема бросился к дверям.
— Куда ты? — остановила его бабушка. — Чтоб мальчик не понимал, что там, где стреляют, там убивают.
— Так стреляют где-то за городом, — успокоил ее Сема. — Интересно посмотреть.
— «За городом»! — со злостью повторила бабушка. — А осколки? Мне рассказывали! Эти осколки летят черт знает куда.
В это время тихо постучали в ставни.
— Я пойду открою, — сказал Сема.
— Никто тебя не просит! — строго сказала бабушка. — И вообще сиди в комнате и не ищи себе гуляний!
Она тихо вышла в коридор и, слегка приоткрыв дверь, заглянула в щелку.
На улице стоял Доля с Шерой. Бабушка вынула палку, сбросила крючок и, отодвинув тяжелый ржавый засов, впустила гостей. Доля, зная характер бабушки, быстро запер дверь и тут же у порога принялся объяснять свое появление.
Но бабушка снисходительно сказала:
— Что вы торопитесь? Это самое вы можете рассказать дома.
Они вошли в комнату. Шера подмигнула Семе. И он с облегчением подумал: «Что ни идет, все к лучшему!»
Доля опустился на стул и, скрутив папироску, принялся рассказывать:
— Говорят, что идут гайдамаки. Вы знаете, что это за блюдо?.. Нет? Я тоже не знаю. Но есть шанс, что будут по дороге бить евреев. Как вы думаете? Я думаю, да. Мой воробей говорит мне: «У Семы никого нет — пойдем туда». Так я подумал: то богатство, что я имею, не пропадет, если я его оставлю без сторожа.
Бабушка улыбнулась и, тяжело вздохнув, села рядом.
— Кроме того, — продолжал Доля, — что я такое один? Ничего. А вдвоем с Семой мы уже немножко сила.
— Там идет кто-нибудь? — спросил Сема, указывая на улицу.
— Ни души. Можно подумать, что все выпили и легли проспаться.
— Хороший смех! — опять вздохнула бабушка. — Садитесь, я вас покормлю.
Бабушка прошла на кухню, и Шера вышла следом за ней. Сема остался с Долей.
— Синежупанник идет, — сказал Доля тихо. — Хороший кусок бандита! У вас топор есть?
— Есть! — обрадованно воскликнул Сема.
— Принеси и положи под кровать. Только не делай шума! Понял?
— Понял, — кивнул головой Сема. — Им разве много нужно, этим женщинам? Чуть что — уже слезы!..
— Хорошо, хорошо, — оборвал его Доля. — Ты топор сумеешь поднять?
— Что вы говорите! — возмутился Сема.
— Ничего! А то еще нечаянно отрубишь себе палец. Хороший я тогда буду иметь вид перед бабушкой.
Сема обиженно пожал плечами.
Бабушка вернулась из кухни и, поставив кастрюлю, принялась разливать суп. Шера молча перетирала тарелки.
— Ну и дочка у вас, — сказала бабушка, обращаясь к Доле, — золотые руки! К чему ни прикоснется — сразу делается. Вот если б я имела не внука, а внучку, я б от нее уже видела помощь. И печку растопить, и картошку почистить, и мясо помолоть. Девочка — это таки не мальчик! Мальчик тут набросает, тут накидает — ходи за ним…
— Зато есть мужчина в доме! — важно сказал Сема.
Но в это время послышался стук копыт по деревянному мосту, и все замолчали.
— Едут! — прошептала бабушка. — Сохрани бог!
Гул приближался и нарастал. Раздались выстрелы, послышался чей-то крик — сначала вдали, потом близко, почти рядом.
— Идите на кухню, — сказал Доля, вставая из-за стола. — Шера, возьми бабушку, поднимите старика и — на кухню. Ну, поворачивайся уже!
Бабушка подошла к деду и, осторожно обняв его за плечи, приподняла с постели. Дедушка равнодушно посмотрел на нее и встал. Шера взяла его под руку, и они вышли из комнаты.
— Сема, — приказал Доля, — быстренько открывай окно! Ну!
Сема покорно выполнил приказание. В распахнутое окно ворвался людской крик, плач, конское ржанье. Пахло порохом и еще чем-то горелым, как будто на улице смолили птицу. Ехали на конях, в тачанках, бежали и шли люди в синих бекешах, в потертых шинелях, обвешанные гранатами и оружием. Сема уже ничего не соображал. Страха не было, какое-то странное чувство тупого безразличия охватило его. Гайдамак с очень веселым, смеющимся лицом волочил за собой на мостовую седого еврея в длиннополом вылинявшем сюртуке.
— А ну-ка, батько, ударим раз! — кричал парень, приподняв старика над собой и опуская его с силой на мостовую, — А ну, ударим еще раз!
Сема провел горячей ладонью по глазам, не понимая, что происходит.
— Отойди от окна! — прикрикнул Доля. — Стань к стене! Дай подушку!
Сема бросил подушку и прижался к стене. Он хотел бы войти в нее, как гвоздь до шляпки, и ничего не слышать, не видеть и не чувствовать. Но глаза смотрели и видели. Доля склонился у подоконника и с силой рванул наволочку. Раздался треск. Схватив табурет, Доля швырнул его на улицу. Зачем делал он это? Сема стоял у стены, боясь сойти с места. Доля взял со стола нож и ударил им по подушке. На улице кто то крикнул: «Так их!» Но Сема не понял, к кому относилось это восклицание. Перья вырвались из вспоротой подушки. Стоя на корточках, Доля протянул руку и, схватив с постели маленькую перинку, ударил по ней ножом. Перья вылетали и уносились ветром. Их было много, и казалось, что из окна падает крупный снег.
Молодой гайдамак, отбросив в сторону старика, который только что кусал его руки, со злобой плюнул и выругался. Взгляд его упал на открытое окно. Он довольно улыбнулся, вновь поднял старика на плечи и, подойдя к окну, свалил его в комнату.
— Может, вам мало? — крикнул он. — Добавляю! — и, свистнув плетью, вскочил на коня.
— Кричи! — прошептал Семе Доля, приподнимая, тело старика. — Ну, кричи же!
Но Сема молчал; он смотрел на эти сумасшедшие перья, на старика с красными, выкатившимися глазами, хотел кричать, но голоса не было. Доля схватил его за плечо и больно сжал свободной рукой. Сема закричал пронзительным, тоненьким голоском: «Убивают!» — и почувствовал, что пол уходит из-под ног, тело медленно сползает по стене куда-то вниз, вниз…
Когда Сема открыл глаза, он увидел Шеру, склонившуюся над чашкой с водой. Мокрое полотенце дрожало в ее руках.
— Шера! — сказал Сема тихо, но она не слышала его. — Шера! — повторил он опять одними губами, испытывая горечь и сухость во рту.
Она услышала или угадала, что Сема говорит что-то, и повернулась к нему.
— Это ты? — сказала Шера, удивленно смеясь и плача и вытирая слезы мокрым полотенцем.
— Это я, — ответил он тихо и улыбнулся. — Что ты делаешь?.. Полотенце ведь мокрое!..
— Ничего, — успокоенно прошептала Шера, смущаясь своих слез и неизвестно для чего пряча полотенце за спину, — все хорошо!.. Вот идет бабушка… Скажи ей что-нибудь, Сема…
Сема спустил на пол босые ноги, посидел так немного, потом встал с постели и подошел к окну. Улица была спокойна. На лесном складе вздрагивала и звенела пила. Соседка Цыва бегала за серенькой франтоватой курицей и жалобно кричала; «Цып, цып, цып…» На скамейке у ворот сидел сын Цывы, Зюся, и, наблюдая за мамашей и курицей, дразнил обеих, крича не вовремя то «цып», то «кыш». Из дому вышла торговка кореньями Сура и принялась щелкать подсолнухи. Она с таким шумом выплевывала шелуху, что вконец испуганная курица, хлопая крыльями, убежала на чужой двор. Цыва кинулась за ней с прутиком. Зюся, не глядя на мамашу и даже не раскрывая рта, шипел: «кшш, кшш…» На улице было хорошо и весело. Семе захотелось выйти.
Он согнулся около кровати, разыскивая свои ботинки.
— Что ты ищешь? — раздался над ним голос бабушки.
— Ботинки.
— Зачем?
— Я хочу выйти.
— Куда выйти? — удивилась бабушка и, схватив Сему за рубашку, принялась вытаскивать его из-под кровати. — Нет, этот мальчик сведет меня с ума! Вчера только ты был ни жив ни мертв, а сегодня тебе уже не лежится. Твои дела никуда не убегут.
— А зачем я буду лежать?
— Ты болен, — строго сказала бабушка. — Еще спасибо, что так отделались. Придет Доля, не забудь его как следует поблагодарить. Если б не он, бог знает, что бы было с нами. Они были здесь два часа, и черт их понес дальше. Но за два часа они успели наделать горя. Из дома в дом шли! И резали и убивали! Ты понял? И лежи, пожалуйста.
— Мне скучно, — признался Сема.
— Скучно? Хорошо, я позвала Пейсю и велела, чтоб он тебе рассказывал веселые вещи. Ты доволен?
Сема засмеялся и с довольным лицом уселся на постели:
— Где же он?
— Придет. Не беспокойся! Стоит пикнуть — и он уже тут.
Бабушка вышла из комнаты, и через несколько минут действительно пришел Пейся. Он был сердит и сумрачен.
— Скажи ты, пожалуйста, своей бабушке, чтоб она со мной говорила по-человечески. А то пришла и кричит: «Иди сейчас к Семе!» Как будто я мальчик. Работа кончилась, но у меня могут быть свои дела.
— Дела? — усомнился Сема.
— Да, дела, — повторил Пейся, высокомерно глядя на приятеля. — Тебе хорошо — ты болен. А я же здоров! И если нужно наколоть дрова, так сразу вспоминают обо мне. Интересное дело, — оживился Пейся, — когда нужно принести со склада уголь, говорят: «Пейся, сходи ты — ты же старшенький!» Когда дома спекут что-нибудь вкусное, говорят: «Пейся, не хватай, пусть будет Наумчику — он же младшенький!» Вот и получается, что всегда я в проигрыше.
— А вчера? — спросил Сема. — Ты прятался? Где ты был?
— И не спрашивай, — махнул рукой Пейся. — Залмана Шаца ты знаешь? Убили. Арона Куцека, бондаря, знаешь? Ну, этого, что на левой руке шесть пальцев. Тоже убили. А Дору Ходос помнишь? С ней ужас что сделали!
В этот момент неизвестно откуда появилась бабушка. Она подошла к Пейсе и укоризненно покачала головой:
— Вот это я тебя просила? Я тебя просила рассказать ему что-нибудь веселое, а ты пришел и начал докладывать, кого где убили. Даже простое одолжение ты не можешь сделать!
Пейся обиженно поджал губы и встал:
— Если вам так не нравится, я могу уйти.
— Ты можешь уйти, — согласилась бабушка. — Но он же тогда меня загрызет. И что он нашел в тебе — я не понимаю!
— Бабушка, — вмешался Сема, уже теряя терпение, — Пейся говорит, что ему вздумается. И не трогай его! Он мой товарищ.
Бабушка пожала плечами и вышла в коридор. Но Пейся боялся, что она вернется, и сидел молча.
— А ты, — спросил его Сема, — ты где был?
— Ой, тут целая история, — махнул рукой Пейся. — Ты наши ворота помнишь? Высокие, порядочные ворота. Когда я услышал, что идут уже эти сволочи, я собрал всех соседей и велел им поставить самовары. Я им сказал: «Вскипятите все четыре самовара». Они меня спросили: «Зачем?» Я ответил: «Чай пить». А сам поставил лестницу, залез и наблюдаю, куда идут эти насильники. Вижу, трое подбираются к нам. Я позвал соседей опять и спрашиваю: «Самовары закипели?.. Несите их сюда!» И поставили около ворот четыре знаменитых самовара, и они шипели и свистели на всю улицу.
— Что же дальше? — заинтересовался Сема.
— Дальше я взобрался на лестницу и вижу, что трое стучат в ворота. Очень приятно. Я беру первый самовар, открываю крантик — и на них! Потом я беру второй самовар за ручки и поворачиваю его вниз головой — на их головы! Они не знали, откуда это идет. Кипяток был что-нибудь особенное, и они бросились бежать от ворот. Ты бы посмотрел: один держится за нос, другой — за рот, третий — за всю свою морду!
— Интересно! — рассмеялся Сема, с удовольствием представляя себе ошпаренные лица гайдамаков. — А скажи, Пейся, это правда было или это ты придумал по дороге сюда?
— Что у тебя за некрасивая привычка? — возмутился Пейся. — Всегда тебе кажется, что я вру! Не верить — спроси у Доли!
— Почему — у Доли? — удивился Сема.
— Здравствуйте, «почему»! Потому, что он мне все время снизу самовары подавал.
— Ну, — пожал плечами Сема, — если Доля тебе вчера самовары подавал, значит, правда.
— А я что говорил? — гордо выпрямился Пейся. — Стану я выдумывать. У меня всё — истинная правда!
Наступили тягостные, тревожные дни. Зеленые ставни на окнах не открывались даже днем, никто не решался уезжать в город, говорили друг с другом вполголоса, озираясь по сторонам и боясь засады. Жители местечка не доверяли тишине: они знали, что покой их неверен. Кто придет теперь, с чем и откуда? Путь через местечко вел к большим городам — это вселяло тревогу и страх.
Больше всего человек боялся остаться один. Как в старину, братья сходились с братьями под одной крышей. В комнатах было тесно и душно, спали на полу, но старались все время быть вместе. Если не было братьев, шли к родственникам, к друзьям, к товарищам по ремеслу. Учитель Мотл Фудим — этот глазастый неудачник — сделался вдруг значительной фигурой.
О нем говорили, что он наконец придумал какой-то особенный замок, и все просили его сделать хотя бы один на память.
Как-то днем пришел к бабушке Лурия. Он присел к столу, молча осмотрел комнату и сказал:
— Оставьте все это и идемте к нам. Что вы будете беречь стены? Вместе быть лучше.
Но бабушка не согласилась покинуть дом:
— От горя человек убежать не может. Если нас ищет несчастье, так оно найдет нас, где бы мы ни были.
И Сема остался с бабушкой дома. Дверь закрыли опять на тяжелый засов, поставили на подоконники стулья, но, может быть, потому, что хата стояла у самого моста, здесь было особенно тревожно и страшно. Ночью Сема просыпался и слышал взволнованный шепот бабушки.
— Господи, — повторяла она, — возьми под свою защиту внука моего юного и мужа моего хворого! Если поднимется рука на них, отсеки эту руку. Если суждена кровь, возьми мою. Если нужна жизнь, возьми мою. Злодеев покарай тяжко, слуг твоих спаси и помилуй. Господи, бог мой дорогой!.. — шептала бабушка, вздыхала и плакала.
Все это: тишина за окном, темнота в комнате, кроткие молитвы бабушки и ее покорные слезы, — все это пугало Сему, и ему самому начинало казаться, что конец неминуем и близок. И, стыдясь своих непрошеных слез, он плакал и стонал, уткнувшись в подушку. Неужели так и кончится все?
— Сколько ж нужно тебе, господи? — спрашивал Сема. — Маму забрал, отца услал, деда отнял? За что все это?
Однажды Сема проснулся вспотевший и испуганный. Он открыл глаза, бабушка стояла над ним с лампой в руках:
— Там рвут дверь, Сема!
Он быстро вскочил, надел брюки и, дрожащий от холода и страха, пошел открывать. Уже рассветало. Какие-то люди в папахах, с чубами, закрывавшими глаза, оттолкнув его прочь, ворвались в комнату.
— Корми! — закричал один из них, худенький, рябой, с плетью в руке. — Горяченького! — повторил он и взмахнул нагайкой.
Сема побежал на кухню. Руки не слушались его — кастрюли гремели и падали. Наконец он нашел хлеб и холодный картофель. Он шарил еще, открыл короб, но кругом было пусто, и только большие черные тараканы ползли по полкам. Сема вернулся в комнату. Рябой человек с плетью посмотрел на него, потом на тарелку с холодной картошкой и, подняв ногу, одним толчком опрокинул стол. Сема заметил, что к высокому каблуку его сапога прибита маленькая блестящая подковка. «Зачем это?» — промелькнуло у Семы.
Но уже чей-то голос, злой и простуженный, ревел над ним:
— Где мужчины? Прячете? Нас обмануть? Батьку нашего обмануть?..
Сема поднял голову. Он увидел, что кудрявый чуб кричащего прикрывает не глаз, а черную впадину. Чуб дрожал, и в левом ухе, маленьком, похожем на вареник, тряслась тяжелая золотая серьга.
— Кто вы? — тихо спросил Сема. — Здесь только я и бабушка. В постели больной дед.
— А ну, давай нам деда! — закричал рябой. — Посмотрим на него. Может, большевика ховаете?
Он рванул одеяло, и старик, заросший, испуганный, жалкий, вскочил на постели.
Бабушка упала на колени; рыдая, хватала она чей-то сапог. Ее оттолкнули пинком ноги. Побледневший Сема бросился к кровати деда и, вспомнив что-то, закричал:
— Прочь! Прочь, разбойники! — В его руке блеснул топор.
Теряя себя, обезумевший, готовый рубить и избивать, бросился Сема на рябого. Его быстро схватили за руки, обезоружили и связали.
— Сволочь! — проговорил рябой, с удивлением глядя на Сему. — Ведите его за мной. До батьки!
Тяжело дыша, Сема вышел из дому. Бабушка протянула к нему руки, но он не смог обнять ее. Куда идти? Зачем? Он понимал, что теперь уж конец, и он не был готов к нему, хотя долго и часто думал о смерти. Бежать, бежать! Но его держали крепко, с обеих сторон.
На площади у гаснущего костра сидели люди. Тут же уныло топтались лошади. Худой близорукий человек, в очках, в черной косоворотке с широкими рукавами, сидел в коляске, склонивши голову. Куртка, небрежно взброшенная на плечи, сползала вниз.
— К тебе, батько, — сказал рябой и ткнул Сему вперед. — Убийца, с топором бросился!
Батько поправил очки и, сморщившись, взглянул на рябого, потом на Сему.
— Какая тоска! — с досадой в голосе сказал он. — Какая тоска!.. Развяжите мальчишке руки!
Выполняя приказание, рябой недовольно пробурчал:
— Мы б его там кончили. К вам привели. Может, спытаете? Не большевик, а?
Батько закрыл глаза и, качая головой, повторил:
— Боже мой, какая тоска!.. Отпустите мальчишку!
Рябой растерянно развел руками. Сема с недоумением посмотрел на батьку — и побежал.
— Теперь стреляйте, — сказал батько и, блеснув стеклами, поднял свои маленькие глаза на рябого. — Стреляйте, прошу вас!
Рябой быстро вытащил из кобуры наган и, прицелившись, дал три выстрела. Сема, не оглядываясь, продолжал бежать. Батько, сощурившись, брезгливо взглянул на дымящийся револьвер рябого и, схватившись за голову, закричал:
— Боже, какая тоска! Вы даже стрелять не умеете!
Сема был уже дома.
Офицер армии интервентов Магнус вместе с вверенным ему отрядом форсированным маршем шел на Крупин.
В местечке близ реки Чернушки Магнус остановился всего лишь на один день, уступая настойчивым просьбам самого населения.
Купцы второй гильдии господа Магазаник и Гозман почтительнейше приветствовали офицера великой армии. Магазаник вышел на тракт с маленькой бархатной подушечкой в руках. На подушке лежал плоский почерневший ключ. У Магазаника было лицо человека, совершающего подвиг. Он поднял правую руку, степенно поклонился офицеру и сказал:
— По старинному обычаю нашему, вручаю вам, господин офицер, ключ от дома нашего. Отныне наш дом — ваш дом.
Магнус приподнялся в седле и с нескрываемым любопытством взглянул на Магазаника. «Черт возьми, забавный старикашка! — подумал он. — Может быть, у него искупаться можно?» Утомленный семнадцатидневным переходом, он представил себе широкую постель с огромным количеством подушек, и ему стало приятно и весело. Он ловко спрыгнул на землю и вместе с адъютантом пошел вслед за купцами. Ноги его отвыкли ходить и передвигались медленно, как бы вспоминая.
В доме Магазаника был приготовлен обед на девять персон. Офицер вошел в зал и, заметив большое овальное зеркало, подошел к нему. Давно уже Магнус не видел себя, но вид его был печален. Заросший рыжей, колючей щетиной, с покрасневшими глазами и постыдно грязным воротником, он не был похож на себя. Магнус поклонился и вышел. Магазаник, угадав его желания, приказал приготовить ванну, отнести чистое белье и бритву. Или, может быть, вызвать парикмахера? Но господин офицер любезно ответил, что в пути он бреется только сам и только собственной бритвой.
Обед был назначен на три часа дня. Обычно привыкли кушать в это время. Господин офицер приводил себя в порядок. Обед задерживался. Хозяева были голодны и терпеливы. Они ждали молча. Только сын Магазаника, гимназист Нюня, нервничал, подтягивая мундирчик. Шутка сказать, сидеть рядом с иностранным офицером! Только какая от этого польза, если никто не видит? Нюня был бы рад привезти в местечко и выстроить у окна весь свой класс, чтоб смотрели и умирали от зависти: вот Нюня поздоровался с офицером за руку, вот Нюня подал чашечку с хреном, вот Нюня подвинул горчицу… Завидуйте, шакалы!
Магнус вышел в столовую тщательно выбритый, пахнущий сиренью и довольный всем на свете. Он сощурил свои грустные голубые глаза и молча поклонился. У него было превосходное зрение, но он знал, что ему очень идет, когда он щурит глаза. На столе дымились яства, в высоких граненых графинах стояла русская водка, настоенная на лимоне. Магнус присел к столу и с удовольствием положил на колени белую хрустящую салфетку. Он поднял бокал за победу, и все почтительно встали со своих мест. Нюня вздыхал, корчился и завидовал. Против каждого прибора стояло два бокала — большой и маленький. Рядом с его тарелкой ничего не было: ему не разрешали пить.
Магнус обвел глазами присутствующих и принялся за еду. Он ел медленно, тщательно разжевывая и причмокивая. Молодая женщина с высоким бюстом услужливо предупреждала его движения, протягивая булку, перец, масло. У нее была пышная, вьющаяся прическа и большие карие влажные глаза. Магнус склонился к Гозману и тихо спросил:
— Кто это?
Гозман, иронически улыбаясь, ответил:
— Вторая жена хозяина!
Магнус понимающе кивнул головой и усмехнулся:
— В этом есть какая-то преемственность. Кажется, царь Соломон завещал на смертном одре обложить себя юными девами?
Гозман громко засмеялся, и вслед за ним расхохотались Магазаник и все обедающие, хотя никто, кроме Гозмана, не слышал, что сказал офицер.
Протягивая Магнусу портсигар, Магазаник пожаловался:
— Все нетвердо, господин офицер. Земля дрожит. Большевики, смута. Необходим порядок.
Магнус поднял руку и встал:
— Каждый должен знать, чего он хочет. Мы хорошо знаем, чего хотим. Кроме того, — помолчав, добавил Магнус, — будьте мужчинами, будьте тверды, господа. За твердость! — Он поднял бокал и залпом осушил его.
Обед подходил к концу. Магнус подошел к окну и, мечтательно пуская кольца голубоватого дыма, произнес:
— Чудесная провинция, господа! Зеленые луга, тихие реки и какая-то, знаете, вкусно пахнущая земля. — Он поковырял во рту зубочисткой и глубоко вздохнул: — Поэзия! Мать лириков.
Закрыв глаза и покачивая головой, он прочитал нараспев какое-то стихотворение на чужом, непонятном языке.
— Не правда ли, господа, прекрасно?
Гозман смущенно молчал. Магазаник строго посмотрел на Нюню, он считал: раз сын в гимназии изучает латынь и бормочет что-то про Цезаря и Вергилия, то уже сейчас он должен все понять. Но Нюня не слышал певучих стихов. Вылупив глаза, он с завистью уставился в блестящие ботфорты офицера. «Это вам не штиблеты с ушками!» — тоскливо думал Нюня.
В это время в зал вошел адъютант и, взявши под козырек, обратился к офицеру.
— Простите, господа, — сказал Магнус, бросая салфетку на стол. — Маленькое распоряжение…
Он выслушал адъютанта и, подняв палец, отдал приказание.
…Господин адъютант передал ожидавшим его на крыльце солдатам, что им дается двенадцать часов для исполнения приказа. Но… строжайшее предупреждение: соблюдать совершенную тишину и порядок. Ни одного выстрела! Должно быть тихо! Господин офицер семнадцать дней не спал…
…В семь часов утра, когда Магазаник от лица населения приветствовал офицера великой армии, Сема, бабушка, дед, Доля, Шера, Пейся, его братья, отец и беременная мать поспешно спускались по широким черным ступеням в погреб. Ноги боялись темноты. Было уныло и сумрачно. Пахло кислой капустой и сырой могильной землей. Но выбирать не приходилось. Лучше побыть в этой яме день, чем в другую лечь навсегда.
Все молчали. Сема сидел на верхней ступени и прислушивался, приложив ухо к двери. Спасшись от смерти, он теперь чувствовал себя смелым и готовым на все. Беременная мать Пейси лежала внизу на земле и, сжав губы, морщилась от боли. Стонать ей нельзя было. Пейся молча беседовал с Шерой, объясняясь знаками, понятными лишь ему одному. Доля сидел на кадушке с угрюмым, сосредоточенным лицом.
— Идут? Ты видишь что-нибудь? — шепотом спрашивала бабушка у Семы.
— Нет, — кивал он головой, — ничего не вижу.
— Тогда сойди сюда, — звала его бабушка. — Может быть, там дует?
Пейся тихонько придвинулся к Шере и зашептал:
— Я видел офицера, когда он въезжал на мост. У него такие волосы, как будто их корова прилизала языком.
— Я тоже видела. Только он был в фуражке.
— Ну и что ж? — удивился Пейся. — А при мне он снял фуражку и вытер пот.
— Может быть, — уклончиво ответила Шера и подползла к матери Пейси: — Вам плохо? Вы лежите на голой земле?.. Пейся! Дай маме свою куртку… Вот так. Теперь лучше?
— Лучше, — улыбнулась жена Шлемы и схватилась за живот: — Колет! То здесь, то там.
— А вы попробуйте заснуть.
— Ой, не могу. — Она внимательно посмотрела на Шеру: — Ты такая нежная!
— Тсс! — сердито махнул рукой Сема. — Пусть будет тихо.
Все замолчали, настороженно прислушиваясь и ожидая неизвестного. Кто-то лениво прошелся по двору и, остановившись у погреба, начал кашлять. Потом опять все стало тихо, и Сема с еще большим волнением вслушивался в тишину. «Может быть, и не грабят вовсе, — подумал он. — Все-таки Европа… А вдруг они уже ушли, и мы сидим здесь, как дураки». Но в это время донесся ровный, кованый и тяжелый шаг солдат. Куда они идут? Опять в погребе перестали дышать и с тревогой смотрели на измученное лицо жены мясника. «Молчи! — словно просили ее все. — Вытерпи и помолчи!» Она закусила нижнюю губу и, повернув голову, уткнулась лицом в холодную, сырую землю. Бабушка тихонько подползла к беременной и, сняв с шеи вязаный платок, бережно укутала ее озябшие ноги. Шлема с тревогой смотрел на жену. Такое горе, такое несчастье!
— Сура, — спросил он, — почему ты молчишь?
Она повернула к нему свои усталые глаза, и рука ее потянулась к пиджаку мужа. Слабые пальцы не слушались ее, она пошарила по пуговицам и, тяжело вздохнув, прошептала:
— Застегнись, Шлема… Ты простудишься. И где Наумчик? Возьми его на руки. Он замерзнет здесь!
Пейся, отвернувшись, вытер слезы и принялся осматривать погреб. Какие-то ржавые кастрюльки, черные котелки и пустые рассохшиеся бочки. Никакого толку, хоть бы одна дыня завалялась! «Но почему вдруг дыня? — спросил себя Пейся, облизывая языком губы и вспоминая мамино кисло-сладкое жаркое. — Ох, не скоро еще обед!»
Сема осторожно спустился со ступенек и, переступая через чужие ноги и тела, отвел Пейсю в сторону:
— Что ты здесь ищешь? Клад?
— Нет, просто так.
— А-а, — протянул Сема. — А я думал: ты уже нашел золото. Ты помнишь тот монастырь в городе? Так от него тянется через реку подземный ход как раз до этого погреба.
— Ой ты, выдумщик! — улыбнулся Пейся. — А я говорю только то, что было на самом деле.
— И самовары?
— А как же! Вот возьмем, к примеру, погреб. Мне рассказывали такой случай. Вошла в погреб хорошая девушка взять кастрюлю. Так. Вернулась в дом — бледная, губы синие, дрожит, как лист. Спрашивают: что такое? Молчит. Спрашивают: где кастрюля? Молчит. Спрашивают: что случилось? Молчит. Уже ей в рот засматривали и фельдшера звали, ничего не помогает. Молчит. И так, представь себе, она молчала целый год. И однажды ее опять послали в погреб. Она вернулась, держит в руках ключ и разговаривает. Все что угодно: «здравствуйте, нате, я принесла…» — короче, все слова! Что же ты думаешь? Когда она попала год назад в погреб, ей что-то показалось: тень или призрак, и она потеряла ключ и испугалась еще больше. Она бросилась, начала ковырять землю, и все ногти ее стали черными. Теперь она вошла и вдруг увидела этот самый потерянный ключ, и все прошло. Но ты подумай, — добавил он с горечью, — целый год молчать!
— Замолчи хоть на минуточку! — разозлился на него отец. — Там, кажется, идут…
И опять Сема прополз к дверям, и в погребе перестали дышать, настороженно прислушиваясь и ожидая. Пейся поднял голову. Идут или не идут? Казалось, какой-то черный ужас движется над крышей старого погреба. Но наверху было тихо, только изредка в одиночку и группами проходили солдаты, и сюда доносился их спокойный и четкий, пугающий шаг…
После обеда в столовой остались мужчины. Магнус, расстегнув мундир, обратился к хозяину:
— Вы хотели говорить? Я вас слушаю.
Магазаник встал, медленным шагом подошел к двери и, плотно прикрыв ее, возвратился на свое место:
— Скажет господин Гозман.
Магнус поднял глаза на купца.
— У меня, собственно, два слова, — сказал Гозман, вынимая из кармана бумажник. — Вы говорили, господин Магнус, о твердости, если я не ошибаюсь. Твердость хорошо себя чувствует, если с ней рядом есть оружие. Вот… Я просил бы вас познакомиться с этим. — Он порылся в бумажнике и, достав аккуратно сложенный листок, протянул его офицеру.
Магнус бегло взглянул на записку и, улыбаясь, встал:
— Господа, мои люди действуют. Полагаю, вы догадываетесь, что это значит? Однако… Однако я приму во внимание ваш список.
Офицер поклонился и вышел в отведенную ему комнату. Его ожидал адъютант. При входе Магнуса он вскочил, но офицер недовольно махнул рукой и присел к столу, задумчиво рассматривая коробок спичек.
— Все в порядке? — спросил он наконец.
— Мое мнение…
— Я не спрашиваю, каково ваше мнение, — оборвал его Магнус, — я спрашиваю: что существует независимо от вашего мнения?
— Арестованные внизу, — тихо сказал адъютант, выпрямляясь и обидчиво глядя на офицера.
Магнус лениво поднял указательный палец:
— Одного.
Офицер высыпал на стол спички из коробка и принялся медленно составлять из них какие-то замысловатые фигуры, квадратики и ромбики. Ему опять стало скучно. Солдаты ввели арестованного и удалились. Магнус продолжал возиться со спичками. Адъютант, склонившись, прошептал ему что-то на ухо.
— Хорошо, — кивнул головой офицер и поднял глаза на арестованного: — Я представлял вас куда моложе.
Арестованный молчал.
— Населению предложено выдать большевиков, — сказал Магнус, поправляя спичечный квадратик на столе. — Что вы скажете?
— Так это же населению. — Арестованный пожал плечами. — А при чем тут я?
— Сколько большевиков? Четыре? Пять? Никого?.. Отвечайте.
— Господин офицер, я могу вам сказать, сколько пистонов идет на мужскую союзку или сколько шпилек на подошву. Но об этом я как раз ничего не знаю.
— Фамилии! — приказал Магнус.
— Чего не знаю, того не знаю.
— Вы большевик?
— Я? Что вы! — Арестованный улыбнулся и пригладил усы. — Я просто Лурия.
— Слушайте вы, просто Лурия, — сказал Магнус, закуривая папироску и откидываясь на спинку кресла. — Вы знаете, что такое просто смерть?
— Я не знаю.
— Вы рискуете узнать.
— Я вам скажу, — рассудительно ответил Лурия, — в моем возрасте это уже неопасно. Ну, сколько я могу еще протянуть? Еще два года, еще пять лет. Другое дело — вы. Вы молодой человек, и для вас это-таки вопрос…
— Молчать! — закричал Магнус, ударяя ладонью по столу и смахивая на пол спичечные квадратики, — Что вы еще можете сказать? — тихо спросил он.
— У вас есть дети?
— Это не относится к делу.
— Вы же спросили, что я могу сказать?
— Ну, есть сын, что же дальше?
— Хорошо было б для его здоровья, если б он… — Лурия молча взглянул на офицера, — если б он не был похож на вас.
— Выйдите! — приказал Магнус, обращаясь к адъютанту.
Адъютант пожал плечами и вышел из комнаты.
— Скажите мне, арестованный, вы сошли с ума или вы притворяетесь?
— Избави бог! — возмутился Лурия. — У нас во всем семействе не было ни одного сумасшедшего. Можете спросить у кого угодно.
— Вы понимаете, что речь идет о жизни?
— Господин офицер, — степенно произнес Лурия, — самое большое, что вы в силах сделать, так это убить меня. Да? Так я думаю, что с этим еще можно мириться.
Магнус встал и молча постучал карандашом. Вошел адъютант.
— Убрать! — приказал офицер и, подняв с пола коробок, принялся опять что-то строить из спичек.
— До свидания, — почтительно кланяясь, сказал Лурия и поднял к потолку правую руку: — До свидания — там!
Глаза привыкли к темноте, но тишина давила сверху, как будто она весила сто пудов. Сема просверлил тупым гвоздем в дверце маленький кружочек и припал к нему. Но ничего не было видно, кроме ведра, перевернутого кверху дном.
— Ну что? — нетерпеливо спрашивал Пейся. — Что ты заметил?
— Ничего. Ведро.
— Это ты мне уже говорил.
— Тогда всё.
— А я бы рискнул и выбежал. Так же можно сидеть до пасхи!
— Если б, кроме тебя, здесь никого не было, ты бы мог рисковать.
— А что же делать?
— Что угодно, — пожал плечами Сема. — Можешь спать, можешь молчать, можешь думать.
— Веселый совет! — разозлился Пейся. — А зевать тоже можно?
— Сколько угодно… — любезно согласился Сема и, скатившись по ступенькам, подсел к Шере. — Возьми мой пиджак, — прошептал он смущенно, — здесь очень сыро.
— Ничего, — улыбнулась Шера, — мне уже здесь нравится… Сема, скажи мне… Только ты не обидишься?
Сема удивленно поднял брови:
— Нет.
— Ты боялся, когда попал к этим?
— Нет, — признался Сема, — я бежал.
— А когда стреляли?
— Я бежал. Я перепрыгивал через лужи, с камня на камень и бежал.
— Ой, — вздохнула Шера, — а я так волновалась за тебя! У меня было плохое предчувствие. И я уже хотела стать старше на несколько часов, чтобы узнать, где ты.
Сема протянул руку, и Шера прижала ее к груди под платком. Он внимательно посмотрел на девушку, хотел еще что-то сказать, но в это время тяжело застонала Сура — жена Шлемы. Бабушка встала со своего места и, склонившись над ней, зашептала молитву. Сура продолжала стонать. Бабушка подозвала к себе Шлему и сказала ему на ухо:
— Вода!
Шлема растерянно развел руками, и на глазах его показались слезы. Они бежали по его полным небритым щекам. Он стоял, свесив голову на грудь я беспомощно опустив руки.
— Не будь дураком, — строго сказала бабушка, засучивая рукава. — Значит, так суждено. Освободи место у окошка. Пусть все перейдут на ступеньки. Понял? И ничего им не говори. Скажи, что ей просто плохо. Когда многие знают о родах — матери трудно!
Шлема выполнил приказание. Сема, Доля, дедушка, Пейся и дети поднялись по ступенькам ближе к дверям. Шера с бабушкой остались внизу, возле Суры. Она стонала и плакала.
— Ой, мамочка, я умираю! — твердила она, протягивая вперед руки. — Ой, мамочка, мне конец!
— Не кричи! — рассердилась бабушка. — Попробуй походить. Тебе будет легче. Ну, походи. От окна к стене. Держись за меня.
Сура прошла несколько шагов. Мучительная боль вновь прижала ее — она стянула на шею платок и, закусив до крови нижнюю губу, схватилась за грудь.
— Кричи, — разрешила бабушка, — не бойся! Там ничего не услышат. Перестань щипать себя, дура! Ложись здесь!
Шера со страхом следила за роженицей, ей казалось, что вот сейчас Сура кончится: страдание сразит ее.
— Что ты смотришь? — окликнула Шеру бабушка. — Помогай мне. Вот там в углу закрытые бочки. Открой крышки. Поняла?
Шера молча кивнула головой.
— А там слева стоит шкафчик. Открой дверцы. Поняла? Пусть все будет открыто. Матери станет легче. — Она опустилась на колени подле Суры и погладила ее по голосам. — Упрись ногами в стенку… Ну, сильнее! Теперь возьми меня за руки и тяни к себе. Перестань бояться! Открой рот! Кричи!
Шера убежала наверх. Пейся испуганно спросил ее:
— Мама рожает?
— Нет. Ей просто плохо.
— Она умрет! — с детской жестокостью сказал маленький Наумчик и спокойно повторил: — Умрет!
— Девять типупов тебе на язык! — разозлился Пейся. — Обжора несчастная!
— Тсс! — рассердился Доля. — Молчите, воробьи!
Наступила тишина. Снизу доносились крики матери, то протяжные, похожие на долгий стон, то отрывистые и внезапные. Белые руки ее, неживые, бессильные, упали на землю. Сухой, шершавой коркой покрылись посиневшие губы. Она открывала рот, с трудом схватывая воздух, и смотрела на бабушку страдальческими, невидящими глазами. Тоненькие черные шпильки выпали, и блестящие волосы ее рассыпались — они упали на мокрый побелевший лоб, на грудь и на сырую, мягкую землю.
— Мамочка! — кричала Сура, бросаясь из стороны в сторону, ударяясь о стену и хватая что-то испуганными руками. — Ты видишь меня, мамочка?
Шера сидела на ступеньках, прижав ладони к ушам и стараясь ничего не слышать. Так прошло два или три часа в каком-то непонятном забытьи. Вдруг Доля взял ее за плечо.
— Что ты? — удивленно спросила она.
— Иди вниз, тебя зовут.
Бабушка, не глядя на нее, быстро проговорила:
— Скажи Шлеме, пусть перестанет плакать. У него сын!.. Постой! Куда ты летишь? — рассердилась она. — И возьми у кого-нибудь нож!
Только что все думали о смерти и сидели на сырых, тяжелых ступенях с какими-то странно остановившимися глазами. Но вот женщина, пугавшая всех своим криком, разрешилась от бремени, и появился мальчик — маленький, лысый, с каким-то вдруг сразу взрослым носом, и всем захотелось подойти посмотреть на него. Но бабушка, закутав его в три платка, никого не подпускала и, тихо покачиваясь, сидела на ступеньках. Сура дрожала во сне: ей было очень холодно. Доля, сняв пиджак, прикрыл ее плечи.
— Хороший ребенок? — спросил Шлема у бабушки.
— Откуда у вас вдруг будет хороший? — удивилась она и засмеялась: — При такой повивальной бабке родятся только хорошие!..
Уже было утро, а может быть, день — никто не знал этого точно.
— Его рождение, — сказал, качая головой, Шлема, — я буду помнить всю жизнь!.. А если…
Кто-то подошел к погребу и с силой ударил ногой. Все испуганно замолчали. Стук повторился:
— Откройте, они ушли!
Сема быстро взбежал наверх и стремительно открыл дверь. Солнечный свет ударил его по глазам, и перед ним понеслась какая-то зеленая пелена с черненькими прыгающими точками. Он протер кулаками глаза и увидел Антона.
— Ну что? — спросил Сема. — Все-таки тихо было?
— Тихо, — ответил Антон, глядя куда-то в сторону.
Сема протянул руку бабушке, помог выйти деду, а сам побежал вперед по улице к дому, глубоко и часто дыша. Внезапно он остановился и, выставив вперед руки, точно желая что-то оттолкнуть ими, попятился назад. Пригибая к земле тяжелую ветку яблони, на короткой веревке висел Лурия. Сема схватился за голову и побежал обратно. На углу он увидел бабушку. Осторожно ступая, она вела деда домой.
— Что с тобой? — удивилась бабушка.
— Ничего! — ответил Сема, тяжело дыша. — Пойдем домой другой дорогой. Здесь плохо.
Офицер армии интервентов Магнус не принес в местечко покоя. Порядок доживал последние часы, все рушилось. У Гозмана были глаза, и он видел, что происходит. Местечко превратилось в шумный проходной двор, власти менялись два раза в день: петлюровцы, гайдамаки, зеленые и еще какие-то, названия которых никто не знал, шли мимо, неизвестно куда и зачем. Несколько раз Гозман запирался в своей комнате и говорил о чем-то с матерью — восьмидесятилетней угрюмой старухой. Он слушал ее внимательно, зная, что в старости люди видят дальше. И старуха говорила ему: надо уйти!
Он и раньше думал об этом. Он думал об этом, когда переводил свои деньги в ценные заграничные бумаги. Он думал об этом, когда устанавливал связи с варшавскими купцами. Он думал об этом, когда покупал серьги, кольца, браслеты и кулоны своей нелюбимой жене. Он знал, что так будет. Днем он сам зацепил Сему и затеял с ним длинный разговор. Гозман не любил этого слишком строгого, колючего мальчишку, но сейчас он не мог не говорить и не спрашивать.
— Ты не боишься бегать по улице?
— Нет, — отвечал Сема, с удивлением глядя на купца, — теперь не боюсь.
— Почему?
— Меня уже убивали. Бабушка говорит: если убивали и не убили — буду долго жить.
— А ты хочешь долго жить?
— Хочу.
— А я не хочу. Я уже утомлен жизнью.
— Вам неинтересно, что будет завтра?
— Мне неинтересно. Я знаю.
— Я тоже знаю.
— Ты? — засмеялся Гозман. — Что же ты, например, знаешь?
— Приедет мой папа.
— Вот как!.. — Гозман строго взглянул на Сему и, круто повернув, зашел в дом, на ходу подергивая плечами. — Подумаешь, — с какой-то непонятной злобой ворчал он, — приедет его папа! Ветер с горы! Новый мне генерал-губернатор!
— Ты что-то сказал? — робко спросил его сын.
— Я ничего не сказал! — закричал Гозман. — Убирайся вон!..
Сын смущенно подошел к двери.
— Постой! — остановил его Гозман. — Что ты летишь? Может быть, я хочу сына о чем-нибудь спросить… Тебя мальчишки дразнят? А? Только правду!
— Дразнят, — прошептал Мотл, как всегда пугаясь отца.
— А как же они тебя дразнят?
— Стыдно сказать.
— Отцу — ничего не стыдно. Говори!
— Горчица. Лемех. Лапша вареная.
— Лапша вареная, — с каким-то странным удовольствием повторил Гозман и посмотрел на кислое, растерянное лицо сына, — Что ты думаешь? Таки подходит! А?
— Подходит, — согласился Мотл, не поднимая глаз.
— Тебя мальчишки бьют?
— Бьют.
— А ты даешь сдачи?
— Нет.
— Почему нет? — закричал Гозман. — Почему я не вижу у тебя никогда синяка под глазом?
— Я убегаю.
— Почему ты убегаешь? — рассвирепел Гозман. — Почему? Я тебя спрашиваю… — он остановился, подыскивая нужное злое слово, — я тебя спрашиваю, лапша вареная!
— Я не знал, что вы хотите, — заплакал Мотл и, всхлипывая, взглянул на отца. — Можно сделать синяк, разве это трудно?
— Иди, — брезгливо сказал отец, подходя к буфету, — и пришли мать.
Мотл выбежал из комнаты. Гозман налил в граненую стопку наливки, выпил и успокоился. Жены еще не было. Второй месяц он находился с ней в контрах. Разговаривая, они называли друг друга в третьем лице. Жена еще надеялась вернуть расположение мужа и ездила в город к гадалке. Гадалка не помогла, и семейные тревоги продолжались…
Жена вошла и остановилась на пороге, скрестив на груди, руки:
— Он не может разговаривать с ребенком, чтоб не было слез? Или он должен всю свою злость выплеснуть на мальчика?
Гозман молчал.
— Он не понимает, — продолжала жена, — что у мальчика гланды! Он не понимает, что у мальчика всегда заложен нос! Если он изверг, так должен страдать ребенок?
— Довольно! — Гозман нахмурился. — Я это уже раз слышал. Она знает, что мы уезжаем? Нужно собираться. И что останется — составить опись и закрыть на ключ. И не устраивать шума. Она понимает, что я говорю? И пусть Уляша пригласит сюда Магазаника.
Гозман присел к письменному столу и принялся разбирать бумаги. Липовые векселя… Контракт с тюрьмой. Заказ на яловочные. «Милостивому государю от общества призрения престарелых…» Все это чепуха, дым, трава. Он захлопнул ящик и, подойдя к стене, поднял коврик и вынул из ниши маленький тяжелый сундучок. «Это имеет вес!» — с удовольствием подумал он, но в дверь постучали, и Гозман, поспешно поставив на место домашний сейф, пошел гостю навстречу.
Они беседовали при закрытых дверях. Магазаник не одобрял поступка купца, он удивлялся его легкомыслию:
— Зачем в Варшаву? Что вы забыли в Польше? Вся эта завируха — на три недели максимум. Разве вы сами не видите?
— Тем более, — улыбаясь, сказал Гозман, — если на три недели. Так почему мне не переждать в другом месте? Что, меня долги опутали? Или, не дай бог, дети меня обсели?
— Как хотите… — Магазаник пожал плечами. — Но я вам скажу: какое сегодня число? Три? Запомните! Россия не может жить без царя. Это я вам сказал.
— А большевики? Вы знаете, с чем это кушают?
— Не знаю и не хочу знать об этих экспроприаторах, — разозлился Магазаник, — не знаю и не хочу знать!
— А я хочу спать спокойно, — задумчиво сказал Гозман. — Думаете, я не понимаю, что все это дело временное? Понимаю. Но мы же говорим не вообще, а о сегодня. Что же мы имеем? — Он начал закладывать пальцы на руке: — Русской валюты не существует — это раз, русского порядка не существует — это два, русского рынка не существует — это три. Что же есть, вы меня спросите? Есть русский солдат — единственное, с чем можно считаться. И этому солдату война в голову не лезет, и он сует свой штык черт знает куда!
Магазаник внимательно посмотрел на Гозмана и тихо сказал:
— Не в моей привычке мешать человеку, если он что-нибудь решил. Через три недели — я знаю? — через месяц вы приедете и скажете, кто прав… Но коль скоро, — добавил купец с важностью по-русски, — вы едете, пусть будет в добрый час!
Вечером, накануне отъезда, Гозман вызвал к себе конторщика Менделя. Мендель пришел сумрачный и печальный: он не представлял себе жизни без хозяина, и решение купца напугало его.
— Ну, что вы такой скучный, Мендель? — спросил Гозман улыбаясь. — Не навеки! Не навеки!
Мендель молчал.
— Сколько лет вы у меня служите?
— Девять лет и четыре с половиной месяца.
— И четыре с половиной месяца… — повторил рассеянно Гозман. — Я знаю, вы верный мне человек. Все, что я оставляю, должно быть цело. Вы понимаете?
Мендель кивнул головой.
— Я оставлю вам ключ от дома и ключи от складов. Я знаю, с кем имею дело. Я оставлю вам доверенность на реализацию товарных остатков на фабрике.
— При хорошем случае, — сказал Мендель.
— Да. И все должно оставаться на месте, — продолжал Гозман. — Жалованье вам идет. Если что-нибудь срочное, вы даете мне знать через торговый дом Квятковских, Лодзь. Ну вот и всё, — засмеялся Гозман, кладя руки на плечи Менделя. — Вы меня знаете?
— Знаю, — тихо сказал Мендель, смущаясь взгляда хозяина.
— Я сумею отблагодарить.
— Знаю, — повторил Мендель.
— И я не из тех, — строго сказал Гозман, подходя к столу и усаживаясь в кресло, — я не из тех, что забывают дорогу обратно!
Мендель поклонился, протянул несжимающуюся руку, и казалось, что его пальцы вытянулись перед хозяином…
Всю ночь в доме горел свет. Гозман задумчиво бродил из комнаты в комнату, постоял возле тучного буфета с пухлыми резными амурами, вышел во двор, склонился у собачьей будки, вернулся обратно и, тяжело дыша, поднялся по лестнице в зал. Сколько лет копилось все это? Он смотрел с любопытством на картины в толстых золоченых рамах, на блестящие банкетки пепельного цвета, на высокие тумбочки с прозрачно-розовыми, нежными вазонами. Он смотрел на все это, как будто видел в первый раз. Мягкие ковры бежали под его ногами, он шел из комнаты в комнату, и шаги его были бесшумны.
Да, все это вносилось годами. И кто помогал? Никто! Он всегда был один! Скандалы из-за подошвы, драка за клиентуру, просроченные векселя, угрозы и шантаж, унижение и хитрость, взятки властям, риск, ожидание — и вот теперь… покой. Но покоя нет. Где сын, который возьмет дело из рук в руки? Нет сына. И эти дурацкие прозвища, и эта вечная робость… «Это у него от матери! — с тоской подумал Гозман. — И никакого покоя нет. А если это протянется не месяц, а год? Надо рассуждать спокойно… Интересно, что они сделают, если ворвутся сюда? Разгромят всё. В щепки! Только бы не били зеркала!» — встревожился он и подошел к трюмо: на него смотрел человек, коренастый, широкоплечий, с растрепанными бровями и злым, настороженным взглядом.
«Нет, все ничего, — вздохнул Гозман и улыбнулся. — Интересно, как бы это выглядело?» Он погасил свет, взял в руки нож, влез на стол и быстрым ударом срезал хрустальную люстру. Он осторожно зажал ее обеими руками, согнулся, положил на стол и спрыгнул на пол. Уже светало. Синий рассвет падал в окна, и было видно, что на потолке болтается из стороны в сторону старый, уже испачканный шнур. Гозман долго стоял, подняв к потолку глаза. Вот как бы это выглядело! И люстру бы разбили или начали б на ней сушить белье…
К чему думать об этом! Гозман разыскал маленькую щеточку, пригладил усы и вновь опустился в кресло. Вот уже и утро. А кто знает, чего стоила ему эта ночь? Кто знает, что делается в его сердце? Жена? Мать? Сын?
Днем возле дома стояли две груженые пролетки и высокий закрытый фаэтон. Первой вышла жена, держа за руку испуганного Мотла. За ней — мать. Потом показался Гозман — в черном пальто с бархатными лацканами, в черной шляпе, с палкой, висевшей на пуговице. Он сел в фаэтон и приказал кучеру ехать медленно. Жена с удивлением взглянула на него. Но Гозман не заметил ее взгляда — он смотрел на улицу и прощался с ней. Лошади шли шагом.
Сема проходил мимо опустевшего дома Гозмана и с любопытством заглядывал в окна. «Что случилось? — спрашивал он себя. — И почему уехал купец? Уехал или убежал? И чего мог испугаться Гозман с его тяжелым кошельком?» Происходило что-то непонятное! Всякий раз, когда через местечко двигались новые части, Магазаник заводил граммофон с широкой голубой трубой, и на улицу неслось:
Купец был уверен, что придет настоящая власть. Спокойствие не покидало его. И Сема опять спрашивал себя: «Если Магазаник ничего не боится, почему же не стало Гозмана?» Трудно было разобраться во всем, и Сема шел к Шере. Он уже знал, что по улице надо ходить, держась ближе к стенам домов, а если стреляют, надо падать и ждать.
Издали заметив идущего Сему, Шера торопливо открыла дверь и впустила его в комнату.
— Зачем ты вышел? — строго спросила она.
— У меня плохой аппетит, — улыбаясь, ответил Сема, — надо бывать на воздухе.
Шера взяла маленький стульчик и присела рядом с другом. Ей все время казалось, что Сема болен, и она с тревогой смотрела на него:
— Ты сильно кашляешь?
— Почему сильно? — удивился Сема. — Я совсем не кашляю.
— А в боку колет? — допытывалась Шера.
— Тоже нет.
— А под ложечкой сосет?
Сема недоуменно пожал плечами:
— Я вижу, что ты хочешь стать фельдшером. Пожалуйста! Можешь даже стать дантистом[34]. Но при чем тут я?
— Ой, Сема! — вздохнула Шера и задумчиво покачала головой.
— Что — ой?
— Ничего — ой! — Шера вдруг сердито вскочила. — У тебя опять сажа под носом! И все обязательно должны видеть, что у тебя есть локти. Тебе поверят на слово! Можешь уже зашить эти дыры.
— Легко сказать — можешь!
— Скидывай рубашку! — строго приказала Шера.
— Что, что? — ужаснулся Сема.
— Ничего, — спокойно повторила она, — скидывай и садись. Мы поставим две латки.
Сема покорно принялся стягивать рубашку. В это время послышались тяжелые шаги, и в комнату ввалился Доля.
— Хорошее дело! — сердито пробурчал он. — Мало того, что этот воробей не даст прохода девочке, он еще является, когда нет отца, и сидит без рубашки.
— Так она же зашивает, — смущенно ответил Сема.
— Знаю, знаю, — загудел Доля и засмеялся. — Она хочет, чтоб ты выглядел франтом… Глупая! — обратился он к дочери. — Ему уж ничего не поможет. И что ты нашла в нем — не понимаю! Посмотри, ты имеешь пару ушей. Хороший кусок мяса потратили на эти уши. А мускулы? А ну, Сема, покажи свои мускулы.
— И покажу, — рассвирепел вдруг Сема, всерьез принимая шутки Доли. — У мужчины главное, чтоб тут были мускулы — в голове.
— Ой, воробей, — протянул к нему руки Доля, — ты таки прав! Я уже сто раз думал об этом…
— Обожди, — вдруг прервала его Шера. — А ну, повернись, Сема, сюда… Так я и знала. У него на штанах тоже дыра. И куда смотрит бабушка? И где ты сидишь, я не понимаю!
— Ни за что! — крикнул Сема и отошел от Шеры.
— В чем дело? — удивилась она.
— Я, — твердо сказал Сема, — штаны снимать не буду.
— Здравствуйте! — насмешливо улыбнулась Шера. — Кто тебя просит? Я только хочу, чтоб перед сном ты снял свой костюм и хоть раз сам посмотрел, где там нужна иголка.
— Хорошо, — угрюмо согласился Сема. — Даже если всё зашьют, ты что-нибудь откопаешь.
— Воробьи! — опять вмешался Доля. — Кажется, я сейчас беру вас обоих и забрасываю на ту крышу.
— Я не боюсь… — засмеялась Шера. — Сема, не размахивай так руками!
— Почему?
— У тебя на рукаве слабенький шов — он может полезть.
— Ох, — тяжело вздохнул Сема, — Шерочка, я пойду домой, лягу в постель и не буду двигаться.
— Хорошее дело! — одобрил Доля. — Говорят, что в нашу сторону пылят красные.
— Красные? — встрепенулся Сема. — Откуда?
— Я должен знать? — пожал плечами Доля. — Может быть, тебе еще сказать, сколько сабель и кто у них старший начальник? Иди домой, и пусть бабушка не пугается.
— А это наверняка?
— Я знаю? Или да, или нет. Говорят!
— Я иду. — Сема решительно встал и оправил рубашку. — Я иду.
— Никуда ты не идешь, — спокойно сказала Шера. — Обожди минутку. Папа, ты там был? — обратилась она к отцу.
— Был.
— Достал?
— А как же? В два счета!
— Обожди, Сема, — повторила Шера и вышла из комнаты.
Сема ждал с недоумевающим и нетерпеливым лицом. Через несколько минут Шера возвратилась с какими-то двумя мешочками в руке.
— Вот это, — сказала она, — передашь бабушке. Тут пшено на котлеты, а тут отруби. Если будет еще что-нибудь, папа занесет. Только не рассыпь!
— А вам остается что-нибудь? — краснея, спросил Сема, пряча мешочки в карман пальто.
— Остается! — успокоила его Шера. — И не забудь, пожалуйста, про рукав. Там слабенький шов!
— Хорошо! — кивнул головой Сема и побежал.
Он знал, что бабушка будет очень рада. Шутка сказать — достать пшено и отруби в такое время. Ведь это готовые котлеты и пышки. Сема начинал уже разбираться в хозяйстве.
Ночью бабушка разбудила Сему:
— Там кто-то стучит!
— Вам кажется, — недовольно пробурчал Сема и повернулся на другой бок.
— Что — кажется? — возмутилась бабушка. — Дверь уже рвут.
Сема вскочил с постели и прислушался. С улицы доносился грохот, в дверь стучали.
— Сейчас я пойду, — сказал он, натягивая штаны. — Проведите дедушку на кухню!
Сема пошарил рукой под кроватью и, вытащив топор, направился в коридор.
— Зачем ты берешь это? — испугалась бабушка. — Ты думаешь, топор — это игрушка?
— Ничего я не думаю, — хмуро ответил Сема и, сжимая в правой руке свое оружие, пошел открывать дверь.
Кто-то поднял фонарь, и Сема увидел человека в измятой шинели, застегнутой на одну пуговицу сверху, и в голубоватой студенческой фуражке.
— Что вам? — спросил Сема, пряча за спину руку с топором.
— Ничего, — ответил человек улыбаясь. — Можете положить на место вашу секачку.
— Трофим! — крикнул Сема, бросаясь ему на шею. — Трофим!
— Тише! — остановил тот Сему. — Ты можешь нечаянно отрубить мне голову.
Сема сконфуженно опустил глаза и, положив топор на ступеньку в коридоре, провел гостя в комнату. Трофим низко поклонился бабушке и, поставив в угол винтовку с истрепанным ремнем, присел к столу.
— Вы узнаете его? — тихо спросил Сема бабушку.
— Нет. — Бабушка задумчиво посмотрела на Трофима. — Кто это?
— Он же папе посылку делал. Помните?
Бабушка подошла ближе и, улыбаясь, протянула гостю руку.
— Вы будете богатый, — сказала она, — это самый верный признак!
Трофим кивнул бабушке головой, хотя не понял ее слов, и подозвал к себе Сему:
— Передай бабушке, что она может открыть ставни и даже окна. Передай, что бояться нечего.
Сема перевел. Бабушка удивленно пожала плечами:
— Откуда вдруг такой покой?
— Мы здесь, — сказал Трофим, окидывая взглядом комнату.
— А надолго? — поинтересовался Сема. — И что значит — мы?
— Надолго, — ответил Трофим и, положив на стол плотный исчерченный лист, показал Семе: — Ты видишь — это карта. А вот эти кружочки с флажками — города, занятые красными.
— А где же наш уездный город? — недоверчиво спросил Сема.
— Вот!
— А где же наше местечко?
— Вот! — сказал Трофим и, подойдя к окну, открыл ставни. — Видишь? Это идут наши!
— Куда?
— Они идут на фронт. Я с отрядом остаюсь здесь, Сема. Будем жить вместе.
— И кто вы здесь будете? — не унимался Сема.
— Я? — Трофим хлопнул Сему по плечу. — Я, брат, военный комиссар района.
— Это самый главный?
— Да, — кивнул головой комиссар, — главней нет.
Сема встал, внимательно осмотрел Трофима с ног до головы и, повернувшись к бабушке, сказал:
— Вот, видите вы его? Он теперь самый главный в местечке.
— Хорошо, — согласилась бабушка и, смеясь, прошептала что-то Семе на ухо.
Сема расхохотался.
— Бабушка, — сказал он, обращаясь к Трофиму, — не понимает, что делается с вашей головой: то на ней желтая панамка, то, еще хуже, — голубая фуражка.
— Кто на это смотрит? — улыбнулся Трофим. — Передай бабушке, что эта рука, — он протянул свою широкую руку с короткими, словно подрубленными пальцами, — недавно держала руку ее сына!
— Папы? — переспросил Сема и подбежал к Трофиму. — Вы его видели? Где? Когда? Куда?
— Нельзя сразу столько вопросов. — Трофим нахмурился. — Начнем по порядку. Где? В поезде. Когда? Сорок восемь часов назад. Куда? По назначению. Что еще? Скоро будет здесь! При первом же случае.
— Что он говорит? — встревожилась бабушка. — Будет здесь? Кто будет здесь?
Сема, торопясь и волнуясь, передал ей рассказ Трофима. Но бабушка неожиданно осталась спокойной.
— Этого не было, — важно сказала она, пристально глядя на гостя. — Что, я не знаю своего сына? Вы мне будете рассказывать! Если он был близко, так первый дом — это дом его родителей. Вы не знаете, какая это добрая душа! Нет, нет, — замахала она руками, — он будет близко и не придет сюда? Спроси у голубой фуражки: она с умом?
Сема, стараясь быть вежливым, перевел вопрос бабушки. Трофим повторил:
— Яков был близко.
— Хорошо, — опять заговорила бабушка. — Допустим, что это правда. Куда же он поехал? Какие могут быть дела важнее дома?
— Я поехал сюда, — сказал Трофим, обращаясь к Семе, — а он поехал в другое место — спасать людей.
Сема перевел бабушке ответ Трофима. Она с горестью покачала головой и вытерла платком выступившие слезы.
— Это я как раз могу поверить, — тихо сказала она. — Вот такой он человек, твой папа. Кажется, освободили, все кончено, езжай домой. Так нет! Его дело, что где-то кого-то нужно спасать. И, главное, он же их никогда в глаза не видел!
Все замолчали. Сема взял в руки фуражку Трофима и принялся внимательно рассматривать ее. «Не понимаю, — думал он, — чего хочет бабушка?» Сукно как сукно.
— Сема! — вдруг подозвала его к себе бабушка. — Я имею к нему один вопрос. Если он такой большой папин друг, так разве нельзя было поменяться: он бы поехал спасать, а папа бы приехал сюда?
Но Сема отказался переводить этот ехидный вопрос бабушки.
— Тоже выдумали! — возмутился он. — Вам кажется, что это дома — что хотел, то сделал. Это вам не котлеты с чесноком!
— В чем дело? — поинтересовался Трофим.
— Ничего, — вежливо улыбнулся Сема. — Бабушка спрашивает, не хочется ли вам кушать. Как раз есть пшено.
— Нет, — сказал Трофим, вставая из-за стола. — Я пойду: скоро утро. Меня ждут люди.
— А мне можно с вами?
— А как же! — улыбнулся Трофим. — Будешь моим личным ординарцем.
Сема быстро схватил пальто и, на ходу застегивая пуговицы, пошел вслед за Трофимом.
— Куда ты? — закричала бабушка. — Куда тебя несет натощак?
— Нас ждут люди! — важно ответил Сема и, надвинув козырек на глаза, выбежал на улицу.
Где евреи с талесами?[35] Их нет. Желтые скамьи сдвинуты к стенам. В воздухе — горьковатый запах самосада и черные тучи тяжелого дыма. За столом — люди без шапок. Босой матрос задумчиво сосет цигарку и после каждой затяжки сплевывает на пол. На подоконнике сушатся коричневые портянки… Нет евреев с талесами, и не слышно привычного молитвенного стона.
В синагоге стоят винтовки.
На ступеньках, ведущих к амвону, сидит угрюмый синагогальный служка. Он что-то жует или шепчет. Его просят уйти, но он не встает со своего места. Ему дают хлеб — он прячет руки. В глазах его злоба и сон, но он не может покинуть свой пост — он один бережет тору[36], старую, добрую тору, к которой прикасались тысячи губ, которая несет людям исцеление от недугов, избавление от бедствий. Пусть сидит и плюется этот босой матрос, пусть дымят эти богохульники с непокрытыми головами — святой дом не поруган, бог внемлет и зрит!
Сема и Пейся в волнении бродят по улице. Может быть, произошло что-то большое и даже страшное, но это хорошо. Наконец-то перестали просить и плакать в этом угрюмом доме. Там заряжают винтовки, смазывают ружейным маслом части и Трофим, с кем-то ругаясь, стучит карандашом по столу. Они говорят громко и забывают, что где-то рядом сидит испуганный бог и смотрит, что делается. Они не замечают его, и к небесному своду синагоги, к голубому потолку с нарисованными звездами, плывет медленный махорочный дым.
На дверях вывешен большой серый плакат. И Сема неторопливо и громко читает Пейсе первый приказ военкома:
Впредь о всяких происходящих недоразумениях между гражданами местечка и проходящими красными частями доносить мне.
Лица, нарушающие общий порядок, будут мною арестовываться и предаваться суду по законам военного времени.
Лица, замеченные в распространении контрреволюционных слухов, будут преданы суду ревтрибунала.
Военный комиссар Трофим Березняк.
Внизу приписка мелом — печатными буквами: «Всякий срывающий этот приказ или заклеивающий его — творит контрреволюционное дело».
— Понял? — с восхищением говорит Сема.
— Понял, — отвечает Пейся.
И они оба молчат.
Никогда в жизни Семе так не хотелось совершить подвиг, как в эти дни. Хоть самый маленький: взять в плен офицера, поймать чужого разведчика, найти уснувшего часового, стащить где-нибудь пулемет. Хоть что-нибудь! Чтобы знали! И Пейся угадывает мысли друга.
— Я что-то придумал! — таинственно шепчет он.
— Что?
— Не спрашивай, — возбужденно говорит Пейся, озираясь по сторонам. — Ты видел, что там написано! Всякий срывающий творит контрреволюционное дело!
— Ну и что же?
— Ты не понимаешь? — смеется Пейся. — Мы будем здесь сторожить несколько дней, и, если подойдет этот срывающий, мы его поймаем!
Но Сему не увлекает эта идея, и он наносит страшное оскорбление Пейсе — он молчит.
— Что ты закрыл рот? — возмущается Пейся.
— Мне так нравится.
— Ты думаешь, что ты умнее всех!
— Я ничего не думаю, — успокаивает его Сема. — Иди и не дергайся. На тебя уже все люди смотрят.
Они гуляют возле синагоги — от угла к углу. Иногда к ним подходят красноармейцы и спрашивают что-нибудь: как пройти к реке, к лесу, кто здесь хороший сапожник. Сема отвечает, но Пейся не может стоять молча рядом с живым красноармейцем, и он вмешивается в разговор, начинает размахивать руками и что-то кричать.
Сема бледнеет и умолкает. После ухода красноармейца Старый Нос обращается к Пейсе со строгим вопросом:
— Ты же видел, что я говорю? Зачем ты влез?
— А что? — не сдается Пейся, — Разве он к тебе подошел?
— Да, ко мне.
— А что, ты его купил? — кричит Пейся, пуская в ход уже самые неубедительные доводы.
Наконец они сговариваются: один раз отвечает Сема, один раз — Пейся, и, сговорившись, начинают ждать красноармейца с каким-нибудь вопросом, но красноармеец, как назло, не идет, и друзьям становится скучно. Они идут на базарную площадь смотреть на коней и тачанки с пулеметами. Долго там стоять нельзя, их просят уйти.
— Что теперь будем делать? — спрашивает Пейся.
— Давай зайдем в синагогу.
— А нас не выгонят?
— Что ты! Ни за что!
— А что ты скажешь, когда войдешь? — интересуется Пейся.
— Почему это я скажу? А может быть, ты скажешь!
— Ну ладно, кто войдет первым, тот скажет!
— А кто войдет первым?
— Ты!
— Здравствуйте, почему это я?
— У тебя есть вид, — льстиво произносит Пейся, — и ты знаком с комиссаром.
— Я первым не пойду, — решительно заявляет Сема, — я тебе не слуга!
— Хорошо! — соглашается Пейся и кладет руку на железные перила у чьей-то лавки, — Гадаем! Моя рука лежит!
— Моя рука тоже лежит! — кричит Сема и кладет руку на железо рядом с Пейсей.
— И моя лежит!
Жеребьевка заканчивается проигрышем Семы: ему заходить первым и ему говорить.
— А ты где будешь? — спрашивает Сема.
— Около тебя!
— Смотри мне, — предупреждает Сема, — не вздумай бежать!
Приоткрыв дверь синагоги, друзья хором спрашивают:
— Сюда можно войти?
— Входите, — раздается голос.
— Иди ты первый, — шепчет Семе Пейся, — без обмана!
Сема по привычке поправляет картуз и входит в молитвенный дом. Трофим, улыбаясь, кланяется ему, и Сема сразу чувствует себя легко и свободно.
— Я зашел узнать, может, что нужно.
— Нужно, — с грустью говорит Трофим, — Фуража не хватает — это раз. Людей расквартировать — это два. Из синагога убраться — это три.
— А разве здесь плохо? — обиженно спрашивает Сема. — По-моему, самое подходящее место. А там в углу можно спать.
— Нет, Сема, — не соглашается Трофим, — отсюда придется уйти. Не место здесь военному комиссару. Даже на один день! Понял?
Сема кивает головой, но ему совершенно непонятно, чего еще хочет Трофим. Подумаешь, какой барин! А чем здесь плохо? Кажется, места много и света достаточно.
— Так вот что, Сема, — серьезно говорит Трофим, — не пойдешь ли к нам на службу?
— Что делать? — спрашивает удивленно Сема.
Но Пейся щиплет его сзади и шепчет куда-то в плечо:
— Что ты строишь фасоны? Соглашайся!
— Да, — продолжает Трофим, — будешь курьером военного комиссара. Дело это тебе по плечу. Место ты знаешь, ноги у тебя быстрые.
— А оружие будет? — с замиранием в сердце спрашивает Сема и, краснея, уводит глаза от Трофима.
— Это уж потом. Послужишь — и получишь.
— Хорошо, — решительно говорит Сема, — я согласен.
— Нет, — смеется Трофим, — мы не будем торопиться. Ты еще посоветуйся с бабушкой. Скажи, что у тебя будет паек.
Сема смущенно молчит. До каких пор во все дела он будет вмешивать бабушку? Ему делают такую честь, назначают курьером, так нужно спрашивать у нее позволения. Кажется, бабушка уже держит в руках комиссара!
В это время Пейся, осмелев, продвигается вперед.
— А двух вам не нужно? — спрашивает он.
— Можно и двух, — соглашается Трофим и, закуривая, кивает головой матросу: — Вот они тебя проведут. Понял? Взять понятых. Ордер готов!
Матрос надевает на ноги какие-то очень неудобные лакированные ботинки с серой замшей и дрожащими пуговичками и, взяв в руки ружье, говорит:
— Есть, товарищ военный комиссар! Отправляюсь.
Повернувшись, он кланяется друзьям и кричит раскатным, семипушечным басом:
— Матрос непобедимого революционного Балтийского флота Степан Тимофеевич Полянка! Выбрасывайте вымпела!
Потрясенный и уже завидующий, Сема растерянно смотрит на матроса со смешной, коротенькой фамилией и не знает, что же нужно выбрасывать. В недоумении выходят они на улицу. Полянка сдвигает на затылок бескозырку с ленточкой и расстегивает куртку с золотыми блестящими пуговицами. Сема видит на его широкой груди зеленую лохматую женщину с рыбьим хвостом.
— Смотри! — восхищается Пейся. — Какая картина!
Степан Тимофеевич склоняется к ним и тихо говорит:
— Боевая задача такова: произвести обыск и арестовать здешнего купца Магазаника.
Сема раскрывает рот и почтительно смотрит на матроса.
— Требуется, — продолжает он, — двое понятых. Понятно, шлюпочки? Один будешь ты, — говорит он Семе, — а другого, постарше, захватим в пути. Ясно?
— Ясно, — покорно повторяет Сема, но он не понимает, как это можно арестовать Магазаника. — А вы не боитесь?
— Шлюпочка! — смеется Полянка и заглядывает в глаза Семы. — Не такие баржи на ремне тянули!
И они идут. Впереди матрос в лакированных ботинках и широких черных штанах, позади — будущие курьеры: Сема и Пейся.
— Ты не боишься? — спрашивает Пейся.
— Боюсь, — признается Сема, с тревогой представляя себе покрасневшее, злое лицо купца.
— А за что его?
— За все, — хмуро и строго отвечает Сема, вспоминая несчастные глаза Майора с рассеченной губой, — за все.
— А что с ним будут делать?
— Расстреляют!
— А если он откупится?
— Не откупится.
— А если отпросится?
— Не отпросится.
— А если убежит?
— Не убежит! — холодно бросает Сема и ускоряет шаг.
В эту самую комнату Сему приводил Фрайман, и кто бы мог подумать, что Старый Нос еще раз придет сюда! Сема стоит у двери неловко и смущенно. Рядом с ним — Доля. Они понятые. Пейся наблюдает издали: он частное лицо. Матрос присел к столу. Магазаник в нижнем белье лежит на кушетке: он собирался уснуть после обеда — ему помешали.
— Встать! — хмуро говорит Полянка, протягивая к лицу куща какую-то бумагу. — Именем революции, — уже торжественно продолжает матрос, — вы арестованы, и имущество ваше отныне принадлежит народу! Открыть все ящики!
Магазаник дрожащими руками открывает дверцы шкафа.
— Отставить! — приказывает Полянка и отворачивается лицом к окну. — Извольте надеть штаны!
Купец берет брюки, и нога его никак не может попасть в штанину. Матрос ждет. Магазаник, покачиваясь, идет к столу и, вдруг решив что-то, бросает на пол связку ключей.
— Разбой! — кричит он. — Среди бела дня! Не позволю! Через мой труп!
— Мы можем пойти и на такие жертвы, — спокойно говорит матрос и приступает к обыску.
…На улицу первым выходит Магазаник, за ним Полянка с ружьем наперевес. Подле дома с удивленными лицами стоят родственники купца, и чахлый брат его Нахман осторожно кашляет, прикрыв рукой рот.
— Они уже собрались, — кричит Магазаник, потея и брызгая слюной, — они ждали этого! Где ваши слезы, продажные твари? Изверги уводят кормильца, а вы молчите! Где ваши слезы, змеи? Отсохнет рука, если к добру моему потянется! Кто присвоит чужое — сгорит на огне! Золото мое вам снится? Конца коего ожидаете? — Магазаник тяжело вздохнул и, подняв руку, закричал: — Что вы стоите? Вернусь — сапожным шилом уши проколю! Рабами сделаю!
Но родственники стоят молча, испуганно прижавшись к серой стене дома. Они не плачут. Только гимназист Нюня, схватившись за голову, кричит вслед отцу:
— Что теперь будет со мной? Что теперь будет со мной?
Отец не слышит его. Подняв воротник, идет Магазаник по улице, чувствуя на спине трехгранный штык матроса и безучастные взгляды прохожих.
Уже несколько дней работали курьеры военного комиссара, и многие в местечке завидовали им.
— Гольдиным везет! — говорили евреи. — Шутка сказать, иметь такую руку! И кто бы мог подумать, что этот Трофим вдруг станет большим чином.
Больше всех убивался жестянщик Фурман, у которого Трофим когда-то снимал угол.
— Я не виноват, — оправдывался он перед женой.
— Виноват, — неумолимо твердила жена, — у тебя голова набита соломой!
Сема раздобыл где-то шинель, и, хотя она была вся в дырах, все же это была настоящая длинная военная шинель, и Сема чувствовал себя в ней героем. Кроме того, он нарочно сломал козырек на картузе, и теперь уж всем было видно, что Сема — курьер комиссара. Шел он по улице медленно, длинные и всегда распахнутые полы шинели волочились по земле, и взгляд его был угрюмым и строгим. Он вмешивался во все дела, выслушивал жалобщиков и давал советы. Одно только мучило Сему и не давало, ему покоя — он был без оружия. Хоть бы какой-нибудь револьвер дали, даже не стреляющий, — так нет, ни за что! В остальном Сема был доволен жизнью и своим новым назначением.
Бабушка отнеслась к этому иначе. Она не радовалась! Даже когда он пришел в шинели, бабушка посмотрела на него и застонала:
— Зачем ты нацепил это на себя? Черт знает кто носил, а ты тянешь на свои плечи!
Все ей не нравится. И во всем она находит какие-то недостатки.
— Скажи мне, — приставала к Семе бабушка, — ты не мог сидеть дома возле меня? Ты уже высох, одни кости торчат!.. Посмотри только на него! — обращалась она к Шере, которая часто теперь бывала у них.
Но Шера молчала. Сема в шинели стал стройней и выше, и, глядя издали, можно было подумать, что идет сам комиссар.
— Ты молчишь, — продолжала бабушка, — потому что ты еще молода. Целый день бегает! И для чего? Зачем? Я, кажется, пойду к Трофиму и закрою всю эту музыку…
— Бабушка! — оборвал ее Сема, хватаясь за поломанный козырек. — Я сейчас уйду. И не наносите мне оскорблений. Я теперь не какой-нибудь сбивщик, а курьер комиссара.
— Курьер комиссара! — с горечью повторила бабушка. — Лучше б уж ты был сбивщик. Нет, ты только подумай, Шера! Забирают Магазаника, так он лезет… Что, ты с ним дела имел? Или он когда-нибудь тебя пальцем тронул? Мальчик! — возмущалась она. — Ты таки натянул на себя эту дурацкую шинель, но ты не понимаешь, что, если купец выйдет, он на тебе живого места не оставит.
— Он не выйдет! — уверенно заявил Сема, застегивая верхний крючок на шинели. — Мы с него всё получим!
— Мы? — ужасалась бабушка и, обессиленная, опускалась на стул. — Он еще смеет говорить — мы!
Шера успокаивала спорщиков — она брала Сему за рукав колючей шипели и тихо выводила на улицу.
— Теперь я тебе скажу, — улыбаясь, говорила она, — шинель очень хорошая, и ты в ней просто кавалер.
Сема довольно улыбался и нежно брал Шеру за руку.
— Но, — продолжала она, — почему бы не зашить все дырки?
— Ни за что! — упрямо отказывался Сема и вырывал руку. — Ты женщина и ничего не понимаешь! Чья это шинель? Это шинель красноармейца. А где он был? На всех фронтах. А что это за дырки? Это дырки от пуль. А ты хочешь их зашить, ты не понимаешь, что это особенные, боевые дырки.
Сема останавливался и, высыпав на ладонь желтовато-зеленой махорки, скручивал цигарку. Уже несколько дней он курил, и, хотя после курения у него оставалась неприятная горечь во рту, он затягивался, кашлял, плевался и продолжал курить. Не умел он только зажигать папиросу на ветру: ну хоть убей — ничего не получалось. Скрутив цигарку, Сема засовывал ее в рот и шел, надеясь на встречу с курящим.
— Сема, — спрашивала хитрая Шера, — почему у тебя папироса не горит?
— Нет спичек.
— Но ты ведь уже обсосал всю папиросу! Ты наполовину уже съел всю цигарку.
— Ты все замечаешь! — свирепел Сема и выплевывал мокрую махорку на землю.
— Семочка, — тихо начинала Шера, осторожно беря его за рукав, — а что ты делаешь на своей службе?
— Это нельзя, — обрывал ее Сема, — это секрет.
— Даже от меня?
— Даже от тебя! — вздыхал Сема и протягивал ей руку.
Шера задерживала ого руку в своей, маленькой и теплой, и долго с, улыбкой смотрела на него. Сема смущался и опускал глаза. Но однажды Шера пригнула к себе его голову и поцеловала в лоб. Кто мог ожидать такой шутки от нее?
— Что ты сделала? — строго спросил он.
— Кажется, поцеловала, — качая головой, призналась Шера и посмотрела на него лукавыми, смеющимися глазами.
— Этого больше не должно быть! — приказал Сема и, взяв по-военному под козырек, быстро зашагал.
Но через несколько секунд ему страшно захотелось оглянуться, и, обернувшись, он встретился взглядом с Шерой.
Она стояла на тротуаре тихая, опечаленная, и ему так стало жаль ее, так стало стыдно за свои грубые слова, что он побежал обратно к ней, путаясь в полах своей неуклюжей шинели.
— Шера, — тихо сказал он, — ты не обиделась на меня?
— Нет, Сема.
— Поклянись революцией.
— Я не знаю — как, — смущенно сказала Шера.
— Ну ладно, — махнул рукой Сема, — клянись богом!
Шера поклялась, и Сема, облегченно вздохнув, пошел к военному комиссару.
Рядом с Трофимом сидел Степан Тимофеевич Полянка с серьезным, озабоченным лицом. Увидев Сему, он встал и, улыбаясь, сказал:
— Как раз ты необходим в настоящий момент.
Сема с удивлением взглянул на улыбающегося матроса и впервые заметил, что передние зубы его похожи на лопаты, а между двумя лопатами большая щель. «Так вот почему он так плюется», — с завистью подумал Сема и присел на стул.
Военный комиссар расположился теперь в доме Магазаника. Синагога была возвращена верующим…
Трофим встал и прикрыл дверь в соседнюю комнату.
— Так вот, — важно сказал матрос, строго и испытующе глядя на Сему: — кто ты есть? Какой над вами колышется вымпел? И в чем вы видите высший смысл?
Сема спокойно молчал. Он привык уже к тому, что матрос говорил очень красиво и очень загадочно, и знал, что после первых десяти — пятнадцати слов Степан Тимофеевич переходил на обыкновенный, всем попятный язык. Но, видно, время еще не наступило, и Полянка продолжал:
— Ты есть, Сема, пролетарская ветвь. Ты, Сема, — сын бесправия!..
Военный комиссар осторожно прервал его:
— Товарищу Полянке поручена работа с молодыми людьми в местечке. Он уже говорил со многими. С тобой решил говорить позлее других. Сам понимаешь почему.
— Да, — согласился Сема, хотя его в действительности обидело, что с ним говорят позже других. — И что же?
— Мы здесь, — заговорил Полянка, — организуем вас на рельсы революции. Сегодня мы впервые будем записывать и, так сказать, формировать боевой отряд коммунистической молодежи. Понял? Явка сюда в семь часов.
— Есть явка сюда в семь часов, — повторил Сема и, повернувшись на каблуках, направился к выходу.
— Постой, — остановил его Трофим. — Ты уже согласен? А зачем? А может быть, это совсем не для тебя?
Сема смущенно молчал. И зачем он поторопился с этим «есть»? Может быть, его нарочно испытывают.
— А вы записаны там? — спросил он Трофима.
— Нет.
— А отец?
— Тоже нет.
— Так вот, — Сема повернулся к матросу, — явки не будет. Я раздумал.
— А не слишком ли быстро? — улыбаясь, спросил Трофим.
«Чего он хочет от меня?» — с тоской подумал Сема, чувствуя, что он попадает в какую-то новую ловушку. И так плохо, и так плохо.
— Ну, слушай, — сказал Трофим, кладя руку на плечо Семы, — это вас записывают в помощники большевиков. Понял? А ты уже давно помощник!
— Правильно, — наконец догадался Сема. — Значит, мне записываться уже не надо.
— Нет, — остановил его Трофим, — как раз тебе и надо. Соберутся такие вот, как ты, помощники, и смотришь — готов отряд.
— И оружие давать будут? — с волнением спросил Сема.
— И оружие.
Обрадованный Сема пошел к дверям, но по пути он вспомнил о чем-то и подошел к комиссару:
— Когда вы мне обещаете папу?
— Не знаю, — пожал плечами Трофим. — Может быть, сегодня, может быть, завтра. Со дня на день.
— Так… — задумчиво сказал Сема. — Хорошо!
Теперь он думал о том, что встретит отца как полагается — вооруженным помощником большевиков. Что бы там бабушка ни говорила, а папа наверняка будет рад!.. Он вышел на улицу и, прогуливаясь, с нетерпением ждал назначенного часа.
Уже стемнело. К дому подошел Антон и, не видя его, пробежал наверх. «Зачем он сюда? — удивился Сема. — Он же старше меня?» За Антоном пришел Бакаляр — холодный сапожник, работающий на деревянных шпильках. «Зачем он сюда?» — опять удивился Сема. Из-за угла показался Пейся в отцовском синем пиджаке, каким-то чудом загнанном наполовину в брюки. Увидев Сему, он остановился.
— Ты что делаешь? — спросил он настороженно.
— Я? Просто так, — ответил Сема. — А ты?
— Тоже просто так.
Они помолчали. Пейся присел на камешек, перелистывая какую-то толстую конторскую книгу.
— Темно, — заметил Сема, — ничего не видно.
— Да, — согласился Пейся и спрятал книгу за пояс.
— Что это за книга? — поинтересовался Сема.
— Так просто.
Они опять помолчали. Сема поправил на плечах шинель и, подняв полы, как это обычно делают военные, поднимаясь по ступенькам, пошел к дому.
— Ты куда? — спросил Пейся, догоняя его.
— По делу! А ты?
— Тоже по делу.
Через пять минут они встретились в одной комнате.
— Ты почему мне сразу не сказал? — прошептал Сема.
— Я забыл.
— Говори, что за книга?
— Тише! Это я записываю всякие истории.
— Ты? — засмеялся Сема. — Интересно! — И, подумав, строго добавил: — Смотри, чтоб про меня ни слова не было. Понял?
— Понял! — повторил Пейся и прижал книгу к себе.
Ровно в семь часов в комнату вошел Полянка.
— Как раз бьют склянки, — строго сказал он и сел за стол. — Антон здесь? — спросил он тоном старого знакомого.
— Здесь, — ответил Антон, подмигивая Семе.
— Пейся здесь? Сема здесь? — продолжал спрашивать матрос, делая какие-то отметки в тетради и очень странно держа карандаш — в кулаке. — Ну вот, — заговорил он, отодвигая тетрадь, — сейчас войдет представитель партии.
Действительно, пришел Трофим и сел на стул близ окна.
— Начнем, — торжественно заявил Полянка, расстегнул всем напоказ свою рубашку и, строго глядя на собравшихся, быстро задвигал желваками. — Сейчас военный комиссар товарищ Березняк скажет доклад о мировой революции, международном положении и нашем районе… Шлюпочка, — вдруг прикрикнул он на Пейсю, — семечки на пол не плюй!
Трофим, улыбаясь, взглянул на матроса и начал свой доклад. Говорил он очень мало, и Сема запомнил что-то о свободе, о том, что рабочий, взяв, ничего не отдаст обратно, что бои еще будут, и, может быть, «нам с вами, — сказал комиссар, — придется стать в ружье. Но мы раньше ненавидели ружье, потому что дуло смотрело нам в лоб, теперь мы знаем, куда стрелять». И говорил он еще что-то хорошее о Семе, что не испугался парень махновца, и советовал всем быть смелыми, держать глаза открытыми, уметь громить противника, как делают это отцы и братья. Семе показалось, что Трофим смотрит на него, и он опустил глаза.
После доклада комиссар сел, лицо у него было простое, спокойное, и Сема почувствовал к Трофиму что-то родственное; хотелось подойти и сказать ему что-нибудь обыкновенное — «здравствуйте» или «который час?». Но встал Полянка и громко объявил:
— А теперь будем принимать в отряд молодежи… Иди сюда. — Он махнул рукой Семе и опустился на стул. — Фамилия?
Сема пожал плечами — что за вопросы, он же сам хорошо знает, — но, соблюдая порядок, ответил:
— Гольдин.
— Товарищ Гольдин, — важно сказал матрос, — кто вы есть? Вы есть сын бесправия и курьер военного комиссара. В то время как ваш отец проливает кровь, может быть, вы хотите держаться около Интернационала. Это можно, — снисходительно согласился Полянка, как будто он сам и есть весь Интернационал. — А в бога вы верите? — обратился он к Семе.
— Не знаю, — признался Сема.
— Этот момент следует выяснить, — продолжил свою речь Полянка, выставляя из-за стола большие ноги в лакированных ботинках. — Теперь вы говорите партии — телом и душой до последнего вздоха!
— До последнего вздоха! — повторил Сема, беззвучно шевеля губами.
— И если что — жизни не пожалею!
— И если что — жизни не пожалею! — повторил Сема, чувствуя знакомую тесноту в груди и приближение слез.
— Как тот коммунист, которого пытали! — закричал Полянка и стукнул кулаком по столу. — Шестьдесят прикладов на его плечи легли — ни слова не сказал! Горячие шомпола его совесть спрашивали — ни слова не сказал!
— Ни слова не сказал, — повторил Сема, стирая рукавом навернувшиеся слезы.
— Стало быть, примем товарища Гольдина, — загремел матрос уже девятипушечным басом. — И пусть будет Сема на манер отца своего!.. Получай, товарищ Сема, бумагу: билетов еще из уезда не прислали. Это тебе пока будет дубликат. Держи и храни его, воин революции!
Сема сел на свое место и, положив на стол бумагу с загадочным названием «дубликат», принялся читать. Буквы прыгали перед глазами, и он ничего не видел… Он пытался разобрать, что говорит стоящий подле матроса Пейся, но он ничего не слышал. Сема разглаживал выданную бумагу, смотрел на Трофима, и страшно захотелось ему, чтоб сейчас же вот вдруг начался пожар или налетели бандиты, и он бы бросился в бой и умер, и все бы потом жалели его и рассказывали отцу, какой он был.
Сема хотел видеть отца. Желание это теперь вспыхнуло в нем с такой необычайной силой, что он не знал, куда деть себя. Он ходил с дубликатом в кармане шинели, и ему некому было показать бумагу. Нередко вечером он оставался дома, лежал подолгу молча в постели и думал об отце. Тоска была такая тяжелая и непривычно большая, что казалось, она перешла к нему от какого-то взрослого человека. Порой он чувствовал даже обиду на отца, который, может быть, не помнит и не любит его. И потому, что Сема часто и тревожно думал об отце, ожидание казалось бесконечно долгим и утомительным.
Но Трофим все же не обманул его. Однажды, это было в пятницу вечером, когда бабушка молилась над двумя горящими свечами, осторожно постучали сначала в окно, потом в дверь.
— Открыто! — крикнул Сема, не вставая с постели.
В комнату вошел незнакомый человек в кожаной куртке с седой головой и большими серыми глазами. Гость улыбнулся и неловко поправил маузер. Несколько секунд бабушка стояла молча, шепча что-то в растерянности, потом вскрикнула, схватилась рукой за голову и подбежала к нему. Плача и крича что-то непонятное, причитая и всхлипывая, она целовала его в щеки, в глаза, в губы, гладила по волосам и тяжело вздыхала. Человек с маузером тоже плакал. Бабушка опустилась подле него на колени и, гладя его худые ноги, заговорила, с трудом переводя дыхание:
— Ты приехал… Я не надеялась дожить до этого дня. Теперь я могу умереть. Единственный мой… Счастье мое… Ты совсем белый, — с тоской произнесла бабушка, — ни одного черного волоса! Где твоя молодость, сын? Где ты потерял ее? — застонала она. Но вдруг, вспомнив что-то, бабушка вскочила и закричала: — Сема, ты здесь? (Побледневший и испуганный, он стоял рядом.) О чем ты думаешь? Почему ты не двигаешься? Это ж твой папа! Твой папа!
Сема бросился на шею отцу, длинный и нескладный, уселся на его коленях, прижался к пахнущему кожей плечу и заплакал громко, как маленький, не стыдясь своих слез.
— Сын! — прошептал отец, прикасаясь к его лицу обеими руками и пристально глядя ему в глаза. — Сын дорогой! Целый час ходил я тут у окна и боялся зайти. Я видел тебя в тифу, и мне казалось, что я уж не застану тебя… И мне было очень страшно, — совсем тихо произнес отец и опустил голову, — я очень боялся потерять тебя. Мамы нет, Сема! И я не сумел тебе быть хорошим отцом. Но там, на деревянной койке, ночью я сидел с открытыми глазами и думал о тебе, сколько тебе лет и как ты ходишь и какие у тебя руки… Мне очень хотелось, чтобы ты был похож на мать. — Отец глубоко вздохнул и опять посмотрел ка Сему: — А ты, оказывается, вот какой!..
Он встал и, поправив маузер, прошелся по комнате:
— Ну, мама, где же почтенный папаша? — Он улыбнулся и подмигнул бабушке: — Его дела! Наверно, придумал что-нибудь?.. Что ты молчишь? — встревожился он. — Что-нибудь случилось, говори!
Седая голова бабушки упала на плечо сына:
— Не спрашивай, Яков. Они довели его. Он не в себе. Ты ничего не знаешь, Яша, они били его. И теперь он лежит, и ему уже все равно. Они его сделали мертвым!
Отец молча зашагал по комнате.
— Где он? — спросил он строго. — Я должен видеть.
Бабушка открыла дверь в спальню. Яков вбежал и упал на колени у постели деда. Постояв так молча, он протянул руку, осторожно поправил одеяло и тихо сказал:
— Отец! Отец!
Дедушка открыл глаза, удивляясь, взглянул на сына, неуверенно протянул руку к его лицу, потом, отодвинувшись к стенке кровати, вновь посмотрел на него и закричал, пугаясь своего голоса и не веря себе:
— Сарра, что ж ты молчишь? Это Яков!
Он сбросил на пол подушку, присел на постели и, еще раз испытующе посмотрев на сына, сказал:
— Что ж вы все молчите? Ведь это же факт, Сарра! Я сам вижу его своими глазами!
Бабушка опустилась на стул, обессиленная, побледневшая, усталая от слез, испуганная, не понимающая ничего. Лицо ее покрылось мелкими капельками пота.
— Сема, — крикнул отец, — быстро стакан воды бабушке!
Дед недоверчиво смотрел на сына и качал головой:
— Приехал! Я знал, что так будет. — Приехал! И я тебя вижу!..
Сема принес стакан воды и протянул его бабушке. Она пила медленными глотками, стакан дрожал у ее губ, и вода выливалась на платье.
— Сарра, — тихо сказал дедушка, — перестань, ради бога!.. Иди-ка сюда, Сема! — Он улыбнулся устало и поправил подушку. — Ты видишь, приехал твой отец, и какой он нам отдает почет?.. А ты, — обратился он к Якову, — ты думал, что застанешь такого парня? Посмотри, — удивился он, — усы растут! Яков, ты видишь, у тебя уже сын с усами!.. Куда нам деваться, Сарра? — засмеялся он.
Бабушка встала и медленно подошла к постели деда. Он поднял на нее глаза и смущенно сказал:
— Я бы хотел встать. Я чувствую, что ноги пойдут. Я ведь был болен, — сказал он, обращаясь к сыну, — Что это было? Дай бог никому не знать. Я потерял вкус. Ты понимаешь? Мне ничего не хотелось.
— Не будем говорить, папа, — ласково сказал Яков и протянул старику руку.
Дед встал и, опираясь на плечо сына, прошел в соседнюю комнату. Бабушка шла за ними, и Сема, подражая отцу, подал ей руку.
— Держитесь за меня, — тихо проговорил он.
Но бабушка ничего не слышала.
Дед опустился на стул, отец присел рядом с ним.
— Ты думаешь, я верю? — недоумевающе сказал дедушка. — Я еще не верю. Мне кажется, что это сон. И ты — сон, и Сема — сон, и всё — сон. — Он закрыл глаза и покачал головой. — Но ты сидишь рядом со мной. Кому мы должны сказать спасибо?
— Спасибо! — вмешалась бабушка. — Посмотри на него, он же черный, как земля! А что стало с его головой? Старик! Кому мы должны сказать спасибо?
— Я знаю… — засмеялся отец и привлек к себе Сему. — Я знаю и говорю спасибо, кому нужно.
Поздно ночью дедушку с трудом уговорили лечь. Нехотя простился он с сыном и прошел в спальню. Бабушка готовила на кушетке постель для Якова. Медленно укладывала она подушки, и было видно, как приятна ей эта работа.
— Я боюсь, — сказала она, задумчиво глядя на кушетку, — что тебе здесь будет твердо лежать. Потом одеяло это слишком тоненькое. Надо положить что-нибудь сверху.
— Ничего, — успокоил ее отец, — все прекрасно.
— Прекрасно? — удивилась бабушка. — Здесь страшно дует с окна. Мне еще не хватает, чтоб ты простудился. Не забудь хорошо закутать ноги!
— Не забуду, — покорно согласился отец. — А Сема тоже здесь спит?
Сема почувствовал, что бабушка и отец внимательно смотрят на него. Он выпрямился, улыбнулся, но его, как назло, все время тянуло к деревянной кобуре отцовского маузера, и отец сразу заметил это.
— Тебе нравится эта пушка? — подмигнув, спросил его Яков.
— Да, — прошептал Сема, смелея, обнимая отца и гладя его белые волосы, — нравится.
— А мне нет, — заговорила бабушка. — Я тебя прошу, — обратилась она к сыну, — убери подальше это несчастье. Ты ж не знаешь, с кем ты имеешь дело, — добавила она, показав на Сему. — Это же огонь. Вдруг ему приснилось, что топор — игрушка. Да, да! И полез с топором на махновца.
— На махновца? — переспросил отец и положил руку на плечо Семы. — Это не так плохо. А кошек ты не бьешь?
— Никогда в жизни! — возмутился Сема.
— Ну, тогда, мама, ты к нему несправедлива. — Он присел на краешек кушетки и опять обратился к сыну: — Скажи мне про такую штуку: что ты делаешь, если, к примеру, бабушка готовит чай?
— Сижу и жду, — пожал плечами Сема, — очень просто.
— Допускаю, — согласился отец, — а в это время бабушка сама рубит дрова и приносит воду. Так?
Сема молча опустил глаза. Но бабушка неожиданно пришла ему на помощь.
— Что ты хочешь от мальчика? — серьезно сказала она. — Он уже был мануфактуристом, обувщиком, сбивщиком. И теперь он — я знаю? — курьер. Это первый мужчина в доме!
— Мужчина, — засмеялся отец, расстегивая гимнастерку. — А ты помнишь, как ты любил взбираться ко мне на шею? Сидел тут и размахивал ножками. Не помнишь? А как ты проглотил черную пуговицу. Вот такую — тоже забыл?
— Забыл, — признался Сема.
— Тогда я тебе еще одну штуку расскажу! — с таинственным видом зашептал отец. — Один раз мама оставила нас вдвоем. И ты захотел кушать. Я взял бутылку молока, надел на горлышко соску и дал тебе. А ты сосешь и плачешь, а я бегаю по комнате и не знаю, что делать. Пришла мама, посмотрела на меня и говорит: «Ты дал ему соску?» — «Дал!» — «А ты проколол дырочку?» — «Нет», — «Как же к нему попадет молоко?» И все сразу выяснилось. Ой, без мамы я путал! То, что нужно солить, я перчу, а то, что нужно перчить, я солю. Такой был повар! — Отец внимательно посмотрел на Сему и, выпрямившись, опять начал ходить по комнате. — Мама у нас, Сема, была красивая, умная — умней нас с тобой! Когда я с ней шел, все оборачивались. Такая, Сема, мама была! — Он вздохнул и замолчал.
Сема не хотел нарушать этого молчания, он с любопытством смотрел на отца: казалось, что глаза у него не серые, а седые.
— Ты знаешь, я думаю, — опять заговорил отец, — что все-таки в нем что-то есть от нее. Как ты думаешь, мама? Губы и подбородок? Это же ее! — Он обнял Сему и погладил его по голове. — Худой ты у меня, сынуля. Черный! Глазастый! И злой, кажется? А, Сема? Злой или добрый?
Сема молчал, и так они долго сидели друг подле друга, и лишь на рассвете бабушка ушла к себе. Отец лег и закурил папиросу. Сема заметил, что кушетка слишком коротка и отцу некуда деть ноги. Он тихонько поднялся с постели и осторожно придвинул к кушетке стул. Отец уже спал, но папироса еще дымилась в его смуглой худой руке.
Прошло два дня.
Приезд Якова Гольдина наделал много шума в местечке. Одни говорили, что Яков приехал сменить Березняка; другие уверяли, что он уже давно занимает видный пост в Москве и чуть ли не сам лично расстрелял Николая; третьи утверждали, что Яков приехал для того, чтобы продать дом и забрать с собой в столицу старика, старуху, Сему, — только их там не хватает!
У людей было время для выдумок, и они не ленились.
Раньше в доме двери не открывались, а теперь гостям конца нет — всё идут и идут. То приходят к бабушке занять стаканчик крупы, хотя все знают, что крупу уже давно в глаза не видели, то приходят занять дров, хотя знают, что даже все заборы пошли в печку. И за чем бы ни приходили, даже за кочергой, все норовят зайти в комнату, как будто кочерга лежит на столе или в буфете. Всем хотелось видеть, как выглядит этот Гольдин, которого гнали и не загнали, били и не добили, хоронили и не похоронили.
Пейся тоже не удержался — явился молодой человек!
Он прошел в комнату и смущенно остановился на пороге.
— Иди, — ободрил его Сема, — не бойся.
Отец внимательно посмотрел на мальчика и кивнул ему головой.
— Это Шлемы-мясника сын, — сообщила бабушка, ставшая теперь снисходительной и доброй.
— Здравствуй, — улыбнулся Яков. — Что ты стоишь, как жених? Рассказывай!
— Мы вместе, — краснея, пролепетал Пейся и схватил Сему за руку.
— Служил уже где-нибудь?
— Мы вместе.
— А теперь?
— Мы вместе, — заикаясь, повторил Пейся, как будто он знал только эти два слова.
Сема понял, что ничего хорошего уже не выйдет, и вывел приятеля в коридор.
— Что с тобой, — удивился он, — вата во рту?
— Ничего.
— Заладил: вместе и вместе! Умный разговор!
— А зачем мне это? — быстро успокоился Пейся. — Посмотрел, что за штука твой отец, и мое дело кончено.
— Ну и как?
— Обыкновенный.
— А что ты хотел? — обиделся Сема.
— Ничего я не хотел… А револьвер настоящий? — недоверчиво спросил Пейся.
— Игрушечный! — разозлился Сема. — Стоило б его на тебе попробовать.
— Ша! — поднял руку Пейся. — Не задавайся так… Ты видел, как мой папа рубит кость?
— Нет, — признался Сема.
— Тоже стоит посмотреть! — важно сказал Пейся. — А я не задаюсь.
Они расстались, и новые гости сменили Пейсю. Зашел Трофим, сидел с отцом часа полтора, чертил что-то на бумаге, курил. Бабушка несколько раз заглядывала в комнату и обиженно пожимала плечами. Сидят шушукаются! Какие могут быть дома секреты? И как люди не поймут, что ему надо отдохнуть? Приходили друзья Якова — фабричные, сапожники, бондари, смеялись, шутили, вспоминая что-то.
Бабушка опять бурчала, обращаясь к деду:
— Они, когда сядут, забывают, что надо встать.
Но приходили и к ней гости и обязательно целовались и твердили, что с них двойное поздравление: за сына и за отца. Ведь это все равно как нашли — и того и другого! Наконец шум затихал, и семья собиралась в столовой к обеду. Дедушка уже чувствовал себя неплохо и совался во все домашние дела. То ему надо осмотреть чердак, то ему надо ремонтировать кухню, то вдруг, оказывается, необходимо срочно переставить всю мебель. Сила, покинувшая старика во время болезни, вдруг вернулась к нему, и он искал себе дела. Все было хорошо, только в политике дедушка никак не мог разобраться и за обедом всегда нападал на сына. Так было и сегодня.
— Я не понимаю, — дед пожал плечами, — что происходит? В каком я свете?
Яков молчал, бабушка запретила ему затевать большие разговоры с дедом.
— Хотел сегодня выйти в город, — продолжал дедушка, — она не пустила. Но я же человек! Я обязан знать!
— Хорошо, — улыбнулся Яков. — Пришли красные.
— Красные? — недоумевая, повторил дедушка. — Что же мы будем делать с царем?
— Его уже давно нет.
— Николая нет? — спросил дедушка таким тоном, как будто они с царем всю жизнь провели вместе. — Ай-я-яй! А кто же есть?
— Мы, — серьезно ответил Яков, — большевики.
— Большевики! — Дедушка почесал затылок и с подозрением взглянул на сына. — И какую же ты у них занимаешь должность?
— Я — комиссар.
— Нет, — нахмурился дедушка, — ты меня не забрасывай такими словами: комиссар! Ты мне скажи просто: исправником, допустим, ты можешь быть?
— Могу, — улыбнулся отец.
— А вице-губернатором?
— Могу и вице-губернатором.
— А губернатором?
— Тоже.
— Обожди! — Дед встал, подошел к столу и начал рыться в старых книгах. Все время ему попадалось не то, что он искал. Наконец, вытащив из-под груды бумаг запылившийся, старый журнал и хитро улыбнувшись, он подошел к сыну. — Ты видишь, кто это? — спросил он, указывая пальцем на портрет тучного человека с бакенбардами, обвешанного орденами. — Это его превосходительство, — с почтением произнес он, — киевский генерал-губернатор!
— Вижу.
— И ты можешь быть все равно как он?
— Все равно.
Дедушка испытующе посмотрел на сына и, покачав головой, неожиданно прекратил разговор.
— Сарра! — тихо сказал он бабушке. — Ты видишь, что делается? Эти гости могут его окончательно свести с ума!.. Яша, — спросил он ласково, — почему бы тебе днем не поспать два часа?
— Вот что я тебе отвечу, отец, — сказал Яков, смеясь одними глазами и подмаргивая Семе. — Руководитель правительства России, помощник Ленина — Яков Свердлов.
— Тогда выходит, что я, — все еще не веря, произнес дедушка, — могу стать полицмейстером? — Он расхохотался и, размахивая руками, заходил по комнате. — Интересно!.. Ну, а ты… — обратился он к Якову, — ты пока что комиссар? Это много или мало?
— Много.
— А кто же над комиссарами старший?
— Ленин.
— Ленин… — задумчиво повторил дедушка. — Он не был в кабинете министров?.. Нет? А в государственном совете?.. Тоже нет? Где же он был?
— Там, где я, — улыбаясь, ответил Яков и крепко обнял дедушку. — Там, где я, папа!
Дедушка откинулся на спинку стула и глубоко вздохнул:
— Подумайте, что делается! Не тот свет.
Бабушка прервала их беседу:
— Уже встретились! Вот так, Сема, всегда! Они могут сесть утром и подняться на другой день.
— Нет, не можем, — засмеялся Яков. — Я хочу, мама, немного пройтись… Как ты думаешь, Сема?
— Конечно! — обрадованно воскликнул Сема и полез за шинелью.
— Что это такое? — удивился отец.
— Шинель, — дрогнувшим голосом ответил Сема.
— От нее же остались одни рукава!
— А я что говорила, — вмешалась бабушка, — но он же такой упорный!.. Может быть, ты отца послушаешь и сбросишь уже эту тряпку?
— Нет, — обиженно пробурчал Сема, — я пойду в ней.
Отец с интересом взглянул на него и строго сказал:
— Товарищ курьер, следуйте за мной!
Сема с удовольствием подчинился.
Старые улицы местечка! Все здесь как было, и каждый камень знаком ему с детства. Вот он, ветхий деревянный мост, полосатая будка, река. Здесь когда-то рвали камыши и в мокрых штанах выбегали на берег. «Знаешь ли ты про это, Сема?» Но Сема идет молча рядом и важно смотрит на прохожих. «Какое усталое лицо у мальчика! А губы и подбородок — матери. Это хорошо!..» Яков медленно шел по улице, грязь чмокала под ногами, и казалось — ничто не изменилось в местечке.
Но рядом в шинели шел сын. А на земле — следы копыт и колес, потерянные подковы, осколки снарядов. Заколоченный дом, в разбитое окно втиснута подушка; куда-то идет хромой солдат, и на фуражке его еще свежий след оторванной кокарды. Война, война… Она продолжается, идет этой улицей, мимо этих дворов и хижин с почерневшей, грязной соломой.
А вот здесь, на этом бульваре, он сидел с женой. Может быть, еще сохранилась та скамейка, такая глупая, кривая скамейка на трех низеньких ножках? А может быть, срубили уже ее? Потом вечером бежали вниз, к реке, бросали в воду камни, и Соня как-то очень смешно, по-женски взмахивала рукой…
— Тебе не скучно со мной, Сема? — спрашивает Яков.
— Нет, папа!
Они вышли на главную улицу, и все сразу заметили Гольдина. Люди подходили, чтоб поздороваться за руку, спросить что-нибудь, и Сема, ревнуя к отцу, нетерпеливо ждал конца разговора. Сняв шапку, бежит навстречу маклер по продаже леса Шустер. «Что нужно ему?» — хмурится Сема. Шустер кланяется отцу:
— Я хотел только два слова.
— Пожалуйста!
— Вы еврей, и я еврей, — тихо говорит Шустер. — Вы не можете мне сказать, сколько продержатся большевики?
— Вы же видите по мне, — улыбаясь, отвечает отец, — большевики держатся долго!
Они идут дальше. Из каких-то ворот показался учитель Фудим.
Он сразу узнал отца, не удивился, только выкатил глаза и подал руку.
— По-моему, — сказал он, наморщив лоб и сдвинув на затылок картуз, — я вас учил.
— Да, — признался отец.
— И по-моему, — продолжал Фудим вспоминая, — у вас были крупные неприятности с падежами. А?
— Совершенно верно.
— И спряжения вам тоже подавались?
— Именно так.
— Это хорошо, — сказал учитель и посмотрел на отца. Он ничего не спрашивал, ничем не интересовался: ему было важно проверить свою память.
— А вы что? Все учите?
— Я же возился с замками, — развел руками Фудим, — теперь бросил.
— Почему?
— Мне сообщили из достоверных источников, что частной собственности не будет.
Он рассеянно взглянул на Сему и, не прощаясь, пошел дальше. Сделав несколько шагов, он повернул обратно и, подойдя к отцу, строго сказал:
— Я должен предупредить, декрета такого еще нет. В интересах истины! — добавил он и перешел на другую сторону.
— Чудак! — засмеялся Сема.
— Ты не смейся… — задумчиво произнес отец. — Большого ума был человек.
Они помолчали.
— А сейчас куда? — спросил Сема.
— Пойдем на базарную площадь, — предложил отец. — Когда-то там ярмарки бывали.
— А теперь солдаты. И туда подходить не разрешается.
— Ничего, — улыбнулся отец, — нам можно!
Приблизившись к площади, он внимательно осмотрел стоянку красных и, нахмурившись, закурил.
— Что ты, папа? — удивился Сема.
— Ничего, — сухо сказал отец, и лицо его стало чужим и строгим. — Быстро разыщи Трофима!
Через несколько минут Сема вернулся с комиссаром.
— Ты звал меня, Яков? — спросил Трофим.
— Звал, — кивнул головой отец. — Ты что-нибудь думал об этом? — Он указал рукой на площадь.
Трофим недоумевающе пожал плечами.
— Плохо, комиссар, — сказал отец, подняв правую бровь. — Люди, лошади, зарядные ящики — все сбилось в кучу! Один снаряд — и площадь взлетит вверх! — Отец замолчал и, сняв фуражку, провел рукой по волосам.
— Ты прав, Яков, — подумав, сказал Трофим.
— Не в этом дело, — опять нахмурился отец. — Быстро отдавай приказ. Снарядные ящики отбросить назад. Коней отвести. Орудия расставить веером.
— Будет исполнено! — Трофим взял под козырек и повернулся.
— Обожди, — остановил его отец. — Хотел я тебе посоветовать выставить сторожевое охранение по берегу реки. Иметь в любой момент резерв, готовый к переправе. Как ты думаешь, Трофим?
— Я думаю так, товарищ комиссар, — ответил Трофим.
— И еще я хотел тебе посоветовать, — сощурив глаза и улыбаясь, сказал отец, — немного смелее брать в руки ремесло войны. Как ты думаешь, Трофим?
— Я думаю так, товарищ комиссар, — веселее повторил Трофим и быстрым шагом направился к площади.
Сема смотрел на отца растерянными и восхищенными глазами. Большим и сложным казался ему этот седой человек в пожелтевшей кожаной куртке.
Бедные люди много спрашивают. Это Сема знал хорошо. Часто слышал он молитвы бедняков в синагоге — и что было в этих молитвах? Одни сплошные вопросы. Ой, боже мой, почему мне так плохо? Ой, боже мой, когда уже будет лучше? Ой, боже мой, что делать с долгами?.. И еще сто таких вопросов. Счастливые люди, наоборот, не спрашивали. Семе приходилось слышать молитвы купцов, но ни разу Гозман или Магазаник не обращались с вопросами к богу. Они не говорили «ой, боже мой, почему нам так хорошо; ой, боже мой, что делать, мы очень богаты?». Они обходились без этих вопросов.
Но вот настало время, когда Сема почувствовал себя счастливым. Кажется, хорошо, конец вопросам! Ничего подобного. У Семы и теперь находится, о чем спросить. То ему важно знать, скоро ли откроется фабрика в местечке, то ему необходимо выяснить, когда же во всем мире победят красные. Каждый раз он вспоминает, что ему еще что-то неизвестно, и начинает засыпать отца вопросами. Так было и сегодня за завтраком. Сидели пили чай, и вдруг Сема поднял голову и обратился к отцу:
— Скажи, папа, а когда ты уедешь?
Умный вопрос! Бабушка посмотрела на Сему сердитыми глазами и глубоко вздохнула:
— Вот это ты сидел и думал? Больше тебе уже не о чем спрашивать? Хороший сын! Отец только приехал, а он уже болтает об отъезде. — Бабушка вытерла фартуком губы и подсела поближе к Семе. — Куда ехать? Что ты сочиняешь? Папа отдохнет как следует дома и потом начнет себе искать службу… Правда, Яков?
Отец улыбнулся и промолчал. Дедушка многозначительно взглянул на него и тоже улыбнулся:
— Дети и женщины — это одно и то же. Они всюду суют нос. А может быть, Яков вовсе не хочет сейчас поступать на службу? И где вы видите эту службу, если всё на замке? А может быть, он вовсе приехал как ревизор и смотрит, все ли так делается? Одним словом, Яков, забудь — мы тебя ни о чем не спрашивали. Живи здесь и делай что надо.
Яков задумчиво покачал головой и отодвинул чашку с чаем:
— В том-то и дело, папа, что Сема прав. Надо уезжать.
— Куда уезжать? — возмутилась бабушка. — Красивая история! Одна рука говорит — здравствуйте, а другая уже торопится, кричит — до свидания! Интересно! Мы же с тобой двух слов не успели сказать!
— Она права, — вмешался дедушка. — Я все же старше тебя и понимаю в делах. Я тебе говорю — успеешь, не убежит!
— Ой, папа, — вздохнул Яков и мечтательно закрыл глаза, — как бы мне хотелось уже никуда не уезжать! Поселиться здесь, с вами, взять своего сынка, поступить на службу, и чтоб не было больше лошадей, теплушек, разобранных путей, выстрелов. Нам это тоже чуточку надоело… Но что делать?
— Конечно. — Сема взял отца под защиту. — Что вы хотите от человека? Мне вчера велели расклеить на всех домах воззвание. Так что я сделал? Пока не расклеил — не вернулся домой. Очень мне нужно получать замечания!
— Правильно, — засмеялся отец, — я тоже не хочу, чтоб меня ругали.
— А когда ж ты вернешься? — тихо спросила бабушка.
— Скоро! Как только закончится операция — я дома.
— Операция! — воскликнула бабушка и заплакала. Она знала, что в слове этом нет ничего хорошего.
— Что ты, мама? — удивился Яков. — Это совсем не то, что ты думаешь. Это в сто раз легче!
— Я знаю, — тяжело вздохнула бабушка, — ты всегда утешаешь… А когда ты собираешься ехать?
— Сегодня, мама.
— Сегодня? Нет, они сведут меня с ума!.. Что ты молчишь? — закричала она на дедушку. — Что ты сидишь, как будто тебе все равно? Я же ему ничего не приготовила на дорогу. Белье сушится! И так я тебя отпущу? Я мать или я мачеха?
— Ша! — поднял руку дедушка. — Он поедет позже на два дня. И не надо делать панику!
— Нет, папа, — мягко сказал Яков, — я поеду сегодня. Лошади меня ждут. Но я скоро вернусь. Вернусь, и мы побелим комнаты, поставим новый забор, и все будет хорошо. И мама приготовит вишневое варенье… Сколько богатые люди кладут сахару, а, мама?
— Фунт на фунт, — улыбнулась сквозь слезы бабушка.
— Вот, — засмеялся отец, — фунт на фунт. И будут к нам ходить гости. И ты будешь их принимать. А тебе, Сема, выпишем невесту. Черную или белую?
— Не надо никакой, — смущенно ответил Сема. — Лучше возьми меня с собой.
— Что ты! — развел руками отец. — А бабушка, а дедушка? Они не обойдутся без помощника! Ты останешься здесь, а тебе я привезу шинель. Хорошо, Сема? Без дырок, новую шинель, со всеми пуговицами.
…В тот же день отец собрался в путь. Вещей у него было мало, и сборы длились недолго.
— Посиди хоть немного, — попросила его бабушка. — Вспотел и сразу выскочишь на улицу… Ты поедешь до станции?
— Да.
— А оттуда поездом?
— Да.
— А у тебя уже есть билет?
— Есть, — засмеялся Яков. — Теперь обходятся без билетов. — Он встал и начал прощаться.
Семе тяжело было смотреть на печальные лица бабушки и деда, и он вышел на улицу. Через несколько минут дверь отворилась, и показался отец. Старики провожали его.
— Закрой шею!.. — волнуясь, сказала бабушка. — А ну, покажи лоб. Конечно, весь мокрый… Смотри в вагоне не стой у окна. Ты слышишь, Яков?
— Слышу, — покорно ответил он и еще раз поцеловал бабушку.
— И чтоб слово было слово! — улыбнулся дедушка. — Мы тебя скоро ждем. И варенье сделаем фунт на фунт. Я уже забыл, какое ты любишь?
— Кисленькое, — признался отец и поцеловал деда в лысину. — И, кажется, я приеду раньше, чем вы сварите!
— Дай бог, — вздохнула бабушка.
— Дай бог, — согласился отец и, положив руку на плечо Семы, пошел на площадь.
Сема прижался щекой к его руке и опустил глаза. Ему опять захотелось плакать, и никакой храбрости уже не было. Только что приехал отец. И это так хорошо: жить, бегать по улицам, дежурить, расклеивать приказы и знать, что придешь домой, а там у стола сидит отец! Родной отец! И зачем он уезжает?
— О чем ты думаешь, Сема? — спросил Яков и остановился.
— Ты вернешься, папа?
— Вернусь, сыну, — ласково сказал отец и, нагнувшись, заглянул ему в глаза. — Слезы? У юного большевика? В боевой шинели?.. Вернусь, — зашептал он, целуя Сему, — чтобы видеть тебя каждый день и слышать твой тоненький голосочек! Вернусь! Как же я тебя брошу, когда ты один у меня? Будь хорошим, Сема, чтоб не стыдно тебе было человеку в глаза смотреть. Слышишь, сыну? — Он еще раз поцеловал Сему, обеими руками поднял его лицо и посмотрел внимательным, долгим взглядом. — Не плачь, дурачок! — тихо сказал он. — Не плачь, сынуля!..
Опустив руки, стоял Сема на дороге, провожая глазами отца. Господи! Хотелось не стоять, а бежать за ним, бежать и бежать, целовать его белую голову, худые руки, вылинявшую куртку. Прощай, отец!.. Его уже не было видно, а Сема все стоял, и прохожие с удивлением смотрели на него. Какая-то телега, громыхая, проехала мимо, черные брызги полетели вправо и влево, но Сема не заметил их.
Сема не пошел домой. Он свернул в проулочек и, не стучась, вбежал в комнату Шеры. Доля что-то мастерил, сидя на низеньком табурете. Шера вытирала мокрой тряпкой клеенку.
— Что такое? — удивленно спросила она, бросив тряпку на подоконник.
Сема присел к столу и опустил голову.
— Папа уехал, Шера! — сказал он, с трудом переводя дыхание. — Опять нет папы!
— Глупенький, — улыбнулась Шера, — вернется твой папа. Не забывай стариков — ты мужчина!
— Воробей, — загудел ему в ухо Доля, — от этого не умирают! Большое дело — уехал! Приедет! И еще как, с музыкой!
Сема молчал.
— Глупый ты! — тихо сказала Шера и положила руку на его голову. — А ну, посмотри на меня! Ты должен быть веселым. Что же делать бабушке, если ты плачешь?
— Не знаю, что делать!
— Иди домой, воробей, — посоветовал Доля. — Иди, успокаивай стариков — ты мужчина!
Шера проводила его до дверей.
— Не плачь! — прошептала она. — Я умею не плакать. Обещаешь?
— Обещаю, — ответил Сема.
— И узнай, можно ли мне быть с вами. Обещаешь? Я очень хочу!
— Обещаю.
— И спроси, нет ли работы для папы. Хорошо, Сема?
— Хорошо, — улыбнулся Сема и крепко сжал руку Шеры.
…Дома с тревогой ждали его возвращения. Когда он вошел, дедушка встал со своего места и подбежал к нему:
— Ты проводил папу?
— Проводил.
— Ты видел, как он садился в телегу?
— Видел, — соврал Сема, вспоминая, что ему нужно утешить стариков. — Не телега, а что-нибудь особенное. И три лошади — огонь!
— Ему, наверно, жестко сидеть! — вздохнула бабушка.
— Нет, — улыбнулся Сема, — Трофим подложил подушку.
— Все-таки этот Трофим — человек! — снисходительно сказала бабушка и посмотрела на Сему. — Садись уж, отдохни. На тебе лица нет.
Дедушка, лукаво улыбнувшись, тоже посмотрел на него:
— А где ж ты был потом?
— Наверно, у своей барышни, — насмешливо сказала бабушка.
— У барышни? — удивился дедушка. — Хотя постой… В пятнадцать лет я уже был женихом.
— Знаю, — засмеялся Сема. — И говорил про лампы.
— Про лампы? — обиделся дедушка. — Понимаю! Тебе уже моя невеста успела доложить. Только про лампы? — возмущенно спросил он. — А больше она ничего тебе не рассказывала?
— Больше ничего.
— Так я тебе расскажу. Когда невеста пришла к нам второй раз, она заметила на стене какую-то картину и сказала: «Посмотри, какая картина!» И угадай, что я ей ответил? Я ей сказал: «Зачем мне смотреть на стенку, когда живая картина стоит возле меня!» Будь спокоен, Сема, я умел сказать два красивых слова. Можешь спросить у моей невесты!
Сема посмотрел на деда, потом на бабушку и вздохнул с облегчением. Нет, все будет хорошо. Должно быть хорошо!
На другой день рано утром за Семой прибежал нарочный. Бабушка встревожилась, дед посмотрел на него с удивлением, и только Сема ничем не выразил своего волнения: молча накинув на плечи шинель и взяв в руки фуражку, вышел на улицу.
В доме Магазаника, у дверей комиссарской комнаты, его уже ждали. Матрос, поставив на стул ногу, внимательно рассматривал лакированный ботинок. Пейся стоял рядом.
— Да, — со вздохом произнес Полянка, — лаки трещат! И все этот проклятый мизинец. Видите? Выпирает, контрабандист, душно ему!
— А вы бы поставили латочку, — осторожно предложил Пейся. — Я знал одного человека — он даже ставил латки на латки.
— Невозможно, — развел руками Полянка, — подошва стерта лицом земли!
Сема сочувственно покачал головой и взглянул на матроса. Он был без куртки, в какой-то полосатой фуфайке с открытой шеей и без рукавов. Кожа Полянки была разрисована так густо, что казалась темно-зеленого цвета. На правой руке до локтя — большой якорь с цепью, стрела и кружок.
— Вам не тяжело носить все это? — улыбаясь, спросил Сема.
— Привык, — ответил матрос.
— Интересно! А зачем вам этот кружок?
— Чтоб штык не брал.
— А стрела?
— Чтоб пули не брала.
— Помогает?
— Сила духа!.. — загадочно сказал матрос.
— Понятно, — спокойно согласился Сема. — А что это за шрам на щеке?
— От шашки.
— А против нее нет защиты?
— Нет, — ответил Полянка, опуская наконец ногу на пол. — Движение вод бесконечно, как говорил покойный адмирал Нахимов… Зайдемте к комиссару.
Трофим что-то писал. Увидев друзей, он улыбнулся и отложил перо.
— Прибыли? — сказал он. — Хорошо. Ну как, Сема, проводил папу?.. Теперь тебе есть работа. Только спокойно и тихо. Осмотреть дом Гозмана. Проверить комнаты. Стулья не ломать. Понятно?
— Понятно, — кивнул головой Сема, уже торопясь к дверям.
— Обожди, — остановил его Трофим. — Это вам первое поручение. Полезно знать, зачем идете. Там будет лазарет. Старший у вас Полянка — его слушать!
Матрос вытянулся и показал рукой на дверь. Сема и Пейся вышли. Полянка с важностью проследовал за ними.
— Стоп, шлюпочки! — крикнул он. — Задача понятна? Берите Антона и нажимайте на весла. Прежде всего открыть окна, потом надраить полы. В доме будет больница, лазарет, госпиталь. Осмотрите, нет ли экипировки. — Он вновь выставил свой ботинок и с грустью взглянул на него. — Проверьте каждый угол.
— А девочку можно взять, — краснея, спросил Сема, — чтоб помогала?
— Никаких девочек! — хмуро оборвал его матрос.
— Тогда я не иду! — решительно сказал Сема и опустил глаза.
— Два шага вперед!.. — приказал матрос. — Кто вы есть, товарищ Гольдин? От кого я слышу эти слова?
— От меня, — признался Сема. — Я обещал. Я хочу, чтоб она была с нами.
— Ладно, — махнул рукой Полянка. — Кто за нее будет ручаться?
— Я! — обрадованно воскликнул Сема.
— Приводи, — подумав, согласился матрос. — Как говорил покойный адмирал Нахимов: движение вод бесконечно! — Он улыбнулся и кивнул головой. — Через два часа буду у вас…
— Как тебе нравится этот матрос? — спросил Сему Пейся.
— Нравится. Я думаю, что он уже успел наплаваться.
— Будь уверен, — успокоил его Пейся. — С ним я согласен сесть в лодку!
— А я бы хотел себе нарисовать такой якорь.
— Ты с ума сошел! — закричал Пейся. — Ведь это иголками колют!
— Подумаешь, — спокойно возразил Сема. — Когда мне в палец попадает заноза, бабушка выковыривает ее иголкой. И ничего.
Незаметно они подошли к дому Доли.
— Ну, иди зови, — сказал Пейся.
— Почему это я? Идем вместе.
— Ты ручался — ты и зови, — небрежно бросил Пейся и принялся закуривать папироску.
Сема вошел в дом. Шера, взобравшись на стол, убирала с потолка паутину.
— Бросай палку и прыгай вниз! — скомандовал Сема.
— Обожди. Тут остался один угол.
— Прыгай! — потребовал Сема.
— Что там, горит, что ли? — удивилась Шера и села на стол.
— Я за тебя ручался, — тихо сказал Сема. — У нас есть дело. Пойдешь с нами?
— Куда?
— К Гозману.
— К Гозману! — обрадовалась Шера и спрыгнула на пол. — Вот хорошо!
— Что тут хорошего? — холодно спросил Сема.
— Я увижу, как жили люди, — ответила Шера, торопливо убирая палку с тряпкой. — У них, наверно, девять комнат!
— Чтоб ты знала, — вдруг строго сказал Сема, — что число нельзя выдавать. Нас учил матрос. Сколько чего — мы не знаем. Поняла? Военный секрет.
— Но это же комнаты!
— Комнаты, — согласился Сема. — Узнают, сколько комнат, — догадаются, сколько кроватей; а узнают, сколько кроватей, — догадаются, сколько больных. Поняла?
— Ой, Сема, — вздохнула Шера, — ничего я не понимаю в твоих военных секретах!
— Ну, идем, — хмуро сказал Сема.
— А папа?
— Что — папа?
— Он не будет знать, где я.
— Узнает. Идем!
Они вышли на улицу. Пейся со злостью посмотрел на них и пробурчал:
— Вы думали, что мне здесь очень весело ждать?
— Не думали, — улыбнулся Сема. — Я просто забыл.
Пейся наклонился и прошептал Семе на ухо:
— Пусть она идет впереди или сзади.
— Почему?
— Неудобно. Все будут говорить, что мы бегаем с девочками.
Сема согласился с доводом Пейси и, обратившись к Шере, сказал, подражая тону матроса:
— Два шага вперед!
— Не понимаю, — пожала плечами Шера.
— Так надо, — нахмурился Сема, — такой порядок. Женщины идут впереди.
Они с трудом открыли дверь и вошли в дом. В первой же комнате их ждала загадка. На кровати лежал кусок зеленого бархата с рисунками по краям.
— Это на платье, — уверенно сказала Шера.
— Откуда? — возмутился Пейся. — Где ты видела платье с овцами? Тут же нарисовано целое стадо!
— Это называется ковер, — вмешался Сема. — Я знаю.
— Кто это ходит по бархату? — засмеялся Пейся. — Тоже выдумал! Это такая скатерть…
— Ну хорошо, — оборвал его Сема. — Не затем послали. Начинайте осмотр. Я схожу за Антоном. Смотрите во все углы. Шера, открой окна. Тут будет больница. И чтоб ничего не поломали.
— Хорошо, хорошо! — огрызнулся Пейся. — Только не строй из себя большого начальника! Здесь тоже люди с умом.
Сема махнул рукой и направился к Антону. В дороге его охватили сомнения, и он пожалел, что ушел. А вдруг там случится что-нибудь? Шутка сказать, целый дом оставить на Пейсю. Шеру, как женщину, он не принимал в расчет. «Может быть, кто-нибудь спрятался на чердаке?» — волновался Сема. Мало ли что может быть! Торопливо постучав в окно, Сема вызвал Антона и объяснил ему, в чем дело.
— Сейчас, — сказал Антон, — руки помою — и туда.
— Ну иди, — согласился Сема, — а я побегу.
Запыхавшийся, вспотевший и усталый, отворил он дверь и взбежал по лестнице наверх. Из комнат доносились возбужденные голоса, и Сема понял, что предчувствия не обманули его. Шера с таинственным лицом выскочила ему навстречу:
— Ой, Сема, что случилось!
— Что? — хмуро спросил он. — Ведь я же за тебя ручался!
— Да, — кивнула головой Шера. — И что мы нашли?
В это время Пейся открыл дверь и с важностью произнес:
— Она нашла клад!
«Какой там клад?» — тоскливо подумал Сема, с удивлением и досадой глядя на Шеру.
— Зачем — клад? Зачем ты лезешь в мужские дела?
— Я не виновата, — обидчиво сказала Шера, — ты сам меня звал. Я не напрашивалась.
— Ну ладно! — сердито пробурчал Сема. — Где же этот знаменитый клад?
— Вот! — Шера показала на деревянный ящик с сорванным замком. — Смотри!
Сема склонился, заглянул в ящик и испуганно отшатнулся. Серебро! Целый ящик серебра. Ложки, вилки, ножи, половники.
— А ну, попробуй поднять! — приказал Сема Пейсе.
— Попробуй сам, — засмеялся Пейся. — Ты шутишь, какая тяжесть!
Сема сел, потом встал и забегал по комнате. Что же делать? Что делать? Как быть с этим серебром?
— Что ты испугался? — удивилась Шера. — Серебро — это ж не бомба!
— Ай, ты не понимаешь! — рассердился Сема, хотя он и сам не понимал причины своего испуга. — За это серебро можно купить пулемет!
— Что же делать? — растерянно спросила Шера. — Я вижу, начинаются твои военные секреты.
— Тише, — строго сказал Сема. — Сюда придет Антон. Каждый стоит час на посту возле ящика. Понятно? Час — ты. Час — Шера. Час — Антон. В комнате — один человек. Остальные там. Сейчас становится Пейся. Его сменяет Антон. Потом Шера. Закройте окно. С часовым разговаривать нельзя. Понятно?
— Понятно, понятно! — сощурил глаза Пейся. — Я стою, Шера стоит, Антон — тоже, а ты? Ты думаешь, мне большой интерес стоять возле этой кадушки?
— А я бегу за матросом. Ему надо быть здесь. Шера, выходи в ту комнату. Пейся, ты — часовой.
— Иди уж! — махнул рукой Пейся. — Большое дело! Что это, пороховой погреб? Подумаешь — ящик с ложками.
Но Сема не дослушал его. Через пять минут, бледный, взволнованный и серьезный, стоял он подле военного комиссара.
— Мы нашли… — сказал он, с трудом переводя дыхание, — ящик с серебром.
— Поздравляю, — улыбнулся Трофим. — Там еще кое-что запрятано. Гозман не мог всё увезти.
— Есть скатерть зеленая! — взволнованно сообщил Сема.
— Вот видишь — и скатерть зеленая. А Полянка там?
— Нет. Он здесь.
— Позови, — строго сказал комиссар и закурил папиросу.
Вошел матрос с растерянным, недоумевающим лицом.
— Вы меня? — обратился он к комиссару.
— Вас! Почему вы здесь? Я ведь послал вас с ними?
— Сейчас иду, товарищ комиссар.
— Вы должны были сразу отправиться с ними! — крикнул Трофим. — Надо понимать. А если б там не было Гольдина?
— Я отправляюсь, — тихо повторил матрос. — У меня есть причина, товарищ комиссар, — добавил он грустным голосом и опустил глаза. — Лаки треснули!
— Иди уж, — засмеялся Трофим, глядя в растерянное лицо матроса. — Иди уж со своими лаками!
На улице Полянка посмотрел на Сему и покачал головой.
— Фортуна поворачивается спиной… Вы что, ящик нашли? — мрачно спросил он.
— Да.
— С серебром?
— Да.
— Ботинки там не попадались?
— Нет.
Матрос глубоко вздохнул:
— А туфель тоже не видел?
— Тоже.
— Ты понимаешь, какая беда. Номер еще у меня такой, что редко такую ногу отыщешь. Между сорока тремя и сорока четырьмя! Да-а! Как говорил покойный адмирал Нахимов…
— …движение вод бесконечно, — закончил Сема.
И они вошли в дом купца.
Их встретил Пейся с серьезным и важным видом:
— Дежурит Антон.
— А где Шера?
— Сидит тут. Не видишь?
Матрос строго посмотрел на Шеру и, поправив бескозырку, молча поклонился.
— Ты понимаешь, какая беда. Номер еще у меня такой, что редко такую ногу отыщешь. Между сорока тремя и сорока четырьмя! Да-а! Как говорил покойный адмирал Нахимов…
— …движение вод бесконечно, — закончил Сема.
И они вошли в дом купца.
Их встретил Пейся с серьезным и важным видом:
— Дежурит Антон.
— А где Шера?
— Сидит тут. Не видишь?
Матрос строго посмотрел на Шеру и, поправив бескозырку, молча поклонился.
— Окна помыли?
— Помыли.
— Комнаты проветрили?
— Проветрили.
— Мало, — хмуро сказал матрос и потянул носом. — Еще дух купца чувствую… Что еще обнаружили?
— Белье, одеяла, бархатная скатерть.
— На брюки не пойдет?
— Пойдет! — обрадовался Пейся. — Зеленая.
Матрос недоверчиво посмотрел на него.
— С чего начнем? — спросил Сема Полянку.
— Вы, — обратился матрос к Пейсе, — составляйте опись найденного. Добра оставили мало, но точность полагается.
— И мебель записывать?
— Всё, — подтвердил матрос. — Пошли, Сема, проверим ящик.
Волнение вновь охватило Сему. Он позвал Шеру, и они вместе пошли в соседнюю комнату. У ящика стоял Антон.
— Серебро это, — сказал матрос, с трудом поднимая ящик и ставя его на стул, — теперь принадлежность государства. — Он оторвал верхние доски и взял в руки тяжелый половник. — Эту ложечку, может быть, совал в свой рот купец. Довольно! Больше ему не видаться с ней!.. А вот, товарищи, до какого разврата доходили, — воодушевляясь, опять заговорил матрос, — перечницы из благородного металла делали!
Шера, Антон и Сема с удивлением слушали язвительную речь матроса. Пейся просунул голову в дверь. Полянка, размахивая перечницей, продолжал поносить купца и все его семейство. Неожиданно он обнаружил в широком серебряном бокале аккуратно сложенный листок.
— Бумага, — пожал плечами матрос. — Интересно! Посмотрим и бумагу. Прочитаем. «Опись, — заикаясь, прочел он, — столового серебра». Хорошо. Сема, бери листок, всё сверим.
Сема с волнением взял в руки листок. Тревога вновь охватила его. А вдруг кто-нибудь до них узнал дорогу к этому ящику? А вдруг Мендель, у которого был ключ от дома, стащил ложки или тарелки? А вдруг, составляя опись, ошиблись и записали больше, чем есть?
— Что ж ты молчишь? — удивился матрос. — Читай!
— «Ложек столовых — двадцать четыре», — волнуясь, произнес Сема.
— Так, — кивнул головой матрос, — двадцать четыре. Два, шесть, восемь, шестнадцать, двадцать один… Правильно — двадцать четыре.
— «Бокалов полных — двенадцать», — унылым голосом прочитал Сема.
— Так, — сосредоточенно повторил матрос, — бокал полный раз и бокал полный два, четыре, шесть, десять и двенадцать. Правильно — двенадцать.
Все молчали, с тревогой ожидая конца проверки.
— «Ликерных рюмочек — двенадцать», — прочитал Сема вздыхая.
— Ликерных рюмочек, — с ненавистью пробурчал матрос, — двенадцать… Из серебра, черти, пили, иначе им невкусно!.. Ну, раз, два, четыре, шесть… двенадцать.
Ящик опустел. Сема упал на стул и вздохнул с облегчением.
— Всё в порядке! — торжественно произнес матрос, сбрасывая с грохотом серебро в ящик. — Поскольку вы нашли, товарищи юные большевики, объявляю вам благодарность за находчивость. Пусть лежит серебро это в ящике. Поселим в доме этом больницу и будем нашим раненым и больным подавать картофель печеный, или пышки из отрубей, или кашу пшенную на серебряных блюдах, и пусть кушают они на доброе здоровье серебряными ложечками!
Голубые глаза матроса хитро сощурились, он лукаво посмотрел на Сему, подмигнул ему и с важностью опустился в большое кожаное кресло.
Из дома Гозмана друзья вышли с гордым, независимым видом. Пожалуйста, теперь все понимают, что им можно доверить большое дело. И потом — благодарность за находчивость, это же чего-нибудь стоит! Все были довольны друг другом. Только Шера чувствовала себя неважно: во-первых, ее опять заставили идти впереди, во-вторых, даже Сема при ней шепчется. Подумаешь, большие секреты у него с Пейсей! Они не могут потерпеть, пока она уйдет? Шера обиженно пожала плечами и повернула на другую улицу, но Сема задержал ее.
— Тебе нравится с нами? — спросил он в упор.
— Нравится, — без всякого восторга ответила Шера. — А вы всегда будете при мне шушукаться?
— Нет, — успокоил ее Сема и многозначительно взглянул на Пейсю. — Примем тебя к себе и не будем шептаться.
— Не будем, — важно подтвердил Пейся. — Но нам нужны люди… могила! Чтоб без болтовни!
— Ты таки похож на могилу, — улыбнулась Шера. — Из тебя слова надо клещами тянуть.
— Правильно, — согласился Пейся, не замечая насмешки. — Я теперь только знаю — да и нет. Больше ничего… Тут рядом бандиты сожгли местечко. Все сгорело: и дома, и скамеечки, и заборы. Так вы думаете, люди после этого ушли? Ничего подобного. Какая она ни на есть, эта несчастная земля, но все-таки свое. И они остались и живут на развалинах, без крыши. Я сам все видел. Но, если меня спрашивают, что там и как там, я отвечаю одним словом — да или нет. Я понимаю, теперь не время для длинных историй!
— Не время… — засмеялся Сема и похлопал приятеля по плечу. — Уже поздно. Расходимся по домам. Завтра будет собрание.
Пейся с важностью закурил папироску и, небрежно кивнув головой, направился к дому. Шера молча протянула Семе руку.
— Что ж ты молчишь? — удивился он. — Говорила, что хочешь с нами, а теперь молчишь.
— Я уже не хочу, — призналась Шера.
— Не хочешь? — не веря своим ушам, с возмущением воскликнул Сема. — Не хочешь?.. Ну что ж, никто кланяться не будет. Не надо. Тебе еще снисхождение делали. Женщина — это не мужчина!
— Не мужчина, — тихо согласилась Шера.
— Так почему же ты передумала? — Сема уж не мог остановиться, все кипело в нем, и он смотрел на Шеру злыми глазами. — Женские фасоны! Ты хочешь, чтоб надо мной весь уезд смеялся.
— Я не хочу.
— Так почему же? Или ты испугалась работы? Ты думала, что тебя будут катать на колесиках?
— Тише! — Шера с удивлением взглянула на Сему. — Не кричи на меня посреди ночи.
— Еще не ночь, — смущенно сказал Сема. — Отвечай, почему ты передумала? Считаю до трех.
— А что будет потом?
— Я уйду.
— Нет, Сема, — ласково улыбнулась Шера, — это же некрасиво. Какой кавалер бросает женщину? И ты не обижайся. Я передумала потому, что и там буду сидеть как дура. Да, да! Говорить я не умею, спрашивать — стыдно. Я даже не знаю, что такое собрание. И все будут недовольны — черт принес эту девочку, сидит молчит — ни туда ни сюда!
— И туда и сюда! — радостно воскликнул Сема. — И это все? Глупая, а что такое я? Я тоже не все понимаю. И мы будем вместе.
— Вместе? — недоверчиво повторила Шера. — Вместе? А сам все время шушукается с этим Пейсей и меня посылает вперед. Что я — ребенок? Ты думаешь, мне очень нравится быть одной? Вдруг выдумали, что со мной нельзя ходить по улице. И хотят, чтоб я от этого радовалась. Ходи одна! Попробовал бы ты!
Сема почувствовал себя неловко. «И зачем я послушался Пейсю! Приказа ж такого нет — с девочкой не ходить. Если б это было так важно, Трофим бы не забыл и вывесил воззвание: „Молодые люди, ходите отдельно!“»
— Шера, — тихо сказал он и осторожно положил руку на ее плечо, — кончено, ходим вместе.
— Скажи: ей-богу.
— Мне нельзя.
— Нет, скажи! — сердито повторила Шера.
Сема глубоко вздохнул, тихонечко прошептал «не» и потом уж громко произнес:
— Ей-богу.
Все было в порядке. Шера не заметила хитрой проделки и поверила ему. Они еще стояли несколько минут молча, и Сема неловко и стыдливо гладил маленькую руку Шеры.
— Ты мой милый! — тихо сказала Шера, поднимая голову и засматривая в глаза Семы.
— И ты моя милая! — повторил Сема улыбаясь.
— Ты мой самый задушевный!
— И ты моя самая задушевная!
Но в это время послышались шаги, кто-то показался на улице. Сема вздрогнул и стремительно отбросил руку Шеры.
— Что такое? — испуганно спросила Шера.
— Ничего, — торопливо проговорил Сема, — нас, кажется, заметили.
— И что же?
— А где была твоя рука?
— В твоей руке.
— И ты думаешь, что ей там место? — строго спросил Сема.
Но Шера не нашла что ответить. Она с недоумением посмотрела на Сему, и он, как всегда, сразу понял, что сказал что-то лишнее.
— Спокойной ночи, — смягчился Сема. — До завтра.
— До завтра, — покачала головой Шера, — до завтра!
Она поправила платок и медленно пошла домой. Сема провожал ее глазами. Теперь уж все мысли покинули его, и осталась только одна: обернется или не обернется? Сема с волнением следил за Шерой: вот она почему-то остановилась, вот она подняла воротничок жакетки… Обернулась! Обернулась, увидела его и замахала рукой. «Интересно! — размышлял Сема, глядя ей вслед. — Она там догадалась, что я еще тут!..»
На собрание пришло пять человек. И их всего было пятеро с матросом в ту пору… Много позднее, когда из уезда приехал инструктор организовать ячейку союза молодежи, его встретили сумрачно и сразу взяли под подозрение. Какая ячейка? Куда еще записывать? Мы — юные большевики и никаких ячеек не позволим! У Семы было огромное желание выставить инструктора из местечка, и Трофиму пришлось потратить немало труда, чтобы убедить его, что ячейка — это то самое, что у них уже давно существует, и инструктору остается лишь взять их всех на учет…
Первым на собрание явился Антон. И Сема хорошо знал, почему он опередил всех. В комнате стояла фисгармония Магазаника, крышка была поднята, клавиши открыты. Антон что-то играл. Вспотевший и утомленный, он тяжело опускал указательный палец и ждал появления звука. Увидев Сему, он небрежно взглянул на него и принялся с новым усердием стучать по клавишам. Через несколько минут он поднял голову и спросил:
— Угадай, что я играю?
Сема смущенно развел руками:
— Не знаю.
— А это? — Антон опять застучал пальцем.
— Не знаю.
— Ни одного мотива не знаешь! — удивился Антон и с сожалением покачал головой: — Жаль!
— А мне нет, — улыбаясь, ответил Сема, глядя на вспотевшего музыканта. — Подумай сам, что это за музыка, если надо работать руками и ногами? Там дави, тут стучи! Нет, это не для меня.
— Как хочешь. — Антон обиженно пожал плечами и, повернувшись к клавишам, ударил обеими руками. — Вот это собирается гроза… А это гром… Похоже? А это стучат по крыше!..
Антон разошелся, волосы его упали на лоб, пальцы с каким-то злобным вдохновением забегали по клавишам. Иногда он уже запросто опускал на басы кулак и, склонив голову, внимательно прислушивался, удивленный и радостный.
Неожиданно в комнату вошел Трофим.
— У вас, кажется, собрание? — спросил он у Семы.
— Собрание.
— А это что? — обратился он к Антону.
— Я играю, — спокойно ответил тот и опять ударил кулаком. — Вот это гром… А это стучат по крыше…
— Понимаю. — Трофим кивнул головой и несколько секунд постоял молча, — А нельзя ли в другое время? У меня сидят люди, кричат в ухо, и я ничего не слышу. Может быть, ты сыграешь в другое время?
Антон обиженно пожал плечами и опустил крышку.
— Вот спасибо, — с облегчением вздохнул Трофим и вышел из комнаты.
Сема, с трудом сдерживая улыбку, отвернулся к окну. К нему осторожно приблизился Пейся и прошептал на ухо:
— Выйди в коридор!
— Сейчас собрание.
— Еще рано. Выйди на минуточку!
Сема недоуменно взглянул на друга и встал.
— Ну как, — спросил Пейся, подмигивая правым глазом, — долго вчера стоял с Шерой?
— Полчаса. А что?
— Ничего, — лукаво улыбнулся Пейся. — Целовались?
— Дурак! — крикнул Сема и оттолкнул его от себя. — Чем у тебя голова занята?
Пейся надул губы:
— Подумаешь, фасон! Как будто я не знаю. Наверняка целовал в щеку!
— Пошел вон! — рассвирепел Сема, выставляя кулаки.
— Иди сам! — быстро отрезал Пейся. — Она тебя внизу ожидает.
— Кто — она? — строго спросил Сема.
— Не бабушка! Можешь догадаться.
Сема сбежал по лестнице. У дверей дома стояла Шера со смущенным лицом.
— Я пришла, — тихо сказала она. — Только я боюсь зайти сама.
— Теперь мы вместе, — твердо ответил Сема, вспоминая вчерашнее обещание. — Идем!
— А тебя не будут дразнить?
— Хотел бы я знать кто! — возмущенно воскликнул Сема и, схватив Шеру за руку, потянул ее за собой.
Собрание открыл Полянка. Все время сидел он в кресле, поджав под себя ноги, и Сема понял, что лаки расползлись окончательно.
— Так вот, — сказал матрос мрачным голосом, — начинаем!
Все слушали затаив дыхание. Никто не знал, что такое собрание, и поэтому ожидали чего-то необыкновенного.
— Пошлют на станцию рельсы грузить, — прошептал Пейся.
Но Сема сердито шикнул на него, и Пейся умолк.
— О текущем моменте, — продолжал Полянка, — говорить не буду. Вести с фронта известны. Надо быть начеку. Может быть, завтра вам скажут: «Юные большевики, марш на позицию!» Что вы скажете?
— Пойдем! — крикнул Сема и ущипнул Шеру за локоть. — Слушай, что будет дальше!
— Пойдем? — недоверчиво повторил матрос. — А кто из вас умеет стрелять? Или что, по-вашему, значит глубокая разведка?.. Молчите? Известно ли вам, что такое перебежка змейками? Или винтовка в штыковом бою?.. Скажи ты, Пейся.
Все лица обернулись к Пейсе. Он смущенно кашлянул в кулак и степенно заговорил:
— Я знал одного человека…
— Я его тоже знал, — хитро улыбнулся матрос. — А ты нам скажи про русскую трехлинейную винтовку.
Пейся молчал.
— Вот видите, — опять мрачным голосом произнес Полянка. — Что это значит? Это значит, что с завтрашнего дня — стрелковые учения. Два часа на стрельбище! — Матрос снисходительно покачал головой, — Я, дорогие шлюпочки, не уеду от вас, пока не увижу, что Пейся умеет вскинуть винтовку.
— Почему именно я? — обиженно спросил Пейся и покраснел.
— И Сема, и Антон, и другие молодые люди, — успокоил его Полянка. — Так что решение принято, и об остальном будет объявлено особо. Теперь, товарищи, переходим ко вторым вопросам. Надо среди вас избрать старшего. Кого бы вы думали?
— Полянка! — закричали все хором с места.
Матрос нахмурился и поднял руку:
— Тише. Тут оглашали мою фамилию. Ошибка! Я, — торжественно заявил он, — прикреплен к вам всей нашей партией! Понятно? Партия сказала мне: иди, товарищ Полянка, пока ты живешь в местечке, к молодежи и объясняй ей, в чем суть. Понятно? И, если подстрелит меня в бою какая-нибудь рискованная пуля, я обязан знать, что есть здесь в местечке подмена. Вот, скажем, Сема!
— Почему именно Сема? — опять обиделся Пейся.
— И Пейся, и Антон, и другие молодые люди, — успокоил его матрос. — Так как же мы назовем старшего среди вас?
— Надо, как в управе, — с важностью заявил Сема, — мне дедушка говорил: председатель и товарищ председателя.
Антон воспротивился:
— Нет! Звук не тот. Не подходит. Надо просто — председатель отряда.
— Это ж то же самое! — возмутился Сема.
— И тем лучше, — улыбнулся Полянка. — А кого хотите на этот пост, прошу подумать до следующего собрания. Переходим к третьим вопросам. Как вам известно, жить сейчас очень трудно, как-то: хлеба нет, соли нет… Советская власть помнит про неимущих — помогает. Но надо придумать и от юных большевиков какую-нибудь услугу партии.
— Я знаю, что надо! — взволнованно заговорил Сема. — Люди живут голодно. Возьмите, к примеру, мою бабушку. Она же с ума сходит. Соли нет! Муки нет! А менять нам тоже особенно нечего. А где достать отруби? И у меня же все-таки есть паек — полфунта чистой ржи получил, сахарину! У других и этого нет.
— Что ты предлагаешь? — вздохнул матрос и опустил на пол перевязанные шпагатом лаки.
— Я знаю, — продолжал Сема, — что наши сапожники, портные и столяры, у которых дома много ртов, идут в соседние деревни, шьют, латают, получают за это натурой и возвращаются к субботе домой с мешком… У нас есть сапожник Антон? Есть. Он холостой. Есть сапожник Бакаляр? Есть. Тоже холостой. И еще можно найти и послать их в деревни, а заработок пойдет больным и многосемейным. Вот будет наша услуга.
— И то дело, — важно проговорил матрос и посмотрел на ребят. — Согласны сделать пару таких выходов?.. Хорошо. Переходим к четвертым вопросам. К нам, можно сказать, стучится девушка из хорошей семьи. Сема ее привел… Зовут как? — строго спросил он у Шеры.
— Шера.
— Что для чего, понятно?
Шера смущенно опустила голову.
— Слушайте, товарищ Шера, — сказал матрос, поднимаясь с кресла, — люди эти, Антон либо Пейся, — воины. Стрелять их научим, и если надо — в бой. А вы представительница слабого пола. Понимаете вы это?
— Понимаю.
— Хорошо… — Полянка подумал и вновь обратился к Шере: — Когда ходили гайдамаки и вообще охотники всякие из чужих земель, двери что́ были? На тяжелые засовы заперты! И ставни наскрозь закрыты. А теперь окна открыты и двери, почему? Потому, что страха нет. Стало быть, на чьей стороне выходит правда? Скажите, товарищ Шера.
— На вашей, — тихо ответила Шера и с тревогой взглянула на Сему.
— Верно, — воодушевляясь, заговорил матрос, — на нашей! И держитесь этой правды обеими руками до последних дней своих, хотя это, конечно, — с вежливой улыбкой добавил Полянка, — будет еще не скоро!
— Можно сесть? — спросила Шера.
— Можно, — разрешил матрос. — И отца своего пришлите к нам для разговора. А всем, товарищи, напоминаю, что завтра начнем стрелять.
Собрание кончилось. Антон вновь присел к фисгармонии, уже украдкой, мизинцем прикасаясь к клавишам. Сема вместе с Шерой вышел на улицу. Пейся с хитрой улыбкой проследовал за ними.
— Ну? — спросил Сема, с любопытством глядя на Шеру. — А ты боялась?
— Нет, — ответила Шера и замолчала. — А они папе ничего не сделают?
— Ничего, — успокоил ее Сема и, взяв за руку, подвел к дереву.
— А почему мне не дали такой бумаги, как у тебя?
— Дадут! Наверно, сейчас просто нет… Ну, скажи: вместе мы с тобой?
— Вместе, — улыбнулась Шера. — И до последних дней.
— Хотя это будет не скоро, — смеясь, добавил Сема и, оглянувшись, поцеловал Шеру в щеку. — Иди!
Шера постояла еще немного и, поправив оттопырившийся воротник на шинели Семы, медленно пошла домой. Едва она сделала несколько шагов, откуда-то из-под дерева вынырнул Пейся.
— Ты что? — удивился Сема.
Пейся усмехнулся:
— Ничего. Я был прав. И как раз именно в щеку!
Сема покраснел и, схватив Пейсю за плечо, пригнул к земле:
— Подсматривать? Кто позволил?
— Я нечаянно. Честное слово! — взмолился Пейся.
— И теперь будешь болтать повсюду?
— Не буду. Я уже все забыл.
Сема освободил Пейсю и внимательно посмотрел на него:
— Что ты видел на улице?
— Ничего.
— А возле дерева?
— Тоже ничего.
— То-то. Помни! Если Шеру обидишь, я положу на твою голову свой палец и прихвачу на всякий случай палец Доли, и ты войдешь в землю, как спичка. Понял?
— Понял! — покорно повторил Пейся и, взглянув на Сему, лукаво улыбнулся: — А все-таки я был прав. Как раз именно в щеку!
Ночью, когда курьер комиссара безмятежно спал в своей обычной позе, сбросив на пол одеяло и спрятав голову под подушку, бабушка сидела у кровати деда и с тревогой говорила о внуке:
— Мальчик на себя не похож! Разве ему такое питание нужно? Он уже стал черный, как земля.
— Тебе кажется, — успокаивал ее дедушка. — Ребенок растет и худеет.
— Ай, что ты знаешь! — с горечью продолжала бабушка, — Я же слежу за ним. Он выходит в коридор и там кашляет, чтобы мы не слышали. Ему нужно каждое утро пить горячее молоко с маслом. И глотать желтки. Когда есть такой мальчик, отказывают себе во всем и дают ему.
— Ты так говоришь, как будто я жалею Семе, — обиделся дедушка. — Но где взять? Если б ты сказала где, я бы не поленился пойти.
— Люди достают. Люди едут в немецкую колонию и делают обмен.
— А что ты будешь менять? Свой шкафчик или эти два стула? — Дедушка возмутился и присел в постели. — Надо подождать. Я думал, что красные — это надежная фирма. Вернется Яков, возьмем Семе учителей, и он будет у меня сидеть дома. Да, да! Дома над книгой! И то, что другие делают год, он успеет за месяц.
— Дай бог, — вздохнула бабушка и, встав, потушила лампу. — Если б он хоть кушал вовремя. Так нет! Мальчик обедает вечером. Какой вкус имеет эта похлебка, если я ее тридцать раз ставлю на печку и отодвигаю? И он еще курит. И он скручивает себе папиросу толстую, как скалка. Пойди поговори с ним! Я уверена, что он затягивается.
— Ну, если не затягиваться, — улыбнулся дедушка, — так нет удовольствия от курения. Просто так пускать дым!..
— Так я и знала! — возмутилась бабушка. — Я уже давно догадывалась, что ты его научил. Мало тебе твоих папирос?.. Я же вчера чуть не умерла от стыда. Куда это годится? Ты подходишь к Семе и просишь у него прикурить. Где это видно, чтобы дед прикуривал у внука? Я тебя спрашиваю?
Бабушка раздевается и, раздеваясь, продолжает вздыхать и ворчать. Минуты она не может прожить без волнения, домашние заботы наступают на нее, и она топчется на ногах с утра до позднего вечера. Трудная жизнь у бабушки! Дед уже спит, а она все лежит с открытыми глазами, и нет сна у нее, нет покоя. «А старик, — думает бабушка, — разве ему не нужен уход? Слава богу, болезнь оставила его, и теперь надо человека кормить. А что он ест? А что он пьет? И от этого проклятого курения у него опять начался кашель. По правилу, и ему тоже нужно молоко с маслом…» Старик шутит. Тот, кто не знает его, может подумать, что у Гольдина спокойный характер. Но бабушка знакома с ним сорок лет, и она знает, что, если он много шутит, значит, ему очень плохо. Нет заработка — старик переживает. «И, кажется, напрасно, — думает бабушка, — я ему рассказала про Семин кашель. Надо будет завтра как-нибудь это взять обратно, сказать, что мне показалось, что Сема не кашлял, а смеялся».
Потом бабушка вспоминает, что Трофим обещал ей отрубей, и надо их получить так, чтоб Сема не знал. И бабушка думает, когда это лучше сделать — утром или вечером? И еще надо завтра поштопать Семе носки, а то запустили, и у него уже пальцы торчат. И на пятке надо положить штопку, но не толстую, чтоб ему было легко ходить. Рубашку он просил? Да, рубашку следовало бы сполоснуть, хотя бы в холодной воде, и просушить за ночь. Может быть, встать сейчас? Конечно! Зачем доставлять мальчику огорчения из-за рубашки!
Бабушка тихонько встает с постели и, босая, идет на кухню, зажигает лампочку и бросает в таз с водой пожелтевшую косоворотку Семы. Она стоит, склонившись над тазом, усталые пальцы выкручивают мокрую рубашку, и никакой обиды ни на кого нет у бабушки. Никогда она не думает о себе, о том, что слишком уж часты головокружения, а опухшие ноги посинели и стали тяжелыми, как колоды. Этого бабушка не замечает, не видит. Она поднимается на табуретку и, держа в руках две защепки, перебрасывает через веревку косоворотку Семы. К утру высохнет, а прогладить — это пять минут! Осторожно спускается бабушка на пол и вдруг замечает, что медный чайник весь в саже. «И откуда она сюда взялась, проклятая!» Бабушка берет тряпку…
Через полчаса на цыпочках возвращается она к себе, по пути подходит к Семе и, подняв с пола одеяло, бережно укрывает внука.
Утомленная, падает бабушка в постель и засыпает в тревожных думах о муже, о внуке, о сыне.
Бабушка стоит возле Семы и с хитрой улыбкой смотрит на него:
— Что ты ищешь?
— Рубашку, — сонным голосом отвечает Сема.
— Сейчас ты ее не узнаешь. — Бабушка протягивает ему чистую, еще теплую от утюга рубашку. — Только я знаю: ты повернешься два раза, и кругом будут пятна!
— Прежде чем поставить пятно, — вмешивается в разговор дедушка, — ты вспомни, кто ее постирал.
— Обязательно, — соглашается Сема и бежит на кухню.
— Постой, — останавливает его дедушка, — хотя ты большой франт, но умываться можно без рубашки. Сними и как следует потри шею.
Сема нехотя снимает рубашку и, взяв в руки полотенце, идет умываться.
Он подставляет голову под холодную струю и вдруг рядом слышит строгий голос бабушки:
— Теперь за ухом! Как следует, как следует! Теперь сполосни рот. Сема, не жалей воды!
Как будто он маленький!.. За завтраком дедушка с каким-то особенным вниманием смотрит на него:
— Ты кашляешь?
— Откуда вы взяли?
— А зачем ты выходил в коридор?
— Я поперхнулся.
— И тебе было стыдно откашляться за столом? Сема, — нахмурив брови, говорит дедушка, — ты имеешь дело со мной! Я не посмотрю, что Трофим — комиссар, заберу тебя, и ты будешь сидеть тут, рядом с нами.
Строгая речь деда вызывает у Семы недоумение:
— Что случилось? Я ничего не понимаю.
— Ты затягиваешься? — спрашивает дедушка.
— Затягиваюсь, иначе какое удовольствие от курения. Просто так пускать дым?..
— А я что говорил!.. — неожиданно восклицает дедушка, но, увидев нахмуренное лицо бабушки, поправляется: — А я что говорил! Надо забрать у него табак.
— Нет, — смягчается бабушка, — табак мы тебе оставим, но ты должен курить поменьше.
Сема с удивлением смотрит на стариков:
— О чем вы беспокоитесь? Посмотрите, какие у меня мускулы!
— Я знаю твои мускулы, — ворчит бабушка. — Принес на кухню два ведра воды, так у него весь день руки дрожали!..
Сема набрасывает на плечи шинель и, улыбаясь, идет к дверям.
— Ты сегодня опять поздно вернешься? — спрашивает дедушка.
— Поздно.
— Какие там у вас дела — хотел бы я знать?
— Всякие… — уклончиво отвечает Сема и выбегает в коридор.
Он бы с удовольствием рассказал, что уже третий день идут стрелковые учения, но свяжись с этими стариками! Раз стреляют, значит, убивают, и они целый день будут плакать на всякий случай.
Сема идет к дому Магазаника — сегодня выдают винтовки, одну на двоих. Навсегда!.. Шера и Пейся уже прогуливаются по улице.
— Наконец-то, — улыбнулась Шера. — Мы тебя ждем… Ой, какая рубашка, прямо блестит! Очень хорошо, что ты ее надел!
— Почему? — удивляется Сема.
— Так… Разве можно иметь дело с прикладом и с ружейным маслом в грязной рубашке? Обязательно нужна чистая.
Сема глубоко вздыхает. Кажется, оправдается бабушкино пророчество.
— Я ее сниму.
— Сними, сними! — Шера кивает головой. — А то у тебя будет дома подарок.
— Винтовки выдают? — спрашивает Сема у Пейси.
— Выдают.
— А где Антон?
— Где Антон? Сидит около ящика и думает, что играет.
— Ну, пошли.
Они поднимаются наверх, тихо проходят мимо комнаты комиссара к Полянке. Рядом с матросом уже стоит Антон с винтовкой в руках.
— Слава богу, — проходя мимо него, бросает Сема, — ты уже оставил в покое свою фисгармонию.
— Там что-то случилось, — тихо отвечает Антон и с тоской смотрит на Сему, — играют только черные.
— А что, тебе мало черных? — удивляется Сема.
— Ты ничего не понимаешь, — обиженно заявляет Антон и принимается рассматривать оружие.
— Нам тоже можно получить винтовки? — краснея и боясь отказа, спрашивает Сема.
— Можно, — улыбается Полянка. — Покажи руки… Так! Имейте в виду, она требует нежность обращения.
— Понятно, — быстро соглашается Сема, горя желанием получить наконец свою собственную винтовку. — Это будет на двоих?
— На троих, — поправляет его матрос. — А Шера? Она тоже ходила стрелять.
— Ладно, на троих. Только… — Сема смущенно взглянул на матроса, — у меня к вам личная просьба. Дайте мне винтовку поменьше.
— Обрез?
— Да, да, — обрадовался Сема, — обрез.
— Зачем?
— Видите ли, — замялся Сема и посмотрел на Пейсю, — удобнее прятать.
— Не от кого будет прятать, — угрюмо отозвался Полянка, — белякам здесь не быть.
— Хорошо, — смущенно проговорил Сема, — белякам не быть. А куда вы, допустим, денете мою бабушку? Если она увидит меня с винтовкой, с ней случится разрыв сердца! Даю честное слово.
— Правильно, шлюпочка! — рассмеялся матрос, сраженный доводом Семы. — Никуда мы не денем твою бабушку. Получай обрез!
И все вместе они вновь ушли на стрельбище. Это была незащищенная лощинка на краю местечка. Друзья садились в круг, и только один матрос, стоя, с азартом рассказывал о боях. Винтовка легко прыгала в его руках, и он показывал, что значит взять прицел, что значит идти в атаку — развернутым фронтом, группами, перебежками. Он говорил громко, отдавал приказания, пускался в бег, падал на одно колено, ложился на живот, подняв руку с винтовкой. Сема смотрел на Полянку, и ему казалось, что по лощинке движется не знакомый матрос Степан Тимофеевич, а целый боевой полк. Становилось холодно, и хотелось вместе с учителем лететь в атаку.
Потом и Полянка садился в круг среди ребят и, положив перед собой винтовку, объяснял, что такое скоростная сборка и разборка материальной части. Пальцы его бегали быстро, и каждый винтик, каждая штучка были послушны ему. Но, глядя на матроса и с завистью следя за его движениями, все с нетерпением ждали второй части занятий, когда будут установлены черные самодельные мишени и начнется стрельба.
— Перед вами театр стрельбы! — торжественно объявлял Полянка. — Начинаем боевые действия!
Первым стрелял Антон. У него было такое настороженно-злое лицо, как будто в ста шагах стояла не диктовая дощечка на тоненькой палке, а живой, настоящий враг. Дав выстрел, Антон с дымящейся винтовкой побежал к мишени. Пуля, пронзив фанеру, неслышно перекусила тонкий стебель степного цветка, и он, свихнувшись, упал в траву.
— Смотри, — толкнул Сему локтем в бок Пейся, — фисгармония, фисгармония, а как стреляет!
— Молчи, — остановил его Сема, взволнованный и смущенный. — Сейчас моя очередь. — Он быстро сбросил шинель, снял чистенькую рубашку и прошел на позицию.
В третий раз Сема поднимал винтовку, и, может быть, потому, что все с любопытством смотрели на него, а рядом стояла Шера, он злился и нервничал. Ему казалось, что мишени дрожат на ветру, что Пейся шепчет что-то под руку и поэтому неизбежен промах.
— Пусть он уйдет, — попросил Сема матроса.
— А ты не волнуйся, — успокоил его Полянка. — И руку держи совсем легко. Вот так. Ну, давай.
Сема спустил курок.
— Хорошо! — крикнул ему матрос. — Попал! Давай дальше.
Воодушевленный, Сема стрелял еще и еще.
— Вот видишь! — прошептала ему на ухо Шера, — Не хуже Антона. Что ты дрожишь? У тебя сейчас сердце выпадет.
В эту минуту подошел матрос и, похлопав Сему по плечу, передал винтовку Пейсе:
— Стреляй! А у тебя, Сема, неплохо. Только первым выстрелом дал промах.
— Вы же сказали, что я попал.
— Так надо, — улыбнулся матрос. — Психология! Если б я тебе правду сказал, у тебя пули бы начали землю ковырять. Человеку всегда лучше хорошее сказать… Ну, давай, Пейся.
Пейся с гордым видом поднял винтовку, прицелившись, дал выстрел.
— А ну-ка, Сема, посмотри мишень, — улыбаясь, сказал он. — Там уже дырка как палец.
Но Сема, проверив мишень, не обнаружил никакой дырки.
— Это вы мне жужжали на ухо, — нахмурился Пейся. — А ну, молчите! — И он снова выстрелил.
Так он стрелял еще несколько раз, целясь, хмурясь, злясь и не попадая.
— Ну, довольно, — тихо сказал Полянка, которому, видимо, было жаль Пенею. — В другой раз попадешь. Фортуна.
— Что вы мне говорите какие-то слова, когда все время эта мишень трясется то влево, то вправо! Надо, чтоб она наконец стояла как следует.
— Во-первых, она стоит, — улыбнулся Сема, — во-вторых, как ты думаешь, если будет бой, так офицер крикнет солдатам: «Не бежите! Вы мешаете человеку попасть!»
— Никто тебя не спрашивает… — обиделся Пейся. — Я не уйду, — обратился он к матросу, — пока не докажу! Отдайте винтовку.
Он прицелился, но в это время из окраинного домика вышел человек и быстрым, каким-то очень сердитым шагом направился к лощинке. Подойдя, он поднял руку и спросил, кто здесь старший.
— Я, — ответил матрос. — Что вы хотите?
— Ничего, — ответил пришедший и вытер платком лицо. — Я хочу только спросить: может быть, уже довольно?
— Вы о чем? — вмешался Сема недоумевая.
— Я о том, что только что здесь кто-то стрелял и сбил всю черепицу на моей крыше. Я так понимаю, что он принял мою крышу за что-то другое, но почему я должен страдать?
Матрос вежливо поклонился и, едва сдерживаясь от смеха, извинился перед хозяином крыши.
— Этого больше не будет, — сказал он по возможности строго. — Даю вам слово!
Когда человек удалился, сердито покашливая и ругаясь, Полянка подошел к внезапно оробевшему Пейсе и спросил:
— На что тебе понадобилась крыша? Что ты нашел в этих черепицах?
— Не знаю! — Пейся развел руками. — Я целюсь, как все: я закрываю правый глаз и даю…
Но его уж никто не слышал — дружный хохот помешал ему докончить свой рассказ. Матрос опустился на траву и схватился за живот руками.
— Не понимаю, что тут смешного? — еще больше смутился Пейся. — А ты что смеешься? — набросился он на Шеру. — Ты же вообще не стреляла!..
Полянка с трудом поднялся со своего места и, продолжая смеяться, начал знаками что-то показывать Пейсе.
— Ну, что ты стоишь? — заговорил Сема, насмешливо улыбаясь и с трудом переводя дыхание. — Если б твой правый глаз помещался с левой стороны, тогда черт с ним, закрывай! Но все люди закрывают левый. Понял? Ну-ка, дай винтовку!
— Сема, — испуганно вскрикнула Шера, — ты ведь только что надел рубашку!
Но было уже поздно: Сема прижал приклад к плечу, и на белой рубашке оттиснулось большое темное пятно.
Шера передала отцу просьбу зайти к комиссару. Доля недоверчиво взглянул на дочь и удивленно пожал плечами:
— Меня просят зайти? Зачем?
Больше он не сказал ни слова и с унылым огорченным лицом присел у окна. Шера встревоженно следила за ним, но Доля молчал. Он молчал и думал. Вызов к комиссару испугал его. За всю свою жизнь Мойше не знал случая, чтобы встреча с начальством приносила человеку удовольствие. Если вызывают к начальству, значит, что-то случилось. Давно-давно дед Доли вместе с семьей поселился в деревне. Не потому, что он очень хотел пахать, — он даже не знал, с чего начинают! Просто было объявлено, что евреи-землепашцы освобождаются от воинской повинности. Но прошло время, и они нечаянно и неожиданно для себя почувствовали вкус к новой жизни. И если раньше они, ругаясь, плевали на эту трудную землю, то теперь они уже привыкли подниматься с зарей, и соседи-крестьяне, веря и не веря, показывали им секреты. Они узнали новые слова: посев, сенокос, пары, молотьба — и вскоре привыкли к ним. Но счастье длилось недолго — отца Доли вызвали к начальству и дали двадцать четыре часа. В двадцать четыре часа приказали убраться и унести подальше «свой еврейский запах». «За что? Почему? Кто пожнет посеянное? Посмотрите на наши руки!» Урядник ни на что не хотел смотреть — он повернулся спиной, и разговор был окончен.
Так впервые в жизни встретился Доля с начальством, и он узнал, что это страшная, не любящая его сила. Он хотел стать кузнецом — ему помешали, он хотел пахать землю — его выгнали. Стоило ему что-нибудь задумать, появлялось начальство, и всегда оно было против него. Как не любил Доля эту проклятую кокарду! Он кочевал из местечка в местечко с семьей и без крова. Потом, озлобленный и ненавидящий всех и всё, он сам начал пугать людей, и ему уже нравилось видеть в других свой собственный страх. Ему было приятно сознавать, что если он боится кокарды, то есть кто-то, боящийся его. И на голову слабого Доля обрушивал всю свою злобу. Жена хватала его за руку, но он продолжал греметь, ломать стулья, кричать, и стекла дрожали в окнах. Доле всегда было плохо, и он всегда ждал худшего. Он был несчастен и зол. Чужое горе не вызывало в нем сочувствия, страдания опротивели ему, и он дрался на ярмарках, размахивал канатом у чужого лица, сидел ночь в участке и наутро, растерянный и смущенный, приходил к жене и плакал, обливая слезами ее колени. Начальство гнало его, и он ехал дальше на пыльной арбе, голодный кочевник, еврей-цыган.
В пути потерял Доля жену — у нее что-то было с сердцем, и ей всегда не хватало воздуха. Родные жены прокляли его. И он остался один с дочкой. Теперь сила его лежала у ног, но он не брал ее. Озорство осталось позади, и он понимал, что сам во многом виноват: не стоило хотеть большего, надо было опустить голову, пристроиться где-нибудь и тянуть лямку, как все. И он стал проситься на службу. Но дурная молва шла за ним, и никто не хотел иметь дело с Долей. Его боялись, но он уже не был страшен. Его гнали из местечка, и он шел с дочкой дальше, большой и беспомощный. Кокарда встречалась на его пути и приказывала идти мимо… Он не хотел ни драться, ни вымогать, но все говорили, что он дерется и вымогает. Доля махнул рукой, и старое началось снова.
В местечке у реки Чернушки его застигли большие перемены. Он застрял здесь, но понять, что происходит, ему было трудно. Он был рад, что о нем забыли и слава его затихла, но вот сегодня вдруг его призвали к начальству. Комиссар — не урядник, но Доля по-прежнему видел кокарду и боялся ее… Он просидел молча у окна до вечера. Шера не решалась подойти к нему. Когда совсем стемнело, Доля зажег лампу и спросил вслух:
— Может быть, явиться все-таки?
Шера молчала: она не знала, что лучше посоветовать отцу.
— А как он тебе сказал? — опять заговорил Доля. — Он был злой или нет?
— Не знаю, — тихо ответила Шера. — Он просто попросил, чтоб ты зашел.
— Да… — задумчиво произнес Доля. — Может быть, донесли? И они потребуют, чтоб я ушел? Куда я денусь с тобой?
— Они не потребуют, папа.
— Ты знаешь… Но у кого я брал долю? Разве я вырывал кусок у нищего? Никогда! Я всегда имел дело с человеком, у которого один кусок лишний!..
Мойше взволнованно зашагал по комнате.
Утром Доля принял решение. Он ничего не сказал Шере, но она хорошо знала отца и умела понимать его.
— Ты пойдешь туда? — спросила Шера.
Доля молчал.
— Я тебя прошу, что бы ни говорили, будь спокоен. Если даже скажут, чтоб уехали, молчи. Мы не пропадем, папа.
Доля ласково погладил дочь по плечу и вышел. Шера вслед за ним выбежала на улицу — мать всегда провожала отца, желая ему удачи… У дома Магазаника Доля в нерешительности остановился: а может быть, не идти, и они забудут о нем? Он увидел Сему в шинели и поманил его пальцем к себе.
— Начальство там? — тихо спросил Доля.
— Там.
— Комиссар там?
— Там.
— А он русский или еврей?
— Русский.
— Русский… — задумчиво повторил Доля и потер лоб. — Так что ты скажешь, Сема?
— О чем?
— Они просили меня зайти.
— Слышал, — равнодушно ответил Сема. — А почему бы и нет? Вы знаете, куда идти?
Сема провел Долю к двери комиссарской комнаты:
— Вот здесь.
— А может быть, ты зайдешь со мной?
— Можно и зайти.
Трофим сидел за столом и с сосредоточенным видом писал что-то. Рядом с ним сидел незнакомый человек в крестьянской одежде. Увидев Сему, Трофим отложил карандаш и, улыбаясь, сказал:
— Вот видите — гость. Из соседнего села. Подарок привез. Тридцать шесть пудов высокого помола, двадцать четыре пуда картофеля, два пуда сала. Понятно? Бедняки собрали. Для отправки на фронт. Но, — Трофим посмотрел на гостя и опять улыбнулся, — желают послать лично со своим проводником.
— Именно так, товарищ комиссар, — серьезно сказал гость. — Чтоб в собственные руки!
— Да я не возражаю, — согласился Трофим, протягивая бумажку. — В добрый час! Вот вам письмо в уезд. Вагон дадут, и отправляйтесь лично.
Крестьянин низко поклонился комиссару и, запрятав под шапку записку, вышел в коридор.
— Вот такие дела… — задумчиво произнес Трофим и внимательно посмотрел на Долю: — А вы что ж, ко мне?
— К вам, — смущенно сказал Доля и подошел к столу.
— Это Доля, — подсказал комиссару Сема. — Помните, Пейся рассказывал.
— А-а! — засмеялся Трофим. — Это вы, значит, из яблони делаете прутик. Интересно. А все-таки я представлял вас чуть меньше. Ну, здравствуйте! — Он протянул Доле руку. — А ну, Сема, стань рядышком. Ой-ё-ёй! Тебя совсем не видно!.. Табак есть?.. — обратился он к Мойше. — Нет? И у меня нет. Вот беда!.. Ну ладно, мы вот здесь думали и решили: рано вам в старики записываться. Как считаете? — неожиданно спросил он.
Доля молчал. Вопрос удивил его, но не обрадовал. Он стоял хмурый и с неприязнью смотрел на комиссара. Ему казалось, что начальство насмехается над ним, что готовится какая-то новая западня.
— Ваша фамилия? — опять заговорил Трофим.
Доля опешил. Уже много лет его не называли по фамилии, и он отвык от нее. Всюду так и шло: Доля и Доля.
— Шварцкоп, — смущенно ответил он.
— Так… — повторил Трофим и встал. — Людей у нас мало, и требуется помощь… Здесь же! В сторожевую охрану пойдете? Фабрика тут у нас есть. Ну, ценности всякие, надо беречь. Население привлекать будем. Что скажете? Да, забыл: паек, конечно, как полагается…
— Пойду! — глубоко вздохнув, согласился Доля и взглянул на Сему. (Сема улыбнулся и одобрительно кивнул головой.) — И это значит, я буду охранять?
— Вы. А что?
— Видите ли, — засмеялся Доля, — может быть, вы не знаете про меня? Люди будут смеяться.
— Посмеются и перестанут, — успокоил его Трофим. — Завтра можете приступить. Что и как — вам объяснят.
Доля неловко постоял, переминаясь с ноги на ногу, и, не простившись, вышел. Сема с любопытством взглянул на Трофима и выбежал вслед за Мойшей. Но оказалось, что он никуда не ушел. Опустившись на ступеньки, Доля растерянными глазами смотрел на дверь комиссарской комнаты.
— Почему вы здесь? — удивился Сема.
— Я хочу вернуться…
— Зачем?
— Тут какая-то ошибка, — краснея, заговорил Доля. — Меня все время гнали — это раз, и кто бы вдруг занял мне копейку? Не было такого человека! И они зовут Долю в охрану. Я же могу оттуда всё вынести! Послушай, Сема, а может быть, он просто строит насмешки?
— Никаких насмешек, — успокоил его Сема. — Просто мало людей. И на охрану берут местных. Вы же теперь останетесь жить у нас!
— Воробей! — тихо сказал Доля и, взяв Сему за локти, осторожно приподнял над собой. — Ты сам не знаешь, какие ты слова говорить. У меня сердце переворачивается!..
Счастье его было наивным и трогательным. Доля стоял на часах у гозмановской фабрики, и ему было приятно сознавать, что в левом кармане куртки лежат ключи от всех дверей и, если ему захочется, он может пойти и открыть всё.
Не так уж много добра оставил Гозман, но Доле доставляло удовольствие думать, что за стенами фабрики лежит несметное богатство. Возвращаясь домой, он расписывал Шере, чего только нет в цехах и на складе — сотни шкурок гризоновского шевро, высокие штабеля подошвы, партии готовой обуви. Ложась спать, он с нетерпением ждал следующего дня, чтобы опять медленно бродить у фабричных ворот, строго всматриваясь в лица прохожих и вскидывая при шорохе боевую винтовку. И еще радовало его то, что никто не требовал благодарности, никому он не должен был кланяться. Казалось, что, вручив Доле ключ, комиссар вовсе забыл об этом. Он не посылал своих людей подсматривать за Долей, не назначал караул к караулу и даже ни разу не пригрозил Доле: смотри, если что случится, смотри, если пропадет хоть кожица!.. Комиссар не предполагал плохого. Поверив, он поверил в хорошее.
Все это знал и ценил Доля. Дежурство начиналось с восьми часов вечера, но он уже в шесть был у ворот фабрики… Однажды поздним вечером к нему подошел человек. Он остановился рядом с Долей и, глубоко вздохнув, сказал:
— Хорошее дело вам дали. Удовольствие — стоять на ногах!
Доля молча оглядел прохожего, но тот не собирался уходить.
— И что они дают вам за это? Гнилую воблу под нос?
Доля продолжал молчать.
— Я бы мог с вами сделать дело. Я же вас знаю, Доля!
— Какое дело еще? — хмурясь, спросил Мойше.
— Ничего! — улыбнулся прохожий. — Один пустяк. Вам не придется даже шевельнуть пальцем. Вы откроете мне дверь и впустите в конторку. Я проверю товарные остатки, и через пять минут вы меня видите обратно.
Доля внимательно посмотрел на человека, стоящего рядом с ним, и усмехнулся. Они уже хотят его словить! Они уже пробуют, что такое Доля. И подумать только, специально подсылают еврея!
— Хорошо, — важно сказал Мойше и, пригладив усы, оглянулся по сторонам. — А что я буду с этого иметь?
— Можете быть спокойны, — еврей многозначительно подмигнул Доле, — я вас не обижу!
— Я не люблю идти на дело с завязанными глазами, — упорствовал часовой.
— Короче — три пары ботинок будет хорошо?
— Мало, — вздохнул Доля, — А если сейчас налетит стража и меня поймает? Нет, мало!.. — решительно повторил он.
— А что же вам еще надо? — возмутился еврей.
— Ша! — оборвал его Доля. — Можете не волноваться. Да, хотите — хорошо, не хотите — тоже хорошо. Я прошу еще две шкурки шевро по двадцать фус.
Прохожий поднял на Долю глаза и, подумав, протянул руку:
— Идемте.
— Идем, идем! — со злобой прошептал Доля и открыл железную дверь. «Такая собака! Он еще пробует мою совесть. Он еще хочет меня купить за три несчастных пары!..»
Еврей привычной походкой прошел в конторку и подошел к ящикам приемщика. Видно было, что не впервые он заходит сюда. Вынув из кармана лист бумаги, он принялся что-то записывать.
— А ну, снимите верхний ящик, — предложил он Доле и надел очки. — Спасибо. Тут мы имеем дамские полуботинки на шнурке. Запишем!
Доля задумчиво посмотрел на гостя и, решив что-то, вышел из комнаты.
— Постойте, — остановил сто еврей, — куда же вы удираете?
— А зачем я вам нужен? — удивился Доля, — Закончите, выйдете. Только чтоб я сразу увидел свой барыш!
— Хорошо. — Еврей кивнул головой и принялся вновь перебирать обувь.
Доля вышел в коридорчик, с минутку постоял, потом, вынув из кармана большую связку, нашел ключ от конторки и, спокойно подойдя к двери, запер ее, повернув ключ два раза. Замок щелкнул, и за дверью послышалось движение:
— Это вы, Доля?
— Я, — тихо ответил Мойше.
— Вы, кажется, заперли меня на ключ?
— Кажется.
— Что это еще за новости?
— А что я могу сделать? — признался Доля. — У меня нет другого выхода.
— Что вы там болтаете, сумасшедший?
— Ша! — Доля топнул ногой. — Будете так говорить с вашей тещей… Вы слышите меня, реб? Или я должен был бросить пост и сейчас же отвести вас к комиссару, или я должен был спрятать вас здесь и вытерпеть до утра. Вы понимаете? Утром меня сменят, и я вас спокойненько отведу.
Заключенный принялся стучать кулаками в дверь.
— Сумасшедший! — стонал он. — Имейте в виду, я за себя не ручаюсь! Я могу поломать всё. Я могу черт знает что!..
— К лампе! — спокойно ответил Доля. — Говорите к лампе! Я ухожу на пост.
Он еще раз проверил дверь и вышел за ворота. Спокойствие часового было нарушено. Зачем подсылают сюда идиотов, почему не верят ему? Если б он хотел, он бы давно мог тихонько перенести к себе в дом не одну пару и не одну шкурку. Горечь наполнила сердце Доли. Незаслуженное подозрение, всегда тяжкое для человека, обидело и сразило его. А может быть, нельзя было запирать этого еврея, может быть, он тоже какое-нибудь начальство? В волнении и тревоге провел Доля ночь.
Утром, когда на смену ему пришел часовой, Доля открыл дверь конторки. Заключенный сидел на подоконнике и покрасневшими глазами смотрел в одну точку.
— Идемте! — сумрачно сказал Мойше.
— Только не прикасайтесь ко мне руками — испуганно закричал еврей.
Но Доля ничего не ответил. Они вышли за ворота фабрики и направились к комиссару.
— Какая вам польза? — тихо спросил еврей. — Подумайте хорошенько. Еще не поздно сделать дело. Я вас не видел, и вы меня не видели…
— Закройте рот! — рассердился Доля. — Мы уже пришли.
Пропустив вперед своего заключенного, он поднялся по лестнице и постучал в дверь.
— Войдите! — крикнул кто-то.
Доля вошел. Трофим был один и сейчас, читая что-то, тянул из жестяной банки чай.
— Зачем вам понадобилось это? — с обидой в голосе сказал Доля.
— Вы о чем? — удивился Трофим.
— А, бросьте, как будто вы не знаете? Нарочно подослали, чтоб меня проверить.
— Кого подослали?
Доля недоверчиво посмотрел на комиссара и рассказал о ночном происшествии.
Трофим отодвинул банку и рассмеялся:
— На ключ, значит? Хорошо! И три пары, выходит, ваши пропали. А?.. Очень хорошо. И еще шевро две шкурки?.. Какой убыток!.. Ну, а вы, — обратился комиссар к заключенному. — Почему вам обязательно гулять возле фабрики? И даже считать ботинки?..
В это время в комнату вошли Сема с Пейсей. Не поняв сразу, в чем дело, они поздоровались со всеми. Потом, заметив в углу нового человека, Сема вежливо кивнул ему головой и протянул руку:
— Здравствуйте, Мендель!
— Мендель? — повторил Трофим. — Кто такой?
— Конторщик Гозмана, — удивляясь, сказал Сема.
— Почему же вы сразу не представились? — спросил комиссар. — Вот человек даже переволновался из-за вас, — добавил он, указав на Долю. — Так зачем же все-таки вы пожаловали ночью? Хозяин велел?
Мендель молчал.
— Как я понимаю, — продолжал Трофим, — перед нами доверенное лицо господина Гозмана. Очень приятно. Положите на стол все, что в ваших карманах. (Мендель дрожащими руками принялся опоражнивать карманы.) А жилет? — напомнил ему Трофим. — Пожалуйста, пожалуйста, не стесняйтесь! Вот видите, бумага. А ведь вы чуть не забыли про нее. Почитаем! (Сема, Пейся и Доля придвинулись к столу.) «Уважаемый Мендель, — сощурившись, начал Трофим. — Пишу нам как своему верному человеку. Очень у меня сердце болит за все, что оставлено, и прошу вас не спускать своего глаза. Проверьте замки на складах, чтобы все было по-хозяйски. Зайдите на фабрику и подсчитайте все товарные остатки: я должен знать, чем располагаю. Квартиру надо как следует проветрить, возьмите женщину, пусть хорошенько приберет — там ужо, наверно, пять пудов пыли! Надо следить, чтобы все оставалось на месте. Приеду, с божьей помощью, отблагодарю как сумею. Пишите на Лодзь. Исаак Гозман».
— Очень хорошее письмо, — улыбаясь, сказал Сема.
— Да, — согласился Трофим. — Вы уже ответили?
— Нет, — торопливо заговорил Мендель, — я все расскажу. Письмо мне в городе передал Соломон Кроль, негласный компаньон Гозмана. Он с моей шеи не слезает. Он уже замучил меня. А что я могу сделать? Я же их служащий. Мне жалованье идет.
— Кроль — говорите? — переспросил Трофим и записал что-то в книжку. — Хорошо. А жалованье идет?
— Идет… — испуганно повторил Мендель. — Приедут — расплатятся!
— А если не приедут?
— Хорошее дело! — возмутился Мендель. — Оли же пишут! Что ж это, по-вашему, выходит — обман?
— Ладно. — Трофим махнул рукой и с сожалением посмотрел на Менделя. — Вы можете отправляться домой.
— Могу? — не веря, воскликнул Мендель и выбежал в коридор.
Через минуту он возвратился, смущенный и растерянный.
— Извиняюсь, — заговорил он, — я тут чистил карманы и оставил ключ.
— Какой ключ?
— От склада Гозмана. Будьте любезны…
— Не выйдет, — спокойно сказал Трофим.
— Как это так вы говорите — не выйдет?
— А просто, — засмеялся Трофим, — не выйдет — и все!
Мендель, часто захлопав веками, умоляюще посмотрел на комиссара:
— Тогда я попрошу дать мне расписочку, что ключ у вас. Это можно?
— Это можно, — согласился Трофим и, быстро написав что-то, протянул Менделю бумажку.
— Благодарю вас, — прошептал, кланяясь и вздыхая, конторщик. — А то, сами понимаете, приедут, и начнется история с ключом!
Никто ему не ответил. Склонив голову, Мендель пошел к двери — маленький, худой, с опущенными плечами. В спине его, в беспомощно повисших руках и даже в кулаке, сжавшем расписку, было столько трудного, непосильного человеку горя, что Сема тяжело вздохнул.
— Садитесь, — предложил Доле Трофим. — Устали? Чаю хотите?
Пейся подмигнул Семе, и они вышли из комнаты.
— Пойдем-ка! — прошептал Пейся и ущипнул приятеля за локоть, — У меня есть мысль.
Сема вяло побрел за ним…
Через полчаса они вернулись с какими-то загадочными, внезапно повеселевшими лицами.
— Вот, — тяжело дыша, сказал Сема, глядя на Трофима и Долю, — он не успел, а мы уже написали. — Сема вынул из кармана исписанный карандашом листок. — «Дорогой мосье Гозман! Спасибо вам за ваше письмо и что вы еще нас не забыли. Квартиру проветрили, и там теперь будет больница. И вся мебель в целости. Серебро ваше мы тоже лично проверили по описи. Все в порядке, и можете не беспокоиться. Мы только серьезно боимся, что ваши глаза уже не увидят этого. Так что не шейте себе новый кошелек — все равно денег в него класть не придется! Затем желаем вам полного удовольствия и счастья от ваших детей и внуков…» — Сема остановился и обвел всех глазами: — Ну как?
— Хорошее письмо! — засмеялся Трофим. — Смотри, какие быстрые, — обратился он к Доле, — раз, два — и готово! А про кошелек совсем ловко!
— Это я написал, — с гордостью сказал Пейся.
Трофим взял в руки бумажку и аккуратно сложил ее.
— А как же письмо попадет к Гозману?
— Пожалуйста, — встрепенулся Сема, — есть адрес: Лодзь, Торговый дом…
— Почты нет, — вздохнул Трофим. — Но вы не унывайте, — успокоил он друзей, — мы как-нибудь найдем способ доставить этот привет.
Сема улыбнулся и, подойдя к Доле, положил руку ему на плечо:
— Честное слово, Доля, вы — молодец!
Доля улыбнулся и ласково взял сто за руку. Но Трофим неожиданно нахмурил брови и, обращаясь к Семе, укоризненно сказал:
— Какие у тебя дурные слова, Сема! Что это за Доля? Что это за обращение? Ты разве не знаешь, что у них есть фамилия — Шварцкоп?
Сема смущенно опустил голову, а Доля посмотрел на комиссара такими растерянными и удивленными глазами, как будто сам впервые сегодня узнал об этом.
Очень приятно иметь тайну и особенно, если это настоящая боевая трехлинейная тайна с тупым прикладом. Сема пробирался в глубь двора, и там, около погреба, позади бабушкиного сарая, он прятал оружие. Подумать только, если б бабушка знала, что он каждый день ходит на стрельбище и, мало этого, еще приносит домой винтовку! Но бабушка жила спокойно — она ни о чем не догадывалась. Не говорить о винтовке было трудно, и Сема условился с Пейсей при бабушке называть ее Фирой.
— Ты Фиру сегодня видел? — спрашивал Пейся.
— Видел, — отвечал Сема.
— Ты не забудь сегодня взять Фиру, — напоминал Пейся.
— Не забуду, — обещал Сема.
Разговоры о Фире повторялись каждый день. Бабушка прислушивалась к ним и в конце концов, рассерженная, подозвала к себе Сему:
— О ком это вы говорите все время?
— Не знаю, — искренне удивляясь, ответил Сема.
— Ты не знаешь, — недоверчиво сказала бабушка. — Куда вы ни идете, вы тащите за собой Фиру. Фиру бог послал! Я бы уже хотела видеть эту красавицу!
— Ничего особенного, — Сема пожал плечами, — самая обыкновенная.
Возвращаясь после учений, Пейся вместе с Семой заходил к нему во двор, и вдвоем они прятали «Фиру». Пейся стоял у сарая на дозоре. Сема укладывал винтовку на покой. Условились, что в случае приближения опасности Пейся дает сигнал — два свистка «проволочкой» и один «с хрустом». Однажды, когда труды уже подходили к концу, раздался тревожный предостерегающий свист. Сема вздрогнул и прислушался. Последовал второй сигнал. Сема поспешно закопал «Фиру» и, накрыв ее старой бочкой, выбежал во двор. Пейся стоял рядом с бабушкой и о чем-то горячо рассказывал, с увлечением размахивая руками.
— Так вот, — кричал он в ухо растерявшейся бабушке, — если птица летит низко, мы даем такой сигнал… — Он вложил в рот два пальца и пронзительно свистнул. — А если птица летит высоко, мы даем такой сигнал…
— Довольно сигналов!.. — ущипнул его сзади подошедший Сема. — Что вы здесь делаете, бабушка?
— Что я здесь делаю? — возмутилась бабушка. — Я уже полчаса тебя ищу. Так попался мне он и просвистел все уши оттуда и отсюда! — Она посмотрела с неприязнью на Пейсю и повернулась лицом к Семе: — Так слушай, привезли раненых. Очень приятно! Мое дело? Но вдруг оказывается, что среди них Моисей.
— Моисей! — с восторгом воскликнул Сема.
— Да, Моисей. И ты меня прости, — вздохнула бабушка, — но твой Трофим вместо того чтобы завезти его к нам или к отцу, берёт и делает одолжение — помещает Моисея в лазарет. Как тебе это правится? Надо сейчас же идти и поднимать скандал.
— Идемте, — решительно сказал Пейся.
Но бабушка не обратила на него внимания.
— Идемте, — повторил Сема.
— Хорошо, — сказала бабушка. — Я только должна кое-что взять. — Она вошла в дом и через несколько минут возвратилась с корзинкой. — Можно идти!..
У дома Магазаника Сема оставил бабушку вместе с Пейсей, а сам забежал к Трофиму. Там было жарко и шумно, какие-то незнакомые люди окружили комиссара, и Семе не удалось ничего выяснить. Он пошел к Полянке. Матрос, подняв винтовку и сощурив глаз, что-то рассматривал на свет. На подоконнике лежал шомпол.
— Чиста, голубушка, — улыбаясь, сказал Полянка и приставил винтовку к ноге, — скоро загремит!
— Что случилось? — удивленно спросил Сема.
— Ничего… — рассеянно ответил матрос. — Война своей дорогой идет, а мы ее по затылку, Сема, по затылку! Враг еще пробует нашу силу. Спотыкается, а не упал! Но упадет, я тебе говорю!
В это время из комнаты комиссара вышли люди, и Сема, покинув матроса, вбежал к Трофиму. Здесь он все узнал и успокоился. Проходящие части красных оставили в местечке раненых и больных. Их продвижение дальше стало теперь бесполезным и даже опасным. Остался и Моисей, но ненадолго. Он брал уездный город и в бою, длившемся пять дней, получил ранение. Это было даже не ранение, а так, пустяк — задета мягкая часть ноги, но в пути у него начался тиф. Его хотели вместе с другими оставить в райгородке, где есть хорошая больница, но он попросил довезти до его Чернушки, зная, что там Трофим, и надеясь еще застать Гольдина, с которым не виделся очень долго.
— Но вот опоздал, — с сожалением произнес Трофим. — Папа укатил раньше.
— А почему не завезли Моисея к нам? Разве ему было б плохо?
— Не захотел. Я ему советовал, но и он прав. Тиф — штука скверная! Опасно. Заразить может.
— Так он у Гозмана?
— Не у Гозмана, а в больнице, — смеясь, поправил его Трофим. — Ты не бойся! Скоро встанет. У него только слабость, крови мало!
Сема выскочил в коридор и, присев на краешек блестящих перил, скатился вниз. Бабушка терпеливо ждала его. Пейси уже не было.
— Ну, все хорошо, — сказал Сема. — Пойдемте домой.
— Куда — домой? — возмутилась бабушка. — Надо сейчас же идти в больницу и поднимать там скандал!
— Опять скандал?
— Нет, ты будешь ждать, пока он умрет! — рассердилась бабушка и, дернув Сему за рукав, торопливо зашагала по улице.
Сема покорно пошел за ней.
Возле больницы они остановились, и бабушка, поставив около себя корзинку, постучала кулаком в дверь. Через несколько секунд чей-то голос крикнул сверху:
— Перестаньте тарабанить!
Дверь открылась, и на улицу вышел заросший мужчина в вылинявшей желтой гимнастерке, с чашкой в руке.
— Где ваш доктор? — строго спросила бабушка.
— Я, — недовольно хмурясь, ответил мужчина. — Что там у вас?
— Что там у вас, хотела бы я знать! — громко заговорила бабушка. — Я уже догадываюсь, какой там порядок, если у мужчины в руках чашка… Больной Моисей Солас у вас?
— У меня, — уже робея, ответил доктор.
— Я сейчас же должна его видеть. Я должна посмотреть, на какую постель вы положили этого человека. Я должна сейчас же…
— Послушайте, дорогая, — набравшись духу, остановил ее доктор, — перестаньте шуметь. Лечу я, а не вы. Что вам нужно?
— Хорошо, — смирилась бабушка, — возьмите эту корзинку и занесите ему. Не буду же я надеяться на ваше питание! Возьмите это, только не вздумайте кормить всех. Это одному Моисею Соласу. И пусть там переложат все в ваши тарелки и посуду сейчас же вернут мне. Слышите? И пусть Моисей напишет на бумажечке, что и сколько он получил. Я здесь подожду.
Доктор с удивлением посмотрел на бабушку, потом на Сему и, взяв корзинку, возвратился в дом.
— Бабушка, — укоризненно сказал Сема, — разве можно так говорить?
— А что, я буду перед ним кланяться?
— Бабушка, но ведь это доктор!
— Доктор? — насмешливо повторила бабушка. — Он такой доктор, как я. Где ты видел доктора в такой рубашке? Доктор носит черный костюм и часы с цепочкой. А это… Это же просто фельдшер…
— Тише! — оборвал бабушку Сема. — Кажется, он идет.
На улицу вышел доктор и, поставив рядом с бабушкой корзинку с опорожненной посудой, протянул записочку. Сема принялся рассматривать бумажку, но бабушка нетерпеливо толкнула его локтем:
— Что ты там смотришь? Читай вслух!
— «Дорогие мои, — запинаясь, начал Сема, с трудом разбирая слабые карандашные строки, — напрасно вы беспокоились обо мне. Я уже чувствую себя неплохо, кризис миновал… (Бабушка слушала Сему рассеянно: она ожидала чего-то другого.) Только слабость еще. Все же скоро подымусь. Сейчас не время для постели…»
— Ты так будешь читать до завтра! — рассердилась бабушка. — Читай быстрее.
— «Все, что вы передали, я получил… (Бабушка оживилась и подошла поближе к Семе.) Тарелку глубокую супа, оладьи — шесть штук».
— Правильно, — бабушка кивнула головой, — шесть штук. Читай дальше.
— Дальше ничего нет, — вмешался доктор, — это все, что вы передали.
Бабушка смутилась, подняла пустую корзинку и взяла Сему за руку. Сема поклонился доктору и предостерегающе сказал:
— За ним надо смотреть! День и ночь!
— А вы кто будете? — заинтересовался доктор.
— Кто я буду — не знаю, — сухо ответил Сема, — пока что я курьер комиссара.
Но должность Семы не произвела на доктора никакого впечатления, он как-то странно хмыкнул носом и открыл дверь. «Да, — с обидой подумал Сема, — теперь я таки вижу, что он просто фельдшер!»
Бабушка пошла домой, Сема решил по пути заглянуть к Шере. Доля спал после ночного дежурства, широко разбросав ноги и открыв рот. Шера что-то стряпала на столе, руки ее были мокры, и она протянула Семе локоть.
— Ну, здравствуй, — хмуро сказал Сема, — Помнишь, ты меня спрашивала: а в боку не колет, а под ложечкой не сосет?
— Помню, — недоумевая, призналась Шера.
— Так вот, я думаю, что если есть больница, так в ней найдется место и для тебя.
— Нет, — засмеялась Шера, — я совсем не собираюсь ходить за больными. Целый день, слушать — ой и ой! Нет, я обойдусь без этого удовольствия!
— Как, — строго спросил Сема, — ты отказываешься ухаживать за ранеными? Ты отказываешься подать им стакан воды? Хорошее дело, а еще говоришь — вместе, вместе!
— Разве это так нужно? — смутилась Шера.
— Нужно, — повторил Сема. — Поможешь и посмотришь. А может быть, этот доктор — так себе? А может быть, у него не хватает рук? Знаешь, как в больнице бывает: этот кричит — живот болит, а этому надо положить мокрый платок на голову… И ты же за мной ухаживала! — вдруг вспомнил Сема и обрадовался. — Я не знаю, — опять заговорил Сема, — но если б я был девушкой, я бы только и думал, как попасть в больницу. Ведь это удовольствие: ходишь возле человека, кладешь ему полотенце или горячую бутылку, а человек выздоравливает, выздоравливает…
— Ну хорошо, — улыбнулась Шера. — Ты меня уже наполовину уговорил. А когда можно пойти?
— Идем хоть сейчас, — загорелся Сема. — Правда, там доктор не такой уж, но пойдем. Пусть он видит от нас помощь. И Трофим, — добавил Сема, — будет очень доволен.
Шера помыла руки, надела теплую кофточку, и они вышли на улицу.
— А ты зайдешь за мной? — спросила Шера.
— Иди сама, не бойся. Я тебя подожду на этом углу.
— Ой, Сема, тогда я, кажется, поворачиваю обратно.
— Глупая, — снисходительно сказал Сема, — ты заходишь и говоришь: так и так.
— Нет, — остановила его Шера, — ты не отделывайся этими словами: «Так и так!» Это я сама знаю. А вот что сказать дальше?
— Очень просто. «Если хотите — это ты говоришь, Шера! — я могу приходить к вам помогать». Так просто… Постучишь внизу.
Шера поправила платок и вздохнула:
— Хорошо. А ты здесь будешь ждать?
— Буду.
— Ну, я пошла.
Сема присел на скамеечку, с тревогой ожидая возвращения Шеры. «А что тут такого? — спрашивал он себя. — Я делаю одно, она делает другое, и вместе получается услуга комиссару». Но Шера не заставила себя долго ждать: через несколько минут она вернулась с растерянным и даже испуганным лицом.
— Я говорила: не надо идти, — закричала она, — так нет! Твои выдумки!
— А в чем дело? — спросил Сема, с трудом скрывая свое волнение.
— Ни в чем, — обиженно заговорила Шера. — Он открыл дверь, выставил вперед свою руку и сказал: «Идите, идите! Сейчас у меня спят!»
— А ты что?
— Я ушла.
— Так я и знал! — с досадой произнес Сема. — А ты сказала, что тебя послал курьер военного комиссара?
— Нет, — смутилась опять Шера, — не сказала.
— Но это же самое главное! Иди сейчас и начинай прямо с этого.
Шера с грустью посмотрела на Сему и, покорившись, вновь пошла к больнице… Сема сидел на скамеечке и считал секунды. Раз — это секунда, два — это две секунды… Но ему не пришлось считать долго. На этот раз визит Шеры был еще более краток.
— Ну что? — спросил ее Сема. — Все в порядке?
Шера молча опустилась на скамейку.
— Ну что? — уже нервничая, повторил Сема.
— То же самое, — сказала Шера и вытерла концом платка губы. — Опять: «Идите, у меня спят!»
— А ты сказала, кто тебя послал? — нерешительно осведомился Сема.
— Сказала.
— А он что?
— А он сказал, что ему плевать на всех курьеров, вместе взятых.
Сема вскочил и, одернув шинель, со злобой сказал:
— Ну, на всех — это, может быть, но на такого одного — не выйдет. Пойдем!
— Опять туда? — удивилась Шера.
— Опять.
Шера пожала плечами, но все же пошла за ним. Любопытство пересилило неловкость, и Шере было уже интересно знать, как поговорит Сема с доктором. Сема поднял кулак и решительно постучал в дверь. Доктор вышел на улицу, и, не глядя на Сему, сердито сказал:
— Господи боже мой, когда я вас уже научу стучать по-человечески!.. Ах, это вы? — удивился он, узнав Сему. — Опять с бабушкой?
— Нет… — хмуро ответил Сема. — С Шерой.
— Одну минуточку, — вежливо сказал доктор и, обернувшись, плотно закрыл дверь.
— Ты видишь, — Сема подмигнул Шере, — уже совсем другой тон!
В это время доктор приблизился к ним и, сморщившись, заговорил:
— Вы будете еще долго ломиться ко мне? Приходят и поднимают шум! — Доктор подошел к Семе и постучал по лбу указательным пальцем: — Вы соображаете, что вы делаете? Если у меня спят больные, во время сражения я могу выйти и прекратить бой! Вы слышите?..
Сема смущенно молчал.
— Девочку я возьму, — опять заговорил доктор, хмыкая носом и глядя поверх очков. — Можете прийти завтра… А вы, молодой человек, лучше постарались бы достать дров, потому что моим больным холодно, — строго добавил он. — А когда моим больным холодно, я могу потушить все печки и затопить больничную! Вы слышите?..
Доктор повернулся, осторожно открыл дверь и, ступая на носки, медленно прошел наверх. Шера, громко засмеявшись, толкнула Сему:
— Ну как, понравилось? Совсем другой тон!
— Тсс! — рассердился Сема. — Что ты раскричалась? Не можешь говорить шепотом?
Они молча и поспешно перешли на другую сторону, потому что наверху в лазарете еще спали больные.
Моисей лежал в больнице, одинокий и злой. Доктору он не верил. Синие круги под глазами становились всё больше, губы его были бледны и сухи. Ему не хватало воздуха. Он приподнимался на локтях, пытался глубоко вздохнуть, но все время это ему не удавалось. Каждый раз прижимал он ладони к щекам и ко лбу, пытаясь определить, есть ли жар. Болезнь уже покидала Моисея, но перед уходом она дразнила его, бросая то в жар, то в холод.
Лежа в постели, он думал о том, что плохо должно быть человеку, если он, прожив жизнь, не имеет что вспомнить. В самом деле, исполнилось, допустим, ему пятьдесят лет, и вот начинает он размышлять, что же с ним было, и вдруг оказывается, что шел он полвека по одной стороне улицы, а что делается на другой, не знал. Наверно, это очень страшно. Но Моисей все же не был обижен. Хорошо или дурно жил он до сих пор, но это была жизнь с людьми, для них и для себя, и хотя ничего особенного он не сделал, но то, что полагалось, исполнял с удовольствием, не очень заботясь о себе, и он знал, что его любили.
Никто не говорил ему об этом, но он не слепой, он видел эту любовь в том, как прятали его от ареста, как устраивали побег из ссылки и как кормили его после тюрьмы в чужих, незнакомых домах…
И чем больше вспоминал он сейчас, чем чаще вставали перед ним лица товарищей, которые рубились где-то совсем близко, а может быть, лежали недвижно на сырой, утомленной боями земле, — тем ненавистней становились ему эта койка, и мокрая тряпка на голове, и доктор с его розовым холодным ухом. И хотелось уйти, убежать, бросить все это, встретить фронтовых друзей, а там уж что будет. Он не был особенным храбрецом, но он был равнодушен к опасности; не потому, что жизнь была ему безразлична, — наоборот, он очень хотел пожить подольше, а потому, что и раньше общение с опасностями было его жизнью и он привык к ним.
Так лежал Моисей. Руки плохо слушались его — в них не было силы. Боль была в ногах и в боку, и казалось, каждый кусок его тела жил самостоятельной, своей жизнью: ноги жили отдельно, руки жили отдельно, голова отдельно, и от них всех должен терпеть один он, Моисей. Он знал красноармейцев, которые, услышав, что берут их родной город, просились в наступающую часть, чтобы вместе с ней войти на родные улицы. Они были счастливы, если получали разрешение, и неслись туда, боясь опоздать к бою. А вот сейчас, когда освобождают его родной край и вышвыривают последнего вражьего солдата, он лежит здесь, как дурак, как черт знает кто! Моисей был уверен, что с болезнью нужно поступать, как с врагом, и стрелять даже в бегущую. И если теперь она убегает от него, то нужно встать, плюнуть на эту жаркую постель и уйти, прикончив болезнь раньше, чем она сама уйдет от него.
Неожиданно мысли его оборвались. Моисей присел на кровати, настороженно прислушиваясь к чему-то. Снизу неслись выстрелы, мелкие и частые. «Первая очередь, — подумал Моисей. — „Максим“ работает!» И сразу же голова, ноги и руки зажили одной жизнью. Сбросив мохнатое одеяло, Моисей, бледный и встревоженный, откинул к стене подушку и, вытащив, из-под матраца припрятанный браунинг, выбежал из палаты. В коридоре он остановился и опять прислушался. Выстрелы повторились, стреляли совсем близко, во дворе. Крадучись, спустился он по железной винтовой лестнице вниз и ударом ноги открыл дверь. Навстречу ему, путаясь в полах шинели, неуклюже бежал человек в надвинутом на глаза картузе.
— Дядя Моисей, куда вы? — испуганно крикнул он.
Но Моисей не узнал Семы и, схватив его за ворот шинели, крикнул, не владея собой:
— Я слышал… Пулемет!.. Стреляли…
— Это мы, — извиняющимся голосом заговорил Сема. — Внизу щепки колют. Мы достали дров.
Моисей вытер рукавом лоб и тихо опустился на ступени. Несколько секунд он сидел молча, тяжело дыша. Сема не решался заговорить с ним. Вчера, собрав у соседей пилы и топоры, они ушли в лес за дровами для больницы и вот сегодня с утра кололи щепки. Кто бы мог подумать, что ему покажется… Такая история! Сема чувствовал себя смущенно и неловко.
— Это ты, Сема? — тихо спросил Моисей.
— Я.
— Тебя трудно узнать, — успокаиваясь, заговорил Моисей, — такая богатая шинель! Такой пояс!.. А ну, посмотри на меня!
— А как вы?
— Ты разве не видишь? — удивленно сказал Моисей. — Я уже здоров.
— Я вишу.
— Да, я здоров, — повторил Моисей и, шатаясь, поднялся со ступенек. — Дай-ка твою руку, Сема. Так… Ну-ка, посмотрим на небо… — Он сделал несколько шагов и, поправив пояс, глубоко вздохнул. — Очень хорошо, через пару дней и я в путь…
— Куда?
— На фронт, Сема, — сказал Моисей, и оттого, что решение определилось, ему сразу стало хорошо и легко, — на фронт — и прощай, Чернушка! А потом придем и такие здесь именины устроим! Музыкантов пригласим, и чтоб они не сидели на одном месте, а ходили по улицам и играли вальс… Ты понимаешь, Сема?
— Понимаю, — повторил Сема и улыбнулся. — Сначала листочки сыплются, а потом дерево падает.
Моисей похлопал его по плечу и тоже улыбнулся:
— У тебя хорошая память, Сема… А что делают старики? Как только выйду из этой ямы, сразу к ним в гости. Самовар поставим и…
Но его прервали. Чьи-то быстрые шаги послышались на лестнице, и во двор выбежала Шера с побледневшим лицом и широко раскрытыми глазами.
— Вы здесь? — закричала она, увидев Моисея. — Кто вам позволил встать? Вы хотите себе наделать вторую болезнь? Вы забыли, что вам еще нельзя двигаться? Сейчас же наверх!.. А ты, — набросилась она на Сему, — ты нашел время для разговоров! Ты не понимаешь, что человек болен! Уходи отсюда, пожалуйста!
— Хорошее дело! — возмутился Сема. — Я тебя сюда привел, так ты еще гонишь меня. Побыла три дня в больнице — и уже целый доктор!
Моисей подмигнул ему, развел руками — и Сема понял, что надо подчиниться.
— Я уйду, — тихо сказал он, не глядя на Шеру. — А когда мы вас увидим?
— Очень скоро, — уверенно ответил Моисей и только сейчас заметил браунинг в своей руке. — Я здесь долго не жилец. Доболею там.
Шера взяла его осторожно под руку, и Сема остался один во дворе. Постояв так несколько минут, он пошел к сараю, в котором по-прежнему кололи щепки. Пейся сидел на полу с угрюмым, злым лицом. Антон, сбросив куртку, размахивал топором.
— Пейся, ты что сидишь? — удивился Сема.
— А ты что ходишь?
— Мои дрова кончились.
— Кончились для тебя — и кончились для меня!
— Нет. Мы ж разделили все натрое. И в том куточке еще лежат две вязанки.
— Ай, не будем считаться! — махнул рукой Пейся, выходя из сарая. — Мой куточек, твой куточек. Лишь бы были дрова.
Сема взял в руки топор и принялся за Пейсину долю. Поставив полено чуть-чуть набок, он колол дрова и с завистью думал о Моисее: «Больной, слабый, кажется, прикоснись пальцем — и он упадет, а уже у него в мыслях фронт, и он наверняка уедет через пару дней. А я что? Это нужно говорить бабушке, а то — дедушке… И никакой свободы!»
— Что ты возишься так долго? — услышал он над собой возмущенный голос Пейси.
— Я же твою работу делаю, — недоумевая, ответил Сема.
— Какая разница? — Пейся пожал плечами. — Какие могут быть счеты среди друзей!.. Доктор узнал, что это я принес дрова, сказал спасибо и накормил меня обедом.
— А мы? — рассердился Сема. — Я уже передвинул ремень на последнюю дырку. Ты про нас забыл?
— Нет, — улыбнулся Пейся, чувствуя, что он проболтался зря, — не забыл. Но обед был такой противный, что я уже жалею, зачем я его ел. И потом… — Пейся задумался, не зная, чем же еще оправдаться. — Да и потом это ведь из кухни больных. Как же это можно оторвать у них сразу три обеда? Это же некрасиво!
— Правильно, — согласился Сема и протянул ему топор: — Становись работать, а я пойду домой обедать.
Пейся с недовольством взял топор, а Сема, еще сильнее подтянув пояс, вышел во двор. В воротах он встретился с доктором. Доктор улыбнулся и протянул ему обе руки.
— Спасибо, — сказал он, — спасибо! Я всегда говорил, что человек обнаруживается в любом географическом пункте…
Он продолжал держать Семины руки, и Сема чувствовал себя очень неловко: выдернуть нельзя, а стоять так неудобно.
— Так вот, — продолжал доктор, — прошу вас наверх с нами отобедать, как раз подбросили продукты.
— Благодарю вас, — ответил Сема, проглатывая слюну и испытывая небывалое томление под ложечкой, — третий день почему-то нет аппетита! Ну, просто ничего не хочется…
Обед дома был слаб даже для Семы. Усталость после непривычной работы охватила его, и Сема раньше обычного решил лечь спать. Он приготовил свою постель, положил шинель поверх одеяла и — как был: в носках, брюках, рубашке — лег в кровать. И все-таки осенний холод пробирал его, и он долго не мог уснуть. В комнате было холодно. Он ворочался с боку на бок, спал и не спал, видел щепки, разбросанные на земле в сарае, видел Моисея с браунингом в руке, видел Шеру. Но и этот полусон был нарушен скоро. Сема услышал цокот копыт на мосту и, вскочив, подбежал к окну. Опять шли конные отряды, опять гремели и тряслись по дороге грязные тачанки… «Куда они идут? — спрашивал себя Сема. — И идут, и идут!.. Может быть, это последние? Может быть, это конец?» Прильнув лицом к оконному стеклу, Сема с волнением смотрел на улицу.
Нет, еще не конец! Целую ночь горел свет в комнате комиссара, и только на рассвете Трофима оставили друзья, и он, составив четыре стула, прилег, накинув на плечи холодную куртку. Спал ли он? Может быть, просто лежал и думал о чем-нибудь. Сема тоже не уходил домой. Он сидел у окна и, подперев кулаками голову, смотрел на Антона. В тревожной тишине поднималось над местечком серое утро. С улицы доносились чьи-то простуженные голоса и тоскливое конское ржанье. Что случилось, Сема не знал. Говорили о прорыве на фронте. Дурные вести приходили с позиций. Опять зашумело местечко. Люди с испуганными лицами стояли у окон, провожая глазами нескончаемый поток. Облепленные грязью, со скрипом и грохотом катились тачанки, с деревянного моста несся глухой цокот копыт.
Антон подошел к фисгармонии, смахнул рукавом пыль с маленькой крышки и, подняв ее, ударил два раза пальцем по клавишам.
— Ты не хочешь спать, Антон? — тихо спросил Сема.
— Нет.
Они помолчали… Сема подошел к Антону и, присев рядом, опять заговорил:
— Что это такое, скажи мне? Куда все идут?
— Кто совесть имеет, тот здесь не сидит, — ответил Антон, пристально глядя ему в глаза. — Тебя зачем стрелять учили?
— Это я знаю, — обидчиво ответил Сема.
— Знаешь, а спрашиваешь. Своих господ спровадили, чужим дорогу покажем! — громко сказал Антон и ударил кулаком по клавишам.
В это время отворилась дверь, и в комнату вошел Трофим с удивленным, насмешливым лицом.
— Так вот кто не дает спать комиссару, — улыбнулся он и остановился на пороге. — А я слышу, кто-то рядом гудит, и гудит, и гудит. Что ж, думаю, пойду посмотрю. Ты почему, Антон, злой такой?
— На фронт хочу.
— Это уже решено?
— Решено, — улыбнулся Антон. — И назад ходу не будет, товарищ комиссар.
— Так… — Трофим задумчиво покачал головой, — А ты, Сема, просто сбежал от бабушки? Я вижу, ты хочешь, чтоб она меня окончательно разлюбила. Это же нехорошо с твоей стороны.
— Я думал, что я нужен.
— Нужен, — Трофим похлопал Сему по плечу, — непременно нужен! Но почему ночью? Почему на рассвете? Идите тихонько и не стучите своими проклятыми каблуками. У меня народ только уснул — Полянка, Моисей. Чуете?
— А как же со мной, товарищ комиссар? — умоляющим голосом спросил Антон. — Разве я негож?
— Гож, гож, — засмеялся Трофим. — Приходи днем.
Антон кивнул головой и тихо вышел из комнаты. Сема уныло побрел за ним:
— Ты правда на фронт хочешь?
— Нет, шучу! — обиделся Антон. — Что я здесь потерял, чтоб сидеть? Даром стрелять учился?
— А если не возьмут?
— Пойду.
— А если не позволят?
— Пойду.
Сема глубоко вздохнул и с завистью посмотрел на Антона:
— У меня дедушка с бабушкой. С ними не сговориться.
— А ты убегай!
— Как это?
— А просто, бери и убегай. Сходи к Полянке, скажи: так, мол, и так — и убегай. Потом вернешься, зараз все расскажешь и деду и бабке.
— А если убьют?
— Передадут, — успокоил Сему Антон, — это уж обязательно товарищи передадут! И еще распишут, какой же ты храбрый был, — одно удовольствие бабушке!
— Да, — рассеянно согласился Сема, — одно удовольствие.
Они опустились на ступеньки, и Антон, высыпав махорку на широкую ладонь, принялся скручивать цигарку. Уже начинался день. Сема тяжело вздохнул и протянул руку товарищу:
— Я пойду. У меня дома переполох. Ищут, наверно!
Антон с недоумением посмотрел на него и пожал плечами:
— Вырос до неба, а ищут. Да я бы…
— Да ты бы!.. — Сема безнадежно махнул рукой. — Тебе бы такую бабушку!..
В доме действительно уже проснулись, а может быть, и не ложились вовсе. Увидев Сему, дедушка покачал головой и улыбнулся:
— А что я тебе говорил? Пожалуйста, явился. А ты уже думала, что его убили. Специально поставили пушку.
Бабушка молчала, она сняла с головы клетчатую косынку и вытерла ею бледное, постаревшее за ночь лицо.
— В чем дело? — весело спросил Сема, притворяясь удивленным. — Я же сказал, что могу задержаться. Такая служба!
— Чтоб она уже провалилась сквозь землю, твоя служба, — вдруг вспыхнула бабушка, — чтоб ты уже не смог найти к ней дорогу! Лучше б она сгорела раньше, чем ты ее нашел! Служба! Ты боялся, что у меня еще остался один черный волос? Так он уже стал белым за эту ночь!
— Да, Сема, нехорошо, — нахмурился дедушка. — Я, конечно, понимал и был спокоен. Но разве можно так огорчать бабушку? Где было твое сердце, не понимаю.
— Это он сейчас так говорит! — опять закричала бабушка. — А всю ночь он ходил по комнате и каждую минуту выбегал на улицу смотреть, не идешь ли ты.
— Я таки виноват, — тихо признался Сема, понимая, что о фронте не может быть и речи. — Я больше не буду.
Дедушка встал и, подойдя к кровати, поправил подушку:
— Теперь, Сема, спать, спать. Мы закроем здесь ставни и сделаем тебе ночь. Спи!
— Да, — вмешалась бабушка, — скорее в постель! У тебя такие глаза, как будто ты всю ночь крошил лук. Ложись тут. Сними с себя все. И укрой как следует ноги.
Сема проснулся, услышав в соседней комнате чей-то незнакомый голос. Он насторожился. Кто ж это может быть? Сема осторожно сполз с кровати и, слегка приоткрыв дверь, заглянул в щелку: Моисей! Как же это он не узнал Моисея? Хорошее дело! Сема быстро натянул штаны и без рубашки, растрепанный, с заспанным лицом, прошел к гостю.
— А вот и командующий! — обрадованно воскликнул Моисей и улыбнулся. — Кто же это спит так поздно? Позор, Сема! Люди уже садятся обедать.
— Не говорите, — вздохнула бабушка. — Вы думаете, он был дома? Всю ночь торчал около комиссара. Вы мне только скажите правду, Моисей: вы действительно не можете без него обойтись?
— Я его не видел, — удивился Моисей. — Где ты был?
— Я был рядом, в другой комнате, — быстро заговорил Сема. — Части идут на фронт. Я смотрел в окно.
— Сами видите, — Моисей подмигнул деду, — у него было неотложное дело.
— Я хотел бы спросить вас… — замялся дедушка, — об одном моменте.
— Пожалуйста.
— Интересно, если не секрет, сколько вы имеете войска?
— Только по России? — серьезно осведомился Моисей. — Или с Украиной?
— Можно отдельно по России, — любезно согласился дедушка, — и отдельно по Украине. А потом мы подобьем на счетах.
Моисей улыбнулся и положил руку ему на плечо:
— Как это у евреев считают детей, чтобы не сглазить?
— Детей? — удивленно переспросила бабушка. — А-а… Считают так: не один, не два, не три, не четыре…
— Понимаю, — кивнул головой Моисей. — И я так считаю красные войска, чтобы не сглазить. Не одна тысяча, не две тысячи, не три тысячи… — Моисей умолк и, засмеявшись, добавил: — Не один миллион, не два миллиона!.. Одним словом, можете спать спокойно.
— Смотри, Сема, — обратился дедушка к внуку и указал на Моисея. — Вот это голова! Ничего мне не ответил и все-таки не обидел. Вы знаете, Моисей, я имею симпатию к вашей голове!
— Лишь бы не назначили за нее цену, — серьезно ответил Моисей и встал. — Отправляюсь, мои дорогие, на фронт. — Он закурил и, затянувшись, мечтательно произнес: — А потом я начинаю учиться на врача!
— Как это — на фронт? — ужаснулась бабушка. — Вы же только что встали с постели.
— Правильно, — согласился Моисей. — Раз встал, значит, могу идти. И друзья твои покидают тебя, — обратился он к Семе. — Полянка уходит, и молодой этот, ну с фисгармонией, тоже идет!
— Антон? — Сема взволнованно забегал по комнате. — Вы слышите, дедушка? Антон тоже идет!
Но на дедушку это сообщение не произвело никакого впечатления. Бабушка, обняв Моисея, что-то шептала, покачивая головой. Она застегнула крючок на его куртке и, внимательно посмотрев, сказала:
— Дай бог нам тебя уже видеть обратно!
— Дай бог! — повторил дедушка.
— Здоровым и богатым! — воодушевилась бабушка. — Чтобы у тебя было всего, сколько ты захочешь!
Дедушка вышел в коридор проводить гостя. Сема побежал за ним.
— Я хочу знать, — оглянувшись, заговорил дедушка, — где помещается наш Яков?
— В Кашинском укрепленном районе.
— Это не фронт?
— Пока еще всюду фронт, — уклончиво ответил Моисей и, обняв дедушку, крепко прижал его к себе и поцеловал в губы. — Будьте здоровы, Абрам Моисеевич! И ты будь здоров, — обратился он к Семе, — Семен Яковлевич!..
— Я бы хотел тоже туда! — прошептал Сема.
— Тсс! — Моисей нахмурился и закрыл ему ладонью рот. — Твое место около дедушки и бабушки! Папа доверил их тебе.
— Да, — мрачно ответил Сема, — а все идут.
— Семен Яковлевич, — сказал Моисей, заглядывая Семе в глаза, — почему тебе не терпится? На твою долю еще придется не один бой!.. Правильно, Абрам Моисеевич? (Дедушка улыбнулся и кивнул головой.) Вот видишь, и дедушка согласен. И потом нет же никакой эвакуации. Трофим с отрядом остается на месте. Понял? Покажи, старина, свои зубы!
Сема улыбнулся, и Моисей, поцеловав его в лоб и в голову, быстро вышел на улицу.
— Человек! — сказал дедушка, размышляя о чем-то. — Что ему болезнь? Он не смотрит на себя! Он идет. Я не знаю, из какого куска они все сделаны. Как ты думаешь, Сема? Ты молчишь? И разве в этом деле есть какой-нибудь денежный интерес? — продолжал рассуждать дедушка. — Никакого! За идею! За чистую идею!.. Как ты думаешь, Сема? Что ты молчишь, когда я спрашиваю? — рассердился дедушка и оглянулся. — Где он? Он же только что был тут!
Но Сема, набросив на плечи шинель, уже бежал по улице, ловко перепрыгивая через глубокие черные лужи и обдавая грязью прохожих. Скорее, скорее! Хотя бы увидеть их перед уходом и сказать что-нибудь. «Зачем ты уходишь, матрос Полянка? — с горечью думал Сема. — Ведь мы никогда не обижали тебя, и ты был для нас первый друг. Зачем ты уходишь, Полянка?»
Вдруг рядом с Семой раздался испуганный крик:
— Сумасшедший! Ты можешь раздавить человека!
Сема остановился и, тяжело дыша, оглянулся вокруг себя. С противоположной стороны размахивал фуражкой Пейся.
— Прыгай сюда! — сердито приказал Сема.
— Хорошее дело! — возмутился Пейся и, приложив к губам руку трубочкой, закричал: — Здесь большая лужа! Я наберу полные ботинки!
— Прыгай! — еще раз повторил Сема и, побежав к тротуару, протянул Пейсе руку. — Ну, расхрабрись уже!
Пейся прыгнул и, внимательно осмотрев подошву на своих потертых ботинках, спросил:
— Куда ты летишь?
— На фронт уходят, — угрюмо ответил Сема, — Идем прощаться!
— Кто же идет?
— Моисей, Полянка, Антон.
— Антон? — удивился Пейся. — И Полянка? Хороший вид будет иметь наш отряд. Кто ж остался? Я, ты и девчонка.
— Я бы и сам ушел.
— Ты? — засмеялся Пейся. — Ты думаешь, если ты девять раз попал в кружочек, так на фронте уже тебя ждут?..
— Оставь! — оборвал его Сема. — Мне хочется быть со всеми. Моисей поднялся с больничной постели и взял винтовку, А мы что?
— Я не пойму одного… — задумчиво произнес Пейся. — Вот, допустим, идет пехота в атаку. Идут рядами. Так получается, что задний ряд стреляет в передний? Я не пойму другого. Меня один раз побили на этой улице — и я вот уже три года хожу по другой стороне. С меня достаточно! А чего хотят эти вояки? Их же один раз побили и выгнали, зачем они опять суются на эту сторону? Какие-то неосторожные люди! Я бы на их месте обходил эту улицу за десять кварталов… Я не пойму третьего…
— У тебя там еще много? — нетерпеливо спросил Сема. — Мы можем опоздать и не попрощаться.
— Пойдем, — нехотя согласился Пейся и снова заговорил: — Я не пойму четвертого…
Но Сема, не слушая его, зашагал еще быстрее. Подойдя к дому Магазаника, он с силой распахнул дверь и, взбежав по лестнице, столкнулся лицом к лицу с Трофимом.
— Извиняюсь, — сухо сказал Сема. — Вы не видели Полянку или Антона?
— Полянка во дворе возле коней.
— Спасибо! — буркнул Сема и повернул обратно.
— Погоди! — остановил его комиссар. — Иди-ка сюда, пожалуйста!
Сема подошел и молча поднял глаза на Трофима.
— Что так быстро? — удивился комиссар. — Ац, бац! Ты, кажется, обиделся на меня?
— Да, обиделся, — не глядя, ответил Сема.
— За что? Лучше я буду знать!
— Как будто вы не знаете! — Сема махнул рукой. — Одно притворство!
— Сема!
— Да, Сема. А что бы случилось, если б я пошел с Антоном? Вам нужны особенные силачи, или, может быть, я, по-вашему, жалкий трус?
— Какие ты слова говоришь! — обиженно сказал Трофим. — Разве жалкий трус записался бы в отряд при комиссаре? Разве жалкий трус носил бы фамилию твоего отца? Некрасивые вещи говоришь, Сема… Мы остаемся здесь. И нам еще дадут сильное подкрепление, потому что мы — стратегический пункт. Понял? И у тебя еще будет дело. Ты курьер!
— «Курьер»! — с досадой повторил Сема, — А куда вы меня посылали? Как будто я не понимаю! Это нарочно, чтоб выдавать паек Гольдиным.
— Ты мне веришь, Сема? — спросил комиссар.
— Ну, верю.
— У тебя скоро будет боевое поручение. Ясно? А пока иди, прощайся с друзьями. Скоро будет команда: по коням!.. Мир, Сема?
— Мир, — все еще хмурясь, согласился Сема.
— Ну, иди!
Сема вышел на улицу. Около дома сидели на скамеечке Шера и Пейся, с любопытством провожая глазами идущие части. «Чего это они здесь расселись?» — подумал Сема и подошел к ним.
— Смотри, смотри, — Шера дернула его за рукав, — по шесть всадников в ряду. А лошади какие!
Сема посмотрел на фыркающих, строптивых коней, и, хотя он по-прежнему боялся лошадей, сейчас он готов был немедленно сесть в седло и вместе с этими незнакомыми людьми, вместе с Полянкой и Антоном двинуться на противника. Конечно, он меньше любого из них. Это правда! Но разве отец прогнал бы его?
— Ты уже попрощался? — спросил его Пейся.
— Нет, — ответил Сема и вздрогнул. — Надо идти!
— За это время можно было десять раз попрощаться и поздороваться, — усмехнулся Пейся.
— Я был у комиссара… — рассеянно ответил Сема. — Ты простился? А ты, Шера?
— Я не пойду, — тихо сказала Шера, — я не люблю прощаться. Это всегда плохо. Становится так грустно. Человек куда-то уезжает, а когда ты его увидишь?.. Люблю, когда приезжают, люблю встречать, здороваться. Это весело, хорошо. А прощание…
— Ну, оставайся, — хмуро ответил он и подумал, что все-таки что-то правильное есть в словах Шеры. — А я пойду! Не могу я так.
Матрос сидел на низеньком камне и задумчиво вертел в руках бескозырку с цветной лентой. Сема подошел и молча стал подле него. Полянка не заметил его прихода. Сема смотрел на матроса, на его порванные смешные «лаки» и думал: кто этот человек и почему он так мил ему? И почему стыдно в этом признаться мужчине, почему всегда так неловко говорить хорошие слова человеку?.. Вот завтра опять будет утро и день, и кто крикнет ему или Пейсе — «шлюпочки»? Кто пойдет с ними?.. Какая-то большая, томящая душу нежность охватила Сему, ему захотелось погладить обросшее лицо Полянки, прижаться своей щекой к его щеке и сказать ему что-нибудь необыкновенно приятное, чтобы матрос сразу догадался, что Сема любит его. И еще какие-то мысли пришли ему на ум, и было как-то тоскливо и радостно сразу, и было приятно сознавать, что на свете в одно время живет так много хороших людей.
Но сказать все это Сема постеснялся… Матрос сидел на камне с винтовкой за плечами, в черной куртке с широким поясом, и тяжелый кольт лежал на его коленях.
Сема прикоснулся рукой к теплому затылку Полянки и глубоко вздохнул.
— Ты, Сема? — обрадовался матрос и, подвинувшись, уступил ему часть камня. — Садись, шлюпочка, посидим рядышком на прощанье! — Он положил руку на плечо Семы и крепко прижал его к себе. — Маленький ты еще, Сема, — ласково сказал он, — во флот не подойдешь!
Сема молчал.
— Что ж получается, Сема? — заговорил опять матрос. — Получается, что расстаемся. И нет больше нашего отряда молодежи! Уходит на фронт Антон, и я, старый черт, тоже на фронт иду, Сема. Не в моем духе на камне сидеть. Смотрю я в твои глаза, Сема, дюже ты мне по сердцу пришелся, и жалею, что не вижу своего братишку меньшего. Тоже, наверно, такой герой! — Матрос помолчал, поправил ремень на плече и, вытащив большой, похожий на косынку платок, кашлянул в него и вытер губы. — Но ты не думай, хороший мой, что отряду нашему конец. Ему, брат, расти и расти. И когда-нибудь, Сема, ты старый будешь, а я себя потеряю сам не знаю где, вспомнишь ты, как приезжал в местечко матрос и хотелось ему сколотить отряд — и не вышло, потому что дела неотложные встретились… Храни ты мою бумагу, Сема, — добавил тихо Полянка. — Будет у тебя когда-нибудь билет нашей партии, ты эту бумагу не выбрось, а в билет положи…
Сема обнял колени матроса и прижался щекой к холодной рукоятке кольта.
— Сигнал нам, — сказал Полянка и осторожно приподнял Сему. — Дай хоть поцелую тебя, шлюпочка. — Он вытер губы и, крепко поцеловав Сему, вскочил на коня.
Конь зафыркал и встал на дыбы. Казалось, и ему не хотелось уходить со двора, но матрос крепко притянул поводья и стремглав вырвался из ворот. Сема что есть силы побежал за ним. Мелькнула цветная ленточка, махнул бескозыркой Полянка, и вот уж ничего не видно — далеко по чужой дороге скачет матрос…
Теперь уж и минута была трудна в одиночестве. Из дому Сему тянуло на улицу, с улицы — в дом, и нигде не находил он покоя. Все еще не верилось, казалось, что вот сейчас выйдет из-за угла Полянка и скажет:
«Шлюпочки! А не уехал я вовсе».
Но матрос не появлялся, покинул местечко Моисей, и даже Антон оставил их. Забегал Сема во двор и подолгу смотрел на желтый рябой камень. Вот тут сидели они на прощание, и что-то хорошее говорил Полянка. Где он сейчас? Потом заходил Сема в дом, в комнату, где часто собирались они, и, задумчивый, стоял у пыльной фисгармонии. Кто покажет, как собирается гроза? Кто покажет гром? Молчит ящик, и даже черные клавиши теперь не играют! И не был Антон первым другом Семы, виделись они редко, а все-таки и его не хватает сердцу…
Куда пойдешь? Даже Пейся приумолк, и только Шера, набравшись смелости, пыталась утешить Сему. Стоило ему вспомнить матроса или Моисея, Шера торопливо заговаривала о своих делах, и он, забываясь, слушал ее.
— Если у человека легкое ранение, — рассказывала она, — надо поскорее промыть ранку борной. А потом… Сема, куда ты смотришь? Я тебе интересные вещи говорю, а ты засмотрелся на забор.
— Я нечаянно… — смущенно признавался Сема. — А если, допустим, разболелся живот, что тогда? Или вдруг в горле шишка?
Шера растерянно разводила руками. Как раз этого она не знает. Наверно, глотают что-нибудь.
— «Глотают»! — насмешливо повторил Пейся. — И ты еще ее слушаешь. Ты думаешь, что она действительно что-нибудь знает. Один разговор. Выучила про борную и воображает!
— А ты и этого не знаешь! — возмущалась Шера.
— Я? — Пейся вскочил. — Я не знаю? Да я, может быть, больше вашего фельдшера понимаю и молчу. Если у человека сильный насморк, что делают? Ага, глаза раскрываешь! Кладут ему на ночь кошку в ноги. А если человек обжегся? Выливают ему на рану бутылку чернил. А если зубы болят? Вешают на шею мешочек с горячей солью. Будь спокойна! Я только молчу.
— Пейся, — с восхищением воскликнул Сема, — ты же доктор! А ну, посмотри на меня!
— Когда надо будет, посмотрю! — важно произнес Пейся. — А пока вам скажу, что сегодня мне лично подадут лошадей.
— Зачем? — удивилась Шера.
— Я еду в Пятигорку с пакетом. И тебе, по секрету сообщу, — обратился он к Семе, — тоже готовится такое дело.
— Когда? — в волнении вскочил Сема. — Я сейчас же пойду к комиссару.
— Большой умница! — Пейся свысока посмотрел на друга. — Он мне между прочим сказал, а ты уже побежишь. Какой я буду вид иметь? Тебе никогда нельзя говорить секрет!
— Ну ладно, ладно… — успокоил его Сема. — Скажи лучше, Шера, что у вас еще нового в лазарете?
— Опять лазарет? — ужаснулся Пейся. — Нет, я лучше пойду. Надо посмотреть, чтоб кони были сытые.
— А когда ты вернешься? — с любопытством и завистью спросил Сема.
— Сегодня же ночью. У меня все так. Раз, два — и готово.
— И готово… — улыбнулся Сема. — Была черепица — и нет!
Пейся нахмурился, поправил висящую на тонком ремне сумку и вышел из комнаты. Шера задумчиво стояла у окна. Был сумрачный осенний полдень. Сема поднял крышку фисгармонии и с тоской посмотрел на клавиши:
— Если б я хоть как-нибудь умел играть! Хотя бы одним пальцем!..
— А ну иди сюда! — оборвала его Шера. — Иди скорее к окошку!
Сема подбежал:
— Что такое? Пожар?
— Нет, — улыбнулась Шера. — Просто я хотела спросить. Видишь, вой идет человек с сумкой. Кто он такой?
— Где человек? — удивился Сема, всматриваясь в окно. — Не вижу никакого человека.
— Ай, куда ты смотришь! — разозлилась Шера. — Смотри на забор.
— Спина, — смущенно проговорил Сема, — Как я могу узнать по спине, кто он?.. А что, красивый?
— Да, красивым, — засмеялась Шера, — на голове три рыжих волоса, а на кончике носа вот такая красная бульба!
— Зачем же он тебе нужен с такой бульбой?
— Мне просто интересно.
— Что значит — просто? — недоверчиво переспросил Сема и, вспомнив слова дедушки, строго добавил: — Шера, ты имеешь дело со мной!
— Хорошо, — спокойно согласилась Шера. — Этот человек заходил к нам и спрашивал про излишки для армии.
— Ну?
— И он сказал, что надо вносить разные вещи, иначе будут неприятности. Кто не вносит, допустим, фуфайки или брюки для красных, тот контрреволюция. И у него вот такой мандат, как простыня…
— Интересно, — задумался Сема, — кто же это может быть? Не Трофим?
— Что, я комиссара не знаю? — обиделась Шера. — Только этот, наверно, еще выше его. Брови нахмурит, а бульба дрожит… Ты бы сам посмотрел. Ужас!
— Бульба? — повторил Сема. — Кто же это у нас с бульбой?
Но, как назло, все люди с бульбами исчезли из его памяти, и он не смог догадаться, о ком рассказывает Шера.
— Что я буду мучиться! — разозлился Сема. — Лучше рассказывай про лазарет!
— Что ты пристал к моему лазарету? Сейчас там только двое больных, и я тебе уже раз пять про них говорила.
— Верно, говорила, — согласился Сема и потер лоб. — Идем гулять.
— Только до угла. Скоро придет папа, а у меня не прибрано.
Они вышли на улицу. Сема проводил Шеру и, прощаясь, рассеянно спросил:
— Ну что, Доля доволен службой?
— Еще бы! — улыбнулась Шера. — Он только жалеет, что у него нет шинели. Такой чудак!..
Расставшись с подругой, Сема не знал, куда деть себя. И так ему казалось, что он слишком часто торчит в комиссарской комнате. А может быть, он мешает Трофиму и тот стесняется об этом сказать? «Не пойду», — твердо решил Сема и тихо побрел к красному ряду. Возле магазина Гозмана он неожиданно столкнулся со старым знакомым. «Смотри, — удивился Сема, — он, оказывается, жив, а я и забыл про него. Интересно! И какой у него важный вид! Ах ты, тютя!» — ласково подумал Сема и, приблизившись к знакомому, вежливо поклонился:
— Здравствуйте, мосье Фрайман!
Но Фрайман не успел ему ответить: Сема, нагнувшись, внимательно заглянул в его лицо и, вспомнив что-то, побежал, высоко подняв полы шинели. «Бульба! — весело шептал про себя Сема. — Конечно, красная с синенькими жилками. И как я сразу не догадался? Бульба! — еще раз с тихой радостью повторил Сема, как будто он нашел клад. — И он еще смеет ходить и требовать вещи для красных! Теперь я знаю, что делать!».
С этого дня жизнь Семы обрела какой-то новый смысл. Живое дело попало в руки, и он решил довести его до конца.
С неостывающим усердием принялся Сема охотиться за Фрайманом. Встречался с ним утром и расставался вечером. А Фрайман, ничего не подозревая, ходил по улице деловой походкой, прижав к груди залитый чернилами брезентовый портфель. «Куда он идет? — с тревогой спрашивал себя Сема. — И зачем? А может быть, я перепутал и этот вовсе не та бульба?» Фрайман заходил в дома и выходил на улицу с какими-то узелками и свертками.
Однажды Сема не выдержал и подошел к нему.
— Скажите, пожалуйста, — ласково спросил он, — вы уже имеете службу?
— Имею, — ответил Фрайман и, строго взглянув на Сему, вытащил из бокового кармана большую бумагу с четырьмя печатями: — На, читай!
— «Выдано товарищу Фрайману, — удивленным голосом прочел Сема, — в том, что он является уполномоченным Осчеквалапа».
— Осчеквалапа! — торжественно повторил Фрайман.
— «И ему обязаны, — уже с завистью продолжал читать Сема, — все волревкомы, военные комиссары, а также районные коменданты оказывать широкое содействие, а также помощь в средствах…»
— «…передвижения, — опять заговорил Фрайман, знавший уже наизусть свой мандат, — на обывательских подводах. А также…» Что же ты остановился? — обратился он к Семе. — Читай дальше.
— «…а также предоставлять в случае служебных надобностей телеграф, телефон и прочие прямые провода». — Сема глубоко вздохнул и недоверчиво взглянул на Фраймана: — Это все про вас одного?
— Четыре печати, обратите внимание! — Фрайман ткнул пальцем в бумагу и гордо улыбнулся: — Осчеквалап!
— Осчеквалап! — недоумевая, повторил Сема это загадочное слово и протянул руку Фрайману: — Будьте здоровы…
Мандат ошеломил и расстроил Сему. Во-первых, он никогда не видел мандата, кроме своей написанной от руки бумаги, во-вторых, четыре печати — это ж надо понимать! — по одной на каждый угол! «И еще эти прочие прямые провода! — с досадой вспомнил Сема и глубоко вздохнул. — Таки выше Трофима!.. Мне нравится этот тон, — со злобой подумал он, — комиссары ему обязаны! Там даже написано: „все комиссары!..“» Трудная задача вдруг встала перед ним. «Позвольте, — рассуждал Сема, — если он оказывается такой чин, так Трофим должен его знать…» Но комиссар равнодушно произнес фамилию Фрайман и развел руками:
— Первый раз слышу! Хотя постой, один Фрайман устраивал тебе службу?..
Больше Трофим ничего не сказал, и Сема понял, что он тоже ничего не знает.
«Осчеквалап, — с тоской повторил Сема, — какое-то страшное название! Осчеквалап! Что Это может быть?»
Он гадал и терялся в догадках. И вот однажды, когда Сема упал духом, считал уже все потерянным, ему неожиданно пришел на помощь дед. Вернувшись после своей обычной прогулки по местечку, он, улыбаясь, потер руки, позвал в комнату бабушку.
— Нет, Сарра, — качая головой, сказал он, — я таки копейки не стою!
— Кто тебе сказал? — засмеялась бабушка.
— Я сам себе сказал. Люди умеют устраиваться. А я — нет!
— Кто эти люди? — заинтересовался Сема.
— Например, Фрайман. Ты подумай только, — дедушка поднял брови и выпятил нижнюю губу, — он уже на коне! Как только он почувствовал, что красные задерживаются, он поехал в город, выправил себе какой-то вид с печатями. И теперь ездит из местечка в местечко.
— Что же он делает? — спросила бабушка.
— Ты сама не понимаешь. Представь себе, что к тебе заходит человек, садится к столу, показывает такую вот бумагу и начинает у тебя спрашивать такие милые вещи: «А у вас не производили еще изъятия ценностей? А у вас уже был обыск?» И говорит, что он не кто-нибудь, а сам Чеквалап!
— Боже мой! — воскликнула бабушка. — От одного такого слова могут руки и ноги задрожать!
— Еще бы! — продолжал дедушка. — Потом он начинает лезть по ящикам и забирать излишки. «У буржуев, — объясняет он, — делают изъятие ценностей». И опять лезет в ящик. Можешь догадаться, что хорошая половина остается у него дома. Вчера, например, он почистил мать Айзенблита… На тебе, вдруг Чеквалап на мою голову!
— Интересно! — Сема потер руки и накинул на плечи шинель. — Теперь я все понимаю!
— Что ты понимаешь? — возмутился дедушка. — Ты можешь сейчас полететь и, энедем-пендем, доложить Трофиму, так я тебя не прошу. Еще не хватает, чтоб от меня шли доносы! Очень нужно мне наживать врагов.
— Какие враги? — засмеялся Сема. — Комиссар уже давно знает про это!
— Знает? — переспросил дедушка. — Тогда очень хорошо. Лишь бы не от меня.
Сема выскочил на улицу… Дело подходило к концу, и загадка уже не была загадкой. Пойти рассказать все Трофиму или просто взять и привести этого Осчеквалапа? Сема быстро отправился на розыски Пейси. Хотя приятель заважничал после поездки с пакетом, но все-таки ум хорошо, а два лучше…
Пейся сидел дома за круглым столом и что-то писал, открыв рот и высунув кончик языка.
— Сочиняешь? — насмешливо спросил Сема.
— Да, — недовольным голосом ответил Пейся и прикрыл ладонью тетрадь. — Можешь не заглядывать!
— Ну, слушай, — нахмурился Сема. — У меня был от тебя очень важный секрет.
— Я тебя не прошу. Можешь не рассказывать…
— Обожди… — оборвал его Сема и, стараясь быть кратким, рассказал историю Фраймана. — Как теперь быть? Пойти сказать Трофиму или просто привести его?
— Можно не торопиться, — уклончиво ответил Пейся. — А большой у него мандат?
— Как это — не торопиться? — возмутился Сема. — Он уедет, и что тогда мне останется? Гнилые подковы из-под мертвых коней! Тоже сказал!
— Что ты хочешь? — с важностью спросил Пейся, вставая со стула. — Ты хочешь, чтоб я с тобой пошел? Я готов. — Он ловко заправил отцовский пиджак в брюки и, спрятав тетрадь в какое-то тайное место, открыл дверь. — Пойдем!
У Семы была хорошая память, и он знал, как арестовывают. Но зайти в квартиру Фраймана они не решались. Все-таки Осчеквалап! И, договорившись, принялись ждать его у ворот. Ждать пришлось долго. Уже не раз с тоской заглядывал Пейся во двор, но Фрайман все не шел.
— Послушай, — заговорил Пейся, — а вдруг он не выйдет?
— Тебе уже не терпится? Жди!
— А вдруг он лег спать?
— Жди, говорю!
— А вдруг он заболел на наше счастье?
Но Сема не успел ответить ему. Сделав прыжок, он очутился рядом с Фрайманом и, вспомнив слова матроса, торжественно объявил:
— Именем революции следуйте за мной.
Фрайман с удивлением посмотрел на Сему и, рассмеявшись, ответил:
— Хорошо. Но куда вы идете?
— Вас зовет комиссар.
— Интересно, — Фрайман пожал плечами, — какие у меня с ним дела? Тут, наверно, какая-нибудь путаница. Ха! — обрадовался он, увидев Пейсю. — Два моих ученика. Через мои руки вы получили ремесло… Послушай, — обратился он к Семе, — ты точно слышал, что именно меня звал комиссар?
— Своими ушами, — твердо ответил Сема.
— Странно, — удивился Фрайман и зевнул, начиная нервничать. — Тут есть еще Фруйман, так нас всегда путают.
— Пойдемте, — хмуро повторил Сема и взял Фраймана за локоть.
— Можешь за мной не ухаживать, — закричал Фрайман, — а то ты, кажется, получишь баню!
Они подошли к дому Магазаника, и Сема, пропустив вперед уполномоченного Осчеквалапа, взбежал по лестнице.
— Комиссар у себя? — спросил он вестового.
— У себя.
— Пейся, — сказал Сема, усиленно подмигивая, — ты посиди с ним здесь, а я скажу комиссару.
Через десять минут Фраймана попросили в комнату к Трофиму. Он вошел, вежливо поклонился и сел, положив на колени шляпу. Трофим с лукавым любопытством смотрел на гостя.
— Так вы и есть Фрайман? — улыбаясь, спросил он.
— Я.
— Ваш мандат!
— Пожалуйста, сделайте одолжение! — быстро заговорил Фрайман и протянул комиссару бумагу с четырьмя печатями.
Трофим внимательно прочел мандат и, разгладив, положил бумагу перед собой:
— Так. Плохая липа! Кто вам ее сделал?
— Я не понимаю, — растерялся Фрайман.
— Вы не понимаете? — удивился Трофим. — Вы, такой находчивый делец, и вдруг не понимаете?.. В уезде вам ее дали?
— В уезде.
— Кто именно?
— Я его не знаю, — оглядываясь по сторонам, сказал Фрайман, — лично незнаком. Такой бледный молодой человек.
— Хорошо, — улыбнулся Трофим, — мы потом продолжим разговор. Вас сейчас отведут, и вы будете иметь время вспомнить фамилию молодого человека.
— Меня отведут? — закричал Фрайман и вскочил со своего места. — Здесь грязные руки! Здесь донос! Я уже три года работаю на революцию. Может быть, я и еще десять таких Фрайманов устроили поражение войны. Я освобождал людей от службы. Пусть скажут.
— Успокойтесь, — тихо сказал Трофим, подавая знак красноармейцам, — ваши заслуги известны!
Фраймана увели… Сема посмотрел на комиссара и, вздохнув с облегчением, вытер с лица пот.
— Так… — задумчиво произнес Трофим. — Теперь нужен хороший обыск. — Он сделал какую-то пометку на листе и, подняв голову, спросил: — А ты, Пейся, помогал ему?
— Нет, он сам, — краснея, ответил Пейся.
— Так… — еще раз повторил Трофим. — А что ж, по-вашему, такое Осчеквалап?
— Не знаю, — пожал плечами Сема. — Наверное, что-нибудь страшное!
— Плохо! Как же это курьер военного комиссара и не знает таких вещей? Может быть, ты, Пейся?.. Тоже не знаешь? Гм! Осчеквалап — Особая чрезвычайная комиссия по выделке валенок и лаптей.
— Боже мой! — с досадой воскликнул Сема.
— Вот тебе и боже мой! — засмеялся Трофим. — Конечно, хорошо, когда юные большевики ловят паразитов. За это спасибо. Но кто вам разрешил арестовывать людей? А?
— Мы его только пригласили, — смущенно проговорил Сема.
— «Пригласили»… — насмешливо повторил Трофим. — За такое приглашение вам обоим причитается сутки гауптвахты… У тебя, Сема, память хорошая, ты мне как-нибудь напомни, что я вам должен сутки гауптвахты. Слышишь?
— Хорошо, — согласился Сема. — А сколько вы должны Фрайману?
— Лет пять на соляных приисках, — улыбнулся комиссар. — Не мало?
— Нет, — серьезно ответил Сема. — Я думаю, будет вполне достаточно!
Паек курьера комиссара был невелик, но Сема всегда приносил его домой с чувством особой радости. Он внимательно следил за выражением лица бабушки, когда она осторожными руками развертывала маленькие бумажные кульки.
— Фунт ржи? — удивлялась бабушка. — Это очень хорошо, Сема! А здесь что? Сахарный песок?
Она высыпала шуршащий песок в стакан, и по утрам дедушка пил сладкую, чуть-чуть закрашенную воду. Никто не умел так экономить и так хитрить с продуктами, как бабушка. Достав где-то несколько картошек, она смешивала их с отрубями и пекла оладьи, заменявшие хлеб. Правда, очень часто Сема находил в этом хлебе куски соломы, но он молчал, не желая расстраивать бабушку. А она стояла около него, с любопытством заглядывала в рот и спрашивала:
— Ну как, Сема, вкусно?
Сема, не разжевывая, глотал эти похожие на подошву оладьи и голосом, полным удивленного восторга, отвечал:
— Замечательно! Какой-то особенный вкус!
Бабушка радостно кивала головой и присаживалась рядом с ним:
— А скажи, Сема, ты заметил, что здесь нет и капельки соли?
Тут дедушка, потеряв терпение, тоже вмешивается в разговор:
— Знаешь что, Сарра, я бы на твоем месте так не допытывался. Если ты будешь так долго спрашивать, он рассердится и скажет всю правду.
Бабушка умолкает.
Дед, воспользовавшись наступившим молчанием, сам начинает осаждать Сему:
— Скажи мне, пожалуйста, что будет с Фрайманом? Мне кажется, что в этом деле пахнет твоей рукой.
— Тебе кажется, — улыбается бабушка. — Его жене кажется — вот что плохо! Ты бы видел, как она смотрит на меня. Она бы утопила нас всех в ложечке чая.
— Да-а… — задумчиво произносит дедушка. — Такое время… А скажи мне, пожалуйста, куда они дели Магазаника?
— Не знаю. Отправили в уезд.
— И что же?
— Наверно, расстреляли, — равнодушным голосом отвечает Сема.
— Расстреляли… — ужасается дедушка, но, подумав немного, успокаивается. — А почему бы его в самом деле даже не повесить? Ты помнишь, Сема, у него была подходящая шея!
— Ой! — шумно вздыхает бабушка. — Я не могу слушать ваши разговоры. Какие-то разбойники в доме!
В это время в окне показывается голова Пейси. Он щурит то правый, то левый глаз, трясет головой, подает загадочные знаки Семе.
— Уже пришел твой красавец! — бурчит бабушка. — Полчаса он не может прожить без тебя!
Пейся входит в комнату, кланяется дедушке и хватает за рукав Сему:
— Идем. Комиссар зовет!
— Фиру надо захватить? — деловито осведомляется Сема.
— Не надо. Он ждет тебя одного.
Сема набрасывает на плечи шинель и идет вслед за приятелем. Дедушка провожает их завистливым взглядом: все-таки и у них есть дела! На улице Сема останавливается и испытующе смотрит на Пейсю:
— Что Трофим хочет?
— Я знаю? — раздражается Пейся. — Я ночевал в его душе?
Волнуясь, они входят и комнату комиссара. Трофим поднимает голову и, улыбаясь, спрашивает Сему:
— Где твои веселые глаза?
Сема обижается.
Ему кажется, что комиссар говорит с ним как с мальчиком. И он отвечает отрывисто и зло:
— Закрылись!
— А может быть, откроем?
— Попробуйте!
Трофим расстегнул рубашку и налил в блюдце кипятку:
— Люблю чай. А ты?
— Смотря с кем пить.
— А пакет в Кашины свез бы? — неожиданно спрашивает комиссар.
— Сегодня?
— Молодец! А не стащат у тебя этот пакет?
Сема хмурится и, не гляди на Трофима, отвечает:
— У мертвого!
— А не потеряешь ты его?
— Вместе с собой.
Трофим с удивлением смотрит на Сему:
— Злой черт!.. Придется тебе собираться в дорогу.
— Это правда? — Сема вскакивает со стула и, забыв, что он взрослый, начинает прыгать по комнате. — Там же папа, Трофим!
— Уж я помню об этом, — улыбается комиссар, — хотя он за все время и строчки не написал… А коробку табаку ему свезешь? Есть, Сема?
— Есть! — отвечает Сема, не веря и тревожась.
— Хорошо… — задумчиво говорит Трофим. — А как же быть с бабушкой?
— Не знаю, — растерянно отвечает Сема.
— Вот видишь. Сам просишься, а сам не знаешь, как быть с бабушкой.
— О чем разговор? — вмешивается Пейся. — Бабушку я беру на себя. Что ты смотришь? Мы скажем ей, что Сему вызывает отец. А если это не поможет, я начну ей рассказывать историю, а Сема выйдет с черного хода. Три ступеньки — и он на улице!
— Ну хорошо, Сема, — говорит Трофим и кладет руку на его плечо. — Теперь глаза открылись? Ты рад? И ты не побоишься ехать один? Ты понимаешь, Сема, — один, а кругом все чужие…
— Не побоюсь, — волнуясь, отвечает Сема, — я ничего не боюсь.
— Завтра утром получишь пакет. Лошади отвезут тебя до станции. Идет эшелон в кашинском направлении. Ты рад, Сема? Мы на тебя ставим, как на взрослого парня! Ты понимаешь это, Старый Нос?
Трофим обнял Сему и глубоко вздохнул: «Все-таки хорошая штука — иметь такого сынка!» Друзья вышли на улицу. Сема был озабочен и молчалив, теперь опять радость уступила место тревоге.
— О чем ты думаешь? — Пейся осторожно прикоснулся к приятелю. — Делай, что я говорю!
— Нет, — покачал головой Сема, — нет, я не буду обманывать.
— Ну тогда, хочешь, я могу зайти. Они меня сразу послушают.
— Нет. Я сам. — Сема протянул Пейсе руку. — Рано утром у речки!
Сема открыл дверь, прошел через коридорчик в столовую и молча присел возле бабушки. Дед с удивлением посмотрел на него:
— Что ты такой тихий?
— Так.
— Может быть, он теплый? — встревожилась бабушка. — А ну, Сема, дай лоб!
— Я не теплый, — успокоил ее Сема и небрежно добавил: — Я забыл сказать. Я уезжаю с пакетом.
— Что, что? — не разобрала бабушка. — Что ты там еще выдумал?
— Я уезжаю, — робко повторил Сема, с надеждой глядя на молчащего деда. — И как раз там папа… Я отдам табак.
— Какой табак? Какой папа? — еще больше рассердилась бабушка. — Ты скучаешь за скандалам?.. Как мы будем смотреть в глаза Якову, если он узнает, что мы тебя пустили? А вдруг тебя отрежут?
— Что значит отрежут?
— «Что значит, что значит»! Уехал Локерман в Одессу, и его отрезали. Он там, семья тут.
— Меня не отрежут, — уверенно ответил Сема. — И о чем вы беспокоитесь? Все дело — три дня! Вот я там, и вот я тут.
— Пойдем! — сказал наконец дедушка и, встав, позвал бабушку за собой.
Они пошли в спальню. Сема остался один. Он нервничал и шагал из угла в угол. Вот так родные могут стать поперек дороги. И кому он нужен? Что там, нападут на него, что ли? Только и ждут! Сяду утром и приеду вечером! Простое дело. Но пойди объясни им. Бабушке всюду снятся пушки! А дедушка молчит. То он может говорить с утра до вечера, а сейчас ему жалко сказать два слова. Мужчина называется! Сема принялся с горечью ругать деда и бабушку: «Сколько можно со мной цацкаться? Что мне — три года? Пусть еще скажут спасибо, что я говорю. Другой бы просто взял и уехал! Но дедушка — кто бы мог ожидать? — сидит и молчит! Как будто он сам не был молодым или забыл, что это такое».
Мысли Семы обрываются приходом деда и бабушки. Дедушка поправляет черный галстук, поднимает полы пиджака и, чуть-чуть подтянув брюки, садится к столу. У него торжественный, строгий вид. Он смотрит на бабушку, потом на Сему и, пригладив усы, подзывает внука к себе:
— Сядь здесь!
Сема послушно садится.
— Посмотри на меня!
Сема поднимает голову и смотрит на деда.
— Ты мой внук и сын своего отца. И я знаю тебя за честного мальчика.
Сема молчит, и дедушка, гордо восседая на стуле, продолжает:
— Я у тебя не стану много спрашивать. Я не спрашиваю, какой пакет и почему именно ты? Мне это не нужно. Я тебе только задаю один вопрос, и ты мне отвечай. Если мы тебе не позволим, что ты сделаешь, Сема?
— Я поеду.
— Всё! — Дедушка машет рукой, встает, и сразу куда-то исчезает его торжественный вид. Он подходит к бабушке и, склонившись, шепчет ей на ухо: — А что я тебе говорил? Когда он только поставил ногу на порог, я уже видел, что у него делается. Я уж видел…
— Мне от этого не легче, что ты видел!.. — кричит бабушка. — Тебя хоть посадят в поезд? — спрашивает она у Семы.
Сема радостно кивает головой.
— Надо, чтоб тебя положили на верхнюю полку, — вздыхая, говорит бабушка. — И чтоб ты не толкался среди людей. А то бог знает чего наберешь!
— Я не буду толкаться, — охотно соглашается Сема.
Но бабушка не слышит его.
— И, если будет открыто окно, не высовывай голову. И, когда будет остановка, не выскакивай первым. И папе скажи, — тихо добавляет бабушка, — что я этого не хотела.
Сема становится позади дедушки и ласково гладит его по лысине. Бабушка смотрит на обоих и говорит с досадой:
— Теперь можете целоваться! Конечно, что вам? Что вам? Я должна ходить одна со своим горем!..
Рано утром на берегу Чернушки встретился Сема с Шерой. На плечи он взвалил котомку, в длинных, широких рукавах шинели терялись руки, старый, немного большой картуз лез на глаза. Под рубашкой, прижавшись к груди, лежал уже потеплевший пакет комиссара.
— Сядем здесь, — тихо сказала Шера, и они опустились на землю. — Так ты едешь?
— Еду.
— Ты рад?
— Очень! — воскликнул Сема и обнял ее за плечо. — Ты же понимаешь, Шера. Я один еду! Один!
— Я ничего не понимаю, — повторила Шера и заплакала. Всхлипывая, кусая нижнюю губу, отбрасывая падающие на лоб волосы, она смотрела на Сему долгим, внимательным и печальным взглядом. — Раньше я просыпалась и знала, что я увижу Сему. Ты не смейся! — испуганно сказала она. — А теперь что? Я так привыкла, Сема… — Шера опять заплакала. Плечи ее вздрагивали.
Сема растерянно смотрел на нее и не знал, что делать, что сказать. Он гладил робкими, непривычными руками ее голову и плечи и потом, нагнувшись, поцеловал ее черные, вкусно пахнущие волосы.
— Ты добрая, Шера, — смущенно сказал он. — Волосы у тебя мягкие. Вот посмотри сама.
Он расплел снизу тяжелую косу и перебросил ее через голову Шеры. Волосы рассыпались и закрыли лицо.
— Я тебя не вижу теперь! — засмеялся он.
Но Шера каким-то особенным движением, какое бывает у женщин, моющих голову, разделила надвое сбежавшие вниз волосы, и Сема увидел покрасневшие от слез глаза, большие и тихие, как озера.
— Ты уже не плачешь? — спросил он.
— Нет, Сема.
Она быстро причесалась, ловко вскидывая руки. Черные шпилечки лежали у нее на коленях, на юбке, она брала две сразу, одну зажимала в зубах, другой закалывала волосы.
— Вот я и готова. Видишь, какая прическа?
— Нет, лучше с косой, — нерешительно сказал Сема.
Шера засмеялась и, вдруг вспомнив что-то, оглянулась вокруг себя. Рядом с ней лежал маленький узелок.
— Это, Сема, тебе! — Она развязала платочек и протянула Семе две тряпочки.
— Что это? — удивился он.
— Это фланелька. Заверни ноги. Сними ботинки и заверни ноги. Будет тепло. Сделай это сейчас. Я отвернусь.
Сема покорно снял ботинки и обтянул ноги фланелевыми тряпочками.
— Тепло? — улыбаясь, спросила Шера.
— Тепло, только тесно.
— Ничего! — успокоила его Шера. — Теперь возьми это и надень на шею. — Она положила ему в руки мешочек на шнурке. — На шею, на шею!
— А что в нем? — недоумевая, спросил Сема.
— Это нафталин, Сема. Доктор сказал: против тифа.
Опять губы ее задрожали и слезы подошли к глазам. Сема протянул Шере обе руки, и они поднялись.
— Пора, — тихо сказал Сема. — И не надо этого. Не на год!
С горки вниз, к берегу, бежал Пейся. Он остановился возле них, запыхавшийся и побледневший.
— Бежал, — тяжело дыша, сказал он, — боялся опоздать… — Он молча посмотрел на Шеру и улыбнулся: — А ты уже здесь… Слушайте, Сема, — заговорил он вдруг торжественно, — если вам понадобится шафер со стороны жениха, так я готов!
Шера засмеялась и, пригладив волосы, завязала косынку.
— Да, — уже отдохнул, — с азартом продолжал Пейся, — я готов подвести вас к венцу. У меня была такая история…
— У тебя всё истории! — улыбнулся Сема.
— Я был бы рад, чтоб эти истории не разлюбили меня, — вздохнув, ответил Пейся, — чтоб не успевала появиться одна, как уже другая толкала ее в спину.
— Закрой шею, Сема, — тихо сказала Шера.
— Да, мне пора, — повторил Сема и поправил котомку на спине.
— Одну минутку! — Пейся взял Сему под руку и отвел его в сторону. — Я тебе принес железу. — Он протянул удивленному Семе тяжелый кусок ржавого железа. — Пусть будет в кармане! Если что — ударяешь между глаз. Мне отец говорил, как убивают быков. Раз — и готово!
Сема спрятал «железу» в карман, посмотрел на разгоряченного Пейсю и впервые за долгие годы дружбы притянул его к себе и обнял:
— Будь здоров, Пейся!
— Будь здоров, Сема, — тихо ответил Пейся и опустил глаза. — Иди прощайся с ней! Я ничего не вижу…
…Через час проснулись в домах люди. С шумом отворялись ставни, падали, сбивая со стен штукатурку, тяжелые прогоны — новый день пришел в местечко. Сема был уже далеко. На высокой арбе трясся курьер комиссара. Он лежал, подложив котомку под голову, и смотрел на далекое серое небо. Медленно плыли за ним стаи густых темных туч — одни они, поднявшись с рассветом, провожали на станцию Сему.
Спрыгнув с арбы, Сема побежал на станцию. Жажда деятельности охватила его; чувство полной свободы, впервые пришедшее к нему, жгло и радовало. Бабушка, дом, Шера — все это осталось позади, и об этом не хотел и не мог думать Сема. Сейчас было одно — ехать! Он чувствовал себя бывалым человеком. Здесь уж никто не смотрел на Сему, никто не беспокоился о нем и никто не заметил прихода нового пассажира. Как и сотни других людей, суетящихся, ищущих кипяток, кого-то зовущих пронзительным свистом, он бестолково бегал по маленькому перрону, перескакивая через тела спящих и больных, расталкивал локтями себе дорогу и вместе с каким-то удалым парнем в черных, как у Полянки, клешах неистово кричал:
— Где эшалон? На какую путь эшалон?
Спрашивать было не у кого. В воздухе стоял тяжелый запах болезней, людского пота, голода и войны. Люди в измятых, залежанных шинелях, в кожанках, с винтовками, прыгающими за плечами, продавив узенькую дверь, вывалились на станцию. Какая-то женщина тут же, на земле, кормила грудью ребенка и смотрела на толпу спокойными, уже привыкшими ко всему глазами. Люди толкали злыми ногами ее узлы, перепрыгивали через нее, ругались, а она все сидела с ребенком на руках — одна тихая, одна неторопливая, а может быть, забытая или уставшая от сумасшедшего бега.
Сема тоже побежал. На него падали люди. Его сжали со всех сторон, и он закричал, потому что было и больно, и страшно, и, главное, непонятно, что к чему и зачем. Но крик его никто не услышал, ни одну живую душу не встревожил Семин голос — все неслись, и Сема несся со всеми. Он свалился с перрона и побежал, спотыкаясь, перескакивая через рельсы с пути на путь. Какой-то сбивающий с ног рев раздался рядом: навстречу несся паровоз, пыхтящий, фыркающий, обдающий жаром и искрами. Толпа метнулась вправо, и Сема вместе с ней; он уже не жил самостоятельно, не имел своих особых желаний. Он был в толпе, несмеющий, беспомощный, отдавшийся ей. Кто-то подтолкнул Сему пинком ноги, и он повторил это движение, толкнув бежавшего впереди, — человек лежал на человеке, нельзя было поднять руки, нельзя было сделать что-то для себя. Котомка давила и жгла спину. Не было ни мыслей, ни желаний, — казалось, эти минуты Сема не жил, а только двигался.
Уже упали густые сумерки, замелькали унылые, сносимые ветром огоньки на путях…
Огромный солдат в коротенькой шипели, с трудом повернув голову, плечом откинул от себя Сему и выругался: «Чего ты повис на мне, дура!» И Сема, шатаясь и уже не надеясь ни на что, покатился дальше. Какой-то безнадежный и не кончающийся испуг, который бывает только на железной дороге в такие минуты, сжал Сему. Он уже ничего не хотел — ни пакета, ни поручений, лишь бы оставили, бросили его, и он бы стал счастливым, как та неторопливая женщина.
В это время какая-то сила вновь метнулась в толпу. Сотни людей вокруг Семы, как и он, не видели ничего, но, вероятно, в первых рядах был кто-то видящий, и его тревоги передавались всем. Он бежал, расставив руки, и толпа, не видя, угадала, что пришел эшелон. На пути остановился длинный красный состав, и толпа ударилась о его стены и полезла куда-то вверх. Кричали рядом, кричали позади, кричали вокруг. Вагоны были закрыты, и толпа билась об их стены и откатывалась назад, как большая черная волна. Наконец отодвинули тяжелые двери, и люди начали лезть, карабкаясь, цепляясь, падая, путая свои и чужие руки. Пол вагона был высок, не было ни лестниц, ни поручней. Сема схватился за чей-то ремень и полез, не зная куда.
Очнулся он ночью и, открыв глаза, ничего не увидел. Только совсем близко под ним, у его уха, стучали колеса, и казалось, что вагон шатается из стороны в сторону. Кто-то храпящий тяжелым и пыхтящим храпом, обняв его, положил тяжелую ногу на его ногу, и чужое теплое дыхание стелилось по его щеке. Сема боялся пошевельнуться. Постепенно глаза привыкли к темноте, и он увидел на полу спящих солдат, мокрых, что-то бормочущих во сне, присвистывающих и стонущих. Человек рядом продолжал спать, его дыхание становилось горячим, от него несло пережженной махоркой, по́том, карболкой и еще чем-то очень острым и дурным. Неожиданно поезд остановился, как будто он ударился во что-то. Какие-то люди опять лезли в вагон, но солдат, лежавший у дверей, сбрасывал их странным и, видимо, привычным ударом сапога.
Свет проник в узкие щели, и пассажиры начали просыпаться. Они шумно зевали, потягиваясь, и Сема, оглянувшись, увидел, что в вагоне нет никаких полок, никакого окна — один пол! «Верхняя полка, — насмешливо повторил он слова бабушки, — И чего она только не выдумает!» Подняв руки, Сема почувствовал отчаянную боль во всем теле, особенно в ногах. «Что было вчера? — начал вспоминать он, и ему не верилось, что это чудовищно страшное уже прошло. — А обратно? — с тревогой подумал Сема. — Опять то же самое?»
Вдруг руки его задрожали: они раньше, чем он, вспомнили и начали искать. Нет, пакет был на месте. Промокший и, наверно, измятый, он влип в тело, и на коже Сема нащупал прямой четырехугольный след.
— Кашины скоро? — спросил он у соседа.
— Сейчас будут и Кашины! — добродушно ответил сосед, радуясь, что он наконец сможет вытянуть ноги и лечь свободней.
Сема поднялся и, шатаясь, добрел до двери. Солдат, вышибавший всех, с улыбкой посторонился. Поезд замедлил ход. Сема принялся отодвигать тугую непромасленную дверь, но она не подчинялась ему. Солдат встал, ударом нога толкнул дверь, и Сема увидел дневной свет, дома, людей. Он подтянул котомку и, заткнув за пояс полы шинели, прыгнул на землю. Опять вокруг началась сумасшедшая суета, и люди ринулись к вагонам. Сема издали снисходительно, даже с любопытством посмотрел на них и медленно прошел через станцию на улицу. Он уже все простил и забыл, и теперь опять был пакет, и встреча с отцом, и незнакомое место — всё, ради чего стоило бежать, падать и подниматься вновь.
…К начальнику укрепленного района его привели. Красноармеец доложил о задержании, и начальник, пожилой человек с залезающими в рот рыжеватыми усами, испытующе взглянул на Сему. Сема смутился и, подойдя ближе, заговорил штатским детским языком:
— Я его попросил показать, а он задержал меня. Мало я намучился в дороге! А он меня схватил!..
— Садитесь, — улыбнулся начальник, расправил усы и, как кролик, смешно покрутил носом. — Я слушаю!
— Пакет, — уже спокойно сообщил Сема, — от товарища Березняка. — Он отвернулся к окну и принялся извлекать из-под рубашки комиссарский пакет.
Пакет был измят и, главное, мокр: от него пахло Семой, бабушкой, но только не комиссаром. Сема опять смутился и принялся дуть на конверт.
— Ну, давайте! Что вы там? — удивился начальник.
— Горячий, — сконфуженно улыбнулся Сема, протягивая письмо Трофима.
— Остынет! — успокоил его начальник и, небрежно разорвав конверт, принялся читать.
Читая, он делал какие-то пометки в книжке, потом начал что-то чертить по карте плоским желтым карандашом, похожим на утиный нос.
— А, вы еще здесь, — вспомнил про Сему начальник. — Это хорошо! Вот ответ. — Он быстро набросал что-то на маленьком листке и протянул Семе запечатанный конверт. — Прошу, товарищ! — Начальник опять посмотрел на курьера и смешно задергал носом. — Сколько лет?
— Пятнадцать.
— Достаточно! — отрывисто сказал он и улыбнулся. — У вас еще что-нибудь?
— Разрешите обратиться, товарищ начальник укрепленного района! — торжественно произнес Сема, подражая красноармейцу.
— Разрешаю.
Но Сема не знал, как изложить свое дело военным языком, и, досадуя на себя, просто сказал:
— Здесь мой папа, Гольдин, комиссар района.
— Твой папа… — задумчиво повторил начальник и, взяв со стола трубку, закурил, пряча себя в клубах голубоватого дыма. — Ну что ж, пойдем! — С неожиданной поспешностью он запер стол и, накинув на плечи шинель, спросил: — А тебя как зовут, Гольдин?
— Сема!
— Сема, — повторил начальник. — Очень хорошо! Семен, значит.
Они вышли на улицу, и Сема, с трудом поспевая за широким шагом начальника, пошел за ним.
На улице валялись осколки снарядов; заборы у домов были повалены; дома стояли заколоченные, как будто встревоженные чем-то. Всюду были еще теплые следы недавнего боя.
У одного из домов начальник остановился.
— Вот, Сема… — сказал он и вновь пустил на себя столб дыма. — Вот папин дом.
Они вошли в комнату. Какая-то женщина поклонилась начальнику и с удивлением посмотрела на Сему. Начальник снял фуражку и сел. Он вытер большим платком лоб, но на нем все же осталась широкая красная полоса.
— Где же папа? — недоумевая, спросил Сема.
На столе лежал потрескавшийся отцовский ремень, постель была смята и неприбрана, на гвоздике висела вылинявшая, пожелтевшая куртка отца.
— Он ушел? — повторил Сема и сел рядом с начальником. — Ведь еще очень рано?
— Он ушел, — сказал начальник, глядя пристально на Сему, — и очень рано… Отца убили, Сема, твои и его враги.
Сема зажал ладонью глаза и опустил голову. Он еще ничего не понял, и слова начальника еще не дошли до него. Он только знал, что произошло что-то непоправимое и — навсегда. Он встал, сбросил котомку с плеч, вынул и поставил на стол коробку с табаком — подарок Трофима, положил две рубахи, заштопанные и выутюженные бабушкой, — все это уже никому не было нужно. Сема посмотрел на рубахи, на табак и, прижавшись щекой к коробке, заплакал, все еще не понимая ничего. Потом он встал и, сорвав с гвоздя кожаную куртку, пахнущую отцом, согревавшую еще недавно его худое тело, принялся целовать рукава и карманы, вытирая кожей мокрое лицо и плача, уже не имея ни сил, ни голоса. Начальник осторожно снял с него шинель, вытянул из его рук измятую куртку и накрыл ею вздрагивающие плечи Семы.
Что делали с ним, Сема не чувствовал и не знал. Вообще он ни о чем не думал сейчас. На него почему-то брызгали водой, но Сема ничего не понимал.
Его вывели на улицу, и лишь там, глубоко вздохнув, он спросил начальника:
— Когда?
— Одиннадцать дней. При ликвидации банды.
Одиннадцать дней назад отец двигался, смеялся, ходил, и тогда ему нужны были табак и рубахи, и он умывался где-нибудь здесь близко и тоже ходил по этой улице.
— Боже мой, это не может быть! — повторял Сема и щипал себя за руки и хватался за кожаную куртку, висевшую на нем. — Не может быть, боже мой!.. — уже зло кричал он, срывая пуговицы на рубашке и тяжело дыша. — Я хочу видеть, где он, — шепотом сказал Сема. — И я хочу пойти один.
Начальник взял Сему за плечи и проводил его к кладбищу. Они молча шли по липкой грязи окраинной улицы. У высокого холма начальник остановился:
— Вот здесь. А я пойду обратно.
Но он никуда не ушел и остался на улице ожидать Сему — он боялся оставить его одного.
А Сема взбирался наверх. Не думал он очутиться здесь, на этом проклятом пустыре. Нет, не думал! Не думал и не ждал, а несчастье свалилось ему на голову, на плечи, на сердце. И лучше бы его придушили там, в сумасшедшей толпе, и привезли сюда мертвого и схоронили рядом с отцом!.. Кладбище расположилось по склону высокого холма. Казалось, что могилы бегут сверху вниз. У ног Семы тоже лежала чья-то могила, чье-то большое горе, заросшее дикой травой и затоптанное чужими сапогами… Слез не было, и не было веры в то, что все правда.
Сема взбирался наверх. Безымянные бугры без надгробных плит и украшений, простые и тихие, как само горе, вырастали перед ним, и он лез все выше и выше, скользя по липкой грязи и падая у чужих могил. Но где же отец? И как глупо здесь потерять отца! Но вдруг он увидел знакомое имя на деревянной дощечке и, сорвав картуз, упал на колени. Вот она, родная могила, и вот он — отец. Сема прижался щекой к холодной земле и заплакал за себя, и за деда, и за бабушку, и за всех, кто любил отца. В груди было тесно, и он плакал, ничего не видя перед собой, хватая руками мокрую, мягкую землю. Проклятая земля, отнявшая отца, проклятая пуля, проклятый человек, поднявший на него оружие!
И ведь он же целился, наверно, ведь он боялся промахнуться. «Папа! Ты видишь, я пришел к тебе, но я опоздал. Почему я не пришел, когда еще можно было умереть за тебя, чтобы меня рвали на куски, а ты жил, а ты жил, отец? Сколько я тебя ждал, и опять тебя отняли. Лучше бы убили меня, разве я сказал бы слово, разве пожалел бы себя? И почему я тогда попрощался с тобой на углу, почему не пошел дальше за тобой, отец? Ничего ты не успел сказать мне, и я не успел насмотреться на тебя…»
Сема прижался к земле, потом поднял глаза. Сверху неторопливо бежали могилы. Обидный след человека, нищий след!.. В эти минуты, может быть первый раз в жизни, он почувствовал, как хорошо иметь отца, даже не видеть, а знать, что он есть — седой, с худыми руками. «Ах, отец, зачем все это и где эта сволочь, стрелявшая в тебя, где мне его найти, папа, где можно его нагнать, где мне схватить его за руку и за твое сердце сколько отнять сердец?»
Когда Сема пришел в себя, был вечер. Ветер шевелил тоненькую дощечку на отцовской могиле, и капли дождя робко стучали по ней, словно боясь потревожить сон. А кругом была тишина, и старые, забытые могилы смотрели на Сему… Он встал, застегнул кожанку и вытер холодным рукавом куртки мокрые, покрасневшие глаза. Надо было идти — впереди лежал трудный и опасный путь. Сема медленно побрел вниз, несколько раз оглянулся, постоял и опять пошел, потом с улицы посмотрел наверх, на кладбище, но глаза уже не нашли отцовской могилы…